Артур Конан Дойл Сэр Найджел Лоринг
Глава I Дом Лорингов
В июле месяце 1348 года, между днями св. Бенедикта и св. Свитина, Англию поразило странное бедствие: на востоке вдруг появилась безобразная зловещая багровая туча и стала медленными клубами наползать на притихшее небо. В тени этой невиданной тучи увядала листва, замолкали птицы, а коровы и овцы жались к изгородям. На землю пала тьма, толпы людей молча стояли, вперив глаза в тучу, и сердца их наливались тяжестью. Народ с трепетом собирался в церквах, и там дрожащую толпу исповедовали и благословляли дрожащие священники. А за стенами церкви больше не порхали птицы, не слышалось лесных шорохов и обыденного многоголосья природы. Все затихло и застыло, одна только огромная туча ползла, как чудовищный вал, над черным горизонтом. На западе еще виднелось ясное небо, с востока же неспешно надвигалась эта облачная громада, пока наконец не исчез последний голубой просвет и весь небосвод не превратился в сплошной свинцово-серый купол.
Потом начался дождь. Он лил весь день и всю ночь, лил целую неделю и целый месяц, пока люди не позабыли, что такое синее небо и солнечный свет. Дождь был не сильный, но холодный, и лил, не переставая ни на миг. Людей изводил его непрестанный шорох и плеск струй, стекающих с кровли. И все время по небу, сея влагу, ползла с востока на запад эта разбухшая зловещая туча. Сквозь водную пелену, гонимую ветром, ничего нельзя было разглядеть уже в двух шагах от жилья. По утрам все первым делом задирали голову — не появится ли где просвет, но взгляд встречал все ту же бесконечную тучу, и, наконец, люди перестали смотреть на небо, и сердца их переполнились отчаянием, оттого что всему этому не было конца. Дождь шел и на св. Петра, и на Рождество Богородицы, и в Михайлов день. Хлеба и сено промокли, почернели и погнили прямо на полях, потому что убирать их не стоило труда. Потом пали овцы и телята, и к св. Мартину на убой и зимнюю засолку не осталось почти никакой скотины. Народ боялся грядущего голода. Но то, что ожидало его, было куда страшнее.
Дождь наконец перестал, и хилые лучи осеннего солнца осветили вязкую жижу, в которую превратилась земля. Мокрые листья гнили, испуская зловоние, под пологом мерзостного тумана, который поднялся над лесом. Поля покрылись отвратительными грибами — раньше таких никто не видывал — огромными, багрово-лиловыми, коричневыми и черными. Казалось, на теле больной земли высыпали гнойные прыщи, стены домов покрылись плесенью и лишайником, и сразу вслед за этой отвратительной порослью на раскисшей земле взошла Смерть. Люди стали умирать: мужчины, женщины и дети, бароны в своих замках и свободные крестьяне на своих подворьях, монахи в монастырях и крепостные в лачугах. Все вдыхали одни и те же гнилостные испаренья, и все умирали одной и той же смертью — заживо разлагаясь. Никто из пораженных этой болезнью не выздоравливал. Болели все одинаково: на теле появлялись огромные нарывы, человек впадал в бред, кожа его покрывалась черными пятнами: от них-то и пошло названье болезни — черная смерть. Всю зиму разлагающиеся трупы лежали на обочинах дорог, хоронить их было некому. Во многих деревнях не осталось ни души. Но вот пришла весна, а с ней солнце, здоровье и радость. Это была самая зеленая, самая прекрасная и ласковая весна, которую когда-либо знала Англия. Но увидела ее только половина народа — другую смела с лица земли та огромная багровая туча.
И все же именно в это время, в мутном потоке смертей, в гнилостных испарениях, рождалась новая Англия, более прекрасная и свободная.
Тогда, в эти мрачные часы, забрезжил первый проблеск новой зари: только такое страшное потрясение, разом изменившее всю жизнь, могло вырвать народ из железных цепей феодализма, сковавших его по рукам и ногам. Из смертного мрака выходила новая страна. Под косой смерти полегли, как скошенная трава, бароны. Уберечь от этой угрюмой простолюдинки, разившей всех без разбора, не могли ни высокие башни, ни глубокие рвы. Деспотические порядки смягчились, они уже не могли больше ужесточиться. Земледелец не желал дальше оставаться рабом. Он сбросил оковы. Дела было слишком много, а людей слишком мало. Поэтому тем немногим, кто остался в живых, предопределено было стать свободными: свободно продавать свой труд, наниматься к кому пожелают. И именно черная смерть расчистила путь для великого восстания[1], которое началось тридцать лет спустя и сделало английского крестьянина самым свободным крестьянином в Европе.
Но таких, кто смотрел далеко в будущее и видел, что из зла, как это всегда бывает, произрастет добро, было очень мало. Покамест же в каждой семье царили нищета и горе. В одночасье пересохли все источники благоденствия: пал скот, погиб урожай, земли лежали непаханые. Богачи стали бедняками, а те, кто и раньше был беден, особенно бедняки из благородных, оказались и вовсе в безвыходном положении. По всей Англии разорилось мелкое дворянство, которое не знало иного ремесла, кроме войны, и потому жило за счет чужого труда. Для многих поместий наступили черные дни, но хуже всего пришлось Тилфорду, поместью, которым владели уже несколько поколений благородной семьи Лорингов.
В былые времена Лорингам принадлежали все земли от Северных холмов до Френшемских озер, а их мрачный замок, вздымавшийся над зелеными лугами на берегах реки Уэй, был самой неприступной крепостью меж Гилдфордом на востоке и Уинчестером на западе. Но потом пришла война баронов[2], король превратил своих саксонских подданных в кнут для укрощения норманнских баронов, и замок Лорингов, подобно многим другим, был стерт с лица земли. С той поры Лоринги, потеряв большую часть своих поместий, жили в доме, который был вдовьей частью, имея самое необходимое, но лишенные былой роскоши.
Потом началась их тяжба с Уэверлийским аббатством, когда цистерцианцы[3] предъявили притязания на их лучшие земли и феодальные права на все остальное. Великая тяжба тянулась много лет, а когда кончилась, это богатейшее поместье поделили между собой церковники и законники. Но старый господский дом сохранился, и в каждом поколении его обитателей рождался воин, с честью носивший свое имя: пять алых роз на его серебряном щите всегда были там, где им и надлежало быть — впереди. В часовенке, где отец Мэтью каждое утро служил мессу, было двенадцать бронзовых фигур — воинов из рода Лорингов. Двое лежали скрестив ноги, как положено крестоносцам. Шестеро попирали ногами львов — они пали в битве. И только возле четверых были изображения их собак — в знак того, что они почили в мире.
Из всего этого славного, но разоренного рода, разоренного дважды — правосудием и чумой, в 1349 году в живых оставалось только два человека — леди Эрментруда Лоринг и ее внук Найджел. Муж леди Эрментруды пал от руки шотландского копейщика в битве при Стерлинге, а сын ее Юстас, отец Найджела, умер славной смертью за девять лет до начала нашего повествования на борту норманнской галеры в битве при Слёйсе[4] у прибрежного тогда города Сленга (нынешние Нидерланды). Одинокая старая леди, ожесточившаяся и погруженная в скорбь, сидела, как сокол в клетке, у себя в комнате и была добра только к мальчику, которого вырастила. Дарованная ей природой любовь и нежность, так глубоко упрятанная от постороннего глаза, что никто не мог даже заподозрить в ней подобных чувств, изливалась на Найджела. Она не отпускала его от себя, а он, исполненный уважения к авторитету старших, как того требовали обычаи времени, никуда не отлучался, не получив ее согласия и благословения.
Поэтому Найджел, у которого было львиное сердце, а в жилах бурлила кровь многих поколений воинов, в свои двадцать два года все еще влачил тоскливые дни в поместье, натаскивая соколов и собак, которые делили со своими хозяевами большой зал с земляным полом. Старая леди Эрментруда видела, что день ото дня внук мужает и набирается силы и, хотя он не вышел ростом, мышцы его тверды как сталь, а душа пылает огнем. Со всех сторон — от гилдфордского кастеляна, с фарнемского турнирного поля — до нее доходили толки о его дерзкой удали и смелости, о том, как он бесстрашен в скачке и как мастерски владеет оружием. И все же она, потерявшая мужа и сына, не могла смириться с мыслью, что и этот мальчик, единственный потомок Лорингов, последний отпрыск такого славного старого древа, разделит их участь. С тяжелым сердцем, но с улыбкой на устах проводил он свои монотонные дни, пока она под разными предлогами оттягивала страшный миг: то до той поры, пока урожаи не станут богаче, то пока монахи из Уэверли не вернут им отнятые земли, то пока не умрет его дядя и не оставит ему денег на снаряжение, словом, под любым предлогом, какой мог удержать внука возле нее.
И правду сказать, Тилфорду никак было не обойтись без мужчины, потому что распри с аббатством так и не прекращались, и монахи до сих пор то и дело пытались отхватить то один, то другой кусок земли своих соседей. Над излучиной реки, за зелеными лугами поднималась невысокая квадратная башня и высокие серые стены мрачного монастыря. Колокола его не умолкали ни днем, ни ночью, грозя маленькой семье новыми бедами.
В сердце этого огромного цистерцианского монастыря и зародилась наша хроника, повествующая о распре между монахами и домом Лорингов со всеми последующими событиями, вплоть до прибытия Чандоса[5], о пресловутой схватке копейщиков на Тилфордском мосту и о подвигах, которые принесли Найджелу воинскую славу…
Давайте вернемся вместе в прошлое и взглянем на зеленую сцену Англии. Декорации на ней те же, что и в наше время: холмы, равнины и реки; актеры же, хотя во многом тоже похожи на нас, но многим отличаются — мысли, поступки у них иные, и кажутся они обитателями не нашего мира.
Глава II Как Уэверли посетил дьявол
Было первое мая, праздник святых апостолов Филиппа и Иакова. Шел 1349 год со дня пришествия Спасителя.
Время с трех часов до шести, а потом с шести до девяти преподобный отец Джон, настоятель монастыря Уэверли, проводил у себя в покоях, занимаясь соответственно своему высокому званию многочисленными важными делами. На много миль во все стороны простирались тучные земли процветающего монастыря, и он был их полновластным хозяином. В центре усадьбы размещались обширные здания аббатства: церковь, кельи, странноприимный дом, зал капитула и трапезная, и повсюду кипела жизнь. В открытое окно доносились приглушенные голоса братьев, которые прогуливались внизу под аркадами, ведя благочестивые беседы. Из-за монастыря, то усиливаясь, то затухая, доносились григорианские песнопения — там регент старательно занимался с хором, а внизу, в зале капитула, брат Петр скрипучим голосом втолковывал послушникам устав св. Бернарда.
Аббат Джон встал и потянулся. Потом выглянул наружу и осмотрел зеленую лужайку и изящные ряды готических арок крытой галереи, по которой в черно-белых одеждах прогуливалась братия. Монахи медленно ходили парами по кругу, низко склонив голову. Несколько человек, кто поусерднее, вынесли из библиотеки фолианты и сидели на солнце, разложив перед собой дощечки с красками и стопки тонких, полупрозрачных листков золота. Опустив плечи, они низко склонялись над белым пергаментом. Там же сидел и гравер по меди со своими резцами. Правда, в отличие от основного ордена бенедиктинцев занятия искусствами и науками не были в обычае цистерцианцев, но вся библиотека Уэверли хранила много драгоценных манускриптов, которыми занимались благочестивые ученые братья.
Славились, однако, цистерцианцы не учеными трудами, а земледельчеством. По монастырскому двору то и дело проходили монахи с грязными мотыгами и лопатами, в рясах, подоткнутых до самых колен, загорелые, только-только с полей или из садов. Тучные длиннорунные овцы на буйной зелени заливных лугов, пашни, отвоеванные у вересковых пустошей и зарослей папоротника, виноградники, спускавшиеся с южного склона Круксберийского холма, рыбные садки в Хэнкли, огороды на осушенных Френшемских болотах, просторные голубятни — вот что окружало огромный монастырь и без слов говорило об упорных, тяжелых трудах ордена.
На полном румяном лице аббата заиграла довольная улыбка, когда он обвел взглядом свое обширное, но прекрасно налаженное хозяйство. Как и всякий глава процветающего монастыря, преподобный Джон, уже четвертый носивший это имя, — был человеком разносторонне образованным. При помощи им самим изобретенных методов ему приходилось управлять немалым хозяйством, а заодно поддерживать порядок и благочиние среди большого сообщества людей, давших обет безбрачия. От тех, кто стоял ступенью ниже, он требовал жесткой дисциплины, в сношениях со стоявшими выше был тонким дипломатом. Он вступал в ожесточенные споры с соседними монастырями и лордами, с епископами и папскими легатами, а при случае и с самим его величеством королем. Положение обязывало его знать очень многое и разрешать самые разные споры о самых разных вещах: о философии и лесном хозяйстве, о земледелии, об осушении болот, о феодальных законах. В его руках были весы правосудия всей округи, простиравшейся на много-много миль — от Гэмпшира до Суррея. Гнев его грозил монахам постом, ссылкой в обитель с более суровыми порядками и даже ввержением в оковы. Мирян он тоже мог подвергать всяким наказаниям, кроме смертной казни; впрочем, в руках у него было оружие пострашнее — отлучение от церкви.
Вот такой властью наделен был аббат, и неудивительно, что на румяном лице его лежал отпечаток этой власти, а братия, перехватив его внимательный взгляд из окна покоев, спешила принять еще более смиренный и благочестивый вид.
Стук в дверь вернул настоятеля к текущим делам, и он снова сел за стол. Он уже переговорил обо всем с экономом, приором, раздавателем милостыни, капелланом и чтецом, а теперь в высоком худом монахе, который, повинуясь его жесту, вошел в покои, он узнал самого важного и самого изворотливого из своих доверенных лиц, брата Сэмюэла, ризничего, который, подобно управляющему светским поместьем, смотрел за монастырским имуществом, вел дела с внешним миром и отчитывался только перед аббатом. Брат Сэмюэл был сух, жилист и стар, суровые резкие черты его лица не одухотворялись светом свыше и отражали лишь тот низменный, будничный мир, что был его уделом. Под мышкой он держал толстую счетную книгу, в свободной руке болталась большая связка ключей, знак его должности, а также, под горячую руку, и орудие расправы, о чем свидетельствовали многочисленные шрамы на головах крестьян и братьев-мирян.
Настоятель тяжко вздохнул: усердный брат доставлял ему немало хлопот.
— Ну, брат Сэмюэл, в чем дело?
— Святой отец, я пришел доложить, что продал шерсть господину Болдуину из Уинчестера на два шиллинга за тюк дороже, чем в прошлом году. Цены-то на шерсть после овечьего мора поднялись.
— Хорошо сделал, брат.
— Еще вот что: я выкинул Уота, арендатора, из его халупы, потому что он с самого Рождества ничего не платит да налог на кур за прошлый год еще не внес.
— Но, брат, ведь у него жена и четверо детей.
Настоятель был добр и мягок. Впрочем, он довольно легко уступал своему суровому подчиненному.
— Так-то оно так, святой отец, да только если я ему спущу, то как же мне стребовать налог с патнемских лесников или с деревенских крестьян? Такие слухи разлетаются быстро. И что тогда станется с богатствами Уэверли?
— Что еще, брат Сэмюэл?
— Еще садки.
Лицо у настоятеля просветлело. В этом деле он был знатоком. Правила ордена отняли у него более нежные услады жизни, с тем большим жаром он отдавался радостям дозволенным.
— Как там хариусы, брат мой?
— Прекрасно, святой отец. Да вот в аббатском садке стали пропадать карпы.
— Карп хорошо себя чувствует только в пруду с песчаным дном. И запускать его в садок надо умеючи — три самца на одну самку с икрой, брат ризничий. Садок должен быть в локоть глубиной, дно каменистое, с песком, а по берегу — ивы и трава. И чтобы там не продувало. Линь любит ил, а карп — песок.
Тут ризничий подался вперед с видом человека, принесшего дурные вести.
— В аббатском садке завелись щуки.
— Щуки! — в ужасе воскликнул настоятель. — Это все равно, что волки в овчарне. Откуда взялись в пруду щуки? В прошлом году не было никаких щук, а ведь щуки не выпадают с дождями и не бьют из ключей. Пруд надо спустить, иначе в великий пост нам придется есть одну вяленую треску, и все начнут болеть до самого Светлого воскресенья, пока оно не разрешит нас от воздержания.
— Пруд непременно спустят, святой отец, я уже распорядился. В ил посадим зелень, а когда уберем ее, снова напустим воды и рыбы из нижнего садка, пусть жирует на стерне.
— Очень хорошо! — воскликнул настоятель. — Я бы в каждом хорошем хозяйстве имел по три садка: один без воды, один мелкий для мальков и сеголеток и один глубокий для зрелой и столовой рыбы. Но все же, как щуки попали в аббатский садок?
Лицо ризничего исказилось от злости, и ключи, которые он с силой сжал в костлявой руке, загремели.
— Это все молодой Найджел Лоринг! — сказал он. — Он пообещал навредить нам, вот и выполнил свое обещание.
— Откуда ты знаешь?
— Полтора месяца назад видели, как он каждый день ловил щук на большом Френшемском озере, а два раза его встречали ночью с охапкой соломы в руках у Хэнклийского холма; я-то знаю, что солома у него была мокрая, а в ней лежали живые щуки.
— Я наслышан о его выходках, — покачал головой аббат, — но теперь, если все, что ты сказал, правда, они перешли все границы. Ведь это он, по слухам, застрелил королевского оленя в Вулмер-Чейз, и одно это уже непростительно. А потом еще проломил голову этому борцу Хоббсу, и тот неделю пролежал у нас в лазарете между жизнью и смертью. И спасло его только то, что брат Петр — искусный травник. Но напустить щук в аббатский садок — что за дьявольская затея!
— Он ненавидит наш монастырь, святой отец. Он говорит, что мы захватили земли его отца.
— Ну, в этом есть доля правды.
— Но, святой отец, мы взяли только то, что дал нам закон.
— Твоя правда, брат, но все же, между нами говоря, надо признаться, что полный кошелек часто перетягивает весы правосудия. Когда мне случается проходить мимо старого дома и видеть эту краснолицую старуху с недобрым взглядом, источающим проклятья, которые она не осмеливается произнести, мне всякий раз хочется, чтобы у нас были какие-нибудь другие соседи.
— Это легко сделать. Об этом я и шел поговорить с вами. Нам ничего не стоит согнать их с места. Недоимки скопились у них за добрых тридцать лет, а в Гилдфорде, есть стряпчий Уилкинз, который вчинит им такой иск, что этим нищим гордецам придется продать крышу над головой, чтобы заплатить все сполна. Через три дня они будут у нас в кулаке.
— Я не хотел бы обойтись с ними слишком жестоко. Это славный старинный род.
— Вспомните о щуке среди карпов.
При этой мысли сердце аббата исполнилось твердости.
— Да уж, и впрямь дьявольская выходка. А мы только-только пересадили туда новую молодь. Ну что ж, закон есть закон. И даже если он несет в себе горе, все равно он закон. Иски уже предъявлены?
— Стряпчий со своими людьми ходил туда вчера, да этот ярый юнец набросился на него и гнал до самого Гилдфорда. Парень мал ростом, да тонок, но, уж как разойдется, посильнее многих будет, законник божится, что шагу туда больше не сделает, разве что с полудюжиной лучников.
При этом новом оскорблении лицо настоятеля вспыхнуло гневом.
— Я покажу ему, что слуги святой церкви, даже если это покорнейшие и смиреннейшие ее чада из ордена святого Бернарда, могут постоять за себя и дать отпор любому наглецу. Теперь ступай и вызови его на аббатский суд. Пусть завтра после трех явится в капитул.
Но осторожный ризничий покачал головой.
— Нет, святой отец, еще не подошло время. Дайте мне три дня и все иски против него будут готовы. Нельзя забывать, что и отец, и дед этого дерзкого сквайра прославили себя подвигами и были первыми рыцарями на службе у самого короля. Они жили в чести и умерли, исполняя свой рыцарский долг. Нынешняя леди Эрментруда Лоринг была первой фрейлиной у матушки короля. Роджер Фиц-Аллен Фарнемский и сэр Хью Уолкотт из Гилдфорского замка сражались бок о бок с отцом Найджела и приходятся ему родней по материнской линии. И так уж говорят, что мы обошлись с ними жестоко. Вот я и думаю, что нам лучше быть поосторожнее и подождать, пока чаша переполнится.
Настоятель открыл было рот, чтобы ответить, но их разговор был неожиданно прерван: снизу, от келий, донесся какой-то шум и громкие голоса монахов, со всех сторон аркады слышались взволнованные выкрики. При таком вопиющем нарушении приличий и порядка их послушными овцами аббат и ризничий застыли, изумленно уставившись друг на друга, как вдруг на лестнице раздались торопливые шаги и один из монахов с побелевшим от ужаса лицом распахнул дверь и ввалился в комнату.
— Отец настоятель! — закричал он. — Горе нам, горе! Умер брат Джон! И святой помощник приора тоже умер! А на стоакровом поле гуляет дьявол!
Глава III Соловый конь из Круксбери
В те незатейливые времена жизнь изобиловала чудесами и тайнами. Люди жили в страхе и священном трепете, чувствуя близость Неба у себя над головой и Ада под ногами. Рука Божия виделась им во всем: в радуге и в комете, в громе и молнии. Дьявол тоже в открытую неистовствовал по всей земле: в сумерках он прятался под изгородями, по ночам хохотал, вцеплялся в умирающего грешника, набрасывался на некрещеного ребенка и выкручивал руки и ноги эпилептику. Нечистый повсюду крался за своей жертвой и нашептывал ей всякие гадости, зато над нею все время парил и ангел-хранитель, указуя ей стезю спасения. И какие могли быть сомненья, если во все это веровали и папа, и священник, и сам король и нигде во всем мире еще не прозвучало ни единого вопроса?
Каждая прочитанная книга, увиденная картина, сказка, услышанная от матери или няньки, — все учили одному и тому же. А если кому случалось отправиться в путешествие по белу свету, его вера укреплялась еще более, потому что, куда бы не заносила его судьба, он видел бесконечные гробницы с прахом святых, и каждая была окружена ореолом легенд о множестве чудес, доказательством которых служили кучи костей да серебряные сердца, выкованные по обету. Каждый поворот судьбы показывал человеку, как тонка завеса, отделяющая его от обитателей невидимого мира, и как легко ее порвать.
Поэтому ошеломляющее сообщение перепуганного монаха было воспринято слушателями как нечто ужасное, но отнюдь не невозможное. Лицо аббата на миг побледнело, но он тут же вытащил из стола распятие и храбро вскочил на ноги.
— Веди меня к ним! — воскликнул он. — Покажи мне нечистого, который осмелился поднять руку на братию в святом монастыре! Сбегай вниз к капеллану, брат, и попроси его принести с собой все, что нужно для заклинания дьявола, — и священный ларец с мощами, и кости святого Иакова из-под алтаря! Они помогут нашим смиренным кающимся сердцам повергнуть силы тьмы.
Однако у ризничего был более скептический склад ума. Он схватил монаха за руку и сжал ее так, что у того потом несколько дней не сходило пять синяков.
— Разве так входят в покои настоятеля? Почему ты не постучался, не поклонился, не сказал Pax vobiscum[6]? — сурово спросил он. — Ты же всегда был кротчайшим из послушников, смиренно набирался благочестивой мудрости, усердно пел псалмы, соблюдал себя в строгости. Соберись с мыслями и отвечай на мои вопросы. В каком образе явился нечистый и как он столь ужасно поразил наших братьев? Ты видел его сам, своими глазами, или только повторяешь, что слышал? Да говори же, не то я немедленно поставлю тебя на покаяние.
От такой угрозы перепуганный монах, казалось, поуспокоился, однако побелевшие губы, затравленный взгляд и тяжелое дыхание выдавали его внутренний ужас.
— Если позволите, святой отец, и вы, досточтимый ризничий, дело было так. Сегодня с шести часов помощник приора Иаков, брат Джон и я резали в Хэнкли папоротник для коровников. Потом мы пошли домой стоакровым полем, и святой помощник приора стал рассказывать одну историю из жизни святого Григория, как вдруг раздался шум, словно налетел ливень, нечистый перескочил через стену, что огораживает заливной луг, и как вихрь бросился на нас. Он повалил брата Джона на землю и затоптал его в грязь. Потом схватил зубами доброго помощника приора и стал бегать кругами по полю, тряся его, словно узел тряпья.
Я совсем остолбенел и только твердил про себя одно «Верую» и три «Богородица, Дево», но тут дьявол бросил помощника приора и кинулся ко мне. Святой Бернард помог мне перелезть через стену, но дьявол успел вцепиться зубами мне в ногу и оторвать сзади весь подол рясы.
Сказав это, монах повернулся и подтвердил свои слова — со спины у него свисала располосованная ткань его одеянья.
— Так в каком же образе предстал Сатана? — повторил настоятель.
— В образе огромного солового коня, святой отец, такого страшного коня с огненными глазами и зубами, как у грифона.
— Соловый конь! — и ризничий сверкнул глазами в сторону перепуганного монаха. — До чего ты глуп, брат! Что же ты станешь делать, когда тебе и впрямь придется встретиться лицом к лицу с Князем тьмы, если тебя так напугал вид соловой лошади? Ведь это конь Фрэнклина[7] Эйлварда, отец мой. Мы конфисковали его за то, что Эйлвард задолжал монастырю добрых пятьдесят шиллингов, а денег ему взять неоткуда. Говорят, такого коня не найдешь ни в одной конюшне по всей округе, даже в Уиндзоре у короля. Он происходит от испанского боевого коня и арабской кобылы той линии, которую Саладин[8] вел только для себя, говорят даже, что он держал ее в собственном шатре. Я отобрал коня за долги и велел работникам, которые его привели, оставить его одного на заливном лугу — мне говорили, что эта тварь в самом деле уж очень норовиста и что от нее пострадал не один человек.
— В черный день привел ты это чудовище в монастырь, — сказал настоятель. — Если помощник приора и брат Джон действительно погибли, то лошадь эта хоть и не сам дьявол, но, уж верно, орудие дьявола.
— Конь он, дьявол ли, только я слышал, как он визжал от удовольствия, когда топтал брата Джона. А если бы вы видели, как он трепал помощника приора — словно собака крысу, — вы бы, верно, почувствовали то же, что и я.
— Ну пойдем и посмотрим своими глазами, каких он натворил бед, — сказал настоятель.
И трое монахов стали быстро спускаться по лестнице, ведущей к кельям.
Не успели они ступить на землю, как худшие их опасения рассеялись: в это самое мгновение в участливо галдящей толпе братьев показались два страдальца. Они хромали, рясы их были порваны и перепачканы грязью. Однако крики и вопли, доносившиеся снаружи, говорили, что где-то за оградой разыгрывается новая драма. Аббат и ризничий поспешили вперед, насколько это позволяла необходимость блюсти достоинство сана, пока не вышли за ворота и не оказались возле стены, отгораживающей луг. Взглянув поверх нее, они стали свидетелями необычайного зрелища.
На лугу, по щиколотку в густой траве, стоял великолепный конь, при виде которого затрепетало бы сердце воина или ваятеля. Конь был желтой, соловой масти, но с гривой и хвостом не светлого, а рыже-коричневого окраса. Семнадцати пядей ростом, с корпусом и задними ногами, которые говорили о невероятной силе, с изысканными линиями шеи, холки и плеч, он являл собой изумительный образец породы. Конь был поистине прекрасен. Он стоял, осев на широко расставленные задние ноги, высоко подняв голову на гордо откинутой шее, уши его стояли торчком, грива вздыбилась, ноздри трепетали от ярости, глазами он грозно, с высокомерным вызовом, поводил из стороны в сторону.
На почтительном расстоянии, взяв его в кольцо, к нему подбирались шестеро монастырских крестьян и лесников с веревками наготове. Время от времени огромное животное, ощерив зубы, с развевающейся гривой и гордо поднятой головой, великолепным броском отворачивалось то к одному, то к другому преследователю и с громким ржаньем гнало его к спасительной стене. Тогда остальные забегали сзади, безуспешно пытаясь набросить веревки коню на ноги или на голову, но всякий раз тоже отступали в ближайшее укрытие.
Если бы им удалось заарканить лошадь хотя бы двумя веревками, если бы на лугу было что-нибудь, за что закрепить их концы, — пень или валун, — человеческий разум, может быть, и одолел бы силу и стремительность животного. Но если разум полагал, что с помощью веревок можно добиться чего-либо иного, кроме как подвергнуть опасности того, кто ими размахивал, то разум глубоко заблуждался.
То, что легко было предвидеть, случилось как раз в минуту, когда монахи прибыли к месту происшествия. Лошадь, загнав одного из нападающих за стену, остановилась, храпом изливая на него поверх стены свое презрение, и дала возможность остальным подобраться к ней с тыла. В воздухе взвилось несколько веревок, и одна обвилась вокруг гордой шеи, утонув в косматой гриве. В одно мгновение животное обернулось, и люди, спасаясь, бросились врассыпную, но тот, кто набросил аркан, замешкался, не зная, как ему лучше воспользоваться своим успехом. Миг нерешительности стал роковым. В ужасе он увидел над собой животное, вставшее на дыбы. И тут же конь, с грохотом обрушив на него копыта, одним движением швырнул его наземь. Он с криком вскочил, но снова был сбит с ног и замер, весь дрожа, с окровавленной головой, а дикая лошадь — в ярости самое жестокое и страшное существо на свете — кусала, трепала и лягала извивающееся тело человека.
За высокой стеной в рядах увенчанных тонзурами голов раздался громкий вопль, но тут же замер и сменился долгим безмолвием, пока, наконец, его не нарушили восторженные крики благодарения и радости.
По дороге к старому, потемневшему от времени господскому дому по склону холма ехал юноша. Он сидел на тощей, неуклюжей, косматой лошадке, ростом с жеребенка. На нем был старый, залатанный камзол, когда-то алый, а теперь весь выгоревший, перепоясанный засаленным кожаным поясом, — жалкий наряд. Однако осанка, посадка головы, изящные движения и смелый, открытый взгляд голубых глаз — все говорило о его благородном происхождении и позволило бы ему занять достойное место в любом обществе. Ростом юноша был невелик, но сложен удивительно изящно. Хотя кожа на его лице покрылась загаром и огрубела, черты были тонки и выразительны, знак духа живого и горячего. Густые русые кудри выбивались из-под плоской шляпы, золотистая бородка скрывала сильный квадратный подбородок. Его мрачноватую одежду оживляло лишь перо скопы, приколотое к шляпе золотой пряжкой. От внимания стороннего наблюдателя не ускользнуло бы ни это перо, ни другие мелочи в его облике — короткая, ниспадающая складками накидка, охотничий нож в кожаных ножнах, перевязь, на которой висел бронзовый рог, мягкие сапоги из оленьей кожи и острые шпоры. Однако, память сохранила бы не это, а его загорелое лицо в золотистом ореоле и живые, искрящиеся отвагой веселые голубые глаза.
Вот такой молодой человек в сопровождении полудюжины собак скакал, весело помахивая хлыстом, на своем неказистом пони по Тилфордской дороге. Оттуда он и увидел комедию, разыгравшуюся на монастырском лугу, и тщетные усилия уэверлийских служителей. На губах его появилась презрительная усмешка. Однако он тут же понял, что комедия превращается в кровавую драму, и в одно мгновение из безучастного зрителя преобразился в стремительного могучего воина. В один прыжок он соскочил с лошади, другим перемахнул через каменную стену и бросился бежать по лугу. Отпустив на миг свою жертву, соловый конь заметил приближение нового врага, с презрением оттолкнул копытом распростертое на земле, все еще корчащееся тело и ринулся ему навстречу.
На этот раз враг не бежал перед ним, не спешил укрыться за стеной. Небольшая фигурка остановилась, выпрямилась и металлическим концом хлыста нанесла коню сильнейший удар по голове. И так повторялось при каждом новом броске коня. Тщетно лошадь становилась на дыбы, пыталась повергнуть врага ударами плеч и копыт. Проворно, но спокойно тот увертывался от призрака смерти, и снова раздавался свист и стук тяжелой рукояти, без промаха наносившей новый удар.
Наконец лошадь отступилась. Бешеным, но удивленным взором сверкнула она на непобедимого незнакомца и побежала рысью по кругу. Грива и хвост ее развевались на ветру, уши стояли торчком, она храпела от боли и ярости. Молодой человек, едва удостоив взглядом своего свирепого соседа, подошел к раненому леснику, поднял его, обнаружив силу, которую никак нельзя было ожидать в таком щуплом теле, и отнес его к ограде. Добрая дюжина рук протянулась из-за стены ему на помощь. Он не спеша взобрался на стену и спокойно-презрительно улыбнулся соловому коню, который сделал последнюю яростную попытку напасть на него. Потом спрыгнул на другую сторону, и его тотчас окружили монахи. Они благодарили и на все лады превозносили его. Он хотел было повернуться и уйти, не проронив ни слова, но тут к нему подошел сам аббат Джон.
— Нет-нет, сквайр Лоринг, не уходите. Хоть вы и недруг нашему монастырю, мы вынуждены признать, что сегодня вы поступили как истинный христианин. Ведь тем, что наш работник еще дышит, мы обязаны только вам… И конечно, нашему благословенному заступнику — святому Бернарду.
— Клянусь святым Павлом! — воскликнул молодой человек. — У меня нет к вам никаких добрых чувств, настоятель Джон. На земле Лорингов лежит тень вашего монастыря. А что до сегодняшней пустяковой услуги, так мне не нужна ваша благодарность. Я поступил так не ради вас и вашего монастыря, а лишь ради собственного удовольствия.
От этих дерзких слов настоятель вспыхнул и в досаде прикусил губу. Но тут вмешался ризничий:
— Было бы пристойней и благородней говорить со святым отцом аббатом уважительно, как того требует его высокое положение и почтение, на которое вправе рассчитывать князь церкви.
Юноша обратил на ризничего смелый взгляд голубых глаз, его загорелое лицо еще больше потемнело от гнева.
— Если бы не ваша ряса да седина в волосах, я поговорил бы с вами иначе. Вы, как тощий волк, рычите от жадности у нас под дверьми, чтобы заграбастать и то малое, что у нас осталось. Со мной вы можете говорить и делать что угодно, только, клянусь святым Павлом, если я узнаю, что ваша жадная стая досаждает леди Эрментруде, я вот этим самым хлыстом выбью их всех с клочка земли, который один из всех и остался у нас из всего, чем владели наши предки.
— Полегче, Найджел Лоринг, полегче! — воскликнул настоятель, подняв вверх палец. — Вы что, не чтите английский закон?
— Я чту справедливый закон и повинуюсь ему.
— Разве вы не почитаете святую церковь?
— Я почитаю все, что в ней есть святого. Но без всякого почтения отношусь к тем, кто выжимает последние соки из бедняков или крадет земли своих соседей.
— Не дерзите. Многих отлучали и не за такие слова. Впрочем, нам не следует сегодня строго судить вас. Вы молоды и горячи, и неподобающие слова легко срываются у вас с языка. Как там лесник?
— Ранен он тяжело, отец аббат, но жив будет, — сказал один из монахов, оторвав глаза от распростертого тела. — Если пустить кровь да попоить травяными настойками, ручаюсь, через месяц он будет на ногах.
— Тогда отнесите его в лазарет и подумаем, что нам делать с лошадью. Видите, эта тварь все еще таращит из-за стены глаза и храпит, словно поносит святую церковь, как сквайр Найджел.
— Тут пришел Фрэнклин Эйлвард, — сказал один из братьев, — лошадь-то его, он, надо думать, и заберет ее.
Но крепкий краснощекий фермер отрицательно покачал головой.
— Ну уж нет! Эта зверюга дважды гоняла меня по всему выгону и чуть не убила моего Сэмкина. Парню так хотелось проехаться на ней, его и сейчас ничем не утешить. Никто из батраков не может войти к ней в стойло. Вот уж поистине в дурной день взял я ее из конюшен Гилдфордского замка, знал ведь, что они там не могли с ней справиться, никто не хотел рискнуть сесть на нее. Ризничий забрал ее за долги в пятьдесят шиллингов, по дешевке, пусть и делает с ней что хочет. На мою ферму в Круксбери лошадь больше не вернется.
— Здесь она тоже не останется, — сказал настоятель. — Брат ризничий, ты вызвал дьявола, тебе его и усмирять.
— Охотно! — воскликнул ризничий. — Пусть брат казначей вычтет из моего недельного содержания пятьдесят шиллингов, так что монастырь ничего не потеряет. Вон стоит Уот с арбалетом и стрелой за поясом: пусть он вгонит ее в голову этой проклятой твари: ее шкура да копыта стоят побольше, чем она сама.
Крепкий загорелый старик охотник, отстреливавший хищников в монастырских лесах, вышел вперед и широко улыбнулся. Наконец-то после лисиц и горностаев перед ним была благородная жертва, и она должна была пасть от его руки. Он вложил стрелу в арбалет, поднял его к плечу и нацелился на свирепую гордую косматую голову, которая в дикой пляске металась по ту сторону стены. Он уже положил палец на спуск, как вдруг удар хлыста подбросил оружие верх, и стрела, не причинив никому вреда, улетела за монастырский фруктовый сад. Охотник в замешательстве отшатнулся под гневным взглядом Найджела Лоринга.
— Поберегите стрелы для своих хорьков, — сказал сквайр. — Неужели ты готов отнять жизнь у твари, которая только тем и виновата, что не нашла еще того, кто смирит ее неукротимый дух? Ты хотел убить лошадь, на которой с гордостью скакал бы сам король, и только за то, что у какого-то фермера, или монаха, или монастырского работника не хватает ума да ловкости обуздать ее?
Ризничий быстро обернулся к сквайру.
— Хотя вы и нагрубили нам, монастырь обязан вам за то, что вы сегодня сделали. Если вы считаете, что лошадь хороша, вам бы, наверное, хотелось иметь ее. А раз мне все равно платить за нее, то, с позволения святого отца настоятеля, она теперь моя собственность и я дарю ее вам.
Аббат дернул подчиненного за рукав.
— Подумайте, брат ризничий, — шепнул он, — как бы кровь этого человека не пала на наши головы.
— Он упрям и горд, как эта лошадь, святой отец, — ответил ризничий, и на его мрачном лице появилась злорадная усмешка. — Кто бы кого ни переломал, он лошадь или лошадь его, все будет на благо миру. Если вы не позволите мне…
— Нет, нет, брат. Вы выкупили лошадь и вольны дарить ее кому пожелаете.
— Тогда я отдаю ее, со всей шкурой, и копытами, и хвостом, и норовом, Найджелу Лорингу, и да будет она так же мила и почтительна к нему, как он был к братьям Уэверлийского монастыря.
Ризничий говорил громко, под смешки монахов. А тот, кому предназначались эти слова, был уже далеко. Как только он понял, какой оборот принимает дело, он бросился туда, где оставил своего пони, снял с него удила и крепкую уздечку, и, оставив его щипать придорожную траву, поспешил обратно.
— Я принимаю твой дар, монах, — сказал он, — хотя прекрасно понимаю, зачем ты это делаешь. И все же я благодарю тебя за него, потому что на всем свете есть только две вещи, о которых я страстно мечтал, но мой тощий кошелек не позволял мне их купить. Одна из них — благородный конь, что стоит перед вами, — единственный, кого бы я выбрал изо всех лошадей. Укротить его будет нелегко, зато это принесет мне славу и почет. А как его зовут?
— Его зовут Поммерс, — сказал фермер. — Но предупреждаю вас, сэр, его невозможно оседлать. Многие пытались, сэр, но даже самому везучему он сломал ребро…
— Благодарю за предупреждение, — сказал Найджел. — Теперь я вижу, что это и впрямь конь, ради которого я пошел бы хоть на край света. Я создан для тебя, Поммерс, как ты для меня. И сегодня вечером ты это поймешь, или мне никогда больше не понадобится лошадь. Сегодня мы померяемся с тобой, и пусть Господь Бог даст тебе побольше сил, Поммерс, чтобы борьба была труднее и принесла мне побольше славы.
С этими словами сквайр взобрался на стену и твердо встал на ноги, держа в одной руке уздечку, а другой сжимая хлыст. Он казался воплощением изящества и отваги. Тотчас лошадь с бешеным храпом, оскалив зубы, рванулась к нему. И снова тяжкий удар металлического наконечника заставил ее отпрянуть. В то же мгновенье, быстро прикинув взглядом расстояние, Найджел подался всем телом вперед, взвился в воздух, упал на коня и оказался на его широкой желтой спине. Минуту-другую ему стоило неимоверных усилий удерживаться — без седла и уздечки — на животном, которое, как безумное, бушевало под ним, то становясь на дыбы, то бросаясь из стороны в сторону. Наконец ноги Найджела стальными обручами обхватили вздымающиеся ребра лошади, а его левая рука зарылась глубоко в темно-рыжую гриву.
Никогда еще в монотонную жизнь смиренной уэверлийской братии не врывалось ничего подобного этой неистовой схватке. Желтый конь вселял в душу ужас, но он был прекрасен. С раздувающимися от ярости, налитыми кровью ноздрями и безумными глазами, конь метался из стороны в сторону, становился на дыбы, стремительно опускался на ноги, то склонял свирепую косматую голову до самой земли, то взлетал на добрых восемь футов и бил копытами воздух. Гибкое тело на его спине клонилось, как тростник под ветром, то в одну сторону, то в другую. Ниже пояса всадник словно окаменел, выше — отзывался на каждое движение коня. Лицо его было спокойно, и дышало непреклонной волей, а глаза сверкали восторгом борьбы. Все усилия огромного животного с пламенным сердцем и железными мышцами были тщетны — всадник прочно удерживал свое господство.
Один раз монахи в ужасе закричали: становясь все выше и выше на дыбы, лошадь в последнем безумном усилии опрокинулась на всадника, но тот успел в последний миг выскользнуть из-под тела животного, прежде чем оно коснулось земли. Спокойно, пнув ногой катавшегося по земле коня, он подождал, пока тот встанет на ноги, и, ухватившись за гриву, снова легко вскочил ему на спину. Даже мрачный ризничий не мог удержать возгласа одобрения, когда Поммерс, с изумлением обнаружив, что всадник все еще сидит у него на спине, бросился вперед, в поле, выделывая отчаянные курбеты.
Лошадь пришла в еще большее неистовство. В мрачных глубинах ее неукротимого сердца родилось дикое желание даже ценой собственной жизни насмерть расшибить сидевшего на ней всадника. Ее налитые кровью, сверкающие глаза искали орудие смерти. С трех сторон поле было обнесено высокой стеной, которую прорезали тяжелые четырехфутовые деревянные ворота. С четвертой стороны стояло длинное серое здание, один из монастырских амбаров. В нем не было ни окон, ни дверей. Лошадь перешла на галоп и устремилась прямо к его отвесной тридцатифутовой стене. Она была готова сама разбиться об нее, лишь бы вышибить дух из человека, захотевшего добиться господства над существом, которое никогда не знало господина.
В стремительном галопе, почти касаясь задними ногами брюха, грохоча копытами по земле, взбесившаяся лошадь все быстрей и быстрей несла всадника к стене. Что сделает Найджел? Соскочит на траву? И значит, подчинится воле животного, на котором сидит? Нет, у него был и другой выход. Невозмутимо, быстро и решительно он перехватил хлыст и уздечку в левую руку, а правой сдернул с плеч короткий плащ и, вытянувшись вдоль напряженно вздрагивающей спины лошади, набросил развевающуюся ткань ей на глаза.
Результат превзошел все ожиданья, однако всадник едва не оказался на земле. Когда выкаченные жаждущие кровавой мести глаза вдруг оказались в темноте, изумленный конь так резко замер на месте, упершись передними копытами в землю, что Найджел перелетел к нему на шею и еле-еле удержался за гриву. Прежде чем он успел соскользнуть обратно, опасность миновала: непонятное явление заставило животное позабыть о своих намерениях, оно еще раз развернулось и, дрожа всем телом, нетерпеливо вскидывая голову, сбросило наконец плащ с глаз. Леденящий душу мрак растаял, перед глазами снова был луг с залитой солнцем травой.
Но вот кто-то опять покушается на его свободу! Откуда взялся во рту такой отвратительный кусок железа? А ремни на шее? От них так зудит кожа! А что это такое стянуло обручем грудь? Как страшно! В те несколько мгновений, пока лошадь стояла неподвижно, прежде чем сбросить плащ, Найджел успел протянуть руку, просунуть ей меж зубами мундштук и проворно закрепить уздечку.
От этого нового унижения, этого символа рабства и позора, в сердце солового коня снова забурлила слепая, безудержная ярость. Прикосновение сбруи привело его в неистовство. Он ненавидел и само это место, и людей — все и всех, что угрожало его свободе. Ему страстно хотелось навсегда избавиться от них, никогда больше их не видеть. Умчаться на край света, на безграничные свободные равнины. Унестись за далекий горизонт от этого ужасного куска железа, от невыносимой власти человека.
Конь резко развернулся и одним величественным прыжком, легко, как олень, перескочил через четырехфутовые ворота. Шляпа слетела у Найджела с головы, его русые кудри взметнулись на ветру, когда вместе с лошадью он взвился в воздух и снова опустился на землю. Теперь они были на заливном лугу, перед ними, сверкая, журчал ручей футов в двадцать шириной, впадавший ниже в реку Уэй. Соловый конь как стрела перелетел через него. Миновав большой валун, он сделал новый скачок и оставил позади кустарник, росший на противоположном берегу. Там до сих пор лежат два камня, отмечая длину этого прыжка — добрых одиннадцать шагов от одного отпечатка копыт до другого. Конь промчался под широко распростертыми ветвями огромного дуба на том берегу (его и теперь показывают как былую границу аббатства). Он надеялся сбросить с себя всадника, но Найджел распластался на напрягшейся спине лошади, зарывшись лицом в развевающуюся гриву.
Корявый сук сильно полоснул его по спине, но Найджел не потерял присутствия духа и не ослабил хватку. Становясь на дыбы, рывками бросаясь вперед, Поммерс пронесся через молодую рощу и вылетел на широкие просторы Хэнклийских холмов.
И началась скачка, о которой по сию пору рассказывают в бедных крестьянских хижинах и отголосок которой можно услышать в немудреных созвучиях старой суррейской баллады, теперь почти позабытой, от которой сохранились лишь несколько строк припева.
На Хайндхед может лань взлететь, Обгонит сокол ветер, Но Найджелов соловый конь Мчит всех быстрей на свете.Теперь перед ним простирался волнующий океан темного вереска, доходившего до колен. Огромными валами он поднимался к четким очертаниям возвышающегося впереди горного склона. Над ним синел мирный купол неба, солнце клонилось к Гэмпширским холмам. Поммерс несся через густой вереск, через лощины и ручьи, взлетал на крутые откосы оврагов. Сердце его разрывалось от ярости, каждая частица тела трепетала от перенесенного унижения.
Но что бы конь ни делал, человек крепко сжимал ногами его вздымающиеся бока и не отпускал развевающуюся гриву. Он молчал и не шевелился, но, позволяя коню выделывать все что угодно, был неумолим, как судьба, упорно ведущая к своей цели. Огромная желтая лошадь неслась все вперед и вперед, поскальзывалась, спотыкалась, делала невероятные скачки, но ни на миг не сбавляла своей страшной скорости. Они миновали Хэнклийские холмы, пронеслись через Терслийские болота, поросшие камышом, который доходил лошади до заляпанной грязью холки, поднялись на высокий склон Хедлендского холма, спустились к Наткумскому ущелью. Обитатели Шоттермила слышали сумасшедший топот копыт, но не успели отогнуть на дверях занавеси из бычьей шкуры, как лошадь и всадник уж исчезли из виду среди высоких папоротников Хейзлмирской долины. Конь несся вперед, оставляя за собой милю за милей. Никакое болото не могло остановить его, никакая гора не могла замедлить его безумный бег. Будь то крутой подъем на Линчмир или пологий на Фернхерст, он с грохотом мчался по ним, как по ровному месту. И только когда он слетел вниз с Хенлийского холма и впереди за рощей показались серые башни Мидхерстского замка, его напряженно вытянутая шея стала наконец едва заметно клониться к груди и дыхание участилось. Куда бы он ни бросил взгляд — в сторону рощи или вперед по склону, он не видел ничего похожего на те свободные просторы, к которым стремился.
И тут над ним совершили еще одно неслыханное насилие. Довольно было и того, что человек все еще крепко держался у него на спине, так нет, теперь он стал сдерживать бег коня и направлять его по своей воле: конь почувствовал, как что-то больно дернулось у него во рту, и голову его повернули на север. Конечно, ему все равно, куда бежать, но человек, видно, сошел с ума, если решил, что норов такой лошади, как Поммерс, уже сломлен. Он скоро покажет своему врагу, что до победы еще далеко, даже если для этого придется сверх всякой меры напрячь мышцы и надорвать сердце. И конь понесся назад, вверх по длинному склону. Сможет ли он одолеть вершину? Он сам себе не признавался, что силы его на исходе, что он едва может двигаться дальше. А человек держался на нем все так же крепко. Пена клочьями покрывала коня, он весь был заляпан грязью. Глаза налились кровью, ноздри раздувались, он тяжело дышал открытым ртом, шерсть стала жесткой, от нее валил пар. Он побежал вниз с Сандийского холма и оказался у глубокого Кингслийского болота. Все, довольно. Ни плоть, ни кровь не могут этого больше вынести. Выбираясь из заросшей тростником трясины, по щиколотку в густой черной грязи, он наконец замедлил бег и, со всхлипом втягивая воздух, перешел с тяжелого галопа на легкий.
И вот новое бесчестье! Где же предел его унижениям? Ему уже не позволяют самому выбирать себе аллюр! До сих пор он шел галопом, потому, что сам того хотел, а теперь его заставляет чужая воля! В бока впились шпоры, удар хлыста ожег плечи. От боли и стыда конь подскочил на месте. Потом, забыв, что у него устали ноги, что ему трудно дышать, что пот струится по всему телу, — забыв обо всем на свете, кроме невыносимого позора и пылающего внутри пламени, он снова понесся бешеным галопом. Он опять несся по вересковым склонам в сторону Уэйдаунской пустоши. Все дальше и дальше летел он вперед. Но вот силы снова стали его покидать, у него опять задрожали ноги, он стал задыхаться; он хотел было сбавить ход, но острые шпоры и удар хлыста заставили его снова рвануться вперед. В глазах у него потемнело, от усталости кружилась голова.
Конь не видел, куда ставит ноги, ему стало все равно, куда бежать. Им владело одно безумное желание — как угодно избавиться от ужасного врага, который восседал у него на спине, мучил и не отпускал его. Он пронесся через Терсли, выкатив от боли глаза, с разрывающимся сердцем, он миновал деревушку и, подгоняемый хлыстом и шпорами, уже перевалил было через гребень Терслийского холма, как вдруг мужество разом покинуло его, вся сила куда-то ушла, с глубоким мучительным всхлипом соловый конь рухнул на вереск. Падение было так внезапно, что Найджел перелетел через шею лошади. Теперь человек и животное, задыхаясь, лежали рядом в вереске. Последняя красная полоска вечерней зари утонула за Батсером, и в лиловом небе замерцали первые звезды.
Первым пришел в себя молодой сквайр. Склонившись над задыхающейся загнанной лошадью, он ласково провел рукой по спутанной гриве и покрытой пеной морде. Лошадь обратила на него взгляд налитых кровью глаз, но теперь он прочел в них лишь удивление, а не ненависть, мольбу, а не угрозу. Когда он погладил мокрую от пота морду, лошадь тихо заржала и ткнулась мордой ему в ладонь. Этого было достаточно. То был конец борьбы. Рыцарственный враг сдавался на милость рыцаря-победителя.
— Ты мой конь, Поммерс, — прошептал Найджел и прижался щекой к вытянутой шее. — Я узнал тебя, а ты меня, и с помощью святого Павла кое-кто еще узнает нас обоих. А теперь пойдем-ка к тому вон озерку: уж не знаю, кому из нас сейчас нужнее вода.
И так уж случилось, что, возвращаясь поздно вечером домой с дальних ферм, несколько монахов Уэверлийского монастыря видели странную картину, о чем они не преминули рассказать в обители, так что в тот же вечер их рассказ дошел до ушей и ризничего, и настоятеля. А рассказали они вот что: когда они шли через Тилфорд, им встретились человек и конь, которые шли голова к голове, по дороге к господскому дому. Посветив фонарями, чтобы лучше разглядеть эту пару, они увидели, что это не кто иной, как сам молодой сквайр, ведущий на поводу, как пастух ягненка, страшного солового коня из Круксбери.
Глава IV Как в Тилфордское поместье прибыл стряпчий
В те дни, о которых повествует наша хроника, аскетическая строгость старинных норманнских замков уже смягчилась и облагородилась, так что новые жилища знати, хотя и утратили былую внушительность, стали гораздо удобнее. Новое, более утонченное поколение дворян приспосабливало свое жилье больше для нужд мирной жизни, чем для войны. Всякий, кому вздумалось бы сравнить первобытную наготу замков Певенси или Гилдфорда с пышным великолепием Бодмина или Уиндзора, не преминул бы отметить огромную разницу в стиле убранства, который они олицетворяют.
В более отдаленные времена замки строили с вполне определенной целью — помочь завоевателям удержать страну в руках. Но когда те окончательно утвердились на завоеванных землях, замки утратили свое былое назначение — убежищ, где владельцы спасались от врага, и теперь за их стенами укрывались разве что от преследований суда, да еще они были центром междоусобных раздоров. На болотистых равнинах Уэльса и Шотландии замки еще сохраняли роль бастионов, охранявших границы королевства, и там они множились и процветали. Во всех же других уголках страны они скорее представляли угрозу его величеству королю и потому не пользовались его покровительством, а частенько и просто разрушались. Ко времени царствования Эдуарда III большая часть старых боевых крепостей либо превращалась в обыкновенные жилища, либо была разрушена во время гражданских смут. Их мрачные серые останки и по сей день виднеются над вершинами наших холмов. Новые здания строились либо как большие дома, способные, правда, при нужде держать оборону, но в основном все-таки служившие жильем, либо просто как жилье, без всяких оборонительных приспособлений.
Таким был и дом в Тилфорде, где последние представители некогда славного дома Лорингов изо всех сил старались сохранить свой последний оплот и не дать монахам и законникам захватить несколько жалких акров земли, что еще оставались во владении рода. Дом был двухэтажный, срубленный из двух рядов толстых деревянных брусьев, между которыми были заложены неотесаные камни. На второй этаж, в спальни, вела наружная лестница. В нижнем этаже было только два помещения. Меньшее служило спальней старой леди Эрментруде. Второе, очень большое, — залой. Ее использовали как гостиную для членов семьи и как общую столовую, где принимали пищу и хозяева, и несколько их слуг и других челядинцев. Помещенья, где эти слуги жили, а также кухни, службы и конюшни были просто рядом сараев и навесов, прилепившихся к задней стенке главного здания. Там жил паж Чарлз, старый сокольник Питер, Рыжий Суайер, который состоял при деде Найджела еще во времена войн с Шотландией, бывший менестрель Уэдеркот, повар Джон и другие, оставшиеся от прежних дней благоденствия и прилепившиеся к старому дому, как ракушки к остову сидящего на мели корабля.
Однажды вечером, спустя неделю после укрощения солового коня, Найджел и его бабушка сидели в зале у большого погасшего очага. Они уже поужинали, и столы — большие столешницы на козлах, тоже были убраны, отчего комната казалась пустой и неуютной. Каменный пол был устлан толстым слоем зеленого камыша, который каждую субботу выметали вон вместе со всей грязью и мусором, скопившимися за неделю. На камыше пристроились несколько собак; они глодали и грызли брошенные им со стола кости. У одной стены стоял длинный деревянный буфет с тарелками и блюдами. Другой мебели в зале почти не было, если не считать двух скамеек у стен, двух кресел с высокими спинками, столика с разваленными на нем шахматными фигурами и большого железного сундука. В углу возвышалась подставка, и на ней величаво восседали два сокола. Они не издавали никаких звуков и не шевелились, только изредка мигали хищными желтыми глазами.
Но если человека, привыкшего к роскоши более поздних времен, убранство комнаты поразило бы скудостью, то тем более он был бы поражен, если бы бросил взгляд наверх: на стенах он увидел бы множество удивительных вещей. Над камином висели гербы всех домов, связанных с Лорингами узами крови или брака. Два факела, горевших по обе стороны камина, освещали тусклым светом голубого льва дома Перси, красных птиц де Валенсов, черный зубчатый крест де Моэнов, серебряную звезду де Веров и червленую перевязь Фиц-Аллена. Все они располагались вокруг пяти знаменитых алых роз на серебряном щите, который Лоринги со славой пронесли через столько кровавых сражений. Под потолком, из конца в конец, комнату пересекали тяжелые дубовые брусья, на которых тоже висело множество замечательных предметов: кольчуги, сработанные еще древними мастерами, несколько щитов, заржавелых помятых шлемов, луки, копья, конская сбруя, дротики для охоты на выдру, удочки и многие другие орудия боя или охоты. Еще выше, в темноте, под самым сводом крыши, виднелись ряды окороков, связки копченой грудинки, соленых гусей и других видов мясных заготовок, которые так много значили для средневекового домашнего хозяйства.
Леди Эрментруда Лоринг — дочь, жена и мать воинов — и сама являла грозную фигуру. Она была высока ростом и худа, с резкими жесткими чертами лица и черными глазами, выражавшими непреклонную волю. Ни ее седые волосы, ни согбенная спина не могли умалить чувство страха, который она внушала окружающим. Ее мысли и память постоянно обращались назад, в суровое прошлое. Англия нового времени казалась ей страной выродившейся, изнеженной, далеко отошедшей от старых добрых правил рыцарской учтивости и доблести.
Ей в равной мере претило и то, что народ набирает силу, а церковь богатеет, и то, что знать утопает в роскоши, и что сама жизнь становится все утонченнее. По всей округе боялись ее грозного вида и даже тяжелой дубовой палки, без которой она не могла передвигать свои немощные ноги.
И все же, хоть ее и боялись, она пользовалась всеобщим уважением. В те дни, когда книг было мало, а грамотеев и того меньше, очень ценились все, кто хорошо помнил о событиях прошлого и складно говорил. А где, как не в доме леди Эрментруды, неграмотные молодые сквайры Суррея и Гэмпшира могли послушать про подвиги своих дедов или получить познания в геральдике и рыцарском этикете, которые она приносила им из века более сурового и воинственного? При всей ее бедности, она была единственным человеком в Суррее, к которому охотно обращались со всеми вопросами, касающимися правил поведения или старшинства родов.
Сейчас она сидела скрючившись у очага и смотрела на Найджела. Суровые черты старого, в красных прожилках лица смягчились, в них светились любовь и гордость. Молодой сквайр, тихонько насвистывая, делал для своего арбалета тонкие стрелы на мелкую дичь. Случайно подняв голову, он поймал устремленный на него взгляд темных глаз. Подавшись вперед, он погладил костлявую руку.
— Чему вы так радуетесь, милая госпожа? По глазам вашим вижу, что вас что-то радует.
— Сегодня мне рассказали, как тебе достался этот огромный боевой конь, что бьет копытами на конюшне.
— Что вы, что вы, госпожа! Я ведь уже говорил вам, что его подарили мне монахи.
— Да, сын мой, об этом ты говорил, а вот обо всем остальном промолчал. Будто я не понимаю, что лошадь, которую ты привел, ничуть не похожа на ту, что дали тебе монахи. Почему ты мне ничего не рассказал?
— Право неловко рассказывать о таких пустяках.
— Вот-вот. То же самое сказал бы и твой отец, и твой дед. Когда в былые времена рыцари собирались за столом, а чаша доброго вина шла по кругу, они сидели молча и только слушали рассказы о разных подвигах. А если кто хотел особо выделиться и начинал говорить громче других, отец твой, бывало, тихонько дергал его за рукав и спрашивал, нет ли на нем какого обета, от которого отец мог бы его освободить, и не удостоит ли он отца сразиться с ним в благородном поединке. Если рыцарь замолкал, потому что был просто хвастун, отец тоже ничего больше не говорил, и все оставалось между ними. Ну а если тот держался достойно, твой отец повсюду прославлял его имя, при этом ни словом не упоминая о себе самом.
Найджел смотрел на старую женщину сияющими глазами.
— Я очень люблю, когда вы так говорите о нем. Прошу вас, расскажите еще раз, как он принял смерть.
— Он принял смерть, как и жил, — истинным дворянином. Она пришла к нему во время большой битвы у берегов Нормандии. Отец был начальником готовой команды на корабле самого короля. А за год до этого, когда французы взяли верх в Проливе и сожгли Саутгемптон, они захватили один большой английский корабль — «Христофор». Так вот, когда началось сражение, они пустили этот корабль впереди своих судов. Но англичане тут же окружили его, ворвались на борт и перебили всех, кто там был.
В живых остался только сэр Лоредан Генуэзский, он был командиром корабля. И он сразился с твоим отцом на юте. Это было великолепное зрелище. Весь флот замер, чтобы полюбоваться им, даже король не мог удержать возгласов восхищения. Ведь сэр Лоредан был знаменитый воин, в тот день он прямо горел отвагой, и многие рыцари завидовали твоему отцу, что ему довелось биться с таким знаменитым противником. Отец твой заставил его отступить и нанес сильный удар булавой по голове. От удара шлем сэра Лоредана повернулся так, что глазные прорези оказались сзади, и он как бы ослеп. Он бросил меч и сдался за выкуп. Но отец твой ухватился за шлем и повернул его обратно. Когда сэр Лоредан стал снова видеть, отец протянул ему меч и предложил отдохнуть, а потом снова продолжить схватку, ибо ни от чего не будет дворянину столько пользы и удовольствия, как от достойного поведения другого дворянина. И они сели рядом у борта. А потом, не успели они снова взяться за мечи, как в отца твоего попал камень, пущенный из баллисты, и он тут же скончался.
— А что было с сэром Лореданом? — воскликнул Найджел. — Он ведь тоже умер?
— Кажется, его просто пристрелили лучники. Они очень любили твоего отца. Да и смотрят они на такие вещи иначе, чем мы.
— Какая жалость! — заметил Найджел. — Ясно же, что он был доблестный рыцарь и храбро сражался.
— В былое время, когда я была молода, простолюдины не посмели бы поднять свою грязную руку на такого человека. Люди благородной крови, носящие доспехи, воевали друг с другом, а все остальные — лучники или копейщики — могли только устраивать драки между собой. А теперь все стали равны. И лишь изредка встречается человек такой, как ты, мой милый сын, который напоминает мне о тех, кого уже давно нет.
Найджел склонился и взял ее за руки.
— Таким меня сделали вы.
— Это правда, Найджел. Я растила тебя, как садовник растит свой самый драгоценный цветок. Ведь ты — единственная надежда нашего древнего рода. И скоро — очень-очень скоро — останешься один.
— Не надо, милая госпожа, не говорите так.
— Я очень стара, Найджел, и чувствую, как на меня надвигается тень смерти. Мое сердце жаждет смерти, потому что все, кого я знала и любила, умерли раньше меня. А ты… Что ж, для тебя это будет счастливый день, ведь я не отпускаю тебя в тот мир, куда рвется твоя отважная душа.
— Не надо! Мне хорошо и здесь, с вами, в Тилфорде.
— Мы очень бедны, Найджел. Я просто не знаю, где нам достать денег тебе на военное снаряжение. Впрочем, у нас есть добрые друзья. Есть сэр Джон Чандос. Он так отличился в войнах с французами, что с той поры всегда скачет по левую руку от короля. Он был другом твоему отцу, они вместе были посвящены в рыцари. Если я пошлю тебя ко двору и ты отвезешь ему письмо, он сделает все, что сможет.
Найджел залился краской.
— Нет, нет, госпожа Эрментруда. Я сам должен добыть себе снаряжение, как добыл коня. Я скорее пойду сражаться в этом камзоле, чем приму доспехи от кого-либо другого.
— Вот этого-то я и боялась, Найджел. Но я, право, не знаю, где взять денег, — печально произнесла старая женщина. — При жизни моего отца все было иначе. Я отлично помню, что достать кольчугу было проще простого, потому что их делали в любом английском городе. А затем с каждым годом люди стали все больше заботиться о своем теле, простых кольчуг им сделалось мало, все хотелось чего-то позатейливее — то тут приладить непробиваемую пластину, то там что-нибудь по-особому склепать. А ведь такие штуки приходилось привозить из Толедо либо из Милана. И вот уже рыцарю надо сперва набить металлом кошелек и лишь потом прикрыть им тело.
Найджел с тоской взглянул на старое оружие, висевшее на балках у него над головой.
— Ясеневое копье еще годится, да и дубовый щит, обитый сталью. Сэр Роджер Фиц-Аллен как-то пробовал их и сказал, что давно не встречал ничего лучшего. А вот доспехи…
Леди Эрментруда покачала головой и рассмеялась.
— У тебя широкая душа, Найджел, такая же, как у отца, да вот грудь поуже, а руки и ноги покороче. Отец-то твой был выше и сильнее всех в великом королевском войске. От его доспехов тебе мало проку. Нет, милый сын, у меня на уме другое. Когда придет время, ты продашь этот дом — он совсем разваливается — и наш жалкий клочок земли и пойдешь воевать, чтобы своей собственной рукой заложить основу будущего процветания нового дома Лорингов.
Тень гнева скользнула по молодому свежему лицу.
— Боюсь, нам нелегко будет отделаться от монахов и стряпчих. Как раз сегодня приходил один человек из Гилдфорда с иском от монастыря — еще от той поры, когда был жив отец.
— А где же эти иски, сын мой?
— Все эти бумажки и пергаменты болтаются на ветках кустарника: они у меня полетели по ветру быстрее соколов.
— Ты с ума сошел, Найджел! Разве можно так себя вести? А где этот человек?
— Рыжий Суайер и старый Джон-лучник закинули его в Терслийское болото.
— Увы, боюсь, в наши дни уже нельзя позволять себе подобных выходок. Хотя, конечно, и отец мой, и муж отправили бы его в Гилдфорд без ушей. А сейчас нам, людям благородной крови, не совладать с церковью и законом. Быть беде, Найджел, быть беде. Настоятель Уэверли из тех, кто всегда прикроет щитом церкви ее слуг.
— Сам-то настоятель не сделает нам ничего худого. На наши земли зарится тот тощий серый волчина, ризничий. Что ж, пусть попробует. Я его не боюсь.
— Он владеет таким оружием, Найджел, что и храбрецу из храбрецов надо его опасаться. В его руках отлучение от церкви — погибель для души человеческой. А чем нам защититься от него? Прошу тебя, Найджел, будь с ним учтив.
— Нет, дорогая госпожа. Хотя повиноваться вам — мой долг и радость, я скорее умру, чем стану выпрашивать как милость то, что принадлежит нам по праву. Всякий раз, как я смотрю из окна, я вижу вздымающиеся холмы и богатые луга, поляны и лощины, леса и рощи, и все это было наше еще со времен Вильгельма Завоевателя: он подарил эти угодья Лорингу, который нес его щит на Сенлаке[9]. А потом их отобрали у нас обманом и хитростью, и теперь многие арендаторы куда богаче меня. Но зато никто не скажет, что я спас остатки своего состояния, подставив голову под ярмо. Пусть монахи делают что угодно, мне же придется выбирать: либо все стерпеть, либо защищаться, не жалея сил.
Старая леди глубоко вздохнула и покачала головой.
— Ты говоришь как истинный Лоринг. Но все же, боюсь, впереди нас ждут большие неприятности. Впрочем, не будем больше об этом. Что толку говорить, если мы ничего не можем сделать? Где твоя цитра? Сыграй и спой мне что-нибудь, пожалуйста.
В те дни мало кто из дворян умел читать и писать, зато все говорили на двух языках, играли хотя бы на одном музыкальном инструменте и обладали уймой других достоинств: умели ухаживать за соколами, были сведущи во всех тонкостях псовой охоты, знали повадки любого зверя и птицы, разбирались, когда можно и когда нельзя на них охотиться. И телом они были крепки: каждый умел проскакать на лошади без седла, вскарабкаться на отвесную стену, окружающую замок, или попасть стрелой в бегущего зайца; и все это приходило как бы само собой. Иначе было с музыкой. Тут требовались долгие часы тяжелой работы. Но наступало время, когда сквайр уже умел управляться со струнами, хотя и слух его, и голос все еще оставляли желать лучшего.
Поэтому Найджелу очень повезло, что у него был всего один слушатель, да еще столь пристрастный. Высоким, чистым голосом, с большим чувством, но то и дело сбиваясь, он запел франко-норманнскую песню, потряхивая в такт музыке русыми кудрями:
Клинок! Клинок! Мне дайте клинок. Идем в опасный поход. Пусть рвы глубоки, ворота крепки. Но сильный все превзойдет. Пусть со злой судьбой предстоит мне бой — Мой плюмаж выше стен взлетит. Все замки отопрем мы стальным ключом. Или знайте, что я убит. Коня! Коня! Мне дайте коня. Пусть умчит он меня в края, Где кипит война, кровава, страшна, Но славу стяжаю я. Направим мы бег от лени и нег, Вливающих в жилы яд, По тропам крутым, где слезы и дым. Но сердце надежды пьянят. И дух мне в грудь вложите такой. Чтоб я не бледнел в бою; Чтоб, ясен и смел, одного хотел — Честь умножить свою: Чтоб был терпелив, и, в схватку вступив. Хранил спокойствие в ней, И страх презирал, и чело склонял Лишь перед дамой своей.Быть может, чувство захватило старую леди Эрментруду больше, чем музыка, или слух у нее притупился от возраста, только, когда Найджел кончил, он захлопала в иссохшие ладоши и воскликнула скрипучим голосом:
— У Уэдеркота был поистине способный ученик! Спой еще, прошу тебя.
— Нет, дорогая госпожа, теперь ваш черед. Пожалуйста, расскажите что-нибудь из какого-нибудь рыцарского романа, вы их так много знаете. Все годы, что я слушал вас, вы ни один из них не закончили. А в голове у вас, клянусь честью, их побольше, чем во всех толстых книгах, что я видел в Гилдфордском замке. Мне так хочется послушать «Песнь о Роланде», или «Сеньора Изамбара», или «Дона де Майанс».
И старая дама начала свое долгое повествование. Сперва речь ее текла неспешно, монотонно; потом, по мере того как события развивались, становилась все живее; наконец лицо старой дамы запылало, руки заметались, и стихи полились рекой. Они говорили о том, как пуста праздная жизнь, как прекрасна геройская смерть, о святости чистой любви, о высоком долге чести. Найджел застыл в кресле, упиваясь пылкими словами, пока они не замерли на устах леди Эрментруды и она в изнеможении не откинулась на спинку кресла. Тогда он склонился над ней и поцеловал ее в лоб.
— Ваши слова всегда будут мне путеводной звездой, — сказал он. Потом пододвинул к очагу шахматный столик и предложил перед отходом ко сну сыграть их обычную партию.
Но их утонченное состязание было внезапно самым грубым образом прервано. Одна из собак насторожилась и залаяла. Остальные, рыча, бросились к двери. Раздалось бряцание оружия, глухой, тяжелый стук в дверь, словно ударили дубинкой или рукоятью меча, и низкий голос приказал именем короля открыть дверь. Старая леди и Найджел вскочили на ноги; столик опрокинулся, и фигуры разлетелись по камышовой подстилке. Рука Найджела потянулась было за арбалетом, но леди Эрментруда удержала его.
— Не надо, милый сын. Ты же слышишь, что это приказ именем короля, — сказала она. — На место, Толбот! Байярд, на место! Найджел, открой дверь и впусти гонца.
Найджел отодвинул засов, и тяжелая деревянная дверь широко распахнулась наружу. Неровный свет факелов упал на стальные шлемы и суровые бородатые лица, замерцал на клинках мечей и желтом дереве луков. В комнату ворвалась дюжина вооруженных лучников. Возглавлял отряд тощий ризничий и полный пожилой человек в красном бархатном камзоле и перепачканных грязью и глиной штанах. В руке ризничий держал большой пергамент, с которого свисало множество печатей. Войдя, он поднял пергамент кверху.
— Я вызываю Найджела Лоринга, — провозгласил он. — Я, слуга королевского закона, выступающий от имени Уэверлийского монастыря, вызываю человека по имени Найджел Лоринг.
— Это я.
— Да, да, это он! — воскликнул ризничий. — Лучники, делайте, что вам приказано!
Отряд тотчас же кинулся на Найджела, как свора гончих на оленя. Найджел отчаянно пытался дотянуться до меча на сундуке. Невероятным усилием скорее духа, чем тела, он протащил их всех к сундуку, но ризничий успел перехватить оружие, и тогда им удалось повалить извивающегося Найджела на пол и скрутить веревкой.
— Держите его крепче, храбрые лучники! Держите хорошенько! — закричал стряпчий. — И уберите этих псов: они того и гляди вцепятся мне в ноги. Да говорю же вам, держите их! Именем короля! Уоткин, стань тут, между нами. Эти твари так же мало чтут закон, как их хозяин!
Один из лучников отогнал башмаком верных псов. Но не только собаки готовы были встать на защиту дома Лорингов. Из дверей, ведущих в их жилище, показалась кучка полунищих челядинцев Найджела. В былые времена за алыми розами Лорингов последовали бы десяток рыцарей, сорок копейщиков и две сотни стрелков. Теперь же, на этот последний сбор, когда молодой глава дома лежал связанный на полу собственного дома, сбежались паж Чарлз с дубинкой, повар Джон с длинным вертелом, Рыжий Суайер, бывший копейщик, с поднятым над головой топором и Уэдеркот, менестрель, с рогатиной. И все же разношерстный отряд, в котором не умер еще дух этого дома, бросился бы под предводительством старого воина на обнаженные плечи лучников, если бы между ними не встала леди Эрментруда.
— Остановись, Суайер! — воскликнула она. — Назад, Уэдеркот! Чарлз, возьми на сворку Толбота и оттащи Байярда. — Она метнула сверкающий взгляд в сторону захватчиков, и те попятились. — Кто вы такие, подлые разбойники? Как вы смели, прикрываясь именем короля, поднять руку на того, чья капля крови во сто крат дороже, чем вы все со всеми вашими презренными потрохами?
— Не горячитесь так, госпожа, не горячитесь, пожалуйста! — воскликнул толстый стряпчий. Теперь, когда ему пришлось иметь дело с женщиной, лицо его снова приняло нормальный цвет. — Вспомните, что в Англии существует закон и есть люди, которые ему служат и блюдут его. Они — верные слуги короля, и я — один из них. А еще бывают люди, что хватают таких, как я, и перемещают, или переправляют, или переносят их в болото либо трясину. К таким принадлежит вон тот бесстыдный старик с топором, которого я уже видел сегодня. Бывают и такие, что комкают, рвут и рассеивают по ветру судебные документы. И главный из них вот этот молодой человек. Посему, благородная дама, я посоветовал бы вам не браниться, а понять, что мы — слуги короля и исполняем закон.
— Тогда какое же дело привело вас в мой дом в столь поздний час?
Стряпчий торжественно прочистил горло и, обратив пергамент к свету факелов, стал читать пространный документ на франко-норманнском диалекте, изложенный таким языком и стилем, что самые вычурные и нелепые обороты нашей речи показались бы воплощением простоты и изящества по сравнению с теми, которыми люди в длинных мантиях превращали в неразрешимую загадку то, что более всего на свете требовало языка ясного и понятного. У Найджела от отчаяния захолонуло сердце, лицо старой леди побледнело, когда она услышала длинный, страшный перечень исков, претензий, судебных решений, ходатайств, недоимок, подымного сбора, платы за торф и дрова, который заканчивался требованием передать монастырю все земли, усадьбы и подворья — иначе говоря, все их достояние.
Найджел, все еще связанный, сидел, прислонясь спиной к сундуку. Губы у него пересохли, пот выступил на лбу, когда он услышал ужасный приговор дому, и он разразился такой неистовой речью, что стряпчий даже подскочил на месте.
— Вы еще пожалеете о том, что сделали сегодня вечером! — кричал он. — Хоть мы и бедны, у нас есть еще друзья, они не потерпят, чтобы нам причинили зло. А сам я обращусь с этим делом в Уиндзор, к его величеству королю. Пусть король, на глазах которого пал мой отец, узнает, какое зло сотворили его именем над сыном Лоринга! Дело будет разбираться по закону, в королевском суде. Как-то вы тогда оправдаетесь, что напали на мой дом и на меня самого.
— Ну, это совсем другое дело, — сказал ризничий. — Вопрос о долгах, и верно, может рассматриваться в гражданском суде. А вот то, что вы посмели поднять руку на стряпчего и его бумаги, — преступление против закона и дьявольское наущение и подлежит аббатскому суду в Уэверли.
— Истинная правда! — воскликнул стряпчий. — Нет на свете греха чернее.
— Поэтому, — продолжал неумолимый монах, — по приказу святого отца настоятеля вы проведете сегодняшнюю ночь в келье монастыря, а завтра предстанете перед ним и капитулом в суде и понесете заслуженное наказание за этот поступок, да и за многие другие дерзкие и непристойные выходки против слуг святой церкви. Довольно слов, достойный господин стряпчий. Лучники, уведите его!
Когда четверо здоровенных лучников поднимали Найджела, леди Эрментруда бросилась было к нему на помощь, но ризничий оттолкнул ее.
— Не подходи, гордячка! Не мешай закону исполнять свое дело и смири сердце свое перед могуществом святой церкви. Неужели жизнь ничему тебя не научила? Ведь ты занимала достойное положение в самом высоком обществе, а скоро у тебя не будет крыши над твоей седой головой. Не подходи, говорю, не то я прокляну тебя.
Старая женщина, стоявшая перед обозленным монахом, пришла в ярость.
— А теперь послушай меня, как я прокляну тебя и всех вас! — закричала она, воздев морщинистые руки и испепеляя его пылающим взглядом. — Да будет тебе от Господа Бога как дому Лорингов было от тебя! Да сметет вас небо с английской земли! Да станет Уэверлийский монастырь серым прахом на зеленом лугу! Я это вижу, вижу своими старыми глазами! Пусть отныне весь монастырь со всем, что в нем есть, от последнего работника до аббата, от погребов до башен, начнет рушиться и гибнуть.
Как ни стоек был суровый монах, но и он дрогнул перед неистовой силой этой женщины, перед ее горькими, обжигающими словами. Стряпчего, арестованного и лучников уже не было в доме. Ризничий повернулся и, хлопнув тяжелой дверью, тоже вышел.
Глава V Как настоятель Уэверлийского монастыря судил Найджела
Средневековые законы, написанные на невразумительном старом франко-норманнском диалекте, изобилующие неуклюжими оборотами и непонятными словами, вроде «юрисдикция над своими и чужими подданными», «конфискация», «виндикация» и другими, подобными им, были страшным оружием в руках тех, кто умел ими пользоваться. Не напрасно восставший народ первым делом отрубил голову лорду-канцлеру. В то время, когда лишь немногие умели читать и писать, туманные выражения и запутанные обороты законов, пергамент, на котором они были написаны, и таинственные печати вселяли ужас в сердца, отважно противостоявшие любой физической опасности.
Даже жизнерадостный и легкий духом Найджел пришел в уныние, когда лежал той ночью в монастырской тюрьме Уэверлийской обители. Он думал о неминуемом полном разорении своего дома и о силах, которые не могли побороть все его мужество. Пытаться противостоять тлетворной власти святой церкви — все равно что с мечом и щитом сражаться против черной смерти. В руках церкви он был совершенно беспомощен. Она уже давно отхватывала у них то лес, то поле, а теперь разом заберет все остальное. Что станется с домом Лорингов, где теперь леди Эрментруде приклонить седую голову, куда деваться его старым, больным слугам, где доживать им остаток дней своих? От этой мысли он задрожал.
Ну, хорошо, он пригрозил, что обратится к самому королю. Но с той поры, как король Эдуард в последний раз слышал имя его отца, прошли годы, а Найджел знал, как коротка память царственных особ. К тому же власть церкви простиралась не только на хижины, но и на дворцы, и нужны были очень веские причины, чтобы вынудить короля пойти против интересов такого важного духовного лица, как настоятель Уэверлийского монастыря, коль скоро тот действовал по закону. Где же ему искать поддержки? В простоте наивной веры тех времен он стал взывать о помощи к своим святым: св. Павлу — Найджелу сызмала полюбились его злоключения на суше и на море; св. Георгию, который так прославился победой над драконом; св. Фоме, благородному рыцарю, который бы понял другого человека благородной крови и помог ему. Эти наивные молитвы успокоили Найджела, он уснул и проспал здоровым сном юности, пока его не разбудил монах, принесший ему завтрак — хлеб и слабое пиво.
Аббатский суд собрался в капитуле в три часа по каноническому счету, то есть в девять утра. Это всегда было торжественное действо, даже если преступник был низшего звания — крепостной, попавшийся за браконьерство в монастырских владениях, или странствующий торговец, который плутовал с весами. Но теперь, когда предстояло судить человека благородного происхождения, все, что предписывал ритуал, исполнялось самым строжайшим образом — все мелочи судебного и церковного церемониала, со всеми их нелепыми и впечатляющими подробностями. Под звуки музыки, долетавшей из церкви, и тяжелый звон монастырского колокола братия, облаченная в белые одежды, парами трижды обошла зал с пением Benedicite[10] и Veni, Creator[11] и расселась по своим местам по обе стороны зала. Затем, соблюдая старшинство сана, торжественно вошли и уселись на свои обычные места монахи, занимавшие высокие должности: раздаватель милостыни, чтец, капеллан, помощник приора и приор.
Наконец в зал проследовал мрачный ризничий, низко опущенное лицо которого светилось сдержанным торжеством, и следом за ним сам аббат Джон. Он шел неторопливо, важно, лицо его было спокойно и торжественно; с пояса свисали железные четки, в руке был требник. Шепча молитву, он готовился приступить к дневным обязанностям. Настоятель встал на колени на высокую молитвенную скамеечку. По знаку приора монахи распростерлись на полу, и их низкие, глубокие голоса вознеслись в молитве, плавно отдаваясь от сводчатого потолка, как волны откатываются от бухты на берегу океана. Потом монахи снова заняли свои места, и тут же, с перьями и пергаментом, вошли писцы в подобающих им черных рясах; появился стряпчий в красном бархатном камзоле — ему предстояло изложить дело. Наконец ввели Найджела, окруженного лучниками. И вот, после бесконечных заклинаний на старофранцузском языке и столь же бесконечных и непонятных заклинаний по-латыни, аббатский суд приступил к делу.
Первым к скамье для свидетелей подошел ризничий. Сухо, жестко, бесстрастно он изложил претензии Уэверлийского монастыря к семье Лорингов. Еще несколько поколений назад один из Лорингов в уплату долга, а также в благодарность за оказание каких-то духовных милостей признал за монастырем определенные феодальные права на свои владения. И ризничий показал пожелтевший ломкий пергамент с болтающимися свинцовыми печатями, на котором и основывался иск монастыря. Среди других обязательств, принятых на себя Лорингами, была и ежегодная плата за содержание одного всадника. Плата эта никогда не вносилась и всадника никто не содержал, но долг накапливался и теперь превышал стоимость поместья. Были и другие претензии. Ризничий приказал принести книги и, водя по листам худым нетерпеливым пальцем, все их перечислил: налог на одно, пошлина на другое; столько-то шиллингов в этом году и столько-то ноблей в том. Одни счета относились еще ко времени до рождения Найджела, другие — когда он был ребенком. Все они были выверены и скреплены подписями стряпчего.
Слушая этот грозный перечень, Найджел почувствовал себя как молодой олень, который, приняв оборонительную позу, с пылающим сердцем отчаянно защищается, но видит, как кольцо врагов становится тесней, и знает, что спасенья нет. Гордо поднятая голова Найджела, смелое молодое лицо, непреклонная воля, светившаяся в голубых глазах, — все говорило о том, что это отпрыск славного древнего рода. А лучи солнца из высокого круглого окна, падая на его изношенный, засаленный, некогда нарядный камзол, свидетельствовали о том, что дни славы и процветания этого рода давно миновали.
Ризничий закончил речь, и стряпчий уже хотел было дать свое заключение, против которого Найджелу при всем желании нечего было бы возразить, как вдруг ему пришла помощь, и притом оттуда, откуда ее меньше всего можно было ожидать. Возможно, причиной тому было излишнее злорадство ризничего, перечислявшего свои обвинения, или свойственное дипломатам неприятие крайних мер, а может быть просто искренний порыв доброты: аббат Джон, хотя и был вспыльчив, отходил легко. Словом, каковы бы ни были причины, только настоятель поднял белую полную руку и властным жестом показал, что дело окончено.
— Учинив этот иск, — сказал он, — брат ризничий исполнил свой долг, ибо его благочестивому попечению доверено блюсти мирское состояние монастыря, и с него должны мы спросить, если оно понесет какой-либо ущерб, — ведь мы лишь доверенные тех, кто придет вслед за нами. Я же облечен ответственностью более драгоценной — за дух и репутацию тех, кто следует уставу святого Бернарда. Так вот, с тех дней, когда преподобный основатель нашего ордена спустился в долину Клерво[12] и там построил себе келью, мы стараемся быть для всех примером смирения и милосердия. Именно потому мы строим жилища в низинах, не возводим башен при наших монастырских церквах, не носим украшений, и никакие металлы, кроме железа и свинца, не проникают в наши пределы. Члену нашего ордена надлежит есть из деревянной миски, пить из железной чаши и довольствоваться свинцовым светильником. Воистину орден, который ищет блаженства, дарованного смиренному, не должен быть судьей в своей же тяжбе с соседом и желать его земли. Если дело наше правое, — а я верю, что так оно и есть, — было бы лучше, чтобы его рассмотрел королевский суд в Гилдфорде. И посему я постановляю: прекратить рассмотрение дела в аббатском суде и передать его в другой суд.
Найджел про себя вознес благодарственную молитву своим стойким святым, которые так мужественно и так удачно охраняли его в час невзгоды.
— Аббат Джон, — ответил юноша, — не думал я, что человеку с моим именем доведется когда-нибудь обратить слова благодарности к цистерцианцу из Уэверли. Клянусь святым Павлом, сегодня вы поступили как мужчина. Ведь разбирать дело об иске монастыря в монастырском суде — все равно, что играть фальшивыми костями.
Восемьдесят братьев в белых рясах неодобрительно, но с интересом слушали, как Найджел смело и прямо говорил с лицом, которое им, обреченным влачить жалкую жизнь, казалось прямым наместником бога на земле. Лучники отступили от Найджела, словно давая ему дорогу, но тут тишину нарушил громкий голос стряпчего.
— Святой отец настоятель, — произнес он, — ваше решение воистину secundum legem[13] и intra vires[14], что касается гражданского иска вашего монастыря. И ваше дело, как его решать. Но я, стряпчий Джозеф, с которым обошлись жестоко и преступно, у которого отняли и уничтожили все записи, бумаги и другие документы, над достоинством которого глумились, которого протащили по болоту, топи или трясине, так что он потерял свой бархатный камзол и серебряный знак служебного достоинства, которые теперь, как думается, покоятся в вышеупомянутом болоте, топи или трясине, каковые болото, топь или трясина являются…
— Довольно! — возвысил голос настоятель. — Оставьте глупые разглагольствования и скажите прямо, чего вы хотите.
— Святой отец, я страж королевского закона, но и верный слуга святой церкви, и мне не дали, помешали и воспрепятствовали исполнить мои законные, прямые обязанности, а мои бумаги, написанные от имени короля, были разорваны, изодраны в клочки и пущены по ветру. Посему я требую, чтобы этого человека судил аббатский суд, ибо вышеназванный разбой был совершен в пределах юрисдикции аббатского суда.
— А что можете сказать об этом вы, брат ризничий? — спросил настоятель в легком замешательстве.
— Я сказал бы, святой отец, что мы можем быть добры и милосердны в том, что касается нас самих; но там, где дело идет о служителе короля, мы пренебрегли бы своими обязанностями, если бы отказали ему в защите, в которой он нуждается. Я также напомнил бы вам, святой отец, что это не первая дерзкая выходка молодого человека: ему уже случалось колотить наших слуг, сопротивляться нашей власти и пускать щук в собственный садок настоятеля.
Обида была еще свежа в памяти прелата, и его полные щеки вспыхнули. Он сурово взглянул на пленника.
— Скажите мне, сквайр Найджел, это правда, что вы напустили в мой садок щук?
Молодой человек гордо выпрямился.
— Прежде чем я отвечу на этот вопрос, отец аббат, не ответите ли вы на мой: что хорошего я видел от уэверлийских монахов и почему бы мне не стараться вредить им где только можно?
По залу прошел ропот — монахов то ли удивила его откровенность, то ли разгневала дерзость.
Настоятель уселся поплотнее, как человек, принявший решение.
— Изложите свою жалобу, стряпчий, — сказал он. — Правосудие свершится, и обидчик понесет наказание, кто бы он ни был — простолюдин или благородный человек. Изложите суду иск.
Рассказ законника, хоть бессвязный и пересыпанный юридическими оборотами, был, в сути своей, совершенно ясен.
Привели Рыжего Суайера. Его обрамленное седой щетиной лицо покраснело от злости, когда его заставили признаться в непотребном обращении со служителем короля. Подстрекал его к этому и помогал еще один преступник — сухощавый, низкорослый, смуглый лучник из Чэрта. Но оба в один голос заявили, что сквайр Найджел Лоринг знать ничего не знал об этом. Однако против молодого человека было еще одно не очень приятное обвинение — в уничтожении бумаг: и Найджел, которому претила всякая ложь, вынужден был признать, что изорвал эти высочайшие документы собственными руками. Но гордость не позволяла ему ни объяснить, ни оправдать этот поступок. Лицо настоятеля омрачилось, а ризничий уставился на пленника с насмешливой улыбкой. В капитуле воцарилась торжественная тишина: дело было рассмотрено, оставалось лишь вынести приговор.
— Сквайр Найджел, — произнес настоятель, — вам, кто, как всем здесь хорошо известно, происходит из древнейшего на этой земле рода, подобало бы подавать другим пример добропорядочного поведения. Вместо этого ваш дом всегда был средоточием волнений и смуты; теперь же, не довольствуясь грубыми выпадами против нас, цистерцианских монахов Уэверли, вы открыто выказали свое презрение к закону короля и руками своих слуг нанесли оскорбление лицу, его представляющему. За такие поступки я мог бы призвать на вашу голову все духовные кары церкви. И все же я не буду к вам жесток — вы еще молоды, а на прошлой неделе спасли от смертельной опасности жизнь одного из монастырских слуг. Поэтому я применю к вам меры временные и телесные, чтобы обуздать ваш дерзкий дух и сдержать своевольные дикие порывы, каковые привели к столь непристойным поступкам по отношению к нашему монастырю. С сего дня до праздника святого Бенедикта вы будете полтора месяца сидеть на хлебе и воде и каждодневно слушать назидания нашего капеллана, святого отца Амвросия. Быть может, это заставит вас склонить упрямую голову и смягчить ожесточенное сердце.
Едва был оглашен этот позорный приговор, обрекавший гордого наследника дома Лорингов на участь последнего деревенского браконьера, кровь бросилась Найджелу в лицо, глаза сверкнули, и он посмотрел вокруг взглядом, который лучше всяких слов говорил, что так легко он не покорится своей участи. Он дважды пытался заговорить и дважды от гнева и стыда не мог произнести ни слова.
— Я не ваш подданный, надменный аббат! — воскликнул он наконец. — Мы всегда были королевскими вассалами. Ни за вами, ни за вашим судом я не признаю права выносить мне приговор. Наказывайте своих монахов, которые начинают скулить, стоит вам нахмурить брови, но не пытайтесь поднять руку на того, кто вас не боится. Я свободный человек и равен любому, кроме короля.
Казалось, на мгновение дерзкие слова и высокий, сильный голос Найджела привели настоятеля в замешательство. Но более стойкий ризничий, как всегда, помог ему укрепить волю; снова подняв старый пергамент, он обратился к Найджелу:
— Да, вы правы, Лоринги действительно были когда-то вассалами короля. Но вот тут стоит печать Юстаса Лоринга, которая свидетельствует, что он стал вассалом монастыря и принял от него землю.
— А все потому, что он был благородный человек, чуждый хитрости и коварства! — воскликнул Найджел.
— Нет, — вмешался законник. — Если мне позволено будет сказать, отец аббат, для закона не имеет значения, как и почему сделка была совершена, подписана или зафиксирована: суд рассматривает только условия, статьи и договоры каждого дела.
— Кроме того, — добавил ризничий, — приговор вынесен аббатским судом, и если он не будет приведен в исполнение, чести и доброму имени суда будет нанесен непоправимый ущерб.
— Брат ризничий, — сердито перебил настоятель, — мне думается, вы слишком усердствуете в этом деле. Право, мы и без твоих советов сумеем соблюсти честь и достоинство монастыря. А что до вас, почтенный стряпчий, вы изложите свое мнение не раньше, чем вас попросят, а не то вам придется на себе почувствовать силу нашего суда. Ваше дело закончено, сквайр Лоринг, и приговор вынесен. Все.
Аббат сделал знак и один из лучников положил руку на плечо пленника. Грубое прикосновение плебея вызвало бурю негодования в душе у Найджела. Из всех его благородных предков ни один не подвергался подобному унижению! Каждый предпочел бы смерть! Неужто ему суждено стать первым, кто унизит их дух и традиции? Быстро и ловко он выскользнул из-под руки лучника и выхватил короткий прямой меч, висевший у того на боку. В следующий момент он вскочил в нишу одного из окон и, держа меч наготове, с побледневшим лицом, сверкая глазами, обернулся к собранию.
— Клянусь святым Павлом! — воскликнул он. — Вот уж никогда не думал, что смогу под крышей монастыря совершить славный подвиг, но, кажется, мне придется это сделать, прежде чем вы упрячете меня в свою темницу.
В капитуле поднялся шум и гам. Никогда еще за всю долгую, достойную историю монастыря в его стенах не происходило ничего подобного. На миг могло показаться, что и самих монахов обуял дерзкий дух мятежа. От такого неслыханного вызова, брошенного власти, их собственные пожизненные оковы как бы стали свободнее. Они повскакали с мест и в каком-то полуиспуге-полувосторге столпились широким полукругом перед взбунтовавшимся пленником, крича, размахивая руками, гримасничая. Неслыханный скандал! Много долгих недель поста, покаяния и самобичевания должно было миновать, прежде чем тень этого дня сошла с Уэверли. А пока никто не сделал и попытки призвать монахов к порядку, повсюду царили хаос и неразбериха. Настоятель оставил судейское место и в гневе поспешил вперед, но толпа его собственных монахов тут же обступила и поглотила его, и он исчез, как неловкая овчарка среди стада овец.
Спокойствие сохранял только ризничий. Он укрылся за спинами лучников, которые в нерешительности, но с явным одобрением взирали на дерзкого смельчака, бежавшего от правосудия.
— Вперед! — закричал ризничий. — Не посмеет же он ослушаться решения суда! Или вы шестеро испугались одного? Окружайте его и хватайте! Бэддлзмир, ты что там прячешься за спинами?
Бэддлзмир, высокий человек, с густой бородой, одетый, как все, в короткую зеленую куртку и штаны и высокие коричневые сапоги, стал медленно подходить к Найджелу с мечом в руке. Душа его не лежала к этому делу — церковные суды не пользовались любовью народа, зато все сожалели о падении некогда процветавшего дома Лорингов и всей душой желали добра его молодому наследнику.
— Послушайте, молодой сэр, вы уже наломали дров. Выходите-ка и сдавайтесь, — сказал он.
— Что ж, подойди и попробуй взять меня, приятель, — ответил Найджел и угрожающе улыбнулся.
Лучник бросился вперед. Послышался скрежет стали, быстро, как вспышка пламени, сверкнул клинок, и стрелок отшатнулся. По руке его текла кровь и капала с пальцев на пол. Он зажал рану и выругался по-саксонски.
— Черт побери! — воскликнул он. — Уж лучше я суну руку в нору и попробую оторвать лису от ее щенков.
— Не подходи! — отрывисто бросил Найджел. — Я не желаю тебе зла, но, клянусь святым Павлом, так просто меня не взять, а если попробуешь, пеняй на себя.
Он вжался в узкую нишу окна, угрожающе подняв меч. Глаза его горели такой яростью, что кучка лучников в растерянности не знала, что делать. Тогда настоятель, побагровев от чувства оскорбленного достоинства, раздвинул толпу, прошел и стал рядом с ними.
— Отныне этот человек вне закона, — провозгласил он. — Он пролил кровь в суде, такой грех не знает прощенья. Я не потерплю глумленья над судом. Никто здесь не посмеет уйти от его приговора. Поднявший меч от меча да погибнет. Лесник Хью, приготовь лук!
Лесник, один из наемных слуг монастыря, навалившись всем телом, согнул свой длинный лук и закрепил свободный конец тетивы на верхней зарубке. Потом, достав из-за пояса одну из страшных трехфутовых стрел со стальным наконечником и блестящим оперением, приладил ее к тетиве.
— Теперь подними лук и держи наготове, — приказал разъяренный настоятель. — Сквайр Найджел, святой церкви не пристало проливать кровь, но насилие можно одолеть только насилием, и да падет грех на вашу душу. Бросьте меч!
— А вы дадите мне уйти из монастыря?
— Только после того, как вы отбудете наказание и очиститесь от греха.
— Тогда я скорее умру на месте, чем отдам меч.
Грозный огонь вспыхнул в глазах настоятеля. Он происходил из воинственного норманнского рода, как и многие другие суровые прелаты, которые с булавой в руках, чтобы самим не проливать кровь, вели отряды в бой, ни на мгновенье не забывая, что исход долгого кровавого сражения при Гастингсе решил именно человек их сана и достоинства с епископским посохом в руках. В миг исчезли мягкие монашеские интонации, и твердый голос воина произнес:
— Даю вам одну минуту. Затем, когда я скомандую «Стреляй!», пусти в него стрелу.
Стрела была наготове, лук наведен, а суровые глаза лучника устремлены на цель. Медленно проходила минута. Найджел про себя молился всем трем своим воинственным святым — не затем, чтобы они спасли его тело в этой жизни, а чтобы позаботились о его душе в иной. Ему пришло было в голову попытаться бежать, но он тут же понял, что не успеет выбраться из своего убежища, как его прикончат. И все-таки в конце концов он рискнул бы броситься на своих врагов и уже изготовился к прыжку, как вдруг тетива лука почему-то лопнула, издав глубокий, чистый звук наподобие струны арфы, и стрела со звоном ударилась о плиты пола. В тот же миг молодой курчавый лучник, широкоплечий и широкогрудый, по всей видимости невероятно сильный, с открытым, приветливым лицом и честным взглядом карих глаз, говорившим об отваге и добродушии, обнажив меч, бросился вперед и встал рядом с Найджелом.
— Ну нет, друзья, — крикнул он, — не станет Сэмкин Эйлвард стоять и смотреть, как смельчака убивают, словно затравленного зверя! Пятеро на одного — не очень-то справедливо. Вот двое против четверых уже получше. Клянусь своими десятью пальцами, мы со сквайром Найджелом оставим этот зал вместе, будь то на своих ногах или нет.
Устрашающий вид союзника и его репутация среди товарищей еще больше остудили и без того не слишком пылкое рвение нападающих. В левой руке Эйлвард держал натянутый лук, а все знали, что от Вулмерского леса до Уэлда он — самый быстрый и самый меткий стрелок и валит бегущего оленя с двухсот шагов.
— Ну-ка, Бэддлзмир, убери пальцы со спуска, не то как бы твоей правой руке не пришлось поотдыхать пару месяцев, — сказал Эйлвард. — Мечами — пожалуйста, друзья, но стрелы, клянусь, никто не выпустит, прежде чем не полетит моя.
От этой новой помехи новая волна ярости захлестнула сердца настоятеля и ризничего.
— Недобрым будет этот день для твоего отца-арендатора, Эйлвард, — прошипел ризничий. — Он еще пожалеет, что зачал сына, из-за которого потеряет в Круксбери и землю и кров.
— Мой отец — храбрый человек. Он пожалел бы еще больше, если б его сын допустил, чтоб на его глазах совершилось грязное дело, — твердо ответил Эйлвард. — Ну, друзья, навались, мы готовы.
Памятуя об обещанной награде, если им случится пасть, служа монастырю, и о грозящем наказании, если они не выполнят свой долг, четверо лучников уже приготовились к атаке, как вдруг неожиданное обстоятельство придало делу совсем другой оборот.
Пока в капитуле развертывались эти воинственные сцены, в дверях скопилась целая куча всякого народа — монахи, братья-миряне, слуги, — и все с живым интересом, как люди, вырвавшиеся из тусклой рутины жизни, наблюдали за развитием драмы. И вот в дальних рядах что-то вдруг пришло в движение, движение быстро сместилось в центр толпы, наконец кто-то стремительно раздвинул передние ряды, и в проходе появился необыкновенного, изысканного вида незнакомец. С самого своего появления он как бы встал и над капитулом, и над монастырем, над монахами, прелатом, лучниками, словно безраздельный повелитель всего и вся.
Это был человек чуть старше среднего возраста, с жидкими волосами лимонно-желтого цвета, загнутыми кверху усами и бородкой клинышком того же цвета. Над удлиненным, изрытым глубокими морщинами лицом выступал огромный, крючковатый, словно орлиный клюв, нос. От постоянного пребывания на солнце и на ветру кожа незнакомца покрылась бронзовым загаром. Он был высок ростом, худ и подвижен, но в то же время жилист и крепок. Один глаз у него был полностью закрыт веком; веко было плоское — оно прикрывало пустую глазницу. Зато другой глаз быстро и насмешливо охватил сразу всю сцену. В нем так ярко светились живой ум, насмешливость и ирония, словно весь огонь души рвался наружу через эту узкую щель.
Наряд его был столь же достоин внимания, сколь и он сам. На отворотах лилового камзола и плаща виднелись непонятные пурпурного цвета эмблемы, имевшие форму клинков. С плеч ниспадало дорогое кружево, а в его складках тускло мерцало красное золото тяжелой цепи. Рыцарский пояс на талии и рыцарские золотые шпоры, поблескивавшие на замшевых сапогах, без слов говорили о его высоком положении. На левом запястье, на латной рукавице, смирно сидел, в клобуке, маленький сокол той породы, что сама по себе была как бы знаком высокого достоинства его хозяина. При нем не было никакого оружия; только за спиной на черной шелковой ленте висела гитара; ее длинный коричневый гриф выступал у него из-за плеча. Вот такой человек, в изысканном и властном облике которого чувствовалась грозная сила, стоял и взирал на две кучки вооруженных людей и разозленных монахов. Его насмешливый взгляд сразу приковал к себе всеобщее внимание.
— Excusez![15] — картаво произнес он по-французски. — Excusez, mes amis![16] Я полагал, что отвлеку вас от молитвы и размышлений, однако мне еще не доводилось видеть под кровлей монастыря таких святых упражнений — с мечами вместо требников и лучниками вместо служек. Боюсь, что прибыл не вовремя, однако я приехал с поручением от того, чьи дела не терпят отлагательства.
Настоятель да, пожалуй, и ризничий начали понимать, что дело зашло слишком далеко — гораздо дальше, чем они намеревались, и что им будет нелегко без громкого скандала сохранить свое достоинство и доброе имя Уэверли. Поэтому, несмотря на некоторое отсутствие любезности и даже просто непочтительные манеры незнакомца, они очень обрадовались его появлению и вмешательству в события.
— Я — настоятель Уэверлийского монастыря, сын мой возлюбленный, — сказал прелат. — Если поручение ваше может быть достоянием гласности, его следует передать здесь, в капитуле; если же нет, я приму вас в своих покоях, ибо я вижу, что вы человек благородной крови и рыцарь и не стали бы без всякой причины вмешиваться в дело нашего суда, дело, которое, как вы справедливо заметили, малоприятно миролюбивым людям вроде меня самого или братьев ордена святого Бернарда.
— Pardieu[17], отец аббат! — ответил незнакомец. — Стоит только взглянуть на вас и ваших монахов, чтобы увидеть, что это дело и впрямь вам не по душе. А еще меньше оно придется вам по вкусу, если я скажу, что скорее сам вступлюсь за благородного юношу, что стоит в нише, чем дам вашим лучникам его прикончить.
При этих словах настоятель перестал улыбаться и нахмурился.
— Вам более пристало бы, сэр, поскорее передать поручение, с которым, как вы говорите, вы прибыли, нежели защищать подсудимого от справедливого приговора суда.
Незнакомец обвел суд вопрошающим взглядом.
— Поручение мое не к вам, добрый отец аббат, а к одному лицу, мне незнакомому. Я был у него в доме, и меня послали сюда. Его зовут Найджел Лоринг.
— Это я, досточтимый сэр.
— Я так и подумал. Я знал вашего отца, Юстаса Лоринга, и хотя он был вдвое крупнее вас, печать его яснее ясного лежит на вашем лице.
— Вы не знаете, в чем тут дело, — вмешался настоятель. — Если вы, сэр, человек честный, вы не станете на его сторону, ибо он злостно нарушил закон, и не подобает верным подданным короля за него вступаться.
— И вы притащили его в суд! — весело воскликнул незнакомец. — Вот уж поистине грачи учинили суд над соколом! Да, вижу, вы уже поняли, что судить его легче, чем наказать. Позвольте заметить вам, отец аббат, что суд ваш неправый. Лицам вашего сана право суда было дано для того, чтобы вы могли обуздать разбушевавшегося подчиненного или пьяницу-лесника, а не для того, чтобы тащить на свое судилище благороднейшего человека Англии, да еще ставить его под стрелы своих лучников, если он не согласен с вашим решением.
Настоятель не привык к столь строгому порицанию своих действий в стенах собственной обители, да еще перед монахами.
— Ну что ж, быть может, вам придется самому убедиться, что аббатскому суду дано значительно больше власти, чем вы полагаете, сэр рыцарь, — возразил он. Впрочем, я еще не знаю, в самом ли деле вы рыцарь, — ваша непочтительная и грубая речь позволяет в этом усомниться. А посему, прежде чем мы продолжим разговор, благоволите назвать свое имя и звание.
Незнакомец рассмеялся.
— А вы и вправду мирный народ, — гордо бросил он. — Покажи я этот знак, — и он дотронулся до эмблемы на отвороте камзола, — на щите ли, на рыцарском ли знамени, и любой солдат, будь то во Франции или в Шотландии, тут же узнал бы красное острие копья Чандосов.
Чандос, сам Джон Чандос, цвет и гордость английского странствующего рыцарства, герой более чем пятидесяти отчаянных стычек, человек, которого чтила вся Европа! Найджел смотрел на него, не веря своим глазам. Лучники в замешательстве сделали шаг назад, а монахи подались вперед, чтобы получше разглядеть героя французских войн. На лице настоятеля гнев сменился улыбкой, и он снова заговорил, но уже куда более мягким тоном:
— Мы действительно люди мирные, сэр Джон, и не очень разбираемся в воинственной геральдике. И все же, как ни крепки стены монастыря, слава о ваших подвигах проникла сквозь их толщу и дошла до наших ушей. Если вы пожелали удостоить вниманием этого сбившегося с пути молодого сквайра, нам не пристало препятствовать вашим благим намерениям или отказывать вам в просьбе. Я очень рад, что у него будет друг, который может подать ему достойный пример.
— Благодарю вас за любезность, добрейший отец аббат, — небрежно уронил Чандос, — но у этого юноши есть друг более достойный, чем я. Он куда добрее к тем, кого любит, и страшнее для тех, кого ненавидит. А я только его посланец.
— Не соблаговолите ли сказать мне, добрый и почтенный сэр, — обратился к нему Найджел, — в чем состоит ваше поручение?
— Оно состоит в том, mon ami, что ваш друг скоро прибудет в здешние края и желает провести ночь под кровлей вашего дома в Тилфорде в знак любви и уважения, которые он питает к вашей семье.
— Он всегда будет желанным гостем в моем доме, — ответил Найджел, — но все же я хотел бы, чтобы он был из тех, кто умеет находить удовольствие в скудном солдатском ночлеге под кровом жалкого жилища. Мы сделаем все, что в наших силах, хотя это будет очень мало.
— Он сам солдат, и солдат отличный, — сказал Чандос со смехом. — Ручаюсь, ему приходилось спать и не в таких местах, как ваш Тилфордский дом.
— У меня мало друзей, достойный сэр, — в недоумении заметил Найджел. — Пожалуйста, скажите мне как его зовут.
— Эдуард.
— Это, верно, сэр Эдуард Мортимер из Кента? Или, может быть, сэр Эдуард Брокас, о котором часто рассказывает леди Эрментруда?
— Нет, нет, его зовут просто Эдуард. А если вы так уж хотите знать фамилию, так она — Плантагенет[18]. Тот, кто просит о ночлеге под вашей кровлей, — ваш и мой повелитель, его королевское величество Эдуард Английский.
Глава VI Леди Эрментруда открывает железный сундук
Удивительные, невероятные слова доносились до Найджела, словно во сне. И, словно во сне, он видел, как примирительно улыбнулся настоятель, как подобострастно изогнулся ризничий, как отряд лучников раздвинул закупорившую было проход в капитул пеструю толпу и расчистил путь для него и для королевского посланца. Спустя минуту он уже шел рядом с Чандосом мимо мирных келий. Перед ним высилась арка распахнутых настежь ворот, а дальше, через зеленые луга, шла широкая песчаная дорога. Пережив леденящий ужас от ожиданья бесчестья и тюрьмы, который только что сжимал его сердце, Найджел с особой остротой почувствовал, как сладок и прозрачен весенний воздух. Они уже миновали главный вход, как вдруг кто-то тронул Найджела за рукав. Он обернулся и увидел перед собой славное загорелое лицо кареглазого лучника, который так неожиданно пришел ему на помощь.
— Ну, сэр, что же вы мне-то скажете? — спросил Эйлвард.
— А что я могу сказать, добрый человек? Только от всей души поблагодарить тебя. Клянусь святым Павлом, будь ты мне даже кровным братом, ты не мог бы сделать для меня больше, чем сделал.
— Ясное дело. Только этого мало.
Найджел так и вспыхнул от стыда и досады, тем более, что разговор этот, чуть улыбаясь, слушал Чандос.
— Если бы ты слышал, что говорили в суде, ты бы знал, что я не из тех, кто осыпан земными благами. Черная смерть заодно с монахами совсем разорила мои земли. Я охотно дал бы тебе за помощь пригоршню золотых, если это то, чего ты хочешь, да только у меня нет золота, а посему тебе придется удовольствоваться моей благодарностью.
— Не нужно мне вашего золота, — отрезал Эйлвард, — и вам никогда не купить моей верности, даже если б вы наполнили мне суму ноблями с розой[19], не придись вы мне по душе. Я видел, как вы укротили соловую лошадь и как без всякого страха говорили с настоятелем. Мне как раз и нужен такой хозяин — я с радостью стану вам служить, если только у вас найдется для меня место. Посмотрите на ваших слуг — сразу видать, крепкие были ребята при вашем деде. А кто из них сейчас натянет тетиву до самого уха? Я вот из-за вас потерял службу в монастыре, — где мне ее искать? Если я останусь тут, пропадать мне, как истертой тетиве.
— Ну, место тебе найдется, — вмешался Чандос. — Такой храбрый и дерзкий лучник не останется без дела за французским рубежом. У меня две сотни таких, и я буду рад, если среди них окажешься и ты.
— Благодарю вас, благородный сэр, за предложение, — ответил Эйлвард. — Я тоже встал бы под ваше знамя охотней, чем под чье-либо еще, — все ведь знают, что оно всегда впереди. К тому же я довольно наслушался о войне и знаю, что отстающему мало что перепадает. Но все же, если б сквайр Найджел взял меня к себе, я пошел бы воевать под розами Лорингов: хоть я и родился в Изборнской общине в округе Чичестер, вырос-то я в здешних краях, здесь научился управляться с луком и, как сын свободного землепашца, хотел бы лучше служить своему соседу, чем чужаку.
— Добрый человек, — повторил Найджел, — я уже говорил, мне нечем платить тебе за службу.
— Вы только возьмите меня на войну, а там я сам позабочусь о плате. А пока что дайте мне место в углу вашего стола да шесть футов пола, не то за сегодняшнюю услугу монастырю я наверняка получу плеть на спину да колодки на ноги. С этого часа Сэмкин Эйлвард — ваш человек, сквайр Найджел, и, клянусь всеми своими десятью пальцами, пусть дьявол утащит мою душу, если вы когда-нибудь пожалеете, что взяли меня на службу.
Говоря это, он поднес руку к стальному шлему, закинул за спину желтый лук и двинулся вслед за своим новым хозяином.
— Pardieu! Я, кажется, прибыл a la bonne heure[20], — сказал Чандос. — Я прискакал из Уиндзора к вам в дом и увидел, что там никого нет, кроме славной старой леди, которая рассказала мне о ваших бедах. От нее я пошел в монастырь и поспел как раз вовремя — дело принимало скверный оборот, стрелы уже были готовы, чтобы поразить ваше тело, а колокол, Библия и свечи поджидали вашу душу… Но вот, если не ошибаюсь, и сама старая леди.
И верно, в дверях дома показалась грозная фигура леди Эрментруды; иссохшая, согбенная, она шла, тяжело опираясь на палку. Узнав о поражении, которое потерпел аббатский суд, она хрипло рассмеялась и погрозила серой громаде палкой. Затем они проследовали в залу, где в честь знаменитого гостя на стол было выставлено все лучшее, что сыскалось в доме. В жилах хозяйки тоже текла кровь Чандосов. Она прослеживалась через родство с де Греями, де Малтонами, де Валенсами, де Монтегю и другими знатными и славными родами. Они успели поесть, а слуги убрать со стола, прежде чем леди Эрментруда описала все хитросплетения браков и родственных связей, все геральдические подробности — поля, стропила, перевязи, — которые позволяли по гербам установить их общее происхождение. Леди Эрментруда знала все о каждой ветви и каждом отпрыске любого благородного родословного древа не только после Завоевания, но и до него.
Когда столы были убраны и они остались в зале втроем, Чандос передал леди Эрментруде поручение короля.
— Король Эдуард всегда вспоминает о вашем сыне, благородном рыцаре сэре Юстасе. На будущей неделе он отправляется в Саутгемптон, и я — его вестник. Он поручил мне передать вам, благородная и высокочтимая дама, что поедет он не спеша и по пути из Гилдфорда проведет ночь под вашим кровом.
При этих словах старая леди сначала вспыхнула от радости, но тут же побледнела от огорчения.
— Это большая честь для дома Лорингов, — сказала она, — но кров наш теперь так жалок, а пища, как вы сами видели, так скудна! Король не знает, что мы совсем обеднели. Боюсь, мы покажемся ему просто скупцами.
Но Чандос успокоил ее. Свита короля проследует дальше, в Фарнемский замок. Дам с ним нет, а сам он, хотя и король, выносливый солдат и мало думает об удобствах. Во всяком случае, раз он объявил о своем намерении, они должны повиноваться. Наконец, самым деликатным образом Чандос предложил воспользоваться его кошельком. Но к леди Эрментруде уже вернулась присущая ей невозмутимость.
— Что вы, что вы, милый родич, не нужно! Я сделаю все, что в моих силах, чтобы принять короля как подобает. Он поймет, что, хотя в доме Лорингов ему не могут предложить угощение повкуснее, зато их кровь и жизнь принадлежат ему одному.
Чандос должен был ехать обратно в Фарнемский замок и еще дальше, но он выразил желание сперва принять ванну в Тилфорде, ибо, подобно многим рыцарям, любил попариться в такой горячей воде, в какой только мог усидеть.
Поэтому в комнату для гостей внесли большую бочку, крепко стянутую обручами, — чуть пошире и чуть пониже маслобойки, а Найджел был приглашен составить гостю компанию, пока тот парился, изнемогая в почти кипящей воде.
Найджел примостился на краю высокой кровати и, болтая ногами с интересом и удивлением взирал на изысканные черты лица знаменитого воина, его всклокоченные желтые волосы и мускулистые плечи, едва видные в столбе густого пара. Чандосу хотелось поговорить, и Найджел нетерпеливо засыпал его вопросами о войне, жадно впитывая каждое слово, долетавшее до него из облака пара, подобно прорицаниям древних оракулов. Чандос был старый вояка, для него война давно утратила былую привлекательность. Поэтому, слушая торопливые, сбивчивые вопросы Найджела и видя, с каким вниманием и восхищением тот ловит каждый ответ, он заново переживал пылкие дни своей юности.
— Расскажите мне еще о валлийцах, досточтимый сэр, — просил сквайр. — Они хорошие солдаты?
— Валлийцы — храбрые воины, — отвечал Чандос, плескаясь в чане. — Если по их долинам проезжать с небольшим отрядом, стычки будут на каждом шагу. Их рыцари вспыхивают в один миг, как сухой вереск от огня. Но если ты можешь немного переждать, случается, они и остывают.
— А шотландцы? Вы ведь с ними воевали?
— Нет на свете лучше воинов, чем шотландские рыцари. И тому, кто устоит в бою с лучшими из них — Дугласом, Мюрреем или Ситоном, учиться больше нечему. Будь ты как угодно силен, но если отправишься на север, то всегда повстречаешь рыцаря, не уступающего тебе в силе. Если валлийцы подобны сухому вереску, то, pardieu, шотландцы больше походят на торфяник — они дымятся не переставая, и конца этому нет. Я не раз бывал там с войском, потому что даже в мирное время эникские Перси или коменданты Карлайла не могли обойтись без распрей и стычек с пограничными кланами.
— Мне помнится, отец говорил, что они отменные копейщики.
— Лучшие в мире. Копья у них длинные, футов по двенадцать, и они очень плотно смыкают ряды. Зато их лучники никуда не годятся, кроме разве людей Эттрика и Селкирка, те — уроженцы лесов. Пожалуйста, Найджел, открой окошко, стало слишком парно. А вот валлийцы, наоборот, плохие копейщики. Лучшие лучники во всем Уэльсе — из Гуэнта. Луки у них страшной силы, их делают из древесины вяза. Я знал одного рыцаря, так лошадь его убило стрелой, которая сначала прошла через его кольчугу, ногу и седло. И все же разве можно сравнить стрелу, даже пущенную с огромной силой, с этими новыми железными шарами, которые выбрасывает порох и которые разбивают латы, как камень яйцо!
— Тем лучше для нас! — воскликнул Найджел. — Значит, есть хотя бы одно славное дело, которое предстоит совершить только нам.
Чандос коротко рассмеялся и бросил на раскрасневшегося Найджела быстрый, сочувственный взгляд.
— Твоя манера говорить напоминает мне речи стариков из моего детства, — сказал он. — В те дни еще доживали свой век настоящие старые странствующие рыцари, и они говорили совсем как ты. Хотя ты и очень молод, ты — из прошлого века. Откуда у тебя такие мысли и слова?
— У меня был только один источник — леди Эрментруда.
— Pardieu! Она отлично натаскала ястребка: он уже готов к охоте на благородную дичь. Но было бы лучше, если б во время первой охоты ты сидел у меня на руке. Ты хотел бы отправиться со мной на войну?
У Найджела на глаза навернулись слезы, и он крепко сжал худую руку, протянутую ему из ванны.
— Клянусь святым Павлом, лучше этого не может быть ничего на свете! Только я боюсь оставить леди Эрментруду — о ней больше некому позаботиться. Если бы это можно было как-нибудь устроить…
— Король сам все уладит. А до его приезда не будем больше говорить об этом. Но если ты хочешь поехать со мной…
— Разве можно мечтать о большем? Во всей Англии не найдется сквайра, который не захотел бы служить под знаменем Чандоса! А куда вы отправляетесь, высокочтимый сэр? И когда? В Шотландию? В Ирландию? Во Францию? Впрочем, увы…
Его сияющее лицо омрачилось. На миг он позабыл, что носить доспехи ему так же не по средствам, как есть с золотого блюда. В мгновение ока рухнули все его радужные надежды. О, эти низкие житейские заботы! Почему они всегда стеной стоят между мечтой и ее воплощением? Ведь оруженосец такого рыцаря должен быть одет во все самое лучшее. А всех доходов от Тилфорда еле хватило бы на одни только латы.
Умудренный житейским опытом Чандос проницательным своим умом тотчас понял, почему у Найджела вдруг изменилось настроение.
— Если ты будешь воевать под моим знаменем, о твоем снаряжении позабочусь я сам, — сказал он. — И пожалуйста не возражай.
Найджел грустно покачал головой.
— Это невозможно. Леди Эрментруда скорее продаст этот старый дом и последний клочок земли вокруг него, чем позволит мне принять ваш щедрый дар. Но я не отчаиваюсь — только на прошлой неделе я раздобыл себе благородного боевого коня, не заплатив ни пенса. Быть может, мне так же повезет и со снаряжением.
— А как ты добыл коня?
— Мне его подарили монахи из Уэверли.
— Чудеса! Pardieu! По тому, что я видел в монастыре, от них ты мог получить только проклятье.
— Конь был им не нужен, вот они и отдали его мне.
— Значит, остается найти человека, которому не нужны доспехи, и он отдаст их тебе. И все же надеюсь, ты еще подумаешь и позволишь мне снарядить тебя на войну — тем более, что добрая леди считает меня твоим родичем.
— Благодарю вас, благородный сэр. Если бы я и обратился к кому за помощью, то только к вам. Но сначала я попробую кое-что другое. А теперь прошу вас, добрый сэр Джон, расскажите мне что-нибудь о ваших славных копейных потехах с французами — вся страна только и говорит о ваших подвигах, и я слышал, что как-то в одно утро от вашего копья пали разом три рыцаря. Это правда?
— Подтвердить это могут вот эти шрамы у меня на теле. Но это все сумасбродства молодости.
— Почему вы говорите, что это — сумасбродства? Разве не так добиваются почестей и прославления своей дамы?
— Хорошо, что ты так думаешь, Найджел. В твои годы у мужчины должна быть горячая голова и возвышенная душа. И я был такой же и сражался за перчатку своей дамы, или по обету, или просто из любви к бою. Но когда повзрослеешь и под твоей командой оказываются люди, приходится думать о других вещах. Тут уж не до почестей — надо позаботиться о безопасности армии. Ведь не от твоего копья, меча или руки зависит исход боя; зато твоя холодная голова может спасти почти проигранное сражение. Армии нужны не Роланд, Оливье и другие паладины, а люди, которые знают, когда надо атаковать в конном строю, а когда спешиться; как надо расставить лучников между копейщиками так, чтобы одни прикрывали других; как придержать резерв и ввести его в дело в тот единственный миг, когда он может изменить ход битвы; как сразу распознать, где топь, а где твердая земля.
— Но ведь если рыцари не станут делать свое дело, такому человеку никакой ум не поможет.
— Верно, Найджел. Поэтому пусть каждый сквайр отправляется на войну с таким же горячим сердцем, как у тебя. Однако мне нельзя более мешкать, надо исполнять королевскую службу. Теперь я оденусь, попрощаюсь с благородной леди Эрментрудой и поеду в Фарнем. Мы снова увидимся, когда я прибуду сюда с королем.
Вечером Чандос уехал. Лошадь спокойно шла шагом по мирным тропам, а он бренчал на гитаре — Чандос любил музыку и славился своими веселыми песнями. Обитатели хижин выходили на порог и со смехом аплодировали ему. Глубокий чистый голос Чандоса то взлетал вверх, то падал под веселое треньканье струн. Не многие из тех, мимо кого он проезжал, узнали бы в этом изысканном одноглазом человеке с желтыми волосами искуснейшего полководца и храбрейшего воина во всей Европе. Только раз, когда он въезжал в Фарнем, к нему бросился старый, изувеченный солдат и обнял его лошадь, как собака обхватывает лапами хозяина. Чандос что-то ласково сказал ему и бросил золотой.
Найджел и леди Эрментруда остались наедине со своими заботами и сидели, печально глядя друг на друга.
— Подвал почти совсем пуст, — подал голос Найджел, — там осталось всего два бочонка легкого пива да бочка вина с Канарских островов. Ну как подашь это на стол королю и придворным?
— Нужно раздобыть бордоcкого вина. Тогда подадим бордоское, теленка от пестрой коровы, кур и гусей, и еды хватит — если он проведет у нас только одну ночь. А сколько с ним будет людей?
— Не меньше дюжины.
Старая леди в отчаянии заломила руки.
— Ну полно, не принимайте все так близко к сердцу, дорогая госпожа. Стоит сказать слово, и король с придворными остановится в Уэверли, где найдет все, что пожелает.
— Ни за что! — воскликнула леди Эрментруда. — Стыд и позор падут на наш дом, если король минует нашу дверь, после того как милостиво пожелал войти в нее. Ну, делать нечего. Выход у меня один. Не думала, что мне когда-нибудь придется пойти на это, но знаю, что он был бы доволен, и я это сделаю.
Выбрав из связки ключик, она направилась к железному сундуку и отперла его. Пронзительно заскрипели заржавленные петли и крышка откинулась. Старой леди нечасто доводилось заглядывать в священный тайник, где хранились ее сокровища. На самом верху лежало несколько предметов былой роскоши: шелковый плащ, усеянный золотыми звездами, расшитый серебром чепец, кусок венецианского кружева. Ниже лежали завернутые в шелк реликвии; их старая леди вынимала особенно бережно: мужская охотничья перчатка, детский башмачок, бант из бледно-зеленой ленты, несколько писем, написанных грубым неровным почерком, и нерукотворный образ св. Фомы. С самого дна она извлекла еще три предмета, обернутых шелковой тканью, положила на стол. Это был грубый золотой браслет, усыпанный неограненными рубинами, золотой поднос и высокий, тоже золотой, кубок.
— Ты уже слышал от меня про эти вещи, Найджел, только никогда их не видел. Я не открывала сундук, чтобы в трудную минуту не впасть в искушение и не превратить все это в деньги. Я старалась не только не видеть, но и не думать о них. Но сейчас взывает честь дома, и мы должны с ними расстаться. Этот кубок мой муж, сэр Нэл Лоринг, выиграл во время осады Белграда. Он и его друзья от зари до зари бились на турнирах против цвета французского рыцарства. Поднос подарил ему лорд Пембрук на память о его храбрости в битве при Фолкерке[21].
— А браслет, дорогая госпожа?
— Обещай, что не станешь смеяться.
— Нет, конечно, с какой стати мне смеяться.
— Этот браслет был призом королевы красоты. Мне преподнес его сэр Нэл Лоринг перед лицом всех высокопоставленных дам Англии за месяц до нашей свадьбы. Подумай только, Найджел: я, вот такая согбенная старуха, была королевой красоты. Пять доблестных рыцарей пали от его копья, прежде чем он выиграл для меня эту безделицу. И вот, под самый конец жизни…
— Нет, нет, дорогая госпожа, эту вещь мы не отдадим.
— Отдадим. Он был бы этим доволен. Я слышу, что он шепчет мне на ухо. Честь была для него все, остальное — ничто. Возьми браслет, Найджел, пока я тверда сердцем. Завтра ты отправишься с ним в Гилдфорд, найдешь там золотых дел мастера Торолда и получишь довольно денег, чтобы заплатить за все, что нам нужно к приезду короля.
Она отвернулась, чтобы Найджел не увидел, как задрожало ее изрезанное морщинами лицо; стук захлопнувшейся железной крышки заглушил рыданье, вырвавшееся было из ее измученной груди.
Глава VII Как Найджел поехал за покупками в Гилдфорд
Утром Найджел отправился выполнять возложенное на него поручение. Шел июнь месяц, стояла прекрасная погода. Найджел был молод, и на душе у него было легко и радостно, когда он ехал из Тилфорда в недальний городок Гилдфорд. Он сидел на своем огромном соловом боевом коне, а конь то играл под ним, то становился на дыбы, такой же горячий и веселый, как его хозяин. Вряд ли в то утро во всей Англии нашлась бы еще такая красивая, жизнерадостная пара. Сперва песчаная дорога вела через ельник, и мягкий ветерок обдавал их смолистым запахом хвои; потом пошли вересковые холмы, они тянулись далеко с юга на север, безлюдные, невозделанные: земли на склонах были почти бесплодны и сухи. Найджел миновал Круксберийские луга, потом пустошь близ Патнема, и, следуя по песчаной тропе, углубился в заросли папоротника и вереска — он хотел выбраться на дорогу паломников там, где она от Фарнема и Сила сворачивает на восток. Рукой Найджел то и дело проверял седельную сумку, куда, надежно ее перевязав, он уложил бесценные сокровища леди Эрментруды. Перед его глазами мерно покачивалась крепкая рыже-бурая шея коня, всем телом он ощущал плавное, свободное движение животного, слышал глухой стук его копыт и готов был петь и кричать просто от переполнявшей его радость жизни.
Позади Найджела, на маленьком гнедом пони, еще недавно его единственной верховой лошади, ехал Сэмкин Эйлвард, лучник, принявший на себя обязанности слуги и телохранителя. Его могучий торс с широченными плечами, казалось, вот-вот перевесит и опрокинет маленькую лошадку, но он спокойно трусил, насвистывая веселую песенку, и пребывал в таком же прекрасном расположении духа, что и его хозяин. Встречные мужчины приветливо кивали веселому лучнику, женщины улыбались; сам же он ехал, большей частью повернув голову через плечо и провожая взглядом каждую юбку. Один только человек ответил ему не слишком любезно. Это был высокий седой старик с красными щеками, которого они повстречали на болоте.
— Доброго утра, дорогой отец! — закричал при виде его Эйлвард. — Как там у вас в Круксбери? Как новая черная корова и овцы из Элтона? А молочница Мэри? И вообще, как дела?
— Не тебе спрашивать, бездельник, — ответил старик. — Ты разозлил уэверлийских монахов, у которых я арендую землю, и они хотят теперь выгнать меня с фермы. Правда, у меня есть еще три года сроку, и пусть они делают что угодно, только раньше я оттуда не уйду. Вот уж не думал, что когда-нибудь потеряю свой очаг из-за тебя, Сэмкин. И смотри, появись ты хоть раз в Круксбери, я выколочу пыль из твоей куртки здоровой орешиной, хоть ты вон какой вымахал.
— Тогда тебе придется заняться этим делом прямо завтра утром, добрый отец, — завтра я приеду к тебе. Только в Уэверли я не сделал ничего такого, чего не сделал бы ты сам. Посмотри мне в глаза, горячая ты голова, и скажи по совести: неужто ты стоял бы сложа руки и смотрел, как по приказу жирных монахов убивают последнего Лоринга? Вон он едет — голова гордо поднята, а душа витает в облаках. Если бы ты так поступил, я отказался бы от такого отца.
— Что ты, Сэмкин! Если все было, как ты говоришь, тогда ты и впрямь поступил как надо. Только ведь нелегко терять старую ферму, когда ты душой прирос к этой доброй, плодородной земле.
— Ну-ну, отец! Впереди еще три года, чего только не случится за это время! Я вот пойду на войну, а когда взломаю во Франции пару сундуков, ты сможешь купить сколько угодно доброй плодородной земли и хорошо посмеяться над настоятелем Джоном и его стряпчим. Чем я хуже Тома Уитстефа из Чэрта? Когда, через полгода, он вернулся, карманы у него были набиты золотом, а на руках висело по французской девке.
— Упаси нас Господи от девок, Сэмкин. Ну, а что до денег, так если их там можно добыть, ты нагребешь их не меньше всякого, кто идет на войну. Ладно, сынок, поезжай. Твой хозяин уже перевалил за вершину холма.
Получив такое напутствие, лучник помахал отцу рукой в латной рукавице, пришпорил лошадь и скоро догнал сквайра. Найджел бросил взгляд через плечо и придержал коня, пока голова пони не поравнялась с его седлом.
— Говорят, лучник, в здешних местах погуливает разбойник?
— Да, добрый сэр. Это крепостной сэра Питера Мэндевила, он взбунтовался и бежал в лес. Его прозвали Патнемским волком.
— А почему его до сих пор не изловили? Если человек грабит и разбойничает, то избавить округу от такого зла — поистине дело чести.
— Королевские сержанты уже дважды наезжали из Гилдфорда, чтобы его поймать, но у этой лисицы много нор, и вытравить его оттуда не так-то просто.
— Клянусь святым Павлом, если бы не спешное дело, я свернул бы с дороги и поискал его. Так где, говоришь, он живет?
— За Патнемом есть большое болото, а дальше — пещеры. Там он и прячется со своими людьми.
— С людьми? У него что, целая шайка?
— Несколько человек.
— Похоже, это достойное дело. После того как король приедет и снова уедет, мы посвятим денек Патнемскому разбойнику. Не думаю, чтобы нам довелось встретить его сегодня на этом пути.
— Они грабят паломников на Уинчестерском тракте, а здешних не трогают, тем же, кто им помогает, щедро платят. Их тут очень уважают.
— Легко быть щедрым, если деньги краденые, — возразил Найджел. — Думаю, они не станут нападать на людей вооруженных, как мы с тобой, и нам от них не будет проку.
Они проехали пустынное болото и вышли на главный тракт, по которому паломники из Западной Англии направлялись к национальной святыне — Кентербери. Из Уинчестера дорога поднималась по живописной Иченской долине до Фарнема. Тут она разделялась на две: одна тянулась вдоль Хогзбекского гребня, другая вьющейся лентой убегала на юг, к холму св. Катарины, на котором некогда стояла церковь паломников, многолюдная, богатая, сиявшая великолепием; теперь же на этом месте виднелась лишь груда серых развалин. По этой дороге и поехали Найджел с Эйлвардом, направляясь в Гилдфорд.
Попутчиков у них не оказалось, зато навстречу попалась толпа паломников, возвращавшихся с богомолья. На шляпах у них были изображения св. Фомы и свинцовые сосудики или раковины улиток с миром, а за плечами — котомки с покупками. Мужчины шли пешком, женщины ехали на ослах. Толпа была грязная, оборванная, покрытая дорожной пылью. И люди, и животные брели, еле переставляя ноги, словно уже потеряли надежду снова увидеть родной дом. До деревни Патнем они так и не встретили никого, кроме этой толпы да нескольких нищих и менестрелей, сидевших в вереске по обочинам дороги в надежде на случайный фартинг прохожего. Солнце стояло уже высоко, легкий ветер гнал по дороге пыль, и, въехав в деревню, они с наслаждением промочили горло кружкой эля на постоялом дворе. Когда они уезжали, трактирщица простилась с Найджелом очень холодно, потому что он не оказал ей должного внимания, зато Эйлварду отвесила пощечину — за слишком усердное внимание.
По ту сторону Патнема дорога шла густым смешанным дубовым и буковым лесом, под пологом которого буйно разрослись папоротники и терновник. Здесь им встретился дозор — несколько сержантов, высоких малых на хороших лошадях, в кожаных куртках и шапках, с копьями и мечами. Они медленно ехали по теневой стороне дороги. Когда путники приблизились, дозорные спросили, не было ли у них на дороге каких неприятностей.
— Будьте осторожны, — добавил один из них, — разбойник и его жена вышли на промысел. Только вчера они убили одного купца с запада из-за сотни крон.
— Вы говорите, его жена?
— Да, сэр. Она всегда с ним и не раз его спасала, потому что он хоть и силен, а мозгами-то раскидывает она. Надеюсь, на днях мы увидим их головы на зеленой траве.
Дозор направился в сторону Фарнема, и, как оказалось, прочь от разбойников, которые, по всей видимости, следили за ним из гущи кустарника, росшего по обе стороны дороги. Найджел и Эйлвард поехали дальше и вдруг за поворотом увидели высокую миловидную женщину, которая сидела у дороги, заламывая руки и горько плача. Увидя рыдающую красавицу, Найджел пришпорил коня и в три скачка оказался возле несчастной дамы.
— Почему вы плачете, прекрасная дама? — спросил он. — Могу ли я вам хоть чем-нибудь помочь как добрый друг? Неужели нашелся такой жестокосердный человек, что мог вас обидеть?
Она встала, с надеждой и мольбой обратив к нему лицо.
— Ox, спасите моего отца! — воскликнула она. — Вы, случайно, не встретили дорожный дозор? Они уже прошли здесь, и я боюсь, что теперь их не догнать.
— Да, они поехали дальше. Но мы тоже можем вам помочь.
— Тогда умоляю, скорее! Ведь они, может быть, убивают его! Они потащили его вон в тот лес, и я слышала, как голос его замер вдали. Скорее, умоляю, скорее!
Найджел спрыгнул с лошади и бросил поводья Эйлварду.
— Э, нет, сэр. Мы пойдем вместе. Сколько там было разбойников?
— Два здоровенных детины.
— Тогда я тоже иду.
— Нет, Эйлвард, ни в коем случае, — сказал Найджел. — По такому кустарнику лошади не пройдут, а бросать их тут, на дороге, нельзя.
— Я постерегу их, — вмешалась дама.
— Нет, Поммерса вам не удержать. Оставайся здесь, Эйлвард, пока я не позову. Ни с места! Это — приказ.
Говоря так, Найджел, с глазами, горящими от радости в ожидании приключений, выхватил меч и бросился в лес.
Он бежал быстро и долго; пересек одну поляну, другую, продрался сквозь густой кустарник, с легкостью оленя перемахнул через заросли терна, вглядываясь то в одну, то в другую сторону, изо всех сил напрягая слух; но до него доносилось лишь воркованье диких голубей. Однако он упорно продвигался вперед, в мыслях видя перед собой то рыдающую женщину, то ждущего спасения мужчину. И только когда заныли ноги, он, задыхаясь, остановился и вспомнил, что ему еще нужно уладить собственные дела и что пора вернуться на Гилдфордскую дорогу.
Между тем Эйлвард по-своему старался утешить женщину, которая рыдала, уткнувшись лицом в седло Поммерса.
— Ну-ну, не плачьте, красавица, — говорил он, — а то, глядя на вас, я и сам заплачу.
— Увы, добрый лучник, он был лучший из отцов, такой нежный и ласковый. Если бы вы знали его. Он бы и вам полюбился.
— Ну-ну, полно! С ним ничего не случится. Сквайр Найджел приведет его обратно.
— Ах нет, я больше никогда его не увижу! Держите меня, лучник, не то я сейчас упаду.
Эйлвард крепко обхватил ее гибкую талию. Теряющая сознание женщина прильнула к нему, закинув руку ему на плечо и обратив бледное лицо назад.
Вдруг Эйлвард увидел, что выражение ее глаз изменилось: в них мелькнула надежда, потом неистовая радость и торжество победы, — и понял, что надвигается какая-то опасность. Он живо оттолкнул ее от себя и отпрыгнул в сторону — и как раз вовремя: на него едва не обрушился удар дубины, которую держал в руках человек еще более высокого роста, чем он сам. Он успел увидеть сжатые в бешеной ярости страшные белые зубы, взметнувшуюся всклокоченную голову и сверкающие звериные глаза. В следующий миг он, резко уклонившись от нового сокрушительного удара дубины, бросился на противника.
Обхватив обеими руками разбойника, прижав лицо к его косматой бороде, Эйлвард, задыхаясь, едва переводя дух, стал сжимать его огромное тело. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Они топтались на пыльной дороге, то подаваясь в сторону, то отступая в другую. Дважды под натиском невероятной мощи разбойника Эйлварду едва удавалось удержаться на ногах, и дважды сила и ловкость молодости помогли ему устоять и еще крепче сдавить противника. Наконец ему повезло, он сумел подставить ногу и одним могучим рывком повалить разбойника на землю. Падая, тот хрипло закричал. Едва он коснулся земли, как Эйлвард придавил его коленом и, погрузив свой короткий меч в густую бороду, прижал острие к горлу.
— Клянусь своими десятью пальцами, — вымолвил он, с трудом переводя дух, — только шевельнись, и тебе конец.
Разбойник лежал неподвижно, оглушенный падением. Эйлвард оглянулся. Женщины нигде не было — при первой же схватке она исчезла в густом лесу.
Тогда Эйлвард забеспокоился о судьбе хозяина. Ему пришло в голову, что Найджела заманили в ловушку и там прикончили. Но, к счастью, его опасения были напрасны, вскоре хозяин показался на дороге — он вышел на нее недалеко от места встречи с незнакомкой.
— Клянусь святым Павлом! — воскликнул он, подходя. — На ком это ты сидишь? А где женщина, которая удостоила нас просьбой о помощи? Увы, я не нашел ее отца.
— Тем лучше для вас, сэр, — ответил Эйлвард, — боюсь, что отец у нее сам дьявол. Она же, видно, и есть жена Патнемского волка. А вот это — он сам. Он напал на меня и чуть не вышиб мне дубинкой мозги.
Разбойник, открывший к тому времени глаза, перевел злобный взгляд со своего победителя на вновь пришедшего.
— Тебе повезло, лучник, — сказал он, — много с кем мне приходилось бороться, но еще никому не удавалось меня одолеть.
— Верно, хватка у тебя, как у медведя, — ответил Эйлвард. — Да ведь только трус поступает так, как ты, — ты хотел размозжить мне палкой голову, пока твоя жена держала меня. К тому же подло заманивать проезжих в ловушку, взывая к их жалости и прося о помощи. Мы едва не поплатились жизнью за доброту сердца. Ведь может случиться, что тот, кому по-настоящему нужна наша помощь, не получит ее. И этот грех тоже будет на тебе.
— Коли против тебя весь мир, — угрюмо ответил разбойник, — деваться некуда, надо бороться изо всех сил.
— Ты заслужил виселицу уже за одно только, что втянул в свое грязное дело ту красивую женщину с благородной речью. Свяжи ему руки поводьями, Эйлвард, мы отведем его в Гилдфорд.
Лучник уже достал из сумки запасную тетиву и связал пленника, как вдруг Найджел обернулся и испуганно вскрикнул.
— Пресвятая Дева Мария! А где моя седельная сума?
Сума была срезана острым ножом. С седла свешивались лишь концы ремня. Эйлвард и Найджел в ужасе уставились друг на друга. Потом молодой сквайр поднял сжатые в кулаки руки и в отчаянии схватился за голову.
— Браслет леди Эрментруды! — воскликнул он. — Кубок моего деда! Мне нельзя их потерять! Лучше смерть! Что я ей скажу? Я не могу вернуться домой, пока их не найду. Эйлвард, Эйлвард, как же ты дал их украсть?
Честный лучник откинул стальной шлем и почесал взлохмаченную голову.
— Ума не приложу, как это случилось. Да и вы не говорили, что в сумке есть что-то ценное, а то бы я лучше смотрел за ней. Конечно, это сделал не он, я его ни на миг не выпускал из рук. Срезать сумку могла только та женщина, что убежала, пока мы боролись.
Найджел в растерянности топтался на дороге.
— Если бы я знал, где найти эту женщину, я пошел бы за ней хоть на край света. А искать ее в этом лесу — все равно что мышь в пшеничном поле. Добрый святой Георгий, ты, который поверг дракона, молю тебя, во имя твоего славного, благородного подвига, помоги мне! И ты, великий святой Юлиан, покровитель всех путников, попавших в беду! Две свечи будут вечно гореть перед твоим изображением в Годлминге, только верни мне сумку. Господи, я отдам все, что угодно, только бы вернуть ее!
— А вы отдадите мне мою жизнь? — вдруг подал голос разбойник. — Обещайте дать мне свободу, и вы получите сумку. Если, конечно, взяла ее моя жена.
— Нет, этого я не могу сделать: пострадала моя честь, — ответил Найджел. — Потеря — мое личное дело, освободить же тебя — значит нанести ущерб другим людям. Клянусь святым Павлом, я поступил бы бесчестно, если бы, спасая свое имущество, отпустил бы тебя грабить чужое.
— Я вовсе не прошу отпустить меня, — сказал Патнемский волк. — Только обещайте, что мне сохранят жизнь, и я верну сумку.
— Этого я тоже не могу обещать: твою судьбу решат шериф и судейские в Гилдфорде.
— Тогда обещайте только замолвить за меня словечко.
— Вот это я обещаю, только верни мне сумку. Правда, я не знаю, поможет ли тебе мое слово. Впрочем, все это пустые разговоры. Неужто ты думаешь, мы так глупы, что поверим, будто ты вернешься, если мы тебя отпустим.
— А я и не прошу об этом. Я не могу вернуть сумку, не сходя с места. Вы поклянетесь честью и всем, что вам дорого на свете, что будете просить судей о снисхождении?
— Клянусь.
— И что жену мою не тронут?
— Тоже обещаю.
Разбойник закинул голову и издал протяжный пронзительный крик, наподобие волчьего воя. Некоторое время ничего не было слышно, а потом из лесу неподалеку раздался такой же крик, чистый и пронзительный. Патнемский волк крикнул еще раз, и сообщница снова ответила. Он позвал в третий раз, как олень в чаще зовет свою олениху. И тут же зашуршали листья кустов, затрещали ветки, и перед ними снова появилась та удивительно красивая высокая женщина. Лицо ее было бледно. Не взглянув ни на Эйлварда, ни на Найджела, она подбежала к мужу.
— Дорогой, любимый повелитель, — вскричала она, — тебе не сделали ничего плохого? Я ждала возле старого ясеня, а вы все не шли и не шли.
— Видишь, жена меня все-таки схватили.
— Будь проклят этот день! Отпустите его, добрые, благородные господа, не отнимайте его у меня!
— Они замолвят за меня слово в Гилдфорде, — сказал разбойник. — Они поклялись. Только сначала верни им сумку, что ты взяла.
Она вытащила сумку из-под широкого плаща.
— Вот она, благородный сэр. Право, мне нелегко было взять ее — ведь вы пожалели меня в моей беде. Пожалейте же нас еще раз! Будьте к нам милосердны, добрый сэр. На коленях умоляю вас, благороднейший и добрейший сэр!
Найджел схватил мешок, ощупал его и с облегчением почувствовал под рукой сокровища леди Эрментруды.
— Я дал слово, — ответил он, — и сделаю, что могу. Но решать дело будут другие. Встаньте, пожалуйста, больше я ничего не могу обещать.
— Что ж, на нет и суда нет, — ответила она и, спокойно глядя на них, поднялась с колен, — Я молила о сострадании, а больше мне просить не о чем. Ну а прежде чем вернуться в лес, хочу предостеречь вас — будьте осторожны, не потеряйте мешок еще раз. Ведь ты, лучник, не видел, как я взяла сумку? А это было так просто. И может случиться еще раз. Поэтому посмотри-ка сюда. В рукаве я всегда ношу нож, он невелик, но очень острый. Я незаметно вытащила его, а когда сделала вид, будто плачу, уткнувшись в седло, вот так перерезала…
С быстротой молнии она полоснула ножом по тетиве, которой был связан ее муж, и тот, поднырнув под брюхом лошади, как змея скользнул в кустарник. Но на ходу он успел ударить Поммерса кулаком в живот. Громадная лошадь вне себя от ярости встала на дыбы, и Найджел с лучником, повиснув на поводьях, еле-еле удержали ее на месте. Когда наконец конь успокоился, разбойников и след простыл. Напрасно Эйлвард с луком наготове бегал туда-сюда среди высоких стволов, всматриваясь в затененные прогалины. Когда он вернулся, они с хозяином смущенно посмотрели друг на друга.
— Да, солдаты мы неплохие, а вот в стражников не вышли, — заметил он, садясь на пони.
Но на хмуром лице Найджела уже появилась улыбка.
— Зато мы вернули то, что чуть не потеряли, — ответил он. — Теперь-то я положу мешок перед собой и больше не спущу с него глаз до самого Гилдфорда.
И они затрусили вперед по дороге к церкви св. Катарины. Там они еще раз переправились через извилистую реку Уэй и оказались на главной улице города, круто идущей вверх по холму. По обе стороны тянулись дома с массивными остроконечными крышами; слева стоял монастырский странноприимный дом, где и теперь еще можно выпить кружечку доброго эля, а справа — большая квадратная башня замка — не мрачные серые развалины, а веселая, оживленная, над которой развевался флаг с гербом, а поверх зубцов поблескивали стальные каски. От ворот замка до главной улицы тянулись ряды лавок; вторая из них, если считать от церкви св. Троицы, принадлежала золотых дел мастеру, богачу и мэру города Торолду.
Он долго и любовно рассматривал крупные рубины и искусную работу кубка. Потом провел рукой по седой окладистой бороде, словно раздумывая, сколько дать за кубок, пятьдесят ноблей или шестьдесят: он отлично знал, что перепродаст его за верных двести. Предложишь слишком много — себе в убыток; предложишь слишком мало — глядишь, молодой человек заберет обратно и отправится в Лондон: вещицы-то редкие и очень дорогие. Молодой человек, правда, одет бедно, и взгляд у него тревожный. Вероятно, попал в затруднительное положение и даже не знает истинной цены тому, что принес. Надо у него все выведать.
— Это очень старые вещи, достойный сэр, они давно вышли из моды, — начал он. — О камнях я ничего не могу сказать, они тусклы и необработаны. Но если вы запросите недорого, я все возьму, хотя я сижу здесь не для купли, а для продажи. Сколько вы хотите?
Найджел в растерянности нахмурил брови. Да-а, в этой игре его не выручит ни отвага, ни ловкость. Тут новые силы вели наступление на старые, купец шел покорять воина. Целые столетия он изматывал его, ослаблял его силы, пока наконец не сделал своим слугой, своим рабом.
— Я, право, не знаю, досточтимый сэр, ни мне, ни кому-либо еще, кто носит мое имя, не доводилось торговаться. Ну, а вы знаете, сколько могут стоить эти вещи, ведь торговля — ваше ремесло. У леди Эрментруды совсем нет денег, а нам надо принять короля. Заплатите за них по справедливости, и дело с концом.
Ювелир улыбнулся. Сделка обещала быть еще проще и выгоднее, чем он предполагал. Он собирался предложить пятьдесят золотых, но теперь грешно было бы дать больше двадцати пяти.
— Не знаю, что мне потом с ними делать, — начал он, — но раз речь идет о королевском визите, я не пожалею двадцати пяти ноблей.
У Найджела упало сердце. На такие деньги не купить и половины того, что им нужно. Ясно, что леди Эрментруда очень переоценила свои сокровища. Но возвращаться с пустыми руками ему все равно нельзя, значит, если вещи, как уверяет добрый старик, стоят двадцать пять ноблей, остается только поблагодарить его и взять эти золотые.
— Меня очень огорчило то, что вы говорите. Конечно, вы лучше разбираетесь в таких вещах. Что ж, я возьму за них…
«Сто пятьдесят», — услышал он шепот Эйлварда и громко повторил, донельзя обрадовавшись даже такой ничтожной помощи на этом новом для себя поприще:
— Сто пятьдесят.
Ювелир вздрогнул. Этот юноша не так уж прост, как показался сначала. Его открытое лицо и ясные голубые глаза — не что иное, как ловушка для неосторожных. Ему еще не случалось так попадать впросак.
— Это пустой разговор, он ни к чему не приведет, достойный сэр, — ответил он и отвернулся, перебирая ключи от своих прочных сундуков, — но я не хочу обойтись с вами несправедливо, последняя цена — пятьдесят ноблей.
— И сто, — прошептал Эйлвард.
— И сто, — повторил Найджел, зардевшись от собственной жадности.
— Ну, хорошо, берите сотню, — воскликнул купец, — берите целую сотню, стригите меня, обдирайте, обирайте, пустите по миру!
— Я никогда не простил бы себе, случись это на самом деле, — сказал Найджел. — Вы были честны со мной, и я не хотел бы причинять вам зло. Поэтому я охотно возьму сто…
— Сто пятьдесят, — шепнул Эйлвард.
— Сто пятьдесят, — громко повторил Найджел.
— Клянусь святым Иоанном Беверлийским, — воскликнул купец, — я приехал сюда с Севера, а там, всякий знает, народ в делах хитрый да ловкий! Так вот, я скорее стану вести дело с целой синагогой жидов, чем с вами, хоть у вас такие благородные манеры. Вы в самом деле не согласны на меньшую сумму? Боже мой! Вы лишаете меня месячного дохода. Это же целое утро тяжелой работы! И зачем только вы ко мне явились?
Так причитал он, выкладывая на прилавок одну за другой золотые монеты, а Найджел, с трудом веря своей удаче, ссыпал их в седельную кожаную сумку.
Оказавшись снова на улице, он с пылающим лицом излил на Эйлварда целый поток благодарностей.
— Что вы сэр, он же нас просто ограбил. Будь мы понастойчивей, он отвалил бы еще двадцать золотых.
— А ты почем знаешь, добрый Эйлвард?
— Да у него все в глазах написано, сквайр Лоринг. Я, конечно, не очень там обучен читать или разбираться в гербах, зато уж разобрать, что у человека на лице написано, всегда сумею. Я с самого начала был уверен, что он даст столько, сколько дал.
Они пообедали в монастырском странноприимном доме, Найджел за главным столом, а Эйлвард с простым людом. Потом снова вышли на главную улицу и отправились по делам. Найджел купил тафты для драпировки, вина, всяких припасов, фруктов, камчатого столового белья и еще много всяких нужных вещей. Наконец он остановился перед лавкой оружейника во дворе замка и с жадностью ребенка, взирающего на лакомства, стал рассматривать великолепные доспехи, нагрудники с чеканкой, шлемы с перьями, искусно выделанные нашейники.
— Ну, сквайр Лоринг, — сказал оружейник Уот, оторвав взгляд от горна, где он закаливал клинок меча, что вы хотите купить? Клянусь Тувалкайном[22], отцом всех оружейников, что пройди вы из конца в конец весь Чипсайд[23], вам не найти лучших доспехов, чем вон те, что висят на крюке.
— А сколько они стоят?
— Для любого другого — двести пятьдесят ноблей. Для вас — двести.
— А почему для меня дешевле?
— Потому что я снаряжал на войну вашего отца, и клянусь из моей мастерской не выходило ничего лучше. Ручаюсь, о доспехи вашего отца затупилось немало клинков, прежде чем он с ними расстался. В те времена мы делали кольчуги, и хорошая кольчуга с плотными кольцами не уступала латам. А теперь молодые рыцари хотят одеваться по моде, как дамы при дворе, поэтому сейчас надо покупать латы, хоть они и стоят втрое дороже.
— Вы говорите, кольчуга нисколько не хуже?
— Уверен.
— Тогда послушайте, оружейник. Я сейчас не могу купить латы, а мне очень нужно стальное облаченье — у меня впереди одно дело. Так вот дома, в Тилфорде, висит та самая кольчуга отца, о которой вы говорили, в ней отец в первый раз пошел на войну. Не могли бы вы подогнать ее по мне?
Оружейник оглядел невысокую стройную фигуру Найджела и рассмеялся.
— Вы шутите, сквайр Лоринг! Кольчуга была сделана на человека ростом куда выше среднего.
— Я не шучу. Если она выдержит хотя бы один копейный бой, она выполнит свое назначение.
Оружейник прислонился к наковальне и задумался, а Найджел с надеждой смотрел на его покрытое сажей лицо.
— Я с радостью одолжил бы вам доспехи для этой первой битвы, сквайр Лоринг, да ведь если вы потерпите неудачу, все ваше снаряжение достанется победителю. Я человек бедный, у меня много детей, и я не могу так рисковать. А та старая кольчуга, она правда в хорошем состоянии?
— В отличном, вот только на шее порядком порвана.
— Укоротить ее на руках и ногах не трудно. Придется только отрезать лишнее и потом закрепить звенья. А сделать ее поуже… Нет, этого не сможет ни один оружейник.
— Это была моя последняя надежда. Послушайте, добрый человек, если вы служили моему доблестному отцу и любили его, помогите мне ради его памяти.
Оружейник с грохотом бросил молот на пол.
— Я не только любил вашего отца, сквайр Лоринг, я видел, как вы сами почти без всякого снаряжения сражались на турнире во дворе замка против самых славных рыцарей. Последний раз, в день святого Мартина, у меня прямо сердце кровью обливалось, как вы с такими жалкими доспехами устояли против храброго сэра Оливера, хоть у него-то доспехи миланской работы. Вы когда возвращаетесь в Тилфорд?
— Прямо сейчас.
— Эй, Дженкин, выведи жеребца! — крикнул честный Уот. — Пусть у меня отсохнет правая рука, если я не отправлю вас на войну в кольчуге отца. Завтра мне надо быть в лавке, а сегодняшний день я безвозмездно отдаю вам, из одной только приязни, что я питаю к вашему дому. Я еду с вами в Тилфорд, и еще к ночи вы увидите, на что способен Уот.
Вот как случилось, что в тот же вечер в господском доме в Тилфорде все пришло в движенье. Леди Эрментруда прикидывала, резала и развешивала в зале драпировки и расставляла по полкам буфета всякие вкусные вещи, что привез Найджел. А сам он с оружейником Уотом сидели почти касаясь лбами друг друга, держа на коленях старую кольчугу, и что-то делали с пластинчатым нагрудником.
Старый Уот то и дело пожимал плечами, как человек, от которого требуют большего, чем может сделать он, простой смертный. Наконец, в ответ на какие-то слова сквайра, он откинулся на спинку стула и громко рассмеялся в густую бороду. Такое плебейское проявление удовольствия заставило леди Эрментруду метнуть в его сторону недовольный взгляд. Но оружейник, не заметив его, схватил острый резец и молоток и, все еще улыбаясь своим мыслям, стал пробивать отверстие в самой середине стальной рубахи.
Глава VIII Соколиная охота короля на Круксберийских вересках
Король и его свита уже оставили позади толпу, что следовала за ними из Гилдфорда по пути паломников, а конные лучники прогнали самых настойчивых зевак, и вся кавалькада длинной блестящей лентой растянулась по темной вересковой равнине.
Сам король ехал впереди — при нем были его соколы, и он надеялся удачно поохотиться. В описываемое время Эдуард был в расцвете лет. Это был высокий, сильный человек, страстный любитель охоты, ревностный, храбрый и доблестный воин. К тому же он был человек образованный — говорил по-латыни, по-французски, немецки, испански и даже немного по-английски.
До поры до времени он спокойно взирал на мир, но в последние годы в его характере появилось нечто новое и устрашающее: ненасытное честолюбие, побудившее его захватить трон соседа, и мудрая прозорливость в ведении торговых дел, побудившая его выселить из Англии фламандских ткачей и отдать поля под то, что на долгие годы стало основным сырьем для английской промышленности[24]. Оба эти столь различные устремления отчетливо читались на его лице. Малиновая герцогская шапка прикрывала широкий высокий лоб. Большие карие глаза пылали отвагой. Подбородок был гладко выбрит, а коротко подстриженные темные усы не могли скрыть твердых, строгих очертаний рта, благородного и улыбчивого, который, однако, мог сжиматься жестко и безжалостно. Все время король проводил охотясь или воюя, от жизни на свежем воздухе с лица его не сходил медно-красный загар. Он ехал на великолепном вороном коне легко и свободно, как будто родился в седле. Сам он тоже был одет в черное — его подвижное, сильное тело было обтянуто черным бархатом, и только золотой пояс и кайма с золотыми цветами дрока нарушали мрачную черноту его одеяния.
Он был королем с головы до пят. Об этом говорили и его величественная осанка, и простая, но богатая одежда, и великолепный конь. Образ доблестного воина на могучем коне довершал благородный сокол с Гебридов, который кружил футах в двенадцати над его головой, ожидая, когда поднимут дичь. Второй такой же сокол сидел на запястье латной рукавицы главного сокольничего Рауля, ехавшего в хвосте кавалькады.
По правую руку от короля и чуть позади ехал юноша лет двадцати. Он был высок, тонок и темноволос, с благородным орлиным профилем и смелым, проницательным взглядом, который загорался живой радостью и любовью всякий раз, когда он отвечал королю. Его одежда была темно-малинового цвета с тканым золотым узором; изумительной красоты сбруя его белой кобылы не оставляла сомнений в высоком положении всадника. У него не было еще ни бороды, ни усов, но с лица не сходило выражение строгой важности — свидетельство того, что, хотя он и молод, но ведает серьезными делами и что его интересы и помыслы — это интересы и помыслы государственного человека и полководца. Это выражение запечатлелось у него на лице с того великого дня, когда он, еще совсем мальчик, повел за собой передовой отряд победоносной армии, которая сокрушила могущество Франции при Креси[25]. Но в чертах его, хотя и суровых, еще не было той жесткости, из-за которой годы спустя, во время французских походов, имя Черного Принца стало символом ужаса и смерти. В тот весенний день, когда он весело и беззаботно скакал по вереску Круксберийской равнины, еще не видно было даже самых первых признаков страшной болезни, которая потом долго терзала и ожесточала его, прежде чем посягнула на его жизнь.
Слева от короля ехал человек примерно одних с ним лет, широколицый, с выступающей вперед челюстью и плоским носом, что часто бывает внешним проявлением воинственной натуры. Он скакал почти рядом с королем, а это говорило о большой его близости к монарху. У него было красное лицо и голубые глаза навыкате, — по виду он был здоровяк и холерик. Ростом он был невысок, но крепко сбит и, видимо, невероятно силен. В то же время, когда он говорил, голос у него звучал мягко и слегка шепеляво; в обращении он был ровен и учтив. В отличие от короля и принца на нем были легкие доспехи, сбоку висел меч, а на луке седла — булава: он был капитаном королевской стражи, и за ним, замыкая кавалькаду, следовала еще дюжина рыцарей в стальных доспехах. При всем желании Эдуард не мог бы на случай внезапной грозной опасности, столь частой в те времена беззакония, — иметь возле себя защитника более отважного и надежного, чем знаменитый рыцарь из Эно[26], ныне английский подданный, известный под именем Уолтера Мэнни, который считался таким же дерзким и доблестным рыцарем, как сам Чандос.
За рыцарями, которым запрещалось разъезжаться по равнине — они должны были всегда находиться при короле, — следовал отряд легкой кавалерии, или конных стрелков, человек в двадцать-тридцать, и еще несколько невооруженных рыцарей. Они вели запасных лошадей, навьюченных наиболее тяжелыми предметами рыцарского снаряжения. В самом хвосте процессии, которая то поднималась по склонам пологих холмов, то спускалась в низины, растянувшись длинной многоцветной лентой, двигались сокольники, скороходы, пажи, слуги и доезжачие с гончими на сворах.
Тяжелые мысли одолевали короля Эдуарда. С Францией заключено перемирие, но обе стороны то и дело нарушают его мелкими стычками, набегами, засадами, внезапными налетами, и ясно, что скоро снова начнутся открытые военные действия. Нужны деньги, а достать их нелегко, особенно теперь, когда палата общин приняла закон о налоге на десятую овцу и десятый сноп. К тому же страну совсем разорила черная смерть, пахотные земли превращаются в пастбища для овец, земледельцы смеются над всеми указами и не желают работать за четыре пенса в день. Словом, страна разваливается, надвигается хаос. А тут еще шотландцы начали подавать голос с приграничных земель, без конца идут смуты в Ирландии, которую так и не удается окончательно покорить, а союзники во Фландрии и Брабанте требуют полной выплаты обещанных им субсидий. Всего этого было вполне достаточно, чтобы даже победоносный монарх вынужден был целиком погрузиться в заботы о злобе дня.
Однако сейчас Эдуард выбросил все это из головы и почувствовал себя беззаботным, как ребенок в праздник. Он больше не думал ни о докучных флорентийских банкирах, ни о стеснительных условиях, которые те навязали ему в Вестминстере. Он вырвался на волю, с ним его соколы, и теперь он будет думать только об одном. Слуги его раздвигали палками вереск и кустарники и громко кричали, когда им удавалось поднять птицу.
— Сорока, сорока! — закричал вдруг один из сокольников.
— Ну нет, она недостойна твоих когтей, мое кареглазое сокровище, — сказал король, взглянув верх на большого сокола, который, взмахивая крыльями, летал из стороны в сторону над его головой в ожидании сигнального свиста.
— Сокольники, челигов[27]! Напускайте челигов! Скорее, скорее! Ах, негодница, удирает в лес! Вот она уже и там! Отлично, храбрая странница. Поставила-таки на своем. Ну-ка выгони ее на своего товарища! Помогите ему! Загонщики, бейте по кустам! Вон она прорывается! Прорвалась! Ну что ж, летите обратно. Не видать вам больше дамы сороки.
Сорока с присущей ее племени сообразительностью, и в самом деле укрылась в мелком кустарнике, а потом перелетела к деревьям погуще, так что ни ястреб под их пологом, ни сокол сверху, ни шумные загонщики ничего не могли ей сделать. Король посмеялся неудаче и отправился дальше. Из кустов то и дело поднимались разные птицы, и на каждую напускали соответствующего охотника: на бекаса — сокола, на куропатку — ястреба, а на жаворонка — маленького кобчика. Но королю быстро надоела эта несерьезная охота, и он не спеша продолжал путь, а его прекрасный спутник летел у него над головой.
— Ну разве не чудная птица, милый сын? — обратился он к принцу, взглянув вверх, когда по его лицу мелькнула тень сокола.
— О да, ваше величество. Самая красивая из всех, что привозили с северных островов.
— Пожалуй. Но у меня как-то был берберийский сокол. Ставки у него были не хуже, а лет быстрее. С восточными птицами вообще никакие не сравнятся.
— У меня как-то был сокол из Святой земли, — сказал Мэнни. — Так он был такой же злой, остроглазый и быстрый, как сами сарацины. Говорят, в свое время у Саладина были самые лучшие в мире породы птиц, гончих и лошадей.
— Я думаю, дорогой отец, еще придет день, когда все они станут нашими, — ответил Принц, глядя на отца восторженным взглядом. — Неужели Святая земля навсегда останется в руках жестоких безбожников и они будут осквернять святой храм своим присутствием? Мой возлюбленный и милостивый повелитель, дайте мне тысячу копий и десять тысяч лучников, каких я вел под Креси, и клянусь Богом, через год я отвоюю вам королевство Иерусалимское.
Король рассмеялся и обернулся к Уолтеру Мэнни.
— Мальчики всегда мальчики.
— Французы не считают меня мальчиком, — вспыхнул Принц.
— Ну-ну, милый сын!.. Никто не ставит тебя выше, чем твой отец. Но у тебя живой ум и пылкое воображение, поэтому тебе трудно доводить до конца еще незавершенное дело, а хочется поскорее взяться за другое, до которого еще далеко. Ну скажи, пожалуйста, как нам проходить через Бретань и Нормандию, когда мой юный паладин со своими копейщиками и лучниками будет осаждать Аскалон или брать Иерусалим?
— Бог помог бы делу, угодному небесам.
— Из всего, что я знаю о прошлых войнах на востоке, — сухо ответил король, — небо еще ни разу не было нам хорошим союзником. При всем моем почтении к церкви, я все же должен сказать, что даже самые ничтожные земные силы помогали Ричарду Львиное Сердце или Людовику Французскому гораздо больше, чем все небесное воинство. А что скажете вы, милорд епископ?
Полный епископ, который трусил позади на тяжелом гнедом жеребце, вполне соответствовавшем его весу и достоинству, рысью подъехал к королю.
— Что вы сказали, ваше величество? Я засмотрелся, как ястреб бьет куропатку, и не расслышал ваших слов.
— Клянусь, скажи я, что отдаю Чичестерской епархии еще два поместья, вы бы отлично меня расслышали.
— Ну что ж, ваше величество, попробуйте, скажите для проверки, — нашелся епископ.
— Отлично отпарировано, ваше преосвященство, — расхохотался король. — Клянусь распятием, эту схватку вы не проиграли. А говорили мы вот о чем: отчего так получалось, что, хотя крестовые походы велись во славу Божию, Бог так мало помогал нам в боях? Несмотря на все наши усилия и потери, а потери наши неисчислимы, нас в конце концов изгнали из страны, и даже военные ордена, что были созданы ради одной только цели — воевать с сарацинами, — еле-еле удерживаются на островах Греческого моря. Ни над одним портом, ни над одной крепостью Палестины уже не увидишь знамени с крестом? Куда же смотрел наш союзник?
— Ваше величество, вы говорите о таких важных вещах, которые выходят далеко за пределы вопроса о Святой земле, хотя он и может послужить хорошим примером. Речь должна идти о всяком грехе, всяком страдании и несправедливости — почему Бог не карает за все это огненным дождем и молниями Синая? Пути Господни неисповедимы.
— Это не ответ, — пожал плечами король. — Вы — князь церкви, а ведь плох был бы земной властелин, если бы он не мог получше ответить на какой-нибудь вопрос о положении дел в государстве.
— Можно привести и другие доводы, ваше величество. Да, правда, крестовые походы были святым делом, и можно было бы ожидать, что Господь благословит его. Но вот сами крестоносцы… Все ли они заслуживали благословения? Мне приходилось слышать, что в их лагерях процветал разврат.
— Лагерь всегда лагерь, так уж повелось на свете, и нельзя одним мановением сделать из лучника святого. А с другой стороны, Людовик Святой был именно таким крестоносцем, какой вам угоден. И что же? Все его войско погибло в битве при Мансура, а сам он — под Тунисом.
— Не забывайте, что наш мир — только преддверие мира грядущего, — ответил прелат. — Страдание и горе очищают душу, и истинно победит тот, кто покорно перенесет все невзгоды и войдет в вечное царство радости.
— Если в этом истинный смысл благословения церкви, то, будем надеяться, оно еще не скоро снизойдет на наши знамена во Франции, — сказал король. — Впрочем, мне думается, что, когда человек скачет по полю на лихом коне, а над ним летит его сокол, он может размышлять и о чем-нибудь ином, а не только о благословении церкви. Займемся-ка нашими птицами, епископ, не то, глядишь, сокольничий Рауль явится в церковь со своими разговорами о сапсанах и кречетах.
И разговор тотчас перешел на тонкости птичьей охоты — в лесу и на воде. Говорили о темноглазых и желтоглазых ястребах, об охоте с руки или напуском. Епископ не хуже короля владел искусством соколиной охоты, и свита заулыбалась, слушая, как горячо они принялись обсуждать разные спорные вопросы: может ли гнездарь, выращенный в помещении, сравниться с дикомытом[28] или сколько времени надо вынашивать и приручать молодых соколов.
Король и епископ с головой ушли в ученый спор. Епископ излагал свои мысли свободно и уверенно, на что не осмелился бы, говоря о делах церкви или государства: испокон веков ничто так не равняет людей, как охотничья потеха. Вдруг Принц, который время от времени окидывал острым взглядом высокий голубой свод, издал особенный возглас и, придержав кобылу, указал рукой куда-то в небо.
— Цапля! — закричал он. — Цапля на пролете!
По правилам соколиной охоты цаплю нельзя поднимать с места кормежки, когда она отяжелела от пищи и не успеет набрать скорость. Прежде чем за ней погонится более подвижный сокол, она должна быть в воздухе, направляясь с одного места на другое, например от реки к гнезду. Вот почему для начала настоящей охоты так важно застигнуть цаплю на пролете. Хотя Принц указывал рукой всего лишь на темное пятнышко, еле заметное на южной стороне небосклона, острый глаз не обманул его: и король, и епископ тотчас поняли, что это действительно цапля, — она летела в их сторону и становилась все больше и больше.
— Свистните соколу, ваше величество, свистните! — закричал епископ.
— Еще рано, она слишком далеко. Он проловится.
— Пора, ваше величество, теперь пора! — крикнул Принц, когда большая птица, подгоняемая ветром, понеслась ввысь.
Король издал резкий свист, и отлично натасканный сокол бросился сначала вправо, потом влево, высматривая, на кого его напускают. Потом, заметив цаплю, он резко и круто ринулся вверх ей наперерез.
— Прекрасно, Марго, хорошая ты птица! — воскликнул король и захлопал в ладоши, подбадривая сокола, а сокольники пронзительно закричали и загикали, как делают на соколиной охоте.
Круто поднимаясь вверх, сокол вот-вот должен был пересечь путь цапли, но цапля, хотя и заметила опасность, продолжала подниматься все выше, потому что хорошо знала, на что способны ее сильные крылья и легкое тело. Она поднималась такими маленькими кругами, что зрителям казалось, будто она взмывает прямо вверх.
— Уходит! — закричал король. — Только как ни старайся, а Марго ее догонит. Епископ, ставлю десять золотых против одного, что цапля моя.
— Принимаю пари, ваше величество. Сам я, конечно, не смогу взять эти деньги, но, наверное, в какой-нибудь церкви неплохо бы обновить напрестольную пелену.
— Ну, у вас должен быть неплохой запас пелен, если все золото, что вы на моих глазах выигрывали, пошло на их обновление. А, клянусь распятием, вот негодница, какая негодница! Смотрите, она сейчас проловится!
Епископ сразу все понял, увидев, что большая стая грачей, возвращающихся на ночлег к своему гнездовью, летит вдоль невидимой линии, как бы соединяющей сокола и цаплю. Он хорошо знал, что грач для сокола слишком большой соблазн. В один миг неверная птица забыла про летевшую выше цаплю, сделала над стаей круг и полетела вслед за ней на запад, выбирая себе добычу покрупнее.
— Еще не поздно, ваше величество! — крикнул один из сокольников. — Напустить челига?
— А хотите, ваше величество, я покажу вам, как сапсан победит там, где кречет спасует? — сказал епископ. — Десять золотых против одного за моего сокола.
— Ладно, епископ! — ответил король, нахмурясь с досады. — Если бы вы знали отцов церкви, как соколиные повадки, вы бы достигли престола святого Петра. Напускайте своего сапсана и докажите, что вам есть чем хвастаться.
Сапсан епископа был помельче королевского кречета, но столь же быстр и красив. Он сидел на руке и жадным, пронзительным взглядом следил за птицами в небе, по временам в нетерпении расправляя крылья. Как только епископ отстегнул должик, сапсан взмыл вверх, со свистом рассекая воздух остроконечными крыльями, описал большой круг и пошел быстро набирать высоту, становясь все меньше и меньше. Он несся ввысь, туда, где еще виднелось темное пятнышко — цапля, стремящаяся уйти от врагов. Птицы поднимались все выше и выше, а всадники, обратив лицо к небу, изо всех сил напрягали зрение, чтобы уследить за ними.
— Перелезает! Вот-вот, перелезет! — закричал епископ. — Уже над ней, набрал высоту.
— Нет, еще гораздо ниже, — отозвался король.
— Клянусь душой, милорд, епископ прав! — воскликнул Принц. — По-моему, он выше. Смотрите, смотрите, делает ставку!
— Бьет! Бьет! — раздался дружный крик дюжины голосов, когда две точки слились в одну. Было совершенно ясно, что обе птицы быстро падают. Уже и на глаз они стали больше. Но тут цапле удалось стряхнуть врага, и она, тяжело взмахивая крыльями, полетела прочь, видимо сильно пораненная в том страшном объятии. Сапсан же тряхнул перьями и снова пошел вверх, чтобы перелезть добычу и нанести второй, еще более губительный удар.
Епископ улыбнулся — казалось, уже ничто не может помешать его победе.
— Пропало ваше золото, государь, — сказал он. — Ну да ничего: что потратишь на церковь, то себе на пользу.
Однако вдруг одно непредвиденное событие лишило епископа возможности обновить запас дорогих пелен. Королевский кречет, схватив грача и не получив от этого никакого удовольствия, вдруг вспомнил о благородной цапле, которая все еще виднелась над Круксберийскими вересками. Как мог он позволить глупым крикливым грачам отвлечь себя от этой величественной птицы! Впрочем, еще не поздно исправить ошибку. Он рванулся ввысь по крутой спирали и оказался над цаплей. Но что это такое? Каждая частичка его тела, от головы до хвоста, затрепетала от ярости и ревности, когда он увидел это ничтожество, простого сапсана, который осмелился встать между королевским кречетом и его добычей. Одним стремительным взмахом мощных крыльев он взвился вверх и вмиг оказался над соперником. В следующий миг…
— Сцепились! Сцепились! — закричал король и захохотал, глядя как две птицы, взъерошив перья, шумно падают на землю. — Придется вам, епископ, самому латать напрестольные пелены. От меня вы теперь не получите ни пенса. Разнимите их, сокольник, а то они изранят друг друга. А теперь, господа, в путь — солнце уже клонится к западу.
Два сокола, тяжело дыша, с каплями крови на взъерошенных перьях, сцепившись когтями, клубком свалились на землю. Их оторвали друг от друга, отнесли обратно и посадили на место, а цапля, пережившая столь опасное приключение, тяжело взмахивая крыльями, полетела дальше и благополучно опустилась в гнездовье в Уэверли. Кортеж, который в суматохе охоты рассеялся по равнине, снова собрался. Путешествие продолжалось.
Вскоре впереди на болоте показался всадник. При виде кавалькады он пришпорил коня, а когда был совсем уже недалеко, король и Принц радостно закричали и приветственно замахали руками.
— Это славный Джон Чандос! — воскликнул король. — Клянусь распятием, Джон, мне уже целую неделю и даже больше недостает ваших веселых песен. Как хорошо, что у вас за плечами гитара! Откуда вы?
— Из Тилфорда, ваше величество. Я очень надеялся, что встречу вас, государь.
— Очень хорошо, что это пришло вам в голову. Поезжайте здесь, между принцем и мной, и представим себе, что мы снова во Франции во всем своем военном снаряжении. Какие новости, сэр Джон?
Тонкие черты лица Чандоса слегка дрогнули, он подавил смех, и его единственный глаз мигнул, как звезда.
— Как ваша охота, государь?
— Плохо, Джон. Мы напустили двух соколов на одну цаплю, они сцепились между собой, а птица улетела. А почему вы так улыбаетесь?
— Потому, что прежде чем вы будете в Тилфорде, я надеюсь устроить вам потеху получше.
— С соколом? С гончими?
— Нет, кое-что благородное.
— Вы говорите загадками, Джон. Что же это такое?
— Нет, ваше величество, не скажу. Это испортит все дело. Поверьте, на пустоши, отсюда до Тилфорда, можно отлично потешиться. И прошу вас, дорогой повелитель, едемте быстрее, пока еще светло.
Выслушав эту просьбу, король пришпорил коня, и кавалькада легким галопом направилась через вереск, куда указал Чандос.
Вскоре, поднявшись на холм, они увидели под собой вьющуюся лентой реку, надвое перерезанную аркой старого моста. На противоположном берегу виднелась деревня — ряд зеленых домишек, а над ними потемневший от времени господский дом.
— Это Тилфорд, — сказал Чандос, — а там, на склоне, — дом Лорингов.
Король был явно разочарован — он ожидал чего-то большего.
— Это и есть потеха, что вы обещали нам, сэр Джон? Как же вы сдержите слово?
— Сдержу, мой повелитель.
— Так где же потеха?
На самом верху моста на мощном соловом коне сидел рыцарь в доспехах с копьем в руке. Чандос тронул короля за руку и указал на всадника.
— Вот это и есть потеха.
Глава IX Как Найджел защищал Тилфордский мост
Король поглядел на неподвижную фигуру, на безмолвную кучку деревенских жителей, столпившихся по ту сторону моста, и, наконец, на Чандоса, лицо которого так и сияло от предвкушаемого удовольствия.
— Что это такое, Джон? — спросил он.
— Ваше величество, вы помните сэра Юстаса Лоринга?
— Конечно. Я отлично помню и его самого, и то, как он погиб.
— В свое время он был странствующим рыцарем.
— Что верно, то верно. И не было рыцаря лучше его.
— Таков же и его сын Найджел. Горяч, как молодой ястреб, — уже готов и когти распустить, и клюв навострить. Только держат его до сих пор в клетке. Этот бой будет для него первым испытанием. Вон он стоит на мосту и, как было в обычае наших отцов, готов помериться силами с первым встречным.
Король и сам был странствующим рыцарем — лучшим в Англии того времени. Он неукоснительно следовал всем правилам изысканного рыцарского этикета, и то, что вот-вот должно было произойти, вполне соответствовало его духу.
— Он еще не рыцарь?
— Нет, ваше величество.
— Ну, тогда сегодня ему придется на деле показать, на что он способен. Разве пристало молодому неопытному сквайру поднимать оружие против цвета английского рыцарства?
— Он передал мне свой картель и вызов, — сказал Чандос, доставая из-под плаща какую-тот бумагу. — Вы позволите мне ее прочесть, ваше величество?
— Конечно, Джон. Никто лучше вас не знает правил рыцарского этикета. К тому же вы знакомы с молодым человеком и вам виднее, насколько он достоин чести, на которую притязает. Послушаем его вызов.
Во время этого разговора рыцари и оруженосцы королевского эскорта, большая часть которых была ветеранами французских войн, с интересом и недоумением взирали на закованную в сталь фигуру на мосту. Теперь же, по вызову Уолтера Мэнни, они сгрудились вокруг короля и Чандоса. Чандос откашлялся и начал читать по бумаге:
— «A tous seigneurs, chevaliers et escuyers»[29] — так она озаглавлена, господа. Это послание сквайра Найджела Лоринга из Тилфорда, сына, светлой памяти, Юстаса Лоринга. Сквайр Лоринг ожидает вас, господа, с оружием в руках вон там, на верху моста. Вот что он пишет: «Я, скромный и недостойный сквайр, горя желанием прославить свое имя в глазах благородных рыцарей, кои сопровождают моего царственного повелителя, ожидаю на Уэйском мосту в надежде, что кто-либо из них благоволит немного помериться со мной силами или даст мне возможность разрешить его от какого-либо обета, если он принял на себя таковой. Я прошу об этом не затем, что полагаю себя достойным такой чести, а затем только, что жажду воочию увидеть, как сражаются знаменитые рыцари, и отдать дань восхищения их боевому искусству. Посему — да поможет мне святой Георгий! — я стану защищать острыми копьями мост от всякого или ото всех, кто соблаговолит вступить на него до захода солнца».
— Ну, что вы на это скажете, господа? — спросил король, весело оглядев собравшихся.
— Все верно, все как полагается, — отозвался Принц. — Ни Кларисье, ни Красный Дракон, да и никто другой в плаще глашатая не написал бы лучше. И все это он сам?
— У него есть старуха бабка, еще прежнего воспитания, — сказал Чандос. — Думаю, леди Эрментруде не раз доводилось писать вызовы. Но послушайте, ваше величество, мне нужно кое-что сказать вам на ухо! И вам тоже, благородный Принц.
Отведя их в сторону, Чандос стал что-то шепотом объяснять, от чего все трое громко расхохотались.
— Клянусь распятием! Какой позор, что благородный сквайр живет в такой нужде! — воскликнул наконец король. — Теперь этим займусь я сам. Так что же, господа? Достойный сквайр ждет ответа.
Воины столпились, вполголоса что-то обсуждая. Наконец Уолтер Мэнни обернулся к королю и доложил о результатах совещания.
— Если позволите, ваше величество, — сказал он, — мы полагаем, что этот сквайр, желая скрестить копья с перепоясанным рыцарем, прежде чем доказал на то свое право, переступает все границы приличия. Довольно с него и чести, если с ним сразится просто оруженосец, а поэтому, с вашего согласия, я пошлю освободить нам путь через мост своего собственного оруженосца Джона Уиддикема.
— Ну что же, это будет справедливо и честно, — сказал король. — Сэр Чандос, благоволите передать этому поединщику наше решение. Передайте ему также, что мы желаем, чтобы состязание проходило не на мосту, так как ясно, что в конце концов либо один из них, либо оба упадут в реку, но чтобы он съехал с моста и сражался на берегу. Такова наша королевская воля. Еще скажите, что для такой схватки довольно и тупого копья, хотя, если оба удержатся в седле, я дозволяю им обменяться и парой ударов мечами или булавами. Рауль протрубит сигнал к началу сражения.
То, что искатели славы готовы целыми днями поджидать достойного противника где-нибудь на перекрестке дорог, у брода или моста, было вполне в обычаях времени — еще не канул в прошлое отважный дух старого рыцарства, и у каждого в памяти еще были живы древние сказания и песни труверов, в которых полным-полно подобных сцен. Правда, в жизни их стало гораздо меньше. С веселым любопытством следили придворные, как Чандос спускался к мосту, и оживленно обсуждали несколько необычный вид человека, бросившего им вызов. Его телосложение, вся фигура, и верно, производили странное впечатление: руки и ноги, казалось, были слишком коротки для такого высокого человека, а голова была опущена на грудь, словно он глубоко задумался о чем-то.
— Так это же рыцарь Печального Сердца! — сказал Мэнни. — Что с ним такое, что он так низко опустил голову?
— Может быть, у него слишком слабая шея, — отозвался король.
— Голос у него, во всяком случае, не слаб, — заметил Принц, когда до них донеслись слова Найджела, который что-то отвечал Чандосу. — Клянусь Пресвятой Богородицей, он ревет совсем как выпь.
Пока Чандос возвращался к королю, Найджел поменял старое ясеневое копье отца на тупое турнирное, которое подал ему сопровождавший его здоровенный лучник. Потом он съехал с моста на зеленую, шириной в сотню ярдов, полосу, тянувшуюся вдоль берега. В тот же момент оруженосец сэра Уолтера Мэнни, уже спешно снаряженный товарищами, выехал вперед и стал в позицию.
Король поднял руку, сокольник протрубил в рог, и два всадника, вонзив шпоры коням в бока и дернув поводья, яростно устремились навстречу друг другу. Косые лучи вечернего солнца осветили такую картину: в центре, по зеленой полосе сырого луга, пригнувшись в седлах, разбрызгивая во все стороны воду, неслись навстречу друг другу два всадника; по одну сторону луга стояла полукругом, словно окаменев, блестящая толпа придворных — кто в стальных доспехах, кто в бархате, с замершими на месте собаками, соколами и лошадьми; по другую — горбился старый мост, синела ленивая река, стояли, разинув рты, несколько крестьян; а еще дальше возвышался мрачный, темный от времени господский дом, из верхнего окна которого смотрело чье-то суровое лицо.
Джон Уиддикем был человек отважный, но на сей раз ему попался более смелый противник. Когда на него как ураган налетел всадник, словно сросшийся со своим соловым конем, он не выдержал и колени его разжались. Найджел и Поммерс слились в одно целое и мчались, перенеся всю тяжесть, мощь и пыл на конец копья. Ударь в Уиддикема молния, он и то не вылетел бы из седла быстрее и дальше. Прежде чем распластаться навзничь на земле, он дважды перевернулся в воздухе, причем латы его зазвенели, как кимвалы.
Одно мгновение король мрачно смотрел на этот изумительный полет и падение, потом, когда Уиддикем, шатаясь, поднялся на ноги, снова улыбнулся и захлопал в ладоши.
— Славная сшибка, славный удар. Оказывается, в мирное время алые розы ничуть не хуже, чем были на войне. Ну как, добрый Уолтер? У вас есть еще оруженосец или вы сами проложите нам дорогу через мост?
Когда Мэнни увидел, что его ставленник потерпел поражение, его желчное лицо помрачнело еще больше. Он знаком подозвал высокого рыцаря, который сурово смотрел из-под поднятого забрала, как орел из стальной клетки.
— Сэр Хьюберт, — сказал он, — я хорошо помню тот день, когда вы одержали победу над французом под Каном. Не встанете ли вы и теперь на нашу защиту?
— Когда я сражался с французами, Уолтер, я сражался боевым оружием, — строго ответил рыцарь, — и мне не по душе все эти турнирные игрища, которые придуманы, чтобы забавлять глупых женщин.
— Как непочтительно вы отзываетесь о дамах! — воскликнул король. — Если бы такие речи услышала моя любезная супруга, она призвала бы вас на Суд Любви[30], и вам бы пришлось держать ответ за все ваши грехи перед судом благородных девиц. И все же, я прошу вас, возьмите турнирное копье, добрый сэр Хьюберт.
— Я охотнее взял бы павлинье перо, мой повелитель. Но раз вы просите, я повинуюсь. Эй, паж, подайте мне одну из тех вон палок, и посмотрим, на что я способен.
Но сэру Хьюберту де Бегу не пришлось испытать ни свое искусство, ни удачу; для большой гнедой лошади, на которой он сидел, подобная игра в войну была столь же непривычна, как и для ее хозяина, только сердцем она была послабее; поэтому, когда она увидела направленное на нее копье, сверкающую кольчугу и бешено мчащегося коня, она взяла в сторону и галопом понеслась вдоль реки. Крестьяне на одном берегу и придворные на другом так и покатились со смеху. Сэр Хьюберт тщетно натягивал поводья — лошадь несла его все дальше через заросли дрока и вереска, пока он не превратился в трепетное пятнышко, мерцающее на темном склоне холма. В то самое мгновенье, когда противник свернул в сторону, Найджел осадил Поммерса так, что тот взвился на дыбы, отсалютовал копьем и спокойной рысью вернувшись к мосту, стал поджидать следующего противника.
— Дамы сказали бы, что наш славный сэр Хьюберт заслужил эту кару своими нечестивыми речами, — заметил король.
— Будем надеяться, что он сумеет объездить своего боевого коня, прежде чем рискнет появиться на нем промеж двух войск, — вставил Принц, — не то тугоуздость лошади противник примет за трусость рыцаря. Посмотрите, вон он несется — все еще перескакивает через каждый куст.
— Клянусь распятием, — произнес король, — хотя наш храбрый Хьюберт не завоевал славы в этом бою, зато он достоин почестей как наездник. Но мост-то все еще занят, Уолтер. Что же теперь делать? Выбьет кто-нибудь из седла этого молодого сквайра или вашему королю придется самому наклонить копье, прежде чем путь на мост станет свободен? Клянусь головой святого Фомы, я с удовольствием скрещу копье с этим благородным юношей.
— Что вы, что вы, ваше величество, — вмешался Мэнни, сердито глядя на неподвижного всадника, — ему и без того оказали довольно чести. У этого зеленого юнца и так голова закружится оттого, что он сможет хвалиться, как за один вечер выбил из седла моего оруженосца и увидел спину храбрейшего рыцаря Англии. Принесите мне копье, Роберт. Посмотрим, что я с ним сделаю.
Знаменитый рыцарь взял принесенное копье, как опытный мастеровой берет свой инструмент. Он дважды прикинул копье на руке, быстро пробежал взглядом от одного конца до другого — нет ли в дереве какого изъяна; потом, удостоверившись, что все в порядке, взял его наперевес. После этого, крепко ухватив поводья, чтобы лошадь повиновалась каждому его движению, он прикрылся щитом, висевшим у него на шее, и выехал на бой.
Ну, Найджел, молодой, неопытный Найджел, теперь тебе не помогут никакие силы природы — им не устоять против искусства и мощи такого бойца. Еще придет день, и ни Мэнни, ни сам Чандос не смогут выбить тебя из седла. А пока, даже будь у тебя и не такое неудобное, нелепое снаряжение, надежды почти нет. Падение твое близко, но когда ты увидишь знаменитые черные перевязи на золотом поле, твое доблестное сердце, не знавшее страха, зайдется лишь от изумления и радости, что тебе оказали такую честь. Скоро ты вылетишь из седла, но и в самых невероятных сновидениях тебе не могло пригрезиться, что за удивительное это будет падение.
И снова с глухим перестуком копыт по мягкому сырому лугу мчатся галопом лошади. Снова сшибаются всадники и раздается звон металла. Но теперь уже Найджел, получив удар тупым копьем прямо в переднюю часть шлема, вылетает из седла и с лязгом падает на траву.
Но Боже мой! Что случилось? Мэнни в ужасе всплескивает руками, и копье выпадает из его вдруг обессилевших пальцев. Со всех сторон с испуганными возгласами, призывая всех святых, к нему скачут всадники. Бывало ли когда-нибудь, чтобы благородная потеха завершилась так неожиданно и так страшно? Или всех обмануло зрение? Или колдовское наваждение помутило их разум? Но нет, увы, все слишком ясно: на зеленой траве лежит тело поверженного сквайра, а чуть подальше, ярдах в двенадцати, — его голова в стальном шлеме.
— Пресвятая Дева, — в отчаянии закричал Мэнни, соскакивая с лошади, — я отдал бы последний золотой, лишь бы этого не было! Как же это случилось? Что же это такое? Скорее сюда, милорд епископ! Воистину тут не обошлось без колдовства! Это дело рук самого дьявола.
Бледный епископ соскочил с лошади и сквозь толпу перепуганных рыцарей и оруженосцев протиснулся к распростертому на земле телу.
— Боюсь, услуги святой церкви уже не нужны, — произнес он дрожащим голосом. — Бедный юноша! Какой неожиданный конец! In medio vitae[31], как говорит Священное писание! Мгновение назад он был молод и горд — и вот голова его отторгнута от тела! Да сжалятся надо мною Господь Бог наш и святые его, да охранят меня от всяческого зла.
Слова эти вырвались из уст епископа с силой и страстью, не частыми в его молитвах. А причиной тому послужил возглас одного из оруженосцев, который, подняв с земли шлем, тотчас с испуганным видом бросил его обратно.
— Он пустой! — вопил оруженосец. — Он легкий как перышко.
— Клянусь Господом Богом, это правда! — выкрикнул Мэнни, дотронувшись до шлема. — В нем ничего нет. С кем же я сражался, отец епископ? От сего оно мира или от иного?
Чтобы лучше поразмыслить, епископ проворно вскарабкался на лошадь.
— Если тут орудует нечистый, — сказал он, — мое место там, возле короля. Certes[32], если лошадь желта, как сера, неподалеку и сам дьявол. Клянусь, я видел, как из ноздрей у нее пошел дым с огнем. Ей в самый раз скакать с доспехами на спине, которые сражаются, хотя в них никого нет.
— Не спешите, отец епископ, — остановил его какой-то рыцарь. — Может быть, все так и есть, как вы говорите, только сотворила это человеческая рука. Когда я воевал на юге Германии, я видел в Нюрнберге металлическую фигуру, которую сделал один оружейник, — так она могла скакать на лошади и владела мечом. Если это такая же…
— Благодарю вас всех, господа, за честь, — раздался гулкий голос распростертого тела.
При этих словах даже доблестный Мэнни вскочил в седло, а несколько человек, как безумные, бросились врассыпную, подальше от ужасного тела, и лишь немногие, самые смелые, еще мешкали возле него.
— Больше всего, — продолжал гудеть голос, — я признателен благороднейшему рыцарю сэру Уолтеру Мэнни за то, что он, позабыв о своем высоком положении, снизошел до простого сквайра и скрестил с ним оружие.
— Клянусь Господом Богом, — сказал Мэнни, — если это и дьявол, у него очень изысканная речь. Я вытащу его из доспехов, черт возьми.
С этими словами он снова соскочил с лошади и, засунув руку в щель латного нашейника, крепко ухватил прядь золотистых кудрей Найджела. Найджел вскрикнул, и Мэнни окончательно убедился, что доспехи скрывают человека. В то же мгновение взгляд его упал на отверстие в нагруднике, который служил как бы забралом, и он разразился глубоким грудным смехом. Король, Принц и Чандос, которые с самого начала следили за всем происходящим издали и от изумления не могли ни вмешаться, ни вымолвить хоть слово, теперь, когда все стало понятно, давясь от смеха, подъехали к остальным.
— Вытащите его оттуда, — приказал король, держась за бока, — пожалуйста, снимите с него все это и освободите его. Много раз я бился на поединках, но, только глядя на этот, едва не вылетел из седла. Сквайр лежал так неподвижно, что мне показалось, будто удар о землю вышиб из него дух.
Найджел, и верно, пролежал все это время почти без памяти. Он знал, что с него сбили шлем, но никак не мог понять, чем вызваны всеобщее изумление и переполох. Теперь же, высвобожденный из громадной кольчуги, в которой он был заключен, как орех в скорлупе, он стоял, щурясь на яркий свет и сгорая от стыда из-за того, что придворные смеются над ним, поняв маленькую хитрость, на которую его вынудила унизительная бедность.
Доброе расположение духа вернул ему король.
— Вы доказали, что владеете оружием отца, — сказал он, — и достойны носить его имя и герб, ибо в вас жив дух, который в свое время его прославил. Но я знаю, что ни он, ни вы не потерпели бы, чтобы у вашего порога умирала с голоду алчущая толпа. А посему прошу вас, ведите нас в дом, и если трапеза окажется такой же изысканной как забава перед ней, празднество удастся на славу.
Глава Х Как король встретил своего сенешаля из Кале
Худо пришлось бы доброму имени Тилфордского дома и его правительнице, старой леди Эрментруде, если бы вся королевская свита, маршал двора и маршал поля, лорд — главный судья, камергер и телохранители собрались под одной крышей. Но предусмотрительность и тонкие маневры Чандоса отвели беду — часть свиты расположилась в монастыре, другая проследовала дальше и воспользовалась гостеприимством сэра Роджера Фиц-Аллена в Фарнемском замке. В гостях у Лорингов остались только сам король, Принц, Мэнни, Чандос, сэр Хьюберт де Бег, епископ и еще два-три человека.
Хотя общество было немногочисленно, а обстановка более чем скромна, король не изменил своему пристрастию к тонкостям пышного церемониала, которым он так славился. С мулов снимали поклажу, взад и вперед сновали оруженосцы, в спальнях готовили ванны, развертывали шелка и атласы, мерцали и позванивали золотые цепи, так что, когда наконец под звуки двух придворных трубачей все общество расселось за столом, оно являло картину блистательную и прекрасную, равной которой еще никогда не видывали почерневшие балки старого свода.
Большой наплыв иноземных рыцарей, которые во всем великолепии съехались за шесть лет до этого со всего христианского мира, чтобы присутствовать при открытии Круглой башни в Уиндзоре, а также попытать счастья и показать свое искусство в устроенных по этому случаю турнирах, совершенно изменил облик английской одежды. Старинные рубахи, куртки и плащи стали казаться слишком простыми и грубыми, и теперь вокруг короля блистали и сверкали неведомые раньше яркие кафтаны, камзолы, колеты, накидки, ганзейские штаны и много другой удивительной разноцветной одежды, полы и обшлага которой украшали бахрома, вышивки и фестоны. Сам король в черном бархате с золотыми украшениями резко выделялся из блестящей толпы окружавших его придворных, которая как бы тяготела к этому благородному темному центру. Справа от короля сидел Принц, слева — епископ, а леди Эрментруда командовала соединенными силами своих челядинцев в глубине зала, внимательно следя, чтобы блюда и фляги подавались вовремя, сплачивая усталых слуг для нового прорыва, подбадривая авангард, подтягивая тылы, поторапливая резервы; стук ее дубовой палки всегда раздавался там, где угроза была наибольшей.
Найджел стоял позади короля. На нем была его лучшая одежда, но рядом с окружавшими его роскошными нарядами она имела убогий и жалкий вид. Несмотря на боль во всем теле, Найджел, позабыв о вывихнутом колене, прислуживал своим блестящим гостям, а те подшучивали над ним и смеялись, вспоминая приключение у Тилфордского моста.
— Клянусь распятием! — воскликнул король, деликатно держа куриную косточку изящными пальцами левой руки. — Спектакль слишком хорош для деревенской сцены. Ты должен поехать со мной в Уиндзор, Найджел, только захвати доспехи, в которых ты прятался. В Уиндзоре ты будешь сражаться, глядя из-под набрюшника, тогда победит тебя только тот, кто перерубит доспехи по талии. Ни разу не видел такого маленького орешка в столь огромной скорлупе.
Принц с улыбкой обернулся к Найджелу и по его вспыхнувшему, растерянному лицу понял, что тот тяжело переживает свою бедность.
— Нет, — сказал он ласково, — такой мастер достоин лучшего инструмента.
— И позаботиться об этом должен его хозяин, — добавил король. — Что ж, Найджел, придворный оружейник сделает все, что нужно, чтобы, когда с тебя опять собьют шлем, в нем была бы и твоя голова.
Найджел покраснел до корней льняных волос и пробормотал слова благодарности.
Однако на уме у Джона Чандоса было иное. Насмешливо подмигнув своим единственным глазом, он обратился к королю:
— Право, сударь, ваша щедрость излишня. Ведь есть старинное правило: если два рыцаря выйдут на копейный бой и один из них по неловкости ли, случайно ли уклонится от удара, все его снаряжение переходит в собственность победителя. А посему, сэр Хьюберт де Бег, я полагаю, что ваша прекрасная миланская кольчуга и шлем бордоской стали, в которых вы приехали в Тилфорд, должны остаться у нашего молодого хозяина на память о вашем пребывании в этом доме.
Предложение было встречено одобрительным хором голосов и веселым смехом. Не смеялся только сам сэр Хьюберт. Он вспыхнул от досады и вперил недобрый взгляд в насмешливо улыбающегося Чандоса.
— Я уже говорил, что не играю в глупые игры и не знаю их правил, — произнес он, — но вам, Джон, отлично известно, что, если бы вы пожелали сразиться на боевых копьях или мечами, когда на поле выезжают двое, а уезжает с него только один, вам не пришлось бы далеко ходить за противником.
— Ну, неужели вы решились бы выехать на поле? Вам было бы лучше выйти пешком, Хьюберт, — ответил Чандос. — Я-то знаю, что, если вы будете на ногах, мне не видать вашей спины, как все мы недавно ее видели. Говорите что угодно, а только сегодня конь вас подвел, и я настаиваю, чтобы ваше снаряжение перешло к Найджелу Лорингу.
— У вас слишком длинный язык, Джон. Мне надоела ваша бесконечная болтовня, — ответил сэр Хьюберт, — топорща светлые усы. — Вам нужны мои доспехи — выходите и попробуйте их взять. Если ночь будет лунная, можете попробовать хоть сегодня же вечером, когда встанем из-за стола.
— Нет, господа, — воскликнул король, с улыбкой обращаясь к обоим, — оставьте ссоры! Наполните кубки гасконским, вы, Джон, и вы, Хьюберт. А теперь, пожалуйста, выпейте друг за друга, как верные добрые товарищи, которые сражаются только за короля. Вы оба нужны нам: за морем еще много дела для храбрецов. Ну а доспехи — что ж, в том, что касается турнирного боя, Джон Чандос прав; однако мы полагаем, что этот закон едва ли здесь применим, потому что это был не турнир, а случайная придорожная схватка, просто благородные рыцари испытали свое оружие. С другой стороны, если говорить о вашем оруженосце, Мэнни, то все было по правилам, и он, без всякого сомнения, проиграл свои доспехи.
— Это очень печально, государь, — сказал Уолтер Мэнни, — человек он бедный и с большим трудом приготовил себе снаряжение для похода. И все же придется сделать, как вы говорите, ваше величество. Если вы придете ко мне утром, сквайр Лоринг, вам передадут доспехи Джона Уиддикема.
— Тогда, с соизволения короля, я верну их ему обратно, — запинаясь от волнения, произнес Найджел. — Уж лучше мне никогда не бывать на войне, чем отбирать у храброго воина его единственные латы.
— Твоими устами говорит дух твоего отца! — воскликнул король. — Клянусь распятием, Найджел, ты мне нравишься. Дело это решу я сам. Однако странно, что из Уиндзора еще не приехал сэр Эмери Ломбардец.
С самого прибытия в Тилфорд король то и дело нетерпеливо справлялся, не приехал ли еще сэр Эмери и нет ли от него вестей, так что придворные стали с любопытством переглядываться. Все знали, что Эмери, известный своей продажностью итальянец, недавно был назначен губернатором Кале, и его столь внезапный и поспешный приезд мог означать только одно — возобновление войны с Францией, о чем страстно мечтал каждый воин. Уже дважды, когда снаружи доносились звуки, похожие на конский топот, король переставал есть и с непригубленным кубком в руке прислушивался, повернув голову к двери. На третий раз он не ошибся. Сначала раздался громкий топот копыт, звяканье сбруи, потом из темноты послышались хриплые голоса: на них отозвались лучники, стоявшие на страже у дверей.
— Прибыл какой-то путник, государь, — доложил Найджел. — Что изволите приказать?
— Это может быть только Эмери, — ответил король, — я только ему велел следовать за мной в Тилфорд. Пожалуйста, распорядись, чтобы его впустили, и со всей почтительностью пригласи к столу.
Найджел схватил факел и распахнул дверь. За ней стояло полдюжины всадников; один уже спешился. Это был коренастый смуглый человек с крысиным лицом и беспокойно бегающими карими глазами. Не переступая порога, он тотчас устремил жадный взгляд в глубь залы, ярко освещенной красноватым светом факелов.
— Я сэр Эмери из Павии, — прошептал он. — Ради Бога, скажите, король здесь?
— Он за столом, благородный сэр, и приглашает вас войти.
— Одну минуту, молодой человек, одну минуту. Скажите мне на ухо, вы не знаете, зачем король посылал за мною?
Он искоса взглянул на Найджела, и в его хитрых темных глазах промелькнул испуг.
— Не знаю.
— Я хотел бы… Я должен удостовериться прежде, чем предстану перед ним…
— Вам нужно всего лишь войти в дверь, благородный сэр, и вы все узнаете из уст самого короля.
Сэр Эмери собрался с духом, как человек, который готовится прыгнуть в ледяную воду, и быстрым шагом вышел из тьмы в светлую залу. Король встал, на его прекрасном удлиненном лице заиграла улыбка, и он протянул гостю руку. Однако итальянцу почудилось, что улыбались у короля только губы, но не глаза.
— Добро пожаловать! — воскликнул Эдуард. — Добро пожаловать, наш достойный и преданный сенешаль Кале. Прошу вас, садитесь вот тут, прямо напротив меня. Я просил вас приехать, чтобы услышать от вас вести из-за моря.
Благодарю вас — вы взяли на себя заботы о том, что мне столь же дорого, как жена или сын. Приготовьте там место сэру Эмери и подайте еды и питья, ведь он сегодня столько проехал, чтобы услужить своему королю.
Во все время пиршества, которое с таким искусством устроила леди Эрментруда, Эдуард весело разговаривал то с итальянцем, то с баронами. Наконец были унесены последние блюда, а круглые, пропитанные мясным соком и жиром куски грубого хлеба, служившие тарелками, брошены собакам. По кругу пошли фляги с вином. В залу с арфой в руках робко протиснулся старик менестрель Уэдеркот. Он надеялся, что ему, может быть, позволят сыграть или спеть что-нибудь его королевскому величеству. Но у Эдуарда на уме были развлечения иного рода.
— Прошу вас, Найджел, отошлите слуг, чтобы мы остались одни. Пусть у каждой двери встанут по два воина: нам никто не должен мешать — разговор будет секретный. А теперь, сэр Эмери, благородным лордам и мне самому, вашему государю, хотелось бы услышать из ваших уст, как обстоят дела во Франции.
Лицо итальянца было спокойно, только глаза быстро перебегали с одного рыцаря на другого.
— Насколько я знаю, государь, в ваших французских владениях все спокойно.
— Значит, вы не слышали, что французы собрали войско и намереваются, нарушив перемирие, вторгнуться в наши земли?
— Нет, ваше величество, не слышал.
— Вы меня очень успокоили, Эмери, — сказал король, — уж если вы ничего не слышали, то, разумеется, и быть ничего не может. А ведь говорили, что этот бешеный рыцарь, де Шарни, уже подошел к моему драгоценному Сент-Омеру[33] и вот-вот схватит его своими стальными руками.
— Что вы, государь! Пусть только посмеет! Он увидит, что ваше сокровище надежно заперто в сундуке и хорошо охраняется.
— И охраняете его вы, Эмери.
— Да, ваше величество, я.
— И вы, конечно, надежный страж, которому вполне можно доверять, не так ли? И теперь, когда из всех своих воинов я выбрал именно вас, чтобы вы берегли его как зеницу ока, вы не продадите по дешевке то, что мне так дорого?
— Что вы, государь! Почему вы задаете мне такие вопросы? Они порочат мою честь. Вы же хорошо знаете, что я не отдам врагу Кале прежде, чем отдам Богу душу.
— Так, значит, вам ничего не известно о поползновеньях де Шарни?
— Ничего, государь.
— Лжец и негодяй, — загремел король и, вскочив с места, ударил кулаком по столу так, что зазвенели кубки. — Взять его, лучники! Немедленно взять! И держать за локти, чтобы он ничего не натворил! И ты смеешь говорить мне в лицо, ты, вероломный ломбардец, что ничего не знаешь о де Шарни и его планах?
— Бог свидетель, я ничего не знаю.
Губы итальянца побелели, и говорил он прерывисто, тонким дрожащим голосом, отводя глаза от беспощадного взгляда разгневанного монарха.
Эдуард горько рассмеялся и вытащил из-за пазухи какую-то бумагу.
— Я хочу, чтобы в этом деле вы были судьями — ты, мой славный сын, и вы, Чандос, и вы, Мэнни, и вы, сэр Хьюберт, и вы, епископ, тоже. Я назначаю вас судьями своей королевской властью, чтобы вы совершили суд над этим человеком, ибо, клянусь Господом Богом, я не сойду с места, пока не разберусь во всем до конца. Но сначала я прочитаю вам вот это письмо. Оно послано сэру Эмери Павийскому, nomme[34] Ломбардец, в крепость Кале. Это что, не твое имя и звание, негодяй?
— Имя мое, государь, только я не получал такого письма.
— Еще бы! Тогда твое вероломство так и не вышло бы наружу. Письмо подписано «Исидор де Шарни». О чем же пишет мой враг де Шарни моему преданному слуге? Послушайте! «Мы не могли подойти в последнее новолуние, так как еще не собрали довольно войска, а также двадцати тысяч крон, что вы запросили. Но в следующее новолуние, в самую темную ночь, мы подойдем, и у малых боковых ворот, там, где растут рябины, вам будут вручены все деньги». А что ты теперь скажешь?
— Это подлог, — только и мог вымолвить итальянец.
— Позвольте мне взглянуть на письмо, государь, — попросил Чандос. — Де Шарни был моим пленным, и прежде чем за него был заплачен выкуп, через мои руки прошло много его писем, так что я прекрасно знаю его почерк. Да, готов поклясться, это его рука. Да, да, клянусь спасением моей души.
— Если это на самом деле написал де Шарни, так только чтобы обесчестить мое доброе имя! — выкрикнул сэр Эмери.
— Ну нет, — вмешался юный Принц, — мы все знаем де Шарни, мы с ним воевали. У него много недостатков, он любит похвастаться или затеять ссору, но он храбр и великодушен, под французскими лилиями другого такого нет. Этот человек никогда не унизится до подложных писем и не станет порочить честное имя рыцаря. Я, по крайней мере, ни за что этому не поверю.
Глухие возгласы остальных ясно говорили, что они согласны с Принцем. Свет факелов падал со стен на суровые лица за столом. Они сидели, словно каменные изваяния, и Ломбардец содрогнулся от ужаса под неумолимым взглядом их глаз. Он быстро огляделся — все выходы были заняты вооруженными воинами. Его коснулось дыханье смерти.
— Это письмо де Шарни вручил сент-омерскому священнику, некоему дону Бове, чтобы тот отвез его в Кале. А священник, поняв, что тут можно поживиться, отнес письмо одному человеку, моему верному слуге, и так оно дошло до меня. Я тут же приказал, чтобы этот человек приехал. А священник преспокойно вернулся в Сент-Омер, чтобы де Шарни считал, что письмо доставлено.
— Я ничего не знаю, — упрямо повторял итальянец, облизывая пересохшие губы.
Король побагровел, глаза его источали ярость.
— Довольно, клянусь Господом Богом, довольно! — воскликнул он. — Будь мы сейчас в Тауэре, несколько поворотов колеса вытянули бы признание из его подлой душонки. А впрочем, зачем нам его признания? Вы все видели, милорды, вы все слышали. Что скажешь ты, мой милый сын? Виновен ли этот человек?
— Виновен, государь.
— А вы, Джон? А вы, Уолтер? А вы, Хьюберт? А милорд епископ? Значит, все единодушны — он виновен в измене. Какое же он должен понести наказанье?
— Только смерть, — ответил Принц, и каждый из рыцарей кивком подтвердил свое согласие.
— Эмери Павийский, вы слышали приговор, — сказал Эдуард, оперев подбородок на руку и вперив в дрожащего итальянца тяжелый взгляд. — Эй, лучник возле двери! Да, ты, с черной бородой, выйди вперед. Вынь меч! Нет, трусливый негодяй, я не оскверню этот дом твоей подлой кровью. Сейчас нам нужна не твоя голова, нужны пятки. Отсеки у него золотые рыцарские шпоры, лучник. Я сам дал их ему, я и отберу обратно. Ну вот! Смотри, как они отлетели! А с ними все, что связывало тебя с достойным сословием, знаком и приметой которого они служат. А теперь отведите его подальше от дома, найдите для этой падали подходящее место на пустоши и отрубите его крысиную голову, чтобы никому неповадно было изменять королю.
Когда лучник схватил итальянца за плечи, тот с отчаянным криком соскользнул со стула и упал на колени. Вывернувшись из рук лучника, он распластался на полу и обхватил ноги короля.
— Пощадите меня, грозный повелитель! Умоляю, ради страстей Господних, пощадите! Смилуйтесь и простите. Вспомните, мой славный, дорогой господин, сколько лет я верой и правдой служил под вашими знаменами, сколько я для вас сделал! Разве не я нашел брод через Сену за два дня до великой битвы? Разве не я вел войска в бой, когда брали Кале? В Италии у меня жена и четверо детей, великий государь, ради них я забыл о долге и чести. С этими деньгами я мог бы забыть о войнах и вернуться к ним. Смилуйтесь, ваше величество! Смилуйтесь!
Англичане — народ грубый, но не жестокий. Хотя король продолжал сидеть с тем же грозным видом и в глазах его не было пощады, другие рыцари беспокойно задвигались, на их лицах можно было прочесть неодобрение.
— Право, государь, умерьте свой гнев, прошу вас, — сказал Чандос.
Эдуард сердито махнул головой.
— Помолчите, Джон. Будет так, как я сказал.
— Прошу вас, дорогой, славный государь, не спешите, в таком деле поспешность не годится. Велите его связать и оставить до утра. А там вы, быть может, передумаете.
— Нет. Я сказал. Уведите его.
Но дрожащий итальянец так крепко вцепился королю в колени, что лучники не могли разжать его судорожно сведенные руки.
— Выслушайте меня, умоляю. Подождите одну только минутку, дайте мне сказать всего несколько слов, а потом делайте что хотите.
Король откинулся на спинку стула.
— Говори, и на этом кончим.
— Государь, пощадите меня. Вы должны пощадить меня ради самого себя. Ведь я могу помочь вам в одном истинно рыцарском деле, оно порадует ваше сердце. Подумайте, ваше величество, этот де Шарни и его товарищи не знают, что их планы провалились. Стоит мне послать им весть, и они наверняка прибудут к малым боковым воротам. А тогда, если мы сумеем устроить хорошую засаду, у нас будет такая добыча и такой выкуп, что все ваши сундуки вновь наполнятся. За него и за его рыцарей можно взять верных сто тысяч крон.
Эдуард с презрением оттолкнул итальянца ногой, так что тот растянулся среди камыша, но и тогда, лежа на полу, как змея с перебитым хребтом, он не сводил с короля своих темных глаз.
— Так ты, оказывается, дважды предатель! Ты продал Кале своему де Шарни, а теперь хочешь предать мне самого де Шарни! Как ты смел подумать, что у меня и других благородных рыцарей душонки торгашей и мы мечтаем только о выкупах, а не о чести их завоевать? Ты что же, думаешь, что я или кто другой может быть таким подлым негодяем? Теперь ты сам подписал свой приговор. Уведите его!
— Постойте, прошу вас, мой благородный, добрый государь! — воскликнул Принц. — Охладите на время ваш гнев. Над тем, что говорит этот человек, стоит подумать. Вашу благородную душу возмутила его болтовня о выкупах. Но посмотрите на все это с другой стороны. Где еще мы можем надеяться столь достойным образом завоевать честь и славу? Пожалуйста, дозвольте мне самому заняться этим делом; если провести все как следует, мы выиграем очень много.
Сверкнув глазами, Эдуард взглянул на Принца.
— В погоне за славой, мой милый сын, тебя можно сравнить разве что с гончей, что идет по кровавому следу оленя, — ответил он. — А как ты все это себе представляешь?
— Чтобы взять де Шарни и его людей, не жалко никаких сил, — ведь в ту ночь под его знаменами соберется цвет Франции. Если мы сделаем, что предлагает этот человек, и встретим его равными силами, вряд ли во всем христианском мире найдется место, где бы рыцарю хотелось быть в ту ночь больше, чем в Кале.
— Клянусь распятьем, милый сын, ты прав! — воскликнул король, просветлев лицом. — Кто же займется этим? Вы, Джон Чандос, или вы, Уолтер Мэнни?
Король насмешливо посмотрел сначала на одного, потом на другого, как, бывает, хозяин дразнит костью злобных старых псов. В пылающих глазах рыцарей отразилось все, что им так хотелось высказать.
— Не сердитесь, Джон, и не подумайте ничего худого; просто теперь очередь Уолтера, и делом займется он.
— А почему нам всем не пойти под вашими, государь, знаменами или под знаменами Принца?
— Нет, не годится, чтобы королевские знамена Англии осеняли такую незначительную вылазку. Все же, если в ваших рядах найдется место еще для двух рыцарей, и Принц, и я отправились бы с вами.
Принц склонился и поцеловал отцу руку.
— Итак, Уолтер, передаю вам этого человека, и поступайте с ним, как найдете нужным. И смотрите за ним в оба глаза, чтобы он опять не предал нас. Уведите его прочь: его дыханье отравляет воздух. А теперь, Найджел, если тот достойный старик желает сыграть на арфе или спеть нам что-нибудь… Боже мой, что случилось?
Он обернулся и увидел, что молодой хозяин дома стоит позади него на коленях, склонив светлую голову, словно моля о чем-то.
— В чем дело? О чем вы просите?
— О милости, государь.
— Ну вот! Неужто мне сегодня так и не дадут покоя? То предатель бросается на колени передо мной, то честный человек стоит на коленях за моей спиной. Встаньте, Найджел. Чего вы хотите?
— Поехать с вами в Кале.
— Клянусь распятием, справедливая просьба: ведь план наш вызрел под вашим кровом. А что скажете вы, Уолтер? Возьмете его со всем его снаряжением?
— Скажите лучше, возьмете ли вы меня? — раздался голос Чандоса. — Конечно, я ваш соперник, но все-таки уверен, что вы мне не откажете.
— Что вы, Джон, я могу только гордиться, что под моим знаменем будет лучшее в мире копье.
— А я — тем, что пойду за таким знаменитым полководцем. Но Найджел Лоринг — мой оруженосец, и, значит, он тоже отправится с нами.
— Ну что ж, все решено, — заключил король. — А пока нам нет нужды спешить, до новолуния все равно ничего не случится. Поэтому прошу снова наполнить кубки и выпить со мной за славных французских рыцарей. Да будет отважен и решителен их дух, когда мы сойдемся под стенами замка в Кале.
Глава XI У Даплинского рыцаря
Король уехал. В Тилфордском доме стало темно и тихо, зато там снова воцарились радость и довольство. За один вечер отпали все заботы, словно кто-то поднял занавес и впустил солнечный свет. Королевский казначей вручил хозяйке дома неслыханную сумму, и сделал это таким образом, что не принять ее не было никакой возможности. С полной сумкой золотых Найджел снова отправился в Гилдфорд, и каждый нищий на пути благословлял его имя.
В Гилдфорде он прежде всего поехал к золотых дел мастеру и выкупил кубок, поднос и браслет, посетовав вместе с купцом на то, что, как это ни прискорбно, за последнюю неделю цены на золото и золотые изделия по каким-то неведомым причинам, понятным только посвященным, поднялись, и вещи эти стоили теперь на пятьдесят золотых дороже, чем он в свое время получил за них. Напрасно верный Эйлвард рвал и метал и молил небо послать ему день, когда он сможет вогнать стрелу в толстое брюхо купца. Деньги пришлось отдать сполна.
От торговца золотом Найджел поспешил к оружейнику Уоту и купил те самые доспехи, что так приглянулись ему неделю назад. Он тут же стал их примерять, а Уот и его сын ходили вокруг него с ключом и отверткой, подтягивая винты и подправляя пружинки.
— Ну как, достойный сэр? — воскликнул оружейник, надев Найджелу на голову стальной шлем и скрепляя его с нашейником, который спускался до плеч. — Клянусь Тувалкаином, доспех сидит на вас, как панцирь на крабе. Даже из Испании или Италии не привозили ничего лучше.
Найджел стоял перед отполированным щитом, который служил зеркалом, и вертелся из стороны в сторону, прихорашиваясь, словно птаха с блестящими перьями. Все приводило его в восторг: гладкий нагрудник, изумительные налокотники и поножи, замечательные гибкие рукавицы и юбка кольчуги. Он несколько раз подпрыгнул, чтобы показать, как он легок, потом выбежал из мастерской, ухватился за луку и вскочил в седло. Уот с сыном, стоя на пороге, захлопали в ладоши.
Найджел снова соскочил с коня, вбежал обратно в мастерскую и с лязгом упал на колени перед образом Пресвятой Девы, висевшим на черной от копоти стене. Он горячо молился о том, чтобы нечто недостойное не коснулось его души, не запятнало его чести, пока он может носить эти доспехи, чтобы Бог приумножил его силы ради свершения благородных и благочестивых дел. Странное это было обращение к религии, проповедующей мир на земле. И все же не одно столетие меч и вера шествовали бок о бок, поддерживая друг друга, и в смутные времена образ идеального рыцаря всегда так или иначе связывался с поисками истинного света. «Benedictus dominus Deus meus, qui docet manus meas ad praelium, et digitos meos ad bellum»[35] — возглашала душа рыцаря-воина.
И вот наконец доспехи были навьючены на мула оружейника и отправились с Найджелом в Тилфорд. Там он еще раз примерил их, чтобы порадовать леди Эрментруду, которая то хлопала в ладоши, то проливала слезы. Она радовалась, что ее отважный внук идет на войну, и в то же время горевала, что может потерять его. Ее собственное будущее тоже устроилось наилучшим образом. В Тилфорд был определен управляющий, чтобы присматривать за хозяйством, а самой леди Эрментруде были предоставлены покои в Уиндзоре, где она вместе с другими почтенными дамами своего возраста и положения могла проводить предзакатные дни жизни, вспоминая давным-давно забытые сплетни и шепотом рассказывая всякие скандальные истории из жизни бабушек и дедушек молодых придворных. Теперь Найджел мог с легким сердцем оставить ее и отправиться во Францию.
Но прежде чем покинуть вересковый край, где он прожил столько лет, ему предстояло нанести еще один прощальный визит. В тот вечер он надел свой лучший камзол из темно-лилового генуэзского бархата с меховой горностаевой оторочкой, новую шляпу, обрамленную спереди белоснежным пером, и серебряный с чеканкой пояс. Он ехал верхом на Поммерсе, на запястье у него сидел сокол, сбоку висел меч. Найджел был молод, красив и чист душою. Прекрасная картина! Он ехал проститься со старым Даплинским[36] рыцарем. А у того было две дочери, Эдит и Мэри, и Эдит издавна слыла одной из первых красавиц в крае.
Сэр Джон Баттесторн, Даплинский рыцарь, получил это прозвище потому, что лет восемнадцать назад участвовал в удивительном сражении, когда вся шотландская армия была в одночасье разгромлена горсткой авантюристов и наемников, выступавших не под флагом какого-нибудь народа, а воевавших за свой страх и риск. Их подвиг не попал на страницы истории, потому что не представлял интереса ни для одного народа, и все же в свое время во всех уголках страны много говорили об этой великой битве, ибо в тот день, когда цвет шотландского рыцарства полег на поле боя, мир впервые понял, что в ведении войны появлялось нечто новое и что английский лучник, отчаянно храбрый, с детских лет мастерски владеющий луком, стал силой, с которой приходится серьезно считаться даже закованному в сталь европейскому рыцарству.
Вернувшись из шотландского похода, сэр Джон стал королевским егермейстером и прославился на всю Англию как превосходный знаток охотничьего дела. Когда же, наконец, он так растолстел, что ни одна лошадь не выдерживала его тяжести, он скромно, но с удобством обосновался в старом доме в Косфорде, на восточном склоне Хайндхедского холма. Здесь, когда лицо его еще больше побагровело, а борода поседела, он мирно проводил вечер своей жизни в окружении ловчих птиц и собак. Обычно он сидел, вытянув распухшие ноги на скамеечке, а возле него стояла фляга вина с пряностями. Много старых товарищей заезжало сюда по пути из Лондона в Портсмут; бывали и молодые кавалеры из окрестных поместий — чтобы послушать рассказы толстого старого рыцаря о былых войнах или узнать о жизни леса и об охоте что-нибудь такое, чего не знал больше никто на свете.
Но, по правде сказать, что бы ни думал сам старый рыцарь, молодые люди наезжали к нему не только ради его старых историй и старого вина, а, скорее, ради того, чтобы полюбоваться хорошеньким личиком его младшей дочери или посоветоваться с умной и решительной старшей.
Пожалуй, никогда еще на одном дереве не произрастали такие разные побеги. Схожи девушки были лишь в том, что обе были высоки ростом и стройны. Во всем остальном у них не было ничего общего.
Эдит была прелестная голубоглазая блондинка с волосами цвета спелой ржи. Она любила поболтать, весело посмеяться, пошутить, подразнить и расточала улыбки всем окружающим ее молодым людям во главе с Найджелом из Тилфорда. Как котенок, она играла со всем, что попадалось ей под руку, но кое-кто стал замечать, что ее ласковые бархатные лапки иногда выпускают и острые коготки.
Мэри, напротив, была черноволоса и смугла, с простыми суровыми чертами лица; ее карие глаза твердо и прямо смотрели на мир из-под резко прорисованных, расходящихся дугами бровей. Никто не назвал бы ее красавицей, а когда хорошенькая сестра обвивала рукой ее плечи и прижималась щекой к щеке, жестокий контраст делал свое дело: красота одной и непригожесть другой еще больше бросались в глаза.
И все-таки всегда находился кто-то, кто, глядя на ее необычное решительное лицо и поймав отблеск огня, загоравшегося в глубине темных глаз, понимал, что в этой молчаливой женщине с гордой царственной осанкой таилась сдерживаемая покамест сила, более привлекательная, чем блистательная грация сестры.
Вот такие были в Косфорде дамы, и к ним-то в тот вечер ехал Найджел в камзоле из генуэзского бархата, с новым белым пером на шляпе. Он проехал Терслийский кряж позади скалы, возле которой в далекие стародавние времена буйные саксы поклонялись своему богу войны Тору. Проезжая мимо камня, Найджел искоса посмотрел на него и пришпорил Поммерса: ходили слухи, что и теперь еще в безлунные ночи вокруг, бывает, пляшут блуждающие огоньки: кое-кто даже слышал стоны и рыдания тех, чью жизнь некогда приносили в жертву, чтобы потешить дьявола. Скала Тора, следы Тора, кубок Тора — вся округа являла собою зловещий памятник богу войны, хотя благочестивые монахи давным-давно заменили его непонятное прозвание именем его отца — Дьявола. Найджел обернулся, чтобы еще раз взглянуть на седой древний валун, и его отважное сердце дрогнуло. Что это такое? Потянуло вдруг холодным вечерним воздухом? Или какой-то внутренний голос шепнул юноше, что придет день и он тоже, возможно, будет лежать, связанный, на таком же утесе, а вокруг будет бесноваться забрызганная кровью, завывающая толпа язычников?
Мгновение спустя скала, смутные страхи и все остальное разом вылетели у него из головы: впереди на желтеющей песчаной дороге вдруг появилась та самая прекрасная Эдит, чей образ так часто заслонял от него сон. Ее гибкая, стройная фигурка, освещенная лучами заходящего солнца, грациозно покачивалась в седле в такт движениям скачущей легким галопом лошади. При виде девушки горячая волна крови ударила ему в лицо: Найджела, не знающего страха ни перед чем на свете, неотразимо влекли и в то же время устрашали тайны нежной женственности. Его душа истинного рыцаря видела в Эдит, как, впрочем, и во всех женщинах, недосягаемое совершенство, которое поднимало их высоко над грубым миром мужчин. Общение с ними приносило и радость и страх — как бы собственное ничтожество, простая речь или манеры не показались этим изящным, нежным существам слишком низменными. Вот какие мысли промелькнули в голове у Найджела, пока белая лошадь скакала ему навстречу. Однако в следующую минуту все его страхи и сомнения рассеял искренний голос девушки, весело помахавшей ему хлыстом в знак приветствия.
— Добро пожаловать, Найджел! — донеслось до него. — Куда это вы держите путь? Конечно, не к вашим друзьям в Косфорд? Ведь не ради них вы надели такой прекрасный камзол! Ну, Найджел, как ее зовут? Говорите скорее, чтобы я ее навеки возненавидела!
— Что вы, Эдит, — тоже смеясь воскликнул молодой сквайр, — конечно, в Косфорд!
— Так поедем вместе, мне не хочется ехать дальше. А я хорошо выгляжу?
Когда Найджел охватил взглядом хорошенькое зардевшееся личико, золотистые локоны, сверкающие глаза и прелестную, грациозную фигурку в черно-алом платье для верховой езды, за него ответили его глаза.
— Вы прекрасны, как всегда, Эдит.
— Почему вы говорите это так холодно? Разве вас растили для бесед в монастырской келье, а не в покоях дамы? Задай я такой же вопрос молодому сэру Джорджу Брокасу или сквайру из Фернхерста, они всю дорогу до Косфорда ликовали бы. Они оба мне больше по сердцу, чем вы, Найджел.
— Тем хуже для моего сердца, — печально вымолвил Найджел.
— Но все равно пусть ваше сердце не теряет надежды.
— А я уже потерял и само сердце.
— Вот уже лучше, — засмеялась Эдит, — можете же вы быть галантным, когда пожелаете, господин Дичок! Только вам больше нравится говорить о всяких высоких и скучных вещах с моей сестрой. Она терпеть не может разговоров и обходительности сэра Джорджа, зато мне они нравятся. А теперь скажите, Найджел, зачем вы едете сегодня в Косфорд?
— Попрощаться с вами.
— Со мной одной?
— Нет, Эдит, с вами, вашей сестрой, и с добрым рыцарем — вашим отцом.
— Сэр Джордж сказал бы, что только со мной. Рядом с ним вы совсем никудышный кавалер. А правда, Найджел, что вы едете во Францию?
— Да, Эдит.
— Об этом все болтают после того, как в Тилфорде побывал король. Говорят, вы едете в свите короля? Это правда?
— Правда, Эдит.
— Тогда скажите, куда же вы едете и когда?
— Увы, этого я сказать не могу.
— В самом деле? — Она тряхнула головой и поскакала вперед, надув губы и сердито сверкая глазами. Найджел с недоумением посмотрел на нее.
— Так-то, Эдит, — произнес он наконец, — вы цените мое доброе имя? Вы хотите, чтобы я нарушил данное слово?
— Ваше доброе имя — это ваша забота, а мои симпатии — моя, — бросила девушка, — вы печетесь об одном, ну а я уж буду о другом.
Они молча проехали деревню Терсли. Потом ей в голову пришла какая-то мысль, она тут же сменила гнев на милость и бросилась по другому следу.
— Что бы вы стали делать, если бы меня вдруг кто-нибудь обидел? Отец как-то говорил, что хоть вы малы ростом, перед вами не устоит никто из здешних молодых людей. Вступились бы вы за меня, если б меня кто обидел?
— Конечно. Я, да и любой благородный человек, всегда готов вступиться за каждую женщину.
— Вы или любой, я или каждая — что это за разговор? Вы думаете, что это комплимент, когда тебя вот так смешивают со стадом? Я говорила о вас и о себе. Если бы меня обидели, вы заступились бы за меня?
— Испытайте меня и сами увидите.
— Хорошо, я так и поступлю. Конечно, и сэр Джордж Брокас, и сквайр из Фернхерста с удовольствием бы сделали то, о чем я их попрошу, но я хочу, чтобы это были вы, Найджел.
— Прошу вас, скажите в чем дело?
— Вы знаете Поля де ла Фосса из Шэлфорда?
— Это такой низенький человек с горбатой спиной?
— Он не ниже вас, Найджел, а что до его спины, так многие бы поменялись с ним лицом.
— Тут я не судья. Но я не хотел сказать ничего худого. Так в чем же дело?
— Он посмеялся надо мной, и я хочу ему отомстить.
— Что? Вы хотите отомстить несчастному калеке?
— Я же говорю вам, что он посмеялся надо мной.
— А как?
— Я-то думала, что настоящий рыцарь полетит мне на помощь, ничего не спрашивая. Но раз вам это так нужно, скажу. Так вот, он был среди кавалеров, что всегда толпились возле меня, и уверял меня, что он навеки мой. А потом, просто потому, что ему показалось, будто мне нравятся и другие, он бросил меня и теперь ухаживает за Мод Туайнем, этой веснушчатой девчонкой из его деревни.
— А почему это вас обидело, если он не был вашим мужем?
— Он ведь был одним из моих поклонников, так? А потом посмеялся надо мной со своей девкой. Наговорил ей обо мне всякой всячины. Выставил меня перед ней круглой дурой. Да, да, я все вижу по ее желтому лицу и тусклым глазам, когда по воскресеньям мы встречаемся в церкви. Она всегда улыбается — да, да, она мне улыбается. Поезжайте к нему, Найджел. Убивать его не надо, даже ранить не надо — просто дать ему хорошенько по лицу хлыстом, а потом возвращайтесь и скажите, как мне вас отблагодарить.
Найджел побледнел, рассудок его боролся со страстным желаньем, охватившим все его существо.
— Клянусь святым Павлом, Эдит, — воскликнул он, — то, о чем вы просите, не принесет мне ни чести, ни славы! Неужели вы хотите, чтобы я побил несчастного калеку? Мое мужское достоинство не позволит мне сделать ничего подобного. Прошу вас, милая дама, дайте мне какое-нибудь другое поручение.
Эдит презрительно взглянула на него.
— Хорош воин, нечего сказать! — с язвительным смешком молвила она. — Вы испугались какого-то коротышки, который еле на ногах стоит. Да, да, говорите что угодно, только я прекрасно вижу, что у вас просто не хватает духу, — вы слышали, какой он смелый, как он отлично владеет мечом. Впрочем, вы правы, Найджел, с ним опасно связываться. Если бы вы сделали, что я прошу, он убил бы вас, так что вы поступили правильно.
От ее слов Найджел краснел и морщился, как от боли, но молчал. В голове его шла жестокая борьба — ему так хотелось сохранить в неприкосновенности тот высокий образ женщины, что жил в его душе, а сейчас, казалось, готов был распасться. И так, молча, ехали они бок о бок — невысокий мужчина и величавая женщина, соловый боевой конь и белая низкорослая испанская кобылка — по извилистой песчаной дороге, скрытой с обеих сторон высокими, выше головы всадников, зарослями дрока и папоротника. Вскоре дорога разделилась на две, и они въехали в ворота, на которых красовались кабаньи головы Баттесторнов. Впереди виднелся низкий тяжелый, раздавшийся в ширину дом, откуда доносился разноголосый собачий лай. В дверях появился краснощекий рыцарь и, прихрамывая, пошел с распростертыми объятьями им навстречу, крича громовым голосом:
— Э, Найджел! Милости просим, приятель. А я-то думал, вы теперь не захотите знаться с такой мелкотой, как мы, — ведь вас обласкал сам король! Живо, слуги, примите лошадей, пока я вас костылем не выходил. Тихо, Лидьярд! На место, Пеламон! Из-за вашего лая я не слышу собственного голоса. Мэри, чашу вина молодому сквайру Лорингу.
Мэри стояла в дверях, стройная, с удивительным задумчивым лицом. Из глубины ее ясных, как бы вопрошающих о чем-то глаз сияла таинственная душа. Найджел поцеловал протянутую руку, и при виде этой девушки к нему вновь возвратилась поколебленная было вера в женщину и благоговенье перед ней. Сестра проскользнула позади нее в залу, и оттуда, из-за плеча Мэри, ее хорошенькое личико эльфа послало ему улыбку — знак прощенья.
Даплинский рыцарь оперся всей тяжестью своего тела на руку Найджела и через просторную, с высоким сводом залу проковылял к своему большому дубовому креслу.
— Скорее, Эдит, пододвинь скамеечку, — распорядился он, усаживаясь. — Клянусь Господом, голова у этой девицы набита кавалерами, как амбар крысами. Ну, Найджел, любопытные слухи дошли до меня — как ты сражался у Тилфордского моста и что к тебе приезжал король. Как он тебе показался? А мой старый друг Чандос? Когда-то мы с ним провели много славных часов в лесу. А Мэнни? Вот был сильный и смелый наездник? Что о них слышно?
Найджел рассказал старому рыцарю обо всем, что произошло. О своих успехах он говорил мало, все больше о промахах, однако у смуглолицей девушки, которая сидела и слушала, что-то прилежно вышивая, глаза так и загорелись.
Сэр Джон внимательно следил за рассказом, но то и дело прерывал его залпами божбы и проклятий, ударами здоровенного кулака по столу и взмахами костыля.
— Ну и ну, парень! Ты, конечно, не мог усидеть в седле против Мэнни, но все равно держался молодцом. Мы гордимся тобой, Найджел. Ты ведь наш, ты вырос в наших вересках. Правда, стыд мне и позор, что ты не очень силен в охотничьем деле: ведь я сам тебя обучал, а в этом ремесле во всей Англии нет мне равных. Пожалуйста, наполни снова свой кубок, а я пока воспользуюсь тем временем, что у нас еще осталось.
И старый рыцарь тут же качал длинное скучное повествование о тех благословенных годах, когда охота на зверя и птицу всегда была ко времени. Он то и дело отклонялся в сторону, вставляя анекдоты, предостерегал от возможных промахов, приводил примеры из собственного неисчерпаемого опыта. Старик поведал Найджелу, что в охоте есть свои ранги: что заяц, олень-самец и кабан должны цениться больше, чем старый олень, олениха, лисица или косуля, точно так же, как знаменный рыцарь стоит выше, чем просто рыцарь; а все они ценятся больше, чем барсук, дикая кошка или выдра, которых в мире зверей можно отнести к простолюдинам. Говорил старый рыцарь о кровавых следах — как опытный охотник с одного взгляда отличит темную, с пузырьками пены кровь смертельно раненного зверя от жидкой светлой крови животного, которому стрела угодила в кость.
— По этим знакам ты всегда поймешь, надо ли пускать собак или разбрасывать по тропе сучья, чтобы не дать подранку уйти. Но более всего, Найджел, остерегайся употреблять слова нашего искусства не к месту, например за столом, чтобы в чем не ошибиться, а то всегда найдется кто-нибудь поумнее и тебя засмеют, а тем, кто тебя любит, будет стыдно.
— Нет, сэр Джон, — сказал Найджел, — после ваших уроков я сумею найтись в любом обществе.
Старый рыцарь в сомнении покачал головой.
— Учиться приходится столь многому, что никто на свете не может знать всего. К примеру, Найджел, если соберется в лесу несколько зверей или в небе несколько птиц, то ведь для каждой такой стаи есть свое название, и их нельзя путать.
— Я знаю это, дорогой сэр.
— Конечно, знаешь, только ты не знаешь каждого отдельного названия, или в голове у тебя куда больше, чем я думал. По правде говоря, никто не может сказать, что знает все, хотя сам я, побившись об заклад, набрал при всем дворе восемьдесят шесть слов. А егермейстер герцога Бургундского насчитал больше сотни; правда, мне думается, многие он просто выдумал, пока перечислял их, — все равно ему никто не мог возразить. А как ты скажешь, если увидишь в лесу сразу десяток барсуков?
— Так и скажу.
— Молодец, Найджел, честное слово, молодец. А если в Вулмерском лесу ты увидишь несколько лисиц?
— Лисья стая.
— А если б то были львы?
— Что вы, дорогой сэр, в Вулмерском лесу мне вряд ли встретятся несколько львов.
— Это не ответ — есть и другие леса, кроме Вулмерского, и другие страны, кроме Англии. А кто может знать, куда занесет такого странствующего рыцаря, как Найджел Тилфордский, в погоне за славой? Так, предположим, ты попадешь в Нубийскую пустыню, а потом при дворе великого султана захочешь сказать, что видел много львов, — а лев у охотников стоит на первом месте, он царь зверей. Как ты тогда скажешь?
Найджел почесал голову.
— По правде сказать, добрый сэр, если бы после такого приключения я мог вымолвить хоть слово, я сказал бы только, что видел много львов.
— Нет, Найджел, для охотника это был бы прайд, и этим словом он показал бы, что знает язык охоты. Ну, а если бы то были не львы, а кабаны?
— О кабанах всегда говорят в единственном числе. Видел кабана.
— А диких свиней?
— Конечно, стадо.
— Ай-ай-ай, милый мой, как печально, что ты так мало знаешь. Руки у тебя всегда были лучше головы. Благородный человек никогда не скажет «стадо свиней», так говорят только мужики. Если ты гонишь свиней — это стадо: если охотишься на них — совсем иное дело. Как их тогда зовут, Эдит?
— Не знаю, — безразлично ответила девушка. Она сидела, устремив взгляд далеко в темную тень свода, правая рука ее сжимала только что принесенную слугой какую-то записку.
— Ну, а ты, Мэри, знаешь?
— Конечно, дорогой сэр. В таких случаях говорят — скоп.
Старый рыцарь довольно рассмеялся.
— Вот ученик, который никогда меня не опозорит! Ни в науке о рыцарском обхождении, ни в геральдике, ни в охотничьем деле, ни в чем ином. На Мэри я всегда могу положиться. Она многих знатоков может вогнать в краску.
— И меня вместе с ними, — заметил Найджел.
— Ну что ты, милый мой, по сравнению со многими ты просто Соломон. Послушай-ка, еще на прошлой неделе этот бездельник, молодой лорд Брокас, рассказывал, что видел в лесу стаю фазанов. А ведь при дворе таких вещей не прощают, для молодого сквайра это была бы погибель. Ну а ты, Найджел, как сказал бы?
— Я думаю, добрый сэр, надо было сказать «выводок фазанов».
— Правильно, Найджел, — выводок фазанов, так же как стая гусей, уток, вальдшнепов или бекасов. Но стая фазанов! Как это у него язык повернулся. Я посадил его тут же, как раз где ты сидишь, и позволил встать не раньше, чем добрался до дна двух фляг рейнского. Да и то, боюсь, он не слишком много вынес из урока, потому что все время не сводил своих глупых глаз с Эдит, когда надо было обратить слух к ее отцу. А где же сама девица?
— Она вышла, отец.
— Вечно она выходит, как только представится случай поучиться чему-нибудь, что может пригодиться в лесу или в поле. Однако скоро будет готов ужин. Свежий кабаний окорок — помоги мне с ним управиться, Найджел, — и бок оленя с королевской охоты. Лесничие да охотники меня не забывают, кладовая у меня всегда полным-полна. Протруби сбор, Мэри, чтобы слуги накрыли на стол, — уже темнеет да и пояс у меня стал болтаться. Значит, пора.
Глава XII Как Найджел победил горбуна из Шэлфорда
В те времена, о которых вы сейчас читаете, все сословия, кроме разве что самых бедных, ели лучше и пили слаще, чем когда-либо потом. Страну покрывали леса, в одной только Англии их было за семьдесят, притом некоторые простирались на полграфства. Крупная дичь в лесах строго охранялась, зато мелкая — зайцы, кролики, птица, которыми кишели леса и перелески, — легко становилась добычей бедняка и попадала к нему на стол. Эль был совсем дешев, а еще дешевле был мед, который мог приготовить каждый крестьянин, — в дуплах деревьев было полно диких пчел. Пили тогда много и разных чаев, тоже ничего не стоивших: надо было лишь собрать и заварить просвирняк, пижму или другие травы, о некоторых нынче совсем позабыли.
Сословия побогаче утопали в грубом изобилии: буфеты ломились от крупных кусков мяса домашней скотины либо дичи, огромных пирогов, всяческой птицы; все это запивали элем и терпким французским или рейнским вином — так легче было проглатывать жирные куски. Стол же очень богатых людей достиг таких высот изысканности, что приготовление пищи стало целой наукой, в которой красота блюда ценилась не меньше, чем приправа. Блюда покрывали золотом и серебром, расписывали, подавали на стол окруженными пламенем свечей. Каждое блюдо, будь то кабан и фазан или новомодные черепаха и еж, требовали своего особого убранства и приправ, удивительных и сложных, в которых соединялись финики и коринка, гвоздика и уксус, сахар и мед, корица и молотый имбирь, сандаловое дерево и шафран, студни и желе.
У норманнов было в обычае есть умеренно, но всегда иметь богатый выбор всего самого лучшего и изысканного. Именно от них пришло в Англию застолье, столь отличное от грубого обжорства древних тевтонских племен.
Сэр Джон Баттесторн принадлежал к среднему дворянству и ел по старинке. Широкий дубовый стол, накрытый для ужина, ломился под тяжестью пышных пирогов, невероятной величины кусков жареного мяса и массивных фляг. В нижней части залы сидела челядь, в верхней, на возвышении, стоял стол для семьи хозяина, всегда готовый принять дорогого гостя, заглянувшего на огонек с большой дороги, проходившей за воротами усадьбы. Такой гость и прибыл в тот вечер. Это был старик священник, проездом из Чэртсейского монастыря в монастырь св. Иоанна в Мидхерсте. Он часто совершал подобные путешествия и всякий раз сворачивал с пути к гостеприимному столу Косфорда.
— Милости просим, рады вас снова видеть, добрый отец Атанасий, — приветствовал его дородный рыцарь. — Проходите, садитесь справа и расскажите, что нового у нас в округе. Священники ведь всегда первыми узнают все сплетни.
Священник, человек спокойный и добрый, бросил взгляд на пустующее место в конце стола и спросил:
— А где госпожа Эдит?
— Да, в самом деле, где же девчонка? — раздраженно воскликнул рыцарь. — Мэри, пожалуйста, прикажи протрубить еще раз, чтобы она знала, что ужин на столе. Что этот совенок делает вне дома в столь поздний час?
Священник тронул рыцаря за рукав, и в его добрых глазах мелькнуло беспокойство.
— Я совсем недавно видел госпожу Эдит. Боюсь, она не услышит горна, она, верно, уже в Милфорде.
— В Милфорде? Что ей там надо?
— Пожалуйста, добрый сэр Джон, не говорите так громко — речь идет о чести дамы, и разговор должен остаться между нами.
Сэр Джон уставился на обеспокоенное лицо священника, и его багровое лицо стало еще краснее.
— О ее чести? О чести моей дочери? Еще нужно доказать, что вы имеете право так говорить, иначе ноги вашей больше не будет в Косфорде!
— Надеюсь, я никого не оскорбил, сэр Джон, но все же должен сказать о том, что видел своими глазами: в противном случае я был бы неверным другом и плохим священником.
— Так говорите скорее! Какого черта вы там видели?
— Известен вам такой невысокий молодой человек, почти горбун, по имени Поль де ла Фосс?
— Конечно. Я отлично его знаю. Он из благородной семьи, младший брат сэра Юстаса де ла Фосса из Шэлфорда. Было время, когда я думал, что назову его сыном: он проводил с моими девочками почти каждый день. Только горбатая спина — плохой помощник в любовных делах.
— Увы, сэр Джон, душа у него еще кривей, чем спина. Он очень опасный человек: дьявол дал ему острый язык и глаза, которые притягивают женщин, как взгляд василиска. Девицы думают о свадьбе, а у него на уме совсем другое. Он уже не одну погубил, очень этим гордится и хвастается по всей округе.
— А при чем тут я и мои дочери?
— Сегодня, едучи сюда, я встретил его, он спешил домой, а рядом с ним ехала женщина, и хотя лицо ее было скрыто капюшоном, до меня донесся ее смех. Этот смех я слышал и раньше под этой самой кровлей. Так смеется госпожа Эдит.
Нож выпал из руки рыцаря. Весь этот разговор слышали только Мэри и Найджел: то, что говорили на верхнем конце стола, заглушалось грубым смехом и гулом голосов на нижнем.
— Не бойтесь, отец, — сказала Мэри, — добрый отец Атанасий ошибся. Эдит сейчас придет. В последнее время я не раз слышала, как она плохо отзывалась об этом человеке.
— Правда, сэр, — горячо поддержал ее Найджел. — Только сегодня вечером, когда мы ехали через Терслийские верески, госпожа Эдит сказала, что ни во что его не ставит и хотела бы, чтобы его кто-нибудь побил за все его злые дела.
Однако умудренный опытом священник покачал седой головой.
— Когда женщина так говорит — жди беды. Лютая ненависть — родная сестра пылкой любви. Зачем она стала бы это говорить, если бы между ними ничего не было?
— И все же, — заметил Найджел, — с чего бы ей так перемениться всего за три часа? С тех пор как я приехал, она все время была с нами в зале. Клянусь святым Павлом, я этому не верю.
Однако Мэри помрачнела.
— Я вспомнила, дорогой отец, что, когда мы говорили об охоте, конюх Хэннекин принес ей какую-то записку. Она прочитала ее и тотчас вышла.
Сэр Джон вскочил было на ноги, но тут же вновь со стоном рухнул в кресло.
— Лучше бы мне умереть, чем видеть свой дом обесчещенным! — воскликнул он. — А тут еще эта проклятая нога! Из-за нее я не могу узнать ни правду, ни отомстить за поруганную честь! Если бы дома был мой сын Оливер, все было бы хорошо. Позовите конюха, я его обо всем допрошу.
— Прошу вас, добрый благородный сэр! — вмешался Найджел, — позвольте мне на этот вечер стать вашим сыном. Тогда я сделаю все что нужно. Клянусь честью, я сделаю все, что в силах мужчины.
— Благодарю, Найджел. Твою помощь я приму охотнее, чем чью-либо еще во всем христианском мире.
— Но сперва, добрый сэр, я хотел бы знать ваше мнение вот о чем: у этого человека, насколько я знаю, много земли, и сам он благородной крови. Так что если наши опасения сбудутся, нет никаких причин, почему бы ему не жениться на вашей дочери?
— Нет, конечно. О лучшем браке она не могла бы и мечтать.
— Хорошо. А теперь я хотел бы поговорить с Хэннекином. Только сделать все надо очень осторожно, чтобы никто ничего не знал. Нельзя, чтобы об этом стали сплетничать слуги. Если вы покажете мне конюха, госпожа Мэри, я позову его почистить мою лошадь и узнаю все, что нужно.
Найджел отсутствовал недолго. Когда он возвратился, лицо его было мрачно, и у сидящих за столом не осталось никакой надежды.
— Я запер его в конюшне на сеновале, чтобы он не наболтал лишнего, — сказал Найджел, — потому что по моим вопросам он, конечно, понял, откуда дует ветер. Записку, в самом деле, прислал этот человек, а кроме того, он привел и лошадь для дамы.
Старый рыцарь застонал и закрыл лицо руками.
— Не надо, отец, на вас смотрят, — прошептала Мэри. — Ради чести нашего дома нам надо сохранять спокойствие.
Затем чистым, звонким голосом, так что его было слышно и в дальнем конце залы, сказала:
— Если вы едете на восток, Найджел, я поеду с вами, чтобы сестре не пришлось возвращаться одной.
— Мы поедем вместе, Мэри, — ответил Найджел, вставая из-за стола, и тихо добавил: — Но ведь мы не можем поехать одни, а если возьмем слугу, все сразу станет известно. Пожалуйста, оставайтесь дома и предоставьте все мне одному.
— Нет, Найджел, ей может понадобиться помощь женщины, и этой женщиной должна быть ее сестра. Я возьму с собой камеристку.
— Я сам поеду с вами, если только вы смирите свое нетерпение и сможете приноровиться к силам моего мула, — сказал старый священник.
— Но ведь вам это не по пути, отец?
— У священника есть только один путь — тот, что ведет ко благу ближних. Идемте, чада мои, мы едем все вместе.
Вот как случилось, что тучный сэр Джон, старый рыцарь Даплинский, остался на высоком конце стола один, делая вид, что ест и пьет, беспокойно ерзая на месте и силясь казаться безмятежным, тогда как дух и тело его горели, как в лихорадке. А чуть пониже его слуги и служанки смеялись и шутили, звенели чашками, опустошали блюда и не подозревали о том, какая мрачная тень пала на душу человека, в одиночестве сидевшего за столом над ними.
Тем временем леди Мэри на белой кобылке, на которой чуть раньше вечером скакала ее сестра, Найджел на боевом коне и священник на муле трусили по каменистой извилистой дороге, ведущей в Лондон. По обе стороны простирались пустынные вересковые болота и трясины; с них то и дело доносились таинственные крики ночных птиц. В просветах быстро бегущих облаков виднелась луна. Мэри ехала молча, поглощенная мыслями о предстоящем, об опасности, которой подвергается сестра, об ожидающем их позоре.
Найджел тихо переговаривался со священником. От него он узнал, какой дурной славой пользовался человек, к которому они направлялись. Оказалось, его дом в Шэлфорде был вертепом распутства и порока. Всякая женщина, переступившая его порог, покидала его опозоренной. Как это ни странно и труднообъяснимо, хотя и довольно обычно, в этом человеке, несмотря на всю его испорченность и уродство, была какая-то притягательная сила, привлекавшая к нему женщин и подчинявшая их его воле. Вновь и вновь приносил он погибель то одному, то другому дому, но вновь и вновь его бойкий язык и хитрый ум спасали его от расплаты за мерзкие деяния. Семья его занимала в графстве высокое положение, а родня пользовалась покровительством короля, так что соседи боялись заходить слишком далеко в попытках пресечь его распутство. И вот такой человек, недобрый и ненасытный в желаниях, налетел, как зловещая ночная птица, и унес в свое отвратительное гнездо златокудрую красавицу из Косфорда. Найджел слушал, почти не перебивая, и только когда священник замолчал, он поднес к плотно сжатым губам охотничий нож и трижды поцеловал крест на его рукояти.
Они миновали болота, деревню Милфорд и городок Годлминг, за которым дорога повернула на юг через Писское болото и Шэлфордские луга. Там, на темном склоне холма, виднелись красные точки — окна дома, который был их конечной целью. К дому вела мрачная дубовая аллея, кроны деревьев смыкались над головой. По этой аллее маленькая кавалькада выехала на посеребренную луной луговину перед домом.
Из тени сводчатого входа выбежали двое неотесанных бородатых слуг с дубинами в руках и грубо спросили путников, кто они такие и что им надо. Леди Мэри соскользнула с седла и пошла было к двери, но ей преградили дорогу.
— Нельзя, нельзя, хозяину больше никого не нужно! — крикнул один из слуг и хрипло засмеялся. — Отойди, госпожа, кто ты ни на есть. Дом заперт, сегодня хозяину не нужны гости.
— Послушай, друг, — негромко, но отчетливо сказал Найджел, — ступай прочь. У нас дело к твоему хозяину.
— Дети мои! — воскликнул старый священник. — Не лучше ли будет, если я пойду к нему и посмотрю, не смягчит ли его ожесточенное сердце голос церкви? Боюсь, если вы пойдете, Найджел, не миновать кровопролития.
— Нет, отец, прошу вас, останьтесь пока здесь, — ответил Найджел, — а вы, Мэри, пожалуйста, побудьте с добрым священником: мы ведь не знаем, что там сейчас делается.
Он снова повернулся к дверям, и снова слуги преградили ему вход в дом.
— Назад! Назад, если вам дорога жизнь! Клянусь святым Павлом! Стыдно пачкать меч о таких, как вы, но делать нечего, сегодня никто не станет у меня на пути.
Услышав такую угрозу, да еще произнесенную мягким голосом, слуги отпрянули.
— Постой! — сказал один из них, вглядываясь в темноту. — Да ведь вы сквайр Найджел из Тилфорда?
— Да, меня зовут именно так.
— Назовись вы раньше, я ни за что не стал бы у вас на пути. Оставь дубину, Уот, это не чужие, это сквайр из Тилфорда.
— Ну ладно, — с облегчением пробурчал другой, опуская дубину. — Не обернись все так, на мою душу легла бы сегодня кровь. Только когда хозяин велел сторожить дверь, он ничего не говорил о соседях. Пойду спрошу его, что делать.
Но Найджел опередил слугу и уже распахнул наружную дверь. Как он ни был проворен, леди Мэри от него не отстала, и они вместе вошли в залу.
Это была большая комната, потолок и стены которой окутывали черные тени. Единственное светлое пятно было в центре: там, на столике, горели две плошки. Стол был накрыт для ужина, но сидели за ним только двое, слуг в зале не было. На ближнем конце сидела Эдит с распущенными золотистыми волосами, струившимися по красно-черному платью для верховой езды.
На дальнем конце сидел хозяин дома. Свет ламп ярко освещал резкие черты его лица и высоко, как у всех горбунов, приподнятые плечи. Растрепанные черные волосы увенчивали высокий выпуклый лоб — лоб мыслителя — с парой глубоко посаженных холодных серых глаз, жестко смотревших из-под густых косматых бровей. Нос у него был тонкий, изогнутый наподобие клюва хищной птицы. А ниже это гладковыбритое сильное, яркое лицо было обезображено чувственными губами сластолюбца и рыхлыми складками тяжелого подбородка. Держа в одной руке нож, а в другой наполовину обглоданную кость, он бросил яростный, как у дикого зверя, которого потревожили в берлоге, взгляд на вошедших.
Найджел остановился на полпути между дверью и столом. Взгляд его скрестился с взглядом Поля де ла Фосса. Но Мэри, с ее женской душой, бросилась вперед и обняла сестру.
Эдит вскочила с места и, отвернув лицо, попыталась оттолкнуть ее.
— Эдит, Эдит, именем Пресвятой Девы, умоляю тебя, пойдем отсюда, прочь от этого испорченного человека! Дорогая сестра, ведь ты не разобьешь сердце нашего отца, не дашь ему лечь в могилу обесчещенным. Поедем домой! Поедем домой, и все будет хорошо.
Но Эдит снова оттолкнула сестру; ее нежные щеки покраснели от гнева.
— Какое право ты имеешь вмешиваться в мои дела? Ты всего на два года старше, и нечего тебе преследовать меня по всей округе, словно я какая-то непутевая крепостная, а ты моя хозяйка. Ступай сама домой и предоставь мне делать то, что я хочу.
Но Мэри не выпускала сестру и все еще пыталась смягчить ее ожесточенное сердце.
— У нас нет матери, Эдит. Слава Богу, что она умерла и не видела тебя под этим кровом! Но обязанности ее перешли ко мне, я всю жизнь их строго исполняла, потому что я — старшая. Именем ее я прошу и заклинаю тебя: не доверяй этому человеку, идем домой, пока не поздно!
Эдит вырвалась наконец из объятий Мэри и теперь стояла поодаль, раскрасневшаяся, непокорная, сверля сестру злым, пылающим взглядом.
— Ты теперь поносишь его, а ведь еще недалеко время, когда моя мудрая, добродетельная сестрица была и ласкова и нежна с Полем де ла Фоссом, если ему случалось заглянуть в Косфорд. Да только он полюбил другую, вот и стал распутником, вот теперь и зазорно быть под его кровом! Моей милой добродетельной сестрице можно скакать ночью наедине с кавалером, а для других это непростительный грех. Посмотри сперва, нет ли у тебя в глазу бревна, милая сестрица, а уж потом вынимай соломинку из чужого.
Не на шутку встревоженная Мэри стояла в нерешительности: она не позволяла себе ни обидеться, ни рассердиться, но совершенно не знала, как лучше обойтись с упрямой и своенравной сестрой.
— Сейчас не время для упреков, милая сестра, — сказала она наконец и тронула Эдит за рукав. — В твоих словах есть доля правды. Да, было время, когда этот человек был другом нам обеим, и я тоже испытала на себе, как легко он может покорить женское сердце. Но теперь-то я знаю, что он такое, а ты еще нет. Я знаю, сколько зла он совершил, какое бесчестье принес людям, как он лжив и вероломен, как обманывает доверие, не выполняет своих обещаний. Я это знаю, а ты — нет. Неужели моя сестра попадется в ту же ловко расставленную ловушку? Она, что, уже захлопнулась за тобой, моя девочка? Неужели я опоздала? Ради Бога, Эдит, скажи, что это не так!
Эдит вырвала рукав из руки сестры и быстро, в два шага подошла к столу.
Поль де ла Фосс все еще сидел молча, не сводя глаз с Найджела. Эдит положила руку ему на плечо.
— Я люблю этого человека, он единственный, кого я когда-либо любила. Это мой муж, — произнесла она. При этих словах Мэри вскрикнула от радости.
— Это правда? Ну, тогда твоя честь не задета, а об остальном позаботится Господь Бог. Если вы муж и жена, обвенчанные перед алтарем, тогда ни мне, ни кому другому нечего становиться между вами. Скажи, что это правда, и я тотчас вернусь домой к отцу со счастливой вестью.
Эдит надула губы, как капризный ребенок.
— Мы муж и жена перед Богом. А скоро обвенчаемся и перед людьми. Мы ждем только следующего понедельника, когда брат Поля, священник из Сент-Олбенс, приедет и обвенчает нас. Гонец за ним уже послан, он скоро приедет, да, любимый мой?
— Да, приедет, — отозвался хозяин Шэлфорда, все так же не сводя глаз с молчащего Найджела.
— Это ложь. Он не приедет, — раздался голос от двери. Слова эти произнес старый священник, который, как оказалось, последовал за Мэри и Найджелом и теперь стоял у порога.
— Он не приедет, — повторил он, входя в залу. — Дочь моя, послушай того, кто так стар, что годится тебе в отцы. Эта ложь стара как мир. Так же он погубил многих и до тебя. У этого человека нет брата в Сент-Олбенсе. Я хорошо знаю всех его братьев, среди них нет священников. Еще до понедельника, когда будет уже поздно, ты сама узнаешь правду, как до тебя узнавали ее другие. Не доверяйся ему, едем с нами домой!
Поль де ла Фосс взглянул на нее, на лице его мелькнула улыбка, и он похлопал Эдит по плечу.
— Скажи им, Эдит, — произнес он. Она с презрением оглядела каждого: женщину, юношу и старика.
— Я могу сказать им только одно. Пусть они скорее уходят и больше нам не докучают. Разве я не свободная женщина? Разве я не сказала уже, что это единственный человек, которого я любила? Я давно люблю его. Он этого не знал и в отчаянье искал утешения у другой. Теперь он все знает, и никто больше не встанет между нами. Так что я остаюсь здесь, в Шэлфорде, и никогда не вернусь в Косфорд, разве что опираясь на руку своего мужа. Меня не обманешь всеми этими сказками, которые выдумали, чтобы очернить его. Разве так уж трудно ревнивой женщине и бродячему священнику навыдумывать всякой лжи? Нет, Мэри, уезжай отсюда, да забери с собой своего кавалера и священника, а я останусь здесь, верная своей любви. Я ничего не боюсь, честь его мне порукой.
— Клянусь, хорошо сказано, моя золотая птичка, — прервал хозяин Шэлфорда. — А теперь и я кое-что добавлю. В своих неучтивых речах вы, леди Мэри, не пожелали признать за мной ни одной добродетели; и все же вы должны согласиться, что у меня, по крайней мере, есть довольно терпения, — я ведь не натравил собак на ваших друзей, которые нарушили мой покой. Однако терпенью даже самых добродетельных приходит конец и простые человеческие слабости могут возобладать над духом; а посему прошу вас, удалитесь, да прихватите своего священника и доблестного странствующего рыцаря. А не то ваш уход, когда вам все-таки придется уйти, может оказаться более поспешным и куда менее достойным. Сядь, любовь моя, и давай займемся ужином. — Он жестом указал Эдит на стул и налил ей и себе по чаше вина.
С той минуты, как Найджел вошел в залу, он не произнес ни слова, но с лица его не сходило выражение решимости, а задумчивый взгляд ни на миг не отрывался от глумливого лица горбуна, хозяина Шэлфорда. Теперь он быстро, словно приняв окончательное решение, повернулся к Мэри и священнику.
— Всё, — сказал он тихо, — вы сделали все, что могли; теперь мой черед сыграть роль, как я сумею. Прошу вас, Мэри, и вас, добрый отец, подождите меня снаружи.
— Что вы, Найджел, если есть опасность…
— Мне удобнее, если вас тут не будет, Мэри. Пожалуйста, уйдите. Так мне проще говорить с этим человеком.
Она бросила на него вопросительный взгляд и пошла к двери.
Найджел тронул священника за рясу.
— Скажите, пожалуйста, отец, требник у вас с собой?
— Конечно, Найджел, он всегда у меня на груди.
— Достаньте его, отец.
— Зачем, сын мой?
— Откройте его на двух местах: там, где венчальная служба, и там, где заупокойная. А теперь идите за леди Мэри, отец, и ждите, когда я вас позову.
Он затворил за ними дверь и остался наедине с этой странноватой парой. Оба они повернулись и посмотрели на него: Эдит с вызовом, Поль де ла Фосс с кривой усмешкой на губах и лютой ненавистью в глазах.
— Как! — выдавил он. — Странствующий рыцарь еще здесь? Правда, мы наслышаны о его славолюбии. Чего он ждет? О каком новом подвиге мечтает?
Найджел подошел к столу.
— То, что мне приходится сделать, не подвиг и славы мне не прибавит. Но я приехал с определенным намерением и выполню его. Я слышал от вас самой, Эдит, что вы не оставите этого человека.
— Раз у вас есть уши, значит слышали.
— Вы, как вы сказали, свободная женщина и никто не может противостоять вашим желаниям. Но ведь я знаю вас, Эдит, с детских лет, еще когда мы вместе играли в вересках. И я намерен спасти вас от коварства этого человека и вашей собственной глупой слабости.
— Что вы хотите сделать?
— Там, за дверью, ждет священник. Сейчас он вас повенчает. Я не уйду отсюда, пока вы не станете замужней женщиной.
— А иначе? — презрительно бросил Поль де ла Фосс.
— А иначе вы сами никогда больше не выйдете из этой залы. Не надо, не зовите слуг и собак. Клянусь святым Павлом, я обещаю вам, что все это останется между нами троими. А если по вашему зову сюда войдет четвертый, сами вы не увидите, чем все это кончится. Что вы теперь скажете, Поль де ла Фосс? Женитесь вы на этой женщине или нет?
Эдит вскочила и, раскинув руки, бросилась между ними.
— Отойдите, Найджел. Он мал и слаб. Вы не причините ему вреда. Разве не вы говорили об этом сегодня вечером? Ради Бога, Найджел, не смотрите на него так. У вас в глазах смерть.
— Змея тоже мала и слаба, Эдит, и все же всякий порядочный человек раздавит ее каблуком. А теперь отойдите в сторону — я не отступлюсь.
— Поль! — закричала она, обратив взгляд на бледное, но глумливое лицо. — Подумай, Поль! Почему ты не хочешь сделать то, что он просит? Какая тебе разница — сейчас или в понедельник? Прошу тебя, милый Поль, ради меня, сделай, как он говорит. Твой брат прочитает службу еще раз, если ему так хочется. Давай обвенчаемся прямо сейчас и все будет хорошо.
Поль встал со стула и оттолкнул ее трогательно протянутые к нему руки.
— Ты, глупая женщина, — прорычал он, — и ты, спаситель хорошеньких девиц, молодец против калеки! Знайте вы оба: хоть я слаб телом, во мне живет дух моего рода. Как! Жениться только потому, что этого хочет хвастливый велеречивый деревенский сквайр? Ну нет, клянусь Господом Богом, я скорее умру, чем уступлю. Мы обвенчаемся в понедельник и ни днем раньше. Вот вам мой ответ.
— Такой ответ я и хотел услышать, — сказал Найджел. — Брак этот не будет счастливым, и лучше решить все иначе. Отойдите в сторону, Эдит.
Он осторожно отвел ее в сторону и обнажил меч. Увидев это, де ла Фосс громко вскрикнул.
— У меня нет меча! Не станете же вы меня убивать! — проговорил он, откидываясь назад на стуле. Лицо его осунулось, глаза горели. В свете ламп блеснула сталь. Эдит отшатнулась, закрыв лицо руками.
— Возьмите этот меч! — сказал Найджел и протянул рукоять горбуну. — Ну, — добавил он, вытаскивая охотничий кинжал, — убей меня, Поль де ла Фосс, если сможешь, а не то я убью тебя, да поможет мне Бог.
Почти без памяти, словно завороженная, смотрела Эдит на это странное единоборство. Минуту горбун стоял как бы в нерешительности, держа меч в бессильных пальцах. Потом вдруг сообразил, какое преимущество дает ему меч против кинжала, и чувственные губы его плотно сжались в жестокой улыбке. Опустив подбородок на грудь, медленно, шаг за шагом, стал он продвигаться вперед. Глаза его сверкали из-под густых, кустистых бровей, как пламя сквозь хворост. Найджел ожидал, спокойно и внимательно глядя на него. Левую руку он вытянул вперед, кинжал держал у бедра.
Все ближе и ближе, еле заметно скользя по полу, подходил к нему Поль де ла Фосс и вдруг, взревев от переполнявшей его ненависти, прыгнул вперед, чтобы поразить врага. Удар был хорошо рассчитан, но в схватке с гибким телом и упругими ногами острие кинжала победило клинок меча. С быстротой молнии Найджел рванулся к врагу и оказался вне досягаемости меча; левой рукой он изо всей силы прижал к себе его рукоять, так что рассек руку, и в следующее мгновение горбун был на полу, а кинжал — у его горла.
— Ты, пес! — прошептал Найджел. — Теперь ты в моей власти. Последний раз, да побыстрее, пока я не всадил тебе нож в глотку, говори: женишься или нет?
Ушиб от падения и острие кинжала у горла сломили дух Поля де ла Фосса. Он побледнел, на лбу выступила испарина, в глазах стоял страх.
— Убери кинжал, — закричал он, — я не хочу умирать, как теленок на бойне!
— Ты женишься?
— Да, да, женюсь. Девка она хорошая, могла попасться и хуже. Дай мне встать! Говорю тебе, я женюсь на ней, чего тебе еще надо?
Найджел стоял над ним, держа ногу на уродливом теле. Он подобрал меч и приставил его острие к груди горбуна.
— Это еще не все. Теперь ты подождешь вот так, как ты есть. Раз уж тебе выпало жить, — а моя совесть вопиет против этого, — по крайней мере, венчанье твое будет по твоим грехам. Лежи и не шевелись, как раздавленный червяк! — Тут он повысил голос и позвал: — Отец Атанасий, эй, отец Атанасий!
Старый священник прибежал на зов. Прибежала и леди Мэри. Удивительное зрелище представилось их глазам: в ярком круге света стояла едва помнящая себя девушка, а на полу распростерлось тело горбуна, над которым, уперев в него меч, возвышался Найджел.
— Вашу книгу, отец! — закричал Найджел. — Не знаю, хорошо ли мы поступаем или плохо, только их надо обвенчать, другого выхода нет.
Но тут девушка у стола вскрикнула и, обняв сестру, разрыдалась, уткнув нос ей в шею.
— О, Мэри, слава Богу, что ты приехала, слава Богу, что ты приехала вовремя. Что он сказал? Что он, де ла Фосс, не станет венчаться под угрозой меча. Душа моя потянулась к нему. А я-то разве не Баттесторн? Мне никто не может сказать, будто я вышла за человека, которого вели к алтарю с мечом у горла. Да, теперь я вижу, каков он на самом деле — подлая душа да лживый язык. Я по глазам его вижу, что он обманывал меня, что он бросил бы меня, как бросал других! Отвези меня домой, Мэри, сестра моя. Сегодня ты вытащила меня из преддверия ада.
И так хозяин Шэлфорда, бледный и злой, остался один со своим вином, а златокудрая красавица из Косфорда, сгорая от стыда, со слезами, струившимися по прекрасному лицу, покинула дом бесчестья и вступила в тишину и покой мирной звездной ночи.
Глава XIII Как сотоварищи ехали по древней дороге
Подходила пора безлунных ночей, и планы короля уже созрели. Все приготовления велись в глубокой тайне. Гарнизон Кале, состоявший из пяти сотен лучников и двух сотен копейщиков, уже мог бы, предупрежденный вовремя, отразить любое нападение. Однако в намерения короля входило не только отразить нападение, но и захватить врага в плен. Кроме того, ему хотелось найти подходящий случай, чтобы вступить в одну из тех рискованных схваток, которые принесли ему славу образцового главы странствующего рыцарства во всем христианском мире.
И все же в подготовке нужна была особая тщательность. Прибытие в Кале подкреплений, даже просто высадка любого известного воина, встревожило бы французов и показало бы, что заговор раскрыт. Поэтому избранные для дела воины и оруженосцы переправлялись в Кале по двое и по трое на каракках и грузовых судах, постоянно курсировавших от берега к берегу. В Кале прибывшие проходили ночью через водные ворота прямо в замок, где вплоть до самого начала действий можно было укрыться от любопытных глаз городского люда.
Найджел получил от Чандоса приказ встретиться с ним в Уинчелси, на постоялом дворе «Под цветком дрока». За три дня до встречи Найджел с Эйлвардом во всеоружии выехали из Тилфорда, готовые к бою. Найджел ехал верхом в нарядном охотничьем костюме, а его драгоценные доспехи и небольшой багаж покоились на спине еще одной лошади, которую вел в поводу Эйлвард. Сам Эйлвард восседал на славной гнедой кобыле, тяжелой и неповоротливой, но очень сильной, — она легко несла его могучее тело. На нем была кольчуга и стальной шлем, сбоку висел огромный прямой меч, из-за плеч виднелся длинный желтый лук; снаряжение дополнял колчан со стрелами на малиновой перевязи. Словом, это был воин, которым вправе был бы гордиться любой рыцарь. Когда они медленно поднимались по пологому склону Круксберийского холма, весь Тилфорд высыпал из домов, чтобы проводить их.
На вершине подъема Найджел придержал коня и посмотрел назад, на деревушку, лежавшую внизу. Возле дверей старого темного господского дома стояла одинокая согбенная фигура и, опираясь на палку, глядела ему вслед. Найджел перевел глаза на высокую крутую крышу, бревенчатые стены, длинный хвост голубого дыма, поднимавшегося от их единственного очага, и кучку старых слуг, столпившихся у ворот, — повара Джона, менестреля Уэдеркота и старого солдата-инвалида Рыжего Суайера. За рекой, среди деревьев, виднелась мрачная серая башня Уэверлийского монастыря, и пока он смотрел на нее, железный колокол, голос которого всегда казался ему грозным хриплым вражеским боевым кличем, зазвонил, созывая монахов на молитву. Найджел снял бархатную шляпу и тоже стал молиться: он молился о том, чтобы дому его был ниспослан мир, чтобы на войне его ждала удача, чтобы за рубежом он стяжал честь и славу. Потом, помахав на прощанье рукой своим домочадцам, он развернул лошадь и медленно поехал на восток. И тут же Эйлвард оторвался от лучников и смеющихся девушек, которые толпой окружали его, держась кто за уздечку, кто за стремя, и двинулся вслед за Найджелом, посылая назад воздушные поцелуи. Вот так два благородных и простодушных товарища пустились в путь навстречу удаче.
В тех краях бывает две поры: желтая, когда все пылает от распустившегося дрока, и малиновая, когда склоны покрываются тлеющим огнем цветущего вереска. Тогда была малиновая пора. Следуя по узкой дороге, настолько узкой, что папоротники и вереск со всех сторон касались его ног, Найджел время от времени оборачивался назад, и ему казалось, что, куда бы не занесла его судьба, никогда он не увидит ничего прекраснее родных мест. Далеко на запад, горя под лучами раннего солнца, катились волны малинового верескового моря, пока не сливались с темной тенью Вулмерского леса и светлой чистой зеленью Батсерских меловых холмов. Найджелу никогда не случалось раньше бывать дальше этих мест, и потому так дороги ему были эти леса, холмы и верески. С болью в сердце покидал он все это; но, хотя дом его был на западе, впереди, на востоке, лежал огромный мир, полный неожиданностей, великолепная сцена, на которой каждый из предков сыграл в свое время достойную роль и оставил потомкам доблестное имя.
Как томительно долго ждал он этого дня! Но вот он наступил, и ничто не омрачало его. Леди Эрментруда была на попечении короля. Будущее старых слуг обеспечено. Распря с уэверлийскими монахами закончена миром. Под ним благородный конь, у него отменное снаряжение, позади следует отважный товарищ. А самое главное — его ждет благородное дело, и поведет его вперед храбрейший рыцарь Англии. Такие мысли одна за другой пробегали у него в голове, и он то смеялся, то пел от радости, а Поммерс, чувствуя настроение хозяина, играл под ним и делал курбеты. Вскоре, обернувшись назад, Найджел увидел, что у лучника опущены глаза, а на лбу собрались морщины, и понял, что того что-то беспокоит. Он придержал лошадь, чтобы Эйлвард поравнялся с ним.
— Как дела, Эйлвард? — спросил он. — Право же, сегодня мы с тобой самые счастливые люди во всей Англии: впереди нас ждут успех и слава. Клянусь святым Павлом, прежде чем мы снова увидим эти вересковые холмы, мы либо сумеем достойно снискать славу, либо, добиваясь ее, не пожалеем жизни. От таких мыслей должно быть весело, а ты чем-то удручен. В чем дело?
Эйлвард передернул широкими плечами, на его грубоватом лице мелькнула кривая усмешка.
— Я размяк, как промокшая тетива, — ответил он. — Человек всегда печалится, когда покидает женщину, которую любит.
— Истинная правда! — воскликнул Найджел, и перед его взором встали темные глаза Мэри Баттесторн; он услышал ее низкий, нежный, горячий голос, какой слышал в ту ночь, когда они вернули домой из Шэлфорда ее легкомысленную сестру. Этот голос пробуждал в душе человека все самое возвышенное и благородное. — И все же, лучник, женщина любит в мужчине не его грубое тело, а, скорее, душу, честь, славу, подвиги, которые делают его жизнь прекрасной. И теперь, едучи на войну, ты завоевываешь не только славу, но и любовь.
— Может оно и так, — отозвался Эйлвард, — да только сердце у меня разрывается, когда я вижу, как плачет красотка; я и сам готов заплакать с ней вместе. Когда Мэри… нет, кажется, Долли нет, нет, это была Марта, рыжая девчонка с мельницы, — так вот когда она прижалась к моей перевязи, а я оторвался от нее, у меня словно жилы в сердце лопнули.
— Ты называешь то одно имя, то другое. А как же ее все-таки зовут — ту девушку, что ты любишь?
Эйлвард сдвинул на затылок шлем и озадаченно почесал щетинистую голову.
— Ее зовут, — сказал он наконец, — Мэри-Долли-Марта-Сьюзен-Джейн-Сесили-Эгнес-Джоанна-Кейт.
Когда Эйлвард произнес это удивительное имя, Найджел рассмеялся.
— Похоже, я не имел права брать тебя на войну. Клянусь святым Павлом, из-за тебя овдовело полприхода… Да, я видел перед отъездом твоего престарелого отца. Подумай, как приятно ему будет узнать, что во Франции ты совершил лихой поступок и тем прославил себя в глазах всех.
— Боюсь, моя слава не поможет ему уплатить недоимки по аренде уэверлийскому ризничему, — ответил Эйлвард. — Как бы я там ни прославился, но, если он не раздобудет к следующему Крещенью десять золотых, ему придется идти просить милостыню. А вот если бы я завоевал какой выкуп или принял участие в штурме богатого города — вот тогда старик, и верно, гордился бы мною. Когда на прощанье мы расцеловались, отец сказал: «Твой меч должен помочь моей лопате, Сэмкин». Вот был бы счастливый день — для него, да и для всех, — если б я приехал домой с полным вьюком золотых! И дай мне Бог запустить руку в чей-нибудь карман, прежде чем я снова увижу Круксберийский холм!
Найджел покачал головой; он отлично видел всю безнадежность своих попыток перекинуть мост через разделявшую их пропасть. Они проделали уже большой путь по верховой тропе через верески, когда впереди завиднелся холм св. Катарины, на вершине которого едва проступали очертания древней святыни. В этом месте они пересекли Южную Лондонскую дорогу. Возле перекрестка их поджидали два всадника, они приветственно помахали руками, и Найджел увидел высокую, стройную темноволосую женщину на белой кобыле и грузного краснолицего старика, под тяжестью которого, казалось, прогнулась спина крепкого серого жеребца.
— Эй, Найджел! — крикнул он. — Мэри сказала, что ты отправляешься сегодня утром, вот мы и ждем здесь уже больше часа, чтобы повидаться с тобой. Ну, давай выпьем по кубку славного английского эля — сколько раз еще, наливая кислое французское вино, ты с грустью вспомнишь его белую пену под самым носом и славное тихое шипенье.
Найджелу пришлось отклонить предложение, потому что он собрался заехать в Гилдфорд, стоявший примерно на милю от его пути; зато он с радостью поддержал мысль Мэри — подняться вместе к древней гробнице и вознести там последнюю молитву. Старый рыцарь и Эйлвард остались с лошадьми внизу, а Найджел и Мэри оказались одни под торжественными сводами старой готической церкви, перед темной нишей, в которой слабо мерцала золотая гробница святой. Молча опустились они на колени и помолились; потом снова вышли из тьмы и мрака в светлое солнечное летнее утро. Прежде чем спускаться с холма, они остановились и посмотрели во все стороны на прекрасные луга и голубую Уэй, вьющуюся по долине.
— О чем вы молились, Найджел? — спросила Мэри.
— Я молился о том, чтобы Господь Бог и его святые поддержали мой дух и позволили мне вернуться из Франции таким, чтобы я мог смело прийти к вам и просить вас стать моей женой.
— Подумайте хорошенько о том, что вы говорите, Найджел, — ответила девушка. — Только мое сердце знает, что вы для меня значите. Но я скорее соглашусь никогда больше вас не увидеть, чем хотя бы на дюйм приуменьшить высоту славы и доблестных подвигов, которой вы можете достичь.
— Что вы, милая, прекрасная дама! Как вы можете их приуменьшить, если сама мысль о вас будет укреплять мой дух и руку?
— Подумайте еще раз, славный рыцарь, и пусть слова, только что сказанные вами, вас нисколько не связывают. Пусть они будут легким ветром, который коснулся наших лиц и улетел дальше. Ваша душа жаждет славы. Так было всегда. Есть ли в ней место и для любви? Возможно ли, чтобы в одной душе любовь и слава могли стоять одинаково высоко? Разве вы не помните, что Галахад и другие великие рыцари старины совсем отказались от женщин, чтобы всю душу, всю силу отдать доблестным подвигам? Ведь может случиться, что я стану тяжким бременем, которое вынудит ваше сердце отказаться от какого-нибудь славного дела только потому, что вы не захотите причинить мне боль и страданья? Подумайте хорошенько, прежде чем отвечать, мой славный повелитель: сердце мое будет разбито, если когда-нибудь любовь ко мне помешает вам осуществить ваши мечты и высокие замыслы.
Найджел посмотрел на нее, и глаза его сверкнули. Свет души, озаривший ее смуглое лицо, совершенно преобразил его: теперь оно сияло редкой, возвышенной красотой, до которой было далеко пустой красоте ее сестры. Он склонился перед величием этой женщины и прижался губами к ее руке.
— Вы моя путеводная звезда, ведущая меня к горным высям, — сказал он. — Наши души устремлены к подвигам и почестям, так как же мы помешаем друг другу, если у нас одна цель?
Она гордо покачала головой.
— Это вам сейчас так кажется, славный повелитель, но пройдут годы, и все может стать другим. Как вы докажете, что я буду вам помощью, а не помехой?
— Я докажу это своими подвигами, прекрасная дама, — ответил Найджел. — Здесь, над гробом святой Катарины, в день святой Маргариты клянусь, что, прежде чем увижу вас снова, я совершу в вашу честь три подвига, как свидетельство моей бесконечной любви, и эти три подвига докажут вам, что, хоть я нежно люблю вас, мысли о вас не станут между мною и доблестными деяниями.
Лицо ее светилось от любви и гордости.
— Я тоже дам вам клятву, — сказала она, — клятву во имя святой Катарины, у гроба которой стою. Я клянусь, что буду ждать вас, пока вы не совершите три подвига и мы не встретимся снова; а также, что если — чего милосердный Христос наш не допустит — вы падете на поле брани, я постригусь в монахини в Шэлфордском монастыре и никогда больше не взгляну в лицо мужчине. Дайте мне вашу руку, Найджел!
Она сняла с руки небольшой филигранный браслет и надела его на загорелое запястье Найджела, громко прочитав выгравированный на нем по-старофранцузски девиз: «Fais се que dois, adviegne que pourra — c'est commande au chevalier»[37]. Потом на одно короткое мгновение они обнялись и, обменявшись поцелуями, любящий мужчина и нежная женщина поклялись друг другу в верности. Но внизу их уже нетерпеливо звал старый рыцарь, и они поспешно спустились по извивающейся тропе к лошадям, которые ожидали под песчаным обрывом.
До самой Шелфордской переправы сэр Джон ехал рядом с Найджелом и засыпал его многочисленными последними наставлениями относительно охотничьего ремесла. Он очень беспокоился, как бы Найджел не спутал нерожалую самку с молодым оленем-самцом или того и другого с ланью. Наконец, когда впереди показались заросшие камышом берега реки Уэй, старый рыцарь и дочь его остановили лошадей. Прежде чем въехать под своды темного Чэнтрийского леса, Найджел обернулся и увидел, что они все еще глядят ему вслед и машут руками. Потом дорога повернула, и они скрылись из виду: но долго еще, когда сквозь просветы между деревьями показывались шэлфордские луга, Найджелу было видно что старик медленно едет на сером жеребце по направлению к холму св. Катарины, а девушка на белой кобыле все еще стоит там, где они расстались подавшись всем телом вперед и силясь проникнуть взглядом сквозь черноту леса, скрывавшую ее возлюбленного. Это было лишь мимолетное видение, тотчас скрытое листвой деревьев; но в последовавшие за этим суровые и тяжкие дни на далекой чужбине именно эта картина — зеленый луг, камыши, голубая лента медленно текущей реки и устремленная вперед стройная фигурка девушки на белой лошади — сохранились в памяти как самый чистый, самый дорогой образ Англии, которую он оставил позади.
Но если друзья Найджела знали, что в то утро он покидает родину, враги его тоже не дремали. Не успели два товарища выехать из Чэнтрийского леса и начать подъем по тропе, ведущей к старой часовне мученика, как вдруг раздалось шипение наподобие змеиного и длинная белая стрела пролетела под животом Поммерса и воткнулась, дрожа, в травянистую дернину. Вторая просвистела у Найджела над ухом в то мгновение, когда он стал поворачивать коня; но тут Эйлвард изо всей силы ударил Поммерса по крупу, и огромный боевой конь промчался галопом несколько сот ярдов, прежде чем седок смог его остановить. Эйлвард, низко пригнувшись к шее своей лошади, понесся вслед, а вокруг него свистели стрелы.
— Клянусь святым Павлом, — воскликнул белый от гнева Найджел, натягивая повода, — я не позволю им гнать меня по всей округе, как испуганную лань! Лучник, как ты смел ударить мою лошадь, когда я хотел повернуть ее и броситься на них?
— Я поступил правильно, — отозвался Эйлвард, — иначе, клянусь своими десятью пальцами, наше путешествие закончилось бы в тот же день, что и началось. Там, в кустах, их было не меньше дюжины. Посмотрите, как свет играет на их стальных шлемах, — вон там, в папоротниках, под большим буком. Прошу вас, мой господин, не надо ехать вперед. Что мы можем сделать, если мы на открытой дороге, а они спокойно залегли в подлеске? Не хотите думать о себе, так подумайте о коне: прежде чем он доскачет до леса, ему в шкуру на добрый аршин всадят стрелу.
Найджел бушевал в бессильном гневе.
— Выходит, меня можно подстрелить, как попугая на ярмарке, если какому-то грабителю или разбойнику захочется поупражняться в стрельбе по мишени? Клянусь святым Павлом, Эйлвард, я надену доспехи и разберусь с этим делом. Пожалуйста, помоги мне развязать поклажу.
— Ну нет, мой добрый господин, не стану я помогать вам в вашей погибели. Не может всадник на открытом месте сражаться против лучников, засевших в лесу: это все равно что играть фальшивыми костями. К тому же это вовсе не грабители. Те не посмели бы пускать стрелы в одной миле от гилдфордского шерифа.
— Пожалуй, ты прав, Эйлвард, — сказал Найджел, — это, верно, люди Поля де ла Фосса из Шэлфорда — им не за что любить меня. А вот и он сам!
Они сидели на лошадях спиной к пологому склону, ведущему к часовне на вершине холма. Перед ними вставала темная, неровная стена леса; в тени деревьев поблескивала сталь — там затаился враг. Но вот прозвучал горн, и в одно мгновенье дюжина лучников в коричневых куртках бросилась из-под деревьев вперед, рассыпавшись широкой дугой и пытаясь быстро окружить путников. Среди них на крупном сером коне восседал маленький горбун; он размахивал руками и надсаживался, как на охоте, когда гончие преследуют барсука, то и дело поворачивая голову из стороны в сторону в такт своим возгласам и взмахами рук торопя лучников вверх по склону.
— Надо заманить их на склон, мой добрый господин! — воскликнул Эйлвард: у него от радости загорелись глаза. — Еще пять сотен ярдов, и мы с ними на равных. Не медлите, не подпускайте их ближе полета стрелы, пока не придет наш черед.
Найджел весь дрожал от нетерпения, держа руку на рукояти меча и глядя на приближающихся стрелков. Но тут он вспомнил слова Чандоса о том, что холодная голова воину нужнее, чем горячее сердце. Эйлвард говорит дело. Найджел повернул Поммерса, и под насмешки и улюлюканье, доносившиеся сзади, два товарища начали рысью подниматься на безлюдную возвышенность. Лучники перешли на бег, а их предводитель завопил еще пронзительнее, замахал руками еще сильнее. Эйлвард то и дело оглядывался.
— Еще чуть дальше! Еще немного, — бормотал он. — Ветер дует в их сторону, а эти дураки забыли, что у меня стрелы летят на пятьдесят шагов дальше, чем у них. Теперь, добрый господин, прошу вас, подержите минутку лошадей: мое оружие сегодня полезней вашего. Они еще поплачут, прежде чем снова укроются в лесу.
Он соскочил с лошади, одновременно двинул рукой и коленом и набросил тетиву на верхнюю зарубку мощного боевого лука. Потом мгновенно положил стрелу в ложе и насадил наконечник; из-за стрелы его зоркие голубые глаза под нахмуренными бровями горели недобрым огнем. Широко расставив крепкие ноги, прочно упершись в землю, он всем телом налег на лук. Когда он натянул белую хорошо навощенную тетиву, левая рука его неподвижно застыла, как деревянная, а правая образовала мощную дугу из напряженных мускулов: он являл собой столь устрашающее зрелище, что цепь наступавших стрелков на миг дрогнула и замерла на месте. Двое-трое пустили стрелы, но те тяжело полетели против лобового ветра и скользнули по земле, не долетев до цели на несколько десятков шагов. Только один, невысокий кривоногий крепыш, наделенный, видимо, огромной физической силой, быстро выбежал вперед и так натянул тетиву, что его стрела впилась в землю у самых ног Эйлварда.
— Это Черный Уилл из Линчмира, — сказал лучник. — Мы с ним не раз состязались, и я-то знаю, что никому другому на всех Суррейских болотах не сделать такого выстрела. Надеюсь, Уилл, ты исповедался и причастился: я ведь давно тебя знаю, и не хотел бы брать грех на душу.
С этими словами он поднял лук, и тетива издала низкий, глубокий, мелодичный звук. Эйлвард, опершись на лук, внимательно следил за быстрым полетом стрелы, которая плавно неслась по ветру.
— Попал, попал! Нет, клянусь мечом, перелет! Ветер сильней, чем я думал. Ну нет, друг, теперь я знаю, где ты, и второй стрелы ты не пустишь, не надейся!
Черный Уилл положил новую стрелу и уже поднимал лук, когда вторая стрела, посланная Эйлвардом, пронзила ему правое плечо. Вскрикнув от боли и злости, он бросил оружие и затанцевал на месте, в ярости грозя сопернику кулаком и изрыгая поток брани.
— Я мог бы его прикончить, — заметил Эйлвард, — но не стану: хорошие лучники встречаются не так уж часто. А теперь, мой дорогой господин, надо спешить — они хотят обойти нас с обеих сторон, и если им удастся зайти нам в тыл, наш путь тут и закончится. Только сперва я хочу подстрелить их предводителя, того, что на лошади.
— Не надо, Эйлвард, оставь его в покое, — сказал Найджел, — он хоть и негодяй, но все же человек благородной крови, и не к лицу ему принять смерть от твоего оружия.
— Воля ваша, — ответил, помрачнев, Эйлвард. — Мне говорили, что в последних войнах гордость не помешала многим французским принцам да баронам получить смертельные раны от стрел английских крестьян, а английская знать стояла рядом и с удовольствием смотрела.
Найджел грустно покачал головой.
— Все это правда, лучник, и для меня не новость — ведь сам славный рыцарь Ричард Львиное Сердце принял смерть от такого низменного оружия и Гарольд Саксонский тоже. Но тут дело личное, и я запрещаю тебе стрелять в горбуна. Да и сам я тоже не могу вступить с ним в бой, потому что, хотя дух его несет зло, сам он слаб телом. Так что раз ничто здесь не сулит нам ни денег, ни славы и подвиг тут не совершить, продолжим наш путь.
Во время разговора Эйлвард снял с лука тетиву, сел на коня, и оба путника быстро миновали приземистую часовенку мученика и перевалили через гребень холма. На вершине они оглянулись назад. Раненый лучник лежал на земле, вокруг него толпились его товарищи. Несколько человек бесцельно бежали вверх по склону, но были уже далеко позади. Их предводитель неподвижно сидел на лошади и, когда увидел, что враги обернулись, поднял руку и разразился проклятьями. Мгновение спустя гребень холма скрыл его из виду. Так Найджел простился с родным домом, с любовью и ненавистью.
Теперь путники двигались по древней дороге, идущей по югу Англии, но не сворачивающей к Лондону, потому что в то время, когда прокладывали дорогу, на его месте стояла всего-навсего бедная деревушка. Старая дорога шла от Уинчестера, столицы саксов, на Кентербери, священный город Кента, а оттуда — к узкому проливу, к тому месту, откуда в ясный день можно разглядеть противоположный берег. По этой дороге с наидревнейших времен, в какие только может заглянуть история, везли с запада металлы; по ней же в обратную сторону, шли вереницы вьючных лошадей с товарами, которые Галлия присылала в обмен. Дорога существовала еще в ту пору, когда не было ни христиан, ни даже римлян. С севера и с юга вдоль нее тянутся леса и болота, так что свободный путь можно было найти только на меловых холмах, покрытых сухой травой. Ее и сейчас еще называют Дорогой паломников; но паломники были лишь последними постоянными путниками на этой дороге, ибо она существовала с незапамятных времен, до того, как гибель Томаса Бекета[38] дала новый повод толпам людей идти по ней к месту, где он был убит.
С вершины Уэстонвудского холма путникам была видна длинная белая лента, которая вилась по зеленым меловым холмам и просматривалась даже в лощинах благодаря окаймляющим ее рядам старых тисов. Ни Найджелу, ни Эйлварду не случалось еще забираться так далеко от родных мест, и теперь они ехали с легким сердцем, жадно вглядываясь в меняющийся пейзаж и людей на дороге. Слева от них простиралась всхолмленная равнина, верески и рощи, среди которых то тут, то там открывались свободные участки — поля вокруг редких ферм свободных землепашцев. Вздымаясь и опадая, переходя одно в другое, перед ними прошли Хэкхерстская возвышенность, Данлийский холм, Рэнморские выгоны. А справа, после того, как они миновали деревню Шиер и старую церковь Гомшела, глазам их открылась плоская южная часть страны, простертая, как большая карта, у их ног. Там тянулся огромный Уэлдский лес — целое море дубов, — ничем не прерываемый до самых Южных холмов, поднимавшихся оливково-зеленой грядой на фоне синего неба. Под этим зеленым пологом деревьев жили незнакомые люди и творили злые дела. Лес служил убежищем для диких племен, которые недалеко ушли от своих предков-язычников, плясавших вокруг алтаря Тора, и счастлив был мирный путник, что мог спокойно ехать по высокой открытой меловой дороге, а не по опасным тропам, где путь ему на каждом шагу преграждали бы раскисшая глина, чащобы и полудикие люди.
Но, кроме всхолмленной местности слева и огромной лесистой равнины справа, на самой дороге было много такого, что не могло не привлечь внимания путников. По ней прошло очень много народа. Насколько видел глаз, вся узкая белая лента была густо усыпана черными точками, то отдельными, то по нескольку вместе, иногда движущихся толпой — там, где пилигримы держались ради большей безопасности друг возле друга или благородный человек, желая щегольнуть собственным величием, ехал в сопровождении многочисленной свиты. В те времена большие дороги всегда были переполнены народом — в стране было очень много бродячего люда. Перед глазами Найджела и Эйлварда тек непрерывный поток самых разных людей, схожих только тем, что все до единого с ног до головы были покрыты серой меловой пылью.
Там были монахи, переходившие из одного монастыря в другой, бенедиктинцы с подогнутыми полами черных плащей, чтобы были видны их белые рясы, картезианцы в белом и пестрые цистерцианцы. Были на дороге и братья трех нищенствующих орденов — доминиканцы в черном, кармелиты в белом и францисканцы в сером. Монастырские монахи и странствующая братия терпеть не могли друг друга — они были соперниками, в равной мере притязавшими на пожертвования верующих; на дороге они обходили друг друга, как кошка обходит собаку, обмениваясь злыми, подозрительными взглядами.
Наряду с духовными лицами на дороге встречались и торговцы — купцы в пропыленных плащах из тонкого черного сукна и фламандских шляпах, едущие во главе каравана вьючных лошадей. Они везли на восток олово из Корнуолла, шерсть из западных графств или железо из Сассекса; если же путь их шел на запад, в их вьюках был генуэзский бархат, разные товары из Венеции, французские вина или доспехи из Италии и Испании. Повсюду полно было паломников, по большей части из бедняков; они брели, еле волоча ноги, низко опустив голову, с толстыми палками в руках и котомками за плечами. Время от времени на пышно убранной кобыле или с еще большей роскошью — в паланкине, влекомом лошадьми, встречалась какая-нибудь дама с Запада, с комфортом поспешающая поклониться гробнице св. Фомы.
Кроме того, по дороге двигался непрерывный поток разношерстных бродяг: тут были менестрели, бредущие с одной ярмарки на другую назойливой, грязной толпой; фокусники и акробаты, знахари и зубодеры, студенты и нищие, свободные работники, переходящие с места на место в поисках лучшего заработка, и беглые крепостные, которые рады были любому заработку. Такая вот толпа двигалась, окутанная облаком белой пыли, по древней дороге из Уинчестера к проливу.
Однако из всех, кто брел по дороге, Найджела больше всего интересовали солдаты. Несколько раз они проезжали мимо небольших групп лучников и копейщиков, ветеранов из Франции, которые уже отслужили свое и теперь расходились по домам в южных графствах. Все они были немного пьяны, потому что попутчики щедро угощали их элем на многочисленных постоялых дворах и в пивных, расположенных вдоль дороги; они весело горланили песни и громко приветствовали проходивших мимо. Вид Эйлварда неизменно вызывал поток грубых шуток, а он оборачивался в седле и долго, пока те могли его слышать, во весь голос излагал, что он о них думает.
Один раз, далеко за полдень, они нагнали отряд в сотню лучников, которые шли строем под водительством двух рыцарей, ехавших впереди. Они шли из Гилдфордского замка в Райгитский, где стояли гарнизоном. Найджел немного проехал рядом с рыцарями и намекнул, что если кто-нибудь из них ищет славное дело, или стремится к небольшому подвигу, или жаждет разрешения от клятвы, то устроить это нетрудно. Но оба рыцаря были люди немолодые и серьезные, занятые своим делом и не склонные к дорожным приключениям, так что Найджелу пришлось пришпорить лошадь и ускакать вперед.
Слева они уже оставили за собой Боксхил и Хедлийскую вересковую пустошь, а впереди из-за деревьев показались башни Райгита, когда они нагнали дородного краснощекого весельчака с раздвоенной бородой, который трусил на хорошей лошади и приветливо кивал головой или бросал доброе слово каждому встречному. Они вместе доехали до Блечингли, и, разговаривая с бородачом, Найджел от души смеялся; однако за всеми его шутливыми словами чувствовались искренность и глубокий ум. Он разъезжал спокойно и беззаботно, потому что, по его словам, у него было довольно денег, чтобы уберечь себя от нужды и обеспечить всем необходимым в дороге. Он говорил на всех трех диалектах, принятых в то время в Англии: на северном, центральном и южном, так что легко общался с людьми любого графства и охотно выслушивал их горести и радости. Повсюду, и в городе, и в деревне, идут волнения, рассказывал он, потому что бедный люд задыхается под властью как церкви, так и государства, и скоро в Англии начнутся такие события, каких еще никто не видывал.
Особенно он нападал на церковь. Она, говорил этот человек, владеет несметными богатствами, в ее руках почти треть всех земель страны, но она с ненасытной жадностью стремится захватывать все новые и новые, хотя утверждает, что бедна и смиренна. Монастырской и странствующей братии тоже досталось от него — за мошенничество, лень и хитрость. Он объяснил, почему их богатства и богатства надменных лордов всегда зиждутся на тяжком труде бедного, покорного Петра Пахаря[39], который от зари до зари, в жару, и в холод, и в дождь, из последних сил гнет спину на полях; предмет насмешек всех и каждого, он тем не менее держит на своих усталых плечах благополучие всего мира. Свои мысли человек этот облек в форму красивой притчи и теперь, во время езды, повторял некоторые стихи, произнося их нараспев и отбивая такт указательным пальцем. Найджел и Эйлвард ехали у него по бокам, повернув головы в его сторону, и внимательно слушали, только чувства у них при этом были разные: Найджела потрясли такие нападки на высшую власть, а Эйлвард только посмеивался, когда тот умно и тонко излагал хорошо ему известные мысли и чувства людей его сословия. Наконец незнакомец остановил коня возле «Пяти ангелов» в местечке Гэттон.
— Это хорошая гостиница, и эль здесь тоже хорош, я давно это знаю, — сказал он. — Когда я кончил «Видение о Петре Пахаре», которое я вам рассказывал, там были такие последние строки:
Вот и дошел рассказ мой до конца. Спаси Бог тех, кто мне принес винца.Прошу вас, зайдемте сюда и выпьем вместе.
— Нет, благодарю, — ответил Найджел, — мне нужно спешить — дорога у нас дальняя. Назовите свое имя, добрый друг, — вы очень повеселили нас своими словами.
— Берегитесь! — ответил незнакомец. — Вам и всему вашему сословию будет не очень весело, когда эти слова претворятся в дела и Петр Пахарь устанет гнуть спину на полях, возьмет лук и стрелы и наведет в стране порядок.
— Клянусь святым Павлом, я думаю, мы сумеем образумить этого Питера, а заодно и тех, кто вбил ему в голову такие дурные мысли! — вскричал Найджел. — Поэтому, еще раз прошу, назовите свое имя, чтобы я узнал его, если мне доведется услышать, что вас повесили.
Незнакомец добродушно рассмеялся.
— Можете называть меня Томасом Безземельным. Скажи я вам свое настоящее имя, я был бы Томасом Безмозглым, потому что много славных разбойников в черных рясах, и в стальном облачении с удовольствием помогли бы мне вознестись ввысь тем самым способом, о котором вы говорите. Так что прощайте, сквайр, и ты, лучник; желаю вам вернуться с войны с целыми костями.
Ночь путники провели под кровом Годстонского монастыря и рано утром на следующий день снова были в пути на Дороге паломников. В Титси им сказали, что в Уэстерхемском лесу разгуливает шайка беглых крепостных и накануне там убили трех проезжих; Найджел воспрянул духом в ожидании встречи с ними, но разбойники не показывались, хотя Найджел и Эйлвард свернули со своего пути и поехали по краю леса. Но несколько дальше они наткнулись на следы разбойничих дел: тропа шла вдоль склона холма, по дну мелового карьера, и там, на месте свежих разработок, лежал мертвец. По неестественно раскинутым рукам и ногам и изувеченному телу можно было догадаться, что его сбросили с края карьера, а вывернутые пустые карманы ясно говорили о причине убийства. Путники проехали мимо, не утруждая себя внимательным осмотром тела: трупы на большой королевской дороге были отнюдь не такой уж редкостью, зато если шериф или пристав заметят вас возле тела, вы и оглянуться не успеете, как окажетесь запутанными в сетях закона.
Возле Севеноукса они свернули с древней Кентерберийской дороги на юг, к побережью, оставили позади меловые холмы и ступили на глинистые земли Уэлда. Теперь они ехали по скверному, разбитому мулами проселку, шедшему через густые леса; изредка попадались открытые, расчищенные от леса участки, на которых стояли небольшие кентские деревушки; суровые густоволосые крестьяне в холщовых рубахах и широких штанах смотрели на путников дерзко и жадно. Один раз они увидели вдалеке справа башни Пензхерста, в другой — услышали низкий звон колоколов Бейхемского аббатства, а в остальном на протяжении целого дня им попадались только диковатые крестьяне, да убогие лачуги, да бесконечные стада свиней, жирующих на опавших желудях. Те толпы, что наводняли древнюю дорогу, остались позади; теперь им лишь изредка попадался прохожий — купец или гонец, направлявшийся в Бэттл Эбби, Певенси Касл или спешащий к южным городам.
Следующую ночь они провели в грязной гостинице, кишевшей крысами и блохами, в миле к югу от деревушки Мейфилд. Эйлвард изо всех сил чесался и бранился. Найджел лежал молча, не двигаясь. Для человека, усвоившего старые рыцарские догмы, мелкие житейские неприятности просто не существовали, замечать их было ниже его достоинства. Для иного рыцаря не могло быть ни жары, ни холода, ни голода или жажды. Броня, закрывавшая его душу, была так прочна, что защищала не только от больших бед, но и от малых; поэтому искусанный блохами Найджел мрачно лежал в неподвижности на своей постели, а Эйлвард корчился на своей.
До конца пути оставалось совсем немного, но на следующее утро, едва они снова тронулись в путь через лес, их ожидало приключение, вселившее в сердце Найджела самые безумные надежды.
По узкой тропинке, вьющейся среди дубов, ехал темноволосый человек с болезненным лицом; он громко трубил в серебряный рожок, так что они услышали его зов задолго до того, как увидели его самого. Он медленно приближался, останавливаясь через каждые пятьдесят шагов, чтобы огласить лес очередным зовом своей трубы. Путники поехали ему навстречу.
— Прошу вас, скажите, кто вы и почему трубите в рожок.
Человек отрицательно покачал головой, и Найджел повторил вопрос по-французски, на общем языке рыцарства, на котором в те времена говорил каждый благородный человек в Западной Европе.
Прежде чем ответить, человек поднес рожок к губам и издал еще один долгий звук.
— Меня зовут Гастон де Кастриер, — сказал он, — я скромный оруженосец благороднейшего доблестного рыцаря Рауля де Тюбьера, де Пестеля, де Гримсара, де Мерсака, де Леой, де Бастанака, который именует себя также лордом Понсом. По его приказанию я всегда еду на милю впереди него, чтобы подготовить всех к встрече с ним, и он желает, чтобы я трубил в трубу, но не из тщеславия, а дабы показать величие духа и всякий, кому случилось бы пожелать вступить с ним в бой, знал бы, что он едет.
С радостным возгласом Найджел соскочил с лошади и принялся расстегивать камзол.
— Скорее, Эйлвард, скорее, — торопил он лучника. — Едет странствующий рыцарь, он уже близко. Мог ли я ждать более достойного случая завоевать почести? Развяжи поклажу, пока я сниму одежду. Добрый сэр, прошу вас, предупредите вашего благородного, доблестного господина, что бедный английский сквайр умоляет его не пройти мимо и сразиться с ним по дороге.
Но лорд Понс уже показался среди деревьев. Это был огромный мужчина на невероятно крупной лошади, так что вместе они как бы загораживали собой всю темную арку, образованную кронами деревьев над тропой. Он был в полных рыцарских доспехах цвета меди, оставлявших открытым только лицо, да и то не все: видны были лишь пара надменных глаз и длинная черная борода, падавшая из-под приподнятого забрала на нагрудник. К гребню шлема была привязана маленькая коричневая перчатка, покачивавшаяся из стороны в сторону. В руках он держал длинное копье, на конце которого развевался красный значок с черной кабаньей головой; такой же знак был у него на щите. Он медленно ехал через лес, тяжелый, грозный, под глухой стук копыт боевого коня и бряцанье металла, а далеко впереди непрестанно раздавался звук серебряного рожка, призывавшего всех встречных признать его превосходство и величие и добровольно очистить путь, прежде чем он будет очищен силой.
Никогда, в самых безумных мечтах, не грезился Найджелу такой идеальный образ, и пока он сражался со своей одеждой, то и дело поглядывая на чудесного путника, он бормотал благодарственные молитвы доброму св. Павлу, который даровал своему недостойному слуге такую милость и привел его навстречу этому великолепному и учтивому рыцарю.
Но, увы, как часто чаша, уже поднесенная к губам, в последний момент выпадает из рук! Счастливому случаю суждено было вдруг превратиться в нежданную нелепую беду — такую нелепую и непоправимую, что всю остальную жизнь Найджел, вспоминая о ней, заливался краской стыда. Он стал быстро раздеваться и с лихорадочной поспешностью уже скинул башмаки, шляпу, чулки, камзол и плащ, так что на нем не осталось ничего, кроме розовой короткой рубашки и пары шелковых подштанников. В то же время Эйлвард проворно распаковывал тюк, чтобы достать и подать хозяину одну за другой все части доспехов, как вдруг оруженосец протрубил последний вызов прямо в ухо вьючной лошади. В одно мгновенье она развернулась и с драгоценным грузом на спине галопом помчалась вниз по дороге. Эйлвард вскочил на свою кобылу, дал шпоры и бросился за беглянкой. Так Найджел в один миг потерял все свое достоинство, лишился двух лошадей, слуги и снаряжения и оказался один-одинешенек, без всякого оружия, едва прикрытый рубашкой и подштанниками на дороге, по которой медленно приближалась могучая фигура лорда Понса.
Странствующий рыцарь, погруженный в воспоминания о девице, оставленной в Сент-Джине, той самой, чья перчатка болталась у него на шлеме, не заметил, что только что произошло. Поэтому глазам его представилась лишь благородная соловая лошадь, пощипывавшая возле дороги траву, и невысокий молодой человек, по всей видимости сумасшедший, потому что он стоял посреди леса с лихорадочно горящими глазами, почти совсем раздетый, в одном исподнем, а вокруг валялась его одежда. Такой человек не мог привлечь внимания лорда Понса, и тот невозмутимо продолжал свой путь; его надменный взгляд был устремлен вдаль, а мысли обращены к девице из Сент-Джина. Он смутно помнил, что маленький безумец в исподнем долго бежал без башмаков рядом с его лошадью, о чем-то прося, умоляя, что-то доказывая.
— Только один час, благородный сэр, самое большее — один час, и бедный английский сквайр на всю жизнь будет вашим должником. Благоволите придержать вашу лошадь, пока мне не вернут снаряжение. Неужели вы не снизойдете до того, чтобы скрестить со мной оружие? Умоляю вас, добрый сэр, уделите мне каплю вашего времени, обменяйтесь со мной парой ударов, прежде чем поедете дальше.
Лорд Понс нетерпеливо отмахнулся рукой в латной рукавице — так отгоняют назойливую муху, — а когда, в конце концов, Найджел стал слишком шумно выражать свои просьбы, рыцарь пришпорил своего огромного коня и, гремя, как кимвал, тяжелым галопом умчался прочь. Так он продолжал свой величавый путь, пока два дня спустя, не был убит лордом Реджиналдом Кобемом в поле недалеко от Уэйбриджа.
Когда после долгой погони Эйлвард поймал и привел обратно вьючную лошадь, он увидел, что хозяин в отчаянье от перенесенного унижения и обиды сидит на стволе поваленного дерева, закрыв лицо руками. Ни тот, ни другой не вымолвили ни слова — о чем тут было говорить? — и так, в угрюмом молчании, поехали дальше.
Однако вскоре им повстречалось нечто такое, что отвлекло Найджела от горьких мыслей: прямо перед ним поднялись башни какого-то очень большого здания, вокруг которого раскинулась невзрачная деревенька; от проходившего мимо крестьянина они узнали, что это — аббатство и поселок, воздвигнутые на месте битвы. На низком мостике они придержали лошадей и заглянули вниз, в ту самую долину смерти, со дна которой и теперь еще, казалось, поднимаются кровавые испарения. Там, внизу, рядом со зловещим озером, среди редкого кустарника, покрывавшего лысый склон вытянутого холма, сражались некогда в долгой беспощадной битве два благородных соперника, и наградой победителю были просторы Англии. Вот здесь, на склонах невысокого холма, то разгораясь, то затухая, час за часом шел жестокий бой, пока не полегло, так и не отступив ни на шаг, все войско саксов; король и его придворные, крестьянин и воин остались каждый на своем месте — там, где бились. И теперь, когда позади были невыносимые тяготы, тяжкий труд, лютая тирания, буйные мятежи, безжалостное угнетение, промысел Божий свершился: на мосту стояли бок о бок норманн Найджел и сакс Эйлвард; в сердцах у них была дружба, в душе — уважение друг к другу; стояли они под одним знаменем и шли на общее дело — сражаться за свою родную старую Англию.
Их долгий путь подходил к концу. Перед ними раскинулось синее море, усыпанное пятнышками белых парусов. Едва выйдя из лесистой равнины, дорога взлетала на меловой холм, к его упругим травам. Справа, вдали, возвышалась мрачная крепость Певенси, приземистая и неприступная, похожая на груду огромных необтесанных камней; за парапетами ее поблескивали стальные шлемы, а над ней гордо реяло королевское знамя Англии. Под ногами у путников лежала ровная, поросшая камышом болотистая равнина, на которой подымался один-единственный холм, увенчанный башнями, а невдалеке от него щетинились, вставая прямо из зелени, мачты судов. Найджел из-под руки посмотрел на холм и пустил Поммерса рысью. На холме стоял город Уинчелси, и там, среди разбросанных по склону холмов, его должен был дождаться доблестный Чандос.
Глава XIV Как Найджел преследовал Рыжего Хорька
Найджел и Эйлвард проехали переправу и по извилистой дороге поднялись на склон холма. Там их остановила стража — отряд копейщиков. Найджел назвал себя, и тогда через хмурую арку Пайпуэлсских ворот их пропустили в город. Посреди восточной улицы прибывших ожидал сам Чандос. Он стоял, широко расставив ноги и заложив руки за спину, солнце играло на его лимонно-желтой бороде, он щурил единственный глаз, и все его утонченное длинноносое лицо приветственно улыбалось. Позади него толпились мальчишки, с упоением пяля глаза на знаменитого воина.
— Добро пожаловать, Найджел, и вы, славный лучник, — сказал он, — я проходил по городской стене и по масти лошади понял, что это вы едете по Юдиморской дороге. Как доехали, молодой странствующий рыцарь? Не случилось ли вам по дороге из Тилфорда оборонять мосты, или спасать девиц, или, может быть, убивать преследователей?
— Нет, благородный лорд, мне не довелось совершить ничего подобного. Только один раз меня поманила надежда…
При этом воспоминании Найджел покраснел.
— Я намерен дать вам нечто большее, чем надежда, Найджел. Я хочу отправить вас туда, где вы сможете по горло погрузиться в опасность и искупаться в славе, где риск будет ложиться с вами спать вечером и подниматься поутру, где им будет напоен самый воздух. Вы готовы к этому, юный сэр?
— Я могу только молиться, да окажусь я достоин такой чести.
Чандос одобрительно улыбнулся и положил тонкую смуглую руку на плечо юноши.
— Прекрасно, — сказал он, — страшнее всего та собака, что не лает. Болтуны вечно прячутся в задних рядах. Теперь, Найджел, останьтесь здесь со мной, пройдемся по валу, а вы, лучник, отведите лошадей в гостиницу «Под цветком дрока», она на главной улице, и велите моим слугам до ночи отправить их на борт «Фомы». Мы отплываем через два часа после отбоя. Пойдемте на верх угловой башни, Найджел, оттуда я покажу вам кое-что, чего вы никогда не видели.
То, на что указывал Чандос, было всего лишь неясным белым облачком, поднимавшимся над синими водами далеко за мысом Данджнес, но при виде его у молодого сквайра зарделись щеки и кровь горячей волной пробежала по жилам. Это была Франция, страна доблестных рыцарских подвигов, та сцена, на которой ему предстояло завоевать себе славное имя и почести. Жадным, горящим взором смотрел он на далекие берега, и сердце его ликовало: близился час, когда он ступит на эту священную землю. Потом его взгляд пересек огромное водное пространство, испещренное точками рыбачьих лодок, и остановился на раскинувшихся у них под ногами двух гаванях, они были битком набиты судами разных размеров и форм, от баркасов и шняк, сновавших вдоль берегов, до громадных каракк и галер, которые, смотря по обстоятельствам, служили то военными, то торговыми судами. Как раз в это время одно из них выходило в открытое море. Это был огромный галеас; на его борту играли трубы, гремели литавры; над алыми парусами реяло знамя св. Георгия, а палубы от кормы до носа сверкали сталью. Зрелище было великолепное, и Найджел даже вскрикнул от восторга.
— Да, мальчик, — отозвался Чандос, — это «Райская Троица», то самое судно, на котором я сражался при Слёйсе. В тот день вся палуба была залита кровью. А теперь посмотри, пожалуйста, сюда и скажи, не кажется ли тебе, что город какой-то необычный?
Найджел взглянул вниз, на прекрасные прямые улицы, на Раунделскую башню, на изящную церковь св. Фомы и другие красивые строения Уинчелси.
— А ведь тут все совсем новое — и церковь, и замок, и дома, все новое.
— Совершенно верно, милый сын. Мой дед еще помнил время, когда здесь на склонах жили одни кролики. Город тогда лежал ниже, у самой воды, но однажды ночью налетел шторм, и волны до основания смыли все постройки. Посмотри: вон там Рай, он тоже сгрудился на холме. Когда море разыграется, оба города походят на стада жалких овец. А вот внизу, под синими водами, ниже Кэмбер Сэндз, лежит настоящий Уинчелси, с башнями, собором, стенами и прочим, такой, каким его видел еще мой дед, когда на трон только-только взошел первый Эдуард[40].
Больше часа прогуливался Чандос по крепостной стене со своим юным оруженосцем и наставлял юношу в его обязанностях и тайнах военного искусства, а Найджел на лету схватывал и старался запомнить каждое слово глубоко чтимого учителя. Не раз потом в трудную или опасную минуту воспоминания об этой неспешной прогулке не давали ему пасть духом; он снова видел, как идет по валу, с одной стороны под ногами плещется море, с другой лежит прекрасный город, и мудрый воин, благородный рыцарь, передает ему свой опыт и знания, как умелец-мастер молодому подмастерью.
— Но, может быть, милый сын мой, — заметил Чандос, — ты таков же, как многие другие юноши, что идут на войну и думают, будто знают о военном искусстве столько, что наставлять их — пустая трата времени?
— Что вы, добрый сэр, я ведь ничего не знаю, кроме одного — я готов исполнить свой долг и либо добиться успеха и почета, либо сложить голову со славой на поле брани.
— Скромность твоя делает тебе честь, — ответил Чандос. — Тот, кто хорошо разбирается в военном деле, лучше понимает, как много ему еще нужно знать. Ведение войны, так же как охота или рыбная ловля, требует уменья или знанья — благодаря им ты либо выигрываешь сраженье, либо проигрываешь: ведь ни одному народу нельзя отказать в храбрости, а там, где смелый идет на смелого, сегодня побеждает тот, кто искуснее и умнее. Даже самая лучшая гончая может не взять след, если ее пустить не вовремя, и лучший сокол проловится, если его напустить неудачно; точно так же и войско потерпит поражение, если им неумело командовать. Во всем христианском мире не найти лучших рыцарей и оруженосцев, чем во Франции, и все же мы взяли над ними верх, потому что в шотландских войнах, да и в других тоже, многое узнали об искусстве, про которое я говорю.
— А в чем оно заключается, досточтимый сэр? — спросил Найджел. — Я тоже хотел бы стать умным воином и научиться воевать не только мечом, но и головой.
Чандос кивнул и улыбнулся.
— Гончую и сокола ты натаскиваешь в лесу и в поле, — ответил он, — а военным мастерством овладевают в лагере и в бою. Только там великий полководец может постичь все тонкости ведения боя. Для начала он должен быть хладнокровен и быстро соображать; пока он не поставил перед собой определенную цель, он может быть мягок как воск, зато когда задача определена, ему надлежит быть твердым как сталь. Он всегда наготове, но в то же время осторожен: однако при этом он должен уметь, когда нужно, быстро все взвесить, отбросить всякую осторожность, перейти к стремительным действиям и, жертвуя малым, достичь большого успеха. Ему нужно также хорошо оценивать местность: с одного взгляда понимать, как текут реки и расположены холмы, видеть лесистые укрытия и опасные зеленые топи и трясины.
Бедный Найджел, который надеялся, что на дорогу славы его выведут копье и Поммерс, был ошеломлен этим перечнем.
— Увы! — воскликнул он. — Как же мне набраться всего этого? Ведь я едва умею читать и писать, хотя добрый отец Мэтью каждый день ломал по орешине о мои плечи.
— Ты все узнаешь там же, где и другие до тебя. У тебя есть самое главное — пылкое сердце, которое может зажечь другие, более холодные. Но ты должен знать и все то, чему научили нас старые войны. Мы, например, уже знаем, что одна конница не может победить хорошую пехоту. Мы поняли это в сраженьях при Куртре[41], при Стерлинге[42] и, на моих глазах, при Креси[43], когда французская конница потерпела поражение от наших лучников.
Найджел в недоумении уставился на него.
— Добрый сэр, от ваших слов мне стало тяжело на сердце. Так вы говорите, что наша конница уступает лучникам, алебардщикам и другим пешим солдатам?
— Нет, Найджел, мы также прекрасно знаем, что без поддержки даже самые лучшие пехотинцы не устоят против латников.
— Кто же тогда победит? — спросил Найджел.
— Тот, кто расставит лучников между копейщиками, так, чтобы они прикрывали друг друга. Порознь они слабы, вместе — сильны. Лучник ослабляет ряды врага, а копейщик прорывает их, когда они ослабели, — так было при Фолкерке и Даплине[44], — вот в чем секрет нашей силы. А теперь о битве при Фолкерке. Послушай, что я тебе расскажу.
И он начал чертить хлыстом по пыли план сраженья с шотландцами, а Найджел, наморщив лоб, изо всех сил напрягал свой неискушенный ум, чтобы извлечь пользу из урока. Однако вдруг разговор их прервало появление незнакомца, который влетел на вал, словно гонимый ветром. Это был коренастый, малорослый человек с красным лицом. Он тяжело дышал, а седые волосы его и черный плащ развевались в воздухе. Одет он был как добропорядочный горожанин: в черную, отороченную соболем куртку и черную же бархатную шляпу с белым пером. При виде Чандоса он радостно вскрикнул и ускорил шаг, так что когда наконец приблизился, то не смог вымолвить ни слова и только стоял, тяжело дыша и размахивая руками.
— Успокойтесь, мой добрый Уинтерсол, успокойтесь, пожалуйста, — приветливо сказал Чандос.
— Бумаги! — только и произнес коротышка, еле переводя дыханье. — Ох, милорд Чандос, бумаги!
— А что такое с бумагами, достопочтенный?
— Клянусь нашим добрым покровителем, святым Леонардом, я не виноват! Я запер их у себя в денежном ящике. А теперь замок сломан и бумаги пропали.
Грозная тень пробежала по тонкому лицу Чандоса.
— Как же так, господин мэр? Возьмите себя в руки и перестаньте лепетать, как трехлетний ребенок. Вы говорите, кто-то взял бумаги?
— Истинно так, добрый сэр! Я трижды был мэром, пятнадцать лет член парламента и муниципальный советник, и никогда по моей вине не случалось ничего плохого. Только в прошлом месяце во вторник из Уиндзора пришел приказ подготовить к пятнице обед — тысячу палтусов, четыре тысячи штук камбалы, две тысячи скумбрии, пять сотен крабов, тысячу омаров, пять тысяч мерланов…
— Я не сомневаюсь, господин мэр, что вы превосходный рыботорговец; но теперь дело идет о бумагах, которые я отдал вам на хранение. Где они?
— Их украли, добрый сэр, их нет!
— И кто же осмелился их взять?
— Увы, не знаю. Я вышел из комнаты всего на минуту, вы не успели бы даже прочитать «Богородица, Дево», а когда вернулся, ящик лежал на столе, открытый и пустой.
— Вы кого-нибудь подозреваете?
— У меня есть один слуга, я нанял его всего несколько дней назад. Сейчас его нигде не могут найти. Я послал за ним всадников на Юдиморскую дорогу и дорогу в Рай. Клянусь святым Леонардом, его трудно не заметить: всякий узнает его издалека по волосам.
— Он рыжий? — нетерпеливо спросил Чандос. — Рыжий, как лисица? Маленького роста, весь в веснушках, и движенья у него такие быстрые?
— Он самый.
Чандос в досаде сжал кулаки и стал быстро спускаться со стены.
— Снова этот Пьер Рыжий Хорек! — воскликнул он. — Я знал его еще во Франции. Он нанес нам ущерба побольше, чем целый отряд копейщиков. Он говорит по-английски и по-французски и до того дерзок и хитер, что от него ничего не утаишь. Это самый опасный человек во всей Франции, потому что, хотя он благородной крови, имеет герб, он занимается шпионством — его влечет к тому, что опаснее и приносит больше славы.
— Достойный лорд, — воскликнул мэр, поспешая за широко шагавшим воином, — я знаю, что вы предупредили меня, чтобы я берег эти бумаги, но ведь они не очень важные? В них ведь говорилось только, что отправить за вами в Кале?
— А разве этого мало? — раздраженно возразил Чандос. — Неужели вы не понимаете, глупый господин Уинтерсол: французы подозревают, что мы что-то готовим, и, как делали уже не раз, послали Рыжего Хорька вызнать, куда мы направляемся? Теперь он знает, что припасы готовы к отправке в Кале, и французские войска вблизи Кале будут предупреждены, а замысел короля провалится.
— Но ведь тогда ему придется пересечь пролив. Мы еще можем его перехватить. Форы у него не больше часа.
— Вполне возможно, лодка ждет его где-нибудь в Рае или Хайте; но скорее всего у него все подготовлено, чтобы отплыть прямо отсюда. А-а, смотрите-ка вон туда! Ручаюсь, Рыжий Хорек уже на борту!
Чандос остановился перед своей гостиницей и теперь указывал рукой вниз, на внешнюю гавань, лежавшую в двух милях от города, за зеленой низменностью. Гавань соединялась длинным извилистым каналом с внутренним рейдом у подошвы холма, на котором стоял город. Между двумя выступами коротких изогнутых пирсов плыла, устремляясь в море, маленькая шхуна. Навстречу ей с юга дул сильный ветер, и она то зарывалась носом в воду, то взлетала на волне.
— Это не наше судно, таких в Уинчелси нет. Оно длиннее и шире.
— Лошадей! Скорее лошадей! — закричал Чандос. — Едем, Найджел, придется нам самим этим заняться.
Возле ворот гостиницы «Под цветком дрока» собралась суетливая толпа слуг, лучников, копейщиков; люди пели, горланили, грубовато, по-приятельски толкали друг друга. При виде высокой фигуры Чандоса они утихли, и через несколько минут лошади были готовы и оседланы. Головокружительный спуск по крутому склону холма и двухмильная скачка по заросшей осокой низменности привели их к внешней гавани. В ней стояло около дюжины судов, готовых отправиться в Бордо или Ла-Рошель, а на причале толпились матросы, грузчики и горожане, лежали груды винных бочек и тюков шерсти.
— Кто здесь смотритель? — спросил Чандос, соскакивая с лошади.
— Бэддинг! Где Кок Бэддинг? Бэддинг — смотритель, — зашумела толпа.
Мгновение спустя через толпу протиснулся приземистый смуглый человек, широкогрудый, с бычьей шеей. На нем была куртка из грубой красно-коричневой шерстяной ткани, а черная курчавая голова повязана красной тряпкой. Рукава, закатанные по самые плечи, обнажали загорелые до черноты руки, перепачканные жиром и дегтем и напоминавшие две толстые кривые ветви дуба. У него было суровое загорелое лицо, хмурое и злое; от подбородка к виску тянулся длинный белый рубец еще не зажившей раны.
— Послушайте, господа, неужто вы не можете подождать своей очереди? — проревел он злым низким голосом. — Вы что, не видите, что мы верпуем «Розу Гиени» на глубоководье до пролива? Не время теперь нам мешать. Все ваши товары погрузят когда надо, я вам обещаю. Так что поезжайте обратно в город, повеселитесь там, как сумеете, и не мешайте мне и моим помощникам делать дело.
— Да это же благородный Чандос! — закричал кто-то из толпы. — Добрый сэр Джон.
Сердитый смотритель тут же изменил тон и заулыбался.
— Что вам угодно, сэр Джон? Прошу вас извинить меня, если я был груб, да ведь нам тут так надоедают всякие молодые глупцы из благородных, совсем работать не дают, да еще поносят нас, что мы не можем сделать отлив приливом или повернуть ветер с юга на север. Пожалуйста, скажите, чем могу служить?
— Что это за судно? — спросил Чандос и указал на парус, нырявший на волнах уже довольно далеко.
Кок Бэддинг прикрыл сильно загорелой рукой глаза.
— Оно только-только вышло, — сказал он. — Это «Дева», маленький гасконский шлюп, идет домой с грузом бочарной доски.
— Скажите-ка, не появился кто-нибудь у него на борту в самую последнюю минуту?
— Не знаю, я никого не видел.
— А я знаю! — крикнул какой-то моряк из толпы. — Я стоял у края причала, и меня чуть не столкнул в воду такой рыжий коротышка, он еще дышал, словно бежал всю дорогу из города. Не успел я вмазать ему, как он прыгнул на палубу; они сразу отдали концы и пошли на юг.
Чандос в нескольких словах объяснил Бэддингу, что произошло. Обступившая их толпа тоже жадно слушала.
— Да, да, добрый сэр Джон прав! — крикнул какой-то моряк из толпы. — Посмотрите, куда он направляется. Хоть у него на борту бочарная доска, придет он не в Гасконь, а в Пикардию.
— Значит, надо его перехватить! — прокричал Кок Бэддинг. — Ну, ребята, вот моя собственная «Мэри Роуз», она готова к погоне. Кто отправится в путь, который закончится боем?
Все бросились к лодке; но крепыш смотритель сам отобрал нужных людей.
— Отойди, Джерри, у тебя храброе сердце, да ты слишком толст для такого дела. Ты, Льюк, и ты, Томас, и оба Дида и Уильям из Сэндгейта, вы пойдете на лодке. А теперь нам надо несколько воинов. Вы едете, юный сэр?
— Прошу вас, милорд, позвольте мне поехать с ними! — воскликнул Найджел.
— Да, Найджел, отправляйтесь, а все ваши вещи я ночью переправлю в Кале.
— Там я вас разыщу и — да поможет мне святой Павел! — приведу туда и Рыжего Хорька.
— Все на борт! Время уходит, — нетерпеливо крикнул Бэддинг, а его матросы уже тянули линь и поднимали паруса. — А ты куда? Кто ты такой?
Это был Эйлвард. Он последовал из крепости за Найджелом и теперь пытался протолкаться на борт.
— Я туда же, куда мой господин, — ответил Эйлвард, — так что отойди, моряк, а то получишь!
— Клянусь святым Леонардом, лучник, — сказал Кок Бэддинг, — будь у меня побольше времени, я, проучил бы тебя. А ну отойди, дай место другим.
— Это ты отойди и дай место мне! — крикнул Эйлвард, и, обхватив Бэддинга за талию, швырнул в воду.
Толпа сердито закричала — Бэддинг был героем всех Пяти портов[45] и до сих пор не сталкивался ни с кем, кто был бы равен ему в храбрости. До наших дней дошла эпитафия, где сказано, что он «не знал покоя, пока не навоевался досыта». Поэтому, когда он, как утка, доплыл до каната и на руках поднялся на причал, все в ужасе замерли, не смея даже подумать о том, что ждет дерзкого чужака. Но Бэддинг только рассмеялся, стряхивая с волос соленую воду и утирая глаза.
— Ну, лучник, ты честно завоевал себе место на борту. Такой человек нам нужен в этом деле. А где Черный Саймон из Нориджа?
Вперед выступил высокий темноволосый человек с длинным худым суровым лицом.
— Я тут, Кок, — сказал он, — благодарю, что оставил для меня место.
— Ты тоже иди, Хью Бэддлзмир, и ты, Хол Мастерс, и ты, Дайкон из Рая. Так, довольно. Теперь в путь. И да поможет нам Бог догнать их дотемна.
Уже были подняты передние паруса и нижние на грот-мачте, и сотня рук оттолкнула шхуну от причала. Паруса подхватили ветер, и, кренясь и подрагивая, словно от нетерпенья, как спущенная со сворки гончая, судно пролетело вход в гавань и вышло в канал. «Мэри Роуз» из Уинчелси, маленькая шхуна отважного Кока Бэддинга, полукупца-полупирата, была всем хорошо известна; она не раз доставляла в порт богатые грузы с середины канала, оплаченные больше кровью, чем деньгами. Она была невелика, однако ее скорость и неистовый характер владельца наводили ужас на суда у французского побережья, и не один здоровенный немец или фламандец, проходя узкий Канал, в страхе всматривался в далекие берега Кента, готовясь к тому, что из-за серых скал вот-вот вылетит зловещий алый парус с золотым Христофором[46]. Теперь она шла в открытое море, под всеми парусами, ветер дул с левого борта, и когда она зарывалась в волны, ее высокий острый нос покрывался пеной.
Кок Бэддинг с высоко поднятой головой весело прохаживался по палубе, поглядывая то на раздутые паруса, то на крошечный накренившийся белый треугольник впереди, отчетливо видимый на фоне ярко-голубого неба. Позади оставалась болотистая Кембрийская низменность с отвесными склонами Рая и Уинчелси и скалами, вздымавшимися за ними. Слева по борту поднимались высокие белые стены Фолкстона и Дувра; а далеко впереди, у самого края небосвода, тускло мерцали серые утесы французского берега: к ним и стремились изо всех сил беглецы.
Острым, твердым взглядом шкипер прикинул расстояние до лодки, потом взглянул на заходящее солнце.
— У нас есть еще часа четыре дневного света, но если мы не нагоним ее дотемна, она уйдет: ночи-то теперь черны, как волчья пасть, стоит ей изменить курс — и все пропало.
— А вы не сумеете определить, в какой порт она идет? Тогда мы могли бы ее опередить.
— Отличная мысль, юный сэр! — воскликнул Бэддинг. — Если сообщение предназначено французам возле Кале, тогда ближайший к Сент-Омеру порт — это Амблетез. Но мой кораблик делает три шага, пока этот трус два, так что если ветер не переменится, у нас будет довольно времени. Ну что, лучник? Поубавилось у тебя прыти? А боек ты был, когда рвался на борт и скинул меня в воду.
Эйлвард сидел на перевернутом ялике, лежавшем на палубе. Он жалобно стонал, сжав руками позеленевшие щеки.
— Я с удовольствием бросил бы тебя в море еще разок, — ответил он, — если б тогда мог убраться с этой твоей проклятой шхуны. А если хочешь рассчитаться со мной, я только спасибо тебе скажу, коли отправишь меня за борт: я ведь просто лишний груз на судне. Вот уж никогда не думал, что какой-нибудь час на соленой воде сделает Сэмкина Эйлварда таким слабосильным. Будь проклят тот день, когда ноги мои ушли с добрых красных вересков Круксбери.
Кок Бэддинг так и покатился со смеху.
— Полно, лучник, не принимай это близко к сердцу. Людям и получше нас с тобой не раз приходилось обмирать на этой палубе. Как-то раз сам Принц с десятью отборными рыцарями переправлялся через Канал на моей шхуне, и, поверь мне, ничего более жалкого, чем эти одиннадцать лиц, я не видывал. А через месяц при Креси они показали, что они отнюдь не слабосильные; и с тобой, ручаюсь, будет то же самое, приди только время. Опусти-ка свою волосатую башку пониже через борт, и все будет хорошо. Смотрите, мы нагоняем ее, с каждым порывом ветра нагоняем!
И верно, даже неопытному глазу Найджела было ясно, что «Мэри Роуз» быстро приближается к чужому тяжелому, тупоносому кораблю с широкой кормой, который неуклюже и медленно продвигался вперед. Быстрая, стремительная маленькая шхуна из Уинчелси неслась, со свистом разрезая волны, словно быстрокрылый сокол на ветру, преследующий тяжело машущую крыльями неповоротливую утку. Еще полчаса назад «Дева» казалась всего лишь далеким парусом. Теперь же англичане видели весь черный корпус, а вскоре разглядели и форму ее парусов, и обводы фальшборта. На палубе была добрая дюжина человек, сверкавшее тут и там оружие говорило, что они готовятся дать отпор. Стал собирать свои силы и Кок Бэддинг.
Команда его состояла из семи человек: это были суровые отважные моряки, не раз стоявшие за его плечами в разных схватках. Они были вооружены короткими мечами; у самого же Кока Бэддинга было особое оружие — двадцатифутовый кузнечный молот, память о котором — а называли его «Кувалда Бэддинга» — до сих пор жива в Пяти портах. Кроме моряков были еще пылкий Найджел, унылый Эйлвард, Черный Саймон, испытанный боец на мечах, и три лучника: Бэддлзмир, Мастерс и Дайкон из Рая — все ветераны французских войн. Силы на обоих судах были примерно равны; но когда Бэддинг взглянул на суровые отважные лица людей, ждущих его команды, он почувствовал, что опасаться за исход стычки нечего.
Однако, посмотрев вокруг, он увидел, что его планам грозит нечто более страшное, чем сопротивление врага: ветер, который стал к тому времени слабее и прерывистое, вдруг совсем затих и паруса у них над головой беспомощно повисли. Вдоль горизонта лежала полоса спокойной воды, волны, только что вздымавшиеся вокруг шхуны, улеглись, и теперь во все стороны простиралась гладкая, выпуклая, маслянистая поверхность, на которой покачивались оба суденышка. Огромный утлегарь «Мэри Роуз» раскачивался и скрипел при каждом наклоне, а высокий узкий нос то устремлялся вверх, к небу, то зарывался в воду, вырывая из груди несчастного Эйлварда все новые стоны. Напрасно Кок Бэддинг натягивал паруса, пытаясь поймать малейшее дуновение ветра, на мгновение покрывавшего рябью гладкую поверхность моря. Француз был не менее искусным мореходом, и у него утлегарь тоже описывал круги при каждом легком порыве дувшего с кормы ветерка.
Наконец замерли и эти судорожные вздохи, и над остекленевшей хлябью нависло безоблачное небо. За мысом Данджнесс солнце уже склонилось к самому горизонту, и на западе весь небосвод пылал в закатных лучах, сливших море и небо в один сияющий огненный поток. Казалось, огромный вал расплавленного золота накатывается на пролив из лежащего позади океана. И посреди этой красоты и великолепия мирной природы покачивались две крошечные черные точки, одна с белыми, другая с алыми парусами; они были ничтожно малы на сияющих необъятных водных просторах, но несли в себе все тревоги и страсти бесконечной жизни.
Опытный глаз бывалого моряка увидел, что ожидать ветра до наступления ночи совершенно бесполезно. Он посмотрел на суденышко французов, лежавшее от них не более чем в четверти мили, и погрозил волосатым кулаком в сторону голов, пяливших на него глаза из-за кормы шлюпа. Кто-то из вражеской команды в насмешку помахал белым платком, и Кок Бэддинг с досады выругался.
— Клянусь святым Леонардом, — прорычал он, — я еще поглажу ей борт! Спускайте ялик, ребята! Двое — на весла! Крепи линь к мачте, Уилл! В лодку, Хью, а я за тобой. Если хорошенько потрудимся, мы еще нагоним их до ночи.
Маленький ялик быстро спустили за борт, и свободный конец каната привязали к последней банке. Кок Бэддинг и его товарищи гребли изо всех сил, словно пытались сломать весла, и шхуна медленно пошла вперед по волнам. Но тут же ялик побольше был спущен с борта француза, и за весла уселось не меньше четырех человек. За то время, что «Мэри Роуз» продвигалась на ярд, француз проходил два. Кок Бэддинг снова пришел в неистовство и снова потряс кулаком.
Потом вскарабкался на борт, лицо его покрылось потом и потемнело от ярости.
— Проклятье! Они берут верх! Я ничего не могу поделать. Пропали бумаги сэра Джона. Вот-вот стемнеет, а что делать — не знаю.
Пока происходили эти события, Найджел стоял, опершись о фальшборт, внимательно следя за тем, что делали моряки, и по очереди молясь то св. Павлу, то св. Георгию, то св. Фоме, чтобы те послали им ветер в корму и они смогли бы догнать врага. Он ничего не говорил, только сердце гулко стучало у него в груди. Дух его преодолел все неудобства плаванья: он был так поглощен своей задачей, что совсем не замечал качки, уложившей Эйлварда пластом на палубу. Он ни разу не усомнился в том, что Кок Бэддинг так или иначе достигнет своей цели, но, когда услышал его слова, исполненные отчаянья, одним движением оторвался от фальшборта и предстал перед моряком. Лицо его пылало, душа горела огнем.
— Клянусь святым Павлом, шкипер, — вскричал он, — бесчестье навеки падет на наши головы, если мы не сумеем ничего сделать! Давайте совершим нынче ночью кое-что на этих водах, или никогда больше не видать нам земли. Ведь о лучшей возможности завоевать почести нельзя и мечтать!
— С вашего позволения, юный сэр, вы говорите, как глупец, — ответил суровый моряк. — Вы и другие, подобные вам, оказавшись на воде, ведете себя как дети. Разве вы не видите, что нет ветра, и что француз верпует свой шлюп еще быстрее нас? Что же тут делать?
Найджел указал на ялик за кормой.
— Давайте пойдем на нем, — сказал он, — и либо возьмем их шлюп, либо примем достойную смерть.
Его смелые, пылкие слова нашли отклик в отважных и суровых сердцах людей на палубе. И лучники и моряки громко закричали. Даже Эйлвард поднялся и сел, и на его зеленом лице появилась слабая улыбка.
Но Кок Бэддинг покачал головой.
— Не было еще человека, который повел бы других туда, куда мне не пойти. Но эта затея, клянусь святым Леонардом, чистое безумие. Я поступил бы как последний дурак, рискни я сейчас людьми и судном. Смотрите, юный господин: ялик может взять всего пять человек, да и то осядет по самые борта. А там их четырнадцать, и вам придется лезть на борт с лодки. У вас нет ни одного шанса. Лодку просто оттолкнут, и вы окажетесь в воде — вот и все. Клянусь, я не пущу на это дурацкое дело ни одного человека.
— Тогда, господин Бэддинг, мне придется одолжить у вас ялик. Клянусь святым Павлом, я не допущу, чтобы бумаги доброго лорда Чандоса пропали так просто. Если никто из ваших людей не пойдет со мной, я справлюсь один!
При этих словах моряк было улыбнулся, но улыбка тотчас пропала, когда все увидели, что Найджел с окаменевшим лицом и застывшим взглядом подтягивает ялик за канат к кормовому подзору. Стало ясно, что он и в самом деле готов осуществить свой план. В это же время Эйлвард с трудом оторвал грузное тело от палубы, оперся о фальшборт и тут же заковылял на корму к своему господину.
— Вот кто пойдет с вами, — сказал он, — иначе как я покажусь потом тилфордским девчонкам? Пошли, лучники, пусть эти соленые сельди остаются в бочонке с рассолом. А мы попытаем удачи в море.
Три лучника тут же выстроились рядом с товарищем. Это были загорелые бородачи, малорослые, как и большинство англичан тех дней, но сильные, отважные и отлично владевшие оружием. Каждый быстро вытащил тетиву из непромокаемого чехла, согнул в огромную дугу боевой лук и закрепил тетиву.
— Мы готовы, сэр, — сказали они, подтягивая пояса с мечами.
Но Кока Бэддинга тоже заразила жажда боя, и он отбросил одолевавшие его страхи и сомнения. Видеть бой и не принять в нем участие было выше его сил.
— Ладно, будь по-вашему, воскликнул он, — и да поможет нам святой Леонард! Не видывал я таких безумных затей, а все же попробовать стоит. Только если пойти на это, давайте уж я буду командовать: ведь вы, юный сэр, понимаете в лодках не больше, чем я в боевых конях. Ялик берет пять человек, и ни одним больше. Кто на нем пойдет?
Но все уже загорелись, и никто не хотел оставаться на шхуне.
Бэддинг подобрал свой молот.
— Иду я и вы, юный сэр, раз уж этот план пришел вам в голову. Потом Черный Саймон — лучший меч в Пяти портах. Двое лучников могут грести, и, быть может, им удастся снять двух-трех французов прежде, чем мы начнем бой. Хью Бэддлзмир и ты, Дайкон из Рая — в лодку!
— Как? — крикнул Эйлвард. — А я, что, останусь? Я, слуга сквайра? Худо придется лучнику, что станет между мной и этой лодкой.
— Слушай, Эйлвард, — сказал Найджел, — я приказываю тебе остаться, ведь ты совсем болен.
— Да нет же, теперь волны улеглись, и я снова здоров. Пожалуйста, добрый сэр, не оставляйте меня здесь.
— Да ведь ты занял бы место более нужного человека, ты же не умеешь управляться с лодкой, — резко произнес Бэддинг. — Хватит глупых разговоров, скоро совсем стемнеет. Пожалуйста, отойди.
Эйлвард внимательно посмотрел на французское судно.
— Я по десять раз кряду переплывал Френшемское озеро, — ответил он, — и чудно будет, если я теперь не доплыву до француза. Клянусь своими десятью пальцами, Сэмкин Эйлвард будет там не позже, чем вы.
Ялик с пятью избранными оттолкнули от борта шхуны, и, ныряя в волну, он стал медленно приближаться к шлюпу. Бэддинг и один из лучников гребли, второй лучник устроился на носу, а Черный Саймон и Найджел примостились на корме, и вода плескалась и шипела прямо у их локтей. С французского судна раздались презрительные выкрики; команда выстроилась в ряд вдоль борта, размахивая кулаками и потрясая оружием. Солнце стояло уже вровень с Данджнессом, и вечерние сумерки, размыв границу меж небом и морем, закрыли горизонт туманной пеленой. Над широкими морскими просторами нависла глубокая тишина; ее нарушал только плеск весел и низкий, глухой звук скользящего по зыби ялика. Позади на «Мэри Роуз» стояли их товарищи; они не двигались и не разговаривали, а лишь жадно следили за продвижением лодки.
Теперь англичане в ялике были так близко от француза, что хорошо видели людей на борту. Особенно выделялся один — высокий смуглый человек с длинной черной бородой. Он был в красной шапке, а на плече держал топор. Кроме него было еще десять других — смелых, хорошо вооруженных мужчин и три, как казалось, мальчика.
— Может выстрелить? — спросил Хью Бэддлзмир. — Расстояние подходящее.
— Вы можете стрелять только поодиночке, здесь нет опоры для ног. Но ты поставь одну ногу на нос, а другую на банку и сохранишь равновесие, а тут мы и подойдем ближе.
Лучник устроился на качающейся лодке с ловкостью человека, привыкшего к морю, — он родился и воспитывался в Пяти портах. Саймон аккуратно наложил стрелу в ложе, изо всех сил натянул тетиву и твердой рукой пустил ее. Однако в этот момент лодка качнулась, и стрела зарылась в воду.
Вторая пролетела над судном, третья ударилась в черный борт. Тогда он быстро, один за другим, так что в воздухе было сразу по две стрелы, сделал дюжину выстрелов; большая часть стрел перелетела через фальшборт и упала на палубу. Раздались крики, и французы укрылись за бортом.
— Хватит! — крикнул Бэддинг. — Один готов, а может, и два. Подгребайте, скорее подгребайте, пока они не пришли в себя.
Он и лучник налегли на весла, но в то же мгновенье воздух прорезал пронзительный свист и раздался звук удара, словно камнем о стену. Бэддлзмир схватился за голову, застонал и упал за борт; за ним потянулся кровавый след. В следующую минуту такой же пронзительный свист завершился громким треском дерева, и короткая толстая стрела арбалета вошла глубоко в обшивку ялика.
— Подваливай, подваливай, — проревел Бэддинг, — святой Георгий и Англия, святой Леонард Уинчелсийский! Подваливай!
Но тут опять в воздухе раздался свист, и Дайкон из Рая упал — плечо ему пронзила стрела из рокового арбалета.
— Да поможет мне Бог, больше я ничего не могу сделать, — простонал он.
Бэддинг тут же подхватил его весло; но теперь он и не пытался подогнать лодку к борту шлюпа — он развернул ялик и стал грести обратно к «Мэри Роуз». Атака захлебнулась.
— В чем дело, шкипер? — воскликнул Найджел. — Что случилось, почему мы уходим? Ведь это же еще не конец?
— Двое из пяти, — ответил Бэддинг, — а там их двенадцать. Силы очень уж неравны, юный сэр. Нам надо вернуться, добрать людей и поставить щит против стрел — арбалетчик у них меткий и очень сильный. Однако, если мы хотим успеть, надо поспешать: быстро темнеет.
Их отступление вызвало на шхуне бурю восторженных криков; французы от радости пустились в пляс как сумасшедшие, размахивая над головой оружием. Но не успело утихнуть их веселье, как они увидели, что из-за темной тени «Мэри Роуз» снова выползает ялик, но на этот раз у него на борту установлен большой деревянный щит — надежный заслон от любых стрел. Ни на миг не останавливаясь, ялик быстро шел прямо на врага. Раненый лучник остался на борту шхуны; его место мог бы занять Эйлвард, но его на палубе не было. Поэтому в лодке оказался третий лучник Ход Мастерс и один из матросов, Уот Финнис из Хайта.
Твердо решив либо победить, либо умереть, пятеро смельчаков обогнули шлюп и попрыгали на палубу. В то же мгновение огромная железная гиря обрушилась на днище ялика и проломила его, так что не успели они оказаться на шхуне, как их лодка пошла ко дну. Теперь у них оставалась одна надежда на спасение — победа.
Французский арбалетчик уже стоял под мачтой, уперев в плечо свое страшное оружие; стальная тетива была туго натянута, на ложе блестела тяжелая стрела. Уж одну-то жизнь у этого жалкого отряда он наверняка отыграет. Но, выбирая между матросом и Коком Бэддингом, устрашающий вид которого, казалось, говорил, что эта добыча поважнее, целился он на один миг дольше, чем следовало: как раз в эту секунду зазвенела тетива Хода Мастерса, и его длинная стрела вонзилась арбалетчику в горло. Он повалился на палубу, из глотки его хлынул поток крови и проклятий.
Мгновение спустя меч Найджела и молот Бэддинга тоже нашли себе жертвы и остановили натиск врага. Из всей пятерки никто не пострадал, но удерживать позиции на палубе было очень трудно. Французская команда состояла из бретонцев и нормандцев, крепких, сильных парней, вооруженных топорами и мечами; все они были неистовые, отважные воины. Они столпились вокруг крошечного отряда, со всех сторон нанося удары. Черному Саймону удалось свалить чернобородого капитана шхуны, но в тот же момент он сам получил удар мечом по голове и рухнул на палубу с раскроенным черепом. Матрос Уот из Хайта пал от сокрушительного удара топором. Найджел тоже было упал, но тут же снова вскочил и вонзил меч в того, кто нанес ему удар.
Но все же его, Бэддинга и лучника Мастерса очень скоро оттеснили к заднему борту, и они едва удерживали там свою позицию от разъяренной толпы нападающих, как вдруг стрела, пущенная, как им показалось, прямо с моря, в самое сердце поразила француза, возглавлявшего атакующих. И тут же какая-то лодка стремительно подошла к шлюпу, и еще четыре человека с «Мэри Роуз» вскарабкались на залитую кровью палубу. Одним яростным натиском остатки французов были повержены наземь или схвачены. Девять распростертых на палубе тел лучше слов говорили о том, как жестока была схватка и отчаянно сопротивление.
Бэддинг, задыхаясь, оперся о свой окровавленный молот.
— Клянусь святым Леонардом, — воскликнул он, — я уж думал, что этот юный сэр всех нас погубил! Бог свидетель, вы пришли в самое время, только не понимаю, как вам это удалось. Похоже, тут не обошлось без этого лучника?
Во главе спасительного отряда и вправду был Эйлвард. Он стоял, все еще зеленый от недавней морской болезни и с головы до ног мокрый.
Найджел с удивлением посмотрел на него.
— Где ты был? Я искал тебя на палубе нашей шхуны, но не нашел, — сказал он.
— Так я был в воде, добрый сэр, и клянусь рукоятью меча, для желудка куда лучше быть в воде, чем на воде, — ответил Эйлвард. — Когда вы в первый раз отправились к шхуне, я поплыл за вами: я видел, что французская лодка болтается на воде, и подумал, что, пока вы там с ними управляетесь, я ее захвачу. Я подплыл к ней, когда вам пришлось отступить, спрятался за ней в воде и молился, как мне уже давно не случалось. Потом вы снова приплыли, но меня никто так и не заметил; я влез в лодку, перерезал канат, взял весла и поплыл за подмогой.
— Клянусь святым Павлом, ты это отлично придумал и выполнил не хуже! — воскликнул Найджел. — Думаю, сегодня из всех нас ты самый отличившийся. Однако среди всех этих людей, живых и мертвых, я не вижу никого похожего на так досадившего нам в прошлом Рыжего Хорька, как его описал лорд Чандос. Плохо будет, если, несмотря на все наши усилия, он доберется до Франции на каком-нибудь другом судне.
— Это мы скоро выясним, — ответил Бэддинг, — идемте, обыщем судно от клотика до киля, пока он не сбежал.
У основания мачты был люк, ведущий вниз, в глубину судна. Англичане уже подходили к нему, как вдруг странное зрелище заставило их замереть на месте. В темном квадратном отверстии показалась медно-красная голова, за которой тотчас последовали покрытые металлом плечи. Потом на палубу медленно поднялась человеческая фигура в полных доспехах. В металлической перчатке человек держал тяжелую булаву. Подняв ее, он двинулся на врага. Он не произнес ни слова, в воздухе раздавался только тяжелый стук его шагов. В фигуре не было ничего человеческого, она казалась страшным, грозным механизмом, лишенным всяких чувств, медлительным, неумолимым, беспощадным.
Английских моряков охватил ужас. Один из них попытался было проскочить мимо бронзовой фигуры, но тут же быстрым движением был прижат к борту, и от мощного удара по голове тяжелой палицей мозги его брызнули во все стороны. Остальные в безумной панике бросились обратно к лодке. Эйлвард выстрелил, но тетива у него намокла, и стрела, ударившись о сверкающий нагрудник, громко зазвенела и отскочила в воду. Мастерс ударил по медной голове мечом, но клинок со звоном скользнул по металлу, даже не поцарапав шлем, а в следующий момент лучник без памяти рухнул на палубу. Матросы в ужасе отступили от страшной безмолвной фигуры и сгрудились на корме; их боевой дух был сломлен.
Подняв палицу, медная фигура снова двинулась вперед к беспомощной кучке потерявших голову людей, которые мешали своим более смелым товарищам что-либо предпринять, как вдруг Найджел, растолкав матросов, бросился вперед и в один прыжок оказался на открытом месте. Он стоял, улыбаясь, с мечом наготове, и ждал противника.
Солнце уже село, и длинная розово-лиловая полоса, протянувшаяся над Каналом на западе, быстро меркла — надвигались ранние сумерки. В небе слабо замерцали редкие звезды, но света было еще довольно, чтобы охватить взглядом всю сцену: «Мэри Роуз», покачивавшуюся на длинной волне, широкую французскую шхуну, на белой окровавленной палубе которой тут и там лежали тела убитых; кучку людей на корме: одни пытались защищаться, другие бежать — жалкая, беспорядочная, барахтающаяся горстка.
А между ними и мачтой две фигуры: сверкающий броней металлический человек с занесенной над головой палицей, неподвижный, настороженный, безмолвный, и Найджел, с непокрытой головой, со счастливым, бесстрашным лицом, который, изогнувшись, быстро передвигался перед ним по палубе, держа наготове сверкающий меч, выискивая хоть какое-нибудь отверстие в металлической скорлупе.
Человеку в броне было ясно, что стоит ему только загнать противника в угол, и он тут же сразит его наповал. Но этому не суждено было сбыться. Найджел, которого не стесняли доспехи, имел перед ним большое преимущество в скорости. Несколько быстрых шагов в ту или другую сторону уводили его от сокрушительных, но неловких ударов палицы. Эйлвард и Бэддинг выпрыгнули было на палубу, чтобы помочь ему, но он так повелительно и гневно крикнул, чтобы они отошли, что они опустили оружие и стояли, словно окаменев, молча следя за этой неравной борьбой.
Было мгновение, когда показалось, что юному оруженосцу пришел конец: отпрыгнув назад от врага, он споткнулся об одно из тел, все еще лежавших на палубе, и растянулся на спине, но и тут быстро и ловко уклонился от готового обрушиться на него тяжелого удара, вскочил на ноги, вонзил меч глубоко в шлем француза и, вытаскивая его, еще более расширил разрез. Палица снова опустилась, и на сей раз Найджелу не удалось полностью увернуться: удар пришелся по мечу и задел левое плечо. Он зашатался, а палица взвилась вверх, чтобы окончательно свалить его. В одно мгновенье он понял, что ему не отпрыгнуть достаточно далеко. Но ведь можно, наоборот, броситься как можно ближе к закованному в сталь человеку, и тогда палица тоже минует его. Он тут же отбросил меч и, стремительно метнувшись к врагу, обхватил его за талию. Рука с булавой согнулась, и рукоять ударила обнаженную русоволосую голову. И тут же Найджел под ликующие крики зрителей одним могучим рывком приподнял врага и с грохотом опрокинул его навзничь на палубу. Сам он едва держался на ногах, голова у него кружилась, он чувствовал, что теряет сознание; но уже в руках у него был охотничий кинжал, и он был готов всадить его в дыру в стальном шлеме.
— Сдавайтесь, благородный сэр! — сказал он, обращаясь к распростертой фигуре.
— Я не сдаюсь рыбакам и лучникам. Я гербовый дворянин. Убей меня!
— Я тоже дворянин с гербом; клянусь пощадить вас.
— В таком случае сдаюсь.
Кинжал со стуком упал на палубу. Моряки и лучники бросились вперед и увидели, что Найджел лежит почти без сознания, уткнувшись лицом в доски. Они оттащили его в сторону и несколькими ловкими ударами сбили с врага шлем. Под ним оказалось веснушчатое, с резкими чертами, лицо и копна ярко-рыжих волос. Найджел на миг приподнялся на локте.
— Вы — Рыжий Хорек? — спросил он.
— Так прозвали меня враги, — с улыбкой ответил француз. — Я счастлив, сэр, что побежден таким отважным и благородным джентльменом.
— Благодарю вас, добрый сэр, — слабым голосом отозвался Найджел. — Я тоже счастлив, что повстречал такого учтивого противника, и я всегда буду помнить о том удовольствии, которое доставила мне встреча с вами.
Сказав это, он опустил окровавленную голову на грудь врага и погрузился в глубокое беспамятство.
Глава XV Как Рыжий Хорек посетил Косфорд
Древний летописец в «Жесте о сьёре Найджеле» сетует на то, что ему приходится часто прерывать повествование, потому что из тридцати одного года войн герой в разное время провел не менее семи лет, оправляясь от ран или болезней, которые обычно сопутствуют лишениям и перенапряжению сил. И на этот раз, на самом пороге славного пути, накануне великого дела, ему была уготована как раз такая судьба.
Он без сил и почти без памяти лежал на постели в низкой бедно обставленной комнате, расположенной под нависающей угловой стрельницей во внутреннем дворе крепости Кале, а под самым его окном вершились важные дела. Получив три раны, с головой, разбитой рукоятью булавы Хорька, он качался между жизнью и смертью; изувеченное тело влекло его вниз, дух молодости тянул вверх.
Словно в каком-то удивительном сне перед ним развертывалась схватка во дворе крепости, под его окном. Уже потом ему смутно вспоминалось, как внезапно раздался испуганный крик, лязг металла, удары по воротам, рев голосов, гулкий звон, словно полсотни силачей кузнецов били молотами по наковальне; как наконец шум утих и стали слышны стоны, пронзительные крики, взывающие к милосердию святых, приглушенный гул речей, тяжкое бряцанье металлических поножей.
По всей вероятности, не раз во время этой неистовой схватки он подползал к узкому окошку и, ухватившись за железные прутья, смотрел вниз, на жестокий бой, кипевший под ним. В красном пламени факелов, высунутых из окон и с крыши, ему был виден стремительный водоворот доспехов и оружия, медь и сталь, отбрасывавшие во все стороны багровые блики. Еще долгое время спустя эта беспорядочная великолепная картина не раз вставала у него перед глазами: разлетающиеся ламбрекены, шлемы, украшенные драгоценностями, гербы, богатая отделка одежды и щитов, где чернедь и червлень, серебро и зелень на андреевском кресте, стропила и полосы вспыхивали перед ним, словно мгновенно расцветающие пышные цветы, которые тут же увядали, никли в тени, но вслед за тем снова пробивались к свету. Он видел кроваво-красные цвета Чандоса, видел и его самого — высокую фигуру грозного воина, неистово бьющегося в первых рядах. Видел и три черных пояса на золотом щите — герб благородного Мэнни. А вон тот могучий воин с мечом, конечно же, сам царственный Эдуард, потому что только у него и у стремительного юноши в черных доспехах, сражающегося с ним рядом, не было никаких знаков отличия.
«Мэнни! Мэнни! Святой Георгий и Англия!» — раздавался низкий гортанный крик, и в ответ, заглушая лязг и грохот сраженья, гремело: «Шарни! Шарни! Святой Денис и Франция!»
Этот водоворот смутных видений все еще кружился в голове Найджела, когда наконец сознание его стало проясняться, и он понял, что лежит обессилевший, но с ясной головой на низком ложе в угловой стрельнице. Возле него, растирая грубыми пальцами лаванду и посыпая ею пол и постель, сидел Эйлвард. Его лук стоял у спинки кровати, на конце его болтался стальной шлем. А сам он, в одной рубашке, сидя на краю, отгонял мух и сыпал душистую траву на своего господина.
— Клянусь рукоятью меча, — вдруг громко выкрикнул он и широко, так, что обнажились его зубы, улыбнулся от радости, — слава Пресвятой Деве и всем святым! Что я вижу! Ведь потеряй я вас, я не посмел бы вернуться в Тилфорд. Вы целых три недели пролежали, лепеча, как ребенок! А теперь по глазам видно, что стали самим собой.
— Да, я был немножко ранен, — слабым голосом отозвался Найджел. — Но какой позор, какое несчастье, что я пролежал здесь, хотя было столько дела для моих рук! Ты куда, лучник?
— Сказать доброму сэру Джону, что вы поправляетесь.
— Нет, постой, побудь немного со мной, Эйлвард. Ведь, кажется, была какая-то драка — там, на лодках? И я встретил достойнейшего человека и обменялся с ним парой ударов? И он мне сдался, да?
— Да, добрый сэр.
— А где он сейчас?
— Внизу, в замке.
Слабая улыбка пробежала по бледному лицу Найджела.
— Я знаю, что я с ним сделаю, — сказал он.
— Пожалуйста, лежите, добрый сэр, — заволновался Эйлвард. — Утром вас смотрел сам королевский лекарь и сказал, что, если с головы у вас сорвать повязку, вы наверняка умрете.
— Не бойся, добрый лучник, я не стану двигаться. Только расскажи, что случилось на лодке?
— Да говорить-то почти нечего, добрый сэр. Если бы этот Хорек не был сам своим оруженосцем и не провозился столько времени с доспехами, они, может, и одолели бы нас. Он выбрался на палубу, когда его товарищи уже полегли. Мы взяли его на «Мэри Роуз», потому, что он был ваш. А остальных побросали в море.
— И живых, и мертвых?
— Всех.
— Это очень плохо.
Эйлвард только передернул плечами.
— Я пытался спасти одного мальчика, да Кок Бэддинг не позволил, а за него были и Черный Саймон и все остальные. «Так принято у нас в проливе, — сказали они, — сегодня мы их, завтра они нас». И они оторвали его от того, за что он держался, и бросили за борт. Он так кричал! Клянусь рукоятью меча! Не нравится мне море и морские обычаи. Когда оно доставит меня в Англию, я больше и близко к нему не подойду.
— Ты не прав, на море вершатся большие дела, и на судах есть много достойных людей, — возразил Найджел. — Куда бы ты ни отправился по воде, ты обязательно натолкнешься на людей, встреча с которыми принесет тебе радость. Если переплыть Пролив, вот как мы, то встретишь французов, а они нам очень нужны — как же иначе завоевать почести? Или, если поплыть на юг, то рано или поздно можно надеяться встретить неверных и сразиться с ними, а кто отважится на это — прославится. Поразмысли, лучник, как прекрасна такая жизнь: ты отправляешься в путь в погоне за успехом и мечтаешь повстречать много доблестных рыцарей, которые тоже ищут приключений; и тогда, если тебя победят, ты умрешь за веру и перед тобой распахнутся врата царства небесного. И северные моря тоже путь к славе для того, кто ее ищет, потому что они ведут в восточные страны и в страны, где еще по сию пору живут язычники, которые отвращают лицо свое от Святого писания. Там тоже можно надеяться на подвиги. Клянусь святым Павлом, Эйлвард, если французы не нарушат перемирие, а добрый сэр Джон позволит, я отправился бы туда. Море — добрый друг рыцаря: оно приводит его туда, где он может исполнить свои обеты.
Эйлвард покачал головой — в памяти его еще свежи были события недавнего прошлого, но сказать он ничего не успел, потому что в эту минуту открылась дверь и вошел Чандос. Радостно улыбаясь, он приблизился к постели и взял Найджела за руку. Потом что-то шепнул Эйлварду, и тот поспешно вышел.
— Pardieu! Какая приятная картина! — сказал рыцарь. — Надеюсь, вы скоро снова будете на ногах.
— Ради Бога, простите, славный господин, что меня не было подле вас в этом бою.
— Мне и вправду было жаль, что вас там не было, Найджел. Такая ночь редко кому выпадает. Все прошло, как мы наметили. Боковые ворота были открыты, и французы вошли: но мы были наготове, и все они либо погибли, либо стали нашими пленными. Однако большая их часть осталась снаружи, на Ньёлетской равнине, поэтому мы вскочили на лошадей и помчались на них. Когда мы оказались перед ними, они сначала растерялись, но потом опомнились и закричали: «Если побежим, все погибнем! Лучше сражаться в надежде, что верх будет наш!» Все это слышали наши люди в авангарде и кричали им в ответ: «Клянусь святым Георгием, ваша правда! Несдобровать тому, кто помышляет о бегстве!» Поэтому французы около часа удерживали поле, а там было много достойных людей: сам сэр Жоффруа, и сэр Пепен де Вер с сэром Жаном де Ландасом, старый Булье из Кот-Жона и брат его Эктор Пантера. Но всех больше рвался в бой сэр Эсташ де Рибомон, он долго дрался с самим королем. А затем, когда мы их поубивали или захватили в плен, всех пленных привели на празднество, и английские рыцари прислуживали им и веселились вместе с ними. И всем этим, Найджел, мы обязаны вам.
При этих словах оруженосец от радости залился краской.
— Что вы, славный господин, я ведь сумел сделать очень мало. Но все же, благодарение Господу и Пресвятой Деве, мне удалось сделать хоть что-то, так как вам было угодно взять меня с собой на войну. Если бы пришлось…
Но тут слова замерли у Найджела на губах, и он, побледнев, откинулся на постель, с удивлением глядя перед собой: дверь его комнатушки отворилась, и на пороге появился статный человек с благородной, величественной осанкой, высоким челом, удлиненным прекрасным лицом и темными задумчивыми глазами — это был не кто иной, как сам славный Эдуард Английский!
— Ну, тилфордский петушок, я тебя не забыл, — сказал он. — Рад был узнать, что разум снова вернулся к тебе. Надеюсь, на этот раз ты потерял его не из-за меня?
И король улыбнулся, видя, что Найджел продолжает в изумлении смотреть на него. Тогда оруженосец, запинаясь, пробормотал несколько слов благодарности за оказанную ему честь.
— Нет, нет, никакой благодарности, — перебил король. — Мне отрадно, что сын моего старого сотоварища Юстаса Лоринга оказался таким смельчаком. Если бы та шхуна дошла раньше нас, все наши труды пошли бы прахом — ни один француз не показался бы в ту ночь возле Кале. Но особенно я вам благодарен за то, что передали мне в руки того, кого я давно поклялся примерно наказать: он, пользуясь разными бесчестными средствами, нанес нам вреда больше, чем кто-либо другой. Я уже дважды давал клятву, что, если только этот Пьер Рыжий Хорек попадется мне в руки, его повесят, хотя он и благородной крови. Теперь его время пришло, но я не велю его казнить, пока вы, пленивший его, не сможете увидеть это своими глазами. Нет, нет, не благодарите меня, я не мог поступить иначе, ведь это вам я обязан тем, что он в наших руках.
Однако то, что Найджел пытался сказать, вовсе не было словами благодарности. Как ни трудно было ему произнести, что он хотел, он должен был это сделать.
— Ваше величество, — пролепетал он, — я не смею идти против вашей королевской воли…
Мрачная ярость Плантагенетов исказила прекрасное лицо короля, взгляд его бешеных глубоко посаженных глаз помрачнел.
— Клянусь Господом! Никому еще не удавалось пойти против моей воли и остаться невредимым. Ну-с, юный сэр, что означают столь непривычные для нас слова? Берегитесь: то, что вы осмелились сказать, — не пустяк!
— Ваше величество, — продолжал Найджел, — во всем, где я свободен делать выбор, — я ваш преданнейший подданный, но есть вещи, которые нельзя делать.
— Как! — вскричал король. — Вопреки моей воле?
— Да, ваше величество, вопреки вашей воле, — ответил Найджел и сел на постели, бледный, со сверкающими глазами.
— Клянусь Пресвятой Девой, — загремел король, — дело принимает скверный оборот. Вас слишком долго держали дома. Застоявшаяся лошадь обязательно взбрыкнет. Ненатасканный сокол проловится. Займитесь этим, Чандос. Объезжать его придется вам, и я уверен, что вы его укротите. А чего все-таки Эдуарду Английскому нельзя делать, юный Лоринг?
Найджел посмотрел прямо на короля. Взгляд его был столь же непреклонен, как и у монарха.
— Нельзя казнить Рыжего Хорька.
— Pardieu! Это еще почему?
— Потому, что вы не можете распоряжаться его жизнью и смертью, ваше величество. Он принадлежит не вам, а мне. Потому что я обещал сохранить ему жизнь, и даже вы, король, не должны вынуждать человека благородной крови нарушить данное слово и обесчестить себя.
Чандос положил руку Найджелу на плечо, успокаивая его.
— Простите его, ваше величество, он еще очень слаб после ран, — сказал он. — Мы, верно, пробыли здесь слишком долго, ведь врач прописал ему полный покой.
Однако умиротворить разгневанного короля было не так-то просто.
— Я не потерплю, чтобы со мной так говорили, — ответил он раздраженно. — Это ваш оруженосец, сэр Джон. Что же вы стоите, слушаете его дерзкие речи и ничего не делаете, чтобы его урезонить? Так-то вы управляетесь со своими домочадцами? Почему вы не объяснили ему, что всякое обещание должно подтверждаться согласием короля, что только король волен распоряжаться жизнью и смертью? Если он болен, то вы-то здоровы? Почему вы молчите?
— Мой повелитель, — спокойно и серьезно отвечал Чандос, — я верой и правдой служил вам много лет и пролил слишком много крови от ран, чтобы слова мои можно истолковать в дурную сторону. Но я не мог бы считать себя человеком искренним, если бы не сказал вам, что мой оруженосец Найджел, хоть и говорил резче, чем приличествует его положению, тем не менее прав, а вы не правы. Подумайте, государь…
— Довольно! — вскричал король, разгневанный пуще прежнего. — Каков хозяин, таков и слуга. Мне сразу надо было понять, почему этот дерзкий оруженосец осмеливается перечить своему венценосному повелителю. Он отдает то, что получил. Джон, Джон, вы слишком много себе позволяете. Только вот что я вам скажу и вам тоже, юноша, и да поможет мне Господь: еще до захода солнца Рыжий Хорек, в острастку всем шпионам и предателям, будет висеть на самой высокой башне Кале, чтобы каждое судно в Проливе и каждый человек в округе видели, как он болтается на веревке, и поняли бы, как тяжела рука короля Англии. Запомните это, чтобы самим не почувствовать ее тяжесть.
И, метнув в их сторону взгляд разъяренного льва, он вышел из комнаты и громко хлопнул за собой обитой железом дверью.
Чандос и Найджел горестно взглянули друг на друга. Потом рыцарь осторожно похлопал своего оруженосца по забинтованной голове.
— Вы держались молодцом, Найджел. О лучшем я не мог и мечтать. Не бойтесь, все будет хорошо.
— Мой добрый, благородный лорд, — воскликнул Найджел, — у меня так тяжело на сердце: ведь я не мог поступить иначе, а теперь навлек на вас немилость короля!
— Ничего, тучи скоро рассеются. Если он все-таки казнит француза — что ж, вы сделали все, что в ваших силах, и душа ваша может успокоиться.
— Молю Господа, чтобы он успокоил ее в раю, — ответил Найджел, — потому что в тот час, когда имя мое будет обесчещено и мой пленник убит, я сорву с головы все повязки и покончу счеты с миром. Я не могу жить, если не могу сдержать слово.
— Не надо так, мой милый сын, ты принимаешь все слишком близко к сердцу, — печально произнес Чандос. — Если человек сделал все, что мог, ни о каком бесчестье не может быть и речи; к тому же король хоть и горяч, у него доброе сердце, и, возможно, если я еще раз поговорю с ним, он передумает. Вспомни, как он поклялся повесить шестерых здешних горожан, а потом их простил. Не унывай, милый сын, и еще до темна я вернусь к тебе с добрыми вестями.
Три часа, пока заходящее солнце поднимало тени в каморке все выше и выше на стену, Найджел лихорадочно метался по постели, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги Эйлварда или Чандоса, несущих весть о судьбе пленника. Наконец дверь отворилась, и перед его взором предстал человек, которого он меньше всего ожидал увидеть, но которому обрадовался больше, чем кому-либо другому. Это был сам Рыжий Хорек, свободный и веселый.
Быстрым бесшумным шагом он пересек комнату и, опустившись на колени перед кроватью, прижался губами к бессильно свисающей руке.
— Вы спасли мне жизнь, благороднейший сэр! — воскликнул он. — Уже готова была виселица, болталась веревка, как вдруг добрый лорд Чандос сказал королю, что, если меня убьют, вы наложите на себя руки. «Проклятье! Опять этот тупоголовый оруженосец! — вскричал король. — Ради Бога, отдайте ему его пленника, и пусть делает с ним, что хочет, только больше мне не досаждает». И вот я пришел, славный сэр, спросить вас, что мне делать.
— Пожалуйста, сядьте вот тут, рядом со мной, и успокойтесь, — ответил Найджел. — Сейчас я скажу, что вам следует сделать. Ваши доспехи останутся у меня, на память о благосклонности судьбы, которая послала мне такого доблестного, благородного человека. Мы одного роста, так что я, несомненно, смогу их носить. А что до выкупа — пусть это будет тысяча крон.
— Что вы, что вы! Было бы обидно, если бы такого человека, как я, оценили меньше, чем в пять тысяч.
— Тысячи довольно, чтобы оплатить мои военные расходы. Кроме того, вы больше не станете шпионить и вообще причинять нам вред, пока не кончится перемирие.
— Клянусь.
— И наконец, вам придется совершить путешествие. У француза вытянулось лицо.
— Куда же вы прикажете мне отправиться? — спросил он. — Только Бога ради не в Святую землю.
— Нет, не туда. А в земли, которые святы только для меня. Вы снова поедете в Саутгемптон.
— Я хорошо его знаю. Несколько лет тому назад я помог сжечь его дотла.
— Советую никому не рассказывать об этом, когда вы там будете. Оттуда вы поедете в сторону Лондона, пока не увидите прекрасный город по имени Гилдфорд.
— Я слышал о нем. Там королевские охотничьи угодья.
— Он самый. Там вы спросите, как проехать в поместье, которое называется Косфорд, оно расположено в двух лигах от города, на склоне длинного холма.
— Запомню.
— В Косфорде вы найдете доброго рыцаря по имени сэр Джон Баттесторн и попросите разрешения поговорить с его дочерью леди Мэри.
— Охотно это сделаю. А что я должен сказать леди Мэри, что живет на склоне длинного холма в двух лигах от прекрасного города Гилдфорда?
— Скажите, что я шлю ей привет и что святая Катарина была ко мне благосклонна. Только это и ничего больше. А теперь, пожалуйста, оставьте меня — голова у меня совсем устала, мне нужно соснуть.
Вот так случилось, что спустя месяц, в канун дня св. Матфея, леди Мэри, выходя из Косфордских ворот, повстречала незнакомого богато одетого всадника, за которым ехал слуга. Живые голубые глаза путника поблескивали из-под рыжих бровей покрытого веснушками лица, внимательно осматривая все вокруг. При виде ее он снял шляпу и придержал коня.
— Этот дом, должно быть, Косфорд, — начал он, — а вы, случайно не леди Мэри, которая тут живет?
Леди Мэри слегка склонила гордую темноволосую голову.
— Тогда, — продолжал всадник, — я должен сообщить вам, что сквайр Найджел Лоринг шлет вам привет и передает, что святая Катарина была к нему благосклонна.
Затем, обернувшись к слуге, крикнул:
— Эй, Рауль, наш долг выполнен! Твой господин снова свободен! Скорей, скорей, в ближайший порт — и во Францию! Пошел! Пошел!
И, не сказав больше ни слова, оба они, господин и слуга, пришпорили лошадей и, как безумные, помчались галопом вниз по длинному склону Хайндхеда, пока не превратились в две крошечные фигурки, по пояс погруженные в папоротник и вереск.
Мэри пошла к дому. На устах ее играла улыбка. Найджел прислал ей привет. Привез его француз. Передав его, он стал свободен. А св. Катарина была благосклонна к Найджелу. Ведь это над ее гробницей он поклялся, что не увидит леди Мэри, пока не совершит три подвига. Уединившись у себя в комнате, девушка упала на колени и обратилась к Пресвятой Деве с горячими словами благодарности за то, что один подвиг уже был совершен; но радость ее тут же померкла при мысли о следующих двух, ожидавших ее возлюбленного.
Глава XVI Как король пировал в замке Кале
Было ясное солнечное утро, когда Найджел смог наконец выйти из своей каморки в стрельнице и пройтись по крепостной стене. С севера дул свежий ветер, он нес влагу и морскую соль. Найджел подставил под его порывы лицо и почувствовал, как в него вливается жизнь, как крепнет его тело. Он отпустил руку Эйлварда и, без шляпы, опершись о парапет, жадно вдыхал прохладный живительный воздух. Вдалеке, у самого горизонта, почти скрытая высокой волной, виднелась узкая полоска белых утесов, опоясывающих Англию. Между ним и утесами лежал широкий синий Пролив, по которому один за другим катились сверкающие пеной валы; волна была высокая, и немногие суда, что виднелись с вала, тяжело раскачиваясь, с трудом продвигались вперед. Найджел обвел взглядом открывшиеся перед ним просторы, и разительная перемена — после серых стен его тесной комнатушки — наполнила грудь его счастьем. Наконец взгляд его остановился на каком-то странном сооружении прямо у него под ногами.
Это был длинный, похожий на трубу предмет из кожи и железа, прикрепленный к грубой деревянной станине на колесах. Рядом лежала куча камней и кусков металла. Конец машины был приподнят над зубцами стены. Позади нее стоял железный короб. Найджел открыл его. Он был наполнен каким-то темным зернистым порошком, похожим на размолотый древесный уголь.
— Клянусь святым Павлом, — воскликнул Найджел, проводя рукой по машине, — я слышал о таких вещах, только никогда раньше их не видел! Ведь это же одна из тех удивительных новых бомбард!
— Ну да, она самая и есть, — презрительно ответил Эйлвард, с неприязнью глядя на машину, — я уже насмотрелся на них здесь, на стене, и даже повздорил тут с одним, кто их охраняет. Он так глуп, что думает, будто может из этой кожаной трубы выстрелить дальше, чем лучший лучник Англии из арбалета. Я дал ему по уху, и он так и повалился на свою дурацкую машину.
— Это страшная вещь, — отозвался Найджел, наклонившись, чтобы осмотреть ее получше. — В странное время мы живем — вот теперь стали делать такие штуки. Ведь она стреляет огнем, который вылетает из черного порошка?
— Клянусь рукоятью меча, славный сэр, не знаю. Вроде бы, прежде чем мы поругались, этот дурак бомбардир говорил что-то такое. Порошок набивают в трубу, потом туда заталкивают ядро. Потом берут еще порошка из ящика и насыпают в дыру на другом конце — вот сюда. Теперь она готова. Я никогда не видел, как они стреляют, только знаю, что вот из этой можно сейчас выстрелить.
— У нее очень странный звук, да? — задумчиво спросил Найджел.
— Говорят, славный сэр. Вот как лук звенит, когда отпускаешь тетиву, так и она издает какой-то звук.
— Послушай, лучник, здесь никого нет и никто ничего не услышит; она не причинит никакого вреда — ведь нацелена она в море. Пожалуйста, выстрели, я хочу услышать ее звук.
И Найджел склонился над бомбардой, внимательно прислушиваясь, а Эйлвард тут же нагнулся над запалом и стал прилежно скрести кремнем по стали. Мгновение спустя оба они, он и Найджел, оказались на земле, довольно далеко от бомбарды, и увидели, как под грохот выстрела, в облаке густого дыма, длинная черная, похожая на змею машина быстро откатилась назад. Одну-две минуты они сидели ошеломленные, пока раскаты грома замирали где-то вдали, а в голубое небо медленно уплывали кольца дыма.
— Слава Богу! — воскликнул Найджел, вставая с земли и озираясь. — Слава Богу, что все стоит на месте. Мне показалось, что рухнул замок.
— Ну и ревет! Такого рева я и у быка не слышал! — сказал Эйлвард, потирая ушибленные места. — Ее было бы слышно от Френшемского пруда до самого Гилдфордского замка. Больше я к ней не притронусь, сколько бы самой лучшей земли в Патнеме мне ни посулили.
— А если притронешься, тебе этой земли понадобится девять квадратных футов, — раздался позади них сердитый голос.
Это был Чандос. Он только что вышел из открытой двери угловой башни и стоял, сурово глядя на обоих. Однако, когда ему рассказали, что произошло, он улыбнулся.
— Беги скорее к начальнику пушкарей, лучник, и скажи ему, что случилось, не то вся крепость и город возьмутся за оружие. Не знаю еще, что скажет король об этой нежданной тревоге. А вы, Найджел, как вы-то могли вести себя так по-детски?
— Я не знал ее силы, досточтимый сэр.
— Клянусь, Найджел, мне кажется, никто из нас не знает ее силы. Еще придет день, когда все, чем мы восхищаемся, все великолепие и красота войны, потеряет свой блеск и уступит место такому вот оружию, что пробивает стальные доспехи, словно кожаную куртку. Я сидел тут как-то в доспехах на боевом коне, смотрел на покрытого копотью бомбардира и подумал, что я — последний из старого времени, а он — первый вестник нового; что придет день, когда он со своей машиной сметет и вас, и меня, и всех остальных со сцены, и войны будут вестись совсем иначе.
— Но ведь еще не сейчас, достойный сэр?
— Нет, еще не сейчас. У вас есть еще время завоевать себе шпоры, как делали ваши предки. Как вы, набрались силы?
— Я готов выполнить любой приказ, достойный лорд.
— Очень хорошо, потому что нас ждет дело — доброе дело, срочное дело, опасное и почетное. У вас засверкали глаза и зарделось лицо, Найджел. Когда я смотрю на вас, я заново переживаю свою молодость. Так вот, хотя здесь у нас с Францией перемирие, в Бретани, где дом Блуа и дом Монфоров все еще сражаются за герцогскую корону, мира нет. Пол-Бретани стоит за одного, пол — за другого. Французы поддерживают де Блуа, а мы — де Монфоров: эта война такая же, как те, в которых многие великие полководцы, вот как сэр Уолтер Мэнни, впервые завоевали себе имя. В последнее время удача обернулась против нас, и кровавые руки Роганов, беззубого Бомануара, Оливье-Мясника и других всей тяжестью навалились на плечи нашему народу. Последние новости оттуда ужасны, а у короля черно на душе, потому что в замке Ла Броиньер убили его друга и сотоварища Жиля де Сен-Поля. Он посылает туда подкрепление, а мы его возглавим. Как вам это нравится, Найджел?
— Досточтимый лорд, разве может быть что-нибудь лучше?
— Тогда собирайтесь; мы выступаем не позже, чем через неделю. Путь по суше прегражден французами, поэтому мы пойдем морем. Сегодня вечером король устраивает прощальный пир — и ваше место за моим стулом. Приходите ко мне в комнату и помогите одеться, а потом мы вместе пройдем в залу.
На Чандосе, одетом к королевскому пиршеству, сияли шелк и парча, мерцали бархат и меха; Найджел, который должен был прислужить ему за столом, тоже надел свой лучший шелковый камзол с пятью алыми розами. В огромной зале замка расставили столы: высокий для лордов, второй — для менее знатных рыцарей, и третий — для оруженосцев, которые тоже могли попировать, но только после того, как усядутся их господа.
Ведя в Тилфорде простую и уединенную жизнь, Найджел и представить себе не мог, что бывают такое великолепие и удивительная роскошь. Мрачные серые стены залы были сверху донизу увешаны бесценными аррасскими шпалерами с изображениями оленей, гончих и охотников, которые составляли как бы одну картину живой стремительной охоты. Над главным столом висели знамена, а под ними на стенах — ряды гербовых щитов самых знатных и благородных рыцарей, тех, что сидели за столом. Красное пламя светильников и факелов играло на эмблемах знаменитых полководцев Англии. На высоком кресле в самом центре сияли львы и лилии, и такие же августейшие знаки, только указывающие на младшую линию, отмечали место Принца; в обе стороны от них тянулись мерцающие ряды благородных эмблем, почитаемых в мирное время, наводящих ужас во время войны: чернь и золото Мэнни, зазубренный крест Суффолка, пурпурные пояса Стаффорда, фиолетовые с золотом — Одли, голубой лев на задних лапах дома Перси, серебряные ласточки Эрендела, красный олень Монтекьют, звезда де Веров, серебряные ромбы Расселов, пурпурный лев де Лейси и черные кресты Клинтона.
Дружелюбный оруженосец, стоявший рядом с Найджелом, шепотом называл ему имена прославленных воинов, сидевших ниже.
— Вы — молодой Лоринг из Тилфорда, оруженосец Чандоса? — спросил он. — Меня зовут Делвз, я из Додингтона, в Чешире. Я оруженосец сэра Джеймса Одли — вон того сутулого человека с загорелым лицом и короткой бородкой. — У него на гребне шлема голова сарацина.
— Я слышал, что он человек безмерного мужества, — ответил Найджел, с интересом разглядывая его.
— Конечно, юный Лоринг. Я думаю, он самый храбрый рыцарь Англии, да и во всем христианском мире. Никто другой не совершил таких доблестных подвигов.
Найджел с надеждой посмотрел на нового знакомца.
— Вы говорите, как и должно говорить о своем господине, — сказал он, — по той же причине, и вовсе не желая вас обидеть, мне следует сказать вам, что ни в благородном имени, ни в славе он не может сравниться с доблестным рыцарем, которому служу я. Если вы думаете иначе, мы можем поспорить об этом на любой манер и в любое время, какое вам удобно.
Делвз добродушно улыбнулся.
— Не надо так горячиться, — сказал он, — если бы вы говорили о ком-нибудь другом, исключая, пожалуй, сэра Уолтера Мэнни, я поймал бы вас на слове, и либо моему господину, либо вашему пришлось бы искать себе нового оруженосца. Но с Чандосом не сравнится ни один рыцарь, это сущая правда, и я никогда не обнажу меч, чтобы умалить его славу. Ох, у сэра Джеймса пустой кубок! Я должен этим заняться.
И он бросился прочь, держа в руке флягу с гасконским.
— Король получил нынче добрые вести, — продолжал он, вернувшись. — Я не видел его таким веселым с той самой ночи, когда мы сломили французов и он надел свое жемчужное ожерелье на шею Рибомона. Посмотрите, как он смеется! И Принц тоже. От этого смеха кое-кому придется несладко, или я очень ошибаюсь. Живо! У сэра Джона пустая тарелка.
Теперь настала очередь Найджела бежать со своего места; но всякий раз в перерыве он возвращался в уголок, откуда ему был виден весь зал и где он мог слушать старшего оруженосца. Делвз был невысокий, крепко сложенный человек, перешагнувший за средний возраст, с обветренным, испещренным многочисленными шрамами лицом и грубоватыми манерами, которые говорили о том, что в походной палатке ему куда лучше и привычнее, чем в зале. Но за десять лет службы он многому научился, и Найджел жадно ловил каждое его слово.
— Да, добрые вести, — продолжал тот. — Смотрите, он шепнул об этом Чандосу и Мэнни. А теперь Мэнни передает их сэру Реджиналду Кобему, а тот Роберту Ноулзу, и все улыбаются как черт над монахом.
— А кто из них Роберт Ноулз? — живо поинтересовался Найджел. — Я много слышал о нем и его подвигах.
— Вон тот высокий, суровый человек в желтых шелках. У него нет бороды, а губа рассечена. Он немного старше вас, отец у него сапожник в Честере, а он уже получил золотые шпоры. Смотрите, как он сует руку в блюдо и вытаскивает куски мяса. Он привык есть из походного котелка, а не с серебряных блюд. А вон тот чернобородый здоровяк — это сэр Бартоломью Бергхеш, у него брат — приор в Болье. Живо, живо! Подают кабанью голову, надо очистить тарелки.
В те времена манеры наших предков за трапезой были, на взгляд современного человека, странным смешением утонченной роскоши и грубости. Вилок тогда еще не знали, их заменяли большой, указательный и средний палец левой руки. Брать пищу другими пальцами было дурным тоном. На устланном камышом полу, рыча друг на друга и время от времени вступая в драку из-за костей, которые им бросали сидящие за столом, лежало множество собак. Обычно тарелкой служили куски грубого хлеба, но на высоком столе короля ели с серебряных тарелок; с каждой переменой оруженосцы должны были их обтирать. С другой стороны, столовое белье было очень дорогим, а блюда, которые подавались с таким шиком и величественным церемониалом, что мы и представить себе не можем, были необычайно разнообразны, и каждое являло собой чудо кулинарного искусства, незнакомого современным банкетам. Кроме мяса всех наших домашних животных и дичи стол разнообразили и такие удивительные деликатесы, как блюдо из ежа, дрофы, дельфина, белки, выпи и журавля.
О каждой перемене блюд возвещали громкие звуки фанфар; вносили блюда слуги, одетые в ливреи; они шли по два в ряд, а впереди и позади шествовали румяные церемониймейстеры с белыми жезлами в руках, которые были не только знаком их должности, но и оружием на случай дерзкого посягательства на блюда по пути из кухни в залу. За кабаньими головами с позолоченными клыками и размалеванными пастями, последовали удивительные пироги в форме кораблей, крепостей и тому подобное с сахарными матросами и солдатами, которые скоро потеряли головы и тела, не устояв против натиска проголодавшихся. Наконец появился огромный серебряный сосуд в форме корабля на колесах, наполненный фруктами и сластями, который катили вдоль рядов гостей. Слуги подавали фляги с гасконским, рейнским, канарским и ла-рошельским винами. Но век этот, хотя и был веком роскоши, не был привержен пьянству; более здоровые норманнские обычаи взяли верх над разгулом саксонских пиров, когда гость, вышедший из-за стола на своих ногах, клал тем самым пятно позора на своего хозяина. Честь и доблесть несовместимы с дрожащими руками и мутным взором.
Пока за высокими столами разливали вино и разносили фрукты и пряности, оруженосцев тоже по очереди потчевали в дальнем конце залы. А тем временем вокруг короля собрались государственные сановники и полководцы и о чем-то оживленно разговаривали. Граф Стаффорд, граф Уорик, граф Эрендел, лорд Бошан и лорд Невил стояли за его спиной, а лорды Перси и Моубрей — по бокам. Эта маленькая группа ослепляла сверканьем золотых цепей, драгоценных четок, огненно-красных кафтанов и пурпурных камзолов.
Вдруг король сказал что-то через плечо герольду сэру Уильяму Пэкингтону; тот вышел вперед и стал возле стула короля. Это был высокий человек с благородным лицом и длинной волнистой седеющей бородой, доходившей до золотого пояса, которым был перехвачен многоцветный плащ. На голове у него был берет — символ его звания. Он неторопливо поднял высоко в воздух белый жезл. В зале воцарилась полная тишина.
— Милорды Англии, — начал он, — знаменитые рыцари, рыцари, оруженосцы и все присутствующие благородные люди, имеющие гербы! Ваш августейший повелитель, Эдуард, король английский и французский, поручил мне приветствовать вас и приказать вам приблизиться, чтобы он мог говорить с вами.
Мгновенно столы опустели, и все столпились перед стулом короля. Те, кто сидел по обе стороны от него, перегнулись через стол, так что его высокая фигура возвышалась над тесным кругом гостей.
На оливковых щеках Эдуарда играл румянец, темные глаза горели гордостью, когда он смотрел на устремленные к нему лица людей, его соратников от Слёйса и Кадзанда[47] до Креси и Кале. И в одну секунду от жаркого воинственного огня его властных глаз загорелись сердца всех, кто его окружал, и дружный, громогласный, дикий крик прокатился под сводами замка — в нем слилась благодарность воинов за прошлые победы и обещание выполнить свой долг в грядущем. Зубы короля блеснули в мимолетной улыбке, а большая белая рука поиграла рукоятью усыпанного драгоценными камнями кинжала у себя на поясе.
— Клянусь всемогуществом Господним, — начал он чистым громким голосом, — я не сомневался в том, что сегодня вечером вы разделите мою радость: я получил добрые вести, которые обрадуют каждого из вас. Вы знаете, что наши корабли несли большой ущерб от испанцев, уже много лет беспощадно убивавших всех, кто попадал в их злодейские руки. Недавно они послали суда во Фландрию, и сейчас тридцать больших каракк и галер стоят под Слёйсом, битком набитые лучниками и копейщиками и готовые к нападению. Мне из верных рук стало известно, что, захватив на борт свои товары, эти суда в следующее воскресенье пойдут через Пролив. Мы слишком долго терпели этих людей, за что они причинили нам много обид и досады и становились тем более дерзкими, чем дольше мы терпели. Поэтому я решил завтра поспешить в Уинчелси, где у нас стоят двадцать кораблей, и напасть на испанцев, когда они будут там проходить. Да помогут Господь и святой Георгий защитить правое дело!
Вслед за словами короля по зале прокатился второй, еще более оглушительный, похожий на раскат грома, крик. Это был призывный лай лютой своры собак, отвечающей своему повелителю охотнику.
Эдуард снова засмеялся: посмотрев вокруг, он увидел горящие глаза, раскрасневшиеся радостные лица, машущие руки своих верных подданных.
— Кто уже дрался с испанцами? — спросил он. — Есть здесь кто-нибудь, кто может рассказать нам, что они за люди?
В воздухе мелькнула целая дюжина рук, но король повернулся к графу Суффолку, сидевшему рядом с ним.
— Вам случалось с ними сражаться, Томас?
— Да, государь. Я принимал участие в большом морском сражении восемь лет тому назад. Это было возле острова Гернси, когда дон Луис Испанский сражался против графа Пембрука.
— Ну и что вы о них можете сказать, Томас?
— Превосходные бойцы, лучше и желать нечего. У них на каждом корабле по сотне генуэзских арбалетчиков, первых в мире, и копейщики у них стойкие. Они бросали с верхушек мачт огромные куски железа и поубивали много наших. Если мы сумеем преградить им путь в Проливе, то все прославимся.
— Приятно слышать такие слова, Томас, — сказал король. — Не сомневаюсь, они будут достойны той встречи, что мы для них готовим. Вам я даю корабль — так что вы сможете показать себя. И ты, милый сын, тоже получишь корабль, чтобы навеки прославить свое имя.
— Благодарю вас, дорогой отец, — ответил Принц, и его мальчишеское лицо залилось румянцем.
— На головном корабле буду я сам. Но и у вас, Уолтер Мэнни, и у вас, Стаффорд, и у вас, Эрендел, и у вас, Одли, и у вас, сэр Томас Холленд, и у вас, Брокас, и у вас Беркли, и у вас, Реджиналд, будет по кораблю. Остальные останутся в Уинчелси, куда мы отправимся завтра же. В чем дело, Джон, почему вы дергаете меня за рукав?
Чандос с обеспокоенным лицом наклонился вперед.
— Неужели, славный государь, вы забыли обо мне, который столь преданно и долго служил вам? Разве для меня нет корабля?
Король улыбнулся, но покачал головой.
— А разве я не дал вам две сотни лучших лучников и сотню копейщиков для похода в Бретань? Думаю, что ваши корабли будут в бухте Сен-Мало еще до того, как испанцы поравняются с Уинчелси. Чего же еще надо вам, бывалому солдату? Воевать сразу в двух местах?
— Я хочу быть возле вас, когда снова взовьется знамя со львом. Это всегда было мое место. Почему же вы теперь мне в нем отказываете? Я прошу о малом, государь, дайте мне галеру, балингер, даже пинассу, только чтобы я мог быть на своем месте.
— Ну что ж, Джон, вы тоже пойдете. Сердце мое не может вам отказать. Я найду для вас место на своем корабле, чтобы вы на самом деле были возле меня.
Чандос склонился и поцеловал руку короля.
— А мой оруженосец? — спросил он. Король нахмурился и резко ответил:
— Нет, пусть он отправляется с другими в Бретань. Не понимаю, Джон, зачем вы напомнили мне об этом юнце, чья дерзость еще слишком свежа в памяти, чтобы я ее позабыл? Но кто-то должен же идти в Бретань вместо вас? Дело это спешное, нашим людям там приходится туго, и одним им не справиться.
Он обвел взглядом все общество и остановил его на суровом лице сэра Роберта Ноулза.
— Сэр Роберт, — сказал он, — вы молоды годами, но вы уже старый воин, и мне говорили, что на военном совете вы столь же расчетливы, сколь храбры на поле брани. Поэтому вы пока возглавите поход на Бретань вместо сэра Джона Чандоса, который отправится туда, как только мы закончим все дела на море. В Кале стоят три корабля с тремя сотнями людей, готовых последовать за вами. Сэр Джон скажет вам о наших планах. А теперь, друзья мои и добрые сотоварищи, отправляйтесь каждый к себе и сделайте все необходимое, ибо, клянусь Господом, завтра вы отправляетесь со мной в Уинчелси.
Сделав знак Чандосу, Мэнни и еще нескольким избранным военачальникам, король проследовал с ними во внутренние покои, чтобы обсудить планы на будущее. Разошлось и остальное общество — рыцари молча и с достоинством, оруженосцы шумно и весело. У всех на душе было радостно от мысли о близящихся великих днях.
Глава XVII Испанцы в море
Еще не занялся день, а Найджел был уже в покое Чандоса, помогая ему собраться в дорогу, а тот попутно подбадривал юношу, давал последние наставления и распоряжения. В то же утро, прежде чем солнце прошло половину пути к зениту, большой королевский корабль «Филиппа», неся на борту большинство из тех, кто накануне принимал участие в пиршестве, поднял огромный парус со львами и лилиями и развернул медный нос в сторону Англии. За ним последовало пять судов поменьше, битком набитых оруженосцами, лучниками и копейщиками.
Найджел и другие, оставшиеся в крепости, столпились на валу и размахивали шляпами, а широконосые, могучие корабли под барабанный бой и звуки труб медленно выходили в открытое море. На палубах развевались сотни рыцарских знамен, а над ними, в вышине, реял алый английский крест. Потом, когда корабли ушли за горизонт и над водой виднелись уже только их паруса, провожающие с тяжелым сердцем, оттого что им пришлось остаться, взялись за подготовку к своему собственному более дальнему походу.
На это ушло четыре дня напряженного труда, потому что маленькому отряду, отправлявшемуся в чужие земли, нужно было очень многое. Им оставили три судна: «Фому» из Ромни, «Милость Господню» из Хайта и «Василиск» из Саутгемптона, на которые погрузилось по сто человек, не считая тридцати матросов. В трюмах разместили сорок лошадей, среди которых был и Поммерс; ему давно надоела праздность и очень хотелось вернуться на склоны Суррейских холмов, где его могучие ноги могли бы на славу потрудиться. Потом на борт погрузили провиант и воду, арбалеты и связки стрел, подковы, гвозди, молотки, ножи, топоры, веревки, сено, зеленый фураж и еще много всякой всячины. Во время погрузки возле судов постоянно находился суровый молодой рыцарь, сэр Роберт; он за всем следил сам, все проверял и перепроверял; говорил он, по обыкновению, мало, но всегда оказывался там, где нужны были его глаз, руки или тяжелый арапник.
У матросов «Василиска», моряков свободного порта, была старая вражда с командами из Пяти портов, которым, как считали на всех других английских судах, незаслуженно покровительствовал король. Встреча кораблей с западного побережья с кораблями из портов Пролива редко обходилась без кровопролитья. Поэтому на причале то и дело возникали ссоры: команда с «Фомы» и «Милости Господней» с именем св. Леонарда на языке и жаждой убийства в глазах, горланя и потрясая кулаками, набрасывалась на моряков с «Василиска». Вот тогда-то среди взмахов дубин и блеска ножей мгновенно возникала сильная фигура молодого военачальника, который, безжалостно разя арапником направо и налево, как укротитель среди волков, заставлял орущую толпу вернуться к работе. К утру четвертого дня все было готово; отдав концы, три суденышка, влекомые собственными пинассами, двинулись из гавани и вскоре затерялись в тумане, поднявшемся над Проливом.
Отряд, который Эдуард послал на подкрепление гарнизонам Бретани, оказавшимся в трудном положении, был невелик, но достаточно силен. В нем почти не было людей, еще не побывавших в сраженьях, а возглавляли его выдающиеся рыцари, известные разумностью в военных советах и доблестью на поле брани. На «Василиске» свое знамя с черным вороном поднял Ноулз. При нем состояли его собственный оруженосец Джон Хоторн и Найджел. В его отряде в сто человек сорок были из долин Йоркшира и сорок из Линкольна — знаменитые лучники во главе с Уотом Карлайлом, седовласым ветераном пограничных войн.
Сила и ловкость Эйлварда уже завоевали ему положение старшины, и вместе с Длинным Недом Уиддингтоном он как лучник пользовался почти такой же репутацией, что и знаменитый Уот Карлайл. Копейщики тоже были закаленные в боях солдаты. Их возглавлял Черный Саймон из Нориджа, тот самый, что приплыл вместе с Найджелом и Эйлвардом из Уинчелси. Он ненавидел французов, убивших всех его близких, и словно кровная гончая, бросался туда, где мог утолить жажду мщения, будь то на воде или на суше. Под стать им были и остальные, плывшие на двух других судах: чеширцы с уэльских границ на «Фоме» и кабмерлендцы, уже отвоевавшие с Шотландией, на «Милости Господней».
Сэр Джеймс Эстли повесил свой щит с пятилапчатым горностаем над кормой «Фомы». Лорд Томас Перси, младший сын Эника, уже поддержавший боевую репутацию этого дома, который не одно столетие служил запором на воротах, ведущих в глубь страны, возглавил отряд на «Милости Господней», выставив своего лазурного льва, стоящего на задних лапах. Вот какие отряды, держа курс на Сен-Мало, выходили из гавани Кале, чтобы тут же исчезнуть в клубящемся тумане Пролива.
С востока тянул легкий бриз, и высокие крутогрудые суда медленно шли по Проливу. Временами туман приподнимался, и тогда с каждого корабля было видно, как два других тяжело переваливаются на лоснящейся, маслянистой поверхности моря; но он тут же снова опускался, закрывая марс, обволакивая большой рей, и, наконец, разливался пеной по палубе, пока с глаз не исчезала даже вода за бортом, и людям казалось, что они плывут на плотике в океане густого пара. Пошел мелкий холодный дождь, и лучники сгрудились под нависающими над палубой полуютом и баком; одни спали, другие играли в кости, а многие приводили в порядок стрелы или начищали оружие.
На дальнем конце в окружении корыт и ящиков с перьями восседали на бочке, словно на почетном троне, Бартоломью, стрелок, делавший луки, и Флетчер, лысый толстяк, обязанностью которого было следить, чтобы у каждого солдата было в порядке снаряжение, и который мог продавать им все, что нужно сверх положенного. Перед ним толпились стрелки с луками и колчанами — кто жалуясь, кто чего-то требуя, а полдюжины пожилых солдат собрались у него за спиной и, ухмыляясь, слушали его пояснения и брань.
— Не можешь натянуть тетиву? — говорил он молоденькому лучнику. — Значит, либо она коротка, либо лук длинен, только уж, точно, не потому, что в твоих руках силы хватает лишь на то, чтобы натягивать штаны, а не тетиву на лук. Смотри, ленивый бездельник, вот как ее натягивают!
Правой рукой он схватил лук посередине, правой ногой наступил на его конец, левой рукой пригнул верхний конец и легко накинул тетиву на выемку.
— А теперь, изволь, сними тетиву, — сказал он, передавая лук стрелку.
Стрелку с большим трудом удалось это сделать, но он не успел вовремя убрать руку, и тетива, с громким щелчком соскользнув с верхней выемки, больно ударила его по пальцам. Неудачливый лучник заметался, прижимая к себе руку, а по палубе волной прокатился громкий хохот.
— Так тебе и надо, недоумок! — проворчал старый лучник. — Такой отличный лук пропадает зря! А ты что скажешь, Сэмкин? Сдается мне, что тебя мне учить нечему. Вот лук, сделанный по всем правилам. Но ты дело говоришь, он стал бы еще лучше, если б вот тут посредине этой красной шелковой оплетки отметить точное место выемки белой тесьмой. Оставь его, я сейчас им займусь. А у тебя что, Уот? Новый наконечник на копье? Господи, подумать только! Человеку под одной крышей заниматься четырьмя ремеслами! И луки-то я делай, и стрелы, и тетиву, а тут еще и наконечники! У старого Бартоломью четыре ремесла, да вот плата только одна!
— Ладно, ладно, помолчал бы, — проворчал старый лучник с иссохшей, морщинистой коричневой кожей и маленькими блестящими глазками. — В наши дни луки куда лучше чинить, чем гнуть. Ты вот никогда француза в глаза не видел, а получаешь по девять пенсов в день; а я был ранен в пяти сраженьях, но больше четырех пенсов не зарабатываю.
— Сдается мне, Джон из Таксфорда, что глаза твои видели больше кружек меда, чем французов, — сказал старый мастер. — Я гну спину от зари до темна, а ты знай балуешься элем в пивных. А тебе что, паренек? Чересчур туг? Положи лук на рукоять. Она тянет на шестьдесят фунтов — как раз для парня твоего роста. Сильней налегай на него, и все пойдет как надо. Как же ты хочешь стрелять на четыре сотни шагов, если лук у тебя не тугой? Тебе перьев? Сколько угодно, и самые лучшие. Вот фазаньи, по грошу за каждое. Уж, конечно, такой щеголь с золотыми серьгами, как ты, Том Биверли, не станет брать никаких, кроме фазаньих.
— Мне все равно какие, лишь бы стрела летела куда надо, — ответил высокий молодой йоркширец, отсчитывая пенни на ладони мозолистой руки.
— Перо серого гуся стоит всего фартинг. Вон те, слева, — полпенса. Это перья дикого гуся. А второе перо болотного гуся дороже, чем домашнего. Эти вот, на медном лотке, — выпавшие перья, они лучше выдернутых. Бери дюжину, парень, и обрежь их наподобие седла или кабаньего хребта — те смертельны вблизи, а эти летят дальше, — и ни у кого в отряде не будет висеть за плечами колчан лучше твоего.
Однако то, что говорил о стрелах мастер, не понравилось Длинному Неду Уиддингтону, угрюмому йоркширцу с бородой цвета соломы; стоя неподалеку, он прислушивался к его наставлениям и презрительно ухмылялся. Потом вдруг вмешался в разговор.
— Ты бы лучше продавал луки, а не учил стрелять из них, — сказал он, — в мозгах-то у тебя не больше ума, чем волос на голове. Если б ты стрелял из лука столько месяцев, сколько я лет, ты бы знал, что, если обрезать перо прямо, стрела летит куда ровнее. А ты говоришь — кабаний хребет! Худо, что у этих молодых лучников нет учителя получше.
Этот выпад против его профессионального мастерства привел Бартоломью в ярость. Лицо его налилось кровью, в глазах мелькнул огонь, и он набросился на лучника.
— Ты, семифутовая бочка лжи! — заорал он. — Клянусь всеми святыми, я покажу тебе, как разевать на меня свою поганую пасть! Бери меч и выходи вон туда, на палубу. Посмотрим, кто из нас настоящий солдат. Пусть мне никогда больше не прижимать большим пальцем стрелу, если я не поставлю свой знак на твоей тупой башке.
В ссору тотчас ввязалось два десятка голосов: одни за мастера, другие за своего земляка с Севера. Какой-то рыжий житель долин выхватил было меч, но тут же тяжелый кулак соседа уложил его на палубу. В одно мгновенье, жужжа, как рой разъяренных шершней, на палубу высыпали лучники, но не успело раздаться и удара, как среди них оказался Ноулз. Глаза его сверкали, лицо словно окаменело.
— Разойдись, кому говорю! У вас впереди еще хватит сражений, еще успеете поостудить кровь, прежде чем снова увидите Англию. Лоринг, Хоторн, валите всякого, кто поднимет руку. Ты что-то хочешь сказать, ты, рыжий негодяй? — И он приблизил лицо почти вплотную к лицу рыжего лучника, который первым схватился за меч. Стрелок в страхе отпрянул, не выдержав его бешеного взгляда. — Прекратите шум, вы там, и развесьте свои длинные уши! Трубач, протруби еще раз!
Сигнал рожка подавался каждые четверть часа, для того, чтобы не терять связи с двумя другими судами, совершенно не видимыми в тумане. И вот снова прозвучала высокая чистая нота, призыв свирепого морского чудовища к своим соплеменникам, но на этот раз из-за стен густого тумана, окружавших их со всех сторон, в ответ не донеслось ни звука. Снова и снова подавали они сигнал и, затаив дыханье, ждали ответа.
— Где шкипер? — спросил Ноулз. — Как тебя зовут? И ты смеешь считать себя настоящим моряком?
— Меня зовут Нэт Деннис, благородный сэр, — отозвался старый седобородый моряк. — Вот уже тридцать лет, как я впервые просвистел сбор команде у выхода из Саутгемптонской гавани. Если кто и может считаться настоящим моряком, так это я.
— Где остальные наши суда?
— Что вы, сэр, кто это может сказать в таком тумане?
— Но ведь это ты должен был держать их вместе.
— Господь дал мне только два глаза, благородный сэр, а они не могут ничего рассмотреть в этой темноте.
— Если б не было тумана, я сам, хоть я и солдат, держал бы их вместе. А в такую погоду мы рассчитывали на тебя — ведь моряк-то ты! Но ты не сумел ничего сделать. Из-за тебя два судна пропали еще до начала военных действий.
— Что вы, благородный сэр! Подумайте, пожалуйста…
— Хватит слов! — отрезал Ноулз. — Словами не вернуть двух сотен моих людей. Если я не найду их до того, как мы прибудем в Сен-Мало, для тебя это обернется черным днем, клянусь святым Уилфридом Рипенским. Ну хватит! Ступай и сделай все, что можешь.
Пять часов, подгоняемые легким бризом, они ныряли в густом тумане. Сверху непрерывно сеялся холодный дождь; мелкие капли блестели в спутанных бородах и на лицах. Порой в тумане появлялся просвет, и тогда со всех сторон судна на расстоянье полета стрелы открывались вздымающиеся волны. Потом клубы тумана наползали снова и снова огораживали их сплошною непроницаемой стеной. Они уже давно перестали подавать сигналы пропавшим судам и наделись только на то, что увидят их, когда погода прояснится. По прикидке шкипера, они были теперь где-то посередине между обоими берегами.
Найджел стоял, опершись на фальшборт, и мысли его витали далеко, в Косфордской лощине и на одетых вереском склонах Хайндхеда, как вдруг его ухо уловило какой-то звук. Это был тонкий, чистый, металлический звон, прокатившийся высоко над глухим рокотом моря, потом послышался скрип утлегаря, хлопанье парусов. Он напряг слух, и опять до его уха донеслись эти странные звуки.
— Прислушайтесь, милорд, — обратился он к сэру Роберту. — Там в тумане какие-то звуки!
Наклонив головы, оба стали внимательно прислушиваться. Снова раздался звон, но уже в другой стороне: первый раз он шел с носа: теперь с кормы. Звук повторился еще раз и еще. Вот он переместился на другой борт, потом опять на корму; он слышался то совсем рядом, то так далеко, что казался лишь слабеньким звяканьем. К этому времени уже все — матросы, лучники и копейщики — столпились у бортов. Со всех сторон в темноте раздавались звуки, но за влажной стеной тумана ничего нельзя было разглядеть. А звуки были разные, непривычные для уха: один и тот же высокий мелодичный звон.
Старый шкипер покачал головой и перекрестился.
— За все тридцать лет, что я на воде, ни разу не слышал ничего похожего, — сказал он. — В тумане разгулялся дьявол. Не зря его называют Князь Тьмы.
По судну волной прокатился страх; грубые, суровые люди, не пасовавшие ни перед каким смертным врагом, тряслись теперь от ужаса перед тем, что было лишь плодом их воображения. Побледнев, остановившимся взглядом они всматривались в облака тумана, словно оттуда в любую минуту могло броситься на них нечто чудовищное. Но в это время налетел порыв ветра, туман на мгновенье приподнялся, и перед ними открылось море.
Оно было усеяно судами, которые со всех сторон окружали маленький кораблик. Это были огромные каракки, высокие, величественные, с бортами, выкрашенными в красный цвет, покрытыми резьбой и позолотой. На каждом был поднят один большой парус, и все они шли по Проливу тем же курсом, что и «Василиск». На палубах толпились люди, а с высокого юта раздавались таинственные звуки, наполнявшие воздух. Удивительная эскадра, медленно продвигавшаяся вперед, лишь на миг показалась в рамке тумана: снова надвинулись клубящиеся пары, и корабли исчезли из виду. На «Василиске» все смолкло, но тут же раздался взволнованный гул голосов.
— Испанцы! — вырвалось из дюжины глоток матросов и лучников.
— Мне надо было это сразу сообразить, — сказал шкипер. — Я помню, как на Бискайском побережье они бряцали кимвалами, как язычники мавры, с которыми они воюют. Что же нам делать, благородный сэр? Ведь если туман приподнимется, считайте, что все мы покойники.
— У них, по меньшей мере, тридцать судов, — задумчиво сказал Ноулз. — Если мы их видели, значит, они нас тоже. И они возьмут нас на абордаж.
— Не думаю, благородный сэр. Мне кажется, наше судно легче и быстрее, чем их корабли. Если туман продержится еще хоть час, мы от них уйдем.
— К оружию! — вскричал вдруг Ноулз. — К оружию! Они гонятся за нами.
В самом деле, за то короткое время, пока туман не упал снова, с испанского флагманского корабля заметили «Василиск». При таком слабом ветре и густом тумане испанцы едва ли могли надеяться нагнать его под парусами, но, к несчастью, неподалеку от огромной испанской каракки оказалась низкая галера, узкая и быстроходная, весла которой могли нести ее и против ветра и против прилива. С нее тоже заметили «Василиск», и именно ей отдал приказ испанский адмирал. Несколько минут она рыскала в тумане, а потом вдруг выскочила из него, словно хищный зверь из засады. Как раз в то мгновенье, когда галера темной тенью скользнула за «Василиском», ее и увидел английский рыцарь, и с губ его сорвался грозный крик тревоги. В следующий миг на правом борту галеры убрали весла, суда со скрежетом сошлись, и поток темнокожих испанцев с победными криками хлынул через борт на палубу «Василиска».
Несколько минут казалось, будто судно удалось захватить без единого удара, — англичане, как безумные, метались по всей палубе в поисках оружия. Под нависающим полубаком и ютом десятки стрелков склонились над луками, надевая тетиву, которую они вытаскивали из водонепроницаемых чехлов. Другие протискивались между седлами, бочонками и ларями, лихорадочно разыскивая свои колчаны. Каждый, кому это удавалось, вытаскивал по несколько стрел для менее удачливых товарищей. Копейщики тоже суматошно кидались из угла в угол, вслепую хватаясь за стальные наконечники, тут же бросая их, если они не годились, и жадно устремляясь за любым мечом или кинжалом, которые попадались им на глаза.
Испанцы уже захватили шкафут и, сразив всех, кто оказался перед ними, стали в обе стороны теснить остальных. Но тут они поняли, что в когтях у них не жирный баран, а матерый старый волк.
Урок запоздал, зато был поучительным. Испанцы полагали, что имеют дело с торговым суденышком, а тут на них с обеих сторон навалились безнадежно превосходящие их числом воины. Живым из этой схватки не вышел никто. Да это была и не схватка, а бойня. Напрасно оставшиеся в живых с криком метались по палубе, взывая к святым о помощи, и спрыгивали вниз, на галеру. Ее тоже изрешетили стрелами с юта «Василиска», так что вскоре под их ливнем полегла команда на палубе и гребцы-рабы. От носа до кормы каждый фут ее был прошит стрелами. Теперь галера была просто плавучим гробом, где лежали груды мертвых и умирающих. Сначала она, тяжело качаясь, шла за «Василиском»; потом он быстро двинулся вперед и оставил ее в тумане.
В первые минуты сраженья испанцы схватили шесть человек команды и четырех безоружных лучников. Им перерезали глотку и выбросили их за борт. Теперь та же участь постигла раненых и мертвых испанцев, которыми была завалена палуба. Одному удалось убежать и спрятаться в трюме, но и его, визжавшего под ударами, словно крыса в темноте, загнали в угол и убили. Через полчаса уже ничто не напоминало о мрачной встрече в тумане, если не считать багровых пятен на палубе и бортах. Раскрасневшиеся, веселые лучники снова снимали с луков тетивы, потому что, несмотря на смазку, они быстро размягчались и слабели в сыром воздухе. Одни искали стрелы, которые могли остаться на судне, другие перевязывали полученные в схватке незначительные раны. Но с лица сэра Роберта не сходило беспокойство, и он напряженно всматривался в толщу тумана.
— Ступайте к лучникам, Хоторн, — приказал он своему оруженосцу, — пусть молчат, если жизнь дорога. Вы тоже, Лоринг, ступайте к ютовой команде и передайте то же самое. Если нас заметят с какого-нибудь большого корабля, всем нам конец.
Целый час, затаив дыхание, крались они среди кораблей, и все время со всех сторон до них доносились звуки кимвалов — так испанцы удерживали свои суда вместе.
Была минута, когда дикая музыка зазвучала над самым носом «Василиска», и ему пришлось изменить курс. В другой раз огромный корабль на миг завис прямо у него над кормой, но англичане успели отвернуть от него на два румба, и он снова растаял в тумане. Потом постепенно звон кимвалов превратился в отдаленное звяканье и наконец замер вдали.
— Вовремя, — сказал старый шкипер, показывая на бледное желтоватое пятно, появившееся у них над головой. — Посмотрите вон туда! Это пробивается солнце. Сейчас его будет видно. А! Что я говорил?
В небе в самом деле появилось тусклое, величиной не больше луны, только гораздо бледнее, солнце; по нему то и дело пробегали дымные завитки тумана.
Англичане смотрели на него, и прямо на глазах солнце становилось все больше и ярче; вокруг него светилось желтое гало; потом сквозь туман пробился луч, и вот уже, все расширяясь, на них хлынул золотой поток. Спустя минуту перед ними открылись чистые голубые воды, а над головой засинело небо, по которому плыли легкие белые облачка. Картина, представшая их глазам под этим лазурным куполом, на всю жизнь врезалась им в память.
«Василиск» шел по самой середине Пролива. По обе стороны лежали чистые белые и зеленые берега Пикардии и Кента. Впереди простирался широкий Пролив; воды его бледно-голубые возле носа судна, постепенно темнели и у далекого горизонта становились лиловыми. Позади клубился густой туман, из которого они только что вырвались. Серая стена тянулась с востока на запад, и сквозь нее виднелись огромные туманные очертанья испанских кораблей. Четыре судна уже пробились сквозь густую пелену и торжественно шли на запад, сверкая в лучах заходящего солнца красными позолоченными боками и расписными парусами. Каждую минуту из тумана выныривало еще одно золотое пятно; на какой-то миг оно вспыхивало яркой звездой, но тут же превращалось в медный нос исполинского корабля. Теперь облачную стену по всей ширине прорывали корпуса благородных кораблей, стремящихся на открытый простор. «Василиск» находился на расстоянии мили от их центра и в двух милях от флангов. А в пяти милях, ближе к французскому берегу, по Проливу шли два другие судна. Роберт Ноулз приветствовал появление «Фомы» и «Милости Господней» радостным возгласом, а старый шкипер — горячей благодарственной молитвой святым.
Но как ни приятно было видеть потерянных друзей и сколь ни удивительны казались испанские корабли, взоры всех находящихся на «Василиске» обратились не к ним — англичанам предстало зрелище куда более величественное, заставившее всех столпиться на полубаке и жадно вглядываться в даль: от берегов Уинчелси шел английский флот. Еще до того как туман поднялся, быстроходный галеас принес к английским берегам весть о том, что испанцы вошли в Пролив, и королевский флот был на ходу. И теперь его паруса, расцвеченные гербами и знаменами снарядивших корабли городов, сверкали вдоль всего кентского побережья, от мыса Данджнесс до Рая. Всего было двадцать девять судов из Саутгемптона, Шорема, Уинчелси, Гастингса, Рая, Хайта, Ромни, Фолкстона, Дила, Дувра и Сандвича. Они шли, развернув паруса по ветру, а испанцы, как и подобает доблестному противнику, каким они были во все времена, повернули навстречу им к берегу. И два сверкающих флота с раздутыми расписными парусами, с гордо развевающимися штандартами, под звуки труб и кимвалов устремились навстречу друг другу.
Корабль короля Эдуарда «Филиппа» весь день поджидал испанцев в миле от Кэмбер Сэндз. Над огромным парусом с королевским гербом реял алый английский крест. Вдоль фальшборта виднелись щиты сорока рыцарей, лучших воинов страны, и столько же знамен полоскались по ветру над палубой. На носу и на корме сверкало оружие копейщиков, посередине толпились лучники. Время от времени на королевском корабле раздавался грохот литавр и рев труб, и ему тут же вторили его великолепные соседи: «Лев» под флагом Черного Принца, «Христофор» под флагом графа Суффолка, «Тронная зала» Роберта Намюрского и «Дева Мария» сэра Томаса Холленда. Дальше шли «Белый лебедь» с гербом Моубрея, «Дилский паломник», над которым развевался украшенный черной головой штандарт Одли, и «Кентский моряк» под флагом лорда Бошана. Остальные суда в полной готовности стояли на якоре в бухте Уинчелси.
Король сидел на бочонке на носу корабля, а на коленях у него примостился маленький Джон Ричмондский, совсем еще ребенок. На Эдуарде была его любимая черная бархатная куртка и небольшая коричневая бобровая шляпа с белым пером. С плеч ниспадал роскошный горностаевый плащ. Позади расположились десятка два рыцарей, сверкавших шелками и атласами; одни сидели на перевернутой лодке, другие болтали ногами с фальшборта.
Перед королем, оперев ногу о якорный шток, стоял Джон Чандос в пестром кафтане, он перебирал струны гитары и пел песню, которой выучился в Мариенбурге[48], когда в последний раз сражался с тевтонскими рыцарями против неверных. Король, его рыцари и даже лучники на палубе под ними, слушая веселую песенку, громко смеялись и подтягивали хором, а на других судах люди перевешивались с бортов, чтобы поймать низкий голос Чандоса, раскатывавшийся по волнам.
Но внезапно песня смолкла. С наблюдательного пункта на вершине мачты раздался резкий хриплый крик:
— Вижу парус! Два паруса!
Джон Банс, королевский шкипер, из-под ладони всматривался в длинную стену тумана, закрывавшую всю северную часть Пролива. Чандос, так и не отнявший пальцы от струн, король и рыцари — все устремили взгляд в том же направлении. Сначала впереди показались два маленьких темных силуэта, потом еще один.
— Это, конечно, испанцы? — спросил король.
— Нет, ваше величество, — ответил шкипер, — у испанцев корабли больше и выкрашены в красный цвет. Не знаю, кто это может быть.
— Я, кажется, догадываюсь! — воскликнул Чандос. — Это же наши корабли с моими людьми, они идут в Бретань.
— Угадали, Джон, — отозвался король. — Только смотрите. Пресвятая Дева, что это такое?
В четырех местах на облачной стене засверкали звезды. И тут же на залитые солнцем воды вынырнули четыре высокогрудых корабля.
Неистовый крик прокатился по королевскому кораблю; его подхватили команды остальных судов, и вскоре по всему берегу от мыса Данджнесс до Уинчелси разнеслись воинственные крики. Король весело вскочил на ноги.
— Игра начинается, друзья мои, — объявил он. — Снаряжайтесь, Джон! Снаряжайтесь, Уолтер! Быстрее! Оруженосцы, несите доспехи! Пусть каждый позаботится о себе сам, времени у нас мало.
Странно было видеть, как сорок благородных рыцарей срывали с себя одежду, раскидывая по палубе шелка и бархат, а их оруженосцы спешно, как конюхи перед скачками, что-то подтягивали, закрепляли, поджимали, надевали забрала, поножи, нагрудники, наплечники, пока сияющий шелком придворный не превращался в закованного в сталь рыцаря. Когда они закончили свое дело, там, где только что под гитару сэра Джона пели и шутили веселые щеголи, теперь стоял отряд суровых воинов. Под ними, на палубе, лучники под присмотром командиров спокойно, молча занимали предписанные им места. Человек десять карабкались на опасный пост — маленькую площадку на мачте.
— Николас, принеси вина! — приказал король. — Повремените, милорды, не опускайте забрала, выпейте со мной последний глоток. Даю вам слово, вы успеете протрезветь, прежде чем снова откроете лицо. За что мы выпьем, Джон?
— За испанцев, — ответил Чандос. Его сухое лицо с большим крючковатым носом выглядывало из-под шлема, словно зловещая птица. — Пусть они будут отважны сердцем и сильны духом!
— Хорошо сказано, Джон, — воскликнул король, а рыцари весело рассмеялись, осушая кубки. — Итак, милорды, каждый на свое место! Я командую здесь, на полубаке. Вы, Джон, возьмите на себя ют. Уолтер, Джеймс, Уильям, Фиц-Аллен, Гоулдзборо, Реджиналд останутся со мной. Джон, выбирайте кого хотите, остальные будут при лучниках. Теперь, шкипер, берите курс прямо на середину. Прежде чем сядет солнце, мы приведем нашим дамам красный корабль или уж больше никогда не взглянем им в лицо.
Искусство водить корабли против ветра еще не было известно, не было еще и косых парусов, за исключением переднего, с помощью которого судно поворачивали. Поэтому английскому флоту, чтобы встретить врага, пришлось пересекать Пролив по длинной косой линии: но испанцы, идущие по ветру, рвались в бой столь же нетерпеливо, так что никакой задержки не произошло. Две великолепные армады неуклонно сближались.
И тут одна блестящая каракка, красная с золотом, окаймленная по бортам сверкающей сталью, вырвалась вперед и на полмили обогнала остальные суда; голубая вода пенилась под ее раззолоченым носом, и она была так красива, что у Эдуарда загорелись глаза.
— Какой прекрасный благородный корабль, Бане! — обратился он к стоявшему рядом шкиперу. — Я с удовольствием бы с ним сразился. Прошу, держите прямо, чтобы мы подошли к нему с подветренной стороны.
— Если мы пойдем прямо, одно из судов потонет, а может быть и оба, — отвечал шкипер.
— Я уверен, что с помощью Пресвятой Девы мы сделаем свое дело. Держите прямо, шкипер, как я приказал.
Теперь суда были друг от друга на расстоянии полета стрелы, и арбалетчики начали обстрел английского корабля. Их дьявольские стрелы, короткие, толстые, жужжа в воздухе, ударялись о фальшборт, впивались в палубу, словно огромные осы, с громким звоном отскакивали от лат рыцарей, с глухим мягким звуком входили в незащищенные части тела воинов.
Лучники, стоявшие вдоль бортов «Филиппы», спокойно ждали команды. Но вот раздался резкий, громкий крик командира, и разом зазвенела тетива всех луков. Воздух наполнился звоном и свистом стрел, протяжными возгласами лучников и короткими отрывистыми командами старшин.
— Осторожно! Осторожно! Тверже ногу! Стрелять всем разом! — Отрывистые команды заглушали отдельные пронзительные крики, как рокот волн завывание ветра.
Когда суда сошлись, испанцы повернули на несколько румбов, так чтобы удар был скользящим, но все же он был ужасен. На марсе испанской каракки дюжина матросов раскачивала огромный камень, чтобы сбросить его на палубу англичан, как вдруг они увидели, что мачта под ними треснула, и в ужасе пронзительно закричали. Мачта стала крениться, сначала медленно, потом все быстрее, и, наконец, с грохотом упала набок, а люди полетели далеко в море, словно камни, пущенные из пращи. Там, где упала мачта, на палубе теперь лежали ряды раздавленных тел. Но пострадал и английский корабль. Его мачта, правда, устояла, но от мощного удара люди попадали на палубу, а те, кто стоял вдоль бортов, оказались в воде. Один лучник свалился с марса и с глухим ударом упал на полубак прямо возле распростертого тела короля. У многих при падении с высокого полубака на шкафут были сломаны руки или ноги. Еще хуже было то, что от удара кое-где разошлись швы, и теперь в трюм хлестала вода.
Но команду составляли люди опытные и дисциплинированные, они и раньше не раз сражались вместе на море и на суше, и каждый отлично знал, когда и что нужно делать. Все, кто мог встать на ноги, тут же бросились помогать рыцарям, попавшим ногами в шпигаты: они с грохотом катались по палубе и не могли подняться из-за тяжести доспехов. Лучники снова построились, как и раньше. Матросы перебегали от одного зияющего шва к другому и заделывали их смолой и паклей. Через десять минут порядок был восстановлен, и «Филиппа», хотя ей порядком досталось, снова была готова к бою. Король в ярости озирался по сторонам, словно раненый кабан.
— Берите его на абордаж, — кричал он, указывая на изуродованного испанца, — мы должны его взять!
Но ветер уже пронес их мимо каракки, и теперь на них надвигалась добрая дюжина испанских судов.
— Мы не можем преследовать его: нам пришлось бы подставить борт другим, — объяснил шкипер.
— Пусть идет куда хочет, у нас будет кое-что получше! — закричали рыцари.
— Клянусь святым Георгием, вы правы, — сказал король. — Те, что подходят, похоже, прекрасные корабли. Прошу, шкипер, атакуйте ближайший.
Большая каракка уже приблизилась к ним на полет стрелы и шла наперерез. Банс посмотрел на свою мачту и увидел, что она колеблется и клонится. Еще один мощный удар, и она упадет, а его судно станет беспомощной игрушкой волн. Поэтому он повернул руль и повел судно вдоль борта испанца, одновременно приказав бросать абордажные крючья и железные цепи.
Испанцы с не меньшим рвением стали цепляться за борта «Филиппы» своими абордажными крюками, и скоро оба судна, плотно прижавшись друг к другу уже раскачивались вместе на бесконечных синих волнах. Над бортами нависли целые тучи людей, сцепившихся в отчаянной схватке; они то устремлялись вперед, на палубу испанца, то снова отступали на корабль короля, кружа из стороны в сторону, а над ними, словно вспышки серебряного пламени, сверкали клинки; и со всех сторон к чистому голубому небу над головой поднимались протяжные, наподобие волчьего воя, крики — в них смешалась ярость воинов и смертные муки раненых.
Но тут один за другим подошли английские корабли и тоже стали бросать железо на ближайшие испанские суда, стремясь преодолеть их высокие красные борта. Теперь уже двадцать судов дрейфовали, сцепившись в таком же жестоком поединке, как «Филиппа», и по всей поверхности моря, куда хватал глаз, шли отчаянные схватки. Та каракка со сломанной мачтой, которая была брошена королевским кораблем, была вскоре захвачена «Христофором» графа Суффолка, и на воде вокруг нее виднелось множество голов ее команды. Один английский корабль тонул, пробитый огромным камнем, пущенным из баллисты, и его команда тоже держалась на воде, потому что ни у кого не было времени оказать им помощь. Еще одно судно англичан оказалось зажато между двумя испанскими кораблями, и все, кто был на борту, перебиты, так что ни один не спасся. Однако Моубрей и Одли, в свою очередь, захватили каждый по каракке, и бой, проходивший для каждой из сторон с переменным успехом, теперь явно выигрывали островитяне.
Черный Принц на «Льве», «Дева Мария» и еще четыре судна пошли было в обход, чтобы напасть на испанцев с фланга, но маневр был замечен, и англичан встретили десять испанских судов во главе с «Сант-Яго де Компостела». На него-то Принц и направил свое суденышко, изо всех сил пытаясь взять его на абордаж; но борта его были слишком высоки, а сопротивление столь яростным, что людям принца так и не удалось продвинуться дальше фальшборта — их атаки всякий раз отбивали, и они с грохотом и звоном падали на палубу. Вдоль борта «Сант-Яго де Компостела» стоял сплошной частокол арбалетчиков, которые в упор расстреливали толпившихся на шкафуте «Льва» англичан, так что убитые уже лежали грудами. Однако всего страшнее был темнокожий черноволосый великан на марсе: он скрючился так, что его совсем не было видно, но то и дело поднимался с огромным куском железа в руках и с такой силой швырял его вниз, что перед ним ничто не могло устоять. Снова и снова летели вниз эти тяжеленные снаряды, проламывали палубу и падали на дно судна, сотрясая доски и ломая все, что встречалось им на пути.
Принц в черных доспехах, которым был обязан своим прозвищем, стоял на полуюте, отдавая команды, как вдруг к нему бросился перепуганный шкипер.
— Ваше высочество! — закричал он. — Кораблю не выдержать таких ударов. Еще несколько, и он пойдет ко дну! Вода уже хлещет в трюм!
Принц взглянул наверх, и в этот миг над марсом показалась косматая борода и две руки устремились вниз. Тут же огромный кусок металла, просвистев в воздухе, пробил в палубе зияющую дыру и упал в трюм, ломая и расщепляя доски. Шкипер схватился за седые волосы.
— Еще пробоина! — закричал он. — Святой Леонард, помоги нам пережить этот день! Двадцать матросов откачивают ведрами воду, а она все прибывает. Через час мы уже не сможем держаться на плаву.
Принц выхватил у одного из окружавших его людей арбалет и навел его на марс испанца. В это самое мгновенье матрос на марсе выпрямился с новой болванкой в руках, и стрела Принца поразила его прямо в лицо, так что тело опрокинулось на огражденье, и он повис вниз головой. Англичане завопили от радости, испанцы разразились проклятьями. Какой-то матрос поднялся из трюма «Льва» и что-то шепнул шкиперу. Тот с пепельно-серым лицом обернулся к Принцу.
— Ваше высочество, все что я сказал, — правда. Судно погружается.
— Вот мы и должны добыть себе другое, — ответил Принц. — Сэр Генри Стоукс, сэр Томас Стертен, Уильям, Джон Клифтонский! Вот нам путь! Вперед мое знамя, Томас де Моэн! Вперед, и победа за нами!
В отчаянной свалке десяток человек во главе с Принцем пробились на край испанской палубы. Одни яростно разили мечами направо и налево, чтобы освободить немного пространства, другие, держась одной рукой за поручни, перевешивались вниз и подтягивали оттуда своих соратников. С каждой минутой силы их возрастали — двадцать уже стали тридцатью, а тридцать — сорока, как вдруг, когда вновь прибывшие протягивали руки тем, кто еще оставался внизу, они увидели, как палуба под ними накренилась и исчезла в клубящейся пене. Корабль Принца пошел ко дну.
С яростными воплями испанцы кинулись на горстку людей, оказавшихся на палубе. К тому времени Принц и его люди захватили ют и сверху отбивали рвущихся к ним врагов. Но арбалетные стрелы так и сыпались, и вскоре каждый третий уже лежал на досках. Еще один, в крайнем случае, два натиска, и стойкость англичан будет сломлена: темнокожие испанцы, закаленные в бесконечных схватках с маврами, были жестокими и непреклонными бойцами. Но что это за крик раздался вдруг с дальнего конца судна?
— Святой Георгий! Святой Георгий! Ноулз идет на выручку!
Вдоль борта испанца скользнуло какое-то суденышко, и шестьдесят человек ворвались на палубу «Сант-Яго». Зажатые с двух сторон испанцы дрогнули, их сопротивление было подавлено. Сраженье превратилось в избиение. С юта спрыгнули люди Принца. От шкафута бежали вновь прибывшие. Прошло пять ужасных минут, когда со всех сторон сыпались удары, раздавались мучительные крики боли и мольбы, на палубе корчились раненые, тщетно цепляясь за борта, то и дело слышались зловещие всплески воды. Потом все кончилось, и усталые, измученные люди, тяжело дыша, застыли, кто опираясь на оружие, кто развалившись на палубе плененной каракки.
Принц поднял забрало. Он с гордостью улыбнулся, оглядывая все вокруг, и вытер взмокшее лицо.
— Где шкипер? — спросил он. — Пусть ведет нас на захват еще одного корабля.
— Ваше высочество, шкипер и все его люди затонули вместе со «Львом», — ответил Томас де Моэн, молодой рыцарь с Запада, державший знамя. — Мы потеряли наш корабль и с ним половину людей. Боюсь, мы не сможем больше сражаться.
— Это не так уж и важно, раз мы одержали победу, — сказал Принц, оглядывая море. — Смотрите, вон там над испанцем развивается штандарт короля, моего благородного отца. Знамена Моубрея, Одли, Суффолка, Бошана, Намюра, Трейси, Стаффорда и Эрендела также реют над красными каракками, как и мое. А вон те суда прорвались, теперь их не догнать. Но право же, мне следует поблагодарить вас, вы пришли нам на помощь в такую опасную минуту. Я уже где-то видел ваше лицо и герб тоже, юный рыцарь, только вот имя ваше не приходит мне на память. Назовитесь же, чтобы я мог вас поблагодарить. — И он обернулся к Найджелу, который стоял во главе абордажной команды с «Василиска», раскрасневшийся и счастливый.
— Я всего лишь оруженосец, ваше высочество, и меня не за что благодарить: я ничего не сделал. Вот кто нас вел.
Принц перевел взгляд на щит с черным вороном и суровое молодое лицо человека, который его держал.
— Сэр Роберт Ноулз, — сказал он, — я полагал, что вы находитесь на пути в Бретань.
— Так оно и было, ваше высочество, когда я имел счастье увидеть это сражение.
Принц рассмеялся.
— Конечно, Роберт, нельзя же требовать, чтобы вы шли своим курсом, когда совсем рядом можно завоевать честь и славу. Однако теперь идемте, пожалуйста, с нами в Уинчелси: отец, я уверен, пожелает поблагодарить вас за то, что вы сегодня сделали.
Но Роберт Ноулз покачал головой.
— Я выполняю повеление вашего отца и без его приказа не могу от него отступить. Наши люди в Бретани в крайне тяжелом положении, и мне нельзя мешкать. Прошу, ваше высочество, если вам придется упомянуть перед королем мое имя, попросите его простить меня за то, что я прервал свой путь.
— Вы правы, Роберт. Бог вам в помощь на вашем пути. Я тоже хотел бы плыть под вашим знаменем, потому что вижу: вы поведете своих людей туда, где они с честью завоюют славу. Может быть, еще до конца года я тоже буду в Бретани.
Принц стал собирать своих измученных воинов, а люди с «Василиска» снова перелезли через борт каракки и спрыгнули на палубу своего суденышка. Они оттолкнулись от пленного испанца и подняли парус, устремив нос на юг. Далеко впереди виднелись два их товарища; они пробивались к месту сраженья, чтобы оказать помощь; а еще дальше по Проливу шла дюжина испанских судов, за которыми поспешало несколько кораблей англичан. Солнце уже почти касалось воды, а его низкие лучи горели на красных с золотом бортах четырнадцати больших каракк, на каждой из которых реял крест св. Георгия. Борта их высоко поднимались над горсткой английских судов, которые с развевающимися флагами, под звуки музыки медленно направлялись к берегам Кента.
Глава XVIII Как Черный Саймон получил заклад от короля острова Акулы
Полтора дня маленькая флотилия успешно продвигалась вперед, пока на утро второго дня, когда уже показался мыс де ла Аг, с суши не задул свежий ветер и не погнал суда обратно в море. Постепенно он перешел в настоящий шторм с дождем и туманом, и целых два дня англичанам пришлось пробиваться обратно. Утром следующего дня они оказались в месте, сплошь усеянном поднимавшимися из волн грозными скалами; справа по борту виднелся какой-то островок. Его окаймляли высокие красноватые гранитные утесы, за которыми тянулись ярко-зеленые травянистые склоны. Неподалеку лежали еще острова, поменьше. Шкипер Деннис взглянул на них и покачал головой.
— Этот вот — Брешу, — сказал он, — а там, побольше, — остров Акулы. Случись мне потерпеть кораблекрушение, не хотел бы я угодить на этот берег.
Ноулз внимательно осмотрел остров.
— Да, шкипер, что верно, то верно. Место очень мрачное и опасное — кругом одни скалы.
— Нет, я не об этом. Я говорю, что у людей на нем души почернее этих скал, — ответил старый моряк. — На трех судах нам ничего не грозит, а вот будь у нас только одно, они, уж точно, напали бы на нас с лодок.
— А что это за люди? Как же они живут на таком жалком островке? Ведь на нем ничего нет, кроме ветра?
— Они живут не с острова, а с того, что подбирают вокруг него в море, добрый сэр. Это всякий сброд из разных стран: кто скрывается от правосудия, кто бежал из тюрьмы, разные грабители, беглые рабы, убийцы да дезертиры. Им удалось добраться до острова, и теперь они никого сюда не подпускают. У нас тут на борту есть один, он может порассказать о них, он побывал у них в плену. — И моряк указал на Черного Саймона, темноволосого человека из Нориджа, который стоял, опершись о борт, и мрачно глядел на мрачный остров.
— Эй, парень, говорят, ты побывал в плену на этом острове? — спросил Ноулз. — Это правда?
— Сущая правда, добрый сэр. Я восемь месяцев был слугой человека, которого они называют королем. Его зовут Ла Мюэтт, он с острова Джерси. Вот кого бы я больше всего на свете хотел повидать.
— Он с тобой плохо обращался?
Черный Саймон криво улыбнулся и стянул куртку. Вся его тощая мускулистая спина была исполосована белыми шрамами.
— Он поставил мне на спину свою печать, — сказал Саймон, — поклялся, что сломит мою волю и подчинит себе, вот и старался. Да видеть-то мне его надо не поэтому, а потому что он проиграл мне заклад, и я хочу его получить.
— Ты несешь какую-то околесицу. Что это за заклад и почему он должен тебе платить?
— Дело-то пустяковое, — ответил Саймон, — но я человек бедный, и плата мне не помешает. Если нам придется зайти на остров, прошу вас, отпустите меня на берег, чтобы я мог стребовать то, что честно выиграл.
Сэр Роберт Ноулз рассмеялся.
— Занятная история, мне она нравится. А насчет захода на остров, так шкипер говорит, что им все равно надо на день задержаться, укрепить обшивку. Ну а если ты сойдешь на берег, ты уверен, что тебе позволят потом уйти? Да и увидишь ли ты этого короля?
Лицо Черного Саймона просияло от жестокой радости.
— Благородный сэр, если вы меня отпустите, я буду у вас в неоплатном долгу. А что до самого острова, так я знаю его вдоль и поперек не хуже, чем улицы Нориджа. Вы же видите, там места всего ничего, а я прожил на нем почти год. Мне бы только высадиться, как стемнеет, а в дом к королю я всяко попаду, и если он не помер или не рехнулся от пьянства, я сумею поговорить с ним один на один: я знаю его привычки и где его найти. Вот только если б со мной пошел лучник Эйлвард, чтобы хоть один человек мог прийти мне на помощь, если дело обернется скверно…
Ноулз задумался.
— Ты хочешь слишком многого. Клянусь Господом, ты и твой друг, насколько я знаю, — люди, которых мне никак нельзя потерять. Я видел, как вы дрались с испанцами, и знаю, чего вы стоите. Но все же я тебе доверяю, и если уж нам придется задержаться в этом проклятом месте, можешь делать, что задумал. А если ты меня обманываешь или придумал все это просто, чтобы сбежать, — да хранит тебя Господь, когда мы снова встретимся, потому что люди тогда тебе не помогут.
Однако вскоре выяснилось, что надо не только проконопатить швы, но и набрать свежей воды на «Фому». Поэтому суда стали на якорь возле острова Брешу, где можно было найти ручьи. На этом островке людей не было, зато на другом, подальше, виднелась целая толпа, внимательно наблюдавшая за пришельцами. Она была вооружена — там то и дело вспыхивали отблески клинков. Какая-то лодка даже подплыла поближе к англичанам, чтобы все хорошенько рассмотреть, но быстро убралась восвояси, поняв, что они слишком сильны и трогать их нельзя.
Черный Саймон разыскал Эйлварда под полуютом. Лучник сидел спиной к мастеру Бартоломью и, весело насвистывая, вырезал на луке девичье лицо.
— Слушай, приятель, — позвал Саймон, — пойдешь со мной ночью на остров? Мне нужна будет твоя помощь.
Ответ Эйлварда не заставил себя ждать.
— Пойти с тобой? Клянусь правой рукой, мне давно охота снова ступить на добрую черную землю. Я ходил по ней всю жизнь, но только теперь, поплавав на этих проклятущих судах, понял, чего она стоит. Я сойду с тобой на берег, Саймон, и давай поищем баб, если они там есть; я, кажется, уже целый год не слыхал их голосков, а глазам моим до смерти надоели рожи вроде твоей или Бартоломью.
На мрачном лице Саймона появилась улыбка.
— Ты там увидишь только одну рожу, Сэмкин, и она тебя не слишком порадует, — ответил он, — наперед говорю, дело это нелегкое, ничего в нем не будет приятного, а если нас схватят, легкой смерти нам не видать.
— Клянусь наручкой, — откликнулся Эйлвард, — я с тобой, болтун, куда б ты ни пошел. Хватит слов, мне надоело жить, словно кролик в норе. Я готов идти с тобой на это дело.
В тот же вечер, часа через два после того, как стемнело, от «Василиска» отошла лодка. В ней были Саймон, Эйлвард и два матроса. Солдаты были с мечами, а у Черного Саймона за плечами висел коричневый мешок из-под сухарей. Он показал гребцам, как обойти опасные буруны, пенившиеся вокруг утесов, и вскоре лодка подошла к месту, где выступающий риф образовывал волнолом. За ним тянулся пояс спокойного мелководья. Там лодку вытащили на берег, матросы остались ждать, а Саймон и Эйлвард отправились по своему делу.
Уверенно, как человек, отлично знающий, где он находится и куда держит путь, копейщик стал карабкаться по узкой, поросшей по сторонам папоротником расщелине в скале. Подниматься в кромешной тьме было нелегко, но Саймон упорно шел вперед, как гончая по горячему следу, а за ним, задыхаясь, но изо всех сил стараясь не отстать, поспешал Эйлвард. Наконец они оказались на вершине, и лучник в изнеможении бросился на траву.
— Ну, Саймон, — признался он, — у меня не хватит дыханья даже на то, чтобы задуть свечу. Повремени немного, у нас ведь впереди целая ночь. Видать, этот человек — верный друг, что ты так спешишь его повидать.
— Да уж такой друг, что мне и во сне не раз снилось, как я с ним встречусь. Ну, а теперь я его повидаю еще до того, как зайдет луна.
— Была б это девка, я тебя понял бы, — ответил Эйлвард. — Клянусь всеми десятью пальцами, если б на этой скале меня ждала Мэри с мельницы или Кейт из Комптона, я тоже взбежал бы сюда и не заметил даже как. Но, послушай, там, в тени, видны дома и кто-то разговаривает.
— Это их поселок, — прошептал Саймон. — Под его крышами живет сотня кровожадных головорезов, каких свет не видал. Слушай!
В темноте раздался взрыв хохота и сразу за ним протяжный мучительный крик.
— Господи, не оставь нас! — воскликнул Эйлвард. — Что это такое?
— Похоже, к ним в лапы попал какой-то бедолага, как я когда-то. Иди сюда, Сэмкин, они тут где-то торф выбирали — там можно спрятаться. Ага, вот здесь, только канава стала поглубже да пошире, чем раньше. Держись ближе; по ней мы доберемся к дому короля на бросок камня.
И они поползли по темной канаве. Вдруг Саймон схватил Эйлварда за плечо и подтолкнул его к стенке, где было еще темнее. Скрючившись, они прислушались к шагам и голосам, раздававшимся на дальнем конце траншеи. По ней шли два человека. Немного не дойдя до того места, где затаились сотоварищи, они остановились. На звездном небе ясно вырисовывались их фигуры.
— Что ты лаешь Жака? — спросил один из них на странной смеси английского с французским. — Le diable t'emporte![49] Тебе-то чего ворчать? Ты выиграл женщину, а я ничего. Чего тебе еще надо?
— У тебя еще будет случай, когда придет другой корабль, а у меня уже все, mon garcon[50]. Нечего сказать, женщина! Какая-то мужичка прямо с поля. Рожа вся желтая, как лапы у коршуна. А вот Гастону, который бросил девять против моих восьми, досталась такая красотка нормандочка — в жизни лучше не видал. К черту кости! А свою могу продать тебе за бочонок гасконского.
— Вина у меня нет, но могу дать тебе за нее бочку яблок, — отозвался второй. — Я взял ее с «Петра и Павла», судна из Фалмута, что наскочило на скалу в бухте Крез.
— Видно, твои яблоки не годятся для хранения. Так ведь и старуха Мэри тоже. Значит, мы квиты. Пошли, выпьем за сделку.
И они, шаркая ногами, пошли дальше в темноту.
— Слыхал когда-нибудь такую мерзость? — спросил Эйлвард, задыхаясь от ярости. — Ты слышал их, Саймон? Женщину за бочку яблок! А по той, другой, из Нормандии, сердце у меня прямо кровью обливается. Надо завтра же высадиться и выкурить этих крыс из нор.
— Ну что ты! Сэр Роберт ни за что не согласится тратить время или силы, пока мы не придем в Бретань.
— Да, вот если б мой молодой господин взялся за это дело, не прошло бы и дня, как все женщины на острове получили бы свободу.
— Точно, — ответил Саймон, — он из тех, кто поклоняется женщинам, как эти помешанные странствующие рыцари. А вот сэр Роберт — настоящий солдат, он никуда не свернет от цели.
— Саймон, — сказал Эйлвард, — здесь не больно светло, да и тесновато, но если ты выйдешь на открытое место, я покажу тебе, настоящий солдат мой господин или нет.
— Брось, парень! Ты что, такой же помешанный? У нас тут дело, а ты готов наброситься на меня, когда оно еще впереди. Я не говорю о твоем хозяине ничего худого, только он из тех, кто все мечтает да воображает невесть что. А Ноулз идет прямо к цели и не смотрит ни вправо, ни влево. Давай пошли дальше, время уходит.
— Саймон, то, что ты говоришь, неблагородно и несправедливо. Мы еще потолкуем об этом, когда вернемся. А теперь иди вперед, посмотрим получше, что это за чертов остров.
Они прошли еще полмили и наконец подошли к большому дому, стоявшему отдельно от остальных. Выглянув из-за края канавы, Эйлвард увидел, что здание сложено из обломков многих судов, потому что каждый из углов увенчивался носом корабля. Внутри ярко горели огни, и какой-то сильный голос пел веселую песню, которую хором подхватывали человек десять.
— Все в порядке, парень, — с удовольствием шепнул Саймон, — это голос короля. И песня та самая, что он всегда пел, «Les deux filles de Pierre»[51]. Клянусь Господом, у меня от этих звуков спина гореть начала. Вот тут мы и подождем, пока все разойдутся.
Так они и сидели, час за часом, укрывшись в торфяной канаве и слушая громкое пение шумной компании в доме. Песни были и французские, и английские и по мере того, как шло время, становились все более непристойными и все менее членораздельными. Один раз в доме возникла какая-то ссора, и шум был, как в клетке с дикими зверями перед кормежкой. Потом пили за чье-то здоровье, топали ногами, кричали «ура».
Это бесконечное бдение прервалось лишь однажды: из дверей вышла какая-то женщина и, опустив голову на грудь, стала ходить взад и вперед перед домом. Она была высока ростом и стройна, но лица ее не было видно — голову прикрывал платок. Склоненная голова и тяжелый, медленный шаг говорили о печали и усталости. Один раз она воздела руки к небу, как человек, которому неоткуда ждать людской помощи. Потом снова медленно вошла в дом. Спустя минуту дверь залы распахнулась, и орущая спотыкающаяся на ходу толпа вывалилась наружу, разбудив ночь дикими криками. Распутники двинулись мимо канавы к своим домам, взявшись за руки, горланя песню; понемногу их голоса смолкли.
— Теперь пора, Сэмкин! — воскликнул Саймон и, выскочив из укрытия, бросился к двери. Ее еще не успели запереть. Друзья ворвались внутрь, и Саймон заложил ее на засов, чтобы им никто не помешал.
Первое, что они увидели, был уставленный флягами и кубками длинный стол, освещенный рядом факелов, которые мерцали и чадили в железных подставках. На дальнем конце виднелась одинокая фигура человека. Он сидел, положив голову на руки, словно был сильно пьян, однако на громкий звук засова обернулся и зло посмотрел вокруг. У него была удивительно мощная голова с косматой рыже-коричневой, словно у льва, гривой волос и всклокоченной бородой. Широкое грубое лицо, обрюзгшее и прыщавое, говорило о порочной жизни. Когда друзья вошли, он рассмеялся, подумав, что вернулся кто-то из собутыльников, чтобы докончить флягу. Потом вдруг уставился на них и потер глаза, как человек, которому кажется, что видимое им происходит во сне.
— Mon Dieu![52] — воскликнул он. — Кто вы и откуда явились в этакое время? Как вы смеете нарушать наш королевский покой?
Саймон зашел с одной стороны, Эйлвард — с другой. Когда они оказались рядом с королем, копейщик выдернул из подставки факел и поднес к своему лицу. При виде его суровых черт король вскрикнул и отпрянул.
— Le diable noir![53] Саймон-англичанин! Что ты тут делаешь?
Саймон положил руку ему на плечо.
— Сиди на месте! — приказал он и толкнул его обратно на скамью. — Эйлвард, сядь по другую сторону от него. Славная получается компания, а? Много раз я прислуживал за этим столом, но никогда не надеялся за ним выпить. Налей себе, Сэмкин, и передай флягу.
Король переводил взгляд с одного на другого; в его налитых кровью глазах был ужас.
— Что ты собираешься делать? — спросил он наконец. — Ты что, совсем спятил, что пришел сюда? Стоит мне крикнуть, и ты в моих руках.
— Ошибаешься, любезный. Я прожил в этом доме не один день и знаю его обычаи. Слуги под твоей крышей не спят: ты всегда боялся, как бы ночью тебе не перерезали глотку. Ори сколько тебе влезет. Я тут случайно проходил с теми судами, что стоят на якоре возле Брешу, и подумал, что не худо бы зайти да потолковать с тобой.
— Что ж, Саймон, я тоже рад тебя видеть, — ответил король, весь съежившись под суровым взглядом солдата. — Мы ведь когда-то были с тобой добрыми друзьями, а? И я не помню, чтобы хоть раз сделал тебе что-нибудь плохое. Когда ты бежал в Англию — бросился в воду и поплыл к «Левантинцу», — я в душе даже порадовался за тебя.
— Если б не лень мне было снять куртку, я показал бы тебе следы твоей былой дружбы, — ответил Саймон. — Они отпечатались у меня на спине не хуже, чем в голове. Ах ты вонючий пес! Вон на стене те самые кольца, к которым ты меня привязывал, и пятна на досках, куда капала моя кровь. Что, или это неправда, король убийц?
Вожак пиратов побледнел еще больше.
— Что ты, Саймон, может жизнь здесь немного груба, но если я так тебя обидел, я тебе все возмещу, будь спокоен. Что тебе нужно?
— Мне нужно только одно, и я пришел сюда как раз за ним. Мне нужно, чтобы ты заплатил мне тот заклад, что проиграл.
— Заклад, Саймон? Я не помню никакого заклада.
— Я тебе напомню, а потом возьму и выигрыш. Ты часто клялся, что сломаешь меня. Ты орал: «Клянусь моей головой, ты еще поползаешь у меня в ногах!» — или так:
«Даю голову на отсеченье, я тебя укрощу!» Да, да, ты повторял это десятки раз. А я слушал и всем нутром принял твой заклад. И теперь, пес, ты проиграл этот заклад, и я пришел за ним.
Одним движением он выхватил из ножен тяжелый длинный меч. Король, взвыв от ужаса, обхватил рукам его колени, и оба они покатились под стол. Эйлвард сидел мертвенно-бледный, у него свело на ногах пальцы — он все еще не привык к кровавым ссорам, да и натуре его претило такое хладнокровное убийство. Когда Саймон поднялся, он бросил что-то в мешок и вложил окровавленный меч в ножны.
— Пошли, Сэмкин, мы неплохо сделали свое дело, — сказал он.
— Клянусь наручкой, если б я знал, в чем дело, я пошел бы с тобой не так охотно, — бросил лучник. — Неужели нельзя было дать ему меч, чтобы схватка была на равных?
— Нет, Сэмкин, если бы у тебя в памяти было то же, что у меня, ты бы тоже захотел, чтобы он умер, как овца, а не как человек. Разве мы были на равных, когда я был у него в руках? Так с чего же мне обходиться с ним лучше? Пресвятая Дева, что это такое?
У дальнего конца стола стояла какая-то женщина. Позади нее была открыта дверь — она вошла из внутренних покоев. По ее росту друзья сразу узнали, что это та самая, которую они уже видели. Лицо ее, некогда красивое, было бескровно и казалось изможденным, в глазах застыли ужас и отчаянье. Она медленно прошла по комнате, устремив взор не на Саймона и Эйлварда, а на то ужасное, что лежало под столом. Потом она нагнулась и, поняв, что это такое, захлопала в ладоши и громко рассмеялась.
— Кто теперь скажет, что Бога нет? — воскликнула она. — Кто скажет, что молитвы не помогают? Благородный сэр, отважный сэр, дайте мне поцеловать вашу победоносную руку.
— Нет, нет, что вы, хозяйка, отойдите! Ну ладно, если уж вам так хочется, нате эту — она почище.
— Мне нужна другая — та, что в крови! Какая прекрасная ночь! На моих губах его кровь! Теперь я могу спокойно умереть!
— Нам пора, Эйлвард, — позвал Саймон. — Через час начнет светать, а днем тут и крысе не пробежать незаметно. Пошли, пошли, не мешкая.
Но Эйлвард встал возле женщины.
— Идемте с нами, прекрасная дама, — обратился он к ней. — Мы можем хотя бы увезти вас с острова, хуже от этого не станет.
— Нет, — ответила женщина, — никакие святые на небесах теперь мне не помогут, пока не возьмут меня к себе. В мире для меня нет больше места, и всех моих друзей убили в тот день, когда меня взяли в плен. Оставьте меня, отважные воины, я сама о себе позабочусь. Восток уже светлеет, а вам несдобровать, если вас схватят. Ступайте, и да пребудет с вами благословение той, что некогда была святой монахиней, да охранит оно вас от опасности.
…Ранним утром сэр Роберт Ноулз прохаживался по палубе, как вдруг раздался всплеск весел, и две его ночные птицы поднялись на борт.
— Ну что, парень, поговорил с королем Акулы?
— Да, благородный сэр, я его видел.
— И он выплатил свой заклад?
— Да, сэр.
Ноулз с любопытством взглянул на мешок в руках у Саймона.
— Что у тебя тут?
— То, что он мне проиграл.
— А что это? Кубок? Серебряное блюдо?
Вместо ответа Саймон развязал мешок и вытряхнул содержимое на палубу.
Сэр Роберт присвистнул и тут же отвернулся.
— Клянусь Господом, — сказал он, — похоже, со мной в Бретань идет крепкий народ.
Глава XIX Как встретились английский сквайр и французский дворянин
Бретонские берега сэр Роберт Ноулз и его маленькая флотилия увидели на подходе к Канкалю. Они обогнули мыс Груэн, оставили позади порт Сен-Мало и поплыли по длинному узкому рукаву в устье реки Ране. Вскоре они оказались у древних стен города Динан, который был в руках союзников Монфора, чьи интересы поддерживали англичане. Тут они выгрузили лошадей и припасы и разбили лагерь под стенами города, а военачальники стали ждать вестей, как обстоят дела и где можно надеяться совершить славные подвиги и захватить побольше добычи.
Война с Англией, тянувшаяся уже десять лет, тяжко сказалась на всей Франции, но все же ни одна провинция не находилась в столь плачевном положении, как незадачливые бретонские земли. В Нормандии и Пикардии набеги англичан носили эпизодический характер, между ними бывали промежутки затишья. Зато Бретань раздирали на части непрестанные междоусобицы, не говоря уже о противоборстве двух великих противников, так что страданиям ее не было конца. Распря началась в 1341 году из-за притязаний двух соперников — Монфора и Блуа — на герцогскую корону. Англия стала на сторону Монфора, Франция — на сторону дома Блуа. Ни одна из сторон не была достаточно сильна, чтобы одолеть другую, и вот теперь, после десяти лет непрестанных схваток, история могла составить лишь длинный бесплодный список нападений и засад, набегов и стычек, взятых и сданных городов, чередующихся побед и поражений, в которых никто не мог претендовать на безусловное превосходство. И уже не имело значения то, что оба противника — и Монфор и Блуа — покинули сцену: один умер, а другой был взят в плен англичанами. Мечи, выпавшие из рук повелителей, подхватили их супруги, и изнурительная борьба продолжалась еще более ожесточенно, чем раньше.
Юг и восток удерживали сторонники дома Блуа; Нант — столица — был занят сильной французской армией. На севере и западе перевес был у приверженцев Монфора, потому что за их спиной лежало островное королевство и на северном горизонте то и дело появлялся новый парус, переправлявший через Пролив новых искателей приключений.
А между противниками лежали обширные земли центральной части страны. Там процветало насилие и лилась кровь, там правил единственный закон — закон меча. Из конца в конец эти земли были усеяны замками; владельцы одних поддерживали Монфора, другие — Блуа, а многие замки были просто прибежищем грабителей, сценой чудовищных, преступных деяний; их жестокие хозяева, зная, что некому призвать их к ответу, вели войну против всего населения, огнем и дыбой вырывая последние гроши у каждого, кто попадал в их не знающие пощады руки. Поля уже давно не обрабатывались. Торговля умерла. От Ренна на востоке до Энбона на западе, от Динана на севере до Нанта на юге не было уголка, где бы жизнь мужчины или честь женщины были в безопасности. Вот в эти-то земли, мрачные, кровавые, мрачнее которых не было во всем христианском мире, и направлялся теперь Ноулз со своими людьми.
Однако на душе у юного Найджела, ехавшего рядом с Ноулзом во главе отряда копейщиков, не было ни тоски, ни тяжести; ему вовсе не казалось, что судьба влечет его по слишком крутой стезе. Напротив, он благословлял случай, приведший его в такую замечательную страну, и когда он слушал ужасные рассказы о баронах-разбойниках и видел вокруг черные шрамы войны, выжженные на прекрасных склонах холмов, он думал только о том, что никому из героев рыцарских романов или труверов не доводилось побывать в таком многообещающем месте, где каждого поджидает рыцарский подвиг и почетный успех.
Победа над Рыжим Хорьком была его первым подвигом во исполнение обета. Ну, а второй, и, возможно, лучший, несомненно ждет его где-то тут, в этой великолепной стране. В морском сражении ему удалось превзойти других, а простое выполнение долга, он полагал, не делает ему особой чести. Подвиг, который можно будет принести к ногам леди Мэри, требовал большего. И конечно, такой подвиг ему предстоит совершить здесь, в этой неспокойной, обезумевшей от ужасов войны Бретани. Ну, а потом, когда он совершит два подвига, будет странно, если он не найдет случая для третьего; тогда обет будет исполнен, он получит свободу и сможет снова взглянуть ей в лицо. Так он и ехал с легким сердцем и улыбкой на губах, жадно поглядывая направо и налево — не пошлет ли чего-нибудь благосклонная судьба. Огромный соловый конь играл под его седлом, сработанные в Гилдфорде доспехи сверкали на солнце, меч бряцал, ударяясь о шпоры, а в руке он держал крепкое ясеневое копье отца.
Дорога от Динана до Кона, по которой продвигался отряд, то поднималась, то уходила вниз по холмистой равнине; слева, где река Ране устремлялась к морю, лежала болотистая низменность; справа высились леса, и там и сям были разбросаны убогие деревушки, такие бедные и жалкие, что им уже нечем было прельстить грабителей. Завидя блеск стальных шлемов, крестьяне тут же покидали свои дома и прятались на опушке леса, готовые в один миг исчезнуть в только им известных тайных убежищах. Несчастные настрадались от обеих сторон, но коль скоро представлялся случай, они с такой жестокостью вымещали свои обиды на каждом, что тут же на их головы обрушивались новые зверства.
Отряд Ноулза вскоре увидел все своими глазами: на дороге близ Кона они натолкнулись на труп английского копейщика, попавшего в засаду. Как мужикам удалось одолеть его, никто не мог сказать, а вот как они убили его, закованного в броню, было ужасающе ясно: они приволокли огромный валун — такой с трудом подняли бы восемь человек — и бросили на лежащего воина, так что броня лопнула и тело выдавилось из нее, как краб из панциря, раздробленного камнем. Много кулаков поднялось, грозя в сторону леса, много проклятий посыпалось на тех, кто в нем скрывался, когда колонна хмурых воинов проходила мимо убитого; по форме креста на значке они опознали в нем человека из дома Бентли, глава которого, сэр Уолтер, стоял в это время во главе английских войск в этой стране.
Сэру Роберту Ноулзу уже приходилось воевать в Бретани, и теперь он вел людей в поход со знанием и осторожностью опытного воина, который как можно меньше полагается на волю случая и достаточно уверен в себе, чтобы не обращать внимания на тех глупцов, что могли бы счесть его предусмотрительность робостью. В Динане он набрал еще лучников и копейщиков, так что теперь у него было около пятисот человек. В авангарде, возглавляемые им самим, шли в полном снаряжении пятьдесят конных копейщиков, готовые к любому неожиданному нападению. За ними в пешем строю шли лучники, замыкал колонну еще один отряд всадников. По флангам располагались небольшие группы конников; а впереди веерообразно двигалась дюжина разведчиков, которые осматривали каждый овраг и лощину на пути колонны. И так они три дня медленно продвигались по южной дороге.
Сэр Томас Перси и сэр Джеймс Эстли подъехали к голове колонны, и Ноулз на ходу обсуждал с ними план компании. Оба они, и Перси и Эстли, были молоды и горячи, оба мечтали о стремительных действиях в духе странствующих рыцарей, но Ноулз, с его холодным, ясным умом и железной целеустремленностью, неуклонно шел к выполнению поставленной задачи.
— Клянусь святым Данстеном и всеми святыми Линдисфарна, — воскликнул пылкий воин с шотландской границы, — сердцу тошно от того, что мы все куда-то едем да едем, когда вокруг столько славных дел! Разве мы не знаем, что французы сейчас за рекой в Эвране? Разве неправда, что вон тот замок, что виден из-за леса, в руках перебежчика, предавшего своего сеньора — Монфора? А от этой дороги толку нам будет мало, люди здесь, похоже, не хотят воевать. Если бы мы углубились в пределы Шотландии на столько же, на сколько сейчас в Бретань, мы бы уже совершили много доблестных подвигов и завоевали почести!
— Верно, Томас, — поддержал Эстли, краснолицый вспыльчивый молодой человек, — ясно же, что французы к нам не придут, поэтому нам самим нужно идти к ним. По правде говоря, любому солдату, что нас увидит, станет смешно — мы три дня ползем по этой дороге, словно нас подстерегает тысяча опасностей, когда дело-то иметь нам придется всего с горсткой убогого мужичья.
Роберт Ноулз покачал головой.
— Вы не знаете, что таится в этих лесах или за теми холмами, — ответил он, — а когда я не знаю, что нас ждет, я должен быть готов к самому худшему. Этого требует благоразумие.
— Ваши враги назвали бы это погрубее, — с презрительной улыбкой заметил Эстли. — Не смотрите на меня так — меня взглядом не испугаешь. Да и ваше неудовольствие не заставит меня думать иначе. Я встречал глаза и посуровее ваших, сэр Роберт, но не дрогнул.
— Ваши слова, сэр Джеймс, неучтивы и злы, — отозвался Ноулз, — и будь я волен в своих поступках, я вогнал бы их вам в глотку кинжалом. Но я здесь для того, чтобы вести этих людей на почетное и прибыльное дело, а не ссориться с каждым глупцом, не способным понять, как следует командовать солдатами. Неужели вы не видите, что если я, как вы того желаете, пойду на стычки то тут, то там, я ослаблю армию еще до того, как мы придем туда, где она нужнее всего?
— Куда же это? — спросил Перси. — Клянусь Господом, Эстли, мне начинает казаться, что нас ведет человек, который получше нас знает толк в войне, и нам стоит прислушиваться к тому, что он говорит. Только пусть скажет нам, что он задумал.
— В тридцати милях отсюда, — начал Ноулз, — находится, насколько мне известно, крепость под названием Плоэрмель, а в ней стоит с гарнизоном один англичанин, Бэмброу. Неподалеку от него расположен замок Жослен, где квартирует Робер Бомануар с большим числом бретонцев. Я намерен присоединиться к Бэмброу и соединенными силами напасть на Жослен, так чтобы, захватив его, мы получили господство над всей Средней Бретанью и смогли начать наступление на французов на юге.
— Отличный план, клянусь спасением моей души! — горячо отозвался Перси. — В этом деле я с вами! Я уверен, что, когда мы продвинемся в глубь страны, противник тоже объединит свои силы и окажет нам всяческое сопротивление; однако до сих пор, клянусь всеми святыми Линдисфарна, я навидался бы больше военных действий летним днем в Линдсдейле или Джедберском лесу, чем в Бретани… Посмотрите-ка, вон там какие-то всадники. Они едут сюда. Это ведь наша легкая кавалерия? А кто это привязан у них к стременам?
Небольшой отряд конных лучников выехал из дубовой рощи слева от дороги и приблизился к тому месту, где остановились три рыцаря. За лошадьми, спотыкаясь и подпрыгивая, чтобы не упасть, брели два жалких мужика. Один был высок, худ и светловолос, другой — мал ростом и темен волосом, но оба в таких колтунах, так грязны и оборванны, что походили больше на диких животных, чем на людей.
— Что это значит? — спросил Ноулз. — Разве я не приказывал вам не трогать никого из поселян?
Командир лучников, старый Уот Карлайл, показал меч, перевязь и кинжал.
— С вашего позволения, сэр, — сказал он, — я увидел, как они блеснули, и подумал, что это неподходящее оружие для рук, которым должно держать лопату и плуг.
А когда мы их нагнали и схватили, то увидели на оружии крест Бентли, а ведь это крест того мертвого копейщика на дороге. Значит, это они и есть те негодяи, что его убили, и мы должны свершить правосудие.
И в самом деле, на мече, перевязи и кинжале сияли серебряные кресты, которые англичане видели на доспехах убитого. Ноулз с каменным лицом посмотрел на крест, потом на пленных. Под его беспощадным взглядом они с воем упали на колени, что-то выкрикивая на языке, которого никто не понимал.
— Наш долг — сделать дороги безопасными для передвижения англичан, — сказал Ноулз. — Эти люди должны умереть. Повесьте их на том дереве.
Он указал на дуб у дороги, а сам поехал дальше, продолжая разговор с рыцарями. Но старый лучник нагнал его и обратился с просьбой:
— С вашего позволения, сэр Роберт, лучникам хотелось бы казнить этих людей на свой манер.
— Мне все равно, убивайте их как хотите, — небрежно ответил Ноулз и не оглядываясь поехал дальше.
В то суровое время человеческая жизнь стоила дешево: солдат разбитой армии или команду захваченного судна убивали, не раздумывая о милости победителя, не задаваясь никакими вопросами. Война была жестокой игрой, ставкой в ней была смерть; выигравший предъявлял права, проигравший платил. Пощады мог ожидать только рыцарь: за него можно было получить выкуп, а потому живой он ценился больше, чем мертвый. Для людей, прошедших такую школу, где смерть всегда витала над их головами, убить двух крестьян было, надо думать, пустым делом.
Однако в этом случае у лучников были особые причины желать, чтобы расправу передали им в руки. Еще со времени спора на «Василиске» между старым и лысым мастером Бартоломью и длинным Недом Уиддингтоном не утихала вражда, закончившаяся столкновением в Динане, когда не только они сами, но и дюжина их товарищей были повержены на булыжную мостовую. Спор разгорелся вокруг того, кто из них более сведущ в луках и кто лучше стреляет, и вот теперь какие-то умники предложили разрешить его раз и навсегда весьма жестоким образом.
В двухстах шагах от дороги поднимался густой лес; между ним и дорогой, на которой толпились лучники, лежала ровная, поросшая травой лужайка. Крестьян отвели по ней на пятьдесят ярдов от дороги и поставили лицом к лесу, держа на привязи. Те послушно стояли, то и дело испуганно и удивленно оглядываясь назад, где шли какие-то приготовления.
Старый Бартоломью и великан йоркширец вышли из рядов и встали рядом, держа в левой руке луки, а в правой по одной-единственной стреле. Они аккуратно натянули и смазали перчатки для стрельбы и закрепили ремни. Потом сорвали и подбросили в воздух несколько травинок, чтобы определить силу ветра, осмотрели все снаряжение, повернулись боком к отметке и широко расставили ноги для упора. Все это время на них со всех сторон сыпались советы и шутки товарищей.
— Ветер три четверти, мастер, — кричал один, — бери вправо на ширину груди!
— Только не твоей, мастер, — смеялся другой, — а то уйдет далеко в сторону.
— Да нет, такому ветру не отвернуть стрелы, коль ее пустить как надо, — добавлял третий. — Стреляй прямо, как раз в цель и попадешь.
— Тверже, Нед, клянусь нашим славным Йоркширом! — воскликнул йоркширец.
— Легче пускай, не дергай, не то я обеднею на пять крон.
— Недельное жалованье за Бартоломью! — орал другой. — Ну, старая башка, не подведи!
— Хватит, хватит! Перестаньте болтать! — крикнул старый лучник Уот Карлайл. — Будь ваши стрелы так же быстры, как языки, перед вами никому бы не устоять. Ты, Бартоломью, стреляй в маленького, а ты, Нед, — в другого. Пусть удирают, пока я не крикну, потом стреляйте как хотите и когда хотите. Приготовьсь! Эй, Хейвард, Бэддингтон, отпускайте ремни!
Ремни выдернули и пленные, пригнув головы, бросились к лесу под вой и крики лучников, которые надсаживались, как загонщики, поднявшие зайца. Оба лучника со стрелами наготове застыли на месте, как бы превратились в красно-коричневые статуи — грозные, настороженные, устремив жадный взгляд на беглецов и медленно поднимая луки по мере того, как расстояние увеличивалось. Бретонцы уже пробежали полпути до леса, а старый Уот все молчал. Была то жалость или жестокость, но только в такой охоте она давала жертве шанс выжить. Когда они были в сотне шагов, он наконец повернул седую голову и крикнул:
— Стреляй!
И тут же зазвенела тетива йоркширца. Не зря он слыл одним из самых смертоносных лучников Севера и дважды уносил серебряную стрелу Селби[54]. Роковая стрела быстро преодолела расстояние и по самое оперенье вошла в согнутую спину высокого светловолосого крестьянина. Он без единого звука упал лицом в траву и остался неподвижен, одно только короткое белое перышко, торчавшее у него между лопатками, отмечало место, где его настигла смерть.
Йоркширец подкинул лук в воздух и заплясал от радости, а его товарищи восторженно заорали и захлопали в ладоши. Однако победные крики тут же сменились диким хохотом и улюлюканьем.
Крестьянин поменьше оказался хитрее своего товарища — он видел, какая участь постигла высокого, и внимательно следил за лучником, ожидая, когда тот выстрелит. В то самое мгновенье, когда лучник отпустил тетиву, он бросился на землю и тут же услышал над собой свист стрелы и увидел, как она вонзилась в землю. Он тут же вскочил и под крики и вопли стрелков снова бросился к лесу. Теперь он был на опушке, от преследователей его отделяло добрых двести шагов. Тут им его не взять. В густом кустарнике он почувствовал себя в полной безопасности, как кролик у входа в нору. От радости, что ему удалось обмануть глупцов, позволивших ему улизнуть, он насмешливо щелкнул пальцами и, пританцовывая, пошел было дальше, повернув назад голову и рыча на них, как собака, как вдруг в горло ему вонзилась стрела, и он замертво повалился в папоротники. Лучники в изумлении замолкли, но тут же заорали громкое «ура».
— Клянусь Беверлийским крестом! — воскликнул Уот. — Вот уже много лет не видел, чтобы стрелу пустили удачней, даже в лучшие мои дни мне бы точней не попасть.
Кто из вас стрелял?
— Эйлвард из Тилфорда, Сэмкин Эйлвард! — заорали сразу два десятка голосов, и лучника, раскрасневшегося от выпавшей ему славы, вытолкнули вперед.
— Хотел бы я, чтобы цель была поблагородней, — сказал он. — По мне, так он мог и уйти, да вот только когда он стал глумиться над нами, пальцы у меня как-то сами собой отпустили тетиву.
— Да, я вижу, что ты и верно мастер своего дела, и душа у меня радуется, что, когда меня убьют, останется стрелок, который поддержит честь нашего ремесла. А теперь собирайте стрелы и пошли — сэр Роберт ждет нас на вершине холма.
Весь день Ноулз и его люди шли по той же дикой заброшенной стране, населенной только прячущимися в лесах существами — зайцами для сильного, волками для слабого. Время от времени на вершинах холмов они видели всадников, которые издалека следили за ними, но при приближении отряда тотчас исчезали. Иногда в деревнях, разбросанных среди холмов, раздавался тревожный набат, и дважды, когда отряд проходил мимо замков, там при его приближении поднимали мосты, а на стены высыпали солдаты и что-то громко кричали. С замковых пастбищ англичане прихватывали то быков, то овец, но не пытались взять сами крепости — Ноулз не хотел разбивать свои силы об их стены и продолжал путь.
Однажды в Сен-Меэне англичане видели огромный монастырь, обнесенный высокой серой, поросшей лишайником стеной, мирный оазис в пустыне войны; монахини в черных одеждах грелись на солнце либо трудились в саду — сильная, хоть и мягкая рука святой церкви ограждала их от всяческого зла. Лучники, проходя под стенами обители, поснимали шапки, потому что даже самые отъявленные негодяи не осмеливались переступать запретную черту, за которой их ожидало страшное проклятие церкви и вечная погибель — единственная сила, которая могла встать между жертвой и обидчиком на всей многострадальной, подвластной только стали земле.
В Сен-Меэне маленькая армия сделала привал и пообедала. Потом снова построилась и уже готова была выступить, как вдруг Ноулз подозвал Найджела.
— Найджел, — сказал он, — мне не часто доводилось видеть лошадь сильнее да, наверное, и быстрее этого зверя.
— Ваша правда, добрый сэр, конь у меня хорош, — ответил Найджел.
С самого дня, когда они погрузились на «Василиск», Найджел и его молодой командир прониклись друг к другу приязнью и уважением.
— Ему неплохо бы размяться, он начал грузнеть, — продолжал рыцарь. — Посмотри внимательно туда, между ясенем и скалой. Что ты видишь там, вдалеке, на склоне холма?
— Какое-то белое пятно. По-моему, это лошадь.
— Я слежу за ней все утро, Найджел. Всадник все время следует за нами с фланга — то ли шпионит, то ли ждет случая напасть. Так вот, мне было бы очень желательно взять пленного: надо побольше узнать об этой стране, а крестьяне здесь не говорят ни по-французски, ни по-английски. Останься здесь и где-нибудь спрячься. Всадник последует за нами и тогда вон тот лес окажется между ним и тобой. Обойди его кругом и выйди на всадника сзади. Слева у него широкая равнина, а мы отрежем ему путь справа. Если лошадь у тебя резвая, ты обязательно его возьмешь.
Найджел уже соскочил с коня и теперь подтягивал подпругу.
— Не спеши — незачем: ты все равно не можешь тронуться, пока мы не отойдем мили на две. А потом, Найджел, прошу тебя, оставь свои замашки странствующего рыцаря. Мне нужен этот человек, он сам и все, что он может рассказать. Поменьше думай о собственной славе и побольше о нуждах армии. Когда ты его захватишь, поезжай на запад, на солнце, и наверняка выйдешь на дорогу.
Найджел и Поммерс остались ждать в тени монастырской стены, оба сгорая от нетерпения, а сверху на них большими глазами смотрели шесть невинных монахинь, привлеченных непонятным и тревожным вторжением чуждого внешнего мира. Наконец длинная колонна скрылась из вида за поворотом дороги, и белая точка на зеленом склоне холма тоже исчезла. Найджел наклонил голову в сторону монахинь, тронул уздечку и понесся выполнять милое его сердцу приказание. Круглоглазые монахини увидели, как желтый конь и сверкающий всадник промчались вдоль опушки и как среди деревьев мелькнули доспехи; затем они мирно вернулись к своим делам — прополке гряд, посадке овощей, а в душе у них все еще теснились прекрасные и ужасающие картины чуждого мира, который жил своей жизнью за высокими серыми, покрытыми лишайником стенами.
Все произошло, как задумал Ноулз. Когда Найджел обогнул дубовую рощу, на дальней ее стороне, отделенный от него только зеленым лугом, ехал всадник на белой лошади. Он был так близко, что Найджел хорошо его видел, — молодой человек с гордой осанкой, в лиловом шелковом плаще и низкой черной шляпе с белым пером. Он был без доспехов, однако на боку у него висел меч. Ехал он свободно и беззаботно, как человек, которому нечего бояться, но при этом не сводил глаз с английской колонны на дороге. Он был так погружен в свое занятие, что совсем не думал об опасности, и только когда до него донесся низкий, громоподобный грохот копыт могучего коня, он повернулся в седле, спокойно и внимательно взглянул на Найджела, потом тронул повода и с быстротой сокола понесся по равнине к видневшимся слева холмам.
В тот день Поммерс встретил достойного соперника. У белой лошади, арабской полукровки, оказался более легкий ездок, потому что Найджел был в доспехах. Целых пять миль расстояние между ними оставалось неизменным. Они неслись по равнине, потом взлетели на холм и спустились с противоположной стороны, и все время всадник на белой лошади оборачивался назад, чтобы взглянуть на преследователя. Бегство его было не бегством от страха, а, скорее, забавным состязанием, когда хороший наездник, гордящийся своим конем, принимает вызов соперника. За холмом лежала болотистая низина, усеянная большими камнями — остатками капища друидов. Одни уже повалились на землю, другие еще стояли, а некоторые лежали, опираясь на вершины двух соседних, словно огромные дверные проемы каких-то гигантских, давно исчезнувших построек. Через болото вела тропинка, окаймленная по обеим сторонам зеленым камышом — знаком опасности. На самой тропе то тут, то там лежали огромные камни, но белая лошадь легко перескакивала через них, а за ней по пятам следовал и Поммерс. Потом на целую милю пошел мягкий влажный грунт, где преимущество было более легкого всадника, но вскоре ее сменил сухой, более высокий участок, и Найджел снова наверстал упущенное. Нагорье пересекала разбитая дорога, Но белая лошадь великолепным прыжком перемахнула через нее, и опять желтая лошадь не отстала ни на шаг. Впереди лежали два небольших холма, а между ними узкая полоска густого кустарника. Найджел видел, как белая лошадь по самые бока погрузилась в зеленую поросль.
В следующий момент ее задние ноги мелькнули высоко в воздухе, и всадник вылетел из седла. В кустах раздался торжествующий вопль, и целая дюжина свирепых фигур с дубинами и мечами бросилась к распростертому на земле человеку.
— A moi, Anglais, a moi![55] — раздался крик, и Найджел увидел, как молодой наездник вскочил на ноги, взмахнул мечом и тут же снова упал под натиском нападающих.
В те времена людей благородной крови и воспитания связывали отношения, заставлявшие их объединяться против любого злодейства или предательского нападения. В засаде были не солдаты. Одежда и оружие, грубые крики и ярость говорили о том, что это просто разбойники, вроде тех, кто убил англичанина на дороге. Они прятались по рощам и, перекинув через дорогу веревку, подкарауливали одинокого всадника, как птицелов у ловушки, зная, что легко свалят лошадь и зарежут ездока до того, как он придет в себя после падения.
Уже не один путник стал их жертвой. Та же участь постигла бы и незнакомца, не окажись Найджел совсем близко. В одно мгновение Поммерс врезался в кучку негодяев, добивавших распростертого француза, а в следующее — двое из них уже пали от меча Найджела. Тут же от удара по его нагруднику зазвенел кинжал, но Найджел одним взмахом меча перерубил рукоять, а следующим отрубил голову и самому разбойнику. Тщетно бросались злодеи на закованного в сталь человека. Меч его мелькал как молния, а разъяренный конь с горящими глазами, встав на дыбы, бил копытами с железными подковами. С криками и визгом метались разбойники среди кустов, перепрыгивали через валуны, пролезали под ветвями, где лошадь не могла их настигнуть. Наконец банда исчезла так же внезапно, как и появилась, оставив среди истоптанного кустарника четыре одетых в лохмотья тела, и ничто больше не напоминало об их нападении.
Найджел привязал Поммерса к кусту терновника и занялся раненым. Белая лошадь уже поднялась на ноги и ласково ржала, глядя на лежащего хозяина. Сбивший француза с ног сильный удар, только наполовину ослабленный его мечом, рассек ему лоб. Однако шлем, полный воды, которую Найджел выплеснул ему на лицо, набрав ее в журчавшем неподалеку ручье, привел его в чувство.
Раненый был совсем юн, почти подросток, с нежными женскими чертами лица и большими голубыми, как фиалки, глазами, которые тут же с недоумением уставились на Найджела.
— Кто вы? — спросил он. — Ах да, припоминаю. Вы тот молодой англичанин, что гнался за мной на желтой лошади. Клянусь Пресвятой Девой Рокамадурской, чей образок ношу на шее, вот уж не думал, что найдется конь, который сможет так долго не отставать от Шарлеманя. Слушайте, англичанин, ставлю сто крон, что обгоню вас на пятимильном кругу.
— Нет, — ответил Найджел, — подождем, пока вы сможете снова сесть на лошадь, а потом поговорим и о скачках. Я Найджел из Тилфорда, из семьи Лорингов, сквайр и сын рыцаря. А как зовут вас, юный сэр?
— Я тоже дворянин и сын рыцаря. Меня зовут Рауль Деларош Пьер де Бра, отец мой именует себя бароном Гробуа, свободным вассалом благородного графа Тулузского с правом среднего и нижнего суда. — Он сел и протер глаза. — Англичанин, вы спасли мне жизнь, как и я бы спас вашу, если б увидел, что на благородного человека с гербом напала свора рычащих собак. Но теперь я ваш. Чего же вы пожелаете?
— Когда вы сможете сесть на лошадь, вы поедете со мной к моим.
— Увы! Я так и думал, что вы захотите именно этого. Если б я захватил вас в плен, Найджел, — ведь вас так зовут? — я не стал бы этого делать.
— А как бы вы поступили? — спросил Найджел, которому понравились откровенность и учтивость пленника.
— Я не воспользовался бы случайностью, которая отдала меня вам в руки. Я дал бы вам меч и победил бы вас в честном бою, так, чтобы я мог послать вас приветствовать мою даму и рассказать ей о подвигах, которые я совершаю в ее честь.
— Слова ваши благородны и справедливы, — отвечал Найджел. — Клянусь святым Павлом! Не помню, чтобы мне встречался кто-нибудь, кто держался бы более достойно. Только как же нам быть, если я в доспехах, а вы нет?
— Но вы, благородный Найджел, можете их снять.
— Тогда я останусь в одном исподнем.
— Ну, тут все будет по справедливости, я тоже охотно разденусь до нижнего белья.
Найджел задумчиво поглядел на француза, но тут же покачал головой.
— Увы, ничего не выйдет, — сказал он. — Сэр Роберт напоследок наказал мне, что я должен привести вас к нему: ему угодно с вами поговорить. Я очень желал бы сделать, как вы предлагаете, у меня тоже есть прекрасная дама, к которой я хотел бы вас послать. А иначе зачем вы мне, Рауль? Ведь то, что я взял вас вот так, не прибавит мне славы. Как вы себя чувствуете?
Молодой француз встал на ноги.
— Не отнимайте у меня меч, — попросил он. — Я ваш, освобождаете вы меня или не освобождаете. Кажется, я могу сесть на лошадь, хотя голова у меня все еще гудит, как треснувший колокол.
Найджел совершенно не представлял себе, где теперь находятся его товарищи, но он вспомнил, что сэр Роберт сказал ему, чтобы он ехал на солнце и тогда рано или поздно окажется на дороге. И так они отправились в путь. Пока оба неспешно трусили по холмистой равнине, француз совсем оправился, и между ними завязался оживленный разговор.
— Я только что прибыл из Франции, — начал пленник. — Я надеялся завоевать тут почести, потому как наслышан, что англичане — отважные воины и сражаться с ними — одно удовольствие. Мои мулы и поклажа остались в Эвране, а я поехал вперед посмотреть, что тут делается, натолкнулся на ваш отряд на марше и поехал за ним в надежде на добычу или приключение. А потом вы погнались за мной, и я отдал бы все золотые кубки отца, чтобы на мне были доспехи и я мог встретить вас лицом к лицу. Я обещал графине Беатрисе прислать к ней одного или даже двух англичан поцеловать ей руку.
— Могло случиться и хуже, — заметил Найджел. — А эта прекрасная дама — ваша невеста?
— Это моя любовь, — ответил француз. — Мы ждем, когда графа убьют на войне, и тогда поженимся. А ваша дама, Найджел? Мне хотелось бы ее увидеть.
— Возможно, вы и увидите ее, — все, что я о вас узнал, преисполняет меня желанием продолжить наше знакомство. Мне думается, мы еще сможем сделать так, чтобы все это принесло нам и пользу, и честь, потому что, когда сэр Роберт поговорит с вами, я буду волен поступить с вами, как захочу.
— А как вы захотите поступить?
— Мы сразимся, и либо я увижу леди Беатрису, либо вы — леди Мэри. Нет, не благодарите меня: я, как и вы, прибыл в эти земли за славой и думаю, что лучше всего поискать ее на острие вашего меча. Мой благородный господин и повелитель сэр Джон Чандос не раз говорил мне, что, сколько он ни встречал французских рыцарей или оруженосцев, всякий раз их общество приносило ему много пользы и удовольствия. А теперь я и сам вижу, что это сущая правда.
Так они ехали целый час. Француз изливался в восхвалениях своей даме и даже достал из кармана ее перчатку, из-за пазухи подвязку, а из-под седла вытащил ее туфлю. Она была блондинка, и когда он узнал, что Мэри темноволоса, он хотел было тут же остановиться и поединком выяснить, какой цвет лучше. Потом он рассказал о своем огромном замке в Лота, у истоков прекрасной Гаронны, о том, что в конюшнях у них сотня лошадей, а на псарне семьдесят гончих. Были у них и соколы — пятьдесят птиц.
Он приглашал английского друга обязательно приехать к нему, как только кончится война, — и как же они прекрасно проведут время! Найджел, холодная английская кровь которого оттаяла под этим юным, южным лучом, поведал ему о вересковых склонах Суррея, о Вулмерских лесах и даже о священных покоях Косфорда.
Однако в то время, когда они ехали рядом в сторону заходящего солнца, а души их витали далеко в родных краях, произошло событие, которое сразу вернуло их мысли к зловещим холмам Бретани.
Это был протяжный звук трубы, доносившийся откуда-то с дальней стороны невысокого гребня горной гряды, к которой они направлялись. Издалека ему ответил такой же протяжный сигнал.
— Ваш лагерь, — сказал француз.
— Нет, — ответил Найджел, — у нас только волынки да литавры, трубы я ни разу у нас не слышал. Нам надо быть осторожнее: мы же не знаем, что там впереди. Свернем сюда и посмотрим сверху, что происходит, а самих нас тут не заметят.
Вершины холма увенчивали лежавшие там и сям валуны, и из-за них юным оруженосцам хорошо была видна каменистая долина на другой стороне. На небольшом холме виднелось квадратное строение, окруженное зубчатой стеной. На некотором расстоянии от него стоял огромный потемневший замок, такой же массивный, как и скалы, на которых он был воздвигнут. На одном углу его высилась хорошо укрепленная башня, а с четырех сторон — стены с бойницами. Над башней на ветру гордо реяло большое знамя с каким-то гербом, отсвечивая красным в лучах заходящего солнца. Найджел, нахмурив лоб, стал из-под ладони его рассматривать.
— Это не английский герб, и не французские лилии, да и не бретонский горностай, — сказал он наконец. — Владелец замка сражается сам за себя — на знамени его собственный герб. Мне думается, это червленая голова на серебряном фоне.
— Кровавая голова на серебряном блюде! — воскликнул француз. — меня предупреждали о нем. Это вовсе и не человек, друг мой Найджел. Это чудовище, которое воюет с англичанами, французами и всеми христианами. Вы никогда не слышали о Мяснике из Ла Броиньера?
— Нет, никогда.
— Его клянет вся Франция. Мне говорили, что в этом самом году он казнил Жиля де Сен-Поля, друга английского короля!
— Да, да, теперь припоминаю: я что-то слышал об этом в Кале еще до похода.
— Так вот, значит, где он живет, и упаси вас Господь ступить за те ворота — оттуда еще ни один пленник не возвращался живым. С самого начала этой войны он был сам себе король, и вон в тех подвалах лежит все, что он награбил за одиннадцать лет. Ну, как тут правосудию до него добраться, если никто не знает, чьи это земли? Вот когда мы выпроводим вас всех обратно на ваш остров, нам придется, клянусь Матерью Божьей, заплатить тяжкий долг тому, кто живет в той громаде.
Пока они наблюдали за замком, снова раздался звук трубы. Он доносился не из замка, а с дальнего конца ущелья, но из-за стен вновь прозвучал ответный сигнал, и вслед за тем показался растянувшийся длинной шеренгой отряд мародеров, возвращавшихся домой из какого-то набега. В авангарде во главе отряда копейщиков ехал высокий дородный человек в медных доспехах; в луча заходящего солнца он сиял, как раззолоченный идол. На голове у него не было шлема, он вез его на шее лошади. У него была длинная, нечесаная борода, доходившая до нагрудника, по спине вились такой же длины волосы. Рядом с ним ехал оруженосец со знаменем — высоко над их головами полоскалась на ветру та же кровавая голова. За копейщиками шла вереница мулов с тяжелыми вьюками, а по обе стороны от них брела толпа несчастных поселян — их гнали в крепость. Замыкал шествие еще один отряд копейщиков. Эти вели человек двадцать пленных, которые шли плотным строем.
Найджел некоторое время смотрел на них, потом вскочил на лошадь и под прикрытием хребта помчался в другой его конец, чтобы быть поближе к воротам крепости. Не успел он занять новую позицию, как кавалькада подошла к подъемному мосту и под приветственный рев тех, кто толпился на стенах, стала гуськом проходить в замок. Найджел еще раз пристально посмотрел на пленных в хвосте колонны и вдруг так заволновался, что вышел из-за валуна и оказался на открытой вершине.
— Клянусь святым Павлом! — вскричал он, — так и есть! Я вижу там коричневые куртки. Это английские стрелки!
В то же время самый последний пленный, здоровенный широкоплечий человек, оглянулся и увидел над собой на вершине холма блестящую фигуру без шлема, на груди которой горели пять алых роз. Одним движением руки он оттолкнул стражей и на мгновенье оказался вне толпы.
— Сквайр Лоринг! Сквайр Лоринг! — закричал он. — Это я, лучник Эйлвард! Это я, Сэмкин Эйлвард!
В ту же минуту его схватила дюжина рук, ему заткнули рот и швырнули в ворота, как в зловещую черную пасть. Потом железные створки, загремев, сомкнулись, решетки поднялись; пленные и захватчики, грабители и добыча исчезли во чреве мрачной безмолвной крепости.
Глава XX Как англичане пытались взять замок Ла Броиньер
Некоторое время Найджел с тяжелым сердцем неподвижно стоял на гребне холма и не сводил глаз с высоких серых стен, скрывших его неудачливого товарища. Из мрачных раздумий его вывели дружеская рука, коснувшаяся его плеча, и голос молоденького пленника над ухом.
— Peste![56] — произнес он. — Они поймали какую-то из ваших птах? Ну и что? Выше голову, мой друг! Ведь это война: сегодня повезло им, завтра повезет тебе, и всех нас ждет один конец — смерть. Только все же лучше б они попали в руки кому-нибудь другому, а не Мяснику Оливье.
— Клянусь святым Павлом, этого нельзя стерпеть! — в ярости закричал Найджел. — Этот человек прошел со мной весь путь от самого дома. Он не раз спасал меня от верной смерти. Мне тошно от мысли, что он взывает о помощи, а я бессилен что-либо сделать. Прошу вас, Рауль, раскиньте мозгами, мои совсем оцепенели. Скажите, что мне делать, как ему помочь?
Француз пожал плечами.
— Легче вырвать невредимым ягненка из волчьей пасти, чем пленного из Ла Броиньера. Так куда же мы едем, Найджел? Вы что, в самом деле потеряли рассудок?
Найджел пришпорил коня и пустился вниз по склону холма, ни разу не остановившись, пока они не подъехали к воротам на расстояние выстрела. Француз следовал за ним, упрекая его в безрассудстве и пытаясь увещевать.
— Вы сошли с ума, Найджел, — кричал он, — на что вы надеетесь? Хотите взять замок голыми руками? Остановитесь, остановитесь же во имя Пресвятой Девы!
В голове у Найджела не было никакого плана, он повиновался только лихорадочному порыву что-то делать, чтобы успокоиться. Он пускал коня то в одну сторону, то в другую, размахивал мечом, всячески поносил обитателей крепости, выкрикивал какие-то угрозы. А со стен глазели и глумились над ним человек сто из гарнизона замка. То, что он делал, казалось столь неосторожным и безумным, что разбойники решили — это ловушка, а потому мост оставался поднятым и никто не осмеливался выйти наружу и схватить дерзкого. Несколько длинных стрел для дальнего боя ударились о скалы, а потом над головами двух оруженосцев с воем пролетел огромный камень, пущенный из баллисты, и брызнул осколками, ударившись о скалы где-то позади. Француз схватил Поммерса под уздцы и заставил Найджела отъехать подальше от ворот.
— Клянусь Пресвятой Девой, я не хочу, чтобы эти камни угодили мне по черепу, но и ехать назад один тоже не могу, так что, безумный мой сотоварищ, вам придется ехать со мной. Ну вот, теперь им до нас не достать. Но посмотрите, друг мой Найджел, кто это там на гребне холма?
Солнце уже скрылось за хребтом на западе, но небо еще не потемнело, и на фоне светлой полосы виднелось десятка два мерцающих красновато-коричневых точек. Потом на гребне показался целый отряд всадников. На голом склоне холма они выступали четкими черными силуэтами. Они тотчас же стали спускаться в долину, а вслед за ними появились ряды пехотинцев.
— Наши! — радостно закричал Найджел. — Идемте, друг мой, надо решать, что делать.
Впереди, на расстоянии выстрела, ехал сэр Роберт Ноулз. Он был чернее тучи. Рядом с ним понуро трусил скорый на руку сэр Джеймс Эстли. Конь его был в крови, а доспехи грязны и помяты. Между ними шел ожесточенный спор.
— Я исполнил свой долг, — твердил Эстли, — вот этим мечом я уложил целый десяток. Сам не пойму, как я остался жив и могу теперь обо всем рассказать.
— Что же это за долг? Где мои тридцать лучников? — сердито и горько воскликнул Ноулз. — Десяток остался лежать на месте, а еще двадцать хуже, чем умерли: они в плену вон в том замке. И все потому, что вам надо было показать всему свету, какой вы храбрец, и нарваться на засаду, которую разглядел бы и ребенок. Увы, это мое недомыслие: как я мог доверить людей такому, как вы!
— Клянусь Господом, сэр Роберт, вы еще ответите мне за эти слова! — задыхаясь от волнения, воскликнул Эстли. — Еще никто никогда не разговаривал со мной таким тоном.
— Пока я выполняю приказ короля, я здесь хозяин и, клянусь Богом, повешу вас на первом же дереве, Джеймс, если вы еще раз дадите мне повод к неудовольствию. Как, Найджел? Вижу по той белой лошади, что вы-то меня не подвели. Сейчас мы поговорим. Перси, приведите своих людей, надо окружить крепость: клянусь спасением души, я не уйду отсюда, пока не вызволю своих стрелков или не получу голову того, кто их захватил.
В тот же вечер англичане плотно обложили замок Ла Броиньер, так что из него никто не мог выйти. Но хотя никто не мог его покинуть, оставалось неясным, как туда проникнуть: там было полно людей, стены были высоки и крепки, да к тому же его окружал глубокий, хотя и сухой, ров. Однако окрестное население так ненавидело и боялось владельца замка, что весь долгий вечер из зарослей и деревень к осаждающим стекались люди, предлагавшие сделать все, что в их силах, чтобы взять крепость. Ноулз приказал им рубить кустарник и вязать его в фашины. Утром он подъехал к стенам и на месте держал совет с рыцарями и оруженосцами о том, как взять замок.
— К полудню, — сказал он, — у нас будет довольно фашин, чтобы проложить путь через ров. Мы проломим ворота и таким образом поставим ногу в замок.
Молодой француз пришел на совет вместе с Найджелом и теперь, когда за предложением Ноулза последовало молчание, попросил выслушать его. На нем были медные доспехи, которые Найджел получил от Рыжего Хорька.
— Возможно, мне не пристало брать слово на вашем совете: ведь я пленник и к тому же француз, — начал он, — но этот человек — враг всем людям, и нам, французам, как и вам, тоже нужно получить с него долг: в его подвалах погибло слишком много моих соотечественников. Поэтому я прошу меня выслушать.
— Мы готовы вас слушать, — ответил Ноулз.
— Вчера я прибыл из Эврана, — продолжал Рауль, — там стоят Анри де Спиннфор, Пьер Ла Руа и много других доблестных рыцарей и оруженосцев с порядочным войском, и все они будут рады помочь вам покончить с Мясником и его замком — его черные дела всем известны. У нас есть бомбарды, их можно перетащить через холмы и ударить по воротам. Если прикажете, я тотчас отправлюсь в Эвран и приведу своих соратников.
— По-моему, Роберт, — сказал Перси, — француз говорит дело.
— А когда мы возьмем замок — что тогда? — осведомился Ноулз.
— Тогда, благородный сэр, вы пойдете своей дорогой, а мы — своей. Или, если хотите, вы можете расположиться на том холме, а мы на этом, так чтобы между нами лежала эта долина. Так что, если какой-нибудь рыцарь надумает прославиться, или снять с себя обет, или превознести свою даму, у него будет такая возможность. Стыд нам и позор, если съедется столько доблестных рыцарей и не произойдет ни одного поединка.
Найджел в восторге горячо пожал своему пленнику руку, но сэр Ноулз покачал головой.
— Так дело делается разве что в песнях менестрелей, — возразил он. — Я не могу позволить, чтобы ваши в Эвране узнали, сколько нас тут и каковы ваши намерения. Я пришел в эту страну, чтобы бороться с врагом короля, а не играть в странствующих рыцарей. Кто еще хочет что-нибудь сказать?
Перси указал на отдаленную башенку, стоявшую поодаль на небольшом холмике. На ней также развевался флаг с кровавой головой.
— Вот этот замок поменьше, не так неприступен, и в нем не может быть больше пятидесяти человек. Я думаю, его построили для того, чтобы никто не мог занять позицию выше большого замка и обстреливать его сверху. Почему бы нам не бросить на него все силы — ведь взять его намного легче, чем большой?
Но молодой полководец опять покачал головой.
— Даже если я возьму его, — ответил он, — я нисколько не приближусь к цели, да и для освобождения лучников это ничего не даст. Заплатить за него придется двумя десятками людей, а что я от этого выиграю? Будь у меня бомбарды, их можно было бы установить вон там, на холме, но их нет, так что разговаривать не о чем.
— Может быть у них мало пищи или воды, тогда им придется выйти из крепости и принять бой.
— Я расспрашивал крестьян, — ответил Ноулз, — они все считают, что в замке бьет источник и еды там запасено довольно. Нет, господа, у нас только один путь — штурм, а сделать это можно лишь через ворота. Скоро у нас будет достаточно фашин, мы побросаем их в ров и перейдем на ту сторону. Я приказал срубить на холме сосну и очистить ее от ветвей — тогда у нас будет чем проломить ворота. А там что еще случилось? Почему они бегут к замку?
Солдаты в лагере зашумели и толпой бросились к стенам крепости. Рыцари и оруженосцы поскакали вслед за ними и, когда оказались в виду главных ворот, сразу поняли причину беспорядка. На башне над воротами стояли три человека в одеждах английских лучников; руки у них были связаны за спиной, а на шею надеты веревки. Товарищи толпились под ними и громко кричали по мере того, как узнавали каждого.
— Это Эмброуз, — крикнул кто-то, — Эмброуз из Ингелтона!
— Да, да, вон тот, у кого светлые волосы. А другой, тот, с бородой — это Локвуд из Скиптона. Вот горе-то для жены! У нее, бедной, лавочка возле мостового укрепления в Риббле! А кто же третий?
— Это малыш Джонни Олспей, он самый младший в отряде! — воскликнул старый Уот, и по щекам его потекли слезы. — Ведь это я увел его из дому. Ой, лихо мне! Будь проклят тот день, когда я сманил его от матери, чтобы он пропал на чужбине!
Вдруг раздались переливы трубы, и подъемный мост опустился. К нему подъехал осанистый человек в выцветшем плаще герольда. Он настороженно остановился на дальнем конце и прокричал гулким, как барабанный бой, голосом:
— Я желаю говорить с вашим начальником!
Ноулз выехал вперед.
— Вы даете слово рыцаря, что если я подъеду к вам, то буду в полной безопасности и меня примут со всей учтивостью, как и подобает герольду?
Ноулз наклонил голову.
Всадник медленно и величественно приблизился к нему.
— Я посланец и вассал, — начал он, — высокородного барона Оливье де Сент-Ивона, владетеля замка Ла Броиньер. Он повелел мне сказать вам, что, если вы пойдете дальше своей дорогой и не станете больше ему докучать, он, со своей стороны, обязуется больше не нападать на вас. А что до людей, которых он захватил, он берет их к себе на почетную службу, потому что ему нужны стрелки с большими луками, а он наслышан об их мастерстве. Но если вы станете ему препятствовать или разгневаете его, оставшись возле замка, он предупреждает, что повесит этих троих над воротами и каждое утро будет вешать еще по три человека, пока не казнит всех. В этом он поклялся на кресте Господнем, а раз он так сказал, он так и сделает даже ценой спасения своей души.
Роберт Ноулз мрачно взглянул на посланца.
— Возблагодари святых, что я дал тебе слово, — процедил он, — не то я сорвал бы этот заемный кафтан у тебя со спины, а в придачу и шкуру с костей — вот тогда бы твой хозяин и получил настоящий ответ на свои требования. Передай ему, что я беру его и всех в замке в заложники за жизнь моих людей, а если он осмелится что-нибудь им сделать, повешу всех вас вместе на его собственных стенах. Ступай, да побыстрее, а то терпенье мое кончится.
В серых холодных глазах Ноулза, да и в тоне, каким он произнес последние слова, было нечто такое, что заставило величественного посланца удалиться куда быстрее, чем он прибыл. Как только он исчез под мрачной аркой ворот, заскрипел и заскрежетал мост — его снова подняли.
Через несколько минут на стене над воротами появился человек с косматой бородой; он подошел к приговоренным лучникам и, схватив за плечи первого, столкнул его со стены. Стрелок с отчаянным криком полетел вниз, а из груди его товарищей, стоявших внизу, вырвался глубокий стон, когда они увидели, как после стремительного падения он снова взлетел до половины стены вверх, а потом, подергавшись, как детская игрушка, стал медленно раскачиваться взад и вперед, обмякший, с переломленной шеей.
Палач обернулся и в насмешку низко поклонился зрителям внизу. Живя в стране хилых лучников, он еще не знал, как сильно и метко бьют английские луки. Полдюжины человек, а среди них и старый Уот, подбежали к самой стене. Они не успели спасти товарищей, но, по крайней мере, сумели сразу же отомстить за их смерть. Палач уже готовился столкнуть второго узника, но тут голову ему пробила стрела, и он замертво повалился на камни. Однако, падая, он все же успел сделать роковое движение, и второй коричневый стрелок закачался рядом с первым на темной стене замка.
Теперь на стене оставался только совсем юный Джонни Олспей. Перед ним зияла пропасть, позади слышались голоса тех, кто столкнет его туда, и он весь трясся от страха. Но пока никто больше не решался подставить себя под смертоносные английские стрелы. Наконец какой-то человек, согнувшись, выбежал из укрытия и побежал вперед, держа перед собой как щит тело молодого лучника.
— Прыгай в сторону, Джон, в сторону! — закричали снизу.
Лучник отпрыгнул, насколько позволяла веревка, и при этом она скользнула у него по лицу почти до глаз. Мимо него пролетели три стрелы, две из них вонзились в палача. Он упал на колени, потом ткнулся лицом в камни. Зрители восторженно заревели: жизнь за жизнь — не так уж плохо.
Однако искусство товарищей дало молодому стрелку лишь небольшую передышку. Над парапетом появился медный шар, потом широкие плечи и, наконец, целиком человек в доспехах. Он подошел к краю стены; на него градом посыпались стрелы, но, не пробив прочной брони, со звоном попадали вниз. Он хрипло расхохотался. Глумясь над лучниками, он похлопал себя по нагруднику: он прекрасно знал, что на таком расстоянии никакая стрела, пущенная рукой смертного, не пройдет через его металлические одежды. Поэтому он спокойно стоял, огромный, дородный Ла-Броиньерский Мясник, и, подняв голову, презрительно смеялся над врагом. Потом медленным, тяжелым шагом направился к жертве, схватил ее за ухо и потащил через парапет, так чтобы веревка натянулась. Увидев, что петля соскользнула на лицо, он попытался ее поправить, но ему мешала латная рукавица. Тогда он снял ее и обнаженной рукой схватил веревку над головой мальчика.
Но тут старый Уот с быстротой молнии выстрелил, и Мясник, взвыв от бои, отскочил назад: стрела пробила ему руку. Он в ярости стал грозить ею врагам, но тут вторая стрела попала ему в сустав пальца. Зверским ударом металлической подошвы он столкнул молодого Олспея через край, несколько минут смотрел на его предсмертную агонию, а потом медленно сошел с парапета, бережно неся окровавленную руку. В спину ему продолжали бить стрелы.
Разъяренные смертью товарищей, лучники прыгали и завывали, словно стая голодных волков.
— Клянусь святым Данстеном, — вскричал Перси, — вот подходящая минута для нашего замысла: ненависть не даст этим людям остановиться, что бы ни случилось!
— Вы правы, Томас! — воскликнул Ноулз. — Берите двадцать копейщиков со щитами. Эстли, расставьте лучников так, чтобы ни над парапетом, ни в окнах не могла показаться ни одна голова. Найджел, прикажите крестьянам нести сюда фашины. Остальные пусть тащат сосновое бревно — оно вон там, за рядами лошадей. Десять человек понесут справа, десять — слева, только пусть закроют головы щитами. Когда ворота рухнут, всем — внутрь. Да поможет Господь правому делу!
Быстро, но спокойно все заняли свои места — здесь собрались старые солдаты, война была их каждодневным делом. Лучники группами по нескольку человек заняли позиции перед каждой щелью и трещиной, другие внимательно следили за зубцами стены и стреляли во всякого, чье лицо хоть на миг показывалось над ними. Осажденные осыпали нападающих ливнем стрел, а время от времени метали и камни из баллисты, однако ураган стрел, бивших по ним снизу, был столь смертоносен, что они не могли вести прицельной стрельбы, и залпы их, при всей своей силе, не причиняли осаждающим никакого вреда. Под прикрытием лучников крестьяне, не неся урона, подбегали к краю рва, бросали туда вязанки сучьев и спешили обратно за новыми. Через двадцать минут широкий проход, образованный фашинами, соединил ворота и площадку перед мостом. Путь к замку был проложен ценой крестьян, убитых стрелами, и одного лучника, в которого попал камень. Теперь все было готово для тарана.
С громким криком двадцать отборных солдат бросились вперед, держа сосновый кол комлем в сторону ворот. Арбалетчики на башне перегнулись через парапет и стреляли в самую гущу атакующих, но не могли остановить наступление. Правда, двое таранщиков упали, зато другие, подняв над головами щиты и все еще крича, перешли мост и с громовым грохотом ударили по воротам. Сверху донизу ворота прорезала трещина, но створки с места не сдвинулись.
Штурмующий отряд раскачивал тяжеленный отряд и с грохотом обрушивал его на ворота; с каждым ударом они все больше поддавались, из конца в конец по ним пошли трещины. Трое рыцарей, а также Найджел, француз Рауль и другие дворяне стояли возле и подбадривали людей, сопровождая каждый удар бревна дружным «Э-э-эх!». С парапета сбросили большой камень, он с громким свистом прорезал воздух и задел сэра Джеймса Эстли и еще одного из нападающих, но Найджел и француз тотчас встали на их место, и таран застучал по воротам с еще большей силой. Удар, еще удар! Нижняя часть провалилась внутрь, а большое центральное бревно, хотя все еще держалось, вот-вот готово было тоже выйти из гнезд.
Но тут сверху внезапно полились потоки жидкости: на стену втащили огромную бочку и, наклонив ее, поливали солдат, мост и таран чем-то желтым и маслянистым, так что в один миг все насквозь промокли. Ноулз дотронулся до нее латной рукавицей, поднес к забралу, понюхал и тут же громко закричал:
— Назад! Назад! Назад, пока не поздно.
Прямо над их головами виднелось небольшое забранное решеткой окошко. Внутри вдруг замерцал огонь, и из-за прутьев в нападающих полетел горящий факел. Маслянистая жидкость вспыхнула, и в мгновение ока все кругом было охвачено пламенем. Таран, фашины, даже оружие оказались в огне.
Справа и слева люди спрыгивали в сухой ров и с пронзительными криками катались по земле, пытаясь сбить пламя. Рыцари и оруженосцы, которых защищали доспехи, затаптывали и захлопывали огонь, изо всех сил стараясь помочь тем, на ком были только кожаные куртки. А сверху их осыпали бесконечным ливнем стрел и камней. В то же время лучники, видя, как велика опасность, подбежали прямо к краю рва и оттуда быстро и метко стреляли в каждого, кто поднимал голову над стеной.
Остатки осаждающих, обожженные, измученные, перепачканные, кое-как выбирались из рва, цепляясь за протянутые руки, и ковыляли прочь под глумливые крики врагов. От наведенного недавно моста осталась лишь куча дымящегося пепла, а на ней лежали Эстли и еще шесть человек в раскаленных докрасна доспехах.
Ноулз до боли стиснул руки, когда посмотрел на то, что наделал огонь, и на кучки своих людей, которые стояли или лежали на земле вокруг него, обмывая и перевязывая обожженные части тела и мрачно грозясь врагам, которые радостно вопили и жестикулировали на стене замка. Ноулз и сам получил тяжелые ожоги, но гнев и досада не позволяли молодому полководцу думать о своих ранах.
— Мы наведем мост снова! — воскликнул он. — Пусть крестьяне скорее готовят фашины.
Но тут Найджелу пришла в голову одна мысль.
— Смотрите, благородный сэр, — обратился он к Ноулзу. — Гвозди на воротах раскалились докрасна, а дерево стало бело, как пепел. Я думаю, теперь мы можем через них прорваться.
— Клянусь Пресвятой Девой, вы правы! — воскликнул французский оруженосец. — Если нам удастся перейти ров, ворота нас больше не остановят. Пошли, Найджел, во славу наших прекрасных дам, и посмотрим, кто будет первой, Англия или Франция.
Увы, напрасны были все напутствия доброго Чандоса, напрасны все наставления сурового Ноулза о порядке и дисциплине — в одно мгновение, забыв обо всем на свете, Найджел принял вызов и со всех ног бросился к горящим воротам. По пятам за ним, пыхтя и задыхаясь в медных доспехах, бежал француз. И тотчас за ними устремился ревущий поток лучников и копейщиков, словно вдруг прорвало плотину. Они скатились в ров, перебежали его по дну и стали друг за другом карабкаться на другую сторону. Найджел и Рауль и какие-то два лучника уже были перед горящими воротами. Ударами мечей и пинками ног они разнесли их на куски и с торжествующими криками бросились под темные своды арки. В первую минуту безумного восторга им показалось, что замок взят. Перед ними был темный туннель, и они побежали по нему вперед. Но, увы, на дальнем конце его тоже преграждали ворота, такие же мощные, как и первые. Напрасно они колотили по ним мечами и топорами, ворота не поддавались. В то же время из щелей по обе стороны туннеля на нападающих посыпались стрелы. Пущенные с расстояния всего в несколько ярдов, они пробивали доспехи, словно это была простая ткань, и под их ударами люди один за другим валились на камни. Солдаты в ярости набрасывались на толстое, обитое железом загражденье, но разрушить его было не легче, чем сами стены.
Возвращаться ни с чем было горько, но и оставаться в туннеле было бы безумием. Найджел оглянулся и увидел, что у него осталось не больше половины людей. В эту минуту с тяжким стоном к его ногам рухнул Рауль — в его нашейник по самое оперенье вонзилась стрела. Кое-кто из лучников, видя, что их ждет неминуемая смерть, уже бежал назад по роковому туннелю.
— Клянусь святым Павлом! — воскликнул Найджел, — неужели вы хотите оставить раненых на милость Мясника? Пусть лучники с этой стороны тоже стреляют в щели и отгонят врагов. А остальные поднимайте по одному раненому и выносите обратно, не то у ворот этого замка навсегда останется наша честь.
С большим трудом он поднял Рауля и, шатаясь, понес его к краю рва. Внизу, там, где крутой обрыв прикрывал их от стрел, уже ждали несколько человек; Найджел передал им раненого друга, то же самое сделали и другие. Снова и снова возвращался Найджел в туннель, пока на земле не остались только семь человек, пораженных насмерть. Тринадцать раненых уложили на дне рва, где им предстояло дожидаться темноты. А в это время лучники на дальнем конце защищали их от нападения и не давали врагу возможности восстановить первые ворота. Зияющие, почерневшие от дыма ворота — вот все, что получили англичане ценой тридцати жизней. Но эти ворота Ноулз решил удерживать во что бы то ни стало.
Найджел тоже пострадал от огня и камней, но был так возбужден, что не чувствовал ни боли, ни усталости. Он склонился над раненым французом и снял с него шлем. Девичье лицо молодого оруженосца было белее мела, тени смерти собирались вокруг голубых глаз, но, взглянув на своего английского друга, он слабо улыбнулся.
— Я никогда больше не увижу Беатрису, — прошептал он. — Прошу вас, Найджел, когда наступит мир, поезжайте в замок моего отца и скажите ему, как умер его сын. Молодой Гастон возрадуется: ведь к нему теперь перейдут все земли, и герб, и наш девиз, и все доходы. Повидайте их, Найджел, и скажите, что я был не хуже других.
— Да, да, Рауль, никто не мог бы держаться благородней, чем вы. Обещаю вам, когда придет время, исполнить вашу просьбу.
— Вы счастливец, Найджел, — прошептал умирающий, — сегодня вы совершили еще один подвиг и сможете принести его к ногам вашей возлюбленной.
— Это был бы подвиг, если бы мы взяли ворота, — грустно ответил Найджел. — А так, клянусь святым Павлом, я не могу считать это подвигом — ведь я отступил, не доведя дело до конца. Но сейчас не время думать о моих ничтожных заботах. Если мы возьмем замок и я внесу в это свою лепту, тогда, наверное, можно будет говорить о подвиге.
Француз вдруг приподнялся с силой, какая часто приходит к человеку перед самой смертью.
— Вы получите леди Мэри, Найджел, и совершите вы не три подвига, а не один десяток, и во всем христианском мире не будет благородного человека, который не знал бы вашего славного имени. Это говорю вам я, Рауль Деларош Пьер де Бра, умирающий на поле брани. А теперь поцелуйте меня, милый друг, и положите на землю: меня окутывает туман — я ухожу.
Найджел осторожно опустил голову друга, но когда он это делал, у того из горла хлынула кровь, и душа его отошла. Так умер славный французский воин, и Найджел, преклонив возле него на дне рва колено, горячо помолился о том, чтобы и его собственный конец был столь же славен и благороден.
Глава XXI Как в Косфорд отправился второй гонец
Под покровом ночи раненых вынесли из рва и поставили пикеты лучников у самых ворот, чтобы их нельзя было починить. Когда Найджел вернулся в лагерь, на душе у него было тошно из-за собственной неудачи, смерти пленника и боязни за Эйлварда; но он еще не до конца испил чашу — его ждал Ноулз, и слова, которыми тот встретил оруженосца, разили больнее хлыста. Кто он такой, свежеиспеченный оруженосец, что посмел идти в наступление без приказа? Что принесла его безумная выходка странствующего рыцаря? Потеряно двадцать человек, и чего ради? Их кровь останется на нем. И Чандос все узнает. Когда они возьмут замок, его следует отправить в Англию.
Так говорил Ноулз, и слова его тем горше отзывались в душе Найджела, что он и сам чувствовал: он поступил неразумно, и Чандос сказал бы ему то же самое, только, быть может, помягче. Он молча, почтительно, как и подобало, выслушал Ноулза, отсалютовал ему и пошел прочь. Оказавшись один среди кустов, он бросился на землю и разрыдался, уткнув лицо в ладони. Таких горячих слез он не проливал еще никогда в жизни. Как он старался, чтобы все было хорошо, и вот — такая неудача! Найджел был избит, обожжен, у него все болело с головы до пят. И все же муки тела были ничто по сравнению со страданиями духа — тоской и позором, которые разрывали ему сердце.
Но один пустяк изменил течение его мыслей и принес успокоение: он снял латную рукавицу, и пальцы его случайно натолкнулись на крошечный пакетик, который Мэри привязала к перчатке, когда они стояли на холме св. Катарины на Гилдфордской дороге. Он вспомнил тонкую золотую филигрань девиза, который гласил: «Fais ce que dois, adviegne que pourra — c'est commande au chevalier».
Слова сами собой прозвучали в его утомленном мозгу. Он сделал то, что считал правильным, что бы из этого ни вышло. Правда, получилось плохо, но ведь так всегда бывает в делах человеческих. Он понимал, что, если бы ему удалось взять замок, Ноулз бы простил его и забыл бы обо всем остальном. Не его вина, что затея не удалась. Никто не мог бы сделать больше. Если бы Мэри видела его, она бы его поддержала. Засыпая, он видел ее смуглое сияющее гордостью лицо, с состраданием склонившееся над ним. Она протянула руку и коснулась его плеча. Он вскочил и протер глаза — действительность, как это иногда случается, причудливо вплелась в сон: в темноте над ним в самом деле склонилась какая-то фигура и теребила его, пытаясь вывести из забытья. Вот только мягкий голос и нежное прикосновение леди Мэри сменили грубый выговор и железная хватка Черного Саймона, сурового норфолкского копейщика.
— Вы ведь сквайр Лоринг? — спросил тот, пытаясь разглядеть в темноте лицо юноши.
— Да. А в чем дело?
— Я искал вас по всему лагерю, а потом увидел у кустов огромную лошадь и подумал, что вы где-нибудь тут же, неподалеку. Мне надо вам кое-что сказать.
— Говори.
— Этот парень, Эйлвард, — мой друг, а Господь наделил меня такой натурой, что я люблю своих друзей так же сильно, как ненавижу врагов. А он ваш слуга, и, сдается мне, вы тоже его любите.
— Мне есть за что его любить.
— Тогда у вас и у меня, сквайр Лоринг, есть причина постараться его спасти, в отличие от тех, кому нужно поскорее взять замок, а не освободить пленных. Вы же понимаете, что такой человек, как этот разбойничий лорд, когда увидит, что игра проиграна, наверняка в последнюю минуту перед тем, как замок падет, перережет пленным глотки: он ведь отлично знает — что бы ни случилось — ему конец.
— Клянусь святым Павлом, об этом я не подумал.
— Я был с вами тогда, когда вы пробовали разбить внутренние ворота, — продолжал Саймон, — и все же один раз, когда мне показалось, что они поддаются, я сказал себе: «Прощай, Сэмкин, больше я тебя не увижу». У этого барона в душе столько желчи, сколько у меня самого, а вы думаете, я оставил бы своих пленных в живых, если б меня принудили их отдать? Ни в коем случае. Вот я и думаю: если б нам удалось взять днем замок, их всех перебили бы.
— Может быть ты и прав, Саймон, — ответил Найджел, — от этой мысли нам должно бы стать полегче. Только если мы не можем спасти их, захватив замок, они уж наверняка пропадут.
— Может, так, а может, и не так, — с расстановкой ответил Саймон. — Я думаю, что, если замок взять неожиданно, да таким манером, что никому и в голову не придет, тогда, может статься, мы сумеем отбить пленных раньше, чем их прикончат.
Найджел живо наклонился вперед и положил руку солдату на плечо.
— Ты что-то придумал, Саймон. Так скажи, что у тебя за план?
— Я хотел доложить сэру Роберту, да он готовится к завтрашнему штурму и не стал бы меня слушать. Я, точно, кое-что придумал, только хорош мой план или плох, не могу сказать, покуда его не испробую. А сперва скажу вам, как мне это пришло в голову. Так вот, утром, когда я был во рву, я заприметил на стене одного человека. Такой высокий, лицо у него белое, волосы рыжие, а на скулах пятна антонова огня.
— А при чем тут Эйлвард?
— Сейчас увидите. Вечером, после приступа, я ходил тут с одним из наших вокруг той маленькой крепости на холме, хотел посмотреть, нет ли там какого слабого места. Кое-кто из них вылез на стену и всячески поносил нас, и среди них я заметил — кого бы вы думали? — а вот того самого верзилу с бледным лицом, рыжими волосами и антоновым огнем на щеке. Что вы из этого заключаете, сквайр Найджел?
— Что этот человек перешел из большой крепости в форт.
— Ясное дело, перешел. На свете не может быть двух таких меченых. Только если он перешел из замка в форт, то не по земле — ведь между ними были наши.
— Клянусь святым Павлом, мне ясно, что ты хочешь сказать! — воскликнул Найджел. — Ты полагаешь, что между фортом и замком есть подземный ход.
— Я в этом уверен.
— Значит, взяв маленький форт, мы сможем пройти этим ходом и захватить большую крепость.
— Все может быть. И все же это опасно. Ведь в замке услышат, что мы пошли на приступ, и успеют загородить подземный ход и перебить пленных, прежде чем мы окажемся внутри.
— Так что же ты предлагаешь?
— Если бы нам найти, где проходит эта потерна, нам ничто не помешало бы раскопать ее, и оба они — форт и крепость — были бы в наших руках, прежде чем противник сообразит, что мы уже там.
Найджел от радости захлопал в ладоши.
— Клянусь Господом, прекрасный план! Но, увы, Саймон, я не знаю, как найти то место, под которым проходит потерна, и где ее раскапывать.
— Там у меня есть крестьяне с лопатами, — ответил Саймон, — а с ними мои друзья Хардинг из Барнстебла и Джон с Запада, они ждут нас со своим инструментом. Если вы, сквайр Найджел, согласны нас вести, мы готовы рискнуть жизнью.
«А что скажет Ноулз, если их попытка провалится?» — мелькнуло в голове у Найджела, но эту мысль тут же вытеснила другая. Он не станет рисковать, если не будет уверен в успехе. А если уж рискнет впустую, то там и сложит голову. Отдав ее, он искупит свою ошибку. А если, напротив, попытка увенчается успехом — что ж, тогда Ноулз простит его поражение при взятии ворот. Словом, уже спустя минуту все сомнения остались позади, и Найджел пробирался сквозь тьму следом за Черным Саймоном.
За лагерем их поджидали два копейщика, и вчетвером они двинулись дальше. Вскоре во мраке проступили силуэты каких-то людей. Небо было закрыто облаками, сеялся мелкий дождь, скрывая от глаз и замок и форт, но Саймон еще днем отметил нужное место камнем, и теперь они знали, что находятся как раз между ними.
— Здесь слепой Андре? — спросил Саймон.
— Да, добрый сэр, я тут, — ответил голос.
— Этот человек был когда-то богат, все его уважали, но разбойничий лорд его разорил, а потом выколол ему глаза, и теперь он уже много лет живет в темноте и кормится подаянием.
— А как же он поможет нам, если он слеп? — изумился Найджел.
— Благодаря слепоте он и поможет нам больше, чем кто-либо другой, благородный сэр, — ответил Саймон. — Ведь часто случается, что, если человек потерял одно из чувств, Господь придает больше силы тем, что остались. Вот и Андре — у него такой слух, что он различает, как по жилам деревьев бежит сок или пищит в норе мышь. Он пришел помочь нам отыскать ход.
— И я его нашел, — с гордостью ответил слепец. — Я поставил тут мой посох. Два раза, пока я лежал тут ухом к земле, я слышал под собой шаги.
— Надеюсь, ты не ошибся, старик? — бросил Найджел.
Вместо ответа слепец поднял посох и дважды ударил им о землю: один раз справа, другой — слева. За первым последовал глухой короткий звук, за вторым — протяжный гул.
— Слышите? — сказал слепой. — Разве я ошибаюсь?
— Мы тебе очень обязаны, — сказал Найджел. — Пусть крестьяне начинают копать, только как можно тише.
А ты, Андре, прижмись ухом к земле: если внизу кто пойдет — предупредишь.
И так, под косым дождем, в темноте кучка людей принялась за работу. Слепой молча лежал, прижавшись ухом к земле, и дважды легким свистом давал знать, что надо прекратить работу, — по потерне кто-то проходил. Через час они дорылись до каменной арки, которая, по всей видимости, была внешней частью свода. Досадное препятствие! На то, чтобы вынуть камень, уйдет много времени, а если они не закончат работу до света, все их предприятие станет безнадежным. Англичане кинжалом расковыряли раствор, скреплявший камни, и наконец сумели вынуть небольшой булыжник и подобраться к остальным. Вскоре у их ног разверзлась черная дыра, темнее окружавшей их ночи, и мечи не доставали до ее дна. Ход был открыт.
— Я полезу первым, — объявил Найджел. — Помогите-ка мне спуститься.
Солдаты опустили его на длину вытянутых рук, потом отпустили и слышали, как он благополучно стал наземь — под ними. И тут же слепец с тревожным криком вскочил на ноги.
— Я слышу шаги, — предупредил он. — Они еще далеко, но приближаются.
Саймон просунул голову в дыру и шепотом спросил:
— Сквайр Найджел, вам меня слышно?
— Слышно.
— Андре говорит: сюда идут.
— Тогда закройте дыру. Быстрее, быстрее. Над дырой расстелили плащ, так что никакой отблеск света не насторожил бы того, кто приближался по туннелю. Правда, можно было опасаться, что он слышал, как спустился Найджел, но вскоре стало ясно, что его ничто не насторожило: Андре заверил, что он продолжает путь. Теперь и Найджел слышал вдалеке его шаги. Если он идет с факелом — все пропало. Но шаги все приближались, а никакого мерцания света не было видно.
Найджел, затаив дыхание, с кинжалом в руке, прижался к осклизлой стене и в душе возносил благодарственную молитву всем своим святым покровителям. А шаги все приближались. В темноте юноша уже слышал неровное дыхание идущего. В тот момент, когда путник поравнялся с ним, Найджел с ловкостью тигра прыгнул на него. Послышался слабый удивленный вскрик и больше ни звука: рука сквайра мертвой хваткой сжала горло прижатого к стене разбойника.
— Саймон! Саймон! — громко позвал Найджел.
Плащ сняли.
— У тебя есть веревка? Или свяжите пояса. У одного из крестьян нашлась веревка, и скоро Найджел ухватил ее конец. Он прислушался; в проходе не было ни души. На миг он отпустил горло пленного. И тут же тот стал изливаться в мольбах и просьбах. Он качался, как лист на ветру. Найджел прижал кончик кинжала ему к лицу и велел молчать. Потом пропустил веревку ему под мышки и завязал ее.
— Тяните, — прошептал он, и на минуту серое отверстие у него над головой потемнело.
— Он тут, добрый сэр, — подал голос Саймон.
— Теперь снова бросайте веревку и держите покрепче. Спустя минуту Найджел уже стоял среди людей, столпившихся вокруг пленного. Разглядеть его в темноте не было никакой возможности, а высечь огонь они боялись.
Саймон грубо ощупал его и почувствовал под рукой жирное, гладко выбритое лицо и плащ из грубого сукна, доходивший до лодыжек.
— Кто ты? — спросил он шепотом. — Говори правду, только тихо, если не хочешь замолчать навсегда.
У пленника зуб на зуб не попадал от холода и страха, но все же он пробормотал:
— Я не говорю по-английски.
— Тогда говори по-французски, — приказал Найджел.
— Я священник, служу Господу. Если вы со мной что-нибудь сделаете, на вас ляжет проклятье святой церкви. Отпустите меня, я спешу к тем, кого нужно исповедовать и причастить. Если они умрут во грехе, их проклятье ляжет на вас.
— Как же вас зовут?
— Дон Пьер де Серволь.
— Де Серволь, священник? Это вы раздували жаровню, когда мне выжигали глаза! — закричал Андре. — Из всех чертей ада это самый подлый. Друзья, друзья, если я помог вам чем-то сегодня вечером, я прошу только одной награды — отдайте мне этого человека.
Но Найджел оттолкнул слепого.
— На это сейчас нет времени, — отрезал он. — Теперь слушай, поп, если ты и вправду слуга церкви, — ни ряса, ни тонзура не спасут тебя, вздумай ты нас обмануть. У нас здесь дело, и мы его сделаем, чего бы это ни стоило. Отвечай и говори только правду, иначе эта ночь кончится для тебя худо. В какую часть крепости ведет этот проход?
— В нижний погреб.
— А что там в конце?
— Дубовая дверь.
— Она заперта?
— Да.
— А как бы ты вошел?
— У меня есть пароль.
— Кто должен открыть дверь?
— Там внутри есть стражник.
— А что там дальше? За ним?
— Дальше тюремные камеры и тюремщики.
— Кто еще сейчас не спит?
— Только часовой у ворот и еще один на стене.
— Пароль? Пленный молчал.
— Пароль, приятель!
Холодные кончики двух кинжалов уперлись священнику в горло, но он продолжал молчать.
— Где слепой? — спросил Найджел. — Иди сюда, Андре, и можешь делать с ним все, что хочешь.
— Не надо, не надо, — захныкал священник, — пусть он не подходит ко мне. Спасите меня от слепого Андре. Я все скажу.
— Тогда быстро — пароль?
— Benedicite[57].
— Теперь у нас есть пароль, Саймон. Пошли в замок! — воскликнул Найджел. — Крестьяне покараулят попа и побудут здесь на случай, если нам понадобится подать весточку.
— Нет, благородный сэр. Мы можем сделать еще лучше, — отозвался Саймон, — мы возьмем попа с собой, чтобы стражники узнали его по голосу.
— Очень хорошо, — согласился Найджел. — А теперь помолимся, ведь эта ночь может стать для нас последней.
Он и три копейщика стали под дождем на колени и вознесли свои бесхитростные молитвы. Саймон и тут не выпускал из рук запястье священника.
Священник пошарил у себя за пазухой и что-то вынул.
— Это сердце святого угодника Эногата, — сказал он. — Может быть оно облегчит ваши души и снимет с них проклятье, если вы пожелаете подержать его в руках.
Четверо англичан по очереди подержали в руках серебряный ларчик и благоговейно приложились к нему губами. Потом встали. Первым полез в дыру Найджел, за ним Саймон, потом священник, которого Найджел и Саймон тут же схватили. Следом спустились копейщики. Не успели они отойти от пролома, как Найджел остановился.
— За нами спустился кто-то еще, — сказал он шепотом.
Они прислушались, но позади не раздалось ни шепота, ни шороха. Они помедлили минуту-другую, а затем снова двинулись вперед. Дорога казалась бесконечной, хотя на самом деле пройти пришлось всего несколько сот ярдов, прежде чем они увидели, что проход преграждает дверь, из-за которой пробивается желтый свет. Найджел постучал в нее кулаком.
Раздался скрип засовов, и громкий голос спросил:
— Это ты, поп?
— Я — дрожащим голосом ответил пленник, — открой, Арнольд.
Голоса его оказалось достаточно, пароль не понадобился. Дверь отворилась внутрь, и в одно мгновенье привратник был повержен наземь. Все совершилось так стремительно, что слышен был лишь стук упавшего тела и ничего больше. Проход залили потоки яркого света, и англичане невольно остановились, моргая глазами.
Перед ними открылся каменный коридор, поперек которого лежало тело привратника. По обеим сторонам коридора было по двери, и еще одна, забранная решеткой, виднелась в дальнем конце его. В воздухе стоял какой-то странный шум, какое-то низкое гуденье, протяжные крики. Англичане стояли в удивленье и прислушивались, стараясь понять, что это такое, как вдруг позади них раздался пронзительный крик. На земле бесформенным комом лежал священник; из его перерезанного горла лилась кровь, а в глубину туннеля убегала, согнувшись, громко стуча по камням палкой, какая-то черная тень.
— Это Андре! — воскликнул Уилл с Запада. — Он убил его.
— Значит, это его я слышал позади нас, когда мы спустились, — отозвался Найджел. — Наверняка он шел в темноте по пятам за нами. Боюсь, крик священника могли услышать.
— Вряд ли, — возразил Саймон, — здесь так кричат, что никто не обратит внимания. Давайте-ка снимем со стены лампу и посмотрим, что это за чертово логово.
Они было отворили дверь справа, но в лицо им ударил такой ужасный смрад, что они тут же отпрянули. Поднятая Саймоном лампа осветила обезьяноподобное существо, которое металось и гримасничало в углу; был то мужчина или женщина, сказать было невозможно, но, по всей видимости, человек этот уже давно сошел с ума от одиночества и страха. В другой камере оказался седобородый мужчина, прикованный к стене; он бессмысленно — тело без души — смотрел в пространство, но жизнь в нем все-таки еще теплилась: когда они открыли дверь, его невидящий взгляд медленно обратился в сторону вошедших. Но странный шум и протяжные крики шли не из этих дверей, а из той, что закрывала конец коридора.
— Саймон, — сказал Найджел, — прежде чем идти дальше, надо снять с петель вот эту, наружную, дверь. Тогда мы сможем перекрыть ею коридор и, в случае чего, будем удерживаться здесь, пока не придет подмога. А ты как можно быстрее возвращайся в лагерь, — крестьяне вытянут тебя через пролом, — приветствуй от моего имени сэра Роберта и скажи ему, что, если он прибудет сюда с пятьюдесятью воинами, замок наверняка будет взят. Скажи, что мы уже закрепились внутри крепости. А еще скажи, что я посоветовал бы ему привести в движение наши отряды перед воротами, чтобы весь гарнизон скопился там, пока мы займем позиции в тылу. Ступай, Саймон, сейчас нельзя терять времени.
Но копейщик покачал головой.
— Я привел вас сюда — я, благородный сэр, здесь и останусь, что бы ни случилось. А то, что вы говорите, правильно: теперь, когда мы зашли так далеко, сэр Роберт должен знать, что тут готовится. Ступай, Хардинг, ступай как можно быстрее и передай, что сказал благородный Найджел.
Копейщик неохотно отправился выполнять поручение. Оставшиеся слышали звук его шагов и тихое позвякивание доспехов, пока они не замерли в глубине потерны. Потом все трое подошли к двери в конце коридора; они намеревались подождать там, пока не подоспеет подкрепление, но тут из-за двери среди гула и бормотания раздались мучительные крики. Кричал англичанин. Они хорошо различили слова:
— Ради Бога, ребята, умоляю, глоток воды! В ответ раздался взрыв хохота и звук тяжелого удара. При этих звуках кровь горячей волной прилила к голове Найджела, зашумела в ушах, застучала в висках. Бывают минуты, когда пылающее человеческое сердце должно пересилить холодный рассудок солдата. Одним прыжком он преодолел расстояние до двери, другим прорвался сквозь нее.
Солдаты не отставали от него ни на шаг. Открывшаяся их глазам сцена была так неожиданна и ужасна, что на миг все трое застыли на месте.
Перед ними было большое сводчатое помещение, ярко освещенное факелами. В дальнем конце его с ревом пылал очаг. Перед ним, прикованные к столбам, стояли три раздетых догола человека. Цепи были наложены так, что, сколько бы несчастные ни старались, они не могли выйти из круга испепеляющего жара. И все же столбы были достаточно далеко от огня, так что, если у пленных хватало сил непрерывно передвигаться с места на место или поворачиваться, подставляя пламени то одну часть тела, то другую, настоящих ожогов они не получали. Поэтому они как бы танцевали перед очагом, непрерывно кружась, подпрыгивая, бросаясь в стороны насколько позволяли цепи, усталые до смерти, с вываливающимися, черными от жажды, растрескавшимися языками, лишенные возможности хоть на миг остановиться и передохнуть от этой судорожной пляски.
Но еще больше поразило вошедших то, что они увидели по обеим сторонам помещения, откуда и шли глухие стоны и завыванье, которые они услышали еще за дверью. Вдоль стен располагались большие бочки, в каждой сидело по человеку; их головы торчали сверху. Все они непрерывно двигались, а в бочках плескалась и переливалась вода. Бледные, изнуренные лица все разом обратились к распахнувшейся двери, и возглас изумления и возникшей вдруг надежды сменил протяжные стоны отчаянья.
В то же мгновенье два человека в черном, сидевшие за флягой вина у стола неподалеку от очага, вскочили на ноги и в немом изумлении уставились на вторгшихся. Промедление отняло у них последний шанс на спасенье. Посреди комнаты виднелись ступени, ведущие к главной двери.
С быстротой дикой кошки Найджел бросился к ней и на один шаг опередил стражей. Они повернули к другой двери, ведущей в проход, но Саймон и два других копейщика оказались к ней ближе. Два удара, два кинжала, вонзившихся в извивающиеся тела, и негодяи, исполнявшие волю Мясника, трупами легли на пол собственной бойни.
Какие радостные крики и благодарственные молитвы слетели тут с бескровных губ узников! Какой свет нечаянной надежды вспыхнул в измученных, провалившихся глазах! И не успей Найджел словом и жестом заставить их замолчать, этот безумный хор мог бы всполошить всю крепость.
Он открыл дверь, что была у него за спиной. Вверх, в темноту, вела винтовая лестница. Он прислушался, но сверху не доносилось ни звука. Снаружи в замке железной двери торчал ключ. Найджел вытащил его и повернул изнутри. Теперь занятым позициям ничто не угрожало, и они могли заняться несчастными узниками. Несколько ударов — и цепи с тех, кто плясал перед очагом, были сбиты. С каким-то хриплым радостным карканьем они бросились к бочкам с водой, в которых сидели их товарищи, и, опустив, как лошади, головы в воду, пили и пили. Тех же нечастных, кто был в бочках, наоборот, тут же вытащили из воды. Бледные, отекшие, они тряслись от холода, и когда с них сбили цепи, онемевшие ноги отказались им служить — они попадали на пол и, извиваясь, словно червяки, пытались подползти к Найджелу, чтобы поцеловать ему руку.
В самом углу лежал Эйлвард, с него стекала вода; он вконец обессилел от холода и голода. Найджел подбежал и приподнял ему голову. На столе все еще стоял кувшин вина, из которого пили два стражника. Найджел поднес его к губам лучника, и тот сделал большой глоток.
— Тебе лучше, Эйлвард? — спросил сквайр.
— Лучше, гораздо лучше, но будь я проклят, если еще хоть раз в жизни прикоснусь к воде! А вот бедняга Дикон умер, и Стивен тоже — их убил холод. Я сам промерз до мозга костей. Позвольте мне опереться на вашу руку, я хочу к огню, надо разогреть замерзшую кровь, чтобы она опять побежала по жилам.
Странное это было зрелище: двадцать голых солдат, сгрудившихся полукругом на полу перед очагом и протягивающих прямо к пламени трясущиеся руки. Вскоре, однако, языки их оттаяли, и они принялись наперебой рассказывать, что с ними произошло, повествование то и дело прерывалось радостными возгласами и словами благодарения святым, пославшим им освобождение. За все время, что они пробыли в плену, во рту у них не побывало ни крошки пищи. Мясник предложил им присоединиться к его гарнизону и со стен крепости обстреливать своих товарищей. Они отказались, и тогда-то он отобрал трех из них для казни.
Остальных затащили в подземелье, куда за ними последовал и грозный тиран. Каждому задали один-единственный вопрос — горяч он по натуре или холоден? И били до тех пор, пока не получили ответа. Трех, кто признался, что они холодны, обрекли на пытку огнем. Остальных, ответивших, что натура у них пылкая, приговорили к мукам в холодной воде. Время от времени этот дьявол в человеческом обличье приходил в подземелье, чтобы насладиться их страданиями и узнать, готовы ли они теперь служить ему. Трое согласились, и их увели. Остальные были тверды, и двое даже заплатили за это жизнью.
Вот что узнали Найджел и его товарищи, пока нетерпеливо ждали прибытия Ноулза с солдатами. То и дело бросали они в темноту потерны беспокойные взгляды, но в глубине не видно было мерцания света, не слышно бряцания оружия. Потом вдруг до ушей их донесся громкий, размеренный звук — глухой металлический звон, тяжелый, медленный; постепенно он усиливался, и стало ясно, что по коридору движется латник. Несчастные, отогревавшиеся у очага, совсем ослабевшие от голода и мучений, сбились в кучу и, обратив побелевшие, испуганные лица в сторону хода, с ужасом уставились на дверь.
— Это он! — шептали их бескровные губы. — Это Мясник!
Найджел подбежал к двери и прислушался. Никаких других шагов слышно не было. Удостоверившись в этом, он легонько повернул в замке ключ. В тот же миг снаружи раздался бычий рев.
— Ив! Бертран! Вы что, не слышите, что я иду, пьяницы проклятые! Придется вам самим поохладить головы в бочках, чертовы негодяи! Что? Вы и теперь меня не слышите? Открывайте, псы поганые! Кому говорю — открывайте!
Он сорвал засов, ударом ноги широко распахнул дверь и ввалился внутрь. На какое-то мгновение он застыл на месте, словно желтая бронзовая статуя, с недоуменьем глядя на пустые бочки и груду голых тел на полу. Потом, взревев, как попавшийся в западню лев, стремительно повернулся к двери, но она уже захлопнулась, и перед ней выросла фигура Черного Саймона. Он смотрел на Мясника, и на мрачном лице его играла насмешливая улыбка.
Мясник беспомощно оглянулся, — если не считать кинжала, он был совершенно безоружен. Потом взгляд его упал на алые розы Найджела.
— Вы человек благородной крови, у вас есть герб, — воскликнул он, — я сдаюсь вам!
— Я не возьму вас в плен, грязный негодяй, — ответил Найджел. — Берите оружие и защищайтесь. Саймон, дай ему свой меч!
— Ни в коем случае, это безумие, — резко возразил копейщик. — С чего это я стану давать осе жало?
— Дай ему меч, говорю. Я не могу просто так хладнокровно зарезать его.
— Зато я могу! — заорал Эйлвард, приползший от очага. — Ребята, клянусь своими десятью пальцами, разве он не научил нас, как разогревать холодную кровь?
И они набросились на Мясника, словно стая волков. Он тут же оказался на полу, на него навалилась дюжина обезумевших голых солдат. Найджел тщетно пытался оттащить их от тела, — перенесенные муки и голод совсем лишили их рассудка. С остановившимися горящими глазами, вставшими дыбом волосами, скрежеща зубами от ярости, они рвали и терзали поверженное тело. Под их ударами Мясник выл, извиваясь, как раздавленный червяк. Потом они схватили его за лодыжки, с лязгом и грохотом проволокли по полу к очагу и бросили в огонь.
Найджел увидел, как бронзовая фигура выкатилась из пламени и пыталась встать на колени, но ее снова схватили и забросили обратно в самую середину очага. Юношу всего передернуло, и он поспешно отвернулся. Узники, вопя от радости и хлопая в ладоши, пинками заталкивали Мясника в огонь, едва тому удавалось выползти. Наконец его доспехи так раскалились, что до них нельзя было больше дотронуться. Теперь тело было неподвижно и лежало, рдея, а голые люди, как безумные, плясали перед очагом.
Как раз в это время подошло подкрепление: в потерне засверкали огни, заблестели доспехи. Подземелье наполнилось вооруженными людьми, а снаружи донеслись крики и шум — начался ложный штурм ворот. Ноулз и Найджел быстро вывели своих людей из подземелья и захватили двор. Стража у ворот, застигнутая врасплох, побросала оружие и попросила пощады. Ворота распахнулись, в них хлынули нападающие, а за ними и сотни разъяренных крестьян. Многие разбойники пали в бою, остальных просто перебили; в живых не остался никто, потому что Ноулз поклялся не пощадить ни одной души. Уже занимался день, когда последний спрятавшийся разбойник был выгнан из своего убежища и убит. Со всех сторон слышались крики и вопли солдат, которые выламывали или рубили двери, ведущие в кладовые и сокровищницы. Там и сям возникали свалки, сопровождавшиеся радостными криками: то, что было награблено за одиннадцать лет — золото и драгоценности, шелка и бархат, — стало теперь добычей победителей.
Руководили поисками спасенные пленники — их уже накормили и одели. Найджел, опершись на меч, стоял у ворот и видел, как по двору пробежал Эйлвард с двумя огромными тюками в руках — одним за спиной и еще одним, небольшим, в зубах. Возле своего молодого господина он остановился на минуту и бросил маленький тюк на землю.
— Клянусь всеми своими десятью пальцами! Как здорово, что я пошел на войну, о лучшей жизни нельзя и мечтать! — прокричал он. — Тут у меня хватит подарков на каждую девчонку в Тилфорде, да и отцу не придется больше бояться рожи уэверлийского ризничего. А вы-то что же, сквайр Лоринг? Не дело это, что мы собираем урожай, а вы, кто его посеял, уйдете с пустыми руками. Пожалуйста, благородный сэр, возьмите эти вещи, а я пойду и наберу себе еще.
Но Найджел улыбнулся и покачал головой.
— Ты получил то, чего жаждало твое сердце, а я, похоже, то, к чему стремилось мое, — ответил он.
В эту минуту к нему с протянутой рукой подошел Ноулз.
— Я должен просить у вас прощенья, Найджел, — сказал он, — давеча я погорячился и наговорил лишнего.
— Что вы, сэр, я ведь в самом деле был виноват.
— Тем, что мы стоим здесь, внутри крепости, я обязан только вам. Я доложу об этом королю и Чандосу. Что я еще могу сделать, чтобы доказать вам, как высоко я вас ценю?
Сквайр покраснел от удовольствия.
— Вы пошлете домой вестника, чтобы сообщить обо всем этом, славный сэр?
— Конечно, я должен это сделать. Только не говорите мне, Найджел, что вы сами хотите быть этим вестником! Просите о чем-нибудь другом, вас я не могу отпустить.
— Избави Боже! — воскликнул Найджел. — Клянусь святым Павлом, я не такой трус и презренный раб, чтобы оставить вас, когда впереди столько схваток. Просто мне нужно послать с вашим гонцом свою весточку.
— Кому?
— Леди Мэри, дочери старого сэра Джона Баттесторна, что живет недалеко от Гилдфорда.
— Но вам придется написать письмо, Найджел. Приветствия, которые рыцарь посылает своей даме, должны быть под печатью.
— Нет, нет, он может передать мое послание изустно.
— Хорошо, я скажу ему, потому что он едет сегодня же утром. Что же он должен передать вашей даме?
— Пусть он передаст ей мой нижайший поклон и скажет, что второй раз святая Катарина была нам другом.
Глава XXII Как Робер де Бомануар прибыл в Плоэрмель
В тот же день Роберт Ноулз с своими людьми отправился дальше; по дороге они не раз оборачивались назад, чтобы снова взглянуть на два черных столба дыма, один погуще, другой совсем тонкий, что поднимались над замком и фортом Ла Броиньер. Лучники и копейщики тащили на спине огромные тюки с добычей, и глядя на них, Ноулз только мрачнел лицом. Он с удовольствием приказал бы бросить все это на дороге, но прежний опыт говорил, что отнять у таких людей кровью добытое добро — все равно, что пытаться отобрать полуобглоданную кость у медведя. Утешало его лишь то, что до Плоэрмеля оставалось всего два дневных перехода, а там, как он надеялся, поход и закончится.
Ночью они разбили лагерь в Мороне, где замок удерживал небольшой англо-бретонский гарнизон. Лучники обрадовались встрече с соотечественниками, и ночь прошла весело — пили вино, играли в кости, а прислуживали им бретонские девушки, так что к утру тюки солдат стали гораздо легче, да и вообще большая часть добычи из Ла Броиньера осталась у мужчин и женщин Морона. На следующий день путь отряда шел вдоль берегов живописной медлительной реки, а слева, насколько хватал глаз, тянулся волнующийся лес. Наконец к вечеру показались башни Плоэрмеля, и на фоне темнеющего небосвода воины увидели реющий по ветру красный английский крест. Река Дюк, по берегу которой шли англичане, была такая голубая, а берега ее такие зеленые, что могло показаться, будто они снова у себя дома и идут по родным берегам Темзы возле Оксфорда или Трента в Средней Англии. Но когда стемнело, из леса то тут, то там стал доноситься волчий вой — напоминание о том, что в этих землях идет война. Люди уже много лет подряд занимались жестоким истреблением друг друга, и теперь дикие звери, бывшие некогда предметом охоты, размножились до такой степени, что даже на городских улицах нельзя было чувствовать себя в безопасности — волки и медведи, которыми кишели окрестные леса, постоянно совершали кровавые набеги на человеческие поселения.
В сумерках отряд вошел во внешние ворота Плоэрмеля и разбил лагерь на широком дворе замка. В то время Плоэрмель был главным оплотом англичан в Средней Бретани, точно так же, как Энбон — в Западной. В нем стоял гарнизон в пятьсот человек под началом старого воина Ричарда Бэмброу, сурового нортумберлендца, который прошел жестокую школу войны в пограничных схватках. Ему довелось побывать в походах в самых беспокойных местах Европы, он служил в войсках, отражавших набеги шотландцев, и был сыздавна приучен к походной жизни.
Однако в последнее время Бэмброу не мог предпринимать никаких серьезных действий, потому что прежние союзники его покинули, и теперь у него оставалось всего три английских рыцаря и семьдесят солдат. Кроме них, под началом у него состояли бретонцы, геннегаусцы и несколько наемников-немцев. Храбрые по натуре, как и все германцы, они не были лично заинтересованы в том, что приходилось делать, и их не связывали друг с другом ни узы крови, ни традиции.
Окрестные замки, особенно Жослен, напротив, имели сильные гарнизоны, состоявшие из бретонских солдат, воодушевленных общим патриотизмом и преисполненных боевого духа. Неистовый Робер де Бомануар, сенешаль дома Роганов, постоянно совершал набеги на Плоэрмель, так что город и замок денно и нощно страшился оказаться в осаде. Несколько небольших отрядов сторонников англичан уже были отрезаны и перебиты до последнего человека, остальные же оказались в кольце и теперь с трудом добывали в округе продовольствие и фураж.
В таком положении гарнизон Бэмброу находился и в тот мартовский вечер, когда Ноулз и его люди полноводной рекой влились во двор замка.
У внутренних ворот, освещенных колеблющимся пламенем факелов, их ждал Бэмброу, сухощавый, сильный человек небольшого роста с жестким, изрытым морщинами лицом и маленькими черными глазками. Двигался он по-кошачьи быстро и мягко. Рядом с ним стоял его оруженосец Крокварт, немец по происхождению. Военная слава гремела о нем по всему свету, хотя, как и Роберт Ноулз, начинал он с простого пажа. Внешне он был полной противоположностью Бэмброу: высокий, с невероятно широкими плечами и ручищами, которыми легко разгибал подкову. Двигался он медленно, словно во сне, и только при сильном волнении обретал быстроту и резвость; мечтательные голубые глаза и длинные светлые волосы придавали ему такой добродушный вид, что ни одному человеку, кроме тех, кто видел, как неистов и яростен этот железный гигант в гуще схватки, не могло прийти в голову, что в бою это сущий берсерк[58]. Низенький рыцарь и высоченный оруженосец стояли рядом под аркой башни, приветствуя прибывших, а толпа солдат обнимала своих товарищей, и тут же уводила их прочь, чтобы накормить, а потом вместе и повеселиться.
В большом зале Плоэрмельского замка подали ужин для рыцарей и оруженосцев. Вместе с Бэмброу и Кроквартом там были сэр Хью Кэлвели, старый друг и сосед Ноулза — оба они были из Честера. Сэр Хью был человек среднего роста, с льняными волосами, суровыми серыми глазами и неприятным длинноносым лицом, которое пересекал шрам от удара меча. Среди собравшихся были еще Жоффруа д'Арден, молодой бретонский сеньор, сэр Томас Белфорд, дородный коренастый англичанин из Средней Англии, сэр Томас Уолтон, чей плащ с алой ласточкой говорил о том, что он происходит из суррейских Уолтонов; Джеймс Маршал и Джон Рассел, молодые английские сквайры, и два брата, Ришар и Юг Ле Гайар, в жилах которых текла гасконская кровь. Кроме них в зале находилось несколько оруженосцев, еще не успевших прославиться, а из вновь прибывших — сэр Роберт Ноулз, сэр Томас Перси, Найджел Лоринг и еще два оруженосца, Эллингтон и Парсонс. Все это общество собралось за освещенным факелами столом плоэрмельского сенешаля и от души веселилось, потому что все знали: впереди их ждут доблестные подвиги и слава.
Но было среди них и одно грустное лицо, оно принадлежало человеку, занимавшему место во главе стола. Сэр Роберт Бэмброу сидел, оперев подбородок на руку и не поднимая глаз от скатерти, хотя вокруг него шел оживленный разговор и обсуждались планы новых действий, которые теперь можно было бы предпринять. Сэр Роберт Ноулз был за немедленный поход на Жослен, Кэлвели полагал, что лучше отправиться на юг, где располагались главные силы французов. Другие считали, что надо ударить на Ван.
Бэмброу мрачно и безмолвно слушал жаркие споры, потом вдруг прервал их яростным проклятьем; все смолкли и обернулись в его сторону.
— Довольно, господа! — воскликнул он, — ваши слова мне как нож острый в сердце! Да, мы могли бы сделать все, о чем вы говорите, и даже еще больше. Но вы пришли слишком поздно.
— Слишком поздно? — переспросил Ноулз. — Что вы хотите этим сказать, Ричард?
— Увы, мне неприятно говорить об этом, но, как ни полезен для меня ваш приход, вы сами и все ваши славные воины могли бы спокойно вернуться в Англию. Когда вы подходили к замку, вам не встретился всадник на белой лошади?
— Нет, я никого не видел.
— Он приехал по западной дороге из Энбона. Жаль, что он не сломал себе шею раньше. Еще часа не прошло с тех пор, как он привез мне послание, а теперь ускакал, чтобы предупредить гарнизон в Малетруа. Английский и французский короли заключили на год перемирие, и всякий, кто его нарушит, лишится жизни и всего имущества.
Перемирие! Вот и конец всем их прекрасным мечтам. Воины тупо смотрели друг на друга, а Крокварт с такой силой грохнул кулаком по столу, что зазвенели кубки. Ноулз стиснул руки и сидел, окаменев, словно статуя, а у Найджела захолонуло сердце. А как же тогда ему совершить третий подвиг? Ведь он не может вернуться домой, не исполнив клятвы.
Однако покуда они сидели в мрачном молчании, откуда-то из темноты донесся звук горна.
Сэр Ричард удивленно поднял голову.
— После того, как поднята решетка, мы обычно никого не впускаем, — сказал он. — Перемирие не перемирие, а сюда никто не должен войти, пока мы не проверим, кто это. Крокварт, займитесь этим делом.
Великан германец вышел из залы; когда он вернулся, все общество продолжало сидеть в унылом безмолвии.
— Сэр Ричард, — сказал он, — за воротами ожидают славный рыцарь Робер де Бомануар и его оруженосец Гийом де Монтобан; им нужно переговорить с вами.
Бэмброу так и привскочил на стуле. Что желает сказать ему этот неистовый вождь бретонцев, человек, по самые локти обагренный кровью англичан? Зачем он оставил свое убежище — крепость Жослен и явился с визитом к своим смертельным врагам?
— Они вооружены? — спросил он.
— Нет, при них нет никакого оружия.
— Тогда впустите их и проведите сюда. Только удвойте стражу и примите все меры предосторожности на случай неожиданного нападения.
На дальнем конце стола тут же приготовили места для столь неожиданных гостей. Затем распахнулась дверь и Крокварт по всем правилам этикета возвестил о прибытии двух бретонцев. Те вошли величественно и гордо, как подобает доблестным воинам и знатным людям.
Бомануар был высокий смуглый человек с волосами черными, как вороново крыло, и длинной темной бородой. Он был силен и строен, как молодой дуб. На красивом лице, единственным недостатком которого были выбитые передние зубы, жарким огнем горели черные глаза. Его оруженосец Гийом де Монтобан был тоже высок ростом, с худым, продолговатым лицом, резкими чертами и маленькими серыми глазами, близко посаженными к хищному длинному носу. Открытое лицо Бомануара выражало только изысканную любезность; в лице Монтобана, тоже источавшем любезность, можно было подметить и жестокость, и волчье коварство. Войдя в залу, они поклонились, а маленький английский сенешаль вышел навстречу им с протянутой рукой.
— Милости прошу, Робер, пока вы под этим кровом, — произнес он. — Но надеюсь, придет время, когда в другом месте мы поговорим с вами иначе.
— Надеюсь, Ричард, — отвечал Бомануар. — Я должен, однако, сказать, что мы в Жослене глубоко вас уважаем и очень признательны вам и вашим людям за все, что вы для нас сделали. О лучших соседях, да еще таких, что принесли бы нам больше чести, мы не могли бы и мечтать. Я слышал, что к вам присоединился Роберт Ноулз со своими людьми, и нам тяжко думать, что приказ наших королей помешает нам помериться силами.
Тут оба гостя сели на приготовленные для них места и, наполнив кубки, выпили за здоровье присутствующих.
— Вы говорите правду, Робер, — сказал Бэмброу. — Как раз перед вашим приходом мы обсуждали все это и сожалели, что дело обернулось таким образом. А когда вы услышали о перемирии?
— Вчера к вечеру был гонец из Нанта.
— К нам вести пришли сегодня утром из Энбона. На пакете была печать самого короля. Боюсь, что целый год вам придется сидеть в Жослене, а нам в Плоэрмеле и как сумеем убивать время. Быть может, мы будем вместе истреблять волков в лесу или охотиться с соколами на берегу Дюка.
— Конечно, мы так и поступим, Ричард, — ответил Бомануар, — только клянусь святым Кадоком, сдается мне, что при желании мы сумеем устроиться так, как будет на то наша добрая воля, и в то же время не нарушим приказа наших королей.
Все рыцари и оруженосцы повернулись, так и пожирая его глазами. Бомануар обвел взглядом сидевших за столом: иссохшего сенешаля, светловолосого гиганта, румяного юного Найджела, сурового Ноулза, желтого, похожего на ястреба, Кэлвели — все они горели одним и тем же желанием. Француз широко улыбнулся беззубым ртом и сказал:
— Ну, я вижу, сомневаться в доброй воле ваших людей не приходится, да я и был в этом уверен еще прежде, чем отправился к вам. А теперь подумайте: приказ касается только военных действий, а не вызовов, поединков, рыцарских схваток и тому подобное. Король Эдуард и король Иоанн[59] — настоящие рыцари, и никто из них не станет мешать джентльмену, который захотел бы завоевать почести или рискнуть своим бренным телом ради прославления своей дамы. Разве это не так?
Над столом поднялся нетерпеливый шум.
— Если вы как гарнизон Плоэрмеля выступите против гарнизона Жослена, то всем станет ясно, что мы нарушили перемирие, и кара падет на наши головы. А если между мной и вот тем, к примеру, молодым оруженосцем, у которого на лице написано, что он жаждет славы, произойдет приватное сражение, а потом в ссору вмешаются остальные — что ж, это нельзя будет назвать войной, это наше личное дело, и никакому королю не дано ему помешать.
— Ну, Робер, все, что вы говорите, разумно и справедливо, — ответил Бзмброу.
Бомануар с полным кубком в руке повернулся и перегнулся в сторону Найджела.
— Как ваше имя, оруженосец?
— Меня зовут Найджел Лоринг.
— Я вижу, вы молоды и горячи, и я выбираю вас, потому что, когда я был в ваших летах, я больше всего на свете хотел бы, чтобы выбор пал на меня.
— Благодарю вас, славный сэр, — ответил Найджел. — Для меня большая честь, что такой знаменитый рыцарь, как вы, снизойдет до поединка со мной.
— Но для ссоры нам нужен повод. Так вот, Найджел, я пью за дам Бретани, самых прекрасных и самых добродетельных на всем белом свете, из которых наименее достойная намного превосходит лучших дам Англии. Так что же вы скажете, юный сэр?
Найджел обмакнул палец в свой кубок и, перегнувшись через стол, прижал его к руке бретонца, оставив на ней влажный отпечаток.
— Считайте, что я плеснул вино вам в лицо, — ответил он.
Бомануар вытер красную каплю и одобрительно улыбнулся.
— Отличный ответ, — похвалил он. — К чему портить мою бархатную куртку, как сделали бы многие вспыльчивые глупцы! Мне думается, юный сэр, вы далеко пойдете. А теперь кто же ввяжется в ссору?
Сидящие за столом ответили глухим ревом. Бомануар оглядел их и покачал головой.
— Увы, — произнес он, — вас здесь только двадцать, а у меня в Жослене тридцать человек, и все рвутся к славе, так что если я вернусь только за двадцатью, будет много обиженных. Прошу вас, Ричард, раз уж мы приложили столько усилий, чтобы устроить это дело, сделайте все, что можете. Неужели вам не найти еще десятерых?
— Отчего же, но только не благородной крови.
— Это неважно, лишь бы они хотели сразиться.
— Не сомневайтесь, замок полон стрелков и копейщиков, которые с удовольствием примут участие в бою.
— Тогда отберите десять человек. Но тут впервые открыл рот тонкогубый оруженосец с волчьим лицом:
— Лучников допускать нельзя, сеньор.
— Я никого не боюсь.
— Нет, славный сеньор, поразмыслите хорошенько, мы ведь устраиваем испытание оружием, когда человек идет против человека. А вы видели английских лучников и знаете, какие у них быстрые и крепкие стрелы, подумайте только, если против вас станет десять стрелков, может статься, что половина наших будет перебита, прежде чем дойдет до рукопашной.
— Клянусь святым Кадоком, Гийом, я думаю, ты прав! — воскликнул бретонец. — Если мы хотим, чтобы этот бой остался в людской памяти, не надо ни ваших лучников, ни наших арбалетчиков. Только сталь на сталь. Что вы на это скажете?
— Конечно, если вы так хотите, мы можем выставить и десять копейщиков, чтобы силы были совсем равны. Значит, все знают, что мы сражаемся не из-за распрей между Англией и Францией, а потому, что вы и сквайр Лоринг повздорили из-за дам. А время?
— Теперь же.
— Да уж конечно, прямо сейчас, а то не дай Бог, прибудет еще гонец и такой бой тоже запретят. Мы будем готовы с восходом солнца.
— Нет, лучше днем позже, — снова вмешался бретонский оруженосец, — посчитайте, сеньор, ведь трем копейщикам из Раданека нужно время на дорогу.
— Они не из нашего гарнизона и не будут принимать участия в сражении.
— Но, славный сеньор, из всех копейщиков Бретани…
— Нет, Гийом, ни часом позже. Так, значит, завтра, Ричард.
— А где?
— Я приметил подходящее место, еще когда ехал сюда сегодня вечером. Если переправиться через речку и пойти полем по вьючной тропе в сторону Жослена, на полпути, на самом краю ровного, чистого луга, растет могучий старый дуб. Вот там и встретимся завтра в полдень.
— Решено! — воскликнул Бэмброу. — Только прошу вас, Роберт, не вставайте. Еще рано, и скоро подадут пряности и вино. Пожалуйста, останьтесь с нами. Если вы желаете послушать самые новые английские песни, думаю, эти господа принесли их с собой. Для кого-то из нас сегодняшний вечер будет последним, так давайте же возьмем от него все, что он может нам дать.
Но доблестный бретонец покачал головой.
— Это и в самом деле для многих последний вечер в жизни, — отозвался он, — и нужно, чтобы мои сотоварищи знали об этом заранее. Самому мне священник не нужен: я не думаю, чтобы тому, кто всегда поступал, как должно рыцарю, на том свете придется худо, но ведь другие могут думать иначе, им может понадобиться время, чтобы помолиться и покаяться. Прощайте, славные господа, я пью последний кубок за встречу у старого дуба.
Глава XXIII Как тридцать жосленцев встретились с тридцатью плоэрмельцами
Всю ночь в Плоэрмельской крепости стояли стук и звон — гарнизон готовился к сражению. Оружейники ковали, клепали, подтачивали, подгоняя доспехи для поединщиков. На конюшнях конюхи осматривали и чистили громадных боевых коней, а в часовне коленопреклоненные рыцари и оруженосцы облегчали душу, исповедуясь старому отцу Бенедикту.
Тем временем во дворе столпились копейщики, и из них отбирали добровольцев, пока не остановились на десяти самых лучших воинах. Черный Саймон тоже попал в их число, и мрачное лицо его засияло от радости. Кроме него взяли молодого Николаса Дэгзуорта, благородного искателя приключений, который приходился племянником знаменитому сэру Томасу, немца Вальтера, Гюльбите, деревенского исполина, от чьего огромного тела можно было многого ожидать, не подведи его неповоротливый мозг, Джона Олкока, Робина Эйди и Рауля Прово. Вместе с еще тремя они дополнили отряд до нужных тридцати человек. Стрелки же, узнав, что никто их них не примет участия в сраженье, подняли было шум и ругню, но делать было нечего — пользоваться луками не позволили ни той, ни другой стороне. Правда, многие лучники отлично владели и мечом и топором, но не привыкли биться в тяжелых доспехах, а легкие доспехи в предстоящей рукопашной неминуемо обрекли бы их на скорый конец.
За час до полудня, в четвертую среду Великого поста, в год от рождества Христова 1351-й воины Плоэрмеля выехали из ворот замка и перешли мост через Дюк. Впереди ехал Бэмброу со своим оруженосцем. Крокварт сидел на могучем чалом жеребце и держал знамя Плоэрмеля — черный лев с флагом, стоящий на задних лапах на горностаевом поле. За ним следовали Роберт Ноулз и Найджел Лоринг, а рядом с ними — сопровождающий, который нес рыцарское знамя с черным вороном. Далее ехали сэр Томас Перси, над ним развевалось знамя с лазоревым львом, и сэр Хью Кэлвели — на его знамени была серебряная сова; следом за ним могучий Белфорд вез на луке седла тяжеленную шестидесятифунтовую булаву, а рядом ехал сэр Томас Уолтон, рыцарь из Суррея. За ними двигались четверо доблестных англо-бретонцев — Перро де Комлен, Ле Гайар, д'Апремон и д'Арден; они выступали против своих соотечественников, потому что были приверженцами графини де Монфор. Над ними развевался ее зубчатый серебряный крест на лазоревом поле. Замыкали колонну пять немецких и генегауских наемников, высоченный Гюльбите и копейщики. Всего в отряде было двадцать человек английской крови, четверо — бретонской, и шесть — германской.
Вот такие воины ехали полем к старому дубу. Полуденное солнце играло на доспехах, над ними реяли знамена, а могучие боевые кони били копытами и вскидывали головы. Позади нескончаемым потоком шли сотни лучников и копейщиков; у них предусмотрительно отобрали оружие, чтобы предстоящая небольшая схватка не превратилась во всеобщее побоище. С ними шли и горожане обоего пола, торговцы вином и всякой снедью, оружейники, конюхи и герольды, а также хирурги, чтобы помогать раненым, и священники, чтобы отпускать грехи умирающим. Толпа запрудила всю дорогу, но сверх того со всех сторон к месту сраженья спешил разный люд — пешие и конные, мужчины и женщины, благородные и простолюдины.
Путь был недолог: вскоре, пройдя полями, они увидели огромный старый дуб, распростерший длинные кривые безлистные сучья в углу ровной зеленой луговины. Дуб казался черным от облепивших его ветви окрестных крестьян, да на земле вокруг него собралась тьма людей; они шумели и галдели, как грачи в грачевнике перед заходом солнца. При приближении англичан толпа заорала и завопила — вся округа дружно ненавидела Бэмброу, потому что он выколачивал из народа деньги на дело Монфоров, требуя с каждого прихода отступное и жестоко обходясь с теми, кто отказывался платить. Уроки, полученные на шотландской границе, не прибавили англичанам мягкости и учтивости в обхождении. Воины спокойно продолжали путь, не обращая внимания на сыпавшиеся на них насмешки, зато лучники повернули к горлопанам и живо заткнули им глотки. После этого они самочинно взяли на себя обязанности блюстителей порядка и оттеснили толпу к самому краю поля. Там она и стояла плотной широкой лентой, а все поле было свободно для предстоящего сраженья.
Бретонские рыцари еще не прибыли, и англичане, привязав лошадей по одну сторону луговины, собрались вокруг своего командира. У каждого на груди висел щит, а копья были укорочены до пяти футов, так ими было удобнее пользоваться в пешем бою. Кроме копья у каждого на боку висел либо меч, либо боевой топор. С головы до ног воины были закованы в броню, а на гребнях шлемов и плащах виднелись эмблемы, чтобы можно было без труда отличать своих от чужих. Пока что забрала были подняты, и все весело переговаривались друг с другом.
— Клянусь святым Данстеном! — воскликнул Перси, хлопая друг о друга латными перчатками и притопывая закованными в сталь ногами. — Скорее бы за дело, а то у меня совсем застыла кровь!
— Ничего, вы еще успеете как следует разогреться, прежде чем все кончится, — отозвался Кэлвели.
— Или похолодеть навсегда. Если я выберусь отсюда живым, в эникской часовне затеплятся свечи и благовест разнесется по всей округе, но что бы ни случилось, любезные господа, турнир этот нас прославит и поможет нам в других делах. И каждый из нас, если ему повезет остаться в живых, достойно завоюет славу.
— Вы правы, Томас, — заметил Ноулз, подтягивая пояс. — Сам я не люблю таких турниров во время войны, потому что негоже воину больше думать о собственных удовольствиях и славе, чем о деле короля и благе армии. Но во время перемирия это — наилучший способ провести день. А вы, Найджел, почему молчите?
— Я смотрел в сторону Жослена, славный сэр. Ведь он лежит вон за тем лесом? А там не видно ни того любезного господина, ни всех остальных. Будет очень жаль, если что-нибудь им помешает.
Хью Кэлвели рассмеялся.
— Вам нечего опасаться, юный сэр, — сказал он. — Робер де Бомануар такой человек, что если бы пришлось, он и один бы вышел против нас всех. Ручаюсь, лежи он на смертном одре, он все равно приказал бы принести его сюда, чтобы умереть на зеленом поле брани.
— Это правда, Хью, — подтвердил Бэмброу, — я хорошо знаю и его самого, и его людей. Во всем христианском мире не сыскать тридцати таких отважных и умелых воинов. Я тоже думаю: сегодня, что бы ни случилось, на долю каждого из нас выпадет много славы и почестей. У меня в голове все время сидит один стишок, его пропела мне жена какого-то валлийского стрелка, когда я надел ей на руку золотой браслет — мы тогда только что взяли Бержерак. В ее жилах текла древняя кровь Мерлина, и у нее тоже был дар прорицания. Она сказала:
Между дубом и рекой В схватке ты, боец лихой, Древний род прославишь свой.Вот мне и думается, что я вижу тот самый дуб, а там, позади нас, течет река. Наверное, это предвещает нам удачу.
Во время речи своего господина его исполин оруженосец еле сдерживал нетерпение. Занимая подчиненное положение, он, однако, был среди собравшихся самым опытным и знаменитым бойцом. Теперь он бесцеремонно вмешался в разговор.
— Нам надо заняться делом, — подумать, какую выбрать позицию и как вести бой, а не болтать о Мерлине и слушать всякие бабьи сказки, — сказал он. — Сегодня мы можем довериться только силе собственных рук да оружию.
И мне надо знать, сэр Ричард, какие будут ваши распоряжения на случай, если вы падете в разгар боя.
Бэмброу повернулся к остальным.
— Если этому суждено случится, славные господа, я желаю, чтобы командование принял мой оруженосец Крокварт.
Последовала пауза: рыцари с досадой переглянулись. Молчание нарушил Ноулз:
— Я выполню вашу волю, Ричард, хотя, конечно, нам, рыцарям, обидно служить под началом оруженосца. Впрочем, теперь нельзя ссориться, на это нет времени; к тому же я слышал, что Крокварт — человек достойный и храбрый. И я клянусь спасением души, что, если вы падете, признаю его своим командиром.
— И я тоже, Ричард, — присоединился Кэлвели.
— И я! — воскликнул Белфорд. — Послушайте-ка, там какая-то музыка! А вон за деревьями их знамена!
Все обернулись, опираясь на короткие копья, и молча уставились на жосленцев, выходивших из лесу и направлявшихся к дубу. Первыми на опушке показались три герольда в плащах с бретонским горностаем. Они громко трубили в серебряные трубы. За ними на белой лошади ехал человек исполинского роста со знаменем Жослена в руках — девятью золотыми бизантами[60] на пурпурном поле. Потом появились воины. Они ехали по двое в ряд, пятнадцать рыцарей и пятнадцать оруженосцев, каждый со своим знаменем. Позади на носилках несли престарелого священнослужителя, епископа Реннского; в руках он держал святые дары и елей, чтобы дать умирающим последнюю помощь и утешение матери-церкви. Замыкала процессию огромная толпа мужчин и женщин из Жослена, Гегона и Эллеона и весь гарнизон крепости, безоружный, как и англичане. Голова французской колонны достигла луговины, а хвост только-только показался из леса; когда конец подтянулся, воины спешились и привязали коней к кольям на дальнем конце поля; за этой линией подняли знамя, и люди начали строиться, пока не заслонили всю опушку, где плотной стеной стояли зрители.
Англичане внимательно рассматривали геральдические знаки противника: трепещущие знамена и роскошные плащи говорили на языке, который любой из них легко понимал. Впереди было знамя Бомануара — лазоревое с серебряными поясами. На втором знамени, которое держал в руках маленький паж, был начертан его девиз: «J'ayme qui m'ayme»[61].
— А чей это щит позади него — серебряный с пурпурными каплями? — спросил Найджел.
— Его оруженосца Гийома де Монтобана, — ответил Кэлвели. — А там вон молодой лев Рошфора и серебряный крест силача Дюбуа. Лучших противников и желать нельзя. Глядите, вон лазоревые кольца молодого Тинтиньяка, который в прошлый праздник урожая убил моего оруженосца Хьюберта. И да поможет мне святой Георгий, сегодня еще дотемна я ему отомщу.
— Клянусь всеми тремя германскими королями[62], — буркнул Крокварт, — сегодня нам придется напрячь все силы: я никогда не видывал, чтобы противник собрал столько отличных солдат. Вон тот — это Ив Шерюэль, бретонцы прозвали его Железным; а там — Каро де Бодега, с ним я тоже не раз дрался, у него на пурпурном щите три горностаевых круга. А вон — левша Ален де Каранэ. Помните, он наносит удар с той стороны, что не прикрыта щитом.
— А вон тот невысокий крепкий воин, — спросил Найджел, — у него щит черный с серебром? Клянусь святым Павлом, он, кажется, человек достойный, и сразиться с ним почетно: ростом он, правда, не вышел, зато в плечах косая сажень.
— Это сеньор Робер Рагенель, — отозвался Кэлвели, который уже давно служил в Бретани и хорошо знал бретонцев. — Говорят, он может унести на плечах лошадь. Особенно берегитесь ударов его стальной булавы: нет еще такой брони, что их выдержит. А вот и добрый Бомануар, значит, пора начинать.
Бретонский военачальник уже выстроил своих бойцов в одну шеренгу напротив англичан и теперь, выехав вперед, пожимал руку Бэмброу.
— Клянусь святым Кадоком, Ричард, какая радостная встреча! — воскликнул он. — Мы отлично придумали, как развлечься, не нарушая перемирия.
— Да, Робер, — ответил Бэмброу, — и мы вам очень признательны: я вижу, вы постарались выставить против нас достойных противников. И уж конечно, если всем суждено погибнуть, мало какие бретонские благородные дома не будут в трауре.
— Нет, среди нас нет никого из высокопоставленных бретонцев. Никто из Блуа, Леонов, Роганов или Конанов не принимает участия в сегодняшнем сраженье. Но все же мы — люди благородной крови, имеем гербы и готовы жертвовать жизнью ради наших прекрасных дам и из любви к благородным обычаям рыцарства. А теперь, Ричард, на каких условиях вы желали бы сегодня драться?
— До тех пор, пока одна из сторон больше не выдержит. Ведь так редко бывает, чтобы собралось столько отважных воинов, вот нам и пристало узнать друг друга получше.
— То, что вы говорите, Ричард, справедливо и благородно. Так мы и поступим. А в остальном, едва герольд возвестит о начале боя, каждый сражается, как ему угодно. Если же в схватку вмешается кто-либо со стороны, его тут же повесят на этом дубе.
Бомануар отсалютовал, опустил забрало и вернулся к своим. Французские поединщики пестрой, блестящей линией стояли, преклонив колена, перед старым епископом, который благословлял их на подвиги.
Герольды сделали круг по лугу, предупреждая зрителей. Потом остановились возле двух отрядов воинов, которые теперь выстроились друг против друга в две длинные шеренги, разделенные пятьюдестью ярдами травы. Забрала уже были опущены, и каждый воин с головы до ног был закован в металл: немногие — в рядную медь, большинство — в сверкающую сталь; лишь в темной глубине шлемов мрачным огнем горели суровые глаза. С минуту противники стояли, слегка пригнувшись и буравя друг друга взглядами.
Потом с громким «Allez!»[63] герольд опустил поднятую руку, и обе шеренги, приволакивая ноги, быстро, насколько позволяли тяжелые доспехи, устремились навстречу друг другу. Когда они сошлись на самой середине поля, раздался оглушительный грохот и звон металла, как будто шесть десятков кузнецов разом ударили по наковальням. И тут же неистово завопили и заорали зрители, одни подбадривая англичан, другие — французов. Крики все усиливались и наконец заглушили даже шум битвы.
Противники так рьяно рвались в бой, что не прошло и нескольких минут, как на поле все перемешалось, стройные шеренги сражающихся сбились в одну неистовую грохочущую толпу, где каждый кидался из стороны в сторону, сшибался то с одним, то с другим, перед кем-то отступал, кого-то теснил сам, наносил удары, уклонялся от ответных, и все это с единственной целью — разить копьем или топором всякого, кого увидит сквозь узкую прорезь забрала.
Однако Найджелу с его мечтами о великом подвиге не повезло. Ему была уготована судьба всех смельчаков — он пал первым. Исполненный отваги, он выбрал себе место в шеренге почти напротив Бомануара и ринулся прямо на бретонского военачальника, памятуя, что начало ссоры было положено ими. Но прежде чем он достиг цели, его захватил водоворот товарищей, а так как он был легче других, его вынесло прочь из толпы и бросило в объятия Алена де Каранэ, бретонского бойца-левши. Они столкнулись с такой силой, что оба тут же покатились на землю. Найджел, легкий и проворный как кошка, первым вскочил на ноги и уже склонился над бретонским оруженосцем, как вдруг сзади ему на голову обрушился сокрушительный удар булавы могучего карлика Рагенеля. Найджел застонал и упал лицом вниз. Изо рта, носа и ушей у него хлынула кровь. Так он лежал, пока продолжалось великое сражение, о котором грезила его пылкая душа, и его бесчувственное тело попирали ноги и чужих и своих.
Впрочем, вскоре он был отомщен. Огромная железная палица Белфорда тут же повергла карлика наземь; правда, и Белфорд, в свою очередь, пал от стремительного выпада Бомануара. Бывали минуты, когда на земле оказывалось сразу человек двенадцать, но броня была так прочна, а щиты и другие доспехи так хорошо предохраняли от сильнейших ударов, что товарищам нередко удавалось поднять поверженных на ноги, и те могли продолжать бой.
Однако многим уже нельзя было помочь. Крокварт нанес удар мечом бретонскому рыцарю по имени Жан Руссоло и срезал у него наплечник, обнажив шею и верхнюю часть руки. Тот попытался было прикрыть уязвимое место щитом, но обнажена была правая сторона, и ему никак не удавалось дотянуться до нее. Отступать ему тоже было некуда — вокруг была плотная толпа сражающихся. Какое-то время он еще ухитрялся не подпускать противника близко, но открытое белое плечо было отличной целью для любого оружия, и в конце концов чей-то топор погрузился по самую рукоять в грудь рыцаря. Почти тотчас же второй бретонец, молодой оруженосец по имени Жоффруа Мелон, пал от руки Черного Саймона, который нашел у врага слабое место чуть ниже подмышки. Еще троих бретонцев — Ивена Шерюэля, Каро де Бодега и Тристана де Пестивьена, из которых первые два были рыцари, а третий — оруженосец, — удалось отрезать от товарищей и свалить на землю, а так как кругом были одни англичане, им пришлось выбирать между немедленной смертью и пленом. Они отдали мечи Бэмброу и отошли в сторону, с горечью следя за жаркой схваткой, которая, то ослабевая, то нарастая, шла по всему полю. Все трое были тяжело ранены.
Сраженье шло без перерыва уже почти полчаса. Тяжелые доспехи, потеря крови, ушибы и невероятное напряжение души и тела так изнурили воинов, что они едва держались на ногах и были больше не в состоянии поднять оружие. Для того, чтобы сражение могло завершиться чьей-либо победой, его надо было на время остановить. В толпу, пришпорив коней, врезались герольды.
— «Cessez! Cessez! Retirez!»[64] — кричали они обессилевшим бойцам.
Доблестный Бомануар понемногу вывел оставшихся двадцать пять человек на исходную позицию: они тут же подняли забрала, бросились на траву и, дыша тяжело, как уставшие псы, стали стирать пот с налитых кровью глаз. Паж принес кувшин анжуйского, и каждый осушил по чаше. Не притронулся к вину только Бомануар — он строго блюл великий пост и до захода солнца не позволял себе принимать ни пищи, ни питья. Он медленно обходил своих людей, с запекшихся губ срывались хриплые слова ободрения: он говорил, что у англичан почти все бойцы ранены, а некоторые так тяжело, что едва держатся на ногах; что если бой и был пока не в их пользу, то дотемна остается еще пять часов, а за это время многое может случиться, прежде чем полягут последние из них.
На место боя бросились слуги, чтобы оттащить двух убитых бретонцев; несколько английских лучников вынесли Найджела. Эйлвард собственными руками снял продавленный шлем и разрыдался, увидев бескровное, помертвелое лицо своего молодого господина. Однако он еще дышал, и лучники, уложив его на траву возле самой реки, стали приводить его в чувство, пока наконец вода, которую лили ему на лоб, и свежий ветер не вдохнули жизнь в его искалеченное тело. Он тяжело дышал, с трудом втягивая воздух, но, хотя щеки его чуть порозовели, память все еще не возвращалась к нему, он не слышал ни криков толпы, ни шума боя, который снова вели его товарищи.
К перерыву у англичан окровавленных и бездыханных было не меньше, чем у французов, но в живых все еще оставалось двадцать девять человек. Правда, среди них не нашлось бы и девяти, совсем не пострадавших, а некоторые так ослабели от потери крови, что едва могли встать. И все же, когда наконец раздался сигнал, призывающий к продолжению боя, ни с той, ни с другой стороны не нашлось ни одного, кто не поднялся бы на ноги и не побрел бы, шатаясь, вперед, навстречу врагу.
Начало второй схватки оказалось для англичан неудачным. Бэмброу, как и все остальные, во время передышки поднял забрало, но потом, поглощенный множественными заботами, не приладил его как полагается, так что между ним и налобником остался зазор почти в дюйм. Когда обе шеренги вновь сошлись, бретонский оруженосец-левша Ален де Каранэ заметил эту щель и тотчас вонзил в нее короткий меч. Английский военачальник закричал от боли и упал на колени, но тут же, шатаясь, встал на ноги; однако он был слишком слаб и не мог поднять щит. Пока он стоял беззащитный, перед бретонским рыцарем, силач Жоффруа Дюбуа с такой силой ударил его топором, что рассек не только нагрудник, но и тело. Бэмброу замертво упал на землю, и еще несколько минут над его телом продолжалась ожесточенная схватка.
Вскоре англичане, мрачные и подавленные, отступили, унося с собой тело Бэмброу, а французы, еле переводя дух, снова собрались на своей стороне. И в то же мгновение трое бретонских пленных живо подобрали с земли какое-то валявшееся в траве оружие и со всех ног бросились к своим.
— Стойте! Стойте! — закричал Ноулз и, подняв забрало, вышел вперед. — Так не годится. Вас пощадили, хотя могли бы убить, и клянусь Пресвятой Девой, если вы не вернетесь, я буду считать вас обесчещенными.
— Полегче, Роберт Ноулз, — ответил Ивен Шерюэль, — слово «бесчестье» еще никогда не стояло рядом с моим именем. Только если бы я не стал сражаться вместе с моими товарищами, когда случай позволяет мне это, я счел бы себя ничтожеством.
— Клянусь святым Кадоком, он прав, — прохрипел, выходя вперед, Бомануар. — Вам отлично известно, Роберт, что на войне есть такой закон, а у рыцарей обычай: если того рыцаря, которому вы сдались, убьют, его пленников освобождают.
Отвечать на это было нечего, и Ноулз, измученный и опустошенный, вернулся к своим.
— Жаль, что мы их не прикончили, — от одного удара мы потеряли предводителя, а французы получили трех солдат, — только и сказал он.
— Впредь, если кто-нибудь сложит оружие, — всех убивать, — приказал Крокварт. Его затупленный меч и окровавленные доспехи говорили о том, как мужественно он вел себя в бою.
— А теперь, друзья, не горюйте, что мы потеряли вождя. Не слишком-то помогли ему стишки Мерлина. Клянусь тремя германскими королями! Я научу вас кое-чему получше, чем бабьи пророчества: мы должны стоять вплотную друг к другу, плечо к плечу, щит к щиту, так, чтобы никто не мог прорвать наш строй. Тогда каждый будет знать, что делается у него с любой стороны, и может смотреть только вперед. Если же кто будет ранен или совсем ослабнет, он должен опустить руки, и его товарищи слева и справа его удержат. А теперь все вместе — вперед, и да поможет нам Господь: будем мужчинами, и победа будет за нами.
Англичане двинулись вперед сомкнутой шеренгой, бретонцы, как и раньше, побежали им навстречу. Самым быстроногим из них оказался некий дворянин Жоффруа Пулар; на нем был шлем в форме петушиной головы, увенчанный высоким гребнем, а лицо прикрывал длинный заостренный клюв с прорезями для дыханья. Он замахнулся мечом на Кэлвели, но сосед того — Белфорд — поднял свою исполинскую булаву и нанес Пулару сокрушительный удар сбоку. Бретонец зашатался, отпрянул от шеренги и забегал по кругу, как человек, у которого поврежден мозг; из отверстий медного клюва каплями стекала кровь. Так он бегал довольно долго, а из толпы кричали и кукарекали. Наконец он споткнулся и, мертвый, ничком повалился на землю. Но никто из сражающихся не видел его конца: бретонцы, не останавливаясь, отчаянно рвались вперед, англичане наступали медленно и неотвратимо.
Какое-то время казалось, будто ничто не может нарушить это противостояние, но беззубый Бомануар был не только бойцом, но и полководцем. Пока его измученные, окровавленные, задыхающиеся воины продолжали бросаться на шеренгу англичан в лоб, сам он вместе с Рагенелем, Аденом де Каранэ и Дюбуа бросился в обход фланга англичан и яростно атаковал их сзади. Схватка была отчаянная и долгая. Но вот герольды, увидев, что сражающиеся опять остановились, не в силах сделать более ни удара, въехали на место боя и возвестили еще одно перемирие.
За те несколько минут, что их атаковали с двух сторон, англичане понесли большие потери. От меча Бомануара пал англо-бретонец Д'Арден, но, правда, только после того, как глубоко рассек противнику плечо. Сэр Томас Уолтон, ирландский оруженосец Ричард и великан Гюльбите были убиты булавой коротышки Рагенеля или мечами его соратников. Теперь с каждой стороны оставалось примерно по двадцать человек, но все они совершенно обессилели, спотыкались, еле переводя дыханье, и едва могли поднять оружие.
Удивительное это было зрелище, когда они, шатаясь и падая, снова брели навстречу друг другу: они передвигались, как пьяные, а пластины, защищающие плечи и суставы, походили на красные рыбьи жабры. Когда они снова шли вперед, чтобы продолжить это бесконечное состязание, позади них на зеленой траве оставались мокрые вонючие следы.
Бомануар, слабея от потери крови и глубокой раны, с которой свисал лоскут кожи, вдруг остановился.
— Я теряю сознание, друзья, дайте мне пить! — только и успел он крикнуть.
— Попей своей крови, Бомануар, — ответил Дюбуа, и еле живые бойцы разразились жутким смехом.
Печальный опыт пошел англичанам на пользу, и под руководством Крокварта они не стали больше наступать шеренгой, а изогнули ее так, что вместо прямой линии получилось кольцо, и по мере того, как бретонцы бросались на него, оно все сжималось и уплотнялось, пока не превратилось в наигрознейший боевой порядок — сплошную массу людей, со всех сторон повернутых лицом к противнику и ощетинившихся оружием, чтобы отразить любое нападение. Так англичане и стояли, и никакие броски и атаки французов не могли поколебать их строй. В ожидании врага они прислонялись спинами друг к другу, чтобы хоть немного передохнуть, а противник в это время только изматывал свои силы. Снова и снова пытались доблестные бретонцы прорваться сквозь этот строй, но снова и снова отступали под градом ударов.
У Бомануара от усталости кружилась голова; он снял шлем и в отчаянье смотрел на ужасное, неприступное кольцо. Он слишком ясно видел неизбежный конец. Люди его выматываются. Многие уже едва могут шевельнуть рукой или ногой; выиграть сраженье они способны не больше, чем те, кто уже погиб. Скоро и все остальные будут в таком же тягостном положении. Вот тогда-то проклятые англичане разорвут свое кольцо, набросятся на его беспомощных воинов и всех перебьют. Что тут ни делай, этому не помешать. Мучимый этими мыслями, он оглянулся и увидел, что один из его бретонцев пытается улизнуть с поля сраженья. Бомануару показалось, что его обманывает зрение: по цветам дезертира, пурпуру с серебром, он понял, что это не кто иной, как его собственный испытанный в боях оруженосец Гийом де Монтобан.
— Гийом! Гийом! — в отчаянье позвал он. — Неужели вы вот так покинете меня?
Но шлем у того был опущен, и он ничего не слышал. Бомануар видел, как он, пошатываясь, уходил со всей быстротой, на которую еще был способен. Горьким, отчаянным криком Бомануар собрал в кулак всех, кто еще мог двигаться, и все вместе они сделали последний бросок на английские копья. На этот раз в глубине своей отважной души он твердо решил, что не отступит ни на шаг и либо прорвется сквозь вражье кольцо, либо примет смерть. Огонь, горевший в его груди, зажег души его соратников, и, несмотря на сыпавшиеся на них сокрушительные удары, они сплотились против английских щитов, изо всех сил пытаясь пробить в их стене хоть какую-нибудь брешь.
Тщетно! У Бомануара все плыло перед глазами, сознание уходило. Пройдет минута-другая, и он сам и его соратники падут без сил и памяти перед этим ужасным стальным кольцом. И вдруг он увидел, что неприступный вражеский строй разваливается на части, что Крокварт, Ноулз, Кэлвели, Белфорд — все лежат на земле, выпустив из рук оружие, в полном изнеможении, не в силах подняться. У остатка бретонцев хватило сил лишь на то, чтобы навалиться на их недвижные тела и, просунув кинжалы под забрала, вынудить врагов сдаться. И так лежали они, победители и побежденные, одной беспомощной окровавленной грудой, тяжело дыша и стеная.
В простоте душевной Бомануар полагал, что в последний момент на их призыв приспели боретонские святые. И пока он лежал, не в силах перевести дыхание, сердце его возносило слова благодарности его покровителю св. Кадоку. Однако зрители отчетливо видели, какие земные причины привели бретонцев к неожиданной победе; одни встретили его бурей рукоплесканий, Другие — ураганом криков и свистом, — сторонниками англичан и французов владели разные чувства.
Хитрый оруженосец Гийом де Монтобан добрался до того места, где стояли лошади, и взобрался на своего огромного рыжего коня. Сначала казалось, что он собирается покинуть поле, но когда он повернулся в сторону англичан и вонзил шпоры в бока жеребца, проклятья и вой бретонских крестьян сменились восторженными воплями и рукоплесканьями. Англичане, стоявшие к нему лицом, сразу заметили его неожиданное появление. Немного раньше и конь и всадник неминуемо отступили бы под градом ударов. Но теперь английские воины уже не могли противостоять такому натиску, руки их едва удерживали оружие, а удары были слишком слабы, чтобы остановить мощное животное. Конь повернулся и снова ринулся сквозь кольцо, оставив под копытами еще пять беспомощных тел. Этого было довольно! Бомануар и его соратники уже были внутри кольца, распростертые на земле англичане не могли оказать никакого сопротивления. Победа была за Жосленом.
Печальная процессия возвращалась вечером в Плоэрмельский замок. Унылые лучники несли немало бесчувственных тел. Позади них ехали десять человек, усталые, израненные и горящие ненавистью к Гийому де Монтобану, который сыграл с ними такую подлую шутку.
А в то же время орущая толпа крестьян под звуки фанфар и барабанный бой на плечах вносила в Жослен победителей; шлемы их украшал цветущий дрок.
Вот какое сражение произошло у старого дуба, где доблестные воины сошлись в рукопашном бою с доблестными воинами, и так славен был этот бой, что впредь всякий, кто сражался в битве Тридцати, всегда и всюду занимал почетное место, и никто другой не мог похвастаться, что там побывал, потому что великий летописец, который знал всех участников этой встречи, утверждает, что каждый из них, будь то англичанин или француз, до самой могилы нес на себе ее следы.
Глава XXIV Как Найджела призвал его господин
«Моя милая дама, — писал Найджел в письме, которое могли бы прочитать только любящие глаза, — по четвертой неделе Великого поста между нашими людьми и несколькими достойнейшими особами здешней страны имела место благородная встреча, коея, милостью Пресвятой Девы, закончилась столь славным турниром, какого не припомнит никто из ныне живущих. Много почестей завоевал сеньор де Бомануар, а также один немец по имени Крокварт, с которым я надеюсь поговорить, когда буду в добром здравии, ибо он превосходный человек и всегда готов прославить себя и разрешить от обета другого. Что же до меня, то я надеялся с помощью Всевышнего совершить тот третий подвиг, что вернул бы мне свободу поспешить к вам, милая дама, но судьба не благоприятствовала мне, и я в самом начале сраженья столь тяжко пострадал и столь мало сделал в помощь своим друзьям, что сердце разрывается, и, сказать по правде, в душе я полагаю, что скорее лишил себя чести, нежели приобрел славу. И вот я лежу здесь с Богородицына дня, и лежать мне, видно, еще долго, потому что члены мои мне не повинуются и двигать я могу только одной рукой; но вы не горюйте, милая моя дама, ибо св. Катарина была нам другом — ведь за столь короткое время мне довелось принять участие в двух таких славных делах, как пленение Рыжего Хорька и взятие крепости Мясника. Теперь мне осталось совершить еще один подвиг, и я заверяю вас, милая дама, что лишь только я снова буду на ногах, случай не заставит себя ждать. А пока, хотя глазам моим и не дано вас видеть, сердце мое всегда у ваших ног».
Так Найджел писал из лазарета Плоэрмельской крепости в самом конце лета. Но прежде чем зажила его разбитая голова, а неподвижные руки и ноги вновь обрели прежнюю силу, прошло еще одно лето. Он пришел в отчаянье, когда услышал, что перемирие нарушено и что в битве при Мороне сэр Роберт Ноулз и сэр Уолтер Бентли окончательно сокрушили набирающую силу Бретань. В этом сраженье пали многие из героев Жослена. Потом, когда он с новыми силами, преисполненный самых радужных надежд, отправился на поиски знаменитого Крокварта, который заявлял, что всегда днем ли, ночью ли, готов с кем угодно скрестить любое оружие, Найджел узнал, что немец сломал себе шею — его сбросила в ров лошадь, когда он испытывал ее на разные аллюры. В том же рву погибли и последние надежды Найджела на то, что ему удастся в ближайшее время совершить третий подвиг, который разрешил бы его от обета.
Во всех христианских землях снова царил мир, человечество пресытилось войнами, и удовлетворить свое страстное желание Найджел мог только в далекой Пруссии, где тевтонские рыцари вели нескончаемые сраженья с литовскими язычниками. Но чтобы отправиться в крестовый поход на север, человеку надо было обзавестись деньгами и завоевать славу доблестного рыцаря; и прошло еще десять лет, прежде чем со стен Мариенбурга Найджел взглянул на воды Фришгафа[65], а потом выдержал пытку раскаленной плитой, когда отправился к священной скале Вотана в Мемеле[66]. А пока его пылкая душа приспосабливалась к монотонным будням гарнизонной службы в Бретани. Эта рутинная жизнь была нарушена лишь единожды — Найджел нанес визит в замок отца Рауля, чтобы рассказать владельцу Гробуа, как его доблестный сын пал смертью храбрых у ворот Ла Броиньера.
Ну, а потом — потом, наконец, когда в душе у Найджела уже не осталось почти никакой надежды, наступило то изумительное утро, которое привело в цитадель Вана — а Найджел был тогда ее сенешалем — всадника с письмом. В письме было всего несколько слов, кратких и ясных, как призыв военных труб. Писал Чандос. Он требовал к себе своего оруженосца — его знамя снова трепетало на ветру. Сейчас он находился в Бордо. Принц направлялся в Бержерак, откуда он предполагал совершить большой поход во Францию. Без сраженья там не обойдется. Они уже уведомили о своем прибытии доброго короля Франции, и тот обещал достойно их встретить. Пусть Найджел поспешает. Если они уже выступят, ему следует как можно скорее их догнать. У Чандоса было еще три оруженосца, однако он будет рад вновь повидать четвертого, потому что с той поры, как они расстались, ему часто рассказывали о Найджеле, и все это было именно то, чего он и ожидал от сына своего друга. Вот что прочитал Найджел в этом письме, и в это счастливое утро в Ване яркое летнее солнце засияло еще ярче, а голубое небо стало еще голубее.
Путь от Вана до Бордо оказался утомителен. Трудно было найти каботажное судно, а ветер вечно дул не в ту сторону, куда стремились отважные сердца воинов. С того дня, как Найджел получил письмо, прошел целый месяц, прежде чем он ступил на забитую бочками гасконского пристань в устье Гаронны и помог Поммерсу сойти по сходням на берег. Даже у Эйлварда не было такой неприязни к морю, как у огромного солового коня: когда его копыта зацокали по доброй, прочной булыжной мостовой, он радостно заржал и ткнулся мордой в протянутую руку хозяина. Рядом с ним, успокаивая и похлопывая его по рыжевато-коричневому плечу, стоял худой, жилистый Черный Саймон — он так и остался под знаменем Найджела.
А куда девался Эйлвард? Увы! Два года тому назад он вместе со своим отрядом лучников Ноулза был отобран для несения королевской службы в Гиени, а так как писать он не умел, Найджел не знал даже, жив ли он. Зато до Саймона трижды доходили о нем слухи от вольных стрелков — Эйлвард был жив, здоров, недавно женился, но коль скоро в первый раз его жену назвали блондинкой, в другой — шатенкой, а в третий — французской вдовушкой, понять, что тут правда, было трудновато.
Войско уже месяц как оставило город, но известия о нем приходили ежедневно, да такие, что прочесть их мог каждый: через ворота непрерывным потоком, загромождая всю Либурнскую дорогу, катили повозки из Южной Франции. В городе было полно пехотинцев, потому что принц взял с собой только конные отряды. С тоской провожали они жадными взглядами вереницы телег с награбленным добром — роскошной домашней утварью, шелками, бархатом, коврами, резными украшеньями, а также изделиями из драгоценных металлов, что были еще недавно предметом гордости многих благородных домов в прекрасной Оверни или богатом Бурбонэ.
Не надо думать, что в этой войне Англия и Франция противостояли друг другу в одиночку. Это наша слава, и негоже тут замалчивать правду. Две французские провинции, богатые и воинственные, отошли к Англии благодаря бракам между членами двух королевских семей, и теперь они — Гиень и Гасконь — давали острову самых храбрых солдат. Англия была бедна и не могла держать на континенте достаточно большую армию, а потому в войне с Францией была обречена на поражение — ей не хватало солдат. Феодальная система позволяла быстро и дешево собрать войско, но уже спустя несколько недель оно столь же стремительно распадалось, и удержать его от распада могли только полные сундуки. А их-то как раз у Англии не было, и королю приходилось без устали ломать голову, как удержать солдат на поле брани.
И в Гиени, и в Гаскони было предостаточно рыцарей и оруженосцев, готовых в любую минут покинуть свои уединенные замки и собраться в отряды для набегов на Францию. Вот они-то вместе с английскими рыцарями, сражавшимися чести ради, да несколькими тысячами грозных наемных стрелков, получавших по четыре пенса в день, и составляли войско для краткосрочных кампаний. Таким было и войско Принца, числом около восьми тысяч человек, которое кружило по Южной Франции, оставляя за собой черные рубцы на теле разоренной страны.
Но и при том, что юго-западная часть Франции была в руках англичан, воинственный дух страны не был сломлен, а богатством и численностью населения она намного превосходила соперницу. Отдельные провинции были столь обширны, что оказывались сильнее многих королевств. Нормандия на севере, Бургундия на востоке, Бретань на западе и Лангедок на юге — каждая могла снарядить огромную армию. Поэтому смелый, энергичный Иоанн, следя из Парижа за дерзким вторжением англичан в его владения, тут же разослал гонцов в главные вассальные провинции — Лотарингию, Пикардию, Овернь, Эно, Вермандуа, Шампань, а также германским наемникам на восточных границах с приказом, не жалея коней, днем и ночью поспешать в Шартр.
Там-то это огромное войско и собралось в самом начале сентября. А между тем Принц, совершенно об этом не подозревая, разорял города, осаждал замки сначала в Бурже и Иссудане, потом в Роморантене и дальше во Вьерзоне и Туре. Неделю за неделей продолжались веселые стычки на заставах, стремительные нападения на крепости, в которых воины стяжали немало чести, рыцарские поединки с отдельными отрядами французов, случайные турниры, когда благородные воины снисходили до того, что ставили на карту свою жизнь. Приходилось грабить и дома, а вино и женщины всегда были в достатке. Никогда еще ни рыцарям, ни стрелкам не приходилось участвовать в столь славном и прибыльном походе, поэтому, когда войско повернуло от Луары на юг и пошло обратно в Бордо, настроение у всех было приподнятое, карманы полны золота, а впереди бойцов ожидали веселые деньки в городе.
И вдруг этот славный и развлекательный поход сменили настоящие тяготы войны. Продвигаясь на юг, Принц неожиданно обнаружил, что в землях, через которые ему предстояло пройти, не осталось никаких припасов — ни фуража для лошадей, ни провианта для солдат. Впереди войска катилось две сотни фургонов с добычей, но вскоре голодные бойцы уже готовы были променять их все на хлеб и мясо. Оказалось, что легкие отряды французов, опередив войско принца, разрушили и предали огню все, что могло быть хоть как-то использовано неприятельской армией. Только теперь Принц и его люди поняли, что к востоку от них в южном направлении движется огромное войско, готовое отрезать им путь к морю. По ночам на небе пылало зарево от костров, а днем солнце сверкало и играло на стальных шлемах и оружии могучего противника.
Принцу очень хотелось спасти награбленное, и, зная, что набранные французами войска значительно превосходят численностью его отряд, он изо всех сил старался уклониться от встречи; однако лошади у него уже были совсем истощены, а солдаты так оголодали, что стоило больших трудов сохранять в войске порядок. Пройдет еще несколько дней, и они будут совсем ни на что не годны. Поэтому, когда возле деревни Мопертюи он обнаружил место, где и у малочисленного от ряда был шанс удержать свои позиции, он, словно загнанный кабан, обративший к охотнику страшные клыки и испепеляющий взгляд, не стал больше делать попыток оторваться.
А пока происходили эти важные события, Найджел с Черным Саймоном и еще четырьмя копейщиками спешили на север, навстречу Принцу. До Бержерака они ехали по мирной дружественной стране; дальше пошли пожарища, разрушенные дома с как бы повисшими в воздухе шпицами; впоследствии, когда сэр Роберт показал этим землям, что такое его непреклонная воля, их прозвали «митры Ноулза». Найджел ехал на север уже три дня и повсюду видел небольшие отряды французов; но он так торопился догнать английскую армию, что ни разу не уклонился с пути в поисках приключений.
Наконец, миновав Люзиньян, его маленький отряд стал встречать английских фуражиров, по большей части конных стрелков, рыскавших по округе в поисках провианта либо для армии, либо для самих себя. От них Найджел узнал, что Принц, при котором неотлучно находился Чандос, стремительно продвигается на юг и до встречи с ним оставалось, скорее всего, не более одного короткого дневного перехода. Найджел продолжал путь; отбившихся от армии английских солдат становилось все больше, наконец он нагнал порядочную колонну лучников, двигавшуюся в одном с ним направлении. Это были люди, потерявшие лошадей, — они отстали еще при наступлении, а теперь торопились на встречу с главными силами, чтобы поспеть к предстоящему сражению. Их сопровождала целая толпа деревенских девушек, а рядом тянулась вереница груженых мулов.
Найджел со своими копейщиками уже почти обогнал колонну стрелков, как вдруг Черный Саймон вскрикнул и тронул его за руку.
— Посмотрите-ка вон туда, добрый сэр, — закричал он, и глаза у него загорелись, — вон туда, где шагает грабитель с большим узлом за плечами! Кто это там за ним?
Найджел взглянул и увидел низкорослого крестьянина, тащившего на согнутой спине огромный тюк, куда больший, чем он сам. За ним шагал высокий широкоплечий лучник; грязная куртка и помятый шлем говорили о том, что он служит давно и служба эта была нелегкой. За плечами у него висел лук, и шел он, обняв за талию двух пышных француженок, которые легко семенили рядом с ним, весело смеясь и дерзко отвечая на вольные шутки солдат из задних рядов.
— Эйлвард! — воскликнул Найджел и пришпорил Поммерса.
Меднолицый лучник обернулся, мгновенье смотрел не понимающими глазами, потом вдруг отпустил своих двух дам, которых тут же подхватили его товарищи, бросился вперед и схватил протянутую руку своего молодого господина.
— Клянусь моей наручкой, сквайр Найджел, это самый распрекрасный миг в моей жизни! — выкрикнул он. — А ты, старый ты кожаный мешок! Нет, Саймон, я обнял бы тебя, вяленая ты селедка, если бы мог дотянуться. И Поммерс тут! По глазам вижу, что он меня узнал, и снова готов вцепиться в меня зубами, как в те дни, когда стоял на конюшне моего отца.
От простого, грубоватого лица Эйлварда словно пахнуло родным, душистым вересковым ветром Хэнклийских холмов. Глядя на него, Найджел смеялся от радости.
— Не в добрый час ушел ты от меня на королевскую службу, — вырвалось у него. — Клянусь святым Павлом, я так рад видеть тебя снова! Ты нисколько не изменился, ты все тот же Эйлвард, какого я всегда знал. А кто этот мошенник с большим узлом, что следует за тобой?
— Это всего только перина, добрый сэр, он тащит ее на спине, потому что мне хочется привезти ее в Тилфорд, а она слишком уж велика, я не могу идти с ней в строю. Война была отличная, я уже отправил в Бордо полповозки добра, пусть подождет там, пока нас отпустят домой. Только я боюсь негодяев-пехотинцев, что там стоят: есть ведь люди без стыда и совести, они уж обязательно запустят лапы в чужое добро. Слушайте-ка, если вы позволите мне сесть на вашу заводную лошадь, я с превеликой радостью опять стану воевать под вашим знаменем.
И Эйлвард, отдав распоряжение человеку, который нес его перину, поскакал с Найджелом вперед, не внемля бурным протестам своих французских подружек. Впрочем, те быстро нашли утешение у его соратников — кто готов был побольше дать. Вскоре толпа лучников осталась далеко позади, и отряд Найджела продолжал свой путь навстречу петляющей дороге через величественный Нуайльский лес, и глазам англичан открылась болотистая долина, по которой лениво бежала река. На противоположном ее берегу столпились сотни лошадей — это было место водопоя, — а дальше, за ними, все было запружено повозками. Воины прошли мимо них и поднялись на вершину небольшого холма, с которого можно было обозреть всю эту удивительную сцену. По обе стороны петлявшей по долине реки простирались топкие луга. На берегу милях в двух вниз от по течению виднелся огромный табун лошадей. Это была французская кавалерия, и по голубому дыму сотен костров нетрудно было догадаться, где разбила лагерь армия короля Иоанна. А перед самым холмом, на котором стояли Найджел и его соратники, расположилось английское войско; за его линией было совсем мало костров — англичанам нечего было варить, разве что мясо своих коней. Их правый фланг упирался в реку, а весь строй растянулся на милю в сторону от реки, так что левый фланг упирался в опушку густого леса, который не давал противнику возможности зайти им в тыл с этой стороны. Впереди была длинная густая живая изгородь и много неровной земли, по середине которой проходила одна-единственная проселочная дорога, вся изрытая глубокими колеями. Трава под изгородью и вдоль всей линии расположения войска была усеяна лежавшими лучниками; большинство из них мирно спало, непринужденно раскинувшись под теплыми лучами сентябрьского солнца. Позади расположились рыцари; там из конца в конец развевались знамена и флаги с гербами английского и гиеньского рыцарства.
Когда Найджел увидел знаменитые знаки прославленных военачальников, сердце его радостно забилось: наконец-то он сможет показать в таком благородном обществе и свой герб. Там развевалось знамя Жана Грайи из дома Капталь де Бюш — пять серебряных раковин на черном кресте; оно говорило, что среди собравшихся находится знаменитый воин Гаскони; рядом с ним трепетал на ветру красный лев благородного рыцаря из Эна, сеньора Эсташа д'Амбретикур. Эти два герба Найджел, как и любой другой солдат в Европе, знал хорошо, однако их окружал густой лес пик со знаменами, символы которых были ему неизвестны, из чего он заключил, что они принадлежат гиеньцам. Дальше в воздухе реяли известные всем знамена англичан; пурпурное с золотом знамя Уориков, серебряная звезда Оксфорда, золотой крест Суффолка, лазурно-золотое знамя Уиллоби и пурпурное с золотыми поясами — Одли. А в самой середине виднелось одно, при взгляде на которое Найджел забыл все остальные: рядом с королевским штандартом, несущим эмблему Принца, реял потрепанный в боях флаг с алым клином на золотом поле — он отмечал место, где была разбита палатка Чандоса.
Найджел пришпорил коня и спустя несколько минут был на месте. Чандос стоял возле палатки Принца и внимательно разглядывал французские позиции, что-то обдумывая. Он исхудал от голода и недосыпания, но глаза его горели прежним огнем. Найджел соскочил с коня и был уже почти у того места, где стоял Чандос, как вдруг кто-то рванул в сторону шелковый полог королевского шатра, и из него выбежал Принц Эдуард.
Он был без доспехов, в простом черном одеянии, однако его исполненная достоинства осанка и надменно-гневное выражение лица не оставляли сомнений в том, что это — вождь и Принц. За ним по пятам следовал маленький седовласый церковнослужитель в свободной мантии тонкого шелка. Он многословно и торопливо в чем-то убеждал Принца.
— Ни слова больше, милорд кардинал, — гневно отозвался Принц. — Я слишком долго вас слушал. Клянусь Господом, все, что вы говорите, и несправедливо, и недостойно! Послушайте, Джон, мне нужен ваш совет. Как вы полагаете, что передает мне с его преосвященством кардиналом Перигорским король Франции? Он говорит, что готов из милосердия пропустить мое войско в Бордо, если мы вернем ему все, что взяли, возвратим все выкупы, а я сам и сто благородных английских и гиеньских рыцарей сдадимся ему в плен. Каково, а?
Чандос улыбнулся.
— Так дела не делаются, — сказал он.
— Но, милорд Чандос, — воскликнул кардинал, — я же объяснил Принцу, ведь это позор на весь христианский мир, ведь все язычники станут насмехаться над нами, коли два великих сына церкви подымут мечи друг на друга!
— Тогда пусть король Франции поостережется, — отрезал Принц.
— Мой милый сын, вы забываете, что находитесь в самом сердце его страны, и было бы несправедливо, если бы он потерпел, чтобы вы ушли, как и пришли. У вас совсем небольшое войско, всего три тысячи лучников и пять тысяч копейщиков; к тому же они совсем плохи — изголодались и устали. А за королем стоит тридцать тысяч человек, и двадцать из них — отборные копейщики. Поэтому вам следует пойти на предложенные условия, чтобы не случилось чего-либо похуже.
— Передайте королю Франции, что я приветствую его, и скажите, что Англия никогда не станет платить за меня выкуп. Однако, кардинал, сдается мне, что вы слишком хорошо осведомлены о численности и состоянии нашей армии, и я очень хотел бы узнать, как это слуга церкви так легко читает книгу войны. Я видел, что сопровождающие вас рыцари свободно разгуливают по нашему лагерю. Боюсь, что приветствуя вас как посланника, я на самом деле оказал покровительство шпионам. Что вы на это скажете, кардинал?
— Благородный Принц, откуда взялись у вас в сердце и в душе такие недобрые слова?
— С вами приехал этот ваш рыжебородый племянник Робер де Дюрас. Посмотрите-ка, вон он стоит — все высматривает да подсчитывает. Послушайте, юный сеньор! Я сейчас говорил вашему дяде кардиналу, что, мне кажется, вы и ваши товарищи немало разузнали о нашей армии и передали королю.
Рыцарь побледнел и опустил глаза.
— Ваше высочество, — пробормотал он, — я ведь только ответил на кое-какие вопросы.
— А как эти ответы согласуются с вашей честью? Ведь мы вполне доверяли вам, раз вы прибыли в свите кардинала.
— Да, милорд, я в свите кардинала, однако я подданный короля Иоанна и французский рыцарь, и прошу вас, не гневайтесь так на меня.
Принц скрипнул зубами, и его колючий взгляд уперся в юнца.
— Клянусь спасением души моего родителя, я с удовольствием убил бы вас на месте! Но одно вам обещаю: если ваш красный грифон покажется завтра на поле боя и если вас возьмут живьем, голова ваша тут же слетит с плеч.
— Милый сын мой, что за безумные речи! — воскликнул кардинал. — Даю вам слово, ни мой племянник Робер, ни кто другой из моей свиты не примет участия в завтрашнем сражении. А теперь я вас оставлю, и пусть Господь отпустит вам все грехи, ибо на всем свете нет сейчас никого, кто подвергал бы большей опасности свою жизнь и жизнь тех, кто вас окружает. Советую вам провести ночь в размышлениях и молитвах, дабы душа ваша была готова к тому, что, быть может, вас ожидает.
Сказав это, кардинал поклонился, направился в сопровождении своей свиты туда, где оставались их лошади, и отбыл в соседнее аббатство.
Разгневанный Принц повернулся на каблуках и возвратился в палатку, а Чандос оглянулся и дружески протянул руку Найджелу.
— Я много слышал о ваших благородных подвигах, — приветствовал он юношу. — Вы становитесь известны как странствующий оруженосец. В ваши годы я меньше прославил свое имя.
От гордости и удовольствия Найджел залился краской.
— Что вы, добрый мой господин, я сделал еще так мало! Но вот теперь, когда я опять с вами, я очень надеюсь научиться достойно исполнять свои обязанности: где еще мне завоевать славу, как не под вашим знаменем?
— Ну, так вы прибыли в самое удачное для этого время. Мы не можем покинуть это место иначе, как с великим боем, который навечно останется в людской памяти. Во всех наших сражениях на французской земле еще не было такого, чтобы они были так сильны, а мы так слабы: тем больше чести должно выпасть нам на долю. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы у нас было еще две тысячи лучников. Но и без них, не сомневаюсь, мы доставим французам предовольно неприятностей, прежде чем они выгонят нас из-за этих ограждений. А вы видели французов?
— Нет, добрый сэр, я только что прибыл.
— Я как раз собирался проехаться вдоль их расположения и посмотреть, нет ли там слабых мест, так что поедемте вместе, пока еще светло, увидим, что сможем — где и как они стоят.
На этот день из-за не очень уместного и совершенно бесполезного вмешательства кардинала Перигорского между армиями было заключено перемирие. Поэтому, когда Чандос и Найджел пробились на конях сквозь длинную изгородь, тянувшуюся вдоль расположения англичан, они увидели, что за ней по равнине небольшими группами разъезжают рыцари той и другой стороны. Французов было больше: им во что бы то ни стало надо было как можно лучше разузнать все об обороне англичан; многие из их разведчиков подъехали к изгороди почти на сотню ярдов, так что дозорам лучников то и дело приходилось приказывать им отойти назад.
Чандос медленно ехал среди этих рассеянных по лугу всадников. Многие из них были давнишними противниками, и то с той, то с другой стороны там и сям раздавалось:
«Эй, Джон!», «Эй, Рауль!», «Эй, Николас!», «Эй, Гимар!». Только один рыцарь бросил им не слишком уместное приветствие. Это был крупный мужчина с красным лицом — сеньор Клермон, у которого на плаще, по странной случайности, была изображена голубая дева в лучах солнца — эмблема, которую в тот день выбрал и Чандос. Пылкий француз бросился Чандосу наперерез и вздыбил коня.
— Давно ли вы, Чандос, — запальчиво начал он, — присвоили мой герб?
Чандос улыбнулся.
— А мне сдается, что вы присвоили мой, — отпарировал он, — ведь добрые уиндзорские монахини сшили мой плащ больше года назад.
— Если бы не перемирие, я доказал бы вам, что вы не имеете права его носить.
— Поищите мой плащ в завтрашнем бою, а я буду искать ваш. Тогда мы и решим дело в честном поединке.
Однако француз был человеком вспыльчивым, успокоить его было непросто.
— Вы, англичане, ничего не можете придумать сами, вот и хватаете у других, что вам приглянется.
С этими словами, сердито ворча, француз поехал своей дорогой, а Чандос пришпорил коня и с веселым смехом пустился по лугу.
Перед самым фронтом английской армии луг основательно зарос деревьями и кустарником, скрывавшими расположение французов. Однако, когда Чандос и Найджел оставили этот заслон позади, перед ними открылась полная картина французских позиций. В самой середине огромного лагеря стоял просторный высокий шатер из красного шелка. Над одной его стороной сверкали серебряные королевские лилии, над другой — золотая орифламма, боевое знамя старой Франции. Со всех сторон шатра, насколько хватало глаз, трепетали, раскачиваясь на ветру, словно тростинки в пруду, знамена и хоругви благородных баронов и прославленных рыцарей, а еще выше, над ними, развевались герцогские штандарты — знак того, что англичанам противостоят силы всех доблестных провинций Франции.
Горящими глазами смотрел Чандос на гордые эмблемы Нормандии и Бургундии, Оверни, Шампани, Вермандуа и Берри, сверкавшие в лучах заходящего солнца. Он не спеша ехал вдоль фронта французов, внимательным взглядом отмечая места расположения лучников, скопления германских наемников, количество пехотинцев, гербы всех славных вассалов и подвассалов, — они могли многое сказать о силе каждого отряда. Он проехал от одного края до другого, обогнул фланги, держась вне пределов досягаемости арбалетных стрел; потом, отметив в уме все, что было нужно, повернул коня и медленно, в глубоком раздумье, поехал назад, к позициям англичан.
Глава XXV Как французский король держал совет в Мопертюи
Воскресное утро 19 сентября года от рождества Христова 1356-го было ясное и холодное. Легкая дымка, поднявшаяся над сырой долиной Мюиссона, окутала оба лагеря; голодные английские солдаты дрожали от холода, но потом, когда взошло солнце, туман постепенно рассеялся. В красном шелковом шатре французского короля — том самом, что накануне видели Чандос и Найджел, — епископ Шалонский служил торжественную мессу; он молился за тех, кому предстояло пасть, нимало не думая, что и его смертный час не за горами. Когда причастился сам король и четверо его сыновей, алтарь убрали и во всю ширину шатра поставили большой накрытый алой скатертью стол, вокруг которого Иоанн собрал всех своих советников, чтобы решить, как теперь лучше действовать. Похвастаться таким великолепным покоем не мог даже его собственный дворец: шелковый потолок, роскошные аррасские шпалеры на стенах, богатые восточные ковры под ногами.
Король сидел на возвышении под балдахином, на верхнем конце стола. Ему было тридцать пять лет, и он уже шестой год правил Францией. Он был невысок ростом, широкогруд и дороден: с лица его, покрытого красноватым загаром, смотрели темные добрые глаза. Ему не нужно было носить синий, расшитый серебряными лилиями плащ: величественная осанка сама уже говорила, что это король. Хотя он правил страной еще совсем недавно, молва о нем катилась по всей Европе: его считали добрым государем и бесстрашным воином — именно таким, в каком нуждалась рыцарственная Франция. Рядом, положив руку на плечо отца, стоял его старший сын, герцог Нормандский, совсем еще мальчик, и король Иоанн время от времени оборачивался, чтобы приласкать его. Справа, на том же высоком помосте, сидел младший брат короля, герцог Орлеанский, вялый, бледный, с тяжелыми чертами лица и глазами фанатика. Слева от короля было место герцога Бурбонского, грустного, задумчивого человека с тоскливыми глазами. Весь его вид наводил на мысль о скором конце. Все они были в доспехах, но без шлемов — те покамест лежали на столе перед ними.
Вокруг длинного красного стола, ниже помоста, расположились самые славные рыцари Европы. На ближайшем к королю месте сидел старый опытный воин герцог Афинский[67], сын изгнанного отца, а ныне коннетабль Франции. По одну сторону от него сидел краснолицый раздражительный сеньор Клермон в том же плаще с голубой Пресвятой Девой в лучах солнца, из-за которого накануне вечером у него вышла перепалка с Чандосом. По другую сторону располагался седовласый воин с благородным лицом, Арнольд д'Андреген; он, как и Клермон, был удостоен звания маршала Франции. Далее помещался сеньор Жак Бурбон, смельчак, впоследствии убитый Белым отрядом при Бринье, а за ним — несколько немецких вельмож, среди которых находились графы Зальцбургский и Нассауский со своими грозными ландскнехтами, пришедшие на зов французского короля. Ребристые шлемы и длинные опущенные наносники уже сами по себе говорили каждому воину, что это пришельцы из-за Рейна. На противоположной стороне стола был виден целый ряд гордых воинственных сеньоров: Фьенн, Шатильон, Нель, де Ландос, де Боже с жестоким странствующим рыцарем де Шарни, тем, что пытался подкупом взять Кале, и Эсташ де Рибомон, что в связи с тем же событием получил награду за доблесть из рук самого Эдуарда Английского. К этим-то военачальникам и обратился теперь король за советом и помощью.
— Вы уже знаете, друзья мои, — начал он, — что принц Уэльский не дал никакого ответа на предложение, которое мы передали ему через кардинала Перигорского. Конечно, этого следовало ожидать, и, хотя я повиновался призыву святой церкви, я нисколько не боялся, что благородный принц Эдуард Английский откажется от встречи с нами на поле боя. Я полагаю, следует немедленно атаковать их, чтобы крест кардинала опять случайно не встал между нашими мечами и нашими врагами.
Собравшиеся приветствовали его слова радостным шумом; не удержались от одобрительных возгласов и копейщики, стоявшие на страже у входа. Когда голоса затихли, со своего места возле короля поднялся герцог Орлеанский.
— Господа, — обратился он к присутствующим, — вы рассуждаете именно так, как мы того желали бы, и я, со своей стороны, полагаю, что кардинал Перигорский не был Франции добрым другом: зачем нам выторговывать часть, когда стоит только поднять руку — и мы получим все. К чему слова? Оседлаем коней и раздавим эту горстку жалких мародеров, осмелившихся опустошить ваши прекрасные владения. Если хоть один из них уйдет отсюда живым — разве что нашим пленным — стыд нам и позор!
— Клянусь святым Денисом[68], брат, — улыбнулся король, — если бы словами можно было разить их насмерть, вы уложили бы всех англичан еще до того, как мы выступили из Шартра. Вы еще новичок в ратном деле; вот когда вы раз-другой повидаете поле боя после сраженья, вы поймете, что все нужно делать обдуманно, в должном порядке, иначе будет скверно. Во времена нашего отца мы поступали, как вы советуете: седлали коней и мчались на англичан, будь то при Креси или еще где-нибудь, только толку от этого было мало. Ну, а теперь мы поумнели. Как ваше мнение, сеньор де Рибомон? Вы объехали их фронт и посмотрели, какой у них вид. Вы атаковали бы их, как советует мой брат, или распорядились по-иному?
Де Рибомон, высокий темноглазый красавец, на миг задумался.
— Ваше величество, — произнес он наконец, — я действительно проехал вдоль всего фронта и обоих флангов вместе с сеньорами де Ландасом и де Боже. Они сейчас здесь, на вашем совете, и подтвердят то, что я скажу. Так вот, ваше величество, я полагаю, что, хотя мы превосходим англичан числом, их расположение среди живых изгородей и лоз таково, что лучше было бы их сейчас не трогать: провианта у них нет, и им волей-неволей придется отходить, а вы сможете последовать за ними и навязать им бой в более благоприятных для нас условиях.
Совет неодобрительно зашумел, и маршал сеньор Клермон, покраснев, вскочил на ноги.
— Эсташ, Эсташ, — воскликнул он, — я помню дни, когда у вас было храброе сердце и высокий дух! Но с той поры, как король Эдуард пожаловал вам вон то жемчужное ожерелье, вы все время избегаете случая помериться с англичанами.
— Сеньор де Клермон, — твердо ответил де Рибомон, — не пристало мне затевать ссору перед советом его величества и в виду врага, но позже мы к этому еще вернемся. А пока что помните: король спросил моего совета, и я дал тот, который считаю наилучшим.
— Для вашей чести, сеньор Эсташ, было бы лучше, если бы вы промолчали, — заметил герцог Орлеанский. — Неужели мы отпустим врагов с миром, когда они прямо-таки у нас в руках, да вдобавок нас вчетверо больше? Уж не знаю, где нам потом поселиться, — ведь вернуться в Париж с таким позором просто невозможно. А как мы посмотрим в глаза нашим дамам?
— Ничего, Эсташ, вы хорошо сделали, сказав то, что вы думаете, — вмешался король. — Но я уже объявил, что сраженье произойдет нынче утром, так что обсуждать больше нечего. От вас же я хотел узнать, как нам лучше всего повести атаку.
— Конечно, ваше величество, я сделаю все, что могу. Справа у них река, по берегам ее болота, а слева — густой лес, так что наступать нам можно только в центре. Вдоль их фронта тянется густая живая изгородь, за ней я разглядел зеленые куртки лучников. Их там тьма — как осоки у берегов. Сквозь изгородь ведет лишь одна дорога, по ней в ряд проедут только четыре всадника. Она проходит через их позиции, Значит, ясно, что, если мы хотим отогнать англичан назад, нам надо преодолеть изгородь, а лошади, да еще под градом стрел, что посыплются на них сзади, наверняка спасуют. Поэтому я полагаю, что следует сражаться в пешем строю — как это сделали англичане при Креси, а то лошади нам будут сегодня скорее помехой, нежели помощницами.
— Мне это тоже приходило в голову, ваше величество, — поддержал старый маршал Арнольд д'Андреген. — При Креси даже самым отважным приходилось обращаться в бегство — что ты поделаешь с конем, взбесившимся от боли и страха? А на ногах мы сами себе господа, и спрос будет только с нас.
— Добрый совет, — заметил герцог Афинский, обратив к королю иссохшее умное лицо. — Только я добавил бы еще одно. Англичане сильны своими стрелками, и если нам удастся расстроить их ряды хотя бы на самое короткое время, мы возьмем эту изгородь. В противном случае нас будут обстреливать с такой силой, что мы потеряем половину людей, так и не дойдя до изгороди: ведь теперь-то мы отлично знаем, что с близкого расстояния их стрелы пробивают любую броню.
— Ваши речи, сеньор, справедливы и мудры, — прервал его король, — только скажите нам, пожалуйста, как именно вы намерены расстроить ряды английских лучников?
— Я, ваше величество, отобрал бы сотни три конников, самых лучших и самых дерзких во всей нашей армии. Мы проехали бы по этой узкой дороге за изгородь, развернулись вправо и влево и обрушились на стрелков уже по ту сторону. Конечно, этим тремстам пришлось бы очень худо, но что они значат для нашего многочисленного войска, если таким образом мы расчистим путь для их соратников?
— Ваше величество, — вмешался немец граф Нассауский, — позвольте и мне сказать два слова. Я прибыл сюда с моими сотоварищами, чтобы, рискуя жизнью, помочь вам в вашей распре. Однако мы желаем сражаться по своему обычаю, и сочли бы бесчестьем спешиться только потому, что побоялись английских стрел. Поэтому, с вашего соизволения, мы пойдем на прорыв, как советует герцог Афинский, и расчистим для вас путь.
— Это невозможно! — сердито возразил сеньор Клермон. — Странно было бы, если б среди французов не нашлось людей, готовых проложить дорогу для войска французского короля! Послушать вас, граф, так выходит, что вы, немцы, смелее французов? Клянусь Пресвятой Девой Рокамадурской, еще до ночи вы убедитесь, что это не так. Вести эти три сотни на столь почетное дело пристало мне самому, маршалу Франции.
— По тем же причинам на это и у меня есть право, — вмешался Арнольд д'Андреген.
Немецкий граф стукнул по столу железным кулаком.
— Поступайте, как вам угодно, — сказал он, — только вот вам мое слово: ни я, ни кто иной из немецких всадников не спешится до тех пор, пока наши кони смогут нас нести. В нашей стране в пешем строю сражается только простой люд.
Граф Клермон подался вперед. С губ его готово было сорваться резкое слово, но тут в перепалку вмешался король.
— Довольно, довольно, господа, — обратился он к спорящим, — вам надлежит высказать свое мнение, а решать, что вам делать, буду я. Граф Клермон и вы, Арнольд, отберите триста самых смелых всадников и попытайтесь прорваться через заслон стрелков. А что до вас, граф Нассауский, вы сохраните, раз этого желаете, свой конный строй и пойдете за маршалами, чтобы поддержать их атаку. Все остальное войско будет сражаться в пешем строю, тремя отрядами. Один поведете вы, Шарль, — тут король любовно похлопал по плечу сына, герцога Норманского, — другой — вы, Филипп, — и он бросил взгляд в сторону герцога Орлеанского, — а главные силы поведу я сам. Вам же, Жоффруа де Шарни, я вверяю на сегодня орифламму… А кто этот рыцарь и чего он желает?
У входа в шатер стоял высокий рыжебородый молодой рыцарь в плаще с красным грифоном. По его раскрасневшемуся лицу и растрепанной одежде было видно, что он очень спешил.
— Ваше величество, — обратился он к королю, — мое имя Робер де Дюрас, я из свиты кардинала Перигорского. Вчера я доложил вам обо всем, что видел в английском лагере. Сегодня утром меня снова допустили туда, и я видел, что их обозы уходят в тыл. Они отступают в Бордо, ваше величество.
— Клянусь Господом Богом, — в ярости воскликнул герцог Орлеанский, — я так и думал! Пока мы тут болтали, они ускользнули у нас из рук. Разве я не предупреждал вас?
— Помолчите, Филипп, — сердито приказал король. — А вы, сеньор, видели все это своими глазами?
— Воочию, государь, я прискакал прямо из их лагеря. Король Иоанн грозно взглянул на него.
— Не знаю, как вяжется с вашей честью добывать сведения таким способом, — сказал он, — но мы не можем ими не воспользоваться. Не бойтесь, брат Филипп, думается мне, что еще до ночи вы насмотритесь на англичан сколько душе угодно. Выгоднее всего напасть на них, когда они будут переходить брод. Итак, славные господа, поспешайте на свои места и делайте все, как было решено. Вынесите вперед орифламму, Жоффруа, а вы, Арнольд, постройте войска в боевой порядок. И да хранит наc сегодня Господь и святой Денис!
Принц Уэльский стоял на том самом невысоком холме, на котором останавливался накануне Найджел. Возле него был Чандос и высокий загорелый воин средних лет, гасконец Капталь де Бюш. Все трое внимательно разглядывали далекие французские линии, а за их спиной вереницы повозок спускались к броду через реку Мюиссон.
Неподалеку позади них сидели на конях четыре рыцаря в полном вооружении, но с поднятыми забралами и о чем-то вполголоса переговаривались. По их щитам любой солдат с первого взгляда понял бы, что все они были прославленные военачальники, побывавшие не в одном сраженье. Сейчас они ожидали приказа — каждый командовал либо частью армии, либо отдельным отрядом. Молодой человек слева, темноволосый, стройный, пылкий, был Уильям Монтегю, граф Солсбери: ему шел двадцать девятый год, а он уже был ветераном Креси и стяжал такую славу, что Принц поручил ему командовать тылами — в отступающей армии эта должность была весьма почетна. Он разговаривал с седеющим человеком средних лет, в чьих суровых чертах было что-то львиное: когда этот воин разглядывал вражеские позиции, пронзительные голубые глаза его горели огнем. Это был знаменитый Роберт де Аффорд, граф Суффолк; начиная с Кандзанда и дальше, в продолжение всех континентальных войн, он так и не выходил из боев. Третий, высокий молчаливый рыцарь с серебряной звездой, мерцавшей на его плаще, был Джон де Вер, граф Оксфорд. Он слушал Томаса Бошана, дородного, пышущего здоровьем, общительного дворянина и видавшего виды солдата. Сэр Томас сидел на коне, слегка подавшись вперед и похлопывая одетой в сталь рукой по стальному же бедру собеседника. Это были старые боевые товарищи, ровесники, люди во цвете лет, равно прославившие себя ратными делами. Такие вот доблестные английские рыцари сидели на конях позади Принца и ждали приказа.
— Хотелось бы мне, чтобы вы добрались до него, — сердито произнес Принц, продолжая разговор с Чандосом, — и все же, верно, разумнее будет сыграть с ними эту шутку — сделать вид, что мы отступаем.
— Он, конечно, уже передал донесение, — с улыбкой ответил Чандос. — Не успел обоз тронуться, как он уже во всю прыть скакал по опушке.
— Хорошо придумано, Джон, — заметил Принц. — Приятно, когда донесение вражеского лазутчика оборачивается против самого врага. Если они сегодня не выступят против нас, я просто не знаю, как нам продержаться еще хотя бы день — у нас ведь нет ни куска хлеба. А если мы уйдем отсюда, где еще нам найти такую выигрышную позицию?
— Французы обязательно клюнут на нашу приманку, ваше высочество, обязательно. Я думаю, теперь Робер де Дюрас как раз рассказывает им, что наш обоз движется к переправе, и они поспешат перехватить нас, пока мы не успели перейти брод. А кто это там так стремительно скачет? Наверное, какое-то донесение.
Всадник пришпорил коня и взлетел на холм. Соскочив на землю, он преклонил колено перед Принцем.
— Милорд Одли, — спросил Принц, — в чем дело?
— Сэр, — опустив голову, ответил коленопреклоненный рыцарь, — я хочу просить вас о милости.
— Встаньте, Джеймс, и скажите, что я могу для вас сделать.
Знаменитый странствующий рыцарь, прекраснейший образчик рыцарства во все времена, встал и обратил к своему повелителю смуглое лицо с горящими глазами.
— Ваше высочество, — начал он, — я всегда верой и правдой служил государю, вашему родителю, и вам самим и буду служить и впредь, пока жив. Я должен признаться вам, что, если мне суждено будет сражаться под вашим началом, я либо буду в бою самым первым, либо паду, едва он завяжется. Поэтому я прошу вас милостиво дозволить мне с честью выйти из строя, чтобы я мог подыскать себе такое место, что позволит мне исполнить обет.
Принц улыбнулся; ему было совершенно ясно, что, дал лорд Джеймс клятву или не дал, получит он на то согласие или не получит, все равно он будет в первом ряду.
— Идите, Джеймс, — произнес он, пожимая рыцарю руку, — и да поможет вам Господь превзойти в доблести всех других воинов. Однако послушайте, Джон, что это такое?
Чандос вскинул свой хищный нос, как орел, почуявший вдалеке кровопролитную резню.
— Я думаю, сэр, все идет так, как мы того хотели. Издалека донесся громоподобный грохот. Потом еще и еще.
— Смотрите, они двинулись! — закричал де Бюш. Целое утро англичане наблюдали, как слабо отблескивают доспехи и оружие отрядов конницы, стянутой на луг перед лагерем французов. Теперь до их ушей донеслись слабые звуки труб, а далекие полчища заколыхались, сверкая на солнце.
— Да, да, они движутся! — воскликнул и Принц.
— Они пошли! Они пошли! — пробежало по рядам англичан. И тут же лучники за изгородью разом вскочили на ноги, а рыцари за ними взмахнули оружием, и навстречу приближающемуся врагу покатился громовый воинственный радостный крик — вызов на смертный бой. И вдруг все стихло; некоторое время слышен был только топот копыт и звяканье брони, а потом тишину прорвал глухой низкий гул, подобный шуму морского прибоя. Он нарастал и ширился — подходила французская армия.
Глава XXVI Как Найджел совершил третий подвиг
Четверо лучников лежали в кустах в десяти ярдах от густой живой изгороди, прикрывавшей их товарищей. Позади, в широко растянувшейся линии стрелков, были люди из их отряда, по большей части те, кто пришел в Бретань с Ноулзом. А в четверку, засевшую в кустарнике, вошли их командиры: старый Уот из Карлайла, рыжеволосый северянин Нед Уиддингтон, лысый мастер Бартоломью и Сэмкин Эйлвард, недавно вернувшийся после недельного отсутствия. Все жевали хлеб и яблоки: Эйлвард принес их целый мешок и тут же поделил между изголодавшимися товарищами. От нехватки пищи старый пограничник и йоркширец совсем исхудали, глаза у них провалились, а у мастера-лучника обвисла складками кожа на некогда полном, круглом лице.
Из-под нижних ветвей изгороди напряженно и безмолвно смотрели вперед суровые изможденные лица. Один только раз стрелки разразились приветственными криками — это было, когда проскакали Чандос и Найджел и, спешившись, заняли свои места за ними. Позади зеленой линии лучников виднелись стальные доспехи рыцарей и оруженосцев, придвинувшихся к переднему краю, чтобы разделить участь стрелков.
— Помнится, в Эшфорде выпустил я с одним кентским лесником полдюжины стрел… — начал мастер.
— Хватит, хватит, мы все это уже слышали, — нетерпеливо перебил Уот. — Заткнись-ка, Бартоломью, сейчас не время для пустой болтовни. Пройди по ряду и посмотри, не нужно ли где сменить потертую или подтянуть провисшую тетиву, поправить потрескавшуюся выемку.
Высокий мастер прошел по рядам лучников под беглым огнем грубых шуток. То тут, то там ему просовывали сквозь изгородь лук, требовавший его глаза.
— Вощите концы! — то и дело кричал он лучникам. — Передайте горшок с воском и вощите концы. Навощенная стрела пройдет там, где сухая упрется. Том Бэверли, дуралей, где твоя наручка? Стрелы обдерут тебе всю кожу на руке еще до конца боя. А ты, Уоткин, тяни к плечу, а не ко рту, как ты всегда делаешь. Привык к кувшину с вином, так и тетиву к губам тащишь. А ты стань посвободнее, отведи правую руку подальше: французы-то вот-вот будут здесь.
Обойдя стрелков, он побежал назад к своим товарищам за кустами, которые теперь уже не лежали, а поднялись во весь рост. Позади них, растянувшись вдоль изгороди почти на полмили, стояли лучники с огромными боевыми луками наготове. За спиной у каждого торчало полдюжины стрел, а еще восемнадцать были в колчанах, висевших спереди. В ожидании атаки стояли, твердо упершись в землю обеими ногами, натянув тетиву, обратив суровые лица в сторону врага и жадно вглядываясь в просветы между ветвями живой изгороди.
Стальной поток, сперва медленно струившийся вперед, теперь остановился примерно в миле от английского переднего края. Тут большая часть неприятельского войска спешилась и толпа слуг и конюхов отвела лошадей в тыл. Потом французы построились в три мощных отряда, блестевших на солнце, как серебряная водная гладь: над нею, словно камыши, колыхались тысячи знамен и флагов. Отряды отделялись один от другого свободным пространством ярдов по сто. А перед ними выстраивались два конных отряда. В одном было триста человек, составивших одну мощную колонну; второй, в тысячу человек, построился более широкими шеренгами.
К лучникам подъехал Принц. На нем были темные доспехи, забрало поднято, прекрасное орлиное лицо горело боевым пылом. Лучники криками приветствовали его появление, а он помахал им руками, как охотник гончим.
— Ну, Джон, что вы думаете теперь? — спросил он. — Дорого бы дал мой благородный отец, чтобы быть сейчас с нами! Вы видели, что французы спешились?
— Да, ваше высочество, урок при Креси пошел им на пользу, — ответил Чандос. — Тогда, да и после, мы многого добились в пешем строю, вот они и думают, что нашли ловкий прием. Но мне-то кажется, что тут большая разница: одно дело стоять на месте, когда на тебя нападают, как было с нами, другое — нападать самим, когда надо целую милю тащить на себе все снаряженье и хочешь не хочешь, а в драку вступишь уже уставшим.
— Верно, Джон. А как вы думаете, что это за всадники строятся впереди и медленно надвигаются на нас?
— Они, без сомнения, хотят прорвать строй наших лучников и расчистить путь для остальных. Только смотрите, это отборные части: те, что слева, идут под знаменами Клермона, а справа — знамена д'Андрегена; значит, в авангарде оба маршала.
— Клянусь Господом, Джон, вы одним глазом видите больше, чем другие двумя. Конечно, вы правы. А вот большой отряд сзади?
— Судя по доспехам, это немцы, ваше высочество.
Оба конных отряда медленно двигались про равнине, на расстоянии примерно в четверть мили друг от друга. Подойдя к вражеской линии на два полета стрелы, они остановились. Англичан всадники не видели: перед ними тянулась длинная живая изгородь, сквозь ее обильную листву изредка пробивался отблеск стали, а еще дальше из гущи кустарника и виноградных лоз вздымались наконечники копий. Прелестный деревенский пейзаж, расцвеченный пестрой листвой, мирно нежился в теплых лучах осеннего солнца, и ничто, кроме этих мерцающих вспышек, не наводило на мысль, что где-то тут затаился недремлющий враг, намертво преградивший коннице путь. Однако близость страшного противника лишь еще больше подняла боевой дух всадников. Воздух наполнился их воинственными кликами, над головами взвились копья с флажками — грозный вызов неприятелю. Глазам тех, кто смотрел со стороны английских линий, представилась великолепная картина: прекрасные, вздымающиеся на дыбы, бьющие копытом кони, многоцветные сверкающие всадники, колыханье плюмажей, трепет знамен.
Потом раздался звук горна. И тогда с оглушительным криком всадники разом всадили шпоры в бока лошадей и, держа копья наперевес, словно сверкающая молния, понеслись в самую середину английской линии.
Они промчались сотню ярдов, затем вторую, а впереди не видно было никакого движения, не раздавалось никаких звуков, кроме хриплого боевого клича самих французов и грохота копыт их лошадей. Они все убыстряли и убыстряли бег. На изгородь надвигалась лавина лошадей — белых, гнедых, вороных: они летели, вытянув шеи, раздувая ноздри, едва не касаясь животом земли; самих всадников видно не было — только щиты, над которыми поднимались шлемы с плюмажем, да устремленные вперед острия копий.
Внезапно Принц поднял руку и что-то прокричал. Чандос подхватил его команду, она прокатилась по линии и слилась в один могучий хор со звоном тетив и свистом стрел. Долгожданная буря наконец разразилась.
Бедные благородные кони! Бедные доблестные воины! Кто, когда пройдет пыл битвы, не опечалится, увидя, что под градом стрел, бивших лошадям прямо в морды и грудь, грозный эскадрон превратился в кровавую груду тел? Первая шеренга рухнула на землю, следующие не смогли ни замедлить ход, ни отвернуть в сторону от ужасной, нежданно возникшей перед ними преграды из тел поверженных соратников и стали поочередно валиться на нее, пока этот брызжущий кровью ураган из визжащих, бьющихся лошадей и корчащихся людей не поднялся на пятнадцать футов. То тут, то там сбоку от дороги кому-нибудь из всадников удавалось высвободиться и он пытался взять изгородь, но коня под ним тут же насмерть разила стрела и боец вылетал из седла. Ни одному из трех сотен доблестных воинов не удалось достичь изгороди.
Но тотчас вслед за неудачливыми французами вперед стремительно покатилась длинная стальная волна немецких конников. Они раздались в стороны, чтобы обойти ужасный могильный курган, и с двух сторон понеслись на лучников. Это были храбрые воины, ими командовали знавшие свое дело люди, которые сумели избежать всеобщей свалки, погубившей авангард; и все-таки они тоже погибли, хотя и поодиночке, а не все скопом, как французы. Стрелы поразили немногих. Под большей частью всадников поубивали лошадей, и люди, отягощенные стальными доспехами, так и не могли подняться на ноги после страшных ударов оземь.
Тем не менее троим удалось прорваться сквозь кустарник, где укрылись командиры лучников; они сразили северянина Уиддингтона, преодолели живую изгородь и ударили по стрелкам с тыла, а потом рванулись туда, где стоял Принц. Но их также постигла неудача: один пал с пронзенной головой, второго выбил из седла Чандос, третьего убил сам Принц. Еще один отряд прорвался возле реки, но его тут же перехватил лорд Одли с оруженосцами и перебил до одного. Какой-то всадник на взбесившемся от боли коне — из глаза и ноздри у того торчали стрелы — перескочил через изгородь, пронесся по английскому лагерю и под хохот и улюлюканье исчез в лесу, что тянулся позади. Приблизиться к изгороди не удалось больше никому. Весь передний край английских позиций был усеян мертвыми или ранеными немецкими конниками, а в самой середине высилась огромная груда тел — место гибели трехсот доблестных французских воинов. Когда эти две волны атаки захлебнулись, так и не дойдя до английских линий, но оставив там кровавое месиво из людей и лошадей, основные силы французов приостановились для последних приготовлений собственно к штурму. Они еще не начали наступление и ближайшие их отряды отстояли от англичан примерно на полмили, как вдруг по их флангам на обезумевших, утыканных стрелами лошадях промчались несколько человек — все, что уцелело от конницы, на которую возлагались такие надежды.
В ту же минуту английские стрелки и копейщики бросились сквозь изгородь и принялись вытаскивать из груды конских и человеческих тел всех, кто еще был жив. Это было безумием, потому что битва вот-вот должна была возобновиться, но каждый надеялся пожать добрый урожай, если ему повезет и удастся выбрать из кучи кого-нибудь побогаче. Благородные души презирали самое мысль о выкупе, пока не решен исход боя, зато толпа неимущих солдат, будь то гасконцы или англичане, растаскивали раненых, кого за руку, кого за ногу, и, приставив к горлу кинжал, требовала, чтобы они назвали свои имена, звания и доходы. Те, кому удавалось захватить хорошую добычу, быстро отволакивали ее в тыл и препоручали охрану ее слугам; те же, кому не повезло, по большей части просто добивали раненого кинжалом и снова кидались на груду тел в надежде на этот раз не ошибиться. Клермон со стрелой, пронзившей небесно-голубую Деву на его плаще, лежал мертвый шагах в десяти от изгороди; д'Андреген стал пленником бедного оруженосца, который вытащил его из-под лошади. Графов Зальцбургского и Нассауского, совершенно беспомощных, подобрали с земли и отнесли в тыл. Эйлвард обхватил ручищами Отто фон Лангенбека, у которого была сломана нога, и перетащил его за кусты. Черный Саймон захватил Бернара, графа Вентадурского, и поволок его через изгородь. Все бегали, кричали, ссорились и дрались, а среди этой суеты толпы лучников искали стрелы, вытаскивали их из мертвых, а иные даже из раненых. Но тут раздался предостерегающий крик. В один миг каждый снова занял свое место, а перед изгородью никого больше не осталось.
И в самое время: первая волна французов была уже совсем близко. Как ни страшна была атака конницы своей стремительностью и яростью, неумолимое, размеренное наступление огромной фаланги закованной в сталь пехоты страшило душу еще больше: французы двигались очень медленно — мешали тяжелые доспехи, — но наступление их было неотвратимо. Они шли вперед плотным строем, локтями касаясь друг друга, спереди закрываясь щитами; в правой руке каждый держал короткое, пятифутовое копье, на поясе наготове были мечи и палицы. На копейщиков обрушился град стрел: зазвенела броня, послышались глухие удары. Пригнувшись как можно ниже, французы подставили под ливень стрел щиты. Многие были убиты, однако тяжелая волна продолжала медленно катиться вперед. С оглушительными криками, шеренгой в полмили, накатились воины на живую изгородь, изо всех сил пытаясь прорваться сквозь нее.
Пять минут длинные, растянутые ряды ожесточенно наносили друг другу удары — с одной стороны копьями, с другой — топорами и палицами. Во многих местах живую изгородь уже проломили или даже сровняли с землей, и французские копейщики свирепствовали среди лучников, направо и налево кромсая и круша почти не защищенных броней врагов. В какой-то момент могло показаться, что в сражении наступил перелом.
Но Джон де Вер, граф Оксфорд, человек хладнокровный, умудренный опытом, знаток ратного дела, не проглядел свой шанс и тут же им воспользовался. Справа к реке примыкала болотистая луговина, такая топкая, что тяжеловооруженный воин неминуемо увяз бы там по колено. По приказу де Вера туда с боевой линии перебросили отряды легких лучников, которые стали с фланга осыпать французов стрелами. В тот же миг Чандос с Одли, Найджелом, Бартоломью Бергхершем де Бюшем и двумя десятками других рыцарей вскочили на коней, промчались по узкой тропе сквозь изгородь и оказались за линией французов. Тут они разъехались в разные стороны и принялись топтать пеших копейщиков.
Страшен был в тот день Поммерс. Выкатив налитые кровью глаза, раздувая ноздри, потрясая бурой гривой, он в ярости скрежетал зубами, рвал, крушил, неистово давил копытами все и вся вокруг себя. Страшен был и наездник: хладнокровный, проворный, с пылающим сердцем и стальными мышцами, он видел перед собой одну-единственную цель. Когда он гнал своего обезумевшего коня в самую гущу боя, он казался самим архангелом Михаилом. И все же, как он ни старался, высокая фигура его повелителя на черном как уголь коне всегда была на полкорпуса впереди.
Самый опасный момент миновал. Французы отступили. Те, кто проник за изгородь, пали смертью храбрых среди своих противников. Отряд Уорика спешно пришел из виноградников и заполнил бреши в боевом порядке Солсбери. Сверкающая волна откатывалась назад; сперва медленно, как и наступала, потом все быстрее, по мере того, как самые смелые гибли, а те, кто послабее, неловко и неуклюже разбредались в разные стороны, еле волоча ноги, в поисках хоть какого-нибудь убежища. И опять стрелки вырвались из-за изгороди. Опять пожинали они удивительный урожай остистых стрел, что так густо взошел на этой земле; опять хватали раненых и грубо волокли за изгородь. Потом линии были восстановлены, и усталые, истрепанные, задыхающиеся англичане стали ждать новой атаки.
Неожиданно к ним пришла невероятная удача — настолько невероятная, что, глядя в глубь долины, они с трудом верили своим глазам. Позади отряда дофина, от которого они порядком пострадали, находился еще один, едва ли менее многочисленный отряд, во главе с герцогом Орлеанским. Когда окровавленные, грязные беглецы, ослепнув от страха и струившегося по лицу пота, добежали до него, они в один миг смяли этот отряд и в своем безумном бегстве увлекли его без боя за собой.
Огромное, сплоченное, вполне боеспособное войско внезапно растаяло, как сугроб под лучами солнца. Оно просто перестало существовать. Вместо него на равнине виднелись теперь тысячи блестящих точек — это французы, кто как мог, уносили ноги с поля, спеша к своим коням. Англичане уже решили было, что сраженье выиграно, и по их рядам прокатился громкий радостный крик.
Однако, когда этот занавес — войско герцога Орлеанского — раздвинулся, за ним открылась отнюдь не пустая сцена: далеко в глубине ее, перекрыв долину во всю ширину, показалась великолепная армия французского короля, надежная, непоколебимая, готовая бросить свои шеренги в новую атаку. Численностью равная англичанам, она еще не пострадала от предыдущих схваток, и вел ее доблестный монарх. Медленно, неторопливо, как человек, принявший твердое решение либо исполнить задуманное, либо умереть, король выстраивал свои силы для решающего сражения.
А тем временем, в краткий миг торжества, когда казалось, что победа уже в руках англичан, целая толпа пылких, шумных молодых рыцарей и оруженосцев окружила Принца, умоляя позволить им преследовать французов дальше в глубь равнины.
— Вы только посмотрите на того наглеца с тремя ласточками на красном поле! — воскликнул сэр Морис Беркли.
— Он стоит как раз между двух армий, словно вовсе нас не боится!
— Пожалуйста, ваше высочество, позвольте мне сбить его: он, кажется, ждет, с кем бы сразиться, — попросил Найджел.
— Нет, господа, нам нельзя расстраивать ряды: у нас впереди еще много дела, — отвечал Принц.
— Смотрите, он уже скачет к своим, так что и говорить больше не о чем.
— Пожалуйста, добрый Принц! — снова начал молодой рыцарь, который затеял этот разговор. — Мой серый, Лебрайт, нагонит его прежде, чем он доскачет до укрытия. Я еще не встречал коня быстрее, чем мой, с тех пор как покинул берега Северна. Сейчас я вам это докажу.
И, дав коню шпоры, он помчался по равнине. Француз, Жан де Элен, пикардийский дворянин, замешкался на поле в отчаянье от того, что отряд, в котором он сражался, бежал. С пылающим сердцем он стоял на лугу между двух армий в страстной надежде совершить какой-нибудь подвиг во искупление постыдного бегства. Но вдоль английских линий не видно было никакого движения. Наконец он поворотил коня, чтобы присоединиться к войску короля, как вдруг позади раздался глухой перестук копыт, и, обернувшись, он увидел, что прямо на него мчится английский рыцарь. Оба тут же выхватили мечи, а две враждебные армии приостановили движение, чтобы полюбоваться поединком. В первой же схватке Морис Беркли потерял меч и, соскочив с лошади, хотел было поднять его, но француз поразил противника в бедро и, спешившись, заставил сдаться. Когда незадачливый англичанин заковылял рядом с победителем, оба войска разразились хохотом.
— Клянусь своими пальцами, — воскликнул Эйлвард, давясь от смеха за своим поломанным кустом, — на сей раз у него на прялке кудели было больше, чем он мог спрясть! А кто этот рыцарь?
— Судя по гербу он кто-нибудь из западных Беркли, либо из кентских Попэмов, — отозвался старый Уот.
— Я припоминаю, как-то раз были у нас состязания с одним кентским лесником… — начал было толстый мастер-лучник.
— Помолчи-ка, Бартоломью, — перебил старый Уот. — Тут бедняге Неду голову размозжило, так ты лучше помолился бы о его душе, а не хвастался невесть чем. Эй, Том из Беверли, что там у нас?
— В последней схватке мы здорово пострадали, Уот. Полегло сорок человек, а у лесника Дина на правом фланге и того больше.
— Разговорами тут не поможешь, Том. Если из всех останется в живых хоть один, он все равно должен стоять насмерть.
Пока лучники переговаривались таким образом, военачальники позади них держали совет. Две атаки французов были отбиты, однако когда рыцари бросали взгляд на долину, на медленно приближающиеся ровные шеренги главных сил французского короля, лица их мрачнели. Отряды лучников заметно поредели. В долгой жестокой битве у изгороди много рыцарей и оруженосцев были выведены из строя. Некоторые, истощенные голодом, лишились остатков силы и лежали на земле, еле переводя дух. Другие переносили раненых в тыл, под защиту леса. Кое-кто подбирал оружие убитых, чтобы заменить свое, поломанное. Смелый, опытный де Бюш мрачно хмурился и что-то шептал Чандосу о своих опасениях.
Однако по мере того как возрастала угроза поражения, боевой дух Принца становился все неукротимей; когда он перевел взгляд с изнемогающих соратников на плотные ряды французского войска, которое под звуки труб, осененное тысячами знамен, катилось по равнине, в его темных глазах сверкнула гордость истинного солдата.
— Будь что будет, Джон, — обратился он к Чандосу, — только битва была на славу. Англии не придется сгорать от стыда. Мужайтесь, друзья мои, ведь, если мы победим, мы прославим себя на всю жизнь; если же нам суждено пасть, умрем смертью храбрых, достойной и почетной смертью, о которой мы всегда молили Всевышнего, а за нами придут наши братья и родичи и непременно отомстят врагу. Еще одно усилие, и все будет прекрасно. Уорик, Оксфорд, Солсбери, Суффолк — все на передний край! И мое знамя тоже! На коней, благородные рыцари: стрелки выдохлись, сегодня победить должны наши копья. Вперед, Уолтер, и да поможет Англии Господь и святой Георгий!
Сэр Уолтер Вудленд на крупном вороном жеребце занял место рядом с Принцем, уперев в седло королевский штандарт. Со всех сторон вокруг него теснились рыцари и оруженосцы, так что в конце концов из них сформировался мощный эскадрон, вобравший в себя остатки отрядов Уорика, Солсбери и самого принца. Кроме того, строй подкрепили еще четырьмя сотнями копейщиков из резерва. Но все равно, когда Чандос вглядывался в ряды своих, а потом переводил взгляд на огромную французскую армию, с лица его не сходило выражение озабоченности.
— Не нравится мне все это, ваше высочество, — сказал он Принцу вполголоса. — На их стороне слишком большой перевес.
— А как бы поступили вы, Джон? Говорите, что у вас на уме.
— Удерживая их в центре, нам надо исхитриться и атаковать их фланг. Что скажете, Жан? — спросил он, повернувшись к де Бюшу, на темном решительном лице которого ясно читались те же опасения.
— Я согласен с вами, Джон. Король Франции — человек смелый, да и все его окружение тоже, и я не представляю себе, как нам их отбить, если мы не сделаем того, что вы предлагаете. Дайте мне сотню людей, и я попытаюсь.
— Нет, нет, добрый сэр, эту попытку должен сделать я сам, мысль-то моя.
— Нет, Джон. Я хочу, чтобы вы были со мной, — ответил Принц. — Но вы, Жан, правы, вы можете взять это на себя. Ступайте к графу Оксфорду, попросите у него сотню копейщиков и столько же легковооруженных всадников, незаметно обойдите тот курган и атакуйте их; уцелевших лучников выставьте на фланги — пусть расстреляют все стрелы, а потом сражаются кто как может. Подождем, пока французы минуют тот терновый куст, а тогда, Уолтер, выносите мое знамя прямо против знамени французского короля. Славные господа, пусть Господь и мысли о ваших дамах поднимут ваш боевой дух!
Король Франции, видя, что его пехота не произвела на англичан большого впечатления и что во время сражения живые изгороди были уже почти стерты с лица земли и больше не могли служить помехой коннице, приказал всем вновь сесть на лошадей, и теперь в последний решительный бой французское рыцарство шло сплоченным конным строем. В центре передней шеренги ехал король; справа от него с золотой орифламмой в руках скакал Жоффруа де Шарни, а слева, держа стяг с королевскими лилиями, — Эсташ де Рибомон. Рядом с ним был коннетабль, герцог Афинский, а вокруг — яростные, разгоряченные придворные, размахивавшие над головой оружием. Из всех глоток рвался боевой клич. А за королевскими серебряными лилиями теснилось шесть тысяч доблестных воинов самого смелого племени Европы, чьи имена звучали как трубный глас, призывающий к битве, — Боже, Шатильон, Танкервиль и Вентадур.
Сначала они продвигались медленно, сдерживая лошадей, чтобы те не израсходовали силы до начала сокрушительной атаки. Потом перешли на рысь, все ускоряя ее, пока не взяли в галоп. В мгновенье ока остатки живой изгороди были смяты и втоптаны в землю, и тогда широкие шеренги великолепного, закованного в сталь английского рыцарства стремительно рванулись вперед, в последний бой. Опустив повода, терзая шпорами бока коней, две шеренги всадников на предельной скорости прямо и неуклонно мчались навстречу друг другу. Один миг — и две армии сшиблись. Раздался громовый грохот — его слышали со стен жители Пуатье, за добрых семь миль от места сражения.
В этом безумном столкновении двух живых лавин первыми пали с переломанными шеями кони, а у многих всадников, удержавшихся в седлах с высокой лукой, от тяжкого удара размозжило ноги. То тут, то там, когда всадники сталкивались грудь в грудь, кони резко становились на дыбы и тут же падали на спину, давя наездников. Однако большая часть французов на стремительном галопе прорвалась сквозь ослабленные ряды линии обороны и оказалась во вражеском расположении. Фланги англичан расстроились, напор в центре ослабел, и наконец открылся простор для меча, и для коня. Десять акров луговины превратились в бурный водоворот мечущихся голов, сверкающих мечей, которые то взлетали в воздух, то стремительно падали, воздетых рук, колеблющихся плюмажей, поднятых щитов; и над всем этим катились тысячеголосый боевой клич и грохот ударов металла о металл, которые все ширились и разносились по долине, как океанский прибой, бьющий о скалистые берега. Могучие волны откатывались то в одну сторону долины, то в другую по мере того, как каждая из сторон по очереди сосредоточивала силы для нового натиска. Сойдясь в смертельной схватке, великая Англия и доблестная Франция отважно и пылко вновь и вновь оспаривали друг у друга победу.
Сэр Уолтер Вудленд на своем вороном ворвался в самую гущу боя и устремился к лазорево-серебряному стягу короля Иоанна. По пятам за ним стальным клином следовали Принц, Чандос, Найджел, лорд Реджиналд Кобем, Одли с четырьмя известными оруженосцами и человек двадцать лучших представителей английского и гасконского рыцарства. Они держались все вместе, сдерживая противника градом ударов и мощью своих коней. И все же они продвигались вперед очень медленно: их то и дело накрывали новые волны французской конницы — отбитые с фронта, они тут же обрушивались на англичан с тыла. Иногда под напором этих волн англичане отступали, потом вновь продвигались на несколько шагов, иногда им удавалось просто удержаться на месте, но все же с каждой минутой лазорево-серебряное знамя, реявшее над самой гущей французов, понемногу, но неуклонно приближалось. Была минута, когда дюжине разъяренных, запыхавшихся французов удалось прорвать их ряды и они едва не вырвали знамя у сэра Уолтера Вудленда, но с одной стороны его охраняли Чандос и Найджел, а с другой — Одли со своими оруженосцами, так что никто не сумел бы тронуть его хоть пальцем и остаться в живых.
Но тут позади них раздались отдаленный шум и рев: «Святой Георгий Гиеньский!» Это Капталь де Бюш пошел в атаку. «Святой Георгий Английский!» — раздалось с места главного удара, и издалека донесся ответный клич. Шеренги перед англичанами заколебались. Французы дрогнули. Какой-то рыцарь, маленького роста, с изображением золотого свитка на доспехах, бросился было на Принца, но тут же пал от удара его булавы. Это был герцог Афинский, коннетабль Франции, но смерти его никто не заметил, и схватка продолжалась над его телом. Французские ряды все более редели. Многие поворачивали коней — их боевой дух не выдержал грозного рева, раздавшегося у них в тылу. А маленький клин — Принц, Чандос, Одли и Найджел — по-прежнему продвигался вперед в самом авангарде.
Внезапно в просвете среди редеющих шеренг появился могучий воин в черном, несущий золотое знамя. Он бросил драгоценную ношу какому-то оруженосцу, и тот поскакал с ним прочь. Англичане, словно свора гончих, повисших на крупе оленя, с воплем рванулась за орифламмой, но путь им преградил воин в черном. Громовым голосом он воззвал «Шарни! Шарни! a la rescousse!»[69] — и под ударом его топора тут же пал сэр Реджиналд Кобем, а за ним и гасконец де Клиссон. Следующий удар обрушился на Найджела, и тот упал на круп коня, однако меч Чандоса тут же пронзил французу нашейник и вошел ему в глотку. Жоффруа де Шарни пал, однако орифламма была спасена.
Оглушенный ударом Найджел удержался в седле, и окровавленный Поммерс вынес его вперед вместе с остальными. Теперь французская конница бежала по-настоящему: только одна не потерявшая присутствия духа кучка рыцарей прочно удерживала позицию, словно скала над бушующим прибоем, и разила без разбору всех, кто пытался к ним прорваться, будь то враги или свои. Орифламму унесли, унесли и лазурно-серебряный стяг, но на поле еще оставались отчаянные смельчаки, готовые биться насмерть. В схватке с ними можно было стяжать честь и славу. Принц и его свита развернули на них своих коней, тогда как остальные английские всадники стремительно понеслись вдогонку за бегущим противником, чтобы захватить пленных и обеспечить себе выкуп. Благородному духу претит сама мысль искать денег, пока еще не повержены все враги и есть с кем сразиться и прославить свое имя. Поэтому Одли, Чандос и другие тотчас вступили в ожесточенную схватку с упорным противником. Горстка французов сопротивлялась долго и неистово. Люди валились наземь не от ран, а просто от изнеможения.
Найджела, который не оставлял свое место возле Чандоса, стремительно атаковал низкорослый широкоплечий воин на невысокой крепкой кобыле, но тут Поммерс в остервенении поднялся на дыбы и передними копытами поверг лошадь француза на землю. Падая, всадник успел схватить Найджела за руку и увлек его за собой: оба покатились по траве прямо под бьющими копытами, но Найджел оказался сверху, и его короткий меч сверкнул над забралом почти бездыханного француза.
— Je me rends! Je me rends![70] — только и смог вымолвить тот.
На миг в голове у Найджела мелькнула мысль о богатом выкупе. Благородная кобыла, золотые блестки на доспехах — все говорило о том, что поверженный рыцарь — человек состоятельный. Только пусть этим займутся другие! Осталось еще столько дела! Неужели он покинет Принца и своего благородного господина ради поживы? Не поведет же он пленника в тыл, когда честь призывает его быть впереди? Шатаясь, он поднялся на ноги, ухватился за гриву Поммерса и вскочил в седло.
Минутой позже он снова был подле Чандоса, и они вместе прорвались через последние ряды доблестного отряда французов, храбро сражавшихся до самого конца. Позади них лежала длинная полоса земли, усеянная телами мертвых и раненых. А впереди по всей широкой равнине, насколько хватало глаз, англичане преследовали бегущих.
Принц натянул поводья, остановил коня и поднял забрало; вокруг него тотчас собралась свита. В воздухе мелькало оружие, раздавались ликующие победные крики.
— Ну так как, Джон? — с улыбкой обратился Принц к Чандосу, утирая потное лицо голой рукой. — Как дела?
— Пустяки, добрый сэр, ушиблена рука и копьем задето плечо. А вы, ваше высочество? Надеюсь, вы остались невредимы?
— По правде сказать, Джон, не представляю себе, как до меня кто-нибудь мог добраться, если с одной стороны были вы, а с другой Одли. Только вот беда, сэр Джеймс ранен, и, боюсь, тяжело.
Доблестный лорд Одли лежал на земле, изо всех щелей его измятых доспехов сочилась кровь. Четверо его храбрых оруженосцев — Даттон из Даттона, Делз из Доддингтона, Фаулхерст из Кру, Хокстон из Уэйнхила, — сами усталые и израненные, но забывшие обо всем на свете, кроме беды своего господина, сняли с него шлем и поливали водой бледное окровавленное лицо.
Одли поднял на Принца сверкающий взгляд.
— Благодарю, ваше высочество, что вы снизошли до столь скромного рыцаря, как я, — произнес он слабым голосом.
Принц спешился и склонился над ним.
— Я высоко ценю вас, Джеймс, — проговорил он. — Сегодня ваша доблесть вознесла вашу славу и доброе имя превыше нас всех, а ваша отвага показала, что вы храбрейший из рыцарей.
— Ваше высочество, — пробормотал раненый, — вы вольны говорить, что пожелаете. А я — я хотел бы, чтобы все было именно так.
— Джеймс, — продолжал принц, — отныне я делаю вас рыцарем своего двора и жалую вам пятьсот марок ежегодного дохода из моей казны в Англии.
— Ваше высочество, — отвечал рыцарь, — да поможет мне Бог оказаться достойным состояния, которым вы меня одарили. Я всегда буду вашим рыцарем, а вот деньги я, с вашего соизволения поделю меж четырех своих оруженосцев — это они принесли ту славу, что выпала сегодня на мою долю.
Не успел он кончить, как голова его откинулась назад, и он, безмолвный, побелевший, распростерся на траве.
— Скорее воды! — закричал Принц. — Ведите сюда королевского лекаря: я готов потерять много людей, но только не доброго сэра Джеймса. А это что такое, Чандос?
Поперек дороги лежал рыцарь со сбитым на самые плечи шлемом. На его плаще и щите был отчетливо виден герб с красным грифоном.
— Это лазутчик Робер де Дюрас, — ответил Чандос.
— Ему повезло, его уже убили, — сердито заметил Принц. — Хьюберт, положите его на щит, и пусть четверо лучников отнесут тело в монастырь. Там положите его к ногам кардинала и скажите, что это ему приветствие от меня. А вы, Уолтер, поднимите мой штандарт вон над тем высоким кустом и прикажите там же поставить мой шатер, чтобы друзья знали, где меня искать.
Шум от бегущего французского войска и его преследователей уже затих вдалеке, и теперь по полю тянулись лишь группы усталых всадников, возвращавшихся назад. Впереди них брели их пленники. По всей равнине бродили лучники. Они потрошили седельные сумы убитых, снимали с них доспехи или разыскивали собственные стрелы.
Вдруг, когда Принц повернулся, чтобы пойти к кусту, возле которого он приказал разбить свою главную квартиру, позади него раздался страшный шум, и к нему бросилась целая толпа рыцарей и оруженосцев. Они громко спорили и переругивались на английском и французском языках. В гуще толпы, прихрамывая, шел невысокий толстяк в доспехах с золотыми блестками. Он-то и был причиной раздоров: каждый тащил его к себе, и, казалось, его вот-вот разорвут на части.
— Пожалуйста, добрые господа, осторожнее, осторожнее! — умолял он. — Моего добра хватит на всех, зачем же вы так?
Но шум и гам еще усилились, спорящие кровожадно сверкали друг на друга глазами, блеснули клинки. Принц взглянул на коротышку пленника и ошеломленно откинулся назад.
— Король Иоанн! — воскликнул он, не веря своим глазам.
Из глоток окружавших его воинов вырвался торжествующий вопль.
— Король Франции! У нас в плену король Франции! — самозабвенно вопили они.
— Тише, тише, господа, умерьте свое ликование. Он не должен его видеть, ни одно ваше слово не должно причинить ему боль.
С этими словами Принц подбежал к французскому королю и взял его за руки.
— Милости просим, ваше величество! — снова воскликнул он. — Какая удача, что столь доблестный рыцарь побудет с нами некоторое время, раз уж так распорядилось военное счастье! Вина! Вина для короля!
Но Иоанн был зол, лицо его пылало. С него грубо сбили шлем, на щеке у него запеклась кровь. Взявшие его в плен рыцари стояли вокруг, продолжая галдеть и жадно, словно свора собак, которую отогнали от убитой дичи, поедали его глазами. Среди них были гасконцы и англичане, рыцари, оруженосцы и стрелки, и все они толкались и старались пробиться поближе к пленнику.
— Прошу вас, благородный Принц, прогоните этих грубиянов, — промолвил наконец король Иоанн. — Они так жестоко обошлись со мной. Клянусь святым Денисом, мне едва не оторвали руку!
— Чего вы хотите? — гневно обратился Принц к шумной толпе.
— Мы взяли его в плен, ваше высочество, теперь он наш! — раздалось десятка два голосов.
Они опять, визжа, как стая волков, окружили короля.
— Я захватил его, ваше высочество.
— Нет, я!
— Лжешь, негодяй, это сделал я! И снова сверканье глаз, и снова окровавленные руки тянутся к мечам.
— Довольно! Сейчас мы все уладим, — прервал их Принц. — Ваше величество, прошу вас, немного терпенья, пока все встанет на свои места, иначе тут Бог знает что может случиться. Кто тот высокий рыцарь, что никак не может убрать руку с плеча короля?
— Это Дени де Морбек, ваше высочество, рыцарь из Сент-Омера, он служит в наших войсках, потому что изгнан из Франции.
— Припоминаю. Так в чем дело, сеньор Дени? Что вы скажете?
— Король сдался мне, ваше высочество. Он упал в схватке, и я его захватил. Я сказал ему, что я рыцарь из Артуа, и он отдал мне свою перчатку. Смотрите — вот она у меня в руке!
— Правда! Правда, ваше высочество! — поддержала его дюжина французских голосов.
— Нет, ваше высочество, не судите слишком поспешно! — прокричал какой-то английский оруженосец, проталкиваясь вперед. — Я взял его, он мой пленник, а с этим человеком он говорил только потому, что по его языку признал в нем соотечественника. В плен его взял я, и это многие могут подтвердить.
— Сущая правда, ваше высочество, мы все это видели, все было, как он говорит, — поддержал оруженосца хор англичан.
Между англичанами и французскими их союзниками всегда шла грызня, и Принц видел, с какой легкостью эта перепалка может перерасти в свару, которую нелегко будет усмирить. Ее надо было заглушить в самом начале, пока в нее не успели втянуться остальные.
— Славный, досточтимый государь, — снова начал Принц. — Я опять прошу у вас минуту терпения. Решить этот спор может только ваше слово, только вы можете сказать нам, что произошло на самом деле. Кому вы изволили милостиво вручить свою королевскую особу?
Король Иоанн оторвался от фляги, которую ему принесли, и вытер губы. На его красном лице мелькнуло подобие улыбки.
— Не этому англичанину, — ответил он, и гасконцы торжествующе завопили. — И не этому ублюдку французу, — тут же добавил король. — Я не сдавался ни тому, ни другому.
Все удивленно притихли.
— Тогда кому же, ваше величество? — снова обратился к нему Принц.
Король медленно оглядел собравшихся.
— У него был желтый конь, яростный, как сам дьявол, — сказал он. — Он опрокинул мою бедную кобылу легче, чем шар кеглю. А всадника я не знаю, помню только, что у него был серебряный щит с алыми розами. А! Клянусь святым Денисом, вон он стоит, а с ним и его треклятый конь!
И Найджел, у которого все поплыло перед глазами, вышел, словно во сне, вперед и оказался в самом центре разъяренной толпы воинов.
Принц положил руку ему на плечо.
— Это тот самый петушок с Тилфордского моста, — произнес он. — Клянусь спасением души моего родителя, я уже тогда сказал, что вы далеко пойдете. Вы взяли короля в плен?
— Нет, ваше высочество.
— А вы слышали, как он сказал, что сдается?
— Да, ваше высочество, только я не знал, что это король. Мой господин лорд Чандос, ускакал вперед, и я спешил за ним.
— И оставили короля лежать. Значит, сдача была неполной, и выкуп по законам войны пойдет Дени де Морбеку. Если, конечно, то, что он рассказал, правда.
— Да, вступился король, — это правда, он был вторым.
— Значит, выкуп вам, Дени. А что до меня, так, клянусь спасением души моего родителя, я предпочел бы честь и славу, что выпали на долю этого оруженосца, всем богатствам Франции.
При этих словах, произнесенных перед лицом благороднейших воинов, сердце Найджела рванулось в его груди, и он упал на колени перед Принцем.
— Ваше высочество, как мне вас благодарить? — пробормотал он. — Эти ваши слова мне дороже любого выкупа.
— Встаньте, — улыбаясь, приказал Принц и коснулся его плеча. — Англия потеряла храброго оруженосца, но приобрела доблестного рыцаря. Встаньте, прошу вас! Встаньте, сэр Найджел!
Глава XXVII Как в Косфорд прибыл третий гонец
Проходит два месяца, и отлогие склоны Хайндхеда покрываются бурым мехом увядших папоротников: холодеющая земля всегда укутывается в такую шкуру. С воем и свистом бушуют по всхолмленным равнинам дикие ноябрьские ветры; они размахивают ветвями могучих косфордских буков, стучат в свинцовые переплеты неказистых окон. Тучный старый Даплинский рыцарь, растолстевший еще больше, сидит, как бывало, во главе стола. В бороде, обрамляющей его красное лицо, прибавилось седины. Перед ним стоит наполненное до краев большое деревянное блюдо и высокая пивная кружка с шапкой пены. Справа от него сидит леди Мэри. Годы томительного ожидания наложили свой отпечаток на ее простое смуглое царственное лицо; однако теперь в его выражении появились те особые мягкость и достоинство, которые порождаются грустью и самоотречением. Слева сидит старый священник Мэтью. Златокудрая красавица уже давным-давно покинула Косфорд и обосновалась в Фернхерсте. Теперь молодая прекрасная леди Эдит Брокас — признанная красавица Сассекса, луч света, щедро расточающий улыбки и веселье, кроме, пожалуй, тех минут, когда мысли ее обращаются к той ужасной ночи, когда ее вырвали из когтей мерзкого шэлфордского стервятника.
Когда новый порыв ветра с дождем ударил в окно позади стола, старый рыцарь поднял голову.
— Клянусь святым Хьюбертом, чертовский вечер! — произнес он. — Я так надеялся, что завтра можно будет поднять цаплю на болоте или утку в ручье. А как там дела у маленького сапсанчика, Мэри?
— Я перевязала ему крыло и выправила перья, но боюсь, что до Рождества он все равно не сможет летать.
— Вот незадача! Такая прекрасная смелая птица. На прошлой неделе в субботу цапля клювом сломала ему крыло, — пояснил рыцарь священнику, — и теперь Мэри пользует его.
— Надеюсь, сын мой, вы прослушали мессу, прежде чем обратились к мирским радостям в святой Господень день? — спросил отец Мэтью.
— Ну уж, святой отец, — смеясь, отвечал старый рыцарь, — неужто мне надо исповедоваться за моим собственным столом? Я могу куда лучше молиться Господу среди его творений, в лесу или в поле, чем в этих ваших грудах камня или дерева. Постойте-ка, мне вспоминается заговор для раненого сокола, меня научил ему сокольник Гастона де Фуа. Как же это? Вроде бы так: «Лев из колена Иудина от корня Давидова победил». Да, да, эти слова и надо повторить три раза и обойти вокруг шеста, на котором сидит птица.
Старик священник покачал головой.
— Все это дьявольские ухищрения. Святая церковь не одобряет их, они бесполезны и лживы. А как ваше рукоделье, леди Мэри? Когда я был под вашим кровом в последний раз, вы уже сделали в пяти прекрасных цветах половину истории о Тезее и Ариадне.
— На половине все и остановилось.
— Как так, дочь моя? У вас было много посетителей?
— Нет, святой отец, — вмешался сэр Джон, — просто она думает совсем о другом. Она часами сидит с иголкой в руке, а душа ее витает далеко отсюда. С того самого сраженья, что выиграл Принц…
— Милый отец, прошу вас…
— Ничего, ничего, Мэри, меня не слышит никто, кроме твоего исповедника отца Мэтью. Так вот, с того сраженья, в котором Найджел стяжал такую честь, она прямо как тронулась умом, все время сидит… Ну вот как сейчас.
Взгляд у Мэри вдруг стал сосредоточенным, она уставилась на темное окно, по которому хлестал дождь. Перед священником было застывшее, словно вырезанное из слоновой кости лицо, с бескровными губами.
— В чем дело, дочь моя? Что ты там видишь?
— Ничего, отец мой.
— Что же тогда тебя беспокоит?
— Звуки, добрый отец.
— Что за звуки?
— По дороге кто-то едет.
Старый рыцарь рассмеялся.
— Вот так каждый день, отец мой. Каждый день по дороге проезжает сотня всадников, и все же любой стук копыт приводит в трепет ее бедное сердце. Мэри всегда была сильна и тверда духом, и вот теперь малейший шорох прямо переворачивает ей нутро. Не надо, дочь моя, прошу тебя, не надо!
Но Мэри уже встала со стула и, крепко стиснув руки, испуганными темными глазами смотрела в окно.
— Я слышу их, отец! Я слышу их сквозь шум дождя и ветра. Да, да, они сворачивают с дороги, они свернули! Боже мой, они уже у двери!
— Клянусь святым Хьюбертом, девочка права! — воскликнул сэр Джон и грохнул кулаком по столу. — Эй, слуги! Скорее во двор! Подогрейте еще вина. У ворот путники, а в такую ночь и собаку нельзя оставить за дверью. Быстрее, Хэннекин! Быстрее, говорю, а не то я потороплю тебя дубиной!
Теперь уже все ясно слышали стук копыт. Мэри стояла, вся дрожа. Один нетерпеливый шаг к порогу, дверь широко распахнулась, и в темном проеме появился Найджел; по его улыбающемуся лицу струился дождь, щеки раскраснелись от ветра, в голубых глазах светилась нежность и любовь. У Мэри перехватило горло, свет факелов качнулся перед глазами; но при мысли, что посторонний взгляд проникнет в святая святых ее души, она тут же овладела собой. Женщины обладают силой духа, с которой не сравнится никакая доблесть мужчин. Только глаза ее сказали гостю обо всем, что было у нее на душе, когда она спокойно протянула ему руку.
— Милости просим, Найджел, — только и вымолвила она.
Он склонился и поцеловал ей руку.
— Святая Катарина помогла мне вернуться домой, — сказал он.
Весел был в тот вечер ужин в Косфордском доме. Найджел восседал во главе стола между веселым старым рыцарем и леди Мэри. А на дальнем конце Сэмкин Эйлвард, зажатый между двумя служанками, то до слез смешил своих соседей, то приводил их в ужас рассказами о французских войнах. Найджелу пришлось повернуть замшевые сапоги и показать изящные золотые шпоры. Когда он рассказал о прошлых событиях, сэр Джон похлопал его по плечу, а Мэри взяла его сильную правую руку в свою, и добрый старый священник благословил их. Найджел вынул из кармана золотое колечко, и оно блеснуло в свете факелов.
— Вы, кажется говорили, святой отец, что завтра вам надо отправиться дальше? — спросил он.
— Да, сын мой, меня ждут дела.
— А вы не смогли бы провести здесь утро?
— Конечно. Мне хватит времени, если я выеду в полдень.
— За утро можно многое сделать, — сказал Найджел, глядя на улыбающуюся раскрасневшуюся Мэри. — Клянусь святым Павлом, я и так слишком долго ждал.
— Вот и хорошо, вот и хорошо, — приговаривал старый рыцарь, хрипло смеясь. — Вот так и я сватался к твоей матери, Мэри. В прежнее время поклонники действовали быстро. Завтра вторник, а вторник — счастливый день. Рано или поздно старая гончая нас нагоняет, Найджел, я уже слышу ее лай за своей спиной. Но я рад, что назову тебя сыном еще до того, как она вцепится мне в глотку. Дай мне руку, Мэри, и ты, Найджел, тоже. Примите благословение старика, и пусть Господь хранит вас обоих и пошлет вам все, чего вы заслуживаете, потому что я знаю: во всей нашей привольной стране нет рыцаря благороднее, как нет и женщины, более достойной быть ему женой.
Тут мы оставим их, исполненных радости, с лучезарными надеждами на счастливое, безоблачное будущее, простирающееся далеко-далеко перед мысленным взором их юных глаз. Но, увы, что такое мечты молодости? Как часто они блекнут и увядают, а потом опадают на землю и превращаются в отвратительную гниющую груду у обочины дороги жизни! Однако с нашими героями, слава Богу, не произошло ничего подобного: они росли и расцветали все прекраснее и благороднее, пока весь белый свет не стал дивиться их великолепию.
Шло время и повсюду разносилась молва о подвигах Найджела, имя его и честь окружались все большим уважением; не отставала от него и Мэри: они всегда помогали и поддерживали друг друга на крутой дороге славы. Много стран объехал Найджел, пробивая себе путь к известности, а когда, измученный и опустошенный ратными трудами, возвращался под свой кров, то черпал силы у той, что украшала его очаг. Много лет они прожили в Туайнемском замке, пользуясь всеобщей любовью и уважением. Потом, в свое время, возвратились в Тилфордский дом и счастливо, в добром здравии жили среди вересковых холмов, где полный надежд Найджел провел свои юные годы, прежде чем обратил свое лицо к делам войны. Там же поселился и Эйлвард, когда оставил свой «Пестрый кобчик», где много лет продавал эль лесникам.
Проходят годы: крутится колесо старой прялки, тянется нить. Мудрые и добрые, благородные или смелые — все приходят из тьмы и уходят во тьму. Кто скажет — откуда, куда и зачем? Вот перед нами склоны Хайндхедского холма. В ноябре на них все так же ржаво тлеют папоротники, в июле пылает огнем вереск; но где же теперь господский дом Косфорда? Где старый Тилфордский дом? Что, кроме нескольких серых камней, осталось от громады Уэверлийского монастыря? Но даже всеядное время не может уничтожить все без остатка. Пройдемся, читатель, по оживленному большаку в Гилдфорд. Видите, вон там, где перед нами поднимается высокий зеленый холм, открытые всем ветрам стены святилища с провалившейся крышей? Это часовня св. Катарины, где Найджел и Мэри дали друг другу слово. Под холмом течет извилистая река, а за ней вы все еще можете увидеть темнеющий Чэнтрийский лес — он поднимается по склону до самой голой вершины, на которой, целой и невредимой, стоит часовня Мученика, где старые друзья отбили некогда нападение лучников горбатого владельца Шэлфорда. А вон там, внизу, по обе стороны раскинувшихся меловых холмов, еще видны остатки дороги, по которой Найджел и Эйлвард отправлялись на войну. Теперь обернемся на север и взглянем на провалившуюся извилистую тропинку. Она совсем не изменилась с тех пор. Здесь стоит Комптонская церковь. Пройдите под старую осыпающуюся арку. Пред ступенями этого древнего алтаря покоится безымянный прах Найджела и Мэри. Неподалеку от них лежит их дочь Мод и ее супруг Аллейн Эдриксон; рядом с ним покоятся их дети и дети их детей. Здесь же, на церковном кладбище, возле старого тиса сохранился невысокий холмик — тут Сэмкин Эйлвард вернулся в добрую землю, из которой некогда вышел.
Так они и лежат, как палая листва, которая от века питает великое старое дерево Англии, каждый год дающее все новые побеги, столь же сильные, могучие и прекрасные, что и в прошлом. Прах человеческий может покоиться под ступенями алтаря или в разрушенном склепе, а молва о достойно прожитой жизни, летопись славных дел и служения истине никогда не умрет — она будет вечно жить в душе народа. Представьте себе, читатель, что нас ожидает работа, мы уже готовы за нее взяться, но силы наши только приумножатся, вера в себя возрастет, если мы оторвемся на час-другой от насущных трудов и оглянемся назад, на тех женщин, что жили здесь когда-то и были нежны и сильны духом, или на мужчин, для которых честь была превыше жизни, на всю Англию — зеленую сцену, где несколько коротких лет и нам дано играть свою маленькую роль.
Примечания
1
Восстание Уота Тайлера (1381 г.). — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Война баронов — восстание англо-французских феодалов под предводительством Симона де Монфора-младшего в 60-х годах XIII века против короля Англии Генриха III (1227–1272), окончившееся поражением последнего при Льюисе 24 июня 1265 года.
(обратно)3
Монашеский орден, ветвь бенедиктинского ордена. В основу монашеской жизни легло строгое исполнение бенедиктинского устава.
(обратно)4
Битва при Слёйсе — победа английского флота над французским в 1330 году при короле Эдуарде III (1327–1377).
(обратно)5
Чандос, Джон (?-1370) — известный английский полководец времен Столетней войны.
(обратно)6
Мир вам (лат.).
(обратно)7
Фрэнклин — свободный крестьянин.
(обратно)8
Саладин — получившая распространение в Западной Европе форма имени Салах-ад-Дина (1138–1193), султана Египта в 1171–1193 гг., курда, основателя династии Эйюбидов, который успешно боролся с крестоносцами в Палестине.
(обратно)9
Сенлак — холм под Гастингсом, где 14 ноября 1066 года Вильгельм Завоеватель разбил короля саксов Гарольда, чье войско выстроилось к бою на этом холме.
(обратно)10
Благослови (лат.) — католический аналог православной молитвы «Благослови, душе моя, Господи».
(обратно)11
Грядет, Творец (лат.) — католический аналог православной молитвы: «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяща».
(обратно)12
Клерво — деревня во Франции, знаменитая аббатством, основанным св. Бернардом, который с 1115 года был его настоятелем и там же погребен.
(обратно)13
Законно (лат.).
(обратно)14
Правомочно (лат.).
(обратно)15
Извините! (франц.).
(обратно)16
Извините, друзья! (франц.).
(обратно)17
Черт возьми (франц.).
(обратно)18
Плантагенеты — династия английских королей, правивших страной с 1154 по 1399 год. Родоначальником ее был Жоффруа V, граф Анжуйский, прозванный Плантагенетом, потому что любил украшать свой шлем веточкой дрока (лат. — planta genista).
(обратно)19
Золотые монеты короля Эдуарда III, на которых была вычеканена роза.
(обратно)20
Вовремя (франц.).
(обратно)21
Битва при Фолкерке — победа короля Эдуарда I (1274–1307) над шотландцами под предводительством Уильяма Уоллеса.
(обратно)22
Тувалкайн — искусный кузнец; библейский персонаж (Быт. 4.22).
(обратно)23
Квартал в Лондоне, в старину центр ремесленного производства.
(обратно)24
Имеется в виду разведение овец.
(обратно)25
В 1346 году Эдуард III Английский разгромил при Креси французского короля Филиппа VI.
(обратно)26
Одна из провинций Фландрии (ныне Бельгия).
(обратно)27
Название «сокол» в соколиной охоте в узком значении слова означало только самку большого сокола, самцы назывались «челигами соколиными» или просто челигами. Сокол, сидящий на руке короля и других важных персон, — всегда самка. В широком значении слова «сокол» — это любая ловчая птица.
(обратно)28
Дикомыт — сокол, перелинявший еще на воле.
(обратно)29
«Всем сеньорам, рыцарям и оруженосцам» (старофранц.).
(обратно)30
В средние века собрание придворных дам и рыцарей, занимавшееся разбором любовных споров.
(обратно)31
До половины дней своих (лат. — Пс. 54. 24).
(обратно)32
Конечно (франц.).
(обратно)33
Сент-Омер — город неподалеку от Кале.
(обратно)34
По прозванию (франц.).
(обратно)35
"Благословен Господь Бог мой, который учит руку мою сражаться и пальцы мои воевать" (лат.).
(обратно)36
Даплин — деревня в Шотландии, где в 1332 году шотландцы были разбиты англичанами.
(обратно)37
"Делай, что должен, и будь что будет — вот заповедь рыцаря" (франц.).
(обратно)38
Томас (Фома) Бекет (ок. 1119–1170) — церковный и политический деятель, архиепископ Кентерберийский. Выступал против политики усиления королевской власти, проводившейся Генрихом II (1133–1189). Убит на ступенях алтаря Кентерберийского собора по негласному приказу короля.
(обратно)39
"Видение Уильяма о Петре Пахаре" — поэма английского поэта Уильяма Ленгленда (ок. 1332 —?). В ней отражены настроения народа в период антифеодальных крестьянских восстаний XVI века.
(обратно)40
Эдуард I (1239–1307) — английский король из дома Плантагенетов. При нем в жизнь Англии окончательно вошел парламент.
(обратно)41
Сражение при Куртре — победа 11 июля 1302 года фландрского народного ополчения над французами, потерявшими более 700 рыцарей, отчего это сражение часто называют «битвой шпор».
(обратно)42
Сражение при Стерлинге — победа шотландцев над англичанами в сентябре 1297 года.
(обратно)43
Сражение при Креси — разгром французов англичанами 26 августа 1346 года.
(обратно)44
Сражение при Фолкерке и Даплине — победы англичан над шотландцами в 1298 и 1332 годах.
(обратно)45
Пять английских портов, которым в старину были даны особые привилегии: Гастингс, Ромни, Хайт, Дувр и Сандвич.
(обратно)46
Христофор — один из самых чтимых в средние века святых. По преданиям, защищал от воды, огня и помогал в поисках сокровищ.
(обратно)47
Кадзанд — город в Нидерландах, место победы Эдуарда III над французами.
(обратно)48
Мариенбург — ныне Мальборк, город в Польше, недалеко от Гданьска.
(обратно)49
Черт тебя побери! (франц.).
(обратно)50
Парень (франц.).
(обратно)51
"Обе дочки Пьера" (франц.).
(обратно)52
Боже мой! (франц.).
(обратно)53
Черный дьявол! (франц.).
(обратно)54
Селби — ярмарочный городок в Йоркшире в средние века, место состязаний лучников.
(обратно)55
Ко мне, англичанин, ко мне! (франц.).
(обратно)56
Проклятье! (франц.).
(обратно)57
Благословен (лат.).
(обратно)58
У древних скандинавов так назывались воины, приходившие в бою в совершенное неистовство и полностью забывавшие о страхе.
(обратно)59
Иоанн II Добрый — король Франции с 1350 по 1364 год.
(обратно)60
Бизант — золотая монета, чеканившаяся в Византии в средние века.
(обратно)61
Люблю того, кто любит меня (франц.).
(обратно)62
В средние века Германия именовалась Священной Римской Империей германской нации, и титул императора немецкий король получал лишь после коронования в Риме. Кроме него титул короля еще при жизни отца носил его наследник. Третий германский король — король Богемии (Чехии и Моравии), вассал немецкого короля (императора).
(обратно)63
Пошли! (франц.).
(обратно)64
Довольно! Довольно! Расходись! (франц.).
(обратно)65
Ныне Вислинский залив.
(обратно)66
Ныне Клайпеда.
(обратно)67
Готье де Бриен, герцог Афинский, коннетабль Франции (высший военный чин в средневековой Франции). В 1204 году крестоносцы захватили Константинополь, учредили на месте Византии Латинскую империю и разделили ее на ряд феодальных владений, в том числе герцогство Афинское. В 1312 году его отец Готье де Бриен был изгнан из своих греческих владений отрядом каталонских авантюристов.
(обратно)68
Христианский святой, считающийся покровителем Франции.
(обратно)69
На выручку! (франц.).
(обратно)70
Сдаюсь! Сдаюсь! (франц.).
(обратно)
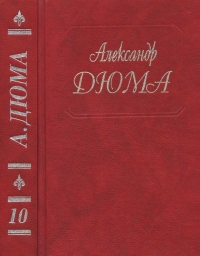

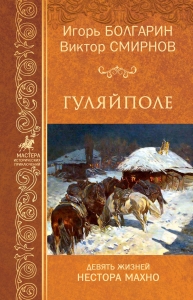
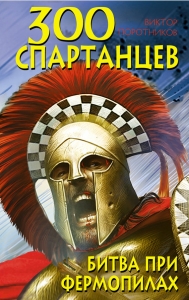


Комментарии к книге «Сэр Найджел Лоринг», Артур Конан Дойль
Всего 0 комментариев