Ксавье де Монтепен Рауль, или Искатель приключений. Книга 1
Часть первая. РАУЛЬ И ЖАННА
I. Дорожная карета
15 ноября 17… года, около девяти часов вечера, почтовая карета, выехавшая из Сен-Жермена, быстро неслась по направлению к Парижу. Четверка лошадей, покрытых пеной и обливавшихся потом, ясно доказывала продолжительность и быстроту езды. Они скакали как будто посреди туманного облака, которое легко можно было заметить при бледном свете двух каретных фонарей. Ночь была необыкновенно темна и вне круга трепещущего света, бросаемого этими фонарями, нельзя было ничего различить.
Порывистый ветер глухо ревел между обнаженными деревьями Сен-Жерменского леса, и казалось, то стонал, подобно молящимся душам, то завывал, как тысячи гневных и грозных голосов. Клубы сухих листьев, вздымаемых вихрем, били в ноздри и грудь лошадей, с испугом поднимавшихся на дыбы: начинал падать частый дождь, перемешанный с довольно крупным градом.
Экипаж въезжал на покатость, почти отвесную, которая шла извилисто у подножия горы. Вдруг настоящий смерч дождя и града огромной массой упал на лошадей и карету. Один фонарь погас, кучер потерял шляпу и начал ругаться, лошади заржали со страху и попятились назад.
— Не надо искушать Бога! — прошептал кучер после минутной борьбы с упрямыми лошадями.
Говоря таким образом, он слез с лошади и подошел к дверцам кареты. В эту минуту слуга в ливрее сошел со своего сиденья и встретился у дверец с кучером. Маленькая кожаная штора, защищавшая внутренность кареты от ветра и от дождя, несколько приподнялась, и громкий голос позвал:
— Жак!.. Жак!..
— Я здесь, кавалер, — отвечал слуга в ливрее.
— Отчего мы не едем? — спросил голос.
— Кучер, который имеет честь везти вас, кавалер, здесь, возле меня; угодно вам спросить его?
Голос повторил вопрос.
— В такую ночь и в такую погоду, — отвечал кучер, — невозможно править лошадьми…
— Ничего нет невозможного, стоит только захотеть… — возразил голос. — Садись на свое место, друг мой, и поедем…
— Лошади не хотят идти.
— У тебя в руках добрый кнут, что же ты не употребишь его в дело?
— Не поможет…
— Попробуй…
— Мы сто раз сломим себе шею…
— Если я рискую сломать свою, которая, надеюсь, получше твоей, то твой предлог никуда не годится….
— Вы властны сделать из своей шеи, что вам угодно, но у меня есть жена и дети; я хочу спасти свою шкуру…
— Итак, — спросил голос энергичным и вместе с тем несколько насмешливым тоном: — итак, ты не хочешь ехать?..
— Решительно.
— Это твое последнее слово?
— Это мое последнее слово.
Наступила минута молчания. Потом голос продолжал с удивительным спокойствием:
— Жак, ты здесь еще?
— Здесь, кавалер.
— У тебя есть золото в карманах?
— Есть.
— Дай десять луидоров кучеру, чтобы он сел на свое место и поскакал!..
— Слушаюсь.
Послышался металлический звук золотых монет в длинном кошельке, который слуга вынул из кармана.
— Эй, приятель! — сказал он кучеру. — Протяни-ка руку…
— Зачем?
— А вот я отсчитаю тебе десять луидоров.
— Не нужно.
— Как не нужно?
— Дайте мне двадцать, дайте сто, я все равно не поеду!
— Слышите, сударь? — сказал Жак своему хозяину. — Он не поедет и за сто луидоров!..
— О! Я слышу как нельзя лучше! — отвечал голос, — остается еще одно средство, и я думаю, оно непременно удастся…
Штора совершенно поднялась. Из кареты высунулась рука, державшая вещь, форму которой в темноте ночи невозможно было различить, и голос продолжал:
— Жак, вот тебе пистолет; размозжи голову этому негодяю, сядь на его место и поезжай доброй рысью.
— Слушаюсь, — отвечал Жак, зарядив с величайшим хладнокровием пистолет, отданный ему хозяином.
Звук взводимого курка произвел магическое действие на бедного кучера.
— Пощадите!.. Пощадите!.. — вскричал он вне себя, бросаясь на колени.
Жак приложил дуло пистолета к виску несчастного, потом спросил, обращаясь к хозяину:
— Прикажете стрелять?
— Нет, если этот негодяй наконец решится повиноваться; да, если он еще будет упрямиться, — отвечал голос.
— Повинуюсь… повинуюсь!.. — вскричал кучер. — Я сделаю все, что вы хотите.
Одним прыжком он вскочил на седло и схватил поводья. Кожаная штора закрылась, и голос продолжал:
— Жак, наблюдай за этим негодяем. Я непременно хочу быть в Париже этой ночью…
По своей неизменной привычке, слуга отвечал утвердительно; кучер, без ума от страха, пустил лошадей во всю прыть, и карета полетела с быстротой молнии по крутизне, на которой, по всей вероятности, могла разбиться ежеминутно. Однако этого не случилось, и через несколько минут езды, такой же фантастической, как скачка Леноты в балладе Бюргера, карета покатилась по дороге, более гладкой и менее опасной. Но лошади были пущены вскачь и быстрота их не замедлилась. Из-под подков сверкали искры; карета скакала по камням, в густом мраке, подобно адскому видению; кучер чувствовал, как ему захватывает дух, и считал себя игрушкой какого-нибудь ужасного ночного духа.
Путешественник, которого слуга называл кавалером и который таким образом рисковал своей жизнью с безумной смелостью, поднял штору своей кареты, высунул голову, несмотря на дождь, бивший ему в лицо, вдыхал холодный ветер и, казалось, с наслаждением упивался быстротой езды.
II. Гостеприимство
За полмили от Сен-Жермена, между деревней Пор-Марли и несколькими домами Марли-ла-Машинь, находится и ныне крошечная деревушка, в которой живут исключительно крестьяне и рыбаки. Эту деревушку называют Ба-Прюнэ.
В то время, когда происходили события, рассказываемые нами, в этом месте находился только один дом, довольно простой наружности; однако же он походил более на дворянский, нежели на крестьянский. Дом этот окрестные жители называли Маленьким Замком. Герб, прибитый над дверями, ясно показывал притязания хозяев на дворянство.
Шагах в пятидесяти от Маленького Замка осенние дожди и воды, текущие с горы, отчасти испортили дорогу. Крестьяне, два дня ремонтировавшие дорогу, вырыли в одной стороне ее глубокую яму, около которой свозили булыжник и песчаник. В этот самый вечер, оставляя свою работу, они поставили на груде камней зажженный фонарь, чтобы предостеречь прохожих об опасности, но ветер погасил его. Непроницаемый мрак закрывал яму, и к ней-то неслась с неимоверной быстротой карета, которую мы оставили у подошвы сен-жерменского спуска. Лошади продолжали скакать во всю прыть, и глухой треск кареты как будто предсказывал близкое ее разрушение. Вдруг они доехали до груды камней, о которых мы говорили, и ударились об нее с невероятной силой. Толчок был страшный: обе передние лошади пали замертво; две другие бросились в сторону и забились между оборванных постромок, между тем, как карета опрокинулась и разбилась. Жалобный стон раздался из кареты и замер. Слуга был отброшен шагов на десять. Третья лошадь, после тщетных усилий, упала на трупы двух первых. Подседельная, обезумев от страха, наконец освободилась от постромок и понесла с собою несчастного кучера. В двадцати шагах находилась река, наполнившаяся от постоянных дождей до того, что ее черные и глубокие волны доходили почти до краев дороги и катились с ужасной быстротой. Человек и животное исчезли в реке, закрывшейся над ними, как прозрачный и подвижный саван. Страшный крик агонии и отчаяния раздался в воздухе; но этот крик тотчас затих и слышался только шум бури и однообразный стук гигантских колес марлийской машины, казавшийся зловещим во мраке ночи.
Несколько минут протекло таким образом. Слуга, лежавший в грязи, подобно безжизненной массе, сделал легкое движение и, после двух-трех бесполезных попыток, наконец сумел встать на ноги. Он ощупал себя с головы до ног с очевидным беспокойством и не без удовольствия удостоверился, что он здоров и невредим: он отделался только довольно сильным ушибом. После подобного падения это, надо признаться, было большое счастье. Заплатив маленькую дань эгоистическому чувству самосохранения, Жак подумал о своем хозяине, которому, по всей вероятности, случай менее благоприятствовал. Он направился ощупью и хромая в ту сторону, где лежала разбитая карета.
— Кавалер!.. — сказал Жак тихим и очень взволнованным голосом.
Ему не отвечал никто.
— Кавалер! — повторил он несколько громче.
Тоже молчание.
«Может быть, — подумал Жак, — барин вышел из кареты».
И чтобы удостовериться тотчас же в основательности своего предположения, Жак засунул руку в одно из окон кареты и ощупал безжизненное тело кавалера.
«Черт возьми! — подумал он, — бедняга, кажется, находится в очень дурном положении!.. Посмотрим…»
Это, разумеется, было сказано в фигуральном смысле: мы уже знаем, что темнота была непроницаемой. Верный слуга отворил окно кареты, оторвал кожаную штору, шнурки которой не мог развязать, и притянул к себе бесчувственное тело, лежавшее в углу. Окно было узкое, и тело могло пройти в него с трудом, однако Жак удвоил усилия, и успех увенчал наконец его настойчивость. Без сомнения, эта операция причинила кавалеру сильную боль, потому что он испустил жалобный вздох несмотря на глубокий обморок.
— Он жив! — вскричал Жак. — Слава Богу!..
Он завернул тело в большой плащ и положил на сырую землю, прислонив головой к колесу разбитой кареты.
— Теперь, — продолжал он, добрый Жак, как видно, любил монологи, — теперь надо найти убежище на ночь… Наверно, хозяин до завтра не доживет, если пролежит в грязи!.. Придется поискать.
Он осмотрелся кругом, надеясь увидеть вдали свет, который мог служить ему маяком и довести до какого-нибудь обитаемого жилища. Надежда его не была обманута. В нескольких шагах показался слабый свет, сиявший в окне Маленького Замка.
— Слава Богу, — вскричал Жак. — Есть надежда!..
Он пошел в ту сторону, откуда сиял огонь, и дорогой чуть было не свалился в яму, главную причину всех несчастий этой гибельной ночи. Жак избавился, однако, от этого нового несчастья и благополучно дошел до дверей дома. У этих дверей висел тяжелый железный молоток в виде головы химеры. Жак ударил им два или три раза. Никто не отвечал на этот зов. Жак отошел от дверей и снова посмотрел в окно. Свет передвинулся на другое место. Стало быть, обитатели дома не спали, и если не отвечали на зов, значит, не хотели отвечать. Это был вывод совершенно логичный. Жак вернулся к дверям и принялся стучать сильнее и дольше, чем в первый раз. Наконец после нескольких минут ожидания, показавшихся слуге кавалера целым веком, в коридоре послышались легкие шаги. Они приблизились к двери, и женский голос — молодой и приятный, хотя и дрожавший от волнения и, без сомнения, также от страха, попросил в узкую форточку дверей:
— Не нарушайте спокойствия обитателей честного и мирного жилища, ступайте своей дорогой!..
И форточка закрылась.
— Ради Бога! — закричал Жак отчаянным голосом. — Ради Бога, выслушайте меня!.. От этого зависит жизнь двух человек!..
Без сомнения, голос бедного слуги был очень трогателен, потому что форточка тотчас же снова раскрылась и голос с удивлением спросил:
— Жизнь двух человек, говорите вы?
— Да, — отвечал Жак, — и если вы мне откажете, то будете отвечать перед Богом!..
— Чего вы хотите?
— Гостеприимства на эту ночь.
— Откуда вы?
— Из Замка Бом, в шести лье от Сен-Жермена.
— Куда вы едете?
— В Париж.
— Кто вы?
— Слуга несчастного дворянина, карета которого разбилась о груду камней, почти напротив вашего дома, и который теперь лежит без всяких чувств, в грязи и под дождем, посреди обломков своей кареты…
— Как зовут вашего хозяина? — сказал голос, видимо, взволнованный.
— Кавалер Рауль де ла Транблэ, — отвечал Жак.
— И вы говорите, что карета этого дворянина разбилась почти напротив нашего дома?..
— Я сказал это и повторяю.
— Не сердитесь на меня за весьма естественное недоверие, — продолжал голос. — Я удостоверюсь в справедливости ваших слов и потом помогу вам, если вам действительно нужна моя помощь.
Форточка затворилась во второй раз, и шаги удалились по коридору. Через минуту в первом этаже растворилось окно и у этого окна показалась женщина с факелом, яркий свет которого осветил дорогу на одну секунду, прежде чем погас от ветра. Этой секунды было достаточно, чтобы осветить мертвых лошадей и обломки кареты. Обитательница Маленького Замка не колебалась более. Жак слышал, как отодвинули запоры, не менее надежные по своей многочисленности, как и по прочности. Ключ щелкнул в массивном замке, и дверь повернулась на своих петлях.
Слуга очутился лицом к лицу с молодой девушкой, черты которой он не имел времени рассмотреть подробно, но с первого взгляда она показалась ему изумительной красавицей. Эта девушка была одета в темное шерстяное платье. Она держала в руке лампу. Взгляд, брошенный ею на Жака, выражал уже не недоверчивость, но участие и сострадание.
— Какая ужасная ночь! — прошептала она, смотря на дорогу и прислушиваясь к шуму ветра и падающего дождя. — Поспешите принести сюда вашего кавалера; я приму его как могу, — прибавила она, обратившись к Жаку.
III. Маленький Замок
Жак не заставил молодую девушку два раза повторять приглашение. Едва она произнесла эти слова, он бросился к карете, взял на руки бесчувственное тело кавалера и вернулся в Маленький Замок скоро, как только позволяла его печальная ноша. Когда он переступил через порог гостеприимного дома, девушка заперла дверь и задвинула все запоры, потом обернулась к Жаку и сказала ему, сделав несколько шагов вперед:
— Идите за мной.
Жак повиновался. В эту минуту он находился со своей проводницей в длинной и узкой прихожей. Стены были голы: каменные плиты покрывали пол, направо и налево были двери.
Девушка отворила третью дверь направо и вошла в большую комнату, куда Жак последовал за нею. Она поставила лампу на высокий камин с грубыми скульптурными украшениями, зажгла две свечи, стоявшие в довольно плохом подсвечнике, и сказала Жаку, указывая постепенно на каждую вещь, о которой говорила:
— В этом алькове стоит кровать, возле камина лежат дрова, затопите его, приготовьте постель и уложите вашего хозяина… Я вернусь через десять минут спросить, не нужно ли вам чего-нибудь…
Не ожидая ответа и благодарности, девушка взяла лампу и вышла из комнаты. Шаги ее послышались на лестнице, которая вела в верхний этаж.
Комната, в которую она вошла, была средней величины, и в ее убранстве, немножко обветшалом, видна была роскошь прошлого века. Стены были обтянуты узорчатой кордовской кожей. Полинялый гобелен с мифологическими рисунками, покрывал пол. Два или три больших фамильных портрета как будто готовы были выскочить из своих рам, украшенных гербами. Герб, такой же, как на портретах, повторялся во многих местах между каминными украшениями. Стулья были из черного дерева, так же, как и кровать с витыми столбами. Вокруг кровати тяжело драпировались широкие занавеси из пунцовой шелковой материи.
Под этими занавесями лежала женщина с закрытыми глазами и полуоткрытыми губами, скрестив руки на груди. Мертвенная бледность лица ее казалась еще бледнее от сильного отсвета, который бросали на него необыкновенно яркие занавеси. Эта женщина казалась спящей, но частые судорожные движения губ, шептавших прерывистые слова, не вязались со сном. Страдание обнаруживалось во всех чертах ее лица, во впалых щеках и в черных пятнах вокруг ее больших глаз. Лет ее, нельзя было определить с первого взгляда: ей могло быть и около сорока и около шестидесяти. Однако видно было, что она некогда была красавицей. Руки ее были белы, почти прозрачны, а необыкновенная худоба тела ясно читалась сквозь покрывавшее ее одеяло. Она раскрыла глаза и сделала движение в ту минуту, когда девушка вошла в комнату и приблизилась к постели.
— Жанна, — сказала она сухим и резким тоном, — где ты была?.. Зачем ты оставила меня так надолго? Ты знаешь, что я не люблю оставаться ночью одна.
— Вы, верно, слышали, добрая матушка, как сейчас стучались к нам в дверь? Не правда ли? — кротко спросила девушка.
— Слышала, — отвечала больная, — это, верно, были какие-нибудь бродяги… Может быть, воры.
— Совсем нет, добрая матушка; какой-то дворянин со своим слугой пали жертвами ужасного происшествия.
— Надеюсь, что ты велела им идти своей дорогой…
— Это было невозможно!
— Невозможно, говоришь ты? А отчего это, позволь спросить?
— Потому что карета этого дворянина сломалась и сам он ушибся, может быть, очень опасно; он теперь лежит без чувств.
— Что же ты сделала для него?
— Все, что повелевала сделать любовь к ближнему; я оказала ему гостеприимство.
Эти последние слова необыкновенно подействовали на больную; они как будто гальванизировали ее некоторым образом. Она приподняла свое исхудалое тело, облокотившись на оба локтя; глаза ее, оживленные на минуту, бросили молнию, и она повторила хриплым голосом:
— Ты оказала ему гостеприимство!
— Да, матушка!
— Оказала гостеприимство! — продолжала больная, отделяя каждое свое слово неприятным ироническим смешком. — Вот как! Впрочем, чему же тут и удивляться? Разве мы не так богаты, что не знаем, куда девать наши доходы? Разве у нас нет излишка в хлебе, чтобы питаться, излишка в дровах, чтобы греться? Разве у нас не слишком много масла, чтобы освещать нас? И притом не прекрасный ли поступок — растворить двери для прохожих и разделить с ними всю эту роскошь или, как ты говоришь, оказать им гостеприимство?.. Гостеприимство! Ха-ха-ха! Вот как! Стало быть, наш дом гостеприимен?.. А я этого и не знала… Признаюсь, все это мне кажется очень смешным!..
Проговорив все это, больная опрокинулась назад, задыхаясь от страшного припадка истеричного смеха. Девушка хотела было взять ее за руку, но она отдернула ее.
— Но Боже мой! Скажите же, что я должна была делать? — робко осмелилась спросить Жанна.
— Она еще спрашивает!.. — вскричала больная.
— Да, матушка, я спрашиваю.
— Надо было запереть двери и не впускать этих искателей приключений!
— Вы хотели бы, чтобы этот несчастный умер у наших дверей?
— Умер!.. Умер!.. Кто тебе сказал, что он умер бы? Притом какое нам до него дело?.. Никто на свете не заботится о том, живы мы или умерли… Не будем же и мы заботиться, живут другие или умирают!.. Будем делать другим то, что они делают нам!.. Это также поучительно!..
Больная замолчала, в новом припадке судорожной веселости она обернулась к стене и, несмотря на все настоятельные просьбы дочери, не хотела более говорить ни единого слова.
— Бедная матушка, — шептала Жанна, — как она страдает!.. Как сильно душевные и телесные страдания изменили и раздражили ее характер!.. Бедная матушка!..
И, не произнося ни одной жалобы на полученный прием, который, однако, казался ей незаслуженным, Жанна тихо вышла из комнаты и спустилась по лестнице на нижний этаж. Она постучалась в дверь той комнаты, в которую ввела незнакомцев. Жак спешно отворил ей.
Большой огонь был разведен в камине. Кавалер лежал на постели, куда заботливый слуга положил его, совсем одетого; глаза больного были закрыты, и он не подавал никакого признака жизни.
— В каком он положении? — спросила Жанна.
— Сердце бьется, — отвечал Жак, — но он все еще без чувств, и я право не знаю, как остановить кровь…
— Кровь!.. — вскричала молодая девушка с невольным трепетом. — Разве идет кровь?..
— Посмотрите…
И Жак, подойдя к кровати, поднял голову своего барина. Пурпуровая струя крови действительно пробивалась сквозь волосы из раны, находившейся повыше затылка. Распростертый, как мы сказали, на кровати, залитой кровью, Рауль не мог не внушить живейшего участия. Его бледное лицо оттенялось прекрасными каштановыми волосами, несколько приподнятыми по моде того времени, но не напудренными. Ему, по-видимому, было около двадцати восьми или тридцати лет, не более. Дорожный кафтан из фиолетового бархата, с золотой окантовкой, и атласный серый жилет обрисовывали изящную и гибкую талию. Лосинные панталоны выказывали совершенство ног и опускались в мягкие ботфорты с серебряными шпорами. Ничто не могло сравниться с удивительной тонкостью его белья, с красотой кружев на его жабо и манжетах. Руки и ноги, маленькие и аристократической формы, согласовывались с безукоризненной красотой лица.
IV. Обои
Картина, которую представляла в эту минуту комната, занятая Раулем, была достойна кисти искусного художника. Эта комната, повторяем, очень обширная, была обита старинными обоями в готическом вкусе, изображавшими царицу Савскую, подносящую дары царю Соломону. Наивный живописец, по рисункам которого были сделаны эти обои, вздумал придать большей части персонажей угрюмые и свирепые физиономии. Сам Соломон, несмотря на свой восточный костюм, походил более на атамана разбойников, нежели на царя, мудрость и красота которого вошли в пословицу; его придворные напоминали отставных солдат, а иерусалимские дамы имели вид женщин легкого поведения.
Среди всей этой странной обстановки, одна царица Савская имела черты тонкие и приятные, исполненные прелести и правильности. Ее прекрасное и выразительное лицо привлекало взоры. Но более всего необыкновенно странное сходство, о котором мы сейчас будем говорить, делало эту фигуру достойной внимания и участия. На полу не было ковра. Кровать, стоявшая в глубоком алькове, была дубовая, с резными украшениями, так же, как и стулья, и высокий, довольно неказистый шкаф. Яркое пламя в камине, две свечи и маленькая лампа освещали эту готическую меблировку до малейших подробностей.
Мы уже знаем, что Жак, стоя возле кровати, осторожно приподнимал голову своего хозяина. Слуге этому было около двадцати пяти лет. Лицо он имел откровенное. Сквозь грязь, покрывавшую его платье, виден был цвет его ливреи, красной с золотом.
Жанна, стоявшая в двух шагах от Жака, с ужасом и состраданием смотрела на рану кавалера. Минуту назад мы говорили о поразительном сходстве, и в самом деле, по странной игре случая, которая бывает чаще, нежели думают, головка молодой девушки была верным воспроизведением царицы Савской. Это были также белокурые волосы, изумительно густые и вьющиеся от природы; те же глаза, темно-голубые, несколько продолговатые, с длинными черными ресницами; тот же овал лица, такие же губы. Словом, Миньяр, модный живописец того времени, не сумел бы написать портрета более похожего, если бы вздумал перенести на полотно восхитительное личико Жанны. Однако Жанне едва исполнилось семнадцать лет, а обоям — более двухсот.
— Боже мой! — повторил слуга. — Я не знаю, право, как остановить кровь… Посмотрите, как быстро течет она!.. Таким образом, мой бедный хозяин, пожалуй, лишится мало-помалу сил, а, может быть, и жизни…
— С Божьей помощью, мы поможем ему, — возразила Жанна.
Она отворила большой шкаф и вынула широкий кусок тонкого полотна, который подала Жаку, говоря:
— Приготовьте бинт и компрессы, а я пока схожу за тем, что нужно…
Жанна вышла из комнаты и тотчас же вернулась с чашкой, наполненной соленой водой. В ней она намочила компрессы, приготовленные Жаком, положила на рану и завязала голову. Кровь тотчас остановилась.
— Вы видите, — сказала Жанна.
В это время кавалер вздохнул глубоко, но с видимым облегчением. Глаза его раскрылись, но тотчас же закрылись, болезненно пораженные ярким светом свечей и огня в камине. Обморок продолжался, но легкий румянец понемногу покрывал бледные щеки.
— Нет никакой опасности, — сказала молодая девушка. — Несколько часов сна вылечат вашего барина.
Потом, исполнив обязанности гостеприимства, за которые мать так горько ее упрекала, Жанна уступила весьма естественному чувству любопытства и расспросила Жака о причинах, печальные последствия которых были налицо. Слуга рассказал ей с величайшими подробностями все то, что мы уже сообщили нашим читателям.
— Но, — спросила Жанна, — какая же причина побуждала вашего хозяина пренебречь до такой степени мраком и бурей?
Жак принял вид таинственности и сказал:
— Мне совершенно неизвестна эта причина: кавалер не обязан давать мне отчета… Вы окажете кавалеру важную услугу, — прибавил он через минуту, — если одолжите мне маленький фонарь.
— Зачем? — спросила Жанна.
— Нужно отыскать на дороге, посреди обломков кареты, несколько вещей, о потере которых он стал бы очень сожалеть.
Жанна опять отперла шкаф, вынула фонарь и подала Жаку, который тотчас же зажег и вышел, оставив дверь не запертой. Он скоро вернулся и принес пару превосходных пистолетов, в серебряной оправе, и небольшую черепаховую шкатулку, с инкрустациями из перламутра, слоновой кости и золота.
— Вы все нашли? — спросила Жанна.
— Нет еще, — отвечал лакей и тотчас вышел опять. Вторичное отсутствие Жака продолжалось долее первого. В это время Жанна рассматривала герб, вырезанный на золоте в середине черепаховой шкатулки; такой же герб был вырезан и на ложе пистолета, на серебряной бляхе. Этот герб принадлежал к числу тех, которые на геральдическом языке называются гербами, изъясняющими происхождение фамилии. Он представлял золотую осину в красном поле, с девизом: ТРАНБЛЭ НЕ ДРОЖИТ.
Жак воротился, сгибаясь под тяжестью небольшого кожаного чемодана, который нес на плече; он стал на одно колено, чтобы легче сложить свою ношу; тяжесть была так велика, что чемодан вырвался у него из рук и упал на пол со страшным стуком. Без сомнения, этот чемодан или пострадал от сильного толчка в то время, как карета разбилась, или его кожа была уже очень стара, потому что теперь при падении в одном из углов его образовалась большая трещина и множество золотых монет со звоном покатились во все стороны.
— Сколько золота! — невольно вскричала Жанна, и зрачки ее расширились при виде драгоценного металла, но ни на один миг алчная мысль не промелькнула в голове ее.
— Да, — отвечал Жак, улыбаясь, — и славное золото!.. Только что вышло из-под пресса. Посмотрите… Посмотрите!
И слуга, как бы для подтверждения своих слов, поднял горсть золотых монет, поднес их к свечке для большего блеска, а потом подал девушке. Жанна взяла их и с любопытством начала рассматривать. Это действительно были красивые золотые монеты, совершенно новые, с изображениями различных европейских государей. Тут были французские луидоры в двадцать четыре и сорок восемь франков, и испанские квадрупли, и английские гинеи, и немецкие дукаты, и многие другие монеты, перечисление которых заняло бы слишком много времени.
— Неужели все это принадлежит вашему хозяину? — вскричала Жанна, не видавшая даже и во сне такой огромной суммы.
— Все это? — повторил слуга, как будто не совсем поняв смысла этих слов.
Она повторила свой вопрос.
— Но кавалер имеет в двадцать раз, во сто, в тысячу раз более золота, чем вы видите здесь, — отвечал Жак. — Хотя, может быть, через шесть недель в этом чемодане не останется и двадцати пяти луидоров…
— Стало быть, ваш хозяин очень богат? — спросила изумленная Жанна.
— Так богат, — возразил слуга, — что можно с достоверностью сказать, он сам не знает своего богатства!..
V. Мать и дочь
Жанна сказала, мы уже знаем, что несколько часов сна вылечат больного; но девушка была не очень искусным доктором и предсказания ее не должны были осуществиться. Или кровь была остановлена слишком рано, или сильный ушиб причинил внутреннее расстройство, только с кавалером сделалась сильная горячка, и зловещий ангел бреда сел у его изголовья.
Жанна принесла Жаку хлеба, вина, холодной говядины и оставила его с больным; поэтому, она всю ночь не знала, что происходило в нижнем этаже. Когда она вошла в спальню матери, та спала или, по крайней мере, притворялась спящей. Жанна тихо прошла мимо нее и дошла до своей комнатки, смежной со спальней матери.
На другой день она встала на рассвете, чтобы узнать о состоянии больного. Она надеялась, как и накануне, незаметно пройти мимо кровати матери, но та подстерегала ее, как хищная птица свою добычу, и остановила ее, когда девушка готова была выйти.
— Пожалуйте сюда, — сказала она. — Я хочу говорить с вами…
Жанна подошла к матери, поцеловала ее руку и спросила, хорошо ли она спала.
— Очень дурно! — отвечала больная, — и по твоей милости!
— Жанна потупила голову и не отвечала.
— Да, — продолжала мать, — именно по твоей милости: ты сокращаешь мою жизнь своим сумасбродным неповиновением и упрямым характером!.. Ты не хочешь вспомнить, что каждая новая черта твоей преступной расточительности отнимает день моей жизни… что у нас ничего не осталось… что голод скоро предупредит агонию болезни, потому что ты каждый день отнимаешь у меня кусок хлеба для посторонних, которым он не нужен!..
— О! Матушка, — прошептала Жанна, задыхаясь от слез, — извините меня, умоляю вас!.. Я не знала, что делаю дурно!..
— Ну, хорошо! — продолжала больная, — дело сделано, не будем более говорить об этом! Но я надеюсь, что сегодня же утром, сейчас же, сию же минуту ты выгонишь этих людей, которых приняла так некстати, и присутствие которых в моем доме беспокоит меня и надоедает мне!..
— Да, матушка… — пролепетала Жанна.
— Ступай же и поторопись!.. Не забывай, что ты мне нужна, и не жертвуй матерью ради людей, совершенно нам посторонних…
— Да, матушка… — опять отвечала девушка.
Она вышла из комнаты и медленно спустилась по лестнице, придумывая, каким образом исполнить данное ей неприятное поручение. Но бедняжка ничего не могла придумать и, когда дошла до порога комнаты больного, она еще не знала, какими словами скажет ему, чтобы он искал более гостеприимное убежище. Сердце ее сильно билось. Однако ее поддерживала смутная надежда найти кавалера де ла Транблэ на ногах и готовым к отъезду.
— Могу я войти? — спросила она, постучавшись в дверь.
— Можете, — отвечал Жак шепотом.
Девушка отворила дверь, и первый взгляд ее обратился к алькову. Кавалер все еще лежал и, казалось, спал глубоким и тяжелым сном. Только бледность еще более вчерашнего покрывала его лицо. Жанна тотчас поняла, что Раулю хуже.
— Он дурно провел ночь, не так ли? — спросила она.
— Ужасно!.. — отвечал слуга.
— Что же с ним было?..
— Почти тотчас, как вы ушли, с моим бедным кавалером сделалась горячка. Он бредил, не узнавал меня, говорил беспрерывно самые безумные и бессвязные вещи; потом мало-помалу слабость заступила это ужасное волнение, он заснул и вот уже около двух часов погружен в сон, который еще продолжается…
— Что делать? — прошептала Жанна.
— Я ждал, когда вы придете — нужно сходить за доктором в Сен-Жермен.
— Да, вы правы… — сказала девушка, — ступайте, ступайте скорее.
— Насколько я мог судить о расстоянии вчера вечером, — продолжал слуга, — отсюда до города должно быть недалеко…
— Если вы поторопитесь, вы вернетесь меньше, чем через час.
— О! Я не буду терять ни минуты! — вскричал Жак.
И, присоединяя действие к словам, он поспешно вышел. Жанна заперла за ним дверь и медленно вернулась, размышляя обо всем, что было горестного в ее положении. Что она скажет матери? Как извинится за то, что нарушила ее приказания? А с другой стороны, как их исполнить?.. Как сказать этому несчастному больному, может быть, умирающему: «проснитесь и оставьте дом, в котором вас не хотят более видеть…» Жанна предпочитала перенести гнев матери и подвергнуться ее несправедливым упрекам. Однако, готовясь вынести грозу, она пошла посмотреть, не проснулся ли де ла Транблэ.
Рауль все еще спал. Разбросанные в беспорядке волосы отчасти закрывали его лоб, выказывая почти женскую белизну его. Сжатые брови и трепещущие губы показывали страдание, несмотря на сон. Мы уже знаем, что Рауль был хорош собой. В эту минуту в красоте его было что-то настолько трогательное, что сердце женщины не могло устоять перед чувством нежного сострадания.
Жанна долго на него смотрела и, возвращаясь к матери, была счастлива при мысли, что сможет пострадать за этого молодого человека, такого бледного и прекрасного. Почти всегда, о! дочери Евы, преданность в вашем сердце показывает дорогу любви!
— Ну?! — с живостью спросила больная, как только Жанна вошла в ее комнату. — Уехали они?..
— Нет, матушка, — отвечала Жанна с твердостью.
— Как нет?.. Я слышала, как отворили и затворили дверь на улицу?
— Вы не ошиблись… это слуга пошел в Сен-Жермен…
— Конечно за каретой, чтобы увезти своего господина?..
— Нет, привезти доктора к умирающему кавалеру…
— Доктора? — закричала больная. — Доктора?.. стало быть, эти два авантюриста навек поселились в моем доме?.. Разве нужен доктор для пустого ушиба?.. Для царапины… Тогда как я медленно умираю без врача!.. Каково это?.. А позвольте спросить, кто заплатит за визит этому доктору?..
— О! Будьте спокойны, матушка… — отвечала Жанна с горечью. — Этот больной не будет стоить вам ничего: он богат.
— Богат!.. Откуда ты знаешь?.. Ты веришь, может быть, тому, что сказал тебе слуга?.. Разве ты не знаешь, что люди лжецы?.. Что самые бедные более всего говорят о богатстве?..
— Мне ничего не говорили, матушка, я сама видела.
— Что?.. Что ты видела?
— Золото этого незнакомца.
— Верно, несколько жалких луидоров.
— Тысячи луидоров, матушка, полный чемодан, и такой тяжелый, что слуга насилу его дотащил… когда слуга хотел снять чемодан с плеч, он уронил его… кожа треснула от тяжести и деньги покатились по полу…
— И ты дотрагивалась до этого золота?.. Ты брала его в руки?..
— Брала…
— Ты правду говоришь, дитя мое? — спросила больная, вдруг переменив тон и смягчив, как бы по волшебству, свой грубый и резкий голос.
— Истинную правду, — отвечала Жанна. — Кажется, матушка, я никогда вам не лгала!..
— Ну! — продолжала больная. — Ты хорошо поступила, моя милая!.. Признаюсь, сама не знаю, почему на меня нашло какое-то предубеждение против этого больного путешественника, но теперь я чувствую, что это предубеждение пропадает и что твое мнение решительно изменило мои мысли… Молод он?
— Молод, по крайней мере, так кажется.
— Хорош собой?
Жанна невольно покраснела, однако тотчас же ответила:
— Черты его показались мне очень правильными, но я видела его спящим и в то время, когда он был без чувств; притом, бледность должна очень его портить…
— Но все-таки, несмотря на это?.. — прошептала больная с настойчивостью.
— Он хорош, — сказала молодая девушка.
— Ты думаешь, что он дворянин?..
— Я в этом не сомневаюсь.
— Ты знаешь, как его зовут?..
— Слуга назвал его кавалером Раулем де ла Транблэ.
— Да пошлет Господь скорое выздоровление этому прекрасному кавалеру!.. — сказал больная со странной улыбкой. — Я помолюсь за него моей святой покровительнице…
В эту минуту постучались в дверь с улицы. Жанна подошла к окну, чтобы посмотреть. Это был Жак, вернувшийся назад с доктором. Девушка поспешила сойти вниз, чтобы отворить дверь пришедшим, и немедленно привела их к кавалеру.
Рауль проснулся в ту минуту, когда доктор, Жанна и слуга вошли в комнату. Он открыл глаза, приподнялся и обвел вокруг мутным взором, потом упал и голова его снова прислонилась к подушке, запачканной кровью. Очевидно, он не сознавал ни своего положения, ни того, где находится.
Доктор подошел к кровати, взял руку Рауля, пощупал пульс, потом развязал бинты и взглянул на рану. Девушка и слуга следовали за всеми его движениям с тревожным волнением. Окончив свой продолжительный и подробный осмотр, доктор покачал головой.
— Есть опасность? — спросила Жанна.
— К несчастью, есть, — отвечал он.
— Однако рана, кажется, не глубока?
— Рана ничего не значит и не она беспокоит меня.
— Чего же вы боитесь?
— Воспаления в мозгу…
— Ах, Боже мой! — вскричала молодая девушка, инстинктивно испугавшись этих слов, хотя и не совсем понимала смысл их.
— Да, — продолжал доктор, — потрясение было ужасное. Посмотрите на мутность и слабость взгляда, пощупайте лихорадочное биение пульса. Я опасаюсь нервной горячки, а может быть, и столбняка.
— Что же надо делать?
— Я пущу кровь.
— А потом?
— Потом мы увидим.
— Если болезнь, которой вы опасаетесь, случится, когда это будет?
— Сегодня же.
— И сколько времени продолжится?
— По всей вероятности, столбняк окончит жизнь больного в несколько часов… Нервная горячка действует не так быстро, и в продолжение девяти дней можно еще сохранять некоторую надежду.
Заметим мимоходом, что все это говорилось при Рауле, но таково было положение молодого человека, что он не мог ни слышать, ни понимать слов, доходивших до его слуха.
— Вам нужно что-нибудь? — спросила Жанна. — Может быть, я мешаю вам… скажите, и я оставлю вас одних.
— Мне нужны таз, в который я мог бы пустить кровь, и полотняный бинт, чтобы завязать руку, более ничего.
Девушка тотчас подала все, что у ней спрашивали, и вышла.
VI. Мадлена де Шанбар
Наступила минута рассказать нашим читателям, кем были Жанна и ее мать. Наши объяснения будут довольно кратки. Лет за тридцать или тридцать пять до того времени, в которое происходят рассказываемые нами события, некто Гильйом де Шанбар, последняя отрасль фамилии, некогда могущественной, но выродившейся и почти обедневшей, получил в наследство отцовское имение Маленький Замок и несколько клочков плохой земли, принадлежавшей ему. Гильйом вступил в военную службу; но так как недостаточное состояние не позволяло ему купить полк, он прозябал в низших чинах. Поэтому мундир скоро опротивел ему, и он наконец отказался от службы. Приехав в свое имение, Маленький Замок, он проводил жизнь в том, что удил рыбу в прекрасном рукаве Сены, которая, приведя в движение огромные колеса ренкен-сюалемской водной машины, протекала перед его домом, и время от времени стрелял зайцев или кроликов в небольшом поле, находившемся возле самого его забора. Без сомнения, эти маленькие удовольствия были очень однообразны и не составляли счастья, но все-таки, в своем роде, это было счастье, и Гильйом утешался им, убаюкиваемый тихими волнами своего безмятежного существования.
Дьявол, недовольный тем, что на земле есть человек, не жалующийся на свою участь, скоро вздумал вмешаться в дела Гильйома. Чтобы нарушить спокойствие его жизни, надо было вбить ему в голову любовь. Дьявол не пропустил этого случая.
Приехав однажды в Париж, Гильйом влюбился в очень хорошенькую девушку, называвшуюся Мадленой Обри. Не говоря уже о том, что Мадлена не имела за душой ни копейки, она еще и слыла за красавицу не очень строгую в отношении добродетели. Поэтому Гильйом сначала явился к ней не как жених, а только как влюбленный, К несчастью, он имел дело с хитрой женщиной, удивительно умевшей пользоваться слабостями тех, с кем она имела дело. Мадлена тотчас поняла, какую пользу может она извлечь из чрезмерного простодушия доброго Гильйома. Первый раз в жизни представлялась она жестокою; и в то же время, как это необыкновенная жестокость ставила ее в мыслях Гильйома на пьедестал высочайшей добродетели, хитрая девушка раздувала в нем огонь страсти замысловатым, но опытным кокетством. Сети были расставлены очень искусно. Гильйом должен был попасть в них и действительно попал. Не прошло и трех месяцев, как он предложил Мадлене Обри свое звучное имя, твердую руку и Маленький Замок, который мы уже знаем. Все это, разумеется, было принято. Мадлена Обри сделалась госпожою де Шанбар.
В одно время с этой женщиной несчастье вошло в дом бедного Гильйома. Мадлена сочетала в себе все пороки: гордость, беспорядочность, жажду к удовольствиям и разврату, а Гильйом был и слишком слаб и слишком влюблен, чтобы постараться положить преграду этим дьявольским страстям. Земля, принадлежавшая к Маленькому Замку, скоро была заложена, и потом мало-помалу перешла в другие руки.
Мадлена родила дочь, которую назвали Жанной. Рождение этого ребенка ни в чем не изменило наклонностей и привычек матери. Между тем Гильйом совершенно разорился. Ему оставалось всего-навсего только его дом и небольшая пенсия из сумм короля. Тогда жизнь сделалась для него совершенно невыносимой. Мадлена каждый день с неслыханной горечью и запальчивостью упрекала мужа в разорении и бедности, которых сама же была единственной причиной. Гильйом не мог перенести этой жизни и умер с горя.
Вдова его была еще хороша; в ресурсах у нее недостатка не было, тем более что она не отступала ни перед чем, чтобы достать себе денег, и если до сих пор не совершала преступлений, так потому только, что не представлялся случай.
Такая жизнь продолжалась пять лет. В конце этого времени Мадлену постигла изнурительная болезнь. Она была вынуждена оставить Париж, где поселилась после смерти мужа, и возвратиться в Маленький Замок. Скоро она уже не могла вставать с постели. Истратив деньги, вырученные за проданные вещи, она продала жиду и свой дом за небольшую сумму, решив провести свои последние дни в Маленьком Замке. Несколько лет мать и дочь содержали себя на эти деньги, потому что жили одни, не имея возможности нанять служанку.
В ту минуту, когда мы познакомились с матерью и дочерью, деньги, полученные от жида, подходили к концу; никаких других средств к существованию не имелось, и перспектива томительной нужды, в соединении с постоянными страданиями, окончательно испортила характер Мадлены. Бедная Жанна с ангельским терпением переносила запальчивые вспышки материнского гнева. Молча и покорно склоняла она голову, хотя не имела недостатка ни в энергии, ни в твердости. Характером своим она была обязана себе самой и советам, которые в детстве давал ей отец, но у нее была одна из тех редких натур, в которых глубоко запечатлевается все доброе и прекрасное и на которых зло не оставляет никаких следов. Мать никогда не говорила Жанне о религии, но молодая девушка была инстинктивно благочестива. Жанна читала Евангелие с уважением и неограниченным восторгом, обожая Бога во всех его творениях, в водах и в лесах, в цветах и птицах, и эта простая и, некоторым образом, первобытная набожность, стоила, по нашему мнению, всякой другой.
Теперь, когда мы представили читателям двух важных действующих лиц нашего рассказа, будем продолжать его, не прерывая.
VII. Доктор
Предсказания доктора осуществились в точности. Больной избегнул смертоносного столбняка, но через два часа после кровопускания сделалась нервная горячка. Доктор, которому Жак заплатил заранее, и очень щедро, поместился возле кровати кавалера. К вечеру горячка усилилась и бред возобновился с большей силой, чем в прошлую ночь. В продолжение сорока восьми часов сряду доктор думал каждую минуту, что Рауль умрет; но затем больному сделалось гораздо лучше: бред прекратился и Рауль снова пришел в себя.
«Это мгновенный проблеск угасающей лампы! — думал доктор… — последнее усилие молодости, хватающейся за жизнь!.. скоро все будет кончено!..»
Иначе он не мог объяснить себе внезапного проявления сил в молодом человеке.
Придя в себя, Рауль смутно припомнил происшествия, сопровождавшие его отъезд из Сен-Жермена в бурную ночь, и катастрофу, последовавшую за этим. Он узнал своего верного Жака и угадал без труда, что незнакомец в черном платье, с умной, но льстивой физиономией, сидевший в креслах у его кровати и державший в руках длинную трость с набалдашником из слоновой кости, был доктор. Потом Рауль расспросил Жака, и ответы слуга подтвердили предположения господина. Де ла Транблэ обнаружил желание остаться на минуту наедине с доктором. Жак тотчас вышел из комнаты.
— Милостивый государь, — сказал ему Рауль, — придвиньтесь ко мне, прошу вас: я чувствую, что голос мой очень слаб…
Доктор поспешил исполнить просьбу больного. Рауль продолжал:
— Я буду просить вас оказать мне величайшую услугу, какую только человек может оказать другому человеку.
— Говорите, — сказал доктор, — я слушаю вас благоговейно.
— Но, — продолжал кавалер, — обещаете ли вы мне сделать то, о чем я буду просить вас?
— От меня ли это зависит?
— От вас.
— Это ни в чем не может скомпрометировать меня?
— Решительно ни в чем.
— Если так, я обещаю вам сделать все, что вы хотите.
— Вы клянетесь?
— Пожалуй, клянусь.
— Ну!.. Скажите мне правду.
— Правду? — повторил доктор с очевидным удивлением. — Насчет чего?
— О состоянии моего здоровья.
— Вы хотите знать, что я думаю о вашей болезни?
— Да.
— Задавайте вопросы: я буду отвечать.
— Во-первых, какая у меня болезнь?
— Нервная горячка.
— Был я в опасности?
— Да.
— А теперь?
Доктор колебался. Рауль повторил вопрос.
— Надеюсь, что нет, — сказал наконец доктор.
— Заклинаю вас, — продолжал кавалер, — хорошенько подумать о слове, которое вы мне дали сейчас!.. Для меня чрезвычайно важно знать в точности, сколько времени остается мне жить… От этого зависит весьма многое… Связи, соединяющие меня с высокими особами в королевстве, не могут быть вдруг разорваны; словом, моя жизнь не принадлежит мне и я не имею права умереть, не будучи предупрежден заранее…
Эти странные слова и хладнокровие, с каким они были произнесены, произвели на доктора глубокое впечатление.
«Этот человек, — подумал он, — высокого ранга, я могу откровенно говорить с ним, истина не испугает его…»
— Вы слышали, что я вам сказал? — спросил Рауль.
— Вы спрашивали меня, — отвечал доктор, — существует ли еще опасность?.. Существует.
— Стало быть, я могу умереть каждую минуту?..
— Да.
— Подумайте хорошенько и скажите, сколько часов могу я еще прожить?
— Я не могу отвечать на ваш вопрос положительно; в настоящем случае наука нема…
— Бред возвратится?
— Без всякого сомнения.
— Скоро?
— Вместе с припадком горячки, который скоро наступит.
— Итак, если я должен сделать какие-нибудь распоряжения, мне надо поторопиться, не правда ли?..
— Советую…
— Благодарю, — сказал Рауль, — благодарю тысячу раз, что вы положились на мое мужество и не скрыли от меня ничего… Теперь еще один вопрос… Остается ли надежда на выздоровление?
— Без сомнения, в вашем возрасте природа представляет множество средств до того сильных, что никогда не надо отчаиваться.
— Однако эта надежда очень слаба, не правда ли?
— Признаюсь.
— Благодарю еще раз… Теперь, когда вы сказали мне все, будьте так добры, позовите моего слугу.
Жак ждал в сенях и тотчас прибежал к барину.
— Друг мой, — прошептал ему кавалер, — возьми из чемодана двадцать пять луидоров, проводи доктора до дверей, отдай ему деньги и дай понять осторожно и вежливо, что я желаю, чтобы он более не возвращался. У меня есть причины действовать таким образом.
Жак тотчас повиновался. Хотя доктор нашел этот поступок очень необычным, однако в глубине души он обрадовался, потому что, считая Рауля уже при смерти, предпочитал, чтобы он перешел от жизни к смерти без его посредничества. Жак вернулся, исполнив поручение.
— Друг мой, — сказал кавалер, — через несколько часов меня не будет на свете…
— Что вы, кавалер! — вскричал слуга, остолбенев. — Что вы? Полноте!.. Это невозможно!..
— До того возможно, — возразил Рауль с улыбкой, — что это непременно случится… и, говоря откровенно, я не очень огорчаюсь… Заслуживает ли эта жизнь того, чтобы сожалеть о ней?
Жак не мог удержаться от слез; кавалер прибавил с живостью:
— Зачем приходить в отчаяние? Это ни к чему не послужит, да теперь и не время… Я должен отдать тебе приказания… Исполнение этих приказаний требует чрезвычайной поспешности, притом надо действовать очень осторожно… Я могу положиться на тебя, не так ли?..
— До самой смерти! — пролепетал Жак, рыдая.
— Ты знаешь, что я торопился возвратиться в Париж в ту проклятую ночь, в которую случилось с нами это несчастное происшествие?..
— Знаю, кавалер.
— Судьба решила иначе: вместо того, чтобы быть в Париже в добром здоровье, я умираю здесь! Но меня там ждали, и я должен был отдать некоторым особам бумаги, содержание которых должно остаться тайной для всех. Эти бумаги я поручу тебе отвезти по принадлежности.
— Я исполню ваши приказания в точности, клянусь вам!
— Подай мне черепаховую шкатулку, которую ты кстати догадался вынуть из кареты. Если не ошибаюсь, я вижу эту шкатулку на камине.
— Вот она, кавалер.
И Жак поставил на постель шкатулку.
VIII. Поручение
Рауль снял с шеи крошечный золотой ключик, висевший на черной ленте. Этим ключом он отпер шкатулку, из которой вынул два пакета с бумагами, перевязанными красными шнурками, припечатанными огромной печатью с изображением демона. Красным карандашом, который находился там же, в шкатулке, возле бумаг, Рауль пометил пакеты номерами 1 — м и 2 — м.
— Жак, — сказал он потом, — слушай меня хорошенько и не забудь ни одного слова.
— Положитесь на мою память, — отвечал слуга, — она не изменит.
— Ступай в Сен-Жермен, — продолжал Рауль, — возьми там почтовую лошадь и поезжай в Париж, не останавливаясь ни на минуту на дороге и не говоря с кем бы то ни было прежде, чем приедешь…
— Слушаю, кавалер.
— Приехав в Париж, тотчас сделай все, что я тебе скажу…
— Что бы это ни было, и пусть бы это стоило мне жизни, все ваши приказания будут исполнены…
— Ты видишь эти два пакета бумаг?
— Вижу.
— На каждом стоит номер; можешь ты прочесть эти номера?
— Первый и второй, — отвечал Жак, указывая пальцем на пакеты.
— Хорошо, — сказал Рауль, — я продолжаю: в Париже остановись на улице Шерш-Миди, в гостинице под вывеской «Царь Соломон».
— «Царь Соломон»! — повторил Жак. — Я запомню это название.
— Хозяин гостиницы, — продолжал Рауль, — низенький и худенький человек, лет шестидесяти. Скажи ему, что ты хочешь остановиться в Комнате Магов; он спросит тебя, откуда ты приехал… вместо ответа покажи ему этот перстень, только прежде открой чашечку…
Рауль снял с пальца перстень и подал его Жаку. Этот перстень был золотой, с ободками из полированного железа, и имел форму тех перстней, которые называются chevalieres. На чашечке была вырезана готическая цифра 5; чашечка эта оборачивалась кругом; на другой стороне ее открывался аметист, с резным изображением точно такого же демона, какой был представлен на большой печати, о которой мы уже говорили.
— Понимаешь? — спросил кавалер, объяснив слуге механизм перстня.
— Совершенно, — отвечал Жак.
— Хозяин гостиницы, — продолжал Рауль, — тотчас окажет тебе самое почтительное внимание и приведет в комнату во втором этаже, где оставит тебя одного. Вокруг этой комнаты ты увидишь большие шкафы, в которых висит множество костюмов разного сорта, всяких цветов, на всякий рост. Вместо своей ливреи надень полный костюм комиссионера.
Кавалер замолчал на минуту, потом вынул из черепаховой шкатулки железный ключ, сделанный чрезвычайно замысловато, и продолжал:
— В этой самой комнате, возле камина, находится большой сундук, с виду как будто из старого прогнившего дерева, но он только выкрашен таким образом, а на самом деле это сундук железный; он привинчен к полу. Отопри сундук этим ключом и положи в него пакет по номером 2, а пакет под номером 1 спрячь в карман и ступай в улицу Св. Доминика, в отель маркиза де Тианжа.
— Я знаю это имя, — сказал Жак, — знаю, где и отель маркиза.
— По всей вероятности, швейцар тебя не пропустит. Поручи ему сказать маркизу, что тебя прислал номер 5, и маркиз де Тианж тотчас тебя примет.
— Что же я должен сказать ему?
— Отдай ему пакет и обрати его внимание на то, что печать цела… Он станет расспрашивать тебя обо мне, где я и почему сам не приехал. Не отвечай на эти вопросы, а скажи только, что на другой день, в какое время будет ему угодно, ты придешь за ответом, если он сочтет нужным отвечать на бумаги, которые успеет до тех пор прочесть.
— Не забуду ни одного слова, — сказал Жак.
Рауль продолжал:
— Оставив отель Тианжа, вернись на улицу Шерш-Миди, в гостиницу «Царь Соломон», возьми пакет под номером 2 и ступай в Пале-Рояль…
— В Пале-Рояль? — повторил Жак.
— Да, — ответил Рауль, — спроси Максима, камердинера регента, отдай ему перстень, попроси показать регенту и сказать ему, что принесший этот перстень требует немедленной аудиенции…
— Регент меня примет? — вскричал Жак с изумлением.
— Не только примет, но еще и не заставит ждать ни минуты, если только ты застанешь его в Пале-Рояле.
— А если его там нет, что мне делать?
— Дождись его возвращения, чтобы исполнить поручение как можно скорее.
— Как я должен себя вести в присутствии регента?
— Отдай ему бумаги и отвечай на все вопросы, какие он задаст тебе обо мне, только умолчи о том, в каком месте я нахожусь, и ни слова не говори об опасности моего положения… попроси его, кроме того, дать тебе ответ на другой день.
— Слушаю, кавалер.
— Получив оба письма, сними костюм комиссионера, надень опять свою ливрею, дай десять луидоров хозяину гостиницы, сядь на лошадь и возвратись как можно скорее сюда…
— О! Будьте спокойны! — сказал Жак. — Я не потеряю ни одного часа, ни одной минуты, ни одной секунды.
— Если ты застанешь меня в живых, — продолжал Рауль, — все будет к лучшему, и мы тогда посмотрим, что нам придется делать; если же напротив… если, я должен буду умереть…
Жак невольно перебил своего барина энергичным восклицанием. Кавалер знаком велел ему успокоиться и продолжал:
— Если, по возвращении, ты уже не застанешь меня в живых, сожги письма, которые регент и маркиз де Тианж дадут тебе, и возьми себе все деньги, находящиеся в чемодане; там несколько тысяч луидоров и я отдаю их тебе в наследство; пожалей обо мне, если хочешь, или забудь меня, если не будешь иметь времени думать обо мне…
Жак плакал. Рауль протянул ему руку, которую слуга поцеловал несколько раз и облил слезами.
— Ступай же, друг мой, — сказал кавалер. — Ступай скорее! Нельзя терять ни минуты, притом я так долго говорил, что совсем ослабел…
В самом деле, когда Рауль произносил последние слова, голос его уже начинал ослабевать, и ему казалось, что какое-то покрывало опускается между его глазами и окружающими предметами. В утомлении Рауль опустил голову на подушку, и Жак вышел из комнаты, напрасно стараясь обуздать свое горе.
IX. Секрет Мадлены
По мере того, как голова Рауля становилась тяжелее и возвращалась горячка, взгляд его невольно устремился на ту часть обоев, которая находилась прямо перед его кроватью. Кроткое и прелестное личико царицы Савской навеяло на него непреодолимое очарование. В странном состоянии, в котором Рауль находился и которое не походило ни на сон, ни на бодрствование, ни на спокойствие, ни на бред, это лицо являлось ему утешительным и покровительственным видением. Разгоряченное воображение кавалера представляло ему молодую царицу не как безжизненную фигуру на картинке, но как живое существо, и он верил, что это существо действительно находилось перед ним. Ему казалось, что она улыбается ему и протягивает руку; он не сомневался, что она подойдет к нему и принесет с собою выздоровление и счастье. Видно, что бред, исчезнув на мгновение, начинал возвращать свои права.
Но вдруг — странное дело! — вымысел сделался истиной. Сквозь прозрачный туман помутившихся глаз Рауль ясно увидел, что обои движутся. Фигура царицы медленно отделилась от окружающей ее группы. Походка ее была так же грациозна, как и красота. Маленькие ножки едва касались пола, но шума шагов не было слышно. Она вплотную подошла к молодому человеку. Рауль закрыл глаза, ослепленный блеском этого чудного явления.
— О!.. — пролепетал он почти невнятным голосом, — если бы вы не были царицей по вашей диадеме, вы были бы царицей по вашей красоте.
Едва он прошептал эти слова, как рассудок его совершенно помутился под жгучим давлением горячки, охватившей его мозг. Однако Раулю не пригрезилось ничего. Он видел действительно то, что мы рассказали.
В ту минуту, когда ему показалось, что обои движутся, дверь комнаты в самом деле отворилась. Когда он думал, что царица подходит к нему, Жанна действительно приблизилась к его постели. Преданность и сострадание, мы уже говорили, удивительным образом подготавливают к любви сердце женщины. Условия, в которых находилась Жанна, не позволили бедной девушке составить исключение из общего правила. Одинокая в жизни и свете, живя в уединении с матерью, раздражительный и жестокий характер которой мы уже знаем, Жанна вела жизнь однообразную и бесцветную, никуда не выходила и никого не принимала; стало быть, не было ли в порядке вещей, что она легко могла влюбиться в первого приличного мужчину, которого случай сведет с ней. А случай устроил именно так, что вероятность непременно должна была сделаться несомненностью. Образ Рауля соединял в себе непреодолимое очарование красоты, молодости и страдания. Как могло устоять против этого бедное сердце Жанны? И оно не устояло, тем более что это невинное и простодушное дитя не ведало жизненных опасностей и целомудренно предавалось грустному удовольствию окружать наивной нежностью умирающего молодого человека. Итак, Жанна страстно полюбила Рауля, который даже не знал ее.
В ту минуту, когда кавалер приметил ее в первый раз, она вошла в комнату, заперев дверь за Жаком, отправлявшимся в Париж. По обыкновению, она тихо проскользнула за занавесками кровати, чтобы прислушаться к дыханию Рауля. Ей показалось, что молодой человек спокойно спал. Тогда она вышла из комнаты так же осторожно, как вошла туда, и отправилась к матери, которая приходила в негодование на слишком частое и слишком продолжительное, по ее мнению, отсутствие дочери.
Мадлена де Шанбар после перемены, совершившейся в ней, когда она узнала о богатстве больного, спрашивала о нем по нескольку раз в день и, казалось, принимала живейшее участие во всем, что касалось молодого человека. Ее заботливое любопытство простиралось даже до желания знать, что говорил и делал Жак, слуга Рауля. В этот день она поспешила спросить у Жанны:
— Ну! Как твой больной?
— Ему лучше, гораздо лучше; по крайней мере, мне так кажется, — отвечала молодая девушка.
— Слава Богу! — вскричала больная с притворной радостью, закусив себе губы до крови, чтобы скрыть гримасу обманутого ожидания. Потом она прибавила через минуту: — Мне показалось утром, что дверь улицы отворяли и затворяли два раза… Не ошиблась ли я?
— Нет, матушка.
— Кто же это выходил?
— Сначала доктор, а потом слуга.
— Куда уходил доктор?
— Он вернулся в Сен-Жермен.
— Надолго?
— Ему заплатили и отказали.
— Стало быть, он не вернется?
— Нет, если только его не позовут снова.
— А слуга куда послан?
— В Париж.
— Когда он должен вернуться?
— Он мне сказал, что через два или три дня.
— Не раньше?
— Нет, господин дал ему поручения, требующие, по крайней мере, столько времени.
— Итак, мы одни в доме с этим молодым человеком?
— Да, матушка.
— Это тебя не пугает, дитя мое?
— Меня, матушка?.. Чего же мне пугаться? Кавалер де ла Транблэ опасно болен; притом, если бы он даже и выздоровел, нам нечего его бояться… напротив! Если бы какая-нибудь опасность угрожала нам, он, наверно, защитил бы нас!
Жанна произнесла эти последние слова с необыкновенным жаром.
— Как ты разгорячилась!.. — заметила мать с улыбкой.
Жанна очень покраснела. Больная продолжала:
— Ты, кажется, принимаешь участие в этом молодом человеке, и я нахожу, что это очень естественно…
— Да, матушка… — пролепетала молодая девушка.
— Так слушай же: в эту ночь мне пришла в голову одна вещь…
— Какая?
— Что от меня зависит вылечить его гораздо скорее, нежели могут сделать это все доктора на свете…
— Что вы хотите сказать? — с живостью вскричала Жанна. — От вас зависит вылечить его? Каким это образом?
— Я вспомнила драгоценный секрет, который в моей молодости сообщил мне один иностранный доктор, знаменитый по своему искусству… В свете много было шума и толков о чудесах, какие он делал со своими больными…
— Какой же это секрет, матушка?
— Сейчас узнаешь. Отопри шкаф, вделанный в стену за изголовьем моей кровати.
— Отперла…
— Взгляни на третью полку, с левой стороны, если я не ошибаюсь… что ты там видишь?
— Тут есть несколько небольших глиняных горшочков, есть сухие цветы и разные медные инструменты, которые мне неизвестны.
— А другие вещи есть?
— Есть много кое-чего.
— Посмотри, нет ли между этими вещами пузырьков?
— Есть много, различной формы и величины.
— Один из пузырьков должен быть наполнен темной жидкостью.
Жанна искала с минуту, потом отвечала:
— Вот он.
— Подай его мне; я хочу удостовериться, не ошибаешься ли ты.
Молодая девушка исполнила приказание матери. Мадлена де Шанбар внимательно осмотрела пузырек, откупорила его, поднесла к ноздрям и вдохнула запах с удовольствием, вероятно, очень сильным, потому что радостная молния сверкнула в ее глазах и улыбка раскрыла на минуту ее бледные губы.
— Да, — прошептала она потом. — Это именно то, что мне нужно… В этом пузырьке заключается надежное лекарство… — прибавила она вслух.
Жанна сделала радостное движение. Больная продолжала, обратившись к ней:
— Сегодня вечером, когда стемнеет, налей треть этой жидкости в лекарство этого прекрасного дворянина, которого ты называешь, кажется, Раулем де ла Транблэ… Постарайся, чтобы он выпил эту смесь, и завтра утром… завтра он перестанет страдать…
Услыша это, Жанна не могла произнести ни слова; она была так счастлива, что, казалось, это счастье некоторым образом парализовало ее. Она взяла пузырек из рук матери и хотела выйти из комнаты, чтобы скрыть свое волнение. Мадлена удержала ее.
— Еще одно слово, дитя мое.
— Что прикажете, матушка?
— Слуга кавалера де ла Транблэ не увез ли в Париж золота, о котором ты мне говорила?
— Нет, матушка, — отвечала Жанна, — но к чему этот вопрос?
— Просто из любопытства… какое нам дело, есть ли деньги у этого дворянина или нет?.. Ведь мы, конечно, не потребуем от него платы за то, что можем сделать для него…
— Конечно, нет! — вскричала Жанна, не замечая, с каким странным выражением говорила ее мать.
— Теперь, — продолжала больная, — ступай, дитя мое, ступай, ты мне более не нужна.
Жанна вышла.
Оставшись одна, Мадлена вскричала с энергией, к которой нельзя было считать ее способной, глядя на ее исхудалое тело и поблекшее лицо:
— Довольно нищеты! Довольно страданий… Раз и навсегда я хочу положить этому конец, и если случай бросил богатство к моим ногам, оно от меня не ускользнет, хоть бы мне пришлось поднимать его из крови!..
X. Видение
Рауль провел день то в тяжелой дремоте, то в лихорадочном волнении. С утра одна постоянная идея примешивалась к его бреду. Образ царицы Савской поглощал все его мысли. Взор его не оставлял ее ни на минуту. Сердце его призывало ее, а губы безмолвно говорили с ней. Несколько раз, так же, как и утром, грациозное видение подходило к нему: эта мечта тотчас возобновлялась, когда Жанна входила в комнату.
Между тем приближался вечер. Молодая девушка приготовила успокоительное лекарство, прописанное доктором, и к этому лекарству примешала третью часть темной жидкости из пузырька. Она осторожно отворила дверь и подошла к кровати потихоньку, чтобы не разбудить кавалера. У Рауля в самом деле были закрыты глаза. Жанна поставила на столик фарфоровую чашку, в которую был налит чудесный напиток, и так как сумерки распространились уже по комнате и не позволяли хорошо различать предметы, наклонилась так близко к спящему Раулю, что ее лицо почти касалось лица молодого человека.
«Как он бледен», — подумала она.
В эту минуту кавалер раскрыл глаза и вскрикнул от радости. На этот раз он не ошибался: его милое видение было так близко от него, что ему стоило только протянуть руку, чтобы прижать его к груди и удостовериться, что он не был игрой какого-нибудь обманчивого призрака. Рауль протянул руки и тотчас опустил их, ощупав пустоту, Жанна, угадав его движение, вдруг отступила со страхом и находилась уже в трех или четырех шагах от кровати.
— Ангел или фея, — прошептал Рауль, — зачем вы бежите от меня?
Жанна тотчас подошла и отвечала:
— Я не бегу от вас; напротив, я ухаживаю за вами…
— Ухаживаете за мною? — повторил Рауль с изумлением.
— Конечно…
— Стало быть, вы женщина?..
— Чем же я могу быть, позвольте спросить? — спросила молодая девушка с улыбкой.
— Феей, ангелом, добрым гением, как я сейчас вам говорил…
— Увы! Я не могу иметь притязаний ни на одно из этих сладостных названий… хотя и надеюсь сделаться для вас добрым ангелом, принеся вам выздоровление…
— Вы женщина! — повторил Рауль недоверчиво. — Нет, вы не женщина!..
— Вы думаете? — сказала Жанна с новой улыбкой.
— Я в этом уверен.
— Каким образом?
— Я видел.
— Что?
— Ваше преобразование… ваше превращение…
Жанна повторила оба эти слова, которые не имели для нее никакого смысла. Рауль продолжал:
— Я вас видел, как сначала из неодушевленной и безмолвной фигуры вы вдруг сделались передо мной таинственным и могущественным дыханием, одушевленным, живым существом…
Жанна все слушала и не понимала.
— Что вы хотите сказать?.. — прошептала она.
— Наконец, я видел, — продолжал кавалер, — я видел, как вы оставили таинственные обои, где вы находитесь в числе многих других фигур…
При странном и сумасбродном заблуждении молодого человека невозможно было оставаться серьезной. Жанна перебила Рауля громким смехом.
— Ах! — вскричала она, — я угадываю теперь!
— Что вы угадываете? — спросил кавалер.
Вместо ответа Жанна сказала только:
— Посмотрите!
С этими словами она сделала несколько шагов в сторону, и стала таким образом, что Рауль мог видеть в одно время лица ее и царицы Савской. При виде этого поразительного сходства молодой человек был изумлен так сильно, что его ослабевший рассудок не позволил ему тотчас отделить заблуждение от действительности: глядя в одно и то же время на Жанну и на царицу, он не мог понять, какая из них была изображением и какая живым существом. Движение молодой девушки нарушило обман. Рауль понял все.
— Моя бедная слабая голова делает меня почти сумасшедшим, — прошептал он. — Извините же меня и позвольте узнать то, чего я еще не знаю; объясните мне, где я и кто вы?
В разговоре своем с Жаком Рауль, озабоченный поручением, которое давал ему, даже не подумал спросить у него, где он и у кого находится. Жанна отвечала с простотой, исполненной грации:
— Вы находитесь в доме, который называется Маленьким Замком и хозяева которого были так счастливы, что могли предложить вам скромное гостеприимство. Дом этот принадлежит моей матери, Мадлене де Шанбар, вдове дворянина. Я единственная дочь ее и зовут меня Жанной…
— И вы простерли свою доброту до такой степени, что сами ухаживаете за мной? — вскричал Рауль.
— Я сделала бы это в любом случае, — отвечала Жанна, — даже, если бы в моем распоряжении находилось много слуг… но теперь, мне кажется, нет никакой заслуги в том, что я ухаживаю за вами сама, потому что мать моя очень бедна и, несмотря на ее болезнь, ей уже давно некому служить, кроме меня…
Услышав этот трогательный ответ, Рауль бросил удивленный взгляд на меблировку комнаты, в которой находился. Мы уже знаем, что эта меблировка была роскошна, хотя и старомодна. Жанна поняла значение взгляда молодого человека.
— Вы правы, — продолжала она, — здесь ничто не показывает бедности, и это очень просто: прежде мы если и не были богаты, то, по крайней мере, не терпели недостатка… Теперь же мы совершенно разорились, и все, что вы здесь видите, уже не принадлежит нам… Из прежнего состояния у матери моей осталось только одно: право жить и умереть в этом доме…
— О! Боже мой! — вскричал Рауль. — Какая ужасная и незаслуженная бедность!
Он, казалось, колебался с минуту, потом прибавил:
— Если бы я осмелился…
— На что? — спросила Жанна.
— Я богат… очень богат и…
Рауль остановился.
— Что вы хотите сказать? — спросила молодая девушка. — Докончите!
— Может быть, — продолжал кавалер, — может быть, сумма, за которую ваша матушка согласилась бы продать этот дом, не огромна… и тогда…
Рауль опять остановился.
— Тогда? — повторила Жанна.
— Если бы я осмелился… предложить вам…
— Да что же?
— Необходимую сумму, чтобы выкупить дом.
— Но, — перебила девушка, — с какой стати, позвольте вас спросить, сделаете вы нам это предложение?
— Разве признательность, которой я вам обязан, не дает мне достаточного права?..
Жанна побледнела.
— Невозможно, — сказала она, — невозможно, чтобы вы говорили это серьезно!
— Клянусь вам… — прошептал кавалер.
— Не продолжайте, — заключила Жанна, — невозможно, говорю вам, чтобы дворянин осмелился предложить дочери другого дворянина заплатить ей за гостеприимство, которое он получил от нее; это предложение было бы оскорблением, а признательность, если вы думаете, что обязаны мне ею, не выражается оскорблениями!..
Девушка замолчала. Рауль смотрел на нее с восторгом.
XI. Преступный умысел
Наступила минута молчания между двумя действующими лицами из рассказанной нами сцены. Жанна потупила глаза; яркая краска сменила бледность на ее щеках; сердце ее сильно билось, грудь, целомудренно закрытая темным шерстяным корсажем, приподнималась. Она была восхитительна своей непринужденной грацией к величественной гордостью. Повторяем, Рауль смотрел на нее с восторгом. Однако он заговорил первый:
— Простите меня, умоляю, простите, если я невольно оскорбил вас…
— Охотно прощаю, — отвечала молодая девушка.
— Правда ли это?..
— Да, клянусь вам… я уже ничего не помню…
— Благодарю!.. Тысячу раз благодарю! — вскричал Рауль.
И он протянул Жанне свою руку, горевшую лихорадочным огнем. Жанна задрожала от его прикосновения и поспешила отдернуть свою руку.
— Неужели я вас пугаю? — горестно прошептал кавалер.
— О! Нет!.. — вскричала молодая девушка с живостью, выдававшей тайны ее сердца.
Наступило молчание; потом Жанна продолжала:
— Я сказала, что надеялась быть вашим добрым ангелом и принести вам выздоровление…
— Помню… — сказал Рауль.
— Я сдержу слово…
Говоря таким образом, Жанна взяла со столика фарфоровую чашку и подала ее больному.
— Что это такое? — спросил Рауль.
— Обещанное выздоровление, — отвечала молодая девушка.
Рауль взял чашку и поднес ее к губам, но почти тотчас же отдернул руку.
— Это странно! — прошептал он.
— Что такое?
— По запаху этого питья можно подумать, что в нем заключается огромная доза опиума…
— Я не знаю, что вы хотите сказать, — возразила Жанна, которая и понятия не имела об опиуме.
— Это лекарство, — спросил Рауль, — не то, которое до сих пор приготовляли для меня?
— То самое, с прибавкой нескольких капель жидкости, которую я влила в него.
— Какой жидкости?..
— Не знаю. Матушка хранила ее старательно и посоветовала мне дать вам, расхвалив ее чудесные свойства. Если вы выпьете сегодня вечером, сказала она, то завтра перестанете страдать… Почему же вы не хотите выпить?
— О! — сказал Рауль восторженно, — я охотно выпью даже яд, если этот яд подадите мне вы!..
Он снова поднес чашку к губам и разом выпил все.
— Я знал, — прошептал он тихо, — знал, что это опиум!..
Голова молодого человека почти тотчас же опустилась на подушку; еще несколько минут глаза его оставались открыты, но смотрели неподвижно и без всякого выражения.
— Вы страдаете? — спросила Жанна с беспокойством.
Рауль не отвечал. Через минуту веки его опустились на глаза, и он, казалось, заснул спокойным и глубоким сном. Жанна возвратилась к матери.
— Ну! — спросила больная, — он выпил?
— Выпил, — отвечала девушка.
— А теперь?
— Теперь спит.
Молния торжества осветила лицо Мадлены.
— Спит… — повторила она. — Это добрый знак!..
Было около полуночи. Небольшая лампа, зажженная Жанной, слабо освещала утомленное лицо кавалера де ла Транблэ. Молодой человек лежал точно в таком же положении, как и несколько часов назад, не сделав ни малейшего движения с тех пор, как непреодолимый сон овладел им.
Жанна давно спала в своей комнате. Из трех обитателей Маленького Замка не спала одна Мадлена. Эта женщина, изнуренная болезнью и страданиями, представляла в настоящую минуту живой и зловещий образ преступления и угрызений совести, поскольку одно обыкновенно следует за другим. Освещаемая печальным светом ночной лампы, горевшей в ее комнате, старуха приподнялась на своей постели. Ее длинные седые, растрепанные волосы покрывали шею и исхудалые плечи; глаза ее сверкали, она прислушивалась и вздрагивала при малейшем шуме.
Вдруг она решилась, откинула одеяло, спустилась с кровати и два или три раза попробовала удержаться на ногах. Но она давно уже потеряла привычку ходить, и притом одна ее нога была почти разбита параличом. Она упала сначала на колени и приподнялась только через несколько минут, после неслыханных усилий, походя на изрезанную змею, старающуюся соединить разбросанные куски своего тела.
Поднявшись на ноги, Мадлена, опираясь руками на мебель и скорее тащась, нежели идя, добралась кое-как до дверей комнаты дочери и заперла ее задвижкой, так что Жанне невозможно было выйти. Сделав это, Мадлена опустилась на ковер и, ползком пробираясь вдоль стены, потому что не могла более держаться на ногах, доползла до того места, где, в виде трофея, находилось оружие, принадлежавшее Гильйому де Шанбару. Тут она приподнялась, схватила первое попавшееся ей под руку оружие и снова упала на ковер, судорожно сжимая свою добычу.
Мадлена не могла не улыбаться, увидев, как удачно поспособствовал ей случай. Оружие, которое она держала в руках, был кинжал, клинок которого почти в целый фут длины и чрезвычайно тонкий и острый, имел посередине небольшой желобок для свободного истечения крови. Малейшая рана, нанесенная этим кинжалом, была смертельна. Мадлена взяла в зубы рукоятку и, опираясь на руки и на колени, дотащилась до двери, ведущей на лестницу. Эта дверь была полуоткрыта, и чтобы отпереть ее совсем, Мадлене стоило только притянуть ее к себе.
XII. Божье правосудие
По мере того, как старуха продвигалась вперед, движения ее становились медленнее и болезненнее: очевидно, силы изменяли ее энергической решимости. Однако она не приходила в отчаяние, в ней не возникала мысль отказаться от адского поступка, который она поклялась совершить. Было как-то странно и вместе с тем страшно видеть в эту минуту, при слабом свете лампы, эту полумертвую женщину, этот живой труп, одушевленный остатком жизни, ползущий таким образом по полу с резкими и прерывистыми движениями, сообразно тому, как боль давала себя чувствовать более или менее сильно. Наверное, люди с самым твердым умом, увидав Мадлену в этом положении, приняли бы ее за какой-нибудь фантастический и ужасный призрак.
Она отворила дверь и очутилась на площадке лестницы. Тут силы ее совершенно оставили и страдания сделались почти невыносимы; чтобы заглушить крик, который ежеминутно готов был вырваться из груди ее от сильной боли, она должна была стиснуть зубами ручку кинжала и села на первую ступень, дожидаясь облегчения. Кризис нестерпимых мук продолжался несколько минут; наконец она почувствовала себя немного лучше и тотчас же снова начала спускаться. В том состоянии, в каком находилась эта гнусная женщина, намерение сойти с лестницы было гигантским трудом. Мадлена все еще держала кинжал в зубах, чтобы сохранить свободными руки, поддерживала себя ими и таким образом спускалась, мало-помалу, со ступеньки на ступеньку. Прикосновение больной ноги к каменным плитам лестницы обдавало Мадлену смертельным холодом до самых костей, и страдания все более и более замедляли ее движения. Она начала дрожать при мысли, что предприняла труд, который вряд ли сможет довести до конца. Уже не раз спрашивала она себя с возрастающей тоской:
«Как я поднимусь на лестницу?»
Однако все продвигалась вперед и наконец добралась до последней ступени… Мадлена находилась в прихожей, о которой мы уже говорили и которая вела на улицу. Дверь в комнату Рауля была налево, едва ли в десяти шагах от преступницы. Еще минута, и она достигнула бы цели. Эта уверенность оживила ее; но от последней ступени лестницы до комнаты Рауля ей приходилось идти без опоры — опереться было решительно не на что. Правда, Мадлена могла ползти по полу, как делала до сих пор, но чрезвычайная медлительность этого способа раздражала ее. К тому же, она чувствовала, как кровь быстро бежит по ее жилам, и принимала лихорадочную дрожь за возвращение сил. Она ухватилась за перила лестницы и встала на ноги, потом, не давая себе времени на размышление, отняла руку от железной балюстрады, за которую держалась, и пустилась в путь.
В эту минуту Мадлена должна была испытывать то же самое, что чувствует неопытный пловец, который смело бросился в слишком глубокое место и вдруг видит, что течение увлекает его, силы оставляют, уменье изменяет, что скоро волна потопит его навсегда. Напрасно хочет он вернуться назад, к менее опасному месту… уже поздно!.. Волны, окружающие его и захлестывающие своей пеной, как холодным саваном, приподнимают его, увлекают и не хотят выпустить свою добычу. Точно также и Мадлена, шатающаяся, как дерево, корень которого подрезан, поняла наконец свое полное бессилие. Ноги ее не могли сделать ни шага. Она попробовала вернуться и протянула левую руку, чтобы снова ухватиться за перила лестницы; но паралич распространился и на эту руку, и она бессильно опустилась, не достигнув цели. Тогда какое-то помрачение помутило взор женщины. Ей показалось, будто ее качает бурный ветер посреди движущегося огненного круга, который вертелся с изумительной быстротой. Она подняла обе руки, но они встретили только пустоту. Преступнице казалось, будто гладкие плиты исчезли под ее ногами, и она вдруг упала сначала на левую руку, которая под тяжестью тела подломилась как стекло, потом на острие кинжала, который находился уже в ее правой руке, и клинок его вошел ей в грудь и вышел сзади между плечами.
Мадлена испустила страшный нечеловеческий крик, крик отчаяния и предсмертной агонии. Она пробовала еще бороться со смертью, но уже потоки крови залили ее грудь и хлынули из горла пурпуровой пеной. Судороги искривили ее члены; губы на мгновение раскрылись, чтобы закричать во второй раз, но из них вырвался только новый поток крови; потом члены ее вытянулись, глаза закатились… через минуту все кончилось: даже малейшая дрожь не потрясла ее тела, распростертого на плитах. Мадлена де Шанбар умерла.
Между тем отчаянный крик ее пробудил Жанну от спокойного сна. В первую минуту молодой девушке показалось, что это ей пригрезилось во сне, и она постаралась опять заснуть, но воспоминание об ужасном крике преследовало ее безостановочно и порождало в уме ее самые зловещие образы. Жанна решилась встать и лично удостовериться в безосновательности своих страхов. Она спрыгнула с постели и, наскоро накинув первую одежду, попавшуюся ей под руку, подбежала к двери и хотела открыть ее, но дверь не отворялась (мы уже знаем, что Мадлена заперла ее задвижкой). Страх и беспокойство Жанны увеличились. Девушка была уверена, что мать не может без ее помощи встать с постели. Кто же запер дверь, которая держала ее в плену? Какая ужасная связь была между этой запертой дверью и криком, который, как казалось Жанне в ее волнении, беспрестанно раздавался в ее ушах? Она стучала в дверь кулаками, но дверь была толста, а задвижка крепка. Жанна поняла, что она сойдет с ума, если далее останется в этом положении, и закричала изо всех сил:
— Матушка! Матушка!..
Этот зов остался без ответа.
— Матушка! Матушка! — повторила Жанна во второй раз, с еще большей энергией.
Потом, когда только отголосок ночи повторил ее отчаянный крик, она совершенно потеряла голову, бросилась к окну и открыла его. Ночь была глубока, дорога пуста.
Жанна привязала простыню к железной перекладине и босиком, не размышляя об опасностях почти неизбежного и, может статься, смертельного падения, спустилась из окна на дорогу. По какой-то чудесной случайности, она достигла земли без малейшего ушиба и тотчас побежала к Марли так скоро, как будто ее преследовал легион привидений. Камни, рассыпанные по дороге, изранили до крови ее ноги, но она не чувствовала ни малейшей боли. Жанна едва могла дышать, но не замедлила своего бега; наконец она добежала до первого дома и упала у дверей со стоном: у нее недоставало сил ни позвать кого-нибудь, ни постучаться.
XIII. Муж Глодины
Неистовый лай огромной собаки раздался внутри дома, и мужской голос спросил грубым и угрожающим тоном:
— Кто там?
Жанна продолжала стонать и не отвечала. Тот же голос произнес страшное ругательство и продолжал:
— Черт вас побери! Ступайте своей дорогой, а не то я отворю дверь, и собака моя загрызет вас…
Эта новая угроза увеличила, если это было возможно, ужас Жанны. Она старалась встать и убежать, но не могла даже и приподняться, только тихий плач ее превратился в судорожные рыдания, а стоны сменились отчаянными криками. Тяжелый ключ повернулся в замке, и свирепый лай удвоился; это не могло уменьшить страха Жанны.
Дверь отворилась. К счастью, хозяин дома держал собаку за веревку, привязанную к ошейнику. Увидев или, скорее, угадав женщину, распростертую на пороге, он притянул к себе собаку.
— Зачем вы здесь? — сказал хозяин несколько смягченным тоном. — Чего вы ждете и что вам нужно?
Волнение молодой девушки не позволило ей отвечать. При этом непонятном для него молчании недоверчивый и подозрительный крестьянин достал огня, зажег лампу и поднес ее к лицу Жанны. Он не раз видел эту девушку и потому тотчас узнал се. Его грубое обращение тотчас же сменилось почтительным. Он обернулся и закричал:
— Глодина! Жена! Вставай скорее, иди сюда…
— Зачем? — спросила Глодина из отдаленной комнаты.
— Дочка мадам де Шанбар из Маленького Замка умирает у наших дверей…
Он взял Жанну на руки, отнес ее в комнату и посадил в большое кресло. Скоро явилась Глодина, молодая и очень миловидная женщина. Муж и жена окружили Жанну самой трогательной заботой. Благодаря этому девушке скоро возвратились присутствие духа и спокойствие. Она воспользовалась этим и рассказала о том, что случилось, прося помочь ей вернуться в Маленький Замок и удостовериться, не случилось ли там тех несчастий, которых она опасалась. Когда она окончила рассказ, крестьянин сказал, качая головой:
— Я к вашим услугам, но уверены ли вы, что вам не померещилось?..
— Померещилось?! — возразила Жанна. — Как могло мне померещиться?.. О, нет… к несчастью!.. Нет, я не спала!.. Этот зловещий крик, о котором я вам говорила, я точно слышала, и нашла дверь моей комнаты запертой!.. Ах! Поверьте мне! Поверьте, в доме моей матери случилось что-то ужасное!
— Это мы узнаем через минуту, — сказал крестьянин. — Позвольте мне только разбудить соседей, которые нас проводят и в случае надобности будут свидетелями того, что мы увидим…
— Действуйте, как хотите… — отвечала Жанна. — Но, ради Бога, поторопитесь! Поторопитесь!..
— Подождите только пять минут.
Муж Глодины вышел, оставив девушку со своей женой. Не прошло и пяти минут, как он воротился с четырьмя другими крестьянами, дюжими парнями, румяными и широкоплечими, которые протирали своими толстыми кулаками еще сонные глаза.
Глодина дала Жанне свои лучшие башмаки, белые бумажные чулки, очень тонкие, с красными стрелками, и серый бумазейный салоп, с огромным капюшоном. Жанна обулась, завернулась в салоп и спустила на голову капюшон.
Крестьяне несли зажженные факелы. Два из них поддерживали своими жилистыми руками взволнованную и измученную Жанну, и все вместе при свете факелов отправились к Маленькому Замку.
По мере того, как они приближались, страх девушки все более и более увеличивался, нервная дрожь овладела ею. В ту минуту, когда крестьяне донесли Жанну до дверей замка, она была почти без чувств.
Попасть в дом было не легко. Дверь могла устоять против настоящего приступа и с первого удара послышался звук крепких запоров и встретилось почти непреодолимое сопротивление. Однако крестьяне были полны решимости преодолеть эти препятствия. Железный рычаг, захваченный мужем Глодины на всякий случай, был всунут в смычки дверей. Трое молодых, здоровых парней налегли всей тяжестью на этот рычаг, и запоры скоро заскрипели с зловещим звуком, дубовые доски раздались и наконец разлетелись с треском, похожим на удар грома. Муж Глодины подошел к Жанне, которую поддерживал один из крестьян.
— Дверь отперта, — сказал он.
Девушка сделала жест, как бы желая сказать:
«Войдите первые… я иду за вами».
Крестьяне подняли огонь факелов и вошли в сени. Вдруг тот, который шел впереди, отступил с восклицанием ужаса и изумления. Факел выпал у него из рук на пол и погас. Крестьянин поскользнулся в луже крови и очутился прямо перед трупом Мадлены.
В ту минуту, когда крик крестьянина долетел до слуха Жанны, она будто по волшебству возвратила свои исчезнувшие силы, бросилась в сени и остановилась с трепетом и отчаянием перед трупом, уже окоченевшим, той, которая была ее матерью. Молодая девушка упала на колени возле покойницы. Ее сжатые руки дрожали, губы судорожно подергивались, глаза, широко открытые и неподвижно устремленные на труп, казалось, смотрели и ничего не видели. Она хотела бы заплакать, но не могла. В эту минуту Жанна олицетворяла вполне и самым трогательным образом не тихого ангела грусти, но мрачного ангела отчаяния, того страшного и сосредоточенного отчаяния, которое не обнаруживается ни криками, ни слезами.
Испуганные странным выражением глаз Жанны и ее лицом, столь же бледным, как лицо мертвой, крестьяне отошли на несколько шагов и ждали в почтительном молчании.
Наконец Господь сжалился над бедной девушкой. Глаза ее увлажнились жгучими слезами, и переполненное горем сердце излилось в судорожных рыданиях; слезы эти облегчили несчастную, как дождь во время грозы оживляет знойную природу. Она приподняла труп, лежавший перед ней, покрыла поцелуями закрытые глаза и холодные губы покойницы и вскричала прерывистым голосом, похожим на голос лунатика, заснувшего магнетическим сном:
— О! матушка!.. матушка!.. матушка!..
Это раздирающее душу восклицание сменилось безмолвием. Муж Глодины подошел к Жанне и сказал ей медленно, с очевидным замешательством:
— Вы непременно убьете себя, если станете так огорчаться, а, между тем все-таки не оживите бедную госпожу…
Жанна подняла голову и спросила:
— Вы думаете, что она умерла?.. Умерла совсем?.. И не оживет?..
Крестьянин не отвечал.
— Вы молчите! — продолжала молодая девушка. — А я вам говорю, что я возвращу к жизни мою мать!..
И Жанна опять приподняла труп, прижала его к своей груди, как-будто действительно имела надежду призвать ее к жизни. Но вдруг она вскрикнула от ужаса, приметив в первый раз окровавленную рукоятку кинжала, клинок которого прошел ее грудь насквозь. В первый раз пришла ей в голову мысль об убийстве; до сих пор она приписывала случаю, причины которого не могла понять, катастрофу, сделавшую ее сиротой. Вторая мысль, быстрая как молния, промелькнула в голове ее: в этой мысли было нечто страшное. Губы Жанны прошептали одно слово:
— Рауль!
Она выпустила труп матери из рук и бросилась в комнату кавалера де ла Транблэ.
XIV. Полицейский
Лампа так же разливала свой бледный свет по этой обширной комнате. Рауль все еще был погружен в летаргический сон.
Жанна подбежала к постели и схватила его за обе руки. В эту минуту она не помнила о любви, которую начала было чувствовать к молодому человеку, она видела в нем только убийцу своей матери.
Рауль проснулся, но опиум сковал его чувства и разум. Он пролепетал несколько прерывистых слов, закрыл глаза и снова глубоко заснул.
— А! — вскричала Жанна с яростью, указывая на Рауля крестьянам, которые вошли в комнату вместе с ней. — Сон его так глубок, что он, наверно, притворяется! Этот человек — убийца!..
Крестьяне тотчас в ярости окружили кровать.
— Надо его повесить! — говорили одни.
— Бросим его в воду! — твердили другие.
И они уже собирались тащить к двери несчастного молодого человека, который не просыпался посреди всех этих криков. При этом зрелище в сердце Жанны вдруг совершился переворот.
«Но что, если убийца не он!»— подумала она и воскликнула громко:
— Остановитесь!
Крестьяне повиновались.
— Я слишком скоро обвинила этого молодого человека, — прибавила она, — и, может быть, напрасно. Я ни в чем не уверена, ни в чем, кроме того, что над моей бедной матерью совершено гнусное убийство. Тот, на кого пали мои первые подозрения, может быть, невинен, но даже если бы он и был виноват, не нам принадлежит право наказывать его за преступление!.. Ради Бога, пусть один из вас побежит за доктором… Доктор скажет нам, гнусная ли комедия этот странный сон или настоящая летаргия…
— Да! да! — отвечали крестьяне в один голос.
Муж Глодины побежал в Сен-Жермен, исполнить желание молодой девушки. Один крестьянин остался караулить в комнате Рауля, а другие перенесли в верхний этаж тело Мадлены и положили мертвую на ту самую постель, на которой она лежала живая. Жанна встала на колени возле покойницы и молилась до той минуты, пока несколько ударов в дверь не возвестили ей о возвращении мужа Глодины.
Он привел с собой не только доктора, но и полицейского комиссара с отрядом солдат объездной команды, которые пришли захватить мнимого преступника и тотчас же стали стеречь все выходы из дома. Случай устроил так, что призванный доктор был именно тот самый, который лечил Рауля.
Он сначала осмотрел труп Мадлены, вынул кинжал, оставшийся в ране, и объявил, что смерть произошла, по всей вероятности, неожиданно. Когда комиссар спросил его о причине, он отвечал, что не верит в убийство, но подозревает катастрофу, и обосновал свое мнение на положении оружия убийства и на том, что оно прошло грудь насквозь, раздробив кость в плече. Полицейский и доктор сошли потом в комнату Рауля, прося Жанну идти с ними.
— Точно ли спит этот человек? — спросил комиссар у доктора, указывая на Рауля.
Доктор приложил руку к виску и к сердцу кавалера, прислушался к его дыханию и отвечал:
— Да, он спит, спит сном глубоким и непонятным!..
Говоря это, доктор приметил на столике возле кровати, чашку, в которой еще было несколько капель жидкости. Он омочил в ней палец, приложил его к губам и вскричал:
— А! Теперь я понимаю этот странный сон… Можете вы сказать мне, — обратился он к Жанне, — кто готовил это лекарство?
— Я, — отвечала молодая девушка.
— По какому рецепту?
— По тому, который вы сами мне оставили.
— Вы ничего туда не прибавляли?
— Прибавила три ложечки жидкости, которую мне посоветовала влить моя бедная мать…
— Какая это жидкость?
— Не знаю…
— Она осталась у вас?
— Да, почти две трети пузырька.
— Потрудитесь показать мне этот пузырек.
Жанна тотчас принесла его. Доктор понюхал, потом, обращаясь к полицейскому, сказал:
— Как не спать этому молодому человеку!? Огромная доза опиума, самого сильного наркотического средства, погрузила его в сон, похожий на смерть…
— С какой целью ваша мать старалась усыпить его? — в свою очередь спросил Жанну полицейский.
— Она, верно, ошиблась насчет действия лекарства, которое посоветовала дать ему.
— В котором часу вы дали это лекарство?
— В сумерки.
— В котором часу совершилось предполагаемое вами убийство?
— Отчаянный крик моей бедной матери разбудил меня часа два тому назад.
— В какой комнате было оружие, причинившее смерть?
— В спальне моей матери.
Тут вмешался доктор.
— Господин комиссар, — сказал он, — я тем охотнее поручусь за невинность кавалера де ла Транблэ, что он еще не оправился от болезни, которая угрожала ему почти неминуемой смертью и от которой я лечил его; я очень удивился сейчас, найдя его еще живым; я наверно знаю, что слабость его должна быть так велика, что он не мог сделать и четырех шагов без опоры.
— Я и сам так думаю, — отвечал комиссар, — но все-таки в этом доме было совершено преступление, и я должен пока арестовать того, на кого пали первые подозрения.
— Однако… — сказал доктор.
— Не мешайте ходу правосудия, — перебил комиссар сухим тоном. — Долг службы предписывает мне сделать самый подробный обыск… Обыщите одежду и другие вещи обвиненного, — прибавил он, обращаясь к своим людям.
Солдаты объездной команды тотчас же повиновались. Поиски были не напрасны. Один из солдат тотчас же подал комиссару бумажник, который нашел в кармане платья кавалера, тогда как другой открыл чемодан, уже известный нам, и, увидев то, что в нем заключалось, вскричал:
— Сколько золота! Боже мой, сколько золота!
XV. Бедная Жанна
Полицейский комиссар оставался с минуту как бы ослепленным при виде блестящего металлического видения, поразившего его взоры. Уступив чувству жадного восторга, возбужденного в нем огромным количеством золота в чемодане, он наконец раскрыл бумажник и вынул оттуда большой сложенный лист пергамента, с зеленой печатью, висевшей на зеленой же ленте. Он развернул лист и пробежал его глазами. Выражение его физиономии тотчас изменилось. Из надменного и повелевающего оно сделалось вдруг раболепным и покорным как бы по волшебству. Он снял шляпу, которая до тех пор оставалась на голове его, и взгляд его с самым почтительным видом переходил от пергамента к Раулю и от Рауля к пергаменту. Вот что он прочел:
«Божьей милостью, мы, Филипп Орлеанский, регент Франции, приказываем и повелеваем всем тем, кто увидит сию бумагу, оказывать помощь и содействие нашему преданному подданному и слуге кавалеру Раулю де ла Транблэ всякий раз, как он сочтет за благо требовать этой помощи.
Запрещаем, кроме того, по какой бы то ни было причине, беспокоить вышеназванного кавалера де ла Транблэ, мешать его действиям и противиться его воле.
Что бы он ни делал, он делал это по нашему приказанию и для пользы нашей.
В силу чего мы дали ему сию бумагу за нашей подписью и печатью».
Потом были число и подпись.
Полицейский комиссар, совершенно смешавшийся при виде этого неожиданного документа, старательно свернул драгоценный пергамент, вложил в бумажник, из которого вынул, и снова спрятал бумажник в карман платья Рауля. Потом, обернувшись к своим подчиненным, он сказал:
— Невинность кавалера де ла Транблэ для меня достаточно ясна. Кроме того, как доказывает господин доктор, в ужасном и печальном происшествии, случившемся здесь ночью, не видно никаких следов преступления. Убийство совершилось случайно, без умысла, поэтому нам нечего делать более в этом доме и остается только возвратиться в Сен-Жермен.
Доктор, очень заинтересованный тем, что происходило на его глазах, подошел к комиссару и спросил вполголоса:
— Что было в этом пергаменте?
— Государственная тайна! — отвечал полицейский важным тоном.
— Государственная тайна? — повторил доктор.
— Да, и не старайтесь узнать ее, советую вам: тут пахнет Бастилией, ни более ни менее…
При слове «Бастилия» доктор побледнел почти так же, как его больной. Он не произнес более ни одного слова до той самой минуты, как оставил Маленький Замок вместе с полицейским комиссаром и солдатами объездной команды: до того боялся он узнать эту страшную государственную тайну, знание которой было так опасно.
После их ухода Жанна осталась в комнате Рауля с мужем Глодины и другими крестьянами, которых удерживало любопытство. Наконец эти добрые люди, не желая обострять горя Жанны, скромно удалились один за другим. Муж Глодины остался последний.
— Я думаю, — сказал он Жанне с дружелюбием, смешанным с уважением, — что вы не можете провести ночь в этом доме одна-одинехонька… Я приведу к вам мою жену, Глодину, она будет молиться с вами Богу, возле бедной госпожи, которая теперь на небесах.
Жанна пожала руку крестьянину.
— Принимаю от всего сердца ваше предложение, друг мой, — отвечала она. — Приведите ко мне вашу жену… Сердце мое будто разорвано на части, мне кажется, что я умираю!..
Смертельная бледность молодой девушки и судорожный трепет во всем ее теле подтверждали зловещим образом печальное значение ее последних слов. Муж Глодины поспешил вернуться домой, бормоча про себя:
— Бедная девушка!.. Бедная девушка!.. Только бы не случилось с ней в эту ночь еще одного несчастья.
Оставшись одна, Жанна сделала несколько шагов, чтобы выйти из комнаты Рауля в первый этаж, но у нее недостало силы. При этом какой-то инстинктивный ужас удерживал ее от спальни в верхнем этаже, где лежал окровавленный труп матери. Она упала на стул, закрыла голову обеими руками, и безмолвные слезы покатились одна за другой между ее пальцами. Мало-помалу слезы иссякли, Жанна подняла голову, и глаза ее, устремленные в неопределенное пространство, как будто смотрели на что-то с глубоким ужасом. Страшная мысль мелькнула в голове ее. Напрасно старалась она прогнать эту мысль всеми силами души своей, как непростительное оскорбление памяти едва охладевшей матери. Эта роковая мысль беспрестанно возвращалась к ней и каждую минуту становилась все яснее и яснее, подтверждаясь все более и более неопровержимыми доказательствами. Жанна обвиняла свою мать! Она обвиняла ее в покушении на убийство, которое перст Божий обратил против нее самой. И это обвинение, основанное на ее воспоминаниях, было выведено с поражающей логикой из всех случившихся обстоятельств.
В самом деле, Мадлена, столь неприязненная сначала к больному и умирающему Раулю, не смягчилась ли внезапно, узнав, что молодой человек привез с собой огромную сумму денег? Не расспрашивала ли она Жанну о его богатстве с жадным волнением скряги и вора? Не возобновила ли она своих вопросов тотчас после ухода слуги Рауля, осведомившись, не унес ли Жак с собою чемодан с золотыми монетами? Не она ли посоветовала дать лекарство, которое должно было погрузить кавалера в летаргический сон? Жанна вспомнила, какое радостное выражение промелькнуло на лице ее матери, когда она сказала ей, что Рауль спит, и с каким странным выражением больная вскричала: «Спит… Это добрый знак!..»
С этой минуты, доказательства становились для Жанны все яснее и яснее. Было очевидно, что Мадлена встала с постели, заперла задвижкой дверь спальни своей дочери и сняла со стены кинжал, наследство Гильйома де Шанбара. В своей адской страсти к золоту она почерпнула необходимые силы, чтобы сойти с лестницы; но эти самые силы изменили ей в ту минуту, когда преступление должно было совершиться, и небесное правосудие допустило, чтобы убийственное оружие обагрилось кровью преступницы, вместо того, чтобы пролить кровь обреченной жертвы.
Жанна находилась словно в сомнамбулизме; ей казалось, будто она сама присутствовала при всех подробностях ужасной сцены, которую наши читатели уже знают. Стараясь не думать о своей матери, она бросилась на колени и вскричала с горячей набожностью:
— Боже! Боже правосудный и всемогущий! Ты, спасший невинного и наказавший преступницу за замышляемое преступление!.. Боже! Не преследуй своим мщением мою бедную мать за пределами этой жизни! Будь милосерд! Прости ей, мой Боже! Прости!..
После этой молитвы, Жанна почувствовала себя спокойнее. С каким-то хладнокровием смотрела она на весь ужас своего положения, хотя оно казалось, не имело выхода. Несчастная девушка в неполные шестнадцать лет осталась сиротой, без убежища, без средств… ей негде было приклонить свою голову, не к кому протянуть руки! Куда идти! Где найти хлеб насущный?
Жанна не могла решить этих печальных вопросов. Однако, она не растерялась и сказала себе с той твердой и безропотной решимостью, которая рождается только в минуты больших несчастий:
— Может быть, Господь мне поможет. К тому же известно, что смерть представляет верное прибежище тем, для кого невозможна жизнь.
XVI. Пробуждение
Муж Глодины скоро воротился с женой, которую оставил с Жанной. Обе женщины провели остаток ночи в молитвах, возле усопшей.
Утром на следующий день люсьенский пастор отдал последний долг останкам Мадлены, а Жанна убежала в самую отдаленную часть дома, чтобы не присутствовать при раздирающем зрелище погребения, чтобы не слышать зловещего стука молотка, заколачивавшего гроб ее матери. Скоро смиренная похоронная процессия, в сопровождении священника и нескольких крестьян, медленно тянулась к кладбищу.
Узнав от мужа, что в доме был больной, Глодина, движимая чувством сострадания, заставившего ее не оставлять несчастного, о котором забыли все, без труда отыскала комнату кавалера де ла Транблэ.
Рауль наконец проснулся и прислушивался к звуку удалявшихся голосов, напевавших De profundis. Действие опиума почти рассеялось, только как будто какое-то нравственное опьянение затмевало его рассудок и отнимало у мыслей их обычную ясность. Ему казалось, что он долго спал тяжелым сном, от которого на минуту был пробужден каким-то непонятным видением. Действительно, сквозь сон он чувствовал, но не понимал, что с ним делали, когда крестьяне хотели стащить его с постели.
— Как вы себя чувствуете? — спросила Глодина, подходя к Раулю.
— Кажется, мне лучше, — отвечал молодой человек. — Но скажите, пожалуйста, что происходит здесь?.. Сейчас я слышал шаги в коридоре, голоса, певшие молитву, и теперь еще эти самые голоса замирают вдали, напевая погребальный гимн…
— Ах! — отвечала Глодина. — В эту ночь сюда вошла смерть!
— Смерть? — повторил Рауль. — Вы хотите сказать, что кто-нибудь умер здесь?
— Увы!
— Не она, не правда ли? — вскричал кавалер с глубоким беспокойством. — О! Скажите мне, что не она!
— Она? — спросила Глодина с невольным любопытством. — Кто это «она»?
— Та прелестная молодая девушка, которая ухаживала за мной с состраданием и преданностью ангела и которая удивительным образом похожа на эту царицу… Вот посмотрите против вас…
Глодина обернулась к обоям. Она была поражена и удивлена не меньше, чем Рауль, сходством Жанны с царицей Савской. Помолчав с минуту, она отвечала:
— Нет! Умерла не она, а ее мать…
Рауль вздохнул свободно.
— Слава Богу! — сказал он. Потом добавил: — При одной мысли о подобном несчастье, кровь охладела в моих жилах! Скажите мне, — продолжал он, подумав с минуту, — каким образом умерла мать этой молодой девушки?.. Я знал, что она больна, но не думал, чтобы так опасно…
— Она умерла не от болезни, — отвечала Глодина.
— Великий Боже! Неужели было совершено преступление?
— Еще неизвестно, преступление или только случай.
— Объяснитесь, умоляю вас!
Глодина рассказала Раулю все, что знала о происшествиях прошлой ночи, и прибавила к рассказу свои собственные рассуждения, которые немало запутали факты. Во все продолжение этого рассказа Рауль подавал знаки очевидного волнения.
— Где теперь эта несчастная девушка? — спросил он, когда Глодина кончила.
— Она спряталась, чтобы не видеть похорон матери…
— Сделайте милость, отыщите ее и скажите ей, что незнакомец, которому она оказала такое великодушное гостеприимство, на коленях умоляет ее прийти к нему на минуту…
— Охотно! — вскричала Глодина. — И если вы знаете, чем утешить эту бедную барышню, то сделаете доброе дело!..
— Ступайте, — повторил Рауль, — ступайте скорее!..
— Бегу, — отвечала крестьянка и поспешно вышла.
— Я всюду приношу несчастье! — прошептал кавалер, оставшись один. — Будто навлекаю громовый удар на дома, в которых приклоняю свою голову!.. Решительно, надо верить, что есть промысел Божий!..
Кавалер погрузился довольно надолго в мрачное, глубокое размышление.
«Кто может сказать, что я сделал, — думал он, — доброе дело или гнусное преступление?.. Кто может осудить меня или оправдать?.. Кто может понять чувство, которому я повинуюсь, и которого сам не могу определить хорошенько?.. Мне кажется, что мое сердце бьется сильнее.. Я не думал, чтобы это было еще возможно!..»
Рауль приложил руку к сердцу, как будто считая его удары. Улыбка скользнула по губам его, и он продолжал думать, с ироническим выражением на лице:
«Да, оно бьется!.. бьется, как у ребенка!.. бьется, как у женщины!.. Филипп Орлеанский этому не поверит… да и другие тоже!.. Как они будут насмехаться надо мной, если узнают об этом, и правильно сделают!.. Неужели я люблю эту молодую девушку?..»
Рауль снова спросил у сердца и отвечал себе:
«Жребий брошен! Да я люблю ее!»
Едва молодой человек окончил эти бессвязные размышления, в которых, казалось, не было ни смысла, ни логики, дверь комнаты растворилась и вошла Жанна. Бедная девушка очень изменилась со вчерашнего дня. Лицо ее, обыкновенно сиявшее румянцем, было покрыто бледностью, которую слезы испестрили синими пятнами; большие глаза, окруженные черными кругами, сверкали лихорадочным блеском; длинные белокурые волосы, не собранные в косу и развевавшиеся, как будто рыдали вокруг ее лица. Она была в черном платье. Наружность ее в ту минуту, когда она вошла в комнату Рауля, выражала смущение. Она помнила неблагодарное и ужасное обвинение, которое сделала против Рауля в прошлую ночь, и трепетала от упреков совести при мысли о последствиях, которые чуть было не повлекло это обвинение. Мы знаем притом, что чувства ее к Раулю были далеко от равнодушия, и она упрекала себя в живости этих чувств в такое время, когда ей, по-видимому, следовало бы полностью погрузиться в благоговейную печаль. Она старалась, но напрасно, скрывать свои ощущения и сказала голосом дрожащим и едва внятным:
— Вы желали говорить со мной? Я пришла.
— Я хотел вам высказать, — начал Рауль почти с таким же волнением, как и молодая девушка, — какое глубокое участие принимаю я в ужасном ударе, поразившем вас…
Жанна отвечала только слезами.
— Чтобы спасти жизнь, угасшую в эту ночь, — продолжал Рауль, — я отдал бы свою.
«О! если бы он знал, — думала Жанна, — если бы он знал, что сохранил жизнь только потому, что умерла моя мать…»
XVII. Любовь
— Благодаря вашей заботливости, — продолжал кавалер, — я чувствую, что спасен! Благодаря вашему вниманию я могу преклонить колени на могиле благородной женщины, которую вы оплакиваете, а я благословляю, хотя и не знал ее… Я обязан вам жизнью, и, может быть, признательность дает мне право просить вас…
— Я вас слушаю, — перебила девушка, — и если от меня зависит исполнить вашу просьбу, будьте уверены, что это будет сделано…
— Если так, — продолжал Рауль, — забудьте, что я для вас посторонний, почти незнакомый, принятый из сострадания в вашем доме… Забудьте, что я еще молод… Смотрите на меня, как на старого друга, как на брата… Словом, как на человека, для которого вы священны и который поставит целью всей своей жизни упрочить ваше счастье… Имейте ко мне такое же доверие, какое имели бы к этому другу или брату, о которых я говорю…
Жанна не угадывала, чем кончит Рауль, и отвечала:
— Будьте уверены, что я чувствую к вам то доверие, которое брат внушает сестре…
— Благодарю за это доброе слово! — вскричал Рауль. — Оно дает мне мужество продолжать. Стало быть, сестра моя, вы будете мне отвечать с полной откровенностью?..
— Буду.
— О чем бы я ни спросил вас?..
— Да.
— Вы мне позволите прочесть в вашей душе и раскрыть перед вами мою душу. Вы не улыбнетесь презрительно, услышав, что я выражаю надежды и желания, которые вы примете, может статься, за последние грезы еще не угасшей горячки?..
— Будьте покойны, — печально отвечала Жанна, — мои губы не умеют более улыбаться!..
— Вы мне сказали, не правда ли, — продолжал кавалер, — что вы бедны?..
— Да, — отвечала девушка, — я так говорила.
— Вы мне сказали еще, что ваша мать была принуждена продать этот дом, и что все находящееся здесь не принадлежит вам?..
Жанна не отвечала ни слова, но кивнула головой, как бы подтверждая, что Рауль не ошибается. Молодой человек продолжал:
— Итак, теперь вас, бедную сироту, неумолимый кредитор может прогнать из этого дома?
— Да, — отвечала Жанна.
— Есть у вас убежище?
— Нет.
— Родственники?
— Никаких.
— Друзья?..
— Ни одного.
— Что же вы будете делать?..
— Не знаю.
— Какая будущность предстоит вам?
— Я не хочу об этом думать.
После минутной нерешимости, Рауль продолжал:
— Вы помните, без сомнения, что, узнав от вас о бедности столь ужасной и столь благородно переносимой, я хотел предложить вам помощь, которую вы отверг нули с героической гордостью… Вы дали мне почувствовать, что ничто не давало мне права сделать вам подобное предложение, и я думал, что мне нельзя более настаивать…
— Вы правы, — сказала Жанна.
— Сегодня я не возобновляю моих предложений…
— Благодарю вас, — прошептала девушка.
— Я только хочу задать вам вопрос… От вашего ответа зависит спокойствие… счастье моей жизни…
— Говорите!.. Говорите!.. — вскричала Жанна с живостью.
— Жанна! — сказал Рауль тоном серьезным и взволнованным: — Жанна, свободно ли ваше сердце?
При этом неожиданном вопросе лоб, щеки и шея молодой девушки покрылись яркой краской.
— Подобный вопрос… — прошептала она.
— Удивляет и оскорбляет вас, — перебил Рауль, — однако ж, я надеюсь, что скоро вы не будете ни удивляться, ни осуждать меня… Несколько слов должны оправдать меня в ваших глазах, и я хотел бы произнести их перед вами на коленях… Вот эти сладостные слова: Жанна, я люблю вас!
— Вы меня любите? — вскричала молодая девушка с внезапным порывом радости и изумления.
— Да, — продолжал Рауль. — Я вас люблю и — странное дело! — вас любил еще раньше, чем увидел…
Удивленный взгляд Жанны ясно выразил, что она этого не поняла. Рауль это заметил и объяснил свою мысль.
— С той минуты, — сказал он, — когда эти обои представили моим еще помутившимся глазам прекрасный образ молодой царицы, а вы ее живой портрет, кроткое лицо ее овладело моим сердцем, хотя я и принимал эту чудную красавицу за благодетельное видение. Когда вы явились мне в первый раз, это сердце уже принадлежало вам и вы царствовали в нем полной владычицей!.. С того дня любовь моя увеличилась еще более восторгом и признательностью, которые вы внушили мне. Я вас люблю теперь всеми силами души моей, всем могуществом моей жизни!.. Ваше присутствие сделалось для меня так же необходимо, как воздух и солнце… Не удаляйте меня от себя… Поверьте, было бы менее жестоко дать мне умереть, нежели возвратить на минуту жизнь, чтобы потом отнять ее!
— Боже мой!.. — пролепетала молодая девушка, — подобное признание… в подобную минуту…
— О! — с живостью перебил Рауль. — Минута хорошо выбрана, потому что она торжественна!.. Не в то ли мгновение, когда все рушится вокруг вас, могу и должен я протянуть вам руку и сказать: Обопритесь на меня… Я буду поддерживать вас всегда!.. Жанна! У вас нет более родных, я хочу заменить моей любовью их привязанность… Вы бедны, я хочу сделать вас богатой!.. Состояние мое велико, имя почетно, любовь моя к вам глубока!.. Жанна! В присутствии Бога, который нас видит, в присутствии вашей матери, тень которой нас слушает и благословляет, я спрашиваю вас, хотите ли вы быть моей женой?
Жанна не отвечала, она не могла отвечать. Слишком великое и слишком неожиданное счастье вдруг взволновало ее сердце, произвело во всем существе ее странное потрясение, которое могло бы сравниться только с поражающей искрой электрической машины. Рауль сделал вид, будто не заметил бури, происходившей в сердце девушки.
— Боже мой! — прошептал он с выражением глубокого горя. — Боже мой, неужели вы не хотите отвечать мне?..
Жанна поднесла руку к груди и сделала знак, что она не в силах говорить.
— Это отказ? — продолжал молодой человек. — О! Если это отказ, я чувствую, что умру!..
Силы возвратились к Жанне.
— Неужели вы не поняли, — вскричала она голосом, вырвавшимся прямо из сердца, — не поняли, что и я тоже люблю вас?..
Рауль ждал этих слов; однако радость его была так велика, будто они были для него неожиданностью. Потом, после первых восторгов, он надел на безымянный палец девушки золотое кольцо, которое снял со своего правого мизинца, и сказал:
— С этой минуты, Жанна, перед Богом и вашей матерью, вы моя невеста!..
XVIII. Ответы из Парижа
В ту минуту, когда происходила вышеописанная сцена, всадник, скакавший галопом по дороге из Парижа в Сен-Жермен, остановил перед Маленьким Замком свою лошадь, обливавшуюся потом и покрытую пеной. Всадник проворно соскочил с седла, привязал лошадь к железному кольцу, вбитому в стену, и два раза ударил молотком в дверь.
Сказав Жанне: «Перед Богом и вашей матерью, вы моя невеста!» Рауль в первый раз коснулся губами лба молодой девушки. Она вздрогнула при стуке молотка и побежала отворить. Это приехал Жак.
— Жив он? — спросил слуга с глубоким беспокойством.
— Да, — весело отвечала Жанна, — жив и, слава Богу, спасен!
Жак охотно расцеловал бы ту, которая сообщила ему доброе известие, но не посмел; притом он торопился к своему хозяину. Кавалер протянул ему руку. Жак покрыл ее слезами радости и прошептал:
— Я знал, что найду вас в живых…
«Клянусь честью, — подумал Рауль, — вот слуга, каких мало!.. Он был бы моим наследником и все же радуется, что не будет присутствовать на моих похоронах! Этак, пожалуй, поневоле поверишь в людскую добродетель».
— Да, мой милый, — сказал он вслух. — Ты меня нашел в живых.
— И благодарю за это Бога! — вскричал слуга.
— Конечно, но также поблагодари и ее! — продолжал Рауль, указывая на Жанну.
Жак взял руку девушки и осыпал ее поцелуями. Кавалер продолжал, улыбаясь:
— Я очень доволен тобою, мой добрый Жак; однако через несколько дней ты уже не будешь служить мне…
Лакей изменился в лице.
— Вы мне отказываете? — спросил он печальным тоном.
— Нет, но я даю тебе другого господина…
— Другого господина? — повторил Жак в изумлении.
— Да, которому ты должен будешь повиноваться точно так же, как и я сам…
Слуга делал неимоверные усилия, чтобы понять значение слов кавалера, но решительно не понимал ничего.
— Я говорю о мадемуазель Жанне, — продолжал Рауль, — которая скоро будет моей женой и которой мы будем повиноваться оба.
— Ах! — вскричал Жак, улыбаясь в свою очередь. — Если так, то это прекрасно! Да здравствует мадам де ла Транблэ!
С тем деликатным тактом, которым щедро одарены почти все женщины, Жанна поняла, что Рауль должен желать поговорить со своим слугою, и потихоньку вышла из комнаты, оставив их наедине.
— Ну! — с живостью спросил Рауль, как только дверь затворилась за Жанной, — ты исполнил мои поручения?
— Исполнил.
— С успехом?
— Надеюсь.
— Добился ты результата, которого я ожидал от твоей поездки?..
— Я привез ответы от регента и от маркиза де Тианжа.
— Подай скорее…
Жак вынул из своего кожаного пояса два письма средней величины и подал их барину. Рауль взял и распечатал одно за другим. В первом заключались только следующие латинские слова:
«Legi. — Bene.»
Эта лаконическая записка была подписана буквами Ф. и О.
Латинские слова значили: Читал. — Хорошо.
Буквы Ф. и О. были начальными буквами имени регента: Филипп Орлеанский.
— Что сказал тебе регент? — спросил Рауль.
— Он много расспрашивал меня о вас и очень сожалел о случившемся с вами несчастье.
— Ты добрался до него без труда?
— Да. По вашим указаниям, я обратился к камердинеру Максиму, и все двери Пале-Рояля отворились перед перстнем, который вы мне дали.
Рауль распечатал второе письмо; оно было подробнее первого.
«Любезный кавалер! — писал маркиз де Тианж, — я получил дьявольские бумаги, которые вы послали мне, и очень рад их содержанию; только жалуюсь на посланного, которого вы выбрали. Это негодяй самой непроницаемой скромности: невозможно было выпытать у него ни одного слова. Я предполагал, что какая-нибудь важная причина помешала вам самому приехать ко мне, и, любопытствуя узнать эту причину, я употребил все силы, чтобы допытаться от вашего таинственного комиссионера, в чем дело… Но, кажется, было бы легче заставить разговориться статую! Однако в каком бы месте вы ни находились, я все-таки желаю, чтобы фортуна вам улыбалась.
Вы очень меня обяжете, если пришлете мне сто тысяч экю, в которых я очень нуждаюсь. Вполне полагаюсь на вас. Зато, любезный кавалер, прошу вас считать меня в числе самых преданных ваших друзей.
Маркиз де Т…»
Рауль разорвал оба эти письма на бесчисленное множество крошечных кусочков, которые разбросал вокруг своей кровати.
XIX. Отъезд
— Жак, — сказал он потом, — ступай к мадемуазель Жанне и попроси у нее для меня перо, чернил и бумагу.
Слуга тотчас повиновался и через минуту принес все требуемое.
— Пиши под мою диктовку, — продолжал кавалер.
Жак с замешательством почесал себе ухо.
— Я пишу почти так же, как написала бы муха, которая, упав в чернильницу, вздумала бы прогуляться по бумаге…
— Не страшно, — отвечал Рауль, — только бы можно было разобрать; этого достаточно. Притом то, что я тебе продиктую, очень коротко.
Жак поспешил повиноваться своему барину.
— Ты готов? — спросил Рауль.
— Готов, — отвечал слуга.
Рауль продиктовал следующее:
«Перешлите как можно скорее, в отель улицы Св. Доминика сто тысяч экю, золотом. Шкатулка, в которую вы положите золото, должна быть послана в Париж за печатью Пале-Рояля».
— Это все, — сказал Рауль.
— Подписи не будет? — спросил Жак.
— Нет, не нужно… Регент возвратил тебе перстень, который ты передал ему?
— Возвратил, вот он.
— Возьми в черепаховой шкатулке палочку сургуча и зажги свечу.
— Готово…
— Теперь приложи печать этим перстнем, внизу письма вместо подписи, сложи письмо и напиши адрес так:
«Господину Жоржу Вильсону, управителю. В Замок Бом, через Сен-Жермен».
Рауль рассмотрел надпись, велел запечатать письмо гладкой печатью и потом спросил:
— Каким образом ты приехал из Парижа?
— Верхом.
— Где твоя лошадь?
— Привязана у двери…
— Садись на нее и скачи галопом в Сен-Жермен; там отдай на почту это письмо.
— А потом?
— Потом возвращайся сюда, ты будешь мне нужен.
Слуга вышел, и Жанна, подстерегавшая конец разговора, тотчас же вошла в комнату.
— Мое возлюбленное дитя, — сказал ей Рауль, — поговорим о будущем… Позвольте мне рассказать вам о своих планах.
— Вы знаете, — отвечала Жанна, — что ваша воля будет моей волей, а ваши желания моими…
— Нет, — возразил кавалер. — Напротив, я хочу советоваться с вами обо всем и желаю, чтобы ваши ответы на мои вопросы всегда были истинным выражением ваших мыслей…
— Я буду поступать по вашим желаниям, — отвечала девушка.
— Итак, Жанна, скажите мне прежде всего, дорожите ли вы этим домом?
— Я провела здесь единственные счастливые дни моей жизни, дни моего детства… Я здесь выросла… Мать моя здесь умерла…
— Значит, вы дорожите им, не правда ли?..
— Да.
— Позвольте же мне предложить вам этот дом как свадебный подарок. Я выкуплю его у вашего кредитора, которому он принадлежит…
— Я приму этот подарок с величайшей радостью.
— Теперь скажите мне, когда вы хотите назначить день нашей свадьбы?..
Жанна очень покраснела, потупила глаза и отвечала голосом едва внятным следующие слова, которые Рауль скорее угадал, нежели услыхал:
— Я желаю, чтобы это было скоро…
Рауль взял руку молодой девушки и поднес ее к своим губам; это еще более увеличило краску и замешательство Жанны.
— Мы не можем венчаться здесь, — продолжал Рауль. — Не против ли вы, милое дитя, если наша свадьба будет отпразднована в Париже?..
— Да, — отвечала Жанна.
— Вы, конечно, поймете, что я не могу оставить вас в этом доме на то время, которое будет необходимо для нужных формальностей. Согласитесь ли вы ехать со мной?
— Да.
— Мне не нужно повторять вам, что вы для меня священны, и что до тех пор, пока Господь не благословит нашего союза рукой одного из своих служителей, я буду уважать мою жену, как сестру…
— Рауль, — прошептала Жанна, — я верю вам, как брату…
— Мы поедем тотчас, как только позволит мое здоровье, — продолжал кавалер, — и я чувствую, что это будет скоро: ничто не излечивает так, как счастье!.. До тех пор не отходите от меня, потому что ваше обожаемое присутствие возвращает мне жизнь…
Их разговор продолжался долго, но с этой минуты это была беседа любви, нежная и целомудренная, которую бесполезно было бы передавать здесь.
Через десять дней после происшествий, рассказанных в первых главах этой истории, Рауль выздоровел совершенно и выкупил Маленький Замок, снова сделавшийся собственностью Жанны. В одно утро дорожный экипаж кавалера, запряженный четверкой лошадей, ждал у дверей; Жак стоял на пороге. Рауль вышел со своей невестой, и они сели в карету; Жак поместился на запятках, кучер ударил по лошадям, и карета быстро покатилась по мостовой.
XX. Гостиница «Царь Соломон»
Между тем, как дорожная карета Рауля быстро катилась по полям Буживаля, Рюэля и Нёльи, Жанна, прелестная и очаровательная еще более прежнего в своем траурном костюме, наслаждалась с неизъяснимым счастьем сладостной беседой наедине с Раулем.
Рауль держал в своих руках крошечную и белую ручку своей невесты и устремлял на нее долгие и нежные взгляды. Между молодыми людьми были минуты молчания, исполненные выразительного красноречия. Кавалер наконец прервал это молчание и, обратившись к своей спутнице, которая смотрела на него с безмолвным обожанием, прошептал:
— Скажите мне, моя милая царица, суеверны ли вы?
Заметим мимоходом, что Рауль часто называл Жанну «моя царица» по причине удивительного сходства ее с царицей Савской.
— Не думаю, — отвечала Жанна. — Однако, друг мой, объяснитесь яснее, и я буду вам отвечать более положительным образом.
— Верите ли вы прорицаниям и предчувствиям?
— Нет.
— Напрасно, — прошептал кавалер.
— А вы разве верите, друг мой?..
— Твердо верю, но моя вера совсем не похожа на верование толпы…
— В чем же?
— В том, что моя радость и надежды происходят из того, что обычно приводит в отчаяние и пугает слабых…
— Я вас не понимаю.
— Я объяснюсь яснее. Мое убеждение состоит в том, что в свете почти всегда хорошее сменяет дурное, счастье является вслед за отчаянием. Я улыбаюсь пагубным предзнаменованиям, и чем прошлое мрачнее, тем более я верю в будущее.
— Страшное убеждение! — перебила молодая девушка.
— Оно основывается на опыте, — продолжал Рауль, — и, притом на моем собственном опыте… Хотите, я докажу вам это на нашем с вами примере, о, моя возлюбленная царица! До какой степени основательно мое убеждение?..
— Докажите, если хотите… Или, скорее, если сможете, — прибавила Жанна с улыбкой.
— Послушайте же…
— Нужно ли мне уверять вас, что я слушаю с глубочайшим вниманием?
— Помните ли вы, каким образом я попал к вам?
— Еще бы!
— Ночь была темная… Ревел ураган… Волны Сены потопили моего несчастного кучера в ту минуту, когда меня вытащили, почти умирающего, из обломков кареты.
— К несчастью, все это справедливо!..
— Если я не ошибаюсь, это были печальные предзнаменования!.. Наша любовь рождалась под покровительством смерти и гибели.
— Рауль, вы меня пугаете! — вскричала Жанна, сердце которой начинало сжиматься.
— Напротив, я хочу успокоить вас, — отвечал Рауль. — Под влиянием лихорадочного бреда увидел я в первый раз ваш образ… Смерть парила над головой моей в ту минуту, когда ваши черты запечатлевались навсегда в моем сердце! Смерть была под вашей кровлей, когда тайна моей любви сорвалась с губ моих, и De profundis еще звучал вокруг гроба вашей матери, когда я сказал вам, что люблю вас…
— Рауль!.. Рауль!.. Я боюсь!.. — снова повторила молодая девушка: — О! Зачем вы напоминаете мне все это?..
— Для того, чтобы вы верили, моя возлюбленная, как и сам я верю, что лучезарное светило нашего счастья засияет тем большим блеском, чем бледнее взошло оно. посреди надмогильного тумана!..
— Я разделяю ваши надежды, друг мой, но мне тяжело от ваших слов…
— Отчего?..
— Я была счастлива, узнав, что вы меня любите, и чувствуя, что я тоже люблю вас… Я никогда не думала об этом роковом начале, из которого произошла наша любовь, и хотела бы никогда не думать о том!..
— Дитя! — перебил Рауль тоном снисходительного и любящего сострадания. — Имейте более мужества!.. Поставьте вашу душу наравне с моею, разделите со мной веру, которая не обманывала меня никогда!..
— Постараюсь… — прошептала девушка.
Но софизмы Рауля обвили ее словно ледяным покровом; сердце ее сжалось и непонятная тоска показывала будущее в каком-то мрачном тумане. Всю дорогу Жанна напрасно старалась победить это впечатление.
Наконец карета остановилась у парижской заставы. Жак подошел к дверце.
— Куда прикажете ехать? — спросил он.
— На улицу Шерш-Миди, в гостиницу «Царь Соломон», — отвечал Рауль. — Не правда ли, какое странное совпадение, милая Жанна? — прибавил он с улыбкой, когда карета опять покатилась. — Первый дом, в котором остановится в Париже царица Савская, это гостиница «Царь Соломон»!..
— В самом деле, странно, — отвечала молодая девушка.
— Скажите мне, — продолжал Рауль, — точно ли вы уверены, что главное действующее лицо в картине на обоях не было портретом одной из ваших прабабушек?.. Это могло бы объяснить ваше удивительное сходство…
— Я уверена в обратном, — отвечала Жанна. — Потому что Маленький Замок, со всем принадлежащим ему, достался в наследство моему отцу, а я похожа лицом на мою бедную мать.
— Если так, то это просто случай, но случай — великий властелин, и я удивляюсь огромному таланту неизвестного художника, который умел воспроизвести такое небесное личико, как ваше!..
Жанна улыбнулась на этот комплимент, но не ответила на него. Мы уже знаем, что она была печальна и озабочена.
Карета снова остановилась, и на этот раз на улице Шерш-Миди, у гостиницы, названной Раулем.
Это был старый дом, весьма невзрачной наружности; узкий и почерневший фасад его несколько покривился; штукатурка во многих местах растрескалась от времени и напоминала морщинистое лицо столетней старухи. Над входом гигантская вывеска из листового железа была прикреплена железными скобами к тяжелой дубовой доске. Вывеска эта качалась при малейшем ветре с сильным бренчанием. Наивная кисть художника, имя которого не сохранилось, начертала на железном листе изображение человека высокого роста, в тюрбане и в длинной белой мантии с золотой каймой. Человек этот держал в правой руке жезл и как будто распоряжался легионом микроскопических работников, которые строили, по его приказаниям, здание весьма странной формы. Надпись, начертанная красивыми буквами, красными и золотыми, объясняла мысль живописца:
«Великому Царю Соломону»
Странное здание, составлявшее задний план картины, был Храм Иерусалимский.
XXI. Тайное жилище
Ворота гостиницы повернулись на своих петлях, и карета въехала на внутренний двор, окруженный конюшнями, в которых могли поместиться полсотни лошадей. Жак отворил дверцы кареты. Рауль вышел первый, потом взял Жанну на руки и перенес ее на землю.
В эту минуту, человек роста немного выше среднего, необыкновенно сухощавый, с живостью подошел к приезжим. Этому человеку могло быть лет семьдесят; он был в коротких штанах, узко стянутых у колен медными пряжками, и в узорчатых чулках, которые висели складками около его тощих икр. Серый суконный плащ и черная бархатная шапочка на плешивом черепе дополняли этот фантастический костюм. Лицо этого старика выражало хитрость и лукавство; вообще вся фигура его представляла в высочайшей степени жидовский тип.
Это был хозяин гостиницы. Его считали человеком богатым, но весьма скупым. Настоящее его имя было Самуил Вертами, но в квартале он был известен под именем Дяди-богача.
Самуил подошел к Раулю и Жанне. Узнав кавалера, он склонился почти до земли, что делало величайшую честь гибкости его позвоночного столба, снял бархатную шапочку, покрывавшую его голову, и пробормотал сквозь зубы церемонные уверения в нижайшем уважении и глубочайшей преданности. Рауль перебил его, сказав:
— Хорошо, хорошо, Самуил… все ли в порядке?.. — Да, кавалер, как всегда, — отвечал старик.
— Стало быть, мы можем войти?
— Можете, кавалер, и хотя вы хорошо знаете дорогу, я все-таки буду иметь честь проводить вас и…
Старый Самуил вдруг остановился. Рауль угадал причину внезапного молчания жида и, увидев на лице Жанны замешательство, поспешил сказать:
— Мою жену…
— Вас и мадам де ла Транблэ, — продолжал Самуил, снова поклонившись.
Потом он пошел вперед. Кавалер и Жанна последовали за ним. Все трое вошли во второй этаж, в ту комнату, о которой Рауль говорил Жаку месяц назад и которая называлась Комнатой Магов. Вокруг этой комнаты были расставлены большие шкафы с богатым запасом самых разнообразных костюмов; в одном углу стоял железный сундук, прикрепленный к полу. В этой комнате не было решительно никакой мебели, кроме трех или четырех грубых стульев.
Как только Жанна и Рауль перешли за порог, Самуил низко поклонился им и ушел, затворив за собой дверь. Девушка с удивлением обвела комнату глазами.
— Что вы думаете об этом жилье? — спросил Рауль, улыбаясь.
— Что могу я думать о нем? — отвечала Жанна. — Я жду.
— Стало быть, вы не думаете, что я намерен поместить вас здесь?..
— Нет, — возразила она, улыбаясь в свою очередь. — Если только вы не намерены также дать мне этот сундук вместо кровати.
— Посмотрите, — сказал кавалер.
Он подошел к одному шкафу и дотронулся до металлической пуговки, почти невидимой, потому что она была выкрашена точно такой же серой краской, как и дерево. Рауль коснулся этой пуговицы, и стена затрещала; перед ними отворилась дверь в узкий и темный коридор. Жанна не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть от удивления. Рауль взял ее за руку.
— Не бойтесь, — сказал он, — и пойдемте…
— Могу ли я бояться с вами? — отвечала молодая девушка.
Коридор, в который они вошли, был так узок, что двоим нельзя было идти рядом. Рауль пошел впереди, держа Жанну за руку. Темнота была глубокая. Они сделали шагов около двадцати, потом кавалер остановился. Снова раздался треск, и ослепительный свет ударил прямо в лицо Жанне и принудил ее закрыть на секунду глаза, которым было больно от внезапного перехода из темноты к такому яркому блеску.
Молодые люди находились уже в гостинице Царя Соломона. Тайный переход, сделанный в толстой стене, привел их в смежный дом.
Когда веки Жанны приподнялись снова, она пришла в изумление при виде зрелища, поразившего ее. Она находилась в круглой комнате, убранной в восточном вкусе с роскошью, которая могла соперничествовать с великолепием Альгамбры в лучшие времена мавританского владычества. Турецкий ковер, мягкий, как руно молодых овец, покрывал пол и поражал взор своими яркими красками и блестящими арабесками. Диваны окружали эту комнату; пурпур, золото и лазурь смешивались в ткани, которой обиты были эти диваны. Все остальное было также великолепно. Видно было, что для украшения этой комнаты хозяин дома не пожалел ни самого редкого мрамора, ни серебряных вещей драгоценного чекана.
— Как это чудесно! — вскричала Жанна.
— Вы еще не все видели, — заметил Рауль.
Он приподнял тяжелую портьеру с золотой каймой и ввел Жанну во вторую комнату, меблированную с мрачным и строгим вкусом; стены этой комнаты были обложены черным деревом. Индийская циновка несравненной работы заменяла ковер. В двух огромных буфетах стояли сервизы — серебряный, чудной работы, и два фарфоровых, один севрского, другой саксонского фарфора. Стулья, обитые позолоченной кордовской кожей, окружали стол, уставленный разными кушаньями, пирожными, превосходными фруктами и графинами из богемского хрусталя; графины были наполнены винами, из которых одни имели огненно-желтый блеск топаза, другие — прозрачность бледного рубина, а третьи, наконец, — темный оттенок царственного пурпура,
— Это еще не все, — сказал Рауль.
И он повел Жанну в спальную, очень маленькую, для убранства которой распорядитель всех этих чудес изобрел тот кокетливый и восхитительно-жеманный стиль, который должен был несколько лет спустя получить имя а-ля Помпадур. Стены этой комнаты были обтянуты беловато-серым атласом, по которому были вышиты большие букеты роз и жимолости. На полу вместо ковра лежал горностаевый мех. Волны индийской кисеи спускались вокруг кровати из розового дерева; в спинку кровати были вделаны фигурки из севрского фарфора. Но мы должны отказаться от желания дать понятие, даже и несовершенное, о тысяче великолепных безделушек, загромождавших эту спальную. Тут были и эмаль и статуэтки из слоновой кости и золота, японские и китайские куклы, и саксонские куколки, и множество прелестных вещиц работы Бенвенуто Челлини.
Одно только поражало взор своей странностью: это было то, что возле этого истинно женского изящества находился настоящий арсенал оружия. За волнистыми занавесками, о которых мы сейчас говорили, на богатых шелковых обоях висела полная коллекция пистолетов и кинжалов, начиная с испанского стилета и кончая турецким ятаганом и индийским канджаром.
— Милая царица, — сказал Рауль, приведя Жанну опять в столовую, — вы, вероятно, голодны… Посмотрите, эти фрукты почти достойны вас.
— Где мы? — спросила молодая девушка.
— Месяц тому назад, — отвечал Рауль, — я сказал бы: вы у меня; сегодня я должен сказать, о моя прелестная царица: мы у вас…
— Как? Все это принадлежит вам?..
— Да, если все это ваше.
— Но зачем этот таинственный вход?..
— По причинам, которые я объясню вам впоследствии и которые вы легко поймете. Теперь скажите мне, милая Жанна, хотите ли вы занять эту квартиру и жить в ней вдвоем с горничной до нашей свадьбы, которая скоро должна состояться?..
— Вы знаете, друг мой, — ответила Жанна, — что я во всем соглашаюсь с вашими желаниями, и хочу того же, чего хотите вы…
Оставив молодую девушку в таинственной квартире, описанной нами, Рауль вернулся той же дорогой, по какой пришел, и, поговорив несколько минут с Самуилом, вышел из гостиницы «Царь Соломон».
XXII. Дьявол
Рауль остановил на улице портшез и велел отнести себя в отель маркиза Тианжа, находившийся, как нам известно, на улице Св. Доминика.
В ту минуту, когда он прибыл, маркиз собирался ехать. Лакеи, в парадных ливреях, водили по двору лошадей. Когда маркизу доложили о Рауле, он тотчас отложил свою прогулку и приказал принять гостя.
Маркиз де Тианж был мужчина лет сорока, приятной и благородной наружности. Ничто не могло сравниться с изысканной любезностью его обращения и вежливостью. Он жил чрезвычайно роскошно; об этом говорили даже в ту эпоху, когда роскошь была сильно распространена. Экипажи его пользовались справедливой знаменитостью; о его ужинах вспоминали с восторгом; у него были прекраснейшие лошади; он бросал золото пригоршнями в легкие будуары оперных танцовщиц.
Каким же образом маркиз де Тианж мог вести такой образ жизни? В этом-то и заключалась загадка! Эту загадку, казалось, не легко было разрешить. Конечно, он получил по наследству от отца значительное состояние, но всем было известно, что он уже давно промотал его до последней копейки. Настал день, когда маркиз, подавляемый тяжестью долгов, а занимал он у всех и каждого, вдруг исчез, и поэтому многие начали даже поговаривать о его совершенном разорении, но эти зловещие слухи не подтвердились. После краткого отсутствия маркиз снова появился в свете и зажил еще блистательнее, еще богаче прежнего. Он заплатил всем своим кредиторам, и роскошь его приняла размеры еще более прежних. Конечно, тут было чему подивиться; но никто, набивая себе карманы его золотом, не спрашивал, откуда взялось оно.
Маркиз, одетый для верховой езды, в сапогах со шпорами, ждал Рауля в очаровательной маленькой гостиной и, как только увидел его, бросился к нему с изъявлениями сильнейшей нежности.
— Право, любезный кавалер, — вскричал он, — я начинал уже терять надежду увидеть вас когда-нибудь!..
— Очевидно, — ответил Рауль, — вы отчаивались понапрасну, потому что вот я здесь…
— Откуда вы?
— Из такого места, в котором чуть было не остался навсегда.
— Вы подвергались опасности?
— Смертельной.
— Что же с вами случилось, Боже мой?
— Ужасная болезнь… но не будем говорить об этом; все прошло, я возвратился, поговорим лучше о вещах серьезных. Как идут наши дела?
— Дурно.
— Что вы хотите сказать?
— Я говорю, что вам давно было пора вернуться в Париж…
— Зачем?
— Затем, чтоб поддержать наш колеблющийся кредит.
— Полноте! Он слишком прочен, его ничто не может поколебать!
— Кроме громового удара.
— Без сомнения, но небо спокойно.
— Тут-то вы и ошибаетесь!
— Как! Разве гром гремит?
— Гремит.
— С какой стороны?
— С пале-рояльской.
— Невозможно! Две недели назад я получил оттуда известия, и известия хорошие.
— С тех пор ветер переменился.
— Неужели?
— К несчастью, это именно так, как я имею честь вам говорить.
— Но, Боже мой! Что это значит?
— Нас вытесняют.
— Кто?
— Интриганка, искательница приключений, итальянка, которую зовут, сколько мне помнится, Антонией Верди.
— Да ну?! Что же делает эта интриганка?
— Она нашла слабую сторону регента.
— Какую? У него их так много…
— Показывает ему дьявола.
— О! О!
— Согласитесь, что это дело серьезное.
— Стало быть, эта женщина колдунья?
— Да, нечто в этом роде…
— И регент попался в ее сети?..
— До такой степени, что, повторяю вам, наша звезда потускнела…
— Вы знаете все подробно?
— Конечно.
— Действительно?
— Как нельзя более. Я сам видел.
— Что вы видели? Призрак?
— Да.
— Расскажите мне.
— Я и хотел рассказать сейчас. Какой сегодня день?..
— Пятница.
— Именно в пятницу, на прошлой неделе, я приглашен был ужинать в Пале-Рояль. Гости были веселы, вина бесподобны, женщины любезны, ужин очарователен…
— До сих пор я не вижу ничего зловещего в вашем рассказе.
— Подождите, я только начинаю. В исходе двенадцатого хозяин наш встал из-за стола и сказал нам: «Милостивые государи и государыни! Тем из вас, кому любопытно познакомиться с дьяволом, стоит только сказать слово, и желание ваше тотчас исполнится…» Все расхохотались, потому что никто не понял настоящего смысла слов регента, но он продолжал:
«Ничего не может быть серьезнее того, что я имею честь говорить вам. Через четверть часа, то есть ровно в полночь, дьявол явится в комнате, смежной с этой. Если кто хочет видеть его, пусть идет со мной…» Женщины раскричались, мужчины перестали смеяться, кроме меня, как вы, конечно, догадываетесь, любезный кавалер… Через пять минут некоторого колебания человек десять решились идти за герцогом. Я был в числе этих смельчаков. Мы вошли в большую комнату, которая была обтянута черным сукном с серебряной бахромой. Небольшая лампа под стеклянным колпаком проливала свет такой бледный, что еще более выказывал густоту мрака. Перегородка разделяла комнату на две части. С одной стороны были кресла для дам и табуреты для мужчин. На противоположной стороне стоял стол, на котором, кроме помянутой лампы, находилась еще хрустальная чаша, наполненная очень прозрачной водой…
— Обстановка была недурна, — перебил Рауль.
Маркиз де Тианж продолжал:
— Все сели. Прошло пять или шесть минут, потом с другой стороны перегородки медленно приподнялся черный занавес и явилась женщина. Это была Антония Верди. Она показалась мне молодой и очень хорошенькой. На ней была надета туника, не закрывающая слишком много сверху и очень короткая снизу, — словом, весьма неблагопристойная. Длинные и великолепные черные волосы струились по обнаженным плечам. Она подошла к столу и пустила на воду хрустальной чаши что-то такое, чего я не мог хорошенько рассмотреть. Регент сидел возле меня. Он наклонился и шепнул мне:
— Видите вы?
— Вижу, ваше высочество, — отвечал я, — но не знаю, что это такое.
— Это волшебная жаба, — сказал он мне с видом, глубоко убежденным. — Но вот полночь… Скоро вы увидите…
— В самом деле, на больших пале-рояльских часах пробило в эту минуту двенадцать ударов полночи. Итальянка стала на колени перед столом, протянула обе руки над хрустальной чашей и начала говорить с жабой самым нежным голосом.
«Милое создание, прекрасное создание, восторжествует ли для нас ад?.. Послушайся меня!.. Послушайся меня!.. Послушайся меня!..»
Жаба принялась плавать и прыгать в чаше, так что вода расплескалась во все стороны на зрителей. Несколько капель этой воды брызнули в лицо регенту, и я заметил, что он побледнел.
— Вам дурно, ваше высочество? — спросил я.
— Нет, — отвечал он, — но надо признаться, что все это очень странно и поневоле удивишься…
— Подождем до конца, — возразил я.
Итальянка, без сомнения, услышала наш разговор, хотя мы и говорили шепотом, и, верно, встревожилась, потому что тотчас вскричала:
— На колени! На колени все! Горе тем, кто не будет присутствовать при мрачных таинствах в безмолвии и созерцании…
Регент первый подал пример, став на колено; все подражали ему. Тогда началось вызывание духа…
— Любезный маркиз, — перебил Рауль, — скажите мне, пожалуйста, каким образом эта женщина производила заклинания?
— Сколько я мог понять, вслушиваясь в ее слова, она вызывала по способу коптов, как он описан у Аморрея.
— Очень хорошо, — сказал кавалер, — что ж было далее?
— Потом лампа вдруг погасла и в комнате с полминуты царствовала глубокая темнота. Вдруг, без всякого шума, возле итальянки явилась фигура мужчины чудесной красоты. Человек этот был высокого роста и сложен превосходно; свет, позволивший видеть его, происходил от него самого; все тело его сияло, будто он был натерт фосфором…
Рауль улыбнулся, услышав последние слова маркиза де Тианжа. Маркиз продолжал:
— Эта демонская фигура имела цвет лица бледно-матовый и немножко смуглый; глаза были очень велики, очень блестящи и очень выразительны; борода и волосы черны как уголь, губы красны как кровь, зубы белы и редки, как у волка. По краям лба у призрака видны были два маленьких нароста в виде рогов, но всего более удивлял широкий шрам, красный и сверкающий, который начинался у лба и оканчивался у левой пятки, извиваясь по всему телу подобно молнии.
— Видите вы этот шрам? — заметил мне регент. — Это след громового удара, поразившего падших ангелов…
— Мало-помалу, контуры дьявольского призрака делались менее фосфорическими, фигура начала бледнеть, потом угасла постепенно. Наступила опять темнота, лампа зажглась как бы по волшебству, призрак исчез, а итальянка распростерлась с удвоенной горячностью перед своей жабой, которая, казалось, спала. Регент сделал мне честь, взял меня под руку, возвращаясь в столовую.
— Маркиз, — сказал он мне дорогой, — что вы думаете обо всем этом?.. Знаете ли, что эта очаровательная женщина обещала мне скоро познакомить меня с демоном первого разряда, который откроет мне секрет превращения угля в бриллианты? Надо признаться, что в сравнении с этой милой волшебницей ваш друг кавалер де ла Транблэ просто ничтожный мальчишка, и я думаю, что сделаю недурна, если лишу его моего покровительства и отправлю в Бастилию… Что вы на это скажете, маркиз?
Я оцепенел от этого замечания; в эту минуту мне невозможно было вымолвить ни одного слова. К счастью, регент выпустил мою руку, не ожидая ответа, и поспешил на помощь к двум дамам, которым сделалось дурно, так они испугались вызывания духа. Я вышел из Пале-Рояля и на другой же день употребил все возможное, чтобы узнать, где вы, и уведомить вас о том, что случилось, чтобы вы могли отклонить грозу. Все мои старания были напрасны, как вам известно; но наконец вы вернулись, вы здесь, вы знаете все… Подумайте об этом хорошенько…
— Маркиз, — сказал Рауль, — вы правы, нам угрожает большая опасность, эта женщина может повредить нам…
— Вы согласны со мною. Тем лучше.
— Во-первых, итальянка Антония, как мне кажется, превосходно понимает свою роль и играет ее с редким искусством; во-вторых, если, как вы говорите, она молода и хороша…
— Очень молода, очень хороша и особенно чрезвычайно обольстительна, — перебил маркиз.
— Да, — заметил Рауль, — это огромное преимущество… С ним легко можно иметь влияние на такого человека как Филипп Орлеанский…
— Вы соглашаетесь, что зло существует, — сказал маркиз де Тианж, — а имеете ли вы средства отвратить его?..
— Еще не имею, — отвечал Рауль, — но я найду их, не сомневайтесь. Прежде всего надо уничтожить кредит итальянки, который, сказать мимоходом, не успел еще, как мне кажется, прочно утвердиться. Если мы не преуспеем в этом, что очень возможно, то все-таки у нас останется средство, за которое я ручаюсь…
— Какое?
— Союз…
— С итальянкой!
— Да.
— Но согласится ли она?
— Почему же нет? Если образ действий у нас почти одинаков, то, наверно, побуждения совершенно различны. Без всякого сомнения, Верди жаждет золота регента, а мы просим у него только покровительства. Понятно, что интересы наши требуют взаимного содействия; мы не должны вредить друг другу.
— Вы правы!.. Всегда правы!.. Знаете ли, любезный кавалер, что вы были бы несравненным дипломатом, если бы захотели потрудиться?..
— Еще бы! — самонадеянно отвечал Рауль. — человек, хорошо организованный, успевает во всем!..
— И что же вы намерены делать?
— Надо собрать сведения, узнать наверно, кто такая эта итальянка и кто был посредником ее сношений с Пале-Роялем! Потом, как вы сейчас сказали, я подумаю, или мы подумаем вместе…
— Располагайте мною во всем; вы знаете, кто я, и можете быть уверены, что я всегда готов к вашим услугам.
— Полагаюсь на это. Теперь, любезный маркиз, поговорим о ваших собственных делах, а также и о моих.
— Сколько хотите…
— Получили вы сто тысяч экю?
— Да, и благодарю вас.
— Нужны вам еще деньги?
— Пока нет.
— Не стесняйтесь, вы знаете, что тигель кипит день и ночь и пресс действует безостановочно,
— Знаю, поэтому, как вы видите, и пользуюсь бессовестно.
— Мы кончили о ваших делах, теперь перейдем к моим. Я хочу просить вас оказать мне услугу.
— Тем лучше! Доставляя мне случай быть вам полезным, вы обязываете меня самого.
— Эта услуга чрезвычайно для меня важна.
— Говорите.
— Прежде всего я должен сделать вам признание…
— Слушаю.
— Вы не будете смеяться надо мной?
— И не подумаю…
— Ну! Я…
— Что такое?..
— Влюблен!..
— Вы влюблены?.. Вы?..
— Боже мой, да! Влюблен, как безумец!.. Влюблен, как ребенок!..
— Я думал, что вы уже не поддадитесь более любовному недугу, — заметил Тианж улыбаясь. — Но все-таки, если вам еще хочется носить цвета купидона, я не буду насмехаться над вами… О вас надо жалеть!..
— Вот уже и эпиграммы!.. Вы нарушаете договор!
— В первый и последний раз. Успокойтесь же, любезный кавалер, и скажите мне, пожалуйста, чем я могу быть полезен вашей любви?..
XXIII. Комедия
— Я вам сказал, — отвечал Рауль на вопрос маркиза, — что я влюблен как сумасшедший. Это сумасшествие достигло крайних пределов, как вы увидите, потому что я решился жениться на той, которую люблю…
— Жениться! — вскричал маркиз. — Подумали ли вы об этом?
— Очень… Потому что, повторяю, я решился…
— Стало быть, та, которую вы любите, очень богата?..
— У ней нет ничего.
— В таком случае, без сомнения, женясь на ней, вы надеетесь породниться с знаменитейшими фамилиями королевства?
— Она дочь бедного дворянина, совершенно неизвестного.
— Стало быть, вы употребили безуспешно все средства к обольщению?
— Я не пробовал никаких.
— Что вы мне говорите?
— Совершенную истину.
— Решительно ничего не понимаю!
— Девушка, которая будет моей женой, не похожа, любезный маркиз, на суровую весталку, отражающую с высоты своей неприступной добродетели все нападения. Это простодушный ребенок… Олицетворенная невинность… Сама доверчивость… Любовь и неопытность бросили бы ее, если бы я захотел, в мои объятия, но я страшусь будущности… Слишком большая печаль, слишком обильные слезы последовали бы за минутой упоения. Я не хочу употребить во зло эту целомудренную и преданную нежность… Я хочу обладания спокойного, я жажду мечты о блаженстве без пробуждения…
— О? — сказал маркиз, не скрывая иронической улыбки, — все это прекрасно и доказывает сильную любовь! А к тому же сентиментально и очень нравственно!.. Я вижу, любезный Рауль, что через некоторое время из вас выйдет образец супруга и цвет отцов семейства!.. Вы превзойдете самые нежные пасторали, самые буколические эклоги!.. Женитесь, мой добрый друг, женитесь… Я не буду вас отговаривать, а, напротив, постараюсь своим примерным поведением приобрести сочувствие мадам де ла Транблэ, которая непременно должна быть очаровательна; а так как я уже друг мужа, то хочу также сделаться другом жены… Только, черт меня побери, я все-таки не угадываю, в чем могу быть вам полезен.
— Вы видите, — возразил Рауль, — что я преспокойно выдержал целый залп ваших насмешек. Впрочем, мне нечего этим хвастаться, потому что ни одна из ваших стрел не попала в цель.
— Неужели?
— Выслушайте меня: вы должны помочь мне совершить брак, о котором я вам говорил…
— Каким образом, позвольте спросить?.. Я не аббат и не нотариус.
— Именно поэтому-то вы мне и нужны.
— Вы говорите загадками… Если вы хотите, чтобы я вас понял, объяснитесь яснее…
— Это легко, вы поймете все из двух слов. Я женат!
— Женаты?! Вскричал маркиз. — И я ничего не знал?!
— Ни вы и никто, — отвечал Рауль. — Никто не знает о моей женитьбе.
— Вы женаты! — повторил маркиз де Тианж, — давно ли?
— Уже шесть лет.
— Где же ваша жена?..
— Не знаю.
— Стало быть, вы ее бросили?..
— Мы расстались почти по взаимному желанию…
— Давно это случилось?
— Через год после свадьбы.
— И с тех пор вы не имели о ней известий…
— Никаких.
— Может быть, вы вдовец…
— Может быть, но я не имею доказательств этого, а так как во Франции вешают тех, кто женится на второй жене, когда первая еще жива, то я не имею никакой охоты рисковать своей жизнью…
— Вы правы. Мольер сказал…
— Что же вы хотите делать?..
— Вы привели фразу из комедии, и я скажу вам, что мне нужен именно такой брак, какие часто случаются в комедии.
— О, если речь идет только об этом, — заметил маркиз, — я возвращаю вам все мое уважение.
— Благодарю! — сказал Рауль, смеясь.
— Чего же вы хотите от меня?
— В вашем отеле есть капелла, кажется?
— Есть: только она в большом запустении; туда не входили столько лет!..
— Все равно: мне и такая годится.
— Хорошо, далее…
— Дайте мне кого-нибудь из ваших людей, который был бы способен умно разыграть роль капеллана…
— Я предлагаю вам самого себя.
— Вы, любезный маркиз?! — вскричал кавалер с удивлением.
— Неужели, вы мне не доверяете?..
— Нет, не то, но я боюсь…
— Чего?
— Я боюсь, что вы не сумеете сохранить приличной важности, что комическая сторона положения увлечет вас, против воли, к опасной веселости.
— Будьте спокойны! После вы сами согласитесь, что никогда ни один капеллан не совершал брачной церемонии с такой благочестивой торжественностью, как я. Моя истинно каноническая наружность приведет вас в восторг. Ну, согласны ли вы?..
— Действуйте, как хотите, любезный маркиз, но подумайте только, что одно лишнее слово, один неосторожный жест все испортит…
— Повторяю вам, что я ручаюсь за себя.
— В таком случае, ничего не может быть лучше.
— Когда свадьба?
— Послезавтра, если вы свободны.
— Я должен повиноваться вашим приказаниям. Послезавтра я ничем не занят.
— Послушайте, я очень желаю, чтобы никто на свете не знал, о том, что я сказал вам.
— В капелле будут только капеллан и бракосочетающиеся.
— Благодарю за все ваши одолжения. Я увижусь с вами завтра, и мы условимся о подробностях церемонии.
— А покамест, — сказал маркиз, — я примусь за изучение своей роли.
Они пожали друг другу руки. Простившись с маркизом, Рауль возвратился к своему портшезу и велел отнести себя в гостиницу «Царь Соломон».
XXIV. Жанна
Через несколько минут по выходе от маркиза де Тианжа, Рауль вошел в восточную гостиную, где находилась Жанна. Молодая девушка сидела на диване; ее траурное платье составляло резкий контраст с ярким цветом ковра и материи, которой были обиты стены. Лицо ее было бледно, и красные глаза показывали, что она плакала. Она думала о своей матери, и руки ее были еще сложены, а полураскрытые губы шептали молитву за упокой души Мадлены де Шанбар, умершей в смертном грехе. При виде Рауля Жанна с живостью встала. Очаровательный румянец выступил на ее щеках, а на губах обрисовалась улыбка.
— Милое дитя, — сказал кавалер, взяв руку девушки и поднося ее к своим губам, — я надолго оставил вас одну, не правда ли?
— Когда я вас не вижу, время всегда кажется мне слишком долгим, — отвечала Жанна с восхитительным простодушием.
— У меня есть извинение…
— Вам не нужно прибегать к нему! — перебила с живостью молодая девушка.
— Все-таки позвольте мне высказать его…
— Если хотите, друг мой, скажите.
— Я заботился о нас…
— О нас? — повторила Жанна.
— Да, о нашем счастии, потому что мое счастье соединено с вашим… Я занимался нашей свадьбой.
— Надеюсь, к тому нет препятствий? — спросила молодая девушка несколько дрожащим голосом.
— Напротив, — отвечал Рауль, — все устроено, все готово…
— Какой день вы выбрали? — робко прошептала Жанна с некоторой поспешностью.
— Послезавтра.
Жанна снова улыбнулась, и улыбка ее сияла радостью и надеждой. Рауль продолжал:
— По причине вашей недавней и горестной потери, нам было бы неприлично совершать наше бракосочетание гласно, посреди любопытных зрителей… Один из друзей моих отдает в мое распоряжение капеллу в своем отеле, и там добрый капеллан скажет вам, моя возлюбленная, что вы моя жена перед Богом и перед людьми…
Жанна устремила на Рауля взор, блиставший самой доверчивой и нежной любовью. Кавалер выдержал этот взгляд, не потупив глаз.
— Ваша жена перед Богом и перед людьми! — повторила молодая девушка. — О, Рауль! Как я счастлива!
— Итак, — спросил кавалер. — Вы одобряете мои действия?
— Конечно! — отвечала Жанна. — Одобряю от всего сердца.
В эту минуту, слабый звук, похожий на металлический, при действии монетного станка, послышался два раза, и так близко, что можно было подумать, будто звук этот раздался в самой комнате. Жанна вздрогнула.
— Не бойтесь ничего, — сказал ей Рауль, — это Самуил, хозяин гостиницы Царя Соломона, который по сигналу, условленному между нами, спрашивает меня, может ли войти. Я буду отвечать ему точно так же…
Рауль подошел к стене и дотронулся пальцем пружины, покрытой обоями. Раздался звук, подобный прежнему, но более отдаленный, и через минуту потайная дверь тихо повернулась на петлях и явился Самуил.
— Вам нужно говорить со мною наедине? — спросил его Рауль.
— Нет, кавалер, — отвечал жид.
— Чего же вы хотите?
— Я желал бы иметь честь доложить вам, что по вашему приказанию, я наашел горничную для мадам де ла Транблэ.
— Прекрасно, вы не теряете времени, Самуил!
— Я теряю его как можно менее, кавалер.
— И хорошо делаете!
— Я исполняю только свой долг.
— Скажите мне, вы ручаетесь за эту горничную?
— Как за себя самого. Она немножко молода и неопытна, может быть, но девушка честная и будет служить преданно и усердно.
— Где она?
— В Комнате Магов.
— Приведите ее сюда и если она понравится моей жене, мы сейчас же ее наймем.
Самуил вышел и почти тотчас же вернулся с молодой девушкой, лет восемнадцати, которая казалась хорошенькой даже возле Жанны; красота ее еще более усиливалась робким и невинным видом.
— Нравится вам она? — тихо спросил Рауль Жанну.
— Нравится, — отвечала Жанна тоже тихо. — И если сердце ее стоит лица, я, коонечно, очень буду довольна ее услугами.
Кавалер обернулся к горничной и спросил ее:
— Как вас зовут?
— Онорина.
— Сколько вам лет?
— Девятнадцать.
— Вы уже были в услужении?
— Никогда.
— Откуда вы?
— Из моей родины, Сен-Мало.
— Кто такие ваши родители?
— Они ткачи, но так как мы небогаты, они послали меня к моему дяде Самуилу, чтобы он отыскал мне место…
— А! — сказал Рауль. — Самуил ваш дядя?
— Да, кавалер, — отвечал жид. — Антуанета, моя покойная жена, была родной сестрой отца этой девушки; только шурин мой не одной религии со мною.
— Онорина, дитя мое, — сказал тогда де ла Транблэ, — с сегодняшнего дня вы поступите в услужение к моей жене. Постарайтесь, чтоб она была довольна вами, и уверяю вас, что вы не будете жаловаться на свою участь…
— Постараюсь, — отвечала девушка.
Представив официально свою племянницу, Самуил скромно удалился. Рауль велел Онорине следовать за ним и показал ей небольшую комнатку, в которой она должна была спать и которая находилась возле спальни Жанны, потом вернулся к своей невесте и сказал:
— Я расстаюсь с вами до завтра, милое дитя; этого требуют приличия, и я повинуюсь им против воли, но Бог даст, через несколько часов я уже не буду расставаться с вами!..
Вздох Жанны показал, что и она, так же, как Рауль, с нетерпением ждала этой минуты. Молодой человек продолжал:
— Сейчас Самуил принесет вам свечи и ужин; притом, если вам понадобится что-нибудь другое, вам стоит только слегка нажать на эту пружину, и Самуил тотчас явится к вам.
Рауль перешел в спальню, открыл небольшой комод, ящики которого были наполнены золотом, положил в карман несколько пригоршней монет и вышел, запечатлев на лбу Жанны долгий поцелуй, исполненный сдерживаемой страсти.
Самуил скоро явился в столовую и уставил стол множеством блюд, которые показались Жанне великолепными. Изобилие и разнообразие их очень удивляли молодую девушку, привыкшую к незатейливым кушаньям, которые она сама готовила в Маленьком Замке. Она непременно хотела, чтобы Онорина села напротив нее и разделила с нею ужин. Горничная была очень чувствительна к такой снисходительной милости, а Самуил просиял радостью при виде неслыханной чести, которую оказывали его племяннице.
По окончании ужина, Жанна пришла в спальню. Яркий огонь сверкал в камине; восемь восковых свечей в серебряных канделябрах бросали ослепительный свет; мягкое кресло, поставленное около камина, как будто приглашало к чтению или ко сну. Жанна не хотела спать. Она осмотрелась кругом и приметила в углу комнаты небольшой книжный шкаф из розового дерева, задернутый шелковой занавесью. Она подбежала к шкафу, вынула несколько книг и тотчас принялась читать одну, потом другую, но через несколько секунд отбросила эти книги с нетерпением и даже с ужасом. Во всех говорилось о магии, колдовстве, кабалистике и о других знаниях, самых мрачных и самых таинственных. Жанна старалась как-нибудь поестественнее объяснить себе присутствие этих подозрительных книг в жилище ее жениха, но не преуспев в этом, решилась более не думать о них. Она улеглась в большом кресле и скоро задремала, сладко убаюкиваемая воспоминаниями и надеждами.
Оставив гостиницу «Царь Соломон», Рауль приказал Жаку идти за собой и пешком отправился к другому берегу Сены. Он шел медленно, погруженный в размышления, и было уже поздно, когда он дошел до той части улицы Сент-Онорэ, которая лежит между Пале-Роялем и улицей Ришелье. Он вошел сначала в ресторацию, знаменитую в то время, под вывеской «Золотой Колесницы». Тут он пообедал, приказав подать себе ракового супа, рыбы, говяжьего филе, куропатку и разных пирожных, и оросил все это двумя или тремя бутылками лучшего «Бона»и старого «Шанбертена». Достаточно насытившись, Рауль вышел из ресторации свободной и непринужденной походкой человека, совесть которого спокойна, а желудок удовлетворен. Он отправился к большому дому, находившемуся шагах в пятидесяти от ресторации, где он обедал. Ворота этого дома были ярко освещены; перед ними толпились лакеи, потрясавшие факелами, и носильщики портшезов, принесшие знатных посетителей. Лакеи и носильщики ругались между собой и ссорились, из чего происходила неслыханная суматоха.
Рауль растолкал толпу, прошел ворота, а потом двор, наполненный людьми еще более, чем улица, взбежал на лестницу, по которой могли идти двадцать человек рядом, и вошел в огромную переднюю, вокруг которой тянулись скамейки, обитые гранатовой кожей с позолоченными гвоздиками. На этих скамейках чванно сидели слуги в самых разнообразных ливреях и играли между собой в карты и кости.
Без сомнения, Рауль и Жак часто бывали в этом месте, потому что слуга тотчас уселся на скамейку, а господин продолжал дорогу по залам. Эти залы, просторные и великолепно убранные, были наполнены гостями. Толпы мужчин всех возрастов и всех возможных физиономий ходили и шумели безостановочно. Тут были образчики всех классов общества, начиная от знатного вельможи, вхожего в Версаль, до скромного стряпчего, имевшего вход только во дворец Ябеды, от откупщика-миллионера до голодного трагического поэта, от щеголя, собирающего легкую дань с придворных и городских красавиц, до провинциального дворянчика, отличающегося своей неловкой поступью и костюмом, давно вышедшим из моды.
Вся эта толпа, сказали мы, ходила и шумела, но часто возвращалась к центру, непреодолимо привлекавшему всех, как мед привлекает мух. Это были столы, за которыми играли в фараон, в крепе, в ландскнехт, в бассет и другие карточные игры, изобретенные дьяволом для опорожнения карманов простачков и набивания карманов плутов. Дом, в который мы ввели наших читателей, был не что иное, как один из тех привилегированных адов, где все, большие и малые, встречались, на нейтральной земле, с одинаковым намерением играть и выиграть.
XXV. Пятница
Зачем пришел в этот дом Рауль де ла Транблэ? По всей вероятности, его привела сюда не страсть к игре: мы знаем уже, что кавалер был богат и, верно, очень богат, если для него ничего не значило послать сто тысяч экю золотом знатному вельможе, находившемуся в стесненном положении; притом читатели, конечно, не забыли, что он обещал снабдить маркиза и другими деньгами, когда израсходуется эта сумма. Стало быть, Раулю неинтересно было бы выиграть несколько жалких луидоров, героически оспариваемых трефами у червей или пиками у бубен. Как ни правдоподобно это предположение, однако оно было несправедливо. Рауль пришел сюда играть, потому что Рауль обожал игру, не для прибыли, которую она могла ему доставить, но для сильных ощущений, возбуждаемых ею. Рауль чувствовал потребность садиться вечером у зеленого сукна и видеть, как свечи начинают бледнеть при появлении дневного света; он чувствовал потребность слышать звук золотых монет, передвигаемых дрожащими руками, радостные восклицания счастливых игроков, крики бешенства несчастных. Ожесточенные битвы червонного короля с пиковой дамой, гомерическая борьба Ожьэ и Лансло гальванизировали его. Ему приятно было смотреть, как проигравшиеся судорожно раздирали ногтями свои задыхающиеся груди и пятнали кровью дорогие кружева. Все охотно согласятся, что герой наш совершенно особенным образом был одержим демоном игры, и что он тем более был игроком не для выигрыша или проигрыша, а только для того, чтобы осязать карты и видеть, как выигрывают или проигрывают другие.
По странной случайности, в этот вечер между многочисленными посетителями игорного дома, не было никого из близких знакомых Рауля. Мимоходом он обменивался поклонами направо и налево, но это были поклоны простой вежливости. Молодой человек подошел к столу, вокруг которого играли в ландскнехт, и, став позади игроков, начал смотреть на партию, продолжавшуюся с ожесточением.
Прямо против него, опираясь локтями на стол, сидел человек лет тридцати, высокого роста и геркулесовой силы. Человек этот, с лицом румяным и шеей толстой, как у быка, играл с таким блестящим и постоянным успехом, что золото и банковые билеты лежали перед ним кучей, увеличивавшейся каждую минуту. Рауль вспомнил, что он видал уже этого счастливца, который был одним из пале-рояльских офицеров и назывался виконтом д'Обиньи.
За стулом д'Обиньи стоял высокий, необыкновенно худощавый мужчина, который не мог не привлечь к себе внимания. Раз взглянув на него, трудно было бы от него оторваться: до того поразительна была его наружность. Хотя он казался еще молод, но его черные волосы начинали уже седеть. Лицо его было мускулисто и смугло, как у испанца. Глаза, черные, глубокие, сверкали во впалых и черных, как уголь, глазных впадинах. Тонкие губы, по-видимому, не улыбались никогда, и вся его физиономия имела отпечаток мрачной озабоченности. Нос, наподобие орлиного клюва, и ноздри, очень подвижные и широкие, делали его похожим на хищную птицу. Незнакомец был в черном бархатном костюме. Три огромных бриллианта: один в булавке, воткнутой в жабо, другой на безымянном пальце правой руки и третий на эфесе шпаги, бросали такой яркий блеск, что ослепляли глаза. Он не играл, не держал пари и не говорил ни с кем.
Рауль глядел на него с любопытством, потом, когда один из игроков встал из-за стола, кавалер тотчас сел на пустое место, вынул из кармана горсть золота и положил перед собой. Счастье не изменяло виконту д'Обиньи. С тех пор, как началась игра, он не проиграл ни одной ставки. В ту минуту, когда до виконта снова дошла очередь держать карты, небольшой трепет внимания пробежал по зале и самые отчаянные игроки с робостью решались держать против него.
— Двадцать пять луидоров, — сказал Рауль, кладя перед собой золотые монеты.
Это была блистательная ставка.
— Держу, — отвечал виконт.
Рауль проиграл. Виконт пододвинул к себе двадцать пять луидоров, и так как куча золота слишком уже увеличилась и монеты могли рассыпаться, если б к ним прибавилось еще сколько-нибудь, он положил в карман деньги, выигранные у Рауля. Карты обошли стол кругом. Очередь дошла до кавалера. Он поставил пятьдесят луидоров. Виконт сказал, что держит, как и в первый раз, и Рауль выиграл. Шепот удивления послышался между зрителями. Дело было очень просто само по себе, но все игравшие, казалось, уже привыкли к мысли, что виконт не мог проиграть. Сам д'Обиньи, по-видимому, был удивлен не менее других.
— Ставлю сто луидоров, — сказал он.
Рауль поклонился в знак согласия и выиграл, Д'Обиньи не мог удержаться, чтоб не нахмурить бровей, и пробормотал с очевидным неудовольствием:
— Ставлю двести луидоров. Держите?
— Весьма охотно, — отвечал кавалер с самой изящной вежливостью, — и сколько бы вы ни играли, я все равно буду иметь честь держать ваши ставки.
Решительно, счастье изменило виконту. Рауль выиграл и в третий раз, и в четвертый, и в пятый. Мало-помалу, груда золота и банковых билетов перешла на другое место и накоплялась перед Раулем, который смотрел на деньги с совершенным равнодушием.
Виконт же переносил проигрыш с очевидным нетерпением. Жилы на лбу его надулись, глаза налились кровью, лицо то бледнело, то краснело. Скоро перед ним не осталось ничего. Он глухо заревел и хотел встать, думая, что у него не было более денег, но вдруг вспомнил о двадцати пяти луидорах Рауля и вынул их с такой поспешностью, с какой утопающий цепляется за спасительную доску, брошенную ему случаем.
— Двадцать пять луидоров, — сказал он.
Рауль поклонился в знак согласия. Общее внимание удвоилось. Даже незнакомец со смуглым лицом как будто начал принимать участие.
Рауль стал метать. Карты падали одна за другой без всякого результата. Фортуна, прихотливая богиня, как говаривали прежде, как будто находила удовольствие заставлять дожидаться своего приговора.
Беспокойство виконта д'Обиньи было ужасно. Чтобы как-нибудь рассеять это беспокойство, он взял со стола луидор из своей ставки и начал машинально вертеть его между пальцами. Луидор разломился надвое. Виконт взял другой луидор, который разломился так же, как и первый. Он вздрогнул и продолжал свой странный опыт с одинаковым результатом. Десять или двадцать луидоров имели ту же участь. Рауль ничего не замечал. В ту минуту, когда случай наконец объявил себя в его пользу, когда он говорил: «Я выиграл!» виконт бросил ему в лицо горсть разбитых луидоров и вскричал голосом, едва внятным от гнева:
— Вы украли мое честное золото, проигрывая фальшивые деньги… Вы плут или фальшивомонетчик!..
Рауль побледнел, выдернул свою шпагу и сделал движение, чтобы броситься на виконта, но стоявшие вблизи удержали его и все голоса, как бы с общего согласия, повторили:
— Не здесь!.. Не здесь!..
— Вы правы, господа, — отвечал кавалер, к которому возвратилось все его хладнокровие. — В самом деле, не здесь должен я отомстить за сделанное мне оскорбление!.. Выйдем отсюда! — прибавил он, обратившись к своему противнику.
— Когда хотите! — вскричал виконт с бешенством.
Толпа расступилась, чтобы пропустить врагов, которые, очевидно, решились перерезать друг другу горло. В описываемую нами эпоху дуэли были таким обыкновенным делом, что никто даже и не подумал последовать за противниками. Они дошли уже до дверей, когда незнакомец со смуглым лицом приблизился к ним и сказал:
— Не угодно ли вам, господа, поговорить со мной одну минуту?
Виконт и кавалер с удивлением остановились перед незнакомцем.
— Что вам угодно от нас? — спросил Рауль.
— Я хочу оказать вам услугу.
— Услугу?.. Вы хотите оказать услугу? Нам?
— Да, господа, именно.
— Какую же?
— Я хочу не отговорить вас от необходимой дуэли, сохрани меня Бог! Но только сказать вам: не деритесь сегодня!
— Отчего? — спросил Рауль.
— Оттого, — отвечал незнакомец мрачным голосом, — оттого, что сегодня пятница…
— Вы сумасшедший! — прошептал Рауль, пожав плечами и сделав несколько шагов вперед.
Незнакомец снова загородил ему дорогу. С самого начала этого разговора гнев д'Обиньи внутренне кипел и, видимо, имел потребность вылиться наружу. Виконт поспешно ухватился за представлявшийся ему случай излить избыток этого гнева. Он прямо подошел к незнакомцу и вскричал с угрожающим движением:
— Кто вы такой и с какой стати так дерзко вмешиваетесь в дело, которое вовсе не касается до вас?
При этих словах незнакомец, несмотря на свою бледность, казалось, побледнел еще более. Он выпрямился во весь рост и отвечал виконту, уничтожая его своим презрительным видом и сверкающим взором:
— Кто я такой?.. Я дон Реймон Васкончеллос, гранд испанский первого класса и мальтийский командор!.. Вы спрашиваете, зачем я вмешиваюсь в ваши дела?.. Отвечаю вам: затем, что я дал обет не допускать, насколько это зависит от меня, дуэлей по пятницам; но данный мною обет связывает меня только в этот день, и я убью вас завтра, ничтожный дворянчик, чтобы научить, как люди вашего сорта обязаны говорить с людьми, подобными мне.
— А! Вот что! — вскричал виконт, раздраженный до крайности. — Ну, господин испанский гранд, так как я не давал никакого обета, то и убью вас сейчас же!..
— Вы принадлежите мне! — вмешался Рауль, обратившись к виконту. — И если моя шпага не обманет руки моей, то я думаю, что вам уже не удастся более убивать никого…
— Пойдемте же! — вскричал д'Обиньи. — Сначала вы, потом он.
И он указал на испанца. Тот холодно вынул часы.
— Половина двенадцатого, — сказал он, — еще раз прошу вас, подождите, пока пробьет полночь, потому что тогда будет уже не пятница, а суббота…
Ни Рауль, ни виконт не отвечали и, так как дон Реймон уже не загораживал им дороги, поспешно вышли из залы. Д'Обиньи обернулся.
— Я вас найду! — закричал он командору.
— Вам не нужно будет трудиться искать меня, — отвечал испанец. — Я не оставлю вас!
И в самом деле, он вышел вместе с двумя противниками. Проходя через переднюю, Рауль сделал Жаку знак, чтобы он шел за ним. Слуга бросил кости, которыми собирался играть, и последовал за своим господином. Дон Реймон шел позади.
— Возьми с собой факел, — сказал Рауль Жаку в ту минуту, как они проходили ворота.
Жак вырвал факел у одного из носильщиков и взамен бросил ему луидор. Все четверо пошли по улице Сент-Онорэ, по направлению к Пале-Рояльской площади. С площади Рауль и виконт, шедшие впереди, повернули направо, в узкий и темный переулок, находившийся на том самом месте, которое занимает ныне улица Риволи. Полупотухший фонарь едва-едва освещал переулок, и кавалер обрадовался, что ему пришло в голову велеть своему слуге взять факел. Рауль и виконт остановились и сбросили верхнее платье. Жака поставили под навес низких ворот.
— Держи выше факел! — закричал ему де ла Транблэ.
Виконт и кавалер взялись за шпаги. В десяти шагах от них дон Реймон, прислонившись к стене, приготовлялся смотреть на битву.
— Господа! — вскричал он. — Прошу вас в последний раз — берегитесь! Сегодня пятница!.. Пятница — день гибельный…
— Молчи, зловещая птица! — прошептал Рауль.
Дон Реймон услышал брань кавалера, два раза перекрестился и, сложив руки на груди, стал ждать конца.
Взволнованный этой сценой, Жак дрожащей рукой держал факел, который время от времени бросал яркий свет; потом пламя его утопало в дыму и темнота становилась густая. Бледные губы командора как будто шептали молитву.
Рауль и виконт бросились друг на друга с равным бешенством. Сначала невозможно было предвидеть, за кем останется победа. Искусство обоих было почти одинаково. Д'Обиньи превосходил Рауля силой своих мускулов, но кавалер сохранял хладнокровие, которого недоставало его противнику. По мере того, как шпаги сверкали в воздухе, отражая синеватыми молниями перемежающийся свет факела, командор приближался к месту битвы, как бы увлекаемый непреодолимым очарованием.
Дуэль продолжалась. Вдруг шпага виконта, столкнувшись со шпагой Рауля, переломилась в десяти дюймах от эфеса. Д'Обиньи отпрыгнул назад.
— Не бойтесь! — сказал ему кавалер презрительным тоном. — Я охотно убиваю людей, но не умерщвляю их!..
В то же время он прижал клинок своей шпаги к своему колену и разломал ее.
— Что начала шпага, — вскричал он тогда, — может окончить кинжал!..
И он пошел прямо на д'Обиньи. Борьба возобновилась еще ужаснее, чем прежде. Руки обоих противников переплетались, задыхающиеся груди касались одна другой. Это продолжалось с минуту. Потом послышался громкий крик, за которым последовал глухой стук. Виконт с проколотой грудью повалился на грязную мостовую. Факел выпал из рук Жака. В эту минуту полночь пробила на пале-рояльских часах. Командор глубоко вздохнул.
— Ах! — прошептал он едва внятным голосом, — как этот переулок похож на Страда-Сиретта!.. Боже мой, сжалься надо мною!..
Произнося эти странные слова, он тоже упал на землю, как будто бы был поражен невидимой рукой. Он был без чувств.
Между тем виконт еще дышал. Он приподнялся с земли и, захлебываясь в потоках крови, которая вырывалась у него из горла, сказал Раулю:
— Кажется, я умру; если же выздоровею, мы опять примемся за то же.
— Когда вы захотите, или, лучше сказать, когда вы будете в состоянии, — отвечал кавалер.
Виконт упал опять и не подавал более знака жизни. Рауль вложил в ножны разломанную шпагу, поднял свое платье и сказал Жаку:
— Пойдем. Нам больше нечего здесь делать.
Но едва он произнес эти слова, как чья-то рука дотронулась до его плеча и чей-то голос сказал ему:
— Вы мой пленник!.. Не угодно ли вам отдать мне вашу шпагу?..
Рауль обернулся с удивлением, которое легко понять. Его держал за руку полицейский комиссар; двенадцать человек дозорных преграждали ему путь.
— Откуда вы явились, господин комиссар? — спросил кавалер. — Я не видал и не слыхал, как вы подошли…
— Я думаю, — отвечал полицейский с улыбкой, — вы были слишком заняты, чтобы обратить на меня внимание…
— Ну! Если уж вы здесь, — продолжал Рауль, — то пусть ваше присутствие послужит к чему-нибудь полезному: прикажите вашим людям поднять несчастного, который валяется на мостовой, и отнести его в такое место, где ему окажут помощь…
Кавалер указал на д'Обиньи, кровь которого образовывала уже небольшой ручеек посреди переулка. Комиссар сделал знак, и двое дозорных тотчас подняли виконта. Полицейский подошел и взглянул ему в лицо.
— А! — вскричал он, — это д'Обиньи, королевский офицер… Дело плохо! Очень плохо!
— Теперь, когда вы исполнили долг человеколюбия, — продолжал Рауль, — ничто не мешает вам идти в вашу сторону, а мне в мою… Господин комиссар, желаю вам спокойной ночи…
И кавалер хотел удалиться.
— Позвольте, что вы хотите делать? — спросил полицейский.
— Вы видите, я ухожу.
— Вы шутите?
— Я не шучу никогда.
— Но, милостивый государь, я имел честь сказать вам, что вы мой пленник!
— Я слышал.
— Ну?
— А я имею честь доложить вам, что вы ошиблись, сказав мне это.
— Милостивый государь, ваша насмешка кажется мне совершенно неприличной…
— Милостивый государь, ваша настойчивость кажется мне вовсе неуместной!..
— Вы пойдете со мной, и сию же минуту! — вскричал полицейский, начиная сердиться.
— Не думаю.
— Не думаете?..
— Да, — отвечал Рауль, спокойствие которого не изменялось.
— Вы хотите принудить меня употребить силу?..
— Я просто докажу вам, что я вовсе не ваш пленник, как вы думаете…
— А! Вот как!.. Мне очень любопытно было бы узнать…
— Так знайте же…
И Рауль вынул из кармана известный нам бумажник, а оттуда — лист пергамента, уже игравший роль в нашем рассказе, и подал его полицейскому. Лист этот, как читатели, вероятно, помнят, начинался следующими словами:
«Божьей милостью, мы, Филипп Орлеанский, регент Франции, приказываем и повелеваем всем тем, кто увидит сию бумагу…»и проч. и проч.
А кончался:
«Запрещаем, кроме того, по какой бы то ни было причине, беспокоить вышеназванного кавалера де ла Транблэ, мешать его действиям и противиться его воле.
Что бы он ни делал, он делал это по нашему приказанию и для пользы нашей».
Как только полицейский прочитал поданный ему лист, обращение его сделалось смиренно и почтительно; он низко поклонился Раулю и спросил, что он ему прикажет.
— Что я вам прикажу? — повторил кавалер, спрятав пергамент в карман. — А вот что: переулок, в котором мы находимся, имеет два выхода, один справа, другой слева. Я иду направо, а вы поверните налево. Спокойной ночи, господа!
Полицейский снова поклонился, кликнул дозорных и удалился с ними в указанном направлении.
— Пойдем, — сказал Рауль Жаку, как только шаги дозорных затихли вдали.
Идя по переулку, Рауль наткнулся на тело дона Реймона.
— Еще труп, — прошептал он, наклонившись рассмотреть лицо мнимого мертвеца.
— Что это значит? — спросил сам себя молодой человек, узнав командора. — Дон Реймон, я в этом уверен, не дрался на дуэли ни с кем… Сердце его еще бьется… дыхание свободно… он как будто спит… странно! Решительно ничего не понимаю… Но, как бы то ни было, нельзя же оставить испанского гранда провести ночь на улице.
После этого краткого монолога, Рауль обратился к Жаку и сказал:
— Покарауль тело этого дворянина, а я пойду отыскать портшез, в котором мы унесем его.
— Слушаю, кавалер, — отвечал Жак.
Во время отсутствия Рауля, ни одно живое существо не явилось в безмолвном и темном переулке, в котором происходила дуэль. Кавалер скоро вернулся. Жак и носильщики положили дона Реймона в портшез. Рауль поместился возле командора.
— На улицу Круассон, — сказал он Жаку, — указывай дорогу носильщикам.
Вследствие необходимости, которая обнаружится для наших читателей по мере хода нашего рассказа, Рауль имел в Париже несколько квартир. С помощью Жака, носильщики внесли командора в комнату и положили его на кровать, а Рауль, истощенный усталостью и сильными ощущениями этого дня, пошел в свою спальную и лег.
На другой день, очень рано, Жак вошел к своему хозяину. Рауль еще спал. Рассердясь, что Жак разбудил его так рано, он принял его очень дурно. Жак дал пройти буре, не отвечая ни слова, потом сказал:
— Ваш гость проснулся и хочет поблагодарить вас прежде, чем уйдет.
— А! Это другое дело, — сказал Рауль. — Я сейчас встану.
Через четверть часа кавалер вошел к дону Реймону. Комната, в которой находился командор, напоминала своей роскошной меблировкой таинственную квартиру Рауля в улице Шерш-Миди.
— Вы выказали себя в эту ночь храбрым как дворянин и человеколюбивым как христианин, — сказал испанец. — Позвольте же мне уверить вас, что с этого дня, в каком бы положении вы ни находились, вы всегда можете положиться на дона Реймона Васкончеллоса и располагать его шпагой и кредитом…
— То, что я сделал для вас, очень просто и не стоит благодарности, — отвечал Рауль. — Прошу вас, не будем говорить об этом… Как вы чувствуете себя сегодня?
— Как нельзя лучше.
— Какой же причине приписываете вы ваш внезапный обморок?
Дон Реймон смутился.
— Надеюсь, что, по вашей деликатности, — прошептал он, — вы не станете расспрашивать меня… Это пробуждает во мне горестные воспоминания…
Рауль поклонился в знак согласия. Командор тотчас продолжал, как бы затем, чтобы обратить разговор на другой предмет:
— Вы знаете, как зовут вашего противника?
— Знаю, — отвечал Рауль. — Виконт д'Обиньи.
— Он еще жив?
— Не знаю.
— Рана его опасна, не так ли?
— Кажется.
Наступила минута молчания, потом командор прибавил:
— Вы поразили несчастного в пятницу до полуночи. Молите Бога, чтобы он не умер от удара вашей шпаги!..
— Зачем? — спросил Рауль с удивлением.
— Затем, что пятница приносит несчастье, и кровь, которая прольется в пятницу, падает на того, кто прольет ее! — прошептал дон Реймон таким серьезным и убежденным тоном, что кавалер не мог удержаться, чтобы не задрожать, слушая его. — Я живу в улице Св. Доминика, — продолжал командор. — Пожалуйста, не забудьте этого, кавалер, и будьте уверены, что вы меня обяжете, располагая мною…
Дон Реймон простился с Раулем, который почувствовал облегчение, не имея перед глазами странной и мрачной фигуры испанца.
XXVI. Свадьба
Почти тотчас после разговора, при котором мы присутствовали, Рауль отправился к Тианжу. Маркиз ждал его. Кавалер рассказал ему о вчерашних происшествиях.
— Черт побери! — сказал маркиз. — Вы убиваете пале-рояльских офицеров и как будто нарочно выбрали именно этого грубияна виконта, к которому регент с некоторого времени сильно пристрастился!.. Знаете ли, любезный кавалер, что это нисколько не облегчает наших дел?..
— Слишком хорошо знаю, — отвечал Рауль, — но будьте спокойны, у меня уже есть в голове чудный план, и мы выпутаемся.
— Прекрасно! Только надо поторопиться…
Рауль сделал жест, говоривший: положитесь на меня!.. Потом продолжал:
— Теперь поговорим о другом. Позаботились ли вы о том, о чем я просил вас?..
— О вашей свадьбе?..
— Да.
— Разумеется.
— Ну, что ж?..
— Ну, все готово; капелла в порядке, я знаю почти наизусть венчальный обряд и вчера, когда вы ушли, примерил костюм капеллана, который мне чудо как идет!..
— Маркиз! — вскричал Рауль, засмеявшись и потрепав Тианжа по плечу, — если судьба будет к вам справедлива, вы умрете от громового удара!..
— Почему бы и нет? — отвечал маркиз. — Мне бы хотелось скрестить свою шпагу с молнией, это был бы противник, достойный меня!
— В котором часу будет церемония? — спросил Рауль.
— От вас зависит назначить.
— Раз так, то в одиннадцать… согласны ли вы?
— Хорошо, вас будут ждать.
— Я забыл одно…
— Что такое?
— Нам нужны свидетели.
— Мой управитель и метрдотель будут вашими свидетелями. Для этого случая они превратятся в старых дворян, ваших родственников…
— Бесподобно! У вас блестящее и неисчерпаемое воображение, и если бы вы не были слишком знатным вельможей, чтобы сделаться бумагомарателем, вы могли бы сочинять романы получше мадемуазель Скюдери!.. До завтра, маркиз!
— До завтра, любезный кавалер!
Оставив де Тианжа, Рауль отправился в гостиницу «Царь Соломон», где Жанна ждала его с нетерпением. Девушка была печальна. Ночью ей снились страшные сны и в душе ее теснились мрачные предчувствия. Ей казалось, что ее жениху угрожает несчастье и что с ней самой должно случиться что-нибудь ужасное. Во сне она видела Рауля окровавленного и распростертого у ее ног; потом она чувствовала, что умирает, что ледяной, болезненный холод мало-помалу распространился по ее жилам, сердце перестало биться, члены двигаться, а губы не могли произнести ни одного слова. Вокруг нее шептали голоса: «Она умерла!.. Все кончено!..» Услужливые руки положили ее в гроб, закрыли его и отнесли для отпевания в ту комнату, в которой она должна была венчаться. Могила — вот брачное ложе, которое должно было соединить жениха и невесту!..
Жанна проснулась, трепеща всем телом и обливаясь холодным потом. К счастью, первые лучи солнца уже светились на окнах спальной. Жанна успела преодолеть свой суеверный ужас, но, повторяем, неизмеримая грусть тяготила ее до прихода Рауля.
В ту минуту, как жених ее переступил через порог комнаты, Жанна подбежала к нему, и тотчас опасения, боязнь, предчувствия исчезли из души ее, как при восходе солнца испаряется утренний туман. Мы не будем следовать за очаровательной болтовней любовников. Вскоре их продолжительный и нежный разговор был прерван восхитительным развлечением. Самуил принес огромный сундук из черного дерева, украшенный бесподобными инкрустациями. В этом сундуке находились материи и наряды для свадебной церемонии. Тут были великолепнейшие платья, драгоценнейшие кружева, бриллианты, которым позавидовала бы королева. Можно судить о восхищении девушки при виде всех этих сокровищ. При каждой новой вещи, вынимаемой из неисчерпаемого сундука, Жанна хлопала в ладоши и обнаруживала детскую радость, которой Рауль не мог не разделять, хотя и говорил иногда с кроткой серьезностью:
— Зачем вы так радуетесь, милое дитя?.. К чему вам все это? Вы не сделаетесь прелестнее от этих нарядов!..
— О! — отвечала Жанна, — позвольте мне восхищаться, друг мой, и считать себя неизмеримо счастливой… Не служит ли все это доказательством, до какой степени вы меня любите!..
Настал вечер. Так же, как и накануне, Рауль простился с Жанной, сказав ей:
— До завтра… До завтра, с тем чтобы не расставаться более!
Молодая девушка не отвечала, но ее молчание и румянец красноречиво говорили за нее.
Наконец настал день свадьбы. В десять часов утра Рауль вошел в гостиницу Царя Соломона. Он был одет с изящной простотой и с величайшим вкусом. Синий бархатный кафтан вполовину покрывал белый атласный жилет, вышитый серебром. Серые панталоны и белые шелковые чулки дополняли наряд.
Онорина заканчивала туалет Жанны. Белое шелковое платье обрисовывало стройный и грациозный стан девушки. Девственные цветы символического букета переплетались с ее прекрасными белокурыми волосами. С каждой стороны ее прелестной шеи спускались длинные концы богатого кружевного вуаля. Этот свежий и простой наряд придавал новый блеск ее великолепной красоте. Жанна была ослепительна.
— Моя царица, — сказал Рауль, становясь перед своей невестой на колени. — Вас должно обожать!..
— Любите меня только, — отвечала девушка с улыбкой. — Я более ничего не прошу у вас…
И она протянула руку жениху, чтобы поднять его. Рауль, стоя на коленях, взял эту руку и прижал ее к своим губам.
— Сейчас, — продолжала Жанна, — вы назвали меня вашей царицей, не правда ли?..
— Да, вы царица моего сердца, моей жизни, моей воли, всего моего существа.
— Повинуйтесь же мне как царице и встаньте.
Рауль тотчас встал. Жанна продолжала:
— Вот это покорность!.. Хорошо! А так как царица не неблагодарна, она позволяет своему верному подданному поцеловать ее…
Нужно ли нам говорить, что Рауль с жаром воспользовался данным позволением? Однако, пробила половина одиннадцатого.
— Пойдемте, — сказал Рауль.
И он подал руку молодой девушке. Вместо того, чтобы вести свою невесту, как она ожидала, по тайному выходу, Рауль ввел ее в столовую и дотронулся до пружины, скрытой в обоях; тотчас отворилась дверь на широкую и великолепную лестницу, по которой и сошли молодые люди. Эта лестница кончалась огромной передней, три стеклянные двери которой вели на просторный двор. Перед одной дверью стояла карета, совершенно новая и необыкновенной красоты. Кузов и дверцы ее, синие с золотом, были украшены разными аллегорическими изображениями; внутренность была обита вышитым белым атласом; обложенные серебром колеса ярко блестели. Лошади, белые, как снег, с длинными гривами, в которые были вплетены голубые и серебряные ленты, ржали и били копытами от нетерпения, удерживаемые мощной рукой видного кучера, напудренного, в треугольной шляпе с галуном и в пунцовом с золотом кафтане. Три высоких лакея, стоявшие возле дверец, были в таких же ливреях.
— Боже! Друг мой, какой великолепный экипаж! — вскричала Жанна с восторгом.
— Вы находите, милое дитя?
— Карета, лошади и ливрея кажутся мне самого изящного вкуса! Вы знаете, кому все это принадлежит?
— На дверцах нарисован герб, — отвечал Рауль, — может быть, он вам объяснит то, что вы хотите знать.
— О! Я не сильна в геральдике!
— Все-таки посмотрите.
Они подошли к карете. На дверцах блестели искусно соединенные гербы Шанбаров и де ла Транблэ.
— Что это значит? — спросила молодая девушка, остолбенев от изумления.
— Это значит, — отвечал Рауль, — что карета принадлежит вам.
В то же время он сделал знак, и лакеи тотчас засуетились: один открыл дверцу, другой откинул подножки, третий подал Жанне свою руку, обтянутую перчаткой, чтобы помочь Жанне войти в карету. Рауль сел возле своей невесты, лошади быстро помчались. Через несколько минут карета остановилась у Отеля Тианж. Гигантский гайдук ожидал на крыльце. Как только Рауль и Жанна вышли из кареты, он низко им поклонился и пошел перед ними важной и торжественной поступью. Следуя его указаниям, жених и невеста скоро дошли до дверей обширной залы. Там он поклонился, сделал два шага в сторону, чтобы пропустить их, и затворил за ними дверь.
На минуту Рауль и Жанна остались одни; ни тот, ни другая не говорили. Жанна была слишком взволнованна, чтоб произнести хоть одно слово; что же касается Рауля, то невольное смущение овладело им в ту минуту, когда он очутился, так сказать, лицом к лицу с гнусным поступком, который готовился совершить и который его совесть и закон равно клеймили именем преступления.
Дверь залы отворилась, и гайдук снова явился на пороге и громко провозгласил:
— Маркиз д'Орбессон… Видам де Памье…
В то же время два человека, в высшей степени оригинальные, торжественно вступили в залу. Первый, мнимый маркиз д'Орбессон, был одарен высоким ростом и достопочтенной полнотою. Сверх жонкилевого кафтана и желтого жилета, на нем была горностаевая шуба, покрытая гранатовым бархатом; из-под нее комическим образом торчала его маленькая шпага. Парик, старательно напудренный, подчеркивал красноту лица, щеки, нос и лоб которого были покрыты ярким румянцем. Лицо это, без сомнения, разрумянившееся таким образом от поклонения бутылке, походило, между белым париком и кружевным галстуком, на вишню в снегу. Черты мнимого маркиза, впрочем, выражали шутливую и довольно остроумную веселость. Он опирался, как откупщик в комедии, на трость с золотым набалдашником.
Его товарищ, видам де Памье, был не ниже его ростом, но необыкновенно худощав. Его тщедушные, почти чахоточные члены угловато торчали в широком бархатном кафтане зеленого цвета, вышитом серебром. На нем были чулки с серебряными стрелками, башмаки с красными каблуками и чрезвычайно широкими пряжками. Глаза его были тусклы, а физиономия решительно ничего не говорила. Несмотря на эту не весьма привлекательную наружность, видам принимал грациозный и великолепный вид, от которого можно было бы умереть со смеху, и, казалось, имел превосходное и самое лестное мнение о своих личных достоинствах.
Всякому другому, кроме Жанны, непременно показались бы странными манеры этих мнимых вельмож, но девушка никогда не видала людей знатных и притом в эту минуту ей недоставало необходимой свободы ума, чтобы наблюдать и в особенности отдать себе отчет в своих наблюдениях.
Маркиз д'Орбессон и видам де Памье были не кто иные, как управитель и метрдотель маркиза де Тианжа. Первому, одаренному довольно быстрым умом и большим красноречием, было поручено играть немаловажную роль в приготовлявшейся комедии. Второй, совершенно ничтожный, должен был только фигурировать, а не действовать, как актер.
При появлении этих странных персонажей Рауль закусил губу, чтобы удержаться от смеха. Взяв Жанну за руку, он пошел с ней навстречу к пришедшим. Маркиз д'Орбессон взял другую руку Жанны, вежливо поднес ее к своим губам и сказал Раулю:
— Клянусь честью, мой прекрасный племянник, представь же меня этой очаровательной девице, которую я почту за счастье назвать моей племянницей…
— Жанна, — сказал тогда кавалер, — имею честь представить вам маркиза д'Орбессона, моего дядю… Любезный дядюшка, — прибавил он, — имею честь представить вам мадемуазель Жанну де Шанбар, которая скоро будет мадам де ла Транблэ.
— Я откровенен, — заметил мнимый маркиз, — и даже иногда, как уверяют, немножко груб. Когда я узнал, мой прекрасный племянник, что ты женишься по любви, отказавшись от стольких богатых невест, которых я предлагал тебе, признаюсь, я рассердился на тебя!.. Я боялся обманчивой повязки купидона… Я дрожал при мысли о союзе, недостойном твоего положения в свете, недостойном имени, которое ты носишь… Но с тех пор, как я увидал твою невесту, с тех пор, как я сам убедился, что нет ничего преувеличенного во всем, что ты велел мне сказать об этом сокровище невинности, грации и красоты, я считаю себя виноватым перед тобою. Прими же мои поздравления, любезный племянник, мои искреннейшие поздравления!..
И дядя подкрепил все эти похвалы сильным пожатием руки. Видам де Памье слушал все, что говорилось, и каждую минуту качал головой в знак одобрения. Несмотря на свое изумительное хладнокровие, Рауль находил эту сцену слишком длинной и боялся, чтоб она не сделалась затруднительной. Пожатие руки было для него не слишком лестно. Он опасался, чтобы в случае, если комедия продолжится, дядюшка не вздумал оказать еще какого-нибудь нового изъявления своей родственной внимательности. Прекрасное личико Жанны и без того уже покрывалось румянцем стыдливости при каждом комплименте маркиза.
«Долго ли еще продолжится все это?»— спрашивал себя кавалер и внутренне проклинал медлительность маркиза де Тианжа.
Наконец нетерпение Рауля кончилось. Дверь залы отворилась во второй раз и гайдук доложил, что все готово и что капеллан ждет будущих супругов. Рауль взял за руку Жанну и повел ее в капеллу. Эта капелла, выстроенная отцом маркиза де Тианжа, просвещенная набожность которого равнялась слепому безверию его сына, была очень невелика, но отделана с чрезвычайной роскошью и необыкновенным вкусом. Скульптурные украшения принадлежали резцу искусного художника. Алтарь был из белого мрамора. Красный бархатный ковер покрывал пол. Позолоченная лампада изящной работы спускалась со свода на серебряной цепочке. Одно из лучших произведений великого Лесюёра украшало главный алтарь; кроме того, несколько других картин, также весьма замечательных, хотя и второстепенных, сияли, как драгоценные каменья, в богатых рамах.
В ту минуту, когда жених, невеста и свидетели вошли в капеллу, мнимый аббат, стоя на коленях в позе притворного благочестия, как будто набожно молился. При звуке шагов он тихо приподнялся с колен и обернулся. Рауль с трудом узнал своего друга. В самом деле, маркиз замаскировался с искусством опытного актера. Мы сказали, что ему было сорок лет и что лицо его было свежо и румяно; но он успел придать себе наружность шестидесятилетнего старика. Несколько серебристых локонов, выбиваясь из-под черной бархатной скуфьи, придавали его лицу выражение патриархального умиления. Синеватые круги, искусно сделанные под глазами, и несколько морщин, кстати проведенных, довершили это превращение. Де Тианж был в одежде капеллана. Он обратился к Раулю и Жанне с наставительной речью, запечатленной самой строгой моралью. Справедливое негодование не позволяет нам привести здесь эту речь. Наконец маркиз начал венчальный обряд.
Раулю сделалось страшно во время совершения чудовищного святотатства, в котором он сам участвовал. Каждую минуту ему казалось, что гнев Божий наконец пробудится и разгромит нечестивцев, осквернявших таким образом освященный алтарь. Раз десять он готов был закричать своему сообщнику: «Остановись!»
Но обряд совершился до конца, и вскоре Рауль сам смеялся над своим невольным ужасом.
Сладостные слезы текли из больших глаз Жанны. Мрачный и почти адский огонь сверкал в глазах Рауля. Святотатство совершилось. Бедная жертва попала в гнусные сети, о которых даже и не подозревала.
XXVII. Шпион
Мы не будем говорить здесь о первых днях союза Рауля и Жанны. Нам известно, что девушка твердо верила в святость своего брака и предавалась с наслаждением и без всяких подозрений нежному упоению медового месяца. Рауль, страстно влюбленный в ту, которую обманул таким гнусным образом, как будто хотел вознаградить ее настоящим счастьем за все горести, которые приготовлял ей в будущем. Он казался лучшим из мужей и едва ли расставался со своей молодой женой на час или два в сутки. Словом, Жанна, вступив на путь супружеской жизни, столь часто тернистый, ступала словно по розам.
Рауль окончательно поместил свою молодую супругу в той квартире, которую мы уже описывали и которая имела два выхода: один в Комнату Магов в гостинице, а другой на соседнюю улицу. Рауль как будто осудил себя с женою на совершенное уединение. Изредка по вечерам ездил он с Жанной кататься в карете или заключался вместе с нею в самую мрачную из закрытых оперных лож. Молодая женщина выразила некоторое удивление при таком уединении и таинственности, которыми Рауль окружал свое жилище и свои поступки, но Рауль отвечал ей, что он вынужден принимать на время меры предосторожности, потому что неблагоразумно скомпрометировал себя в одной политической интриге и знал наверно, что Бастилия раскроется для него, если он не переждет некоторое время. Впрочем, прибавил он, есть надежда, что он скоро будет прощен.
Жанна не настаивала: Рауль, которого она любила выше всего на свете, был всегда с нею. Чего же более могла желать она?.. Прислуга ее состояла только из Онорины и Жака, который за свою привязанность и преданность к господину был удостоен Раулем неограниченного доверия и возведен в достоинство метрдотеля мадам де ла Транблэ. А великолепная карета и рослые лакеи, как мы уже сказали, служили только для ночных прогулок и вечеров, проводимых в опере.
Такое положение вещей не могло долго продолжаться; когда-то должны были совершиться весьма важные изменения. Рауль не совершенно зависел от одного себя; он не имел права располагать своей жизнью по своей воле; на нем лежали весьма важные обязанности, о которых он позабыл только на время, наслаждаясь радостями медового месяца.
Скоро до него дошли дурные известия. Во-первых, виконт д'Обиньи не умер от раны, а, напротив, выздоравливал и беспрестанно возобновлял страшные клятвы отомстить тому, кто ранил его. К счастью для кавалера, имя его было неизвестно виконту; но эта неизвестность не могла долго продолжаться; очевидно, как только больной будет в состоянии встать с постели, он тотчас найдет возможность узнать имя его ночного противника. С другой стороны говорили, что регент страшно рассердился и обещал строго наказать того, кто имел неслыханную дерзость напасть на человека, принадлежащего к его свите. Наконец хуже всего, Антония Верди, прекрасная итальянка, искусная чародейка, являлась опять в Пале-Рояль и производила там вторично свои заклинания. После этого милость к ней регента дошла до огромных размеров.
Все это было вовсе не успокоительно. Рауль сказал себе, что надо уничтожить зло, не теряя ни минуты и всеми возможными средствами. Для этого необходимо было возвратить прежнее неограниченное влияние над умом регента до совершенного выздоровления виконта д'Обиньи. Необходимо было также разрушить до основания начинающееся влияние итальянки или, по крайней мере, сделать из нее друга и союзника. Рауль не скрывал от себя, что давно бы уже ему следовало достигнуть этой двоякой цели, но, подобно Ганнибалу в Капуе, он позволял себе предаваться неге и наслаждениям.
Следовало возвратить потерянное время. Рауль тотчас принялся за дело. Он порылся в шкафах, стоявших в Комнате Магов, и нашел костюм, который должен был придать ему наружность молодого купеческого приказчика, очень заботящегося о своей особе. Этот костюм состоял из коричневого суконного кафтана, оливкового жилета, серых панталон, белых чулок со стрелками, небольшого парика, почти без пудры, пуховой черной шляпы с широкими полями и лакированных башмаков с большими посеребренными пряжками.
Переодевшись таким образом, Рауль пошел в известный в то время кабак знаменитого Ранпонно. В обширные залы этого заведения посетители стекались толпами. Французские гвардейцы с раскрасневшимися лицами и гордо завитыми усами, купеческие приказчики и мещане усердно потягивали там аржантейльское винцо.
Рауль сел возле прилавка и велел подать себе рюмку ликера, потом обошел кругом всей залы, рассматривая лица всех посетителей, которые пели, пили и играли в карты или в кости. Без сомнения, он не встретил того, кого искал, потому что, заплатив за выпитую рюмку, тотчас оставил Ранпонно и отправился в другой кабак, славившийся своей дурной репутацией, потому что почти все его посетители были на заметке у полиции. На вывеске этого кабака красовались большими буквами следующие слова: «Союз Марса и Венеры». Узкая и низкая дверь вела во внутренность заведения.
Рауль переступил за порог этой двери с очевидным отвращением. Действительно, место, в которое он входил, было отвратительно и наводило ужас, точно так же, как и его посетители. Тут не было, как у Ранпонно, румяных, добрых и веселых лиц и громкого смеха; не слышно было порывов веселости, если не всегда благопристойной, зато, по крайней мере, почти всегда честной. Тут встречались люди самой подозрительной наружности, физиономии мрачные и зверские; тут раздавались хриплые звуки какого-то странного, непонятного языка, пелись песни до того неблагопристойные, что, вслушавшись в них, стыдно было понять смысл. Это был не кабак, не таверна, а вертеп. Тут пили водку и курили, в подражание голландцам, белые глиняные трубки с длинными чубуками.
В ту минуту, как вошел Рауль, все подняли головы. Одежда его, простая, но опрятная, произвела впечатление. Кавалер бросил вокруг себя тот же самый пытливый взгляд, который в заведении Ранпонно не отыскал того, чего желал. На этот раз Рауль был счастливее, потому что тотчас приметил человека с подозрительной физиономией, которому огромные черные усы и длинный шрам поперек лица придавали воинственный вид. Человек этот, худой, бледный, одетый чрезвычайно бедно, стоял у стены в углу комнаты.
Рауль прямо подошел к нему и коснулся пальцем.
— Э? — проворчал человек с подозрительной физиономией, и ворчание его было очень похоже на ворчание бульдога, которого разбудили. — Кто вы и чего от меня хотите?
Кавалер не отвечал на эти два вопроса, но сделал правой рукой быстрый и странный жест, который, без сомнения, был каким-нибудь условным знаком, потому что человек с подозрительной физиономией тотчас отвечал подобным же жестом. Рауль сел за стол напротив него, и между ними начался шепотом следующий разговор:
— Вас зовут Матьяс Обер, прозванный Рысью? — спросил Рауль.
— Да.
— Стало быть, вы именно тот, кого я ищу… я хочу дать вам поручение…
— А принесет ли оно мне что-нибудь? — спросил странный собеседник кавалера.
— Принесет, и много, — заверил его Рауль.
— Что ж, может быть, вы и правы… Я буду вам служить. О чем идет дело? О похищении?.. Об ударе ножом?.. Предупреждаю вас, прежде, чем вступим в переговоры, что удары ножом нынче стали очень дороги…
— Их не нужно…
— Тем хуже!
— Но вам заплатят так же щедро.
— Тем лучше!
— Вот в чем дело… Вы меня слушаете, не так ли?..
— Благоговейно.
— Мне нужно иметь сведения об одной особе…
— Вы их получите, — сказал Матьяс Обер, вынимая из кармана отвратительный грязный бумажник и приготовившись записывать.
— Эта особа, — продолжал Рауль, — женщина.
— Очень хорошо.
— Она итальянка и называется Антония Верди…
Матьяс как будто силился вспомнить это имя, но, верно, память не напомнила ему ничего, потому что он тотчас сказал:
— Продолжайте.
— Антония Верди, — продолжал кавалер, — молода и очень хороша собой; она занимается магией, ворожбой и вызывает духов.
— О! о! — вскричал Матьяс.
— Около месяца назад, — прибавил Рауль, — она была два раза в Пале-Рояле ночью и в присутствии регента производила заклинания.
Рауль остановился.
— Вы больше ничего не знаете о ней? — спросил Матьяс.
— Ничего.
— Это немного, но для меня довольно. Как ни недостаточны ваши указания, мы будем действовать. Только прежде мы должны хорошенько понять друг друга. Что вы хотите знать?
— Как можно больше.
— Это значит ничего. Поставьте ваши вопросы по порядку, и мы постараемся отвечать на них в точности.
— Итак, я хочу знать:
1. Где живет Антония Верди?
2. Откуда она приехала?
3. Какова была ее прошлая жизнь?
4. Сколько времени находится она в Париже?
5. Каков ее образ жизни?
6. Есть ли у нее какое-нибудь состояние?
7. Наконец, кто ее ввел в Пале-Рояль?
— Ну вот и прекрасно! — сказал Матьяс, положив в карман бумажник, в котором он писал под диктовку Рауля. — Теперь приступим к серьезной стороне вопроса…
— Вы говорили о плате, не так ли?
— Да.
— Я вам обещал быть щедрым.
Матьяс презрительно сжал губы.
— Для меня обещания ничего не значат! Действуйте, и я примусь за дело, иначе я ни за что не берусь.
— Вы хотите денег вперед? Сколько же дать вам?
— Половину платы.
— И сколько же составит вся сумма?
— Двадцать пять луидоров.
— Вы недоверчивы!
— Что же делать!.. Меня часто обманывали.
— Если я дам вам столько, сколько вы хотите, когда вы приметесь за дело?
— Сейчас же.
— А когда я получу нужные для меня сведения?
— Может быть, дня через три, во всяком случае не позже, как через три недели. Это зависит от того, какие затруднения встретятся мне…
— Вот вам пятнадцать луидоров.
— Благодарю.
— Я дам вам еще пятнадцать, получив ответы на мои вопросы. Вы видите, что это составит тридцать луидоров вместо двадцати пяти, которые вы просили…
— Вы поступаете благородно, — заметил Матьяс. — Зато вам и служить будут усердно. Где я вас увижу?..
— Здесь, через четыре дня, в это же время.
— Через четыре дня навряд ли я буду в состоянии удовлетворить вас вполне, но все-таки сообщу что-нибудь.
Рауль простился со своим агентом. Позже мы объясним нашим читателям, каким образом Матьяс Обер не знал Рауля, между тем, как кавалер обратился прямо к нему со своим поручением. Кстати заметим здесь, что если некоторые вещи покажутся темными и неправдоподобными в первых частях этой истории, то все объяснится впоследствии, и, надеемся, ко всеобщему удовольствию.
Вечером на четвертый день кавалер воротился в кабак, вероятно, для контраста называвшийся Союзом Марса и Венеры. Обер уже сидел на своем месте. Стоявший перед ним огромный стакан, наполненный водкой, доказывал цветущее положение его финансов. Очевидно, он был пьян, но опьянение не лишало его разума, спокойствия и совершенной ясности.
— Я всегда думал, что нехорошо хвалить самого себя, — сказал он Раулю, как только тот сел возле него, — но сегодня я могу сказать без хвастовства, что я славно заработал свои денежки…
— Вам удались ваши поиски? — спросил кавалер.
— Черт побери! Разве когда-нибудь Матьясу Оберу, прозванному Рысью, не удается что-либо?
— Вы без сомнения, принесли с собою сведения, собранные вами?
— Принес.
— Покажите же мне…
Матьяс подал Раулю сверток бумаги, старательно запечатанный, говоря:
— Я человек добросовестный и хотел поступить так же благородно, как и вы. Я велел переписать начисто мои заметки одному моему приятелю, публичному писцу с редкими достоинствами, который когда-нибудь вступит в Академию… Это мне стоило луидор, ни более ни менее. Зато отлично переписано; впрочем, судите сами.
Рауль сорвал печать с бумаги, поданной ему Матьясом, и прочел следующее:
«Донесение, представленное кавалеру Раулю де ла Транблэ об особе, называющейся Антонией Верди».
— Вы меня знаете? — вскричал Рауль, прервав свое чтение.
— Как же, — отвечал Матьяс, — если вы мне дали работу, то почему бы мне было не узнать, на кого я работаю.
Кавалер снова принялся за донесение, которое держал в руках. Оно начиналось следующими словами:
«Семь вопросов было предложено кавалером де ла Транблэ его нижайшему слуге Матьясу Оберу. Вышереченный Матьяс постарается отвечать на них так подробно, как только возможно. Кавалер согласится без труда, прочитав нижеследующее, что исследования были доведены так далеко, как только возможно.
Первый вопрос: где живет Антония Верди? — Она живет на улице Жюссьеннь, номер 7, в» Лионской Гостинице «.
Второй вопрос: откуда она? — Из Марселя и, без сомнения, из Италии, но на точность сведений можно полагаться только со времени появления ее в Марселе.
Третий вопрос: какова ее прошлая жизнь? — Ответ на этот вопрос вовсе не так легко найти, как на два первых, потому что он гораздо сложнее и запутаннее. Вот что было узнано о прошлой жизни этой искательницы приключений.
Писавший это донесение, узнав, что Антония Верди живет на улице Жюссьеннь, всеми силами старался найти возможность вступить в сношения или с самой молодой женщиной, или с кем-нибудь из ее приближенных. Приближенные ее состоят из горничной и лакея. Горничная — итальянка и, кажется, вполне преданна своей госпоже. Лакей — парижанин, хорошо известный полиции, с которым писавший это донесение имел прежде сношения. Они оба встретились у ворот» Лионской Гостиницы»и тотчас узнали друг друга. Матьяс Обер увел в кабак Жана Каррэ (так зовут лакея) и в разговоре, между стаканами и бутылками, узнал от него следующие подробности.
XXVIII. Донесение
«Жан Каррэ, принужденный оставить Париж три или четыре года назад вследствие несогласия с полицией, отправился в Марсель искать более гостеприимного убежища. Не имея решительно никаких средств к жизни, он вынужден был наняться в лакеи в одну из главных гостиниц в городе. Место было хорошее, жалованье достаточное, прибыль большая, и Жан Каррэ скоро свыкся со своим новым положением. Года через два он сделался некоторым образом доверенным человеком хозяина той гостиницы, в которой служил.
Шесть месяцев тому назад в гостиницу эту приехала молодая женщина, очень хорошенькая, с горничной, но почти без багажа. Это, однако, не помешало ей остановиться в самых обширных и великолепных комнатах отеля. Вечером, в тот самый день, как она приехала, один неизвестный молодой человек явился в гостиницу и спросил о приезжей, назвав ее синьорой Антонией Верди. Этот молодой человек приходил потом каждый день. Синьора никуда не выезжала, но много тратила в гостинице и всегда аккуратно платила. Через три месяца молодой человек вдруг перестал являться в гостиницу. Целую неделю Антония Верди горько плакала, била себя в грудь и ходила в трауре, распустив волосы по плечам.
Наконец, она, по-видимому, утешилась, но с этих пор платила за издержки уже не так аккуратно, как прежде, а через несколько времени и вовсе перестала платить. Хозяин гостиницы терпел месяц, потом послал к ней Жана Каррэ просить денег, а в случае отказа просить ее выехать из гостиницы. Жан Каррэ исполнил поручение самым вежливым образом. Молодая женщина не дала ему кончить. Она сняла с пальца бриллиантовый перстень и подала ему, говоря:
— У меня нет денег, но продайте этот перстень и вырученные деньги отдайте вашему хозяину.
Когда Жан Каррэ исполнил приказание Антонии и когда принес ей остаток суммы, она сказала ему с простотой знатной дамы, у которой триста тысяч франков годового дохода:
— Оставьте это себе, друг мой, за труды!..
Через месяц возобновилось то же самое. Синьора Антония послала Жана Каррэ продать второй перстень и по-прежнему велела ему взять себе оставшиеся луидоры. Подобная щедрость со стороны женщины, которая казалась вовсе небогатой, до того удивила Жана Каррэ, что физиономия его ясно выразила, что происходило в нем. Антония угадала его мысли и сказала ему, улыбаясь:
— Я могу тратить много, потому что скоро буду так богата, что мне некуда будет девать своего богатства; если вы хотите, друг мой, я вас обеспечу.
— Каким образом? — спросил Жан Каррэ.
— Я еду в Париж: мне нужен лакей. Поезжайте со мною, и я уверена, что вы будете радоваться своей участи.
Жан Каррэ колебался. Принять предложение молодой женщины значило поступить подобно собаке в басне: оставить кость и бежать за тенью. Но Антония наговорила ему таких убедительных вещей, с таким красноречием, что Жан Каррэ, ослепленный и восхищенный, тотчас побежал к своему хозяину и сказал, чтобы тот искал другого слугу на его место, а он, дескать, поступает в услужение к Антонии Верди. Все думали, что Жан Каррэ сошел к ума, и не старались его удерживать.
Через несколько дней Антония, горничная и Жан уехали из Марселя в Париж. Продажа последних бриллиантов позволила молодой женщине купить подержанную карету, и, кроме того, у ней остались еще наличные деньги. Через три недели путешественники прибыли в Париж. Антония написала заранее, чтобы для нее был приготовлен первый этаж в Лионской Гостинице, в улице Жюссьеннь. Там она заперлась и сначала вела жизнь затворницы, никуда не выходила и никого не принимала.
Через неделю госпожа велела Жану Каррэ отнести письмо в Пале-Рояль. Письмо это было адресовано на имя одного из офицеров регента.
Через два часа человек высокого роста, с румяным лицом, пришел к Антонии и провел с ней часа три, то разговаривая шепотом, то громко споря, но все на каком-то иностранном языке.
После его посещения не проходило дня, чтобы к Антонии купцы не приносили чего-нибудь; но все это были вещи чрезвычайно странные: чучела птиц, хрустальные вазы, необыкновенной формы, разноцветного пламени ракеты, горевшие без дыма и без запаха. Был даже очень красивый скелет, собранный на медной проволоке и двигавший своими костями, когда дотрагивались до пружины, скрытой в подножках.
Антония проводила целые ночи, запершись в своей комнате, изучая какие-то таинственные книги и говоря сама с собою, как сумасшедшая или лунатик. Посещения мужчины высокого роста сделались реже, но все-таки раза два в неделю он аккуратно приходил в гостиницу.
В один вечер Жан Каррэ слышал, как незнакомец, уходя от Антонии, сказал ей:
— Будьте же готовы завтра.
— Будьте спокойны, — отвечала Антония.
На другой день, около десяти часов вечера, карета без гербов, с кучером и лакеями без ливрей, остановилась у ворот» Лионской Гостиницы «. Лакей спросил Антонию, которая не заставила себя ждать. Жан Каррэ из любопытства последовал за каретой и видел, как она въехала в Пале-Рояль.
Антония возвратилась в четыре часа утра. Она сияла от радости и заплатила Жану Каррэ жалованье за целый год вперед да еще дала почти столько же в подарок. С этого времени, поездки в Пале-Рояль возобновлялись три раза: два раза днем и раз ночью. Теперь Антония намерена оставить» Лионскую Гостиницу»и ищет квартиру, которую хочет меблировать великолепно. В квартале уверяют, что молодая женщина — колдунья, и что неудивительно будет, если народ скоро сыграет с ней дурную шутку. Антония выдает себя за итальянку, но она не итальянка. Это неоспоримо доказывается следующим обстоятельством. Когда Антония находится с посторонними, она употребляет в разговоре самое резкое итальянское произношение; когда же, напротив, разговаривает с господином, приезжающим к ней из Пале-Рояля, или с Жаном Каррэ и горничной, она говорит на самом чистом французском языке, без малейшего акцента. Наверно, мнимая Антония Верди скрывается под именем и национальностью, ей не принадлежащими. Тут есть тайна, которую еще надо прояснить. Матьяс Обер постарается это сделать, если получит приказание от кавалера де ла Транблэ.
Четвертый вопрос: сколько времени находится Антония в Париже?
Ответ на предыдущий вопрос, равно может служить ответом и на этот и на пятый, в котором спрашивается об образе ее жизни. Следовательно, напрасно было бы повторять одно и то же.
Шестой вопрос: есть ли у нее какое-нибудь состояние?
Никакого, по крайней мере, кроме того, что ей приносят поездки в Пале-Рояль, откуда она всегда возвращается с кучей золота.
Седьмой и последний вопрос: кто ввел Антонию в Пале-Рояль?
Тот господин высокого роста, который приехал к ней через два часа после получения ее записки. Этот господин две недели назад был почти смертельно ранен на дуэли кавалером де ла Транблэ и звать его виконт д'Обиньи… «
Так кончилось донесение Матьяса Обера. Бумага выпала из рук Рауля, когда он прочел последние строки. Какая роковая судьба послала ему вдруг двух страшных врагов, виконта и искательницу приключений? Зачем эта несчастная дуэль не освободила его, по крайней мере, хоть от одного врага?.. Рауль проклинал свою руку, за то, что она не нанесла более верного удара.
« Ах! Если б я это знал!» — думал он.
И, забыв, в каком месте он находится, он погрузился в мрачные и глубокие размышления. Матьяс Обер вдруг прервал их.
— Вы довольны моим трудом? — спросил он.
— Доволен, — отвечал Рауль.
— В таком случае, не забудьте же…
— Ваших пятнадцать луидоров?.. Вот вам двадцать.
— Имею честь благодарить вас, кавалер, вы настоящее солнце щедрости!..
Рауль встал и сделал несколько шагов, чтобы удалиться.
— Я более не буду вам нужен? — спросил Матьяс Обер.
Рауль колебался с минуту, потом продолжал:
— Может быть, еще понадобитесь.
XXIX. Ревность
В этот день, в первый раз после своей мнимой свадьбы, Рауль, вернувшись к Жанне, не мог изгладить со своего лица следов озабоченности, мучившей его. Смятение его мыслей было так велико, что он даже забыл переодеться в свое платье, оставленное в Комнате Магов, и явился к молодой женщине в том самом костюме, который надевал, отправляясь к Матьясу Оберу в кабак» Марса и Венеры «.
В первую минуту Жанна не узнала своего мужа в костюме, описанном нами выше. Потом, когда она уверилась, что это Рауль, а на это не потребовалось много времени, она начала расспрашивать его о причинах подобного превращения. В любом другом обстоятельстве Рауль первый посмеялся бы над своей рассеянностью и в несколько минут сочинил бы правдоподобную историю, чтобы объяснить переодевание, настоящую причину которого он хотел скрыть. Теперь же, находясь в тревожном расположении духа, огорченный и озабоченный, мучаясь настоящим, опасаясь за будущее, Рауль, застигнутый врасплох, не знал, что отвечать, и, чтобы выпутаться, упрекнул Жанну с некоторой горечью за ее нескромное любопытство.
— Но, друг мой, — возразила Жанна, — мне кажется, что между мужем и женой все должно быть общее; если я не должна иметь от вас секретов, вы также не должны иметь от меня никаких тайн…
— Напрасно вы так думаете, — сухо отвечал Рауль.
— Отчего?
— Муж не должен отдавать жене отчета в своих делах, и когда он считает нужным молчать, ей неприлично расспрашивать!
Жанна с удивлением взглянула на Рауля.
— Боже мой!.. — прошептала она. — Вы не говорили со мною таким образом несколько дней тому назад…
— Оттого, что несколько дней тому назад, — возразил Рауль, — вы не мучили меня вашим докучливым любопытством!..
— Стало быть, я вас мучаю? — вскричала молодая женщина.
— Да, и более, чем я могу выразить, — резко сказал Рауль.
Жанна не отвечала. Она закрыла лицо руками и начала молча плакать. Как горьки показались ей эти слезы, первые, которые заставил ее пролить любимый человек!
Рауль большими шагами ходил по комнате. Через минуту он взглянул на Жанну и, увидав прозрачные жемчужины, катившиеся по бледным щекам молодой женщины, он почувствовал живейшее раскаяние и упрекал себя за грубость. От сожаления в проступке до желания загладить его один только шаг. Рауль встал на колени перед Жанной, взял ее руку и сказал нежным голосом:
— Милое дитя, я огорчил вас невольно… Умоляю вас, простите мне, иначе я не прощу себе!..
Жанна подняла голову. Бледный румянец возвратился на ее щеки; она улыбалась сквозь слезы, как луч летнего солнца блещет сквозь последний туман дождя.
— Вы говорите, что огорчили меня, друг мой, — отвечала она. — Но уверяю вас, что я уже все забыла.
— Ах! — вскричал Рауль. — Вы прелестнее ангелов и так же добры, как и они!..
Потом, прижав молодую женщину к своему сердцу, он осушил губами последние следы слез, сиявших на ее свежем личике.
— Теперь, когда мир заключен, — продолжала Жанна с очаровательной улыбкой, — я хочу — пожалуйста, называйте меня дочерью Евы — повторить вам свой вопрос: зачем, милый Рауль, вы сегодня не в обычном своем платье? Зачем блестящий дворянин оделся в мещанский наряд?
— Все это очень просто, — отвечал Рауль, у которого было достаточно времени придумать отговорку. — Я уже говорил вам, милое дитя, что я, по несчастью, замешан в одной политической интриге и потому мое положение не совсем безопасно…
— Да, вы мне говорили об этом…
— Теперь вы, конечно, поймете, что я не имею никакой охоты погостить несколько недель в Бастилии, тем более, что разлука, которая будет следствием заточения, вероятно, не понравится и вам так же, как и мне…
— Боже мой, разумеется… — отвечала Жанна.
— Сегодня, — продолжал Рауль, — дела заставили меня быть в таких местах, где я мог встретить людей, которые меня знают; благоразумие требовало некоторых предосторожностей, и я не придумал ничего лучше, как одеться в костюм, простота которого не могла привлечь внимания…
— Вы поступили благоразумно! — отвечала молодая женщина. — Но зачем вы тотчас же не сказали мне этого?
— Я боялся испугать вас, сказав об угрожающей мне опасности.
— Неужели вы не знаете, — прошептала Жанна, — что я предпочту все беспокойства на свете ужасной для меня мысли — лишиться вашего сердца?
— Моя возлюбленная Жанна, моя обожаемая жена, — отвечал кавалер с жаром, — мое сердце принадлежит вам полностью и будет принадлежать вечно…
Примирение, как видно, было полное, и разговор продолжался в таком же буколическом роде.
Вечером у Рауля было назначено свидание с маркизом де Тианжем. Он оставил Жанну в гостиной и пошел в спальную переодеться в платье, приличное его званию.
Как только Рауль вышел, Жанна приметила довольно толстый пакет, лежавший на ковре на том самом месте, где стоял ее муж. Без всякого сомнения, эта бумага выпала из кармана Рауля. Жанна наклонилась и подняла ее, потом хотела раскрыть и пробежать глазами, но чувство деликатности остановило ее. Имела ли она право читать то, что очевидно не назначалось для нее, и не мог ли Рауль обвинить ее в нескромности, на этот раз уже не без основания? Жанна сделала шаг к спальной, чтобы отнести мужу искусительную бумагу, но ее удержало какое-то предчувствие. Она подумала, что любопытство жены относительно секретов мужа совершенно законно, и, охотно поддавшись влиянию этого рассуждения, с живостью развернула бумагу и прочла три первые строчки.
«Донесение, представленное кавалеру Раулю де ла Транблэ об особе, называющейся Антонией Верди«.
— А! дело идет о женщине! — вскричала Жанна, уязвленная в сердце ревнивым подозрением. — О женщине!
Заперев наскоро дверь комнаты, чтобы Рауль не застал ее за чтением, она пробежала все донесение. По мере того, как она читала, ревность все более и более начинала терзать ее и она все более и более убеждалась в том, что пала жертвой гнусной измены. Через три недели после свадьбы!.. Было отчего потерять голову, и Жанна действительно потеряла ее. Она вообразила, будто ясно видит заговор, составленный Раулем. Очевидно, он любил эту женщину, эту искательницу приключений, эту Антонию Верди, если старался узнать о всех подробностях ее жизни. Очевидно, он переодевался затем, чтобы приблизиться к этой женщине, и, вероятно, так был занят мыслью о ней, что даже позабыл переменить свой костюм, когда возвратился под супружескую кровлю. Наконец, очевидно, гнев, обнаруженный им при первых вопросах Жанны, прикрывал естественное замешательство виновного, застигнутого почти на месте преступления. Несчастье, постигшее ее, показалось ей совершенным, ясным, незагладимым. Ее обманывали! ее уже не любили! Жанна хотела бежать к Раулю и осыпать его упреками, которых заслуживал его недостойный поступок.
Она отворила дверь гостиной, но была не в состоянии переступить через порог. Полученный ею удар был так силен, что кровь прилила к ее сердцу и голове, и она упала почти без чувств на ковер.
Через минуту силы к ней возвратились, она приподнялась, дошла до дивана и легла. Ей казалось, что она умирает. Странный шум наполнял ее уши, комната быстро вертелась перед ее глазами. Эта галлюцинация сменилась нервным припадком, искривившим деликатные члены бедной Жанны. Чтобы заглушить крики, вырываемые у ней болью, она судорожно кусала подушки дивана.
Все это продолжалось минут пять. Припадок кончился потоком слез и почти совершенным ослаблением.
В ту минуту, когда Рауль вошел в гостиную, слабость Жанны была так велика, что можно было подумать, будто она в обмороке.
XXX. Рауль и Жанна
Заметив, в каком ужасном положении находилась молодая женщина, Рауль тотчас подбежал к ней и вскричал с непритворным волнением и беспокойством:
— Что с вами?.. Боже мой! что с вами?
Услышав голос мужа, Жанна почувствовала, что силы вернулись к ней, как бы по волшебству, а вместе с тем пробудилось чувство горести, на минуту усыпленной. Она приподнялась с дивана и встала прямо перед Раулем с дрожащими губами и потупив взор. Кавалер повторил свой вопрос.
— Вы спрашиваете, что со мною, Рауль!.. — прошептала она с невыразимым отчаянием.
— Да, — отвечал кавалер, — я вас спрашиваю, милая Жанна.
Жанна подняла глаза, и в них сверкнула молния… Она раскрыла рот, чтобы вскрикнуть от негодования, но губы ее не могли произнести ни одного слова; молния, сверкнувшая в глазах, угасла. Наконец, после минутного молчания, она отвечала:
— Ничего… ничего…
— Как ничего?.. Глаза ваши красны, лицо расстроено!.. Вы смотрите на меня с ненавистью и гневом… Что я вам сделал?.. Совесть ни в чем не упрекает меня.
С минуту Жанна думала избежать немедленного объяснения, но у нее недостало мужества остаться на несколько часов под тяжестью своего законного негодования. Она хотела облегчить свое сердце и сказала голосом медленным, едва внятным и прерывавшимся от слез:
— О! Рауль, зачем в то время, когда вы вошли умирающий в дом моей матери, зачем пробудили вы в моем сердце жалость, потом любовь?.. Зачем вы говорили мне нежные и лживые слова?.. Зачем давали мне страстные клятвы, которых не думали сдержать? В особенности, зачем вы дали мне имя вашей жены, которое я носила с такой гордостью, хотя оно готовило мне — я это хорошо вижу теперь — только ряд самых мучительных, самых невыносимых горестей?
Жанна остановилась. Рауль воспользовался этой минутой молчания и вскричал:
— Я не знаю, во сне ли я вижу все это или наяву!.. Слова, которые я слышу от вас, сводят меня с ума!.. Спрашиваю вас именем неба, объясните мне, по крайней мере, какие причины заставляют вас говорить со мной таким образом?
— Вы их не угадываете?
— Нет, клянусь вам!
Жанна печально покачала головой.
— Рауль, — прошептала она, — вы мне говорите ложь; не унижайте же себя долее, ведь вы видите, что я знаю все.
Рауль задрожал. Неужели Жанна узнала тайну его жизни? Неужели Жанна знала, что он был женат и что, следовательно, союз их был святотатственной комедией? Но нет, этого не могло быть: маркиз де Тианж один знал эту тайну, а Жанна не видала маркиза. Рауль скоро успокоился.
— Милое дитя, — сказал он, — ваши упреки приводят меня в отчаяние, но повторяю вам, что я их не понимаю и не могу понять… Еще раз, что с вами?.. Каковы бы ни были ваши обвинения, я уверен, что могу ответить на них и оправдаться…
— Итак, вы хотите, чтоб я говорила?..
— Да, умоляю вас.
Жанна сделала над собою сверхъестественное усилие. Она приложила руку к сердцу, как бы затем, чтобы удержать сильное биение, и спросила голосом почти спокойным:
— Вы сказали мне, не правда ли, что замешаны в какой-то политической интриге и что вашей свободе угрожает опасность?..
— Сказал, — отвечал Рауль.
— Вы сказали мне, — продолжала Жанна, — что ваше нынешнее переодевание служило вам для того, чтобы вас не могли узнать там, куда принуждены были идти?..
— Сказал, — отвечал Рауль во второй раз.
— Зачем же вы говорили мне все это?..
— Затем, что это была правда…
— Нет, нет, Рауль! Это неправда, правда в том, что вы меня обманываете, вы любите другую женщину; не старайтесь отпираться, я знаю, как зовут эту женщину, знаю, где живет она.
— Милая Жанна, — перебил Рауль, — или я сошел с ума, или вы сами не знаете, что говорите!
Жанна улыбнулась иронически, подала Раулю донесение, которое комкала в руках, и сказала:
— Возьмите и, если можете, утверждайте еще, что вы не любите этой Антонии Верди, за которой шпионят ваши агенты и которой покровительствует регент!.. Уверяйте также, что вы переодеваетесь не для того, чтобы ходить к ней!.. Утверждайте это, чтобы ваше бесстыдство сравнялось с вашим вероломством!..
Рауль был оглушен этим неожиданным обвинением. Положение его было очень затруднительно. Мы знаем его невинность, по крайней мере относительно неверности, однако ему невозможно было оправдаться, как будто он действительно был виновен. Для своего оправдания, он должен был бы рассказать Жанне всю свою прошлую жизнь, свое положение при пале-рояльском дворе и причины, заставившие его шпионить за Антонией, а именно этого-то он и не мог да и не хотел объяснять. Притом, если бы он даже и решился на это, Жанна не дала бы ему времени окончить, потому что едва он выговорил:» Жанна, моя милая, выслушайте меня, умоляю вас!.. «она перебила его и сказала со спокойствием тем более ужасным, что оно, видимо, скрывало внутреннюю бурю, обнаружившуюся в интонации последних слов:
— Я не хочу ничего слушать, Рауль, не хочу ничего слушать. Вы опять солжете, как вчера, как сейчас, как всегда, и я вам не поверю… Поберегите вашу ложь для тех, кто позволит вам себя одурачить!.. Я, слава Богу, не такова!.. Ступайте к своей Антонии, которая, без сомнения, ждет вас!.. Ступайте! Я не думаю вас удерживать!
Сказав это, Жанна убежала в свою спальню, заперла дверь и начала заставлять ее разной мебелью, какую только, в припадке гнева, могла перетащить.
Рауль старался войти в переговоры через дверь, но Жанна не отвечала ни одного слова. Просьбы, угрозы, все было бесполезно. Рауль подумал, что, может быть, молодая женщина лишилась чувств, и уперся плечом в тонкую дверь, чтобы разломать ее. Как только дверь начала трещать, Жанна вскричала голосом, прерывавшимся от ужасного волнения:
— Я сняла со стены кинжал, который держу в руке. Клянусь перед Богом, Рауль, что в ту минуту, как вы разломаете дверь, я воткну себе этот кинжал в грудь…
Рауль испугался. Он настолько знал характер Жанны, что понимал, до какой степени она способна исполнить свою угрозу. Поспешно удалившись от двери, которая начинала уже подаваться, он подумал, что лучше всего предоставить уединению успокоить гнев молодой женщины. Читатель конечно не забыл, что у Рауля было назначено с маркизом свидание, которого нельзя было отложить, и потому он тотчас отправился в отель Тианжа, повторяя:
— О! ревность!.. гибельная ревность!.. сколько несчастий причиняешь ты на свете!..
Когда кавалер возвратился домой к ужину, впечатление, произведенное на него сценой, которую мы рассказали, почти изгладилось из его памяти. Он надеялся найти Жанну успокоившейся и если не улыбающейся, то по крайней мере, расположенной позволить убедить себя в несправедливости ее подозрений.
Молодой женщины не было в гостиной. Рауль подошел к двери спальной и постучался: никто не отвечал. Он повернул ручку и дверь отворилась.
— Жанна, — сказал он, — милая Жанна, где вы?
Отголосок слов его затих без ответа. Рауль пошел в столовую и воротился назад со свечкой. Спальня была пуста. Он спросил о жене Жака и Онорину, но ни тот, ни другая не видали ее. Ужасная мысль промелькнула тогда в голове его. Молодой человек побежал к выходу, который вел на двор соседнего дома, вспомнив, что Жанна несколько раз имела случай заметить механизм потаенной двери. Он нашел эту дверь полурастворенной. Сомнений не осталось: Жанна убежала!
XXXI. Портшез
Вот что случилось. Услышав удаляющиеся шаги Рауля, Жанна сначала сомневалась, точно ли ушел он, но продолжительное отсутствие всякого шума убедило ее в том, что муж ее действительно вышел из дома. Она уронила к своим ногам орудие, которым с минуту думала поразить себя, потом постаралась привести в порядок мысли, сжигавшие ее мозг и вертевшиеся в нем подобно огненным блесткам. В ужасном душевном пожаре, в котором сгорали ее верования, ее надежды и счастье, сверкали роковым блеском одно имя и один адрес: Антония Верди и улица Жюссьеннь.
Из всех страстей, растапливающих человеческое сердце в своем не потухающем горниле, ревность более других умеет придавать реальность созданным ею призракам. В уме Жанны измена Рауля была доказанным, неоспоримым фактом, относительно которого невозможно было иметь ни малейшего сомнения. Через минуту она уверила себя, что муж оставил ее затем, чтобы отправиться к ее сопернице, и что в эту минуту любовники в объятиях друг друга вместе смеются над ее напрасной и пожирающей ревностью. Бедная голова Жанны не могла выдержать этой ужасной мысли. Вдруг как будто оживленная сверхъестественной силой, она вскричала:
— Я тоже пойду к этой женщине!
От мысли до исполнения недалеко. Не подумав даже переменить свой пеньюар на платье, Жанна набросила на плечи черный атласный плащ, широкий капюшон которого мог совершенно скрыть ее лицо, открыла комод, откуда Рауль брал золото пригоршнями, и взяла два или три луидора. Потом, отодвинув мебель, которой была заставлена дверь, она отворила ее и вошла в столовую. Первой мыслью Жанны было пройти через Комнату Магов, но ей тотчас же пришло в голову, что, проходя таким образом через несколько комнат, она может встретиться с Онориной или Жаком, что, спускаясь по лестнице гостиницы, подвергнется любопытству путешественников и что наконец Самуил, по всей вероятности, узнает ее. В то же время она вспомнила о тайном выходе, сделанном в стене столовой. Она отыскала пружину, надавила ее, дверь открылась, и Жанна очутилась на большой лестнице соседнего дома. Она поспешно сошла с лестницы, не позаботившись затворить за собой дверь, прошла обширный двор, на котором в день свадьбы ее ждала великолепная синяя с золотом карета, запряженная парой лошадей с серебряными подковами. Воспоминание об этом счастливом дне извлекло слезы из глаз ее. Она глубоко вздохнула, переступила за ворота и очутилась на улице.
Тут-то начались для Жанны затруднения, о которых она прежде не думала. Она знала, что Лионская Гостиница находилась на улице Жюссьеннь, но где находилась эта улица, она не знала. Мы уже говорили, что Жанна была вовсе не знакома с Парижем, потому что оставила этот город еще в детстве, а возвратившись в него вместе с Раулем, выезжала очень редко, и то в карете.
В этот вечер она очутилась одна на грязной мостовой. Наступила ночь. Быстро катившиеся экипажи проносились мимо нее с оглушительным шумом. Не привыкшая к такой ужасной суматохе, она испугалась и бросилась бежать, сама не зная куда. Через несколько минут мужество изменило ей и ноги отказались идти далее. Жанна упала бы, если бы не прислонилась к стене одного дома. Она хотела вернуться, но не помнила, по какой дороге шла, и ей казалось невозможным отыскать дом, из которого она вышла. Жанна решилась идти далее и смотрела вокруг себя с очевидным замешательством; несколько раз она хотела попросить кого-нибудь указать ей дорогу, но непреодолимая робость удерживала ее.
Вдруг мимо нее прошли два носильщика с пустым портшезом, качавшимся на длинных палках, которые его поддерживали. Один из них заметил Жанну и с инстинктом, которым обладают нынешние извозчики, принял ее за робкую мещанку, отправлявшуюся на любовное свидание. Он остановился и закричал ей:
— Не угодно ли вам портшез, прекрасный, совсем новый портшез?.. Мы донесем вас, как ветер, куда вам будет угодно… Решайтесь скорее, добрая госпожа, не мочите ваших хорошеньких ножек на этой гадкой, грязной мостовой!
Жанна подумала, что само Провидение поспешило к ней на помощь, и сделала знак носильщикам, что принимает их предложение. Носильщики тотчас остановились и опустили портшез, чтобы молодая женщина удобно могла сесть в него. Потом один из них запер дверцу и спросил:
— Куда прикажете нести вас?
— На улицу Жюссьеннь, в» Лионскую Гостиницу «, — отвечала Жанна.
— Мы мигом донесем вас… Вы не слишком тяжелы, а ноги у нас добрые…
Жанну понесли скорым и ровным шагом. Однообразное качанье портшеза погрузило ее в какое-то оцепенение. Она находилась в том неопределенном состоянии, которое не может называться ни сном, ни бодрствованием, когда носильщики вдруг остановились и один из них сказал ей:
— Мы у» Лионской Гостиницы «, добрая госпожа.
Жанна вышла.
— Вот вам, друг мой, за труды, — сказала она, подавая носильщику золотую монету.
Носильщик сначала думал, что получил франк, но увидев при свете фонарей портшеза блеск золота, рассыпался в благодарностях и спросил:
— Ваше сиятельство оставите нас?
— Да, — отвечала Жанна, — подождите меня на этом месте, я сейчас вернусь и возьму вас.
И она пошла в гостиницу.
— Посмотри-ка, — сказал тогда первый носильщик своему товарищу. — Я побьюсь об заклад, что это знатная дама, которая наставляет своему мужу… понимаешь, что?..
— Да, — отвечал второй, — и я даже думаю, что это какая-нибудь герцогиня.
— Во всяком случае, мы должны благословлять судьбу, которая послала нам такой славный заработок.
Между тем Жанна вошла в гостиницу. В этот вечер у привратника было большое собрание. Цербер гостиницы угощал нескольких знатных особ, среди них и Жана Каррэ, лакея Антонии. Гости усердно поглощали жирное пирожное, орошая его горячим подслащенным вином, приправленным корицей и гвоздикой.
Жанна робко постучалась в окно. Привратник, осушавший в эту минуту свой стакан, быстро повернул голову. Вино попало ему не в то горло и он сильно закашлялся. С досады, он сердито отворил окно и спросил тоном раздразненной мартышки:
— Что вам нужно?
— Здесь живет синьора Антония Верди? — спросила Жанна.
— Здесь, — отвечал привратник.
— Я желаю ее видеть.
— Нельзя.
— Почему?
— Потому что ее нет дома.
— Это правда?
— Когда я говорю что-нибудь о моих жильцах, — заворчал привратник, — кто смеет мне не верить!..
И он хотел уже закрыть окно, но Жанна остановила его.
— Знаете вы, в котором часу вернется эта дама?
— Нет. Мои жильцы не дают мне отчета…
— Я, однако, должна ее видеть! — прошептала Жанна. — Должна!
— Ну так приходите в другой раз, — буркнул привратник.
И он вернулся на свое место и к своему стакану.
« Я подожду, — подумала Жанна, — подожду на улице «.
В ту минуту, когда она выходила за ворота, на улице послышался стук кареты, которая остановилась перед гостиницей.
XXXII. Виконт
Два лакея с факелами освещали дорогу молодой женщине в черном платье, лицо которой исчезало под кружевами ее головного убора. Эта женщина шла под руку с мужчиной высокого роста и дерзкого вида.
— Виконт, — говорила молодая женщина, — прошу вас, сядьте в карету…
— Зачем, позвольте спросить, моя красавица?
— Вы устанете…
— Полноте!.. Разве я устаю когда-нибудь?
— К чему такая неосторожность! Я теперь дома и могу дойти одна.
— Нет, черт побери! Я хочу проводить вас до вашей двери и не подарю вам ни одной ступени.
— Подумайте, виконт, как вы должны быть еще слабы!..
Виконт протянул вперед правую руку и посмотрел на нее с самодовольным видом, потом продолжал:
— Слаб?! Какая славная шутка! Да я убью быка одним ударом!..
— Однако, ваша рана…
— Совершенно закрылась; это подействовало на меня как кровопускание, и мне еще стало лучше. Не беспокойтесь же, милая Антония.
Спутник молодой женщины произнес это имя в ту минуту, когда он и дама в черном платье находились в трех шагах от Жанны, которая, говоря с привратником, подняла капюшон и потому лицо ее было открыто. Господин, которого Антония называла виконтом, взглянул мимоходом на Жанну и невольным жестом выразил свой восторг; но, не имея возможности оставить руку своей дамы, он продолжал идти, оборачиваясь по пути.
Из слов, слышанных ею, Жанна поняла, что дама в черном и была Антонией Верди. Она подождала с минуту, потом подошла к комнатке привратника во второй раз и постучалась в окно. Жана Каррэ уже не было в числе гостей привратника; возвращение Антонии заставило его поспешить домой.
— Опять вы! — вскричал, с видом еще более сердитым, » амфитрион «, некстати оторванный от любезного ему стакана.
— Скажите, дама, которая сейчас приехала, это не синьора Антония Верди? — спросила Жанна.
— Она.
— Я уже сказала вам, что желаю с ней поговорить.
— Говорите. Разве я вам мешаю?
— Где ее квартира?
— Первая дверь по этой лестнице.
Жанна вошла на лестницу и на половине ее встретила виконта. Лакеи шли уже не впереди, а позади него. Вместо того, чтобы посторониться и пропустить Жанну, как сделал бы всякий человек, принадлежащий к хорошему обществу, он загородил ей дорогу, со словами:
— Так как случай сталкивает нас во второй раз, то вы заплатите мне дань поцелуем… Этой данью обязаны мне все хорошенькие женщины, а так как вы вдвое лучше всякой хорошенькой, то и заплатите ее два раза…
И, присоединяя действие к словам, дерзкий протянул обе руки, чтобы обнять стройный и гибкий стан Жанны. Молодая женщина вскрикнула и отступила назад, чтобы избегнуть объятий нахала. Нападение впрочем не возобновилось. Виконт расхохотался.
— Ха-ха-ха! Какая жеманница! — вскричал он с сардоническим видом. — Тем хуже, черт побери! тем хуже! Послушайте, моя милая, жеманство приносит счастье только дурнушкам… Впрочем, будьте спокойны, идите, я уступаю место вашей добродетели!..
Виконт в самом деле быстро сошел с лестницы, и Жанна бледная от волнения и страха, поспешила войти на первый этаж. На площадке была только одна дверь. Жанна трепещущей рукой схватилась за шнурок колокольчика и слабо дернула его. Жан Каррэ отворил дверь, узнал ее и сказал:
— А! Это вы? Я уже говорил синьоре, что вы спрашивали ее, но она приказала отвечать, что никого не принимает сегодня…
— Пожалуйста, скажите своей госпоже, — прошептала Жанна, — что с ней желает говорить мадам де ла Транблэ…
— Я ничего не могу сказать ей, — отвечал лакей, — потому что она заперлась в своей комнате, и теперь загорись дом, так до нее не доберешься… Советую вам прийти в другой раз…
Жанна потупила голову и возвратилась. Она почти обрадовалась, что поступок ее не имел никакого результата. Ее лихорадочное раздражение прекратилось, и она признавалась себе, что если бы увидала Антонию Верди, то не нашлась бы, что и сказать ей. Мысль о скандальной сцене не могла прийти Жанне в голову, а по гордости своего характера она не позволила бы себе смиренно просить другую женщину возвратить ей сердце мужа. Она уже сошла несколько ступеней, как вдруг Жан Каррэ остановил ее. Жанна повернула голову.
— Прикажете сказать госпоже моей ваше имя? — спросил он. — Или предупредить ее о том, что вы придете в другой раз?
Жанна подумала, потом отвечала:
— Не говорите ничего. Я не приду больше…
Она медленно дошла до улицы. Почти прямо напротив ворот, неподалеку от портшеза, стояла великолепная карета, запряженная парой вороных лошадей. Человек, сидевший в карете, внимательно смотрел в окошко и, заметив Жанну, тотчас откинулся назад. Молодая женщина села в портшез.
— Куда прикажете нести вас? — спросил носильщик.
— На улицу Шерш-Миди, — отвечала Жанна, — в гостиницу» Царь Соломон «.
Портшез двинулся. Карета поехала вслед за ним.
Не доходя до Таранской площади, носильщики вздумали, для сокращения пути, пройти небольшой, довольно узкой улицей, не многолюдной, даже совершенно пустой. Карета вдруг остановилась, и высокий мужчина, которого мы уже встретили в» Лионской Гостинице»и которого Антония называла виконтом, выскочил на мостовую и со шпагой в руке, в сопровождении двух лакеев, побежал к портшезу, находившемуся шагов на двадцать впереди. Догнав его, он закричал носильщикам грозным голосом:
— Прочь отсюда, негодяи! Проворнее убирайтесь, если вам дорога жизнь!..
Носильщики не заставили повторить этой угрозы и пустились бежать, бросив портшез посреди улицы. Этого только и хотел виконт. Он отворил дверцу портшеза и сказал Жанне, окаменевшей от ужаса:
— Я вам предсказывал, прелестная тигрица, что жеманство приносит счастье только дурнушкам…
XXXIII. Дуэль
Жанна, сначала удивившаяся, что движение портшеза вдруг остановилось, задрожала от ужаса, когда дверца растворилась и она узнала лицо и голос дерзкого виконта.
— Кто вы? — вскричала она. — Чего вы от меня хотите?
— Кто я? — отвечал виконт. — Человек, влюбленный в ваши прелести, моя красавица, и твердо решившийся выразить вам свой восторг… Чего я хочу?.. Здесь не место объясняться, а потому я пока умалчиваю об этом, но будьте совершенно спокойны, вы ничего не потеряете от ожидания!
Произнеся эти слова, виконт взял за руку Жанну и потянул ее, чтобы принудить молодую женщину выйти из портшеза. Жанна сопротивлялась. Она ухватилась изо всех сил за портшез и шептала:
— Ради Бога, оставьте меня!..
Виконт расхохотался.
— Полноте, моя красавица, — сказал он. — Сдайтесь лучше добровольно. Вы понимаете, что если б я хотел, я уже давно вынул бы вас из этого портшеза, как перышко, но я боюсь помять ваши хорошенькие плечики и потому поступаю насколько возможно деликатнее… Однако надо же когда-нибудь кончить; предупреждаю вас, если вы не выйдете добровольно, я вытащу вас насильно…
— Но, — перебила Жанна с энергией отчаяния, — я честная женщина!
— И прекрасно! — отвечал виконт. — Я только таких-то и люблю!
— Я замужем…
— Еще лучше! Приключение будет тем забавнее!..
— Я люблю моего мужа…
— Полноте, вы шутите…
— Я люблю его, клянусь вам, всей моей душой!..
— Вот редкость! — сказал виконт с насмешкой. — Да вы не женщина, вы феникс, и более, чем прежде, я благословляю судьбу, столкнувшую меня с вами…
— Итак, вы безжалостны?
— Жалеют только несчастных, а я намерен сделать вас счастливой!..
В эту минуту послышались шаги в конце улицы. Виконт с беспокойством обернулся, потом, схватив Жанну за руку, грубо сказал:
— Ну же, скорее… вы пойдете, да или нет?..
— Нет, — отвечала Жанна.
— В таком случае я буду действовать решительно…
И, говоря это, виконт насильно вытащил молодую женщину из портшеза, вскинул ее на плечо и понес к карете, которая дожидалась на соседней улице. Лакеи шли позади.
— Помогите!.. помогите!.. — кричала Жанна задыхающимся голосом.
Но ничто не отвечало на ее зов, кроме дерзкого и иронического хохота ее похитителя. Жанна считала себя погибшей, поручила свою душу Богу и желала умереть. Две трети улицы были уже пройдены. Тот, чьи шаги доходили до слуха Жанны и ее похитителя, казалось, остановился, и виконт вдруг увидал перед собою высокую фигуру, загородившую ему путь.
— Посторонитесь! — закричал он.
Высокая фигура не трогалась с места.
— Посторонитесь! — повторил виконт, вынимая шпагу правой рукой, потому что ему было достаточно одной левой, чтобы удерживать Жанну. — Ступайте своей дорогой или берегитесь…
— Что здесь происходит? — спросил незнакомец серьезным голосом. — Отчего эта женщина кричит?
— Еще раз говорю, — вскричал виконт грозно. — Не вмешивайтесь не в свое дело и не останавливайте меня, или…
И он сделал два шага вперед с поднятой шпагой. Незнакомец не вынул своей шпаги и стоял неподвижно, скрестив руки на груди. Жанна, которой начатый спор возвратил надежду, продолжала звать на помощь. Похититель против воли остановился в четырех шагах от незнакомца, который уничтожал его своим величественным спокойствием.
— Приказываю вам, — вскричал незнакомец повелительно, — ответить мне, кто эта женщина и какие права имеете вы над нею?
— Он не имеет на меня никаких прав, — вскричала Жанна, — он похищает меня насильно; я вовсе не знаю его.
— Если так, — продолжал таинственный человек, — приказываю вам оставить эту женщину…
Виконт выслушал эти слова с удивлением, которого мы не в состоянии описать. Он не мог поверить, чтобы кто-нибудь на свете осмелился заговорить с ним таким образом, и в первую минуту изумление парализовало его гнев. Однако этот гнев скоро вспыхнул с еще большей силой, и виконт прыгнул вперед с глухим ревом, так что лицо его вдруг очутилось в нескольких дюймах от лица его смелого противника. Оба узнали друг друга. Два восклицания раздались в одно и то же время:
— Дон Реймон!
— Виконт д'Обиньи!
За этими восклицаниями последовало минутное молчание. Противники несколько отступили друг от друга, и командор положил руку на эфес своей шпаги.
— Мы должны еще рассчитаться, дон Реймон, — сказал виконт. — Я назначаю вам свидание завтра, в десять часов утра, за монастырем Св. Бенуа; сегодня вечером я занят другим. Позвольте же мне пройти теперь… вы знаете, кто я…
— Да, я знаю вас, виконт д'Обиньи, — отвечал командор с той же серьезной и торжественной медлительностью, — и снова приказываю вам возвратить свободу этой женщине или я заставлю вас сделать это.
— Право? — сказал виконт с иронией.
— Клянусь честью! — отвечал дон Реймон.
Д'Обиньи подошел к своим лакеям, шепнул им несколько слов и бросил Жанну к ним на руки. Лакеи поспешно понесли свою легкую ношу, а виконт вернулся со шпагой в руке к командору.
— Спасите меня! Спасите меня! — кричала Жанна слабым голосом. — Умоляю вас именем вашей матери, не оставьте меня!
Дон Реймон сделал движение вперед, но на этот раз уже виконт загородил ему дорогу.
— Ну, гордый защитник угнетенных красавиц! — сказал виконт с насмешкой. — Я думал, что вы заставите меня возвратить свободу даме, которую уносят мои люди… Видите, я жду… что же вы меня не принуждаете…
— Подлец! — прошептал командор.
И он скрестил свою шпагу с шпагою виконта. Искры брызнули из обоих клинков.
— А я-то думал, что так как сегодня пятница, вы не захотите драться! — сказал д'Обиньи.
— Пятница! Сегодня пятница! — повторил командор с отчаянием.
И рука его, державшая шпагу, бессильно опустилась.
— Вы, конечно, предложите мне отложить дуэль до завтра, — продолжал виконт. — Но так как вы назвали меня сейчас подлецом, а подобные обиды должны немедленно омываться кровью, то мы будем драться сейчас же, и я сумею принудить вас к этому.
Говоря это, виконт ударил командора по щеке клинком своей шпаги. Дон Реймон вскрикнул от бешенства, быстро приподнял шпагу и напал на своего противника.
— Ну вот и прекрасно! — сказал д'Обиньи. — Наконец-то вы решились!.. Лучше поздно, чем никогда!..
— Пятница! Пятница! — шептал глухо командор.
Голос Жанны был уже едва слышен вдали. Между тем битва продолжалась с беспримерной горячностью и страшным ожесточением. Она кончилась скоро: через минуту шпага дона Реймона пронзила сердце виконта, который упал замертво, даже не вздохнув. Жалостный голос Жанны уже не слышался более.
XXXIV. Дон Реймон
Первым движением командора после своей победы было броситься по следам молодой женщины, которую похитили на его глазах, но его остановило размышление. Он вспомнил о карете, стоявшей у входа в эту улицу, и сказал себе, что эта карета наверно принадлежала виконту д'Обиньи и что, без сомнения, к этой карсте возвратятся лакеи через Таранскую площадь. Вследствие этого, вместо того, чтобы бежать вперед, как он сначала намеревался, командор вернулся назад.
Предположения не обманули его. В ту минуту, когда он подходил к карете, показались лакеи, несшие Жанну, которая лишилась чувств от испуга. При виде командора с окровавленной шпагой в руках лакеи остановились с ужасом.
— Оставьте эту даму, — сказал им дон Реймон, — и ступайте за телом вашего господина…
Повинуясь этому приказанию, лакеи виконта прислонили к стене бесчувственную молодую женщину, которую дон Реймон поспешил поддержать, и ушли.
Они возвратились через минуту, сгибаясь под тяжестью печальной ноши. Виконт действительно был мертв: голова и руки его повисли, глаза закатились, раскрытая рана оставляла на мостовой длинный кровавый след. Лакеи положили труп в карету, заперли дверцу, и лошади пошли медленным, но торжественным шагом, достойным погребальной процессии.
Дон Реймон один остался на улице с Жанной, которая все еще не приходила в себя.
«Что делать? — спрашивал он себя. — Куда отвезти эту бедную женщину?»
Ответ на этот вопрос еще не представился его мыслям, как вдруг неожиданное происшествие отвлекло его от размышлений. Две человеческие фигуры, медленно двигаясь посреди мрака, подобно двум теням, наконец подошли к командору с почтительным и умоляющим видом.
— Кто вы?.. Что вам нужно? — спросил дон Реймон.
— Мы — носильщики портшеза, в котором находилась эта молодая дама в минуту нападения.
— А! Почему же вы не защищали ее?
— Могли ли мы это сделать?.. У нас не было оружия, а нам угрожала шпага; притом мы не выдаем себя за храбрецов…
— Откуда же вы пришли теперь?
— Мы спрятались за ворота и видели битву, происходившую между вами и человеком, который напал на нас… Тотчас после вашей победы, мы пошли за лакеями, которые уносили даму; мы принимали в ней участие, сами не зная почему. Если бы лакеи вздумали сопротивляться, мы помогли бы вам; но вы обошлись и без нас. Вот истинная правда, ваше сиятельство, можете нам поверить…
— Хорошо, — сказал дон Реймон, — теперь ответьте мне на один вопрос…
— Извольте спрашивать, ваше сиятельство.
— Куда вы несли эту даму?
— В улицу Шерш-Миди, в гостиницу «Царь Соломон».
— Вы знаете, как ее зовут?
— Не знаем. Мы увидели ее сегодня в первый раз.
— Несите же ее по тому адресу, который она дала вам. Я пойду за вами…
Командор положил Жанну на подушки портшеза и носильщики отправились в путь. Дон Реймон пошел за ними. Расстояние было невелико. Через несколько минут дон Реймон и носильщики дошли до гостиницы. Командор заглянул в портшез: Жанна все еще была без чувств. Дон Реймон постучался в дверь.
— Я хочу поговорить с хозяином гостиницы, — сказал он лакею, который отворил дверь. Тот привел его к Самуилу.
— Чем могу я служить вам? — спросил жид.
— У ваших дверей находится молодая женщина, лишенная чувств; она дала носильщикам адрес вашей гостиницы. Пожалуйста, посмотрите, не узнаете ли вы ее…
— Пойдемте… — отвечал Самуил.
Увидав Жанну, Самуил тотчас же выказал знаки сильнейшего удивления, сложил руки, поднял глаза к небу, пролепетал несколько бессвязных слов и наконец вскричал:
— Что я вижу! Это мадам де ла Транблэ!.. Возможно ли?..
— Как вы назвали эту даму? — с живостью спросил дон Реймон.
Самуил повторил.
— Итак, эта дама жена кавалера Рауля де ла Транблэ?
— Именно, — отвечал жид.
— Вы в этом уверены?
— Как в моей жизни.
— Могу я говорить с кавалером?
— Без сомнения, если только он дома… я это узнаю сейчас…
— Стало быть, он живет здесь…
— Иногда… В моем доме у него есть небольшая квартира.
Самуил хотел идти, но дон Реймон остановил его.
— Как вы думаете, — спросил он, — не лучше ли отнести мадам де ла Транблэ в ее комнату?..
— Разумеется, — отвечал Самуил, — мы это сделаем через минуту…
— Отчего же не сейчас?
Самуил не отвечал и исчез. Дон Реймон остался на улице, возле портшеза.
Через минуту Самуил воротился с Жаком и Онориной. Рауля не было дома: приведенный в отчаяние непонятным побегом Жанны, он отыскивал ее по всему Парижу, как сумасшедший. Командор и Жак тотчас узнали друг друга. Слуга заверил испанца, что господин его скоро воротится, и уговаривал его подождать. Командор вынул из кармана прекрасные и очень большие часы, осыпанные великолепными бриллиантами, взглянул на них и прошептал:
— Только десять часов! У меня еще есть время… Я подожду, — прибавил он вслух.
Между тем, как Онорина и Жак понесли Жанну в верхний этаж, Самуил отвел командора в одну из комнат нижнего, подал ему кресло и придвинул к нему дубовый столик с кривыми ножками. На этом столе он поставил серебряный поднос, на котором стояли красивый графин богемского хрусталя, наполненный превосходным хересом, и две рюмки на высоких ножках, тонкие, как кисея, и чрезвычайно легкие. Самуил налил одну из рюмок и подал ее испанцу.
— Кавалер ответит вам другой, — сказал он.
Командор поднял рюмку и осушил ее разом со словами:
— Пью за здоровье мадам де ла Транблэ!
Но посмотрим, что в это время происходило в тайном убежище Рауля.
Онорина раздела свою госпожу и уложила ее в постель. Жанна была очень бледна, широкие синеватые круги окружали ее прекрасные глаза. Если бы не движение груди, приподнимаемой ровным дыханием, ее можно было бы счесть скорее мертвой, чем лишенной чувств.
Это продолжалось недолго. Приятная теплота постели оживила молодую женщину и восстановила нормальное обращение крови. Жанна раскрыла глаза и пролепетала несколько бессвязных слов. Скоро мысли ее прояснились. Молодая женщина поняла, что она у себя дома, окружена верными слугами, и что опасность, ужаснувшая ее, уже не существует. Живейшая радость распространилась по всему существу ее.
В эту минуту дверь спальной отворилась и Рауль явился на пороге.
XXXV. Рауль и Жанна
Рауль был очень бледен, и нахмуренные брови придавали его лицу строгое и почти жестокое выражение. Жанна никогда не видела его таким. Она побледнела и задрожала. Рауль подошел к ней медленно и не говоря ни слова. Он молча встал возле кровати и устремил на жену пристальный и проницательный взор. Жанна первая прервала молчание, тяготившее ее и болезненно сжимавшее ее сердце. Она приподнялась и протянула руку Раулю, пролепетав:
— Друг мой…
Рауль не взял руки ее.
— Жанна, — сказал он голосом сухим, резким, как будто металлическим, — зачем вы выходили из моего дома сегодня вечером и где вы были?..
Жанна потупила глаза и не отвечала.
— Где вы были? — повторил Рауль.
Жанна собрала все свое мужество и сказала:
— Выслушайте меня, друг мой, и не сердитесь на меня. Ревность свела меня с ума… я сама не знала, что делала…
— Скажете ли вы мне наконец, где вы были? — вскричал Рауль в третий раз.
— Я была у этой женщины, — прошептала Жанна.
— У какой женщины? — с живостью спросил Рауль.
— У Антонии Верди…
— Вы были у Антонии Верди! — повторил кавалер с изумлением. — Вы видели ее?
— Видела.
— Вы говорили с ней?..
— Говорила.
— Объяснитесь, Жанна, объяснитесь, ради Бога!..
Молодая женщина старалась привести в порядок свои воспоминания и начала бессвязный рассказ обо всем, что было с той самой минуты, как она убежала из дома. Когда она рассказала о том, что приказание Антонии не принимать никого сделало бесполезным ее поступок, лицо кавалера несколько прояснилось, но оно снова покрылось мрачной тучей, когда он узнал о похищении, жертвой которого жена его чуть было не стала. Услышав о таинственном незнакомце, который заступился за Жанну, Рауль перебил ее:
— Кто же был этот незнакомец? И куда он девался?..
— Не знаю, — отвечала Жанна, — я упала без чувств в ту минуту, как началась дуэль.
— Кто принес вас сюда?..
— Также не знаю.
Рауль вышел из спальной, чтобы расспросить Жака. Когда молодой человек пришел домой, Жак, ожидавший его в передней, только сказал ему, что мадам де ла Транблэ воротилась, но не успел объяснить, каким образом, потому что Рауль, нетерпеливо желавший увидеть Жанну, не расспрашивал его. Теперь Жак рассказал Раулю обо всем, что знал, и прибавил, что командор ждет его в одной из нижних комнат гостиницы.
Не теряя ни минуты, Рауль отправился через тайный проход к дону Реймону. Войдя в комнату, он увидал, что испанец сидит облокотившись на стол и закрыв обеими руками лицо и, по-видимому, погружен в глубокое размышление. При звуке шагов кавалера командор поднял голову. Взгляд его был так мрачен, что Рауль почти испугался. Дон Реймон встал и пошел навстречу кавалеру, который обнял его с дружеской признательностью и вскричал:
— Ах! Командор, как я обязан вам!
— Вы ничем мне не обязаны, — отвечал командор серьезным голосом. — Несколько дней назад, вы сделали для меня то же самое, что я сделал для вас сегодня. Услуга за услугу, и мы квиты!..
— Позвольте мне не разделять вашего мнения и сохранить к вам глубокую признательность…
— Я не имею права распоряжаться вашими чувствами, только нахожу эту признательность совершенно излишней. Я заступился за женщину — что может быть проще? На моем месте вы поступили бы точно так же; притом я вовсе не знал, что это была ваша жена. Но поговорим лучше о другом, прошу вас…
— Еще одно слово, командор: скажите мне, как все это случилось?
— Охотно, и сделаю это в нескольких словах. Я возвращался домой, услыхал жалобные крики и увидел человека, который насильно увлекал молодую женщину. Я велел этому человеку оставить ее, он отказался. Мы взялись за шпаги, началась дуэль, и… я убил моего противника.
— А! Вы его убили?
— Боже мой, да. Все это очень просто, однако, как я теперь думаю, я оказал вам гораздо большую услугу, нежели полагал сам…
— Как это?
— Знаете ли вы, кем был этот человек, который похищал вашу жену и которому я пронзил сердце моей шпагой?
— Нет, — отвечал Рауль.
— Это ваш смертельный враг, ваш противник в той дуэли, в которой я был почти секундантом, это виконт д'Обиньи!..
— Возможно ли? — вскричал кавалер с изумлением. — Ах! Вы оказали мне огромную услугу, освободив меня от виконта!..
Командор, по-видимому, освободившийся на несколько минут от странной задумчивости, в которую был погружен, вдруг упал на стул и как будто снова уступил влиянию роковой мысли. Рауль сначала глядел на него молча, потом подошел к нему и взял за руку.
— Дон Реймон… друг мой… что с вами? — спросил он.
Командор колебался. Рауль повторил свой вопрос.
— Что со мною? — повторил дон Реймон. — Вы меня спрашиваете, что со мною?
— Да, и спрашиваю с искреннейшим участием, клянусь вам.
— Признаваться ли вам, когда я сам краснею?.. я боюсь…
— Вы боитесь!.. вы?!. — вскричал Рауль.
— Да, я боюсь… только не живых, мосье де ла Транблэ.
— А кого же? — спросил кавалер, не зная, серьезно ли говорит дон Реймон.
— Мертвых!.. Я боюсь мертвых!.. Прежде был только один, теперь их двое! — отвечал командор мрачным голосом.
— Что вы хотите сказать? Я вас не понимаю…
— Я дал клятву — и изменил этой клятве!.. Я дрался в пятницу!.. кровь, пролитая мною, вопиет против меня!..
Произнося эти слова, командор, казалось, был в каком-то лихорадочном бреду.
— Я не смею вас расспрашивать, — сказал Рауль. — Я помню, что уже раз мои вопросы остались без ответа… Однако позвольте мне сказать вам, что моя преданность вам не имеет границ. Иногда чувствуешь облегчение, поверяя другу страшные тайны, которые тяготят нашу душу.
Командор несколько раз провел дрожащей рукой по своему лбу. Губы его раскрылись, но не издали никакого звука. Очевидно, нерешимость его была слишком велика.
— Вы правы, — сказал он наконец. — Тайна тяготеет надо мною и я хочу, я должен облегчить свою душу. Вы все узнаете.
— Говорите! — вскричал Рауль, любопытство которого было глубоко возбуждено.
Дон Реймон посмотрел на свои часы.
— Сейчас будет одиннадцать часов, — сказал он. — Не знаю, буду ли я иметь время докончить мой рассказ, да все равно, начну! Пойдемте к вам, мосье де ла Транблэ.
— Пойдемте, — отвечал Рауль.
Кавалер и дон Реймон вышли из гостиницы, потому что Рауль никому не хотел открывать тайны Комнаты Магов и секретных коридоров. Они вошли в соседнюю улицу, прошли двор соседнего с гостиницей дома. Молодой человек ввел своего гостя через тайный вход, сделанный в столовой, в восточную гостиную. Алебастровая лампа, висевшая на потолке, слабо освещала комнату.
— Прежде, чем я начну рассказ, — сказал испанец, — я обращусь к вам с просьбой. Вы, конечно, исполните то, о чем я буду просить вас, не так ли?
— Обещаю вам, — сказал Рауль.
— Через час вы увидите, что я вдруг упаду к вашим ногам, как будто пораженный громом; не пугайтесь этого, положите меня на диван, станьте на колени возле меня и прочтите семь псалмов покаяния. Знаете вы их наизусть?
— Нет.
Командор вынул из кармана небольшую книгу в черном сафьянном переплете с серебряными застежками и подал ее Раулю, говоря:
— Вот книга, с которой я никогда не расстаюсь. Вы найдете в ней псалмы, помянутые мною. Смотрите же, не забудьте вашего обещания.
XXXVI. Мальтийские кавалеры
— Не успев еще выйти из детства, — начал дон Реймон, — я вступил уже в мальтийский орден св. Иоанна Иерусалимского; я хочу сказать, что в самом нежном возрасте я был принят в число пажей гроссмейстера, который назывался дон Блаз-де-Переллос князь Калатайюда. Между своими предками с материнской стороны князь этот считал двух прабабушек из дома Васкончеллосов, что именно и доставило мне честь в двадцать пять лет командовать галерой. На следующий год гроссмейстер воспользовался своей привилегией donazione и подарил мне очень богатое командорство. Таким образом, я имел, как вы видите, полную возможность достигнуть главных почестей ордена; для этого надо иметь седые волосы, а я, живя в Мальте в совершенной праздности, занимался только разными любовными интригами. Без сомнения, я теперь ясно вижу, что беззаконные привязанности, которые в то время я с легкомыслием считал позволительными грехами, были весьма важными проступками. Однако я счел бы себя счастливым, если бы не обременил своей совести более тяжкими грехами, мне было бы легко искупить эти мимолетные заблуждения, спокойствие моих ночей не было бы возмущено, может быть, навсегда, и кара Господня не тяготела бы надо мною так сильно. Но, увы, рок решил иначе, как вы увидите из печальной повести, которую я обещал рассказать вам.
Надо сказать, что на Мальте, как и везде, народонаселение делится на три сословия, совершенно различные и отдельные: это дворяне, буржуазия и простой народ. Первое сословие состоит из небольшого числа благородных фамилий мальтийского происхождения, члены которых по статусу не имеют права вступать в орден. Эти фамилии не хотят иметь с рыцарями никаких сношений и признают только власть гроссмейстера и некоторых из высоких сановников, его министров.
Я не буду говорить более об этом сословии, так же как и о народе, потому что они не играют никакой роли в странной драме, которую вы узнаете, и приступаю прямо к сословию среднему, то есть к буржуазии. Это сословие занимает на острове все административные места, гражданские и уголовные. Оно прямо зависит от рыцарей, благосклонность и покровительство которых для него необходимы. Женщины, принадлежащие к этому сословию, называются между собой honorate и, бесспорно, заслуживают этого названия своей скромностью, благопристойностью и поведением, внешне безукоризненным, потому что honorate подвержены столько же, как и другие, а может быть, еще и более других, человеческим слабостям; но они умеют прикрывать свою любовь таким непроницаемым покровом, распространяют вокруг себя такое благоухание добродетели и честности, что по милости этого макиавеллиевского лицемерства, никто не догадывается об их интригах. Все остаются одинаково довольны: женщины уважаются, мужья спокойны, любовники счастливы.
Из сказанного мною, вы легко поймете, что honorate — женщины, слишком искусные и слишком дальновидные, и потому с особенным старанием изучают человеческое сердце во всех его формах и во всех видах. Из этого глубокого изучения honorate вывели заключение, что французские рыцари самые любезные и самые вежливые кавалеры, но вместе с тем и самые нескромные, что, едва сделавшись победителями, они трубят о своем торжестве первому встречному, и что поэтому интрига с ними не может быть окружена желаемой таинственностью.
Было ли основательно это мнение о honorate, я не могу и не хочу доказывать, однако считаю своим долгом заметить, что французские рыцари, привыкшие везде к самым лестным и блистательным успехам, в Мальте принуждены были ограничиться интригами с женщинами самого низкого разряда. Рыцари немецкие, напротив, были любимцами honorate, без сомнения, по милости своего спокойного и рассудительного характера, а также за нежность и свежий цвет лица. Испанцы тоже не могли пожаловаться на суровость этих дам, и я думаю, что в этом случае они были обязаны справедливой славе о своей преданности в любви и хорошо известной скромности.
Французские рыцари разумеется не могли терпеливо переносить презрения honorate и потому мстили им самыми язвительными насмешками и старались подстерегать и обнаруживать самые скрытные их интриги. Но так как они водились только между собой и почти не имели никаких сношений с мальтийцами, не давая себе труда учиться итальянскому языку, на котором говорят на острове, то слухи, распространяемые ими, не переходили за известный, очень тесный кружок, и никто этим не занимался.
Между тем, как мы таким образом жили спокойно и доверчиво в сладостной короткости с honorate, которые удостаивали нас своими милостями, на остров приехал, на французском корабле, командор Фульк де Фулькер. Этот дворянин принадлежал к древнему роду великих сенешалов в Пуату, которые по своему происхождению считаются потомками первых графов Ангулемских. Он уже не однажды бывал на Мальте. В первый раз он приезжал сражаться с турками; во второй — затем, чтобы отыскать одного миланца, которому хотел непременно перерезать горло; в третий — принять присягу и произнести обет. В этот приезд командор де Фулькер имел ужасные и кровавые ссоры. Дикая жестокость его неукротимого характера заставила всех ненавидеть и опасаться его. В последний раз он приехал на Мальту просить командования над галерами, и так как ему было уже около сорока лет, то все надеялись, что он будет не так задирист и придирчив, как прежде.
В первый раз, когда я увидел Фулька де Фулькера, он произвел на меня странное впечатление, я почувствовал к нему какое-то внезапное отвращение. Лицо его было очень характерно и обнаруживало большую энергию. Густые черные волосы, почти курчавые, окружали его высокий и гордый лоб. Длинный и тонкий нос, загнутый наподобие орлиного клюва, отличался необыкновенно подвижными ноздрями, которые широко раздувались в минуты гнева. Черные и густые брови осеняли серые, проницательные глаза, сверкавшие почти нестерпимым блеском. Очень длинные усы, загнутые кверху, окончательно придавали этому лицу воинственный характер. Фулькер был высокого роста; его широкие плечи, по-видимому, могли, подобно атласовым, поддерживать мир. Он казался красив, когда надевал длинную белую тунику с пунцовым крестом. Может быть, в это время командор был уже не так буен и придирчив, как прежде, но он сделался чрезвычайно высокомерным и, гордясь своим высоким происхождением и огромным богатством, хотел повелевать больше самого гроссмейстера.
Поселившись на Мальте, Фулькер зажил по-княжески, держал открытый стол и угощал большей частью французских рыцарей, которые почти не выходили от него. Рыцари немецкие и мы, испанцы, редко бывали у него сначала, а потом и совсем перестали ходить к нему, потому что разговор почти всегда касался honorate, и язвительные насмешки, которыми их осыпали, тем более нас оскорбляли, что мы не могли за них заступаться открыто: наше заступничество более всего доказало бы, что намеки молодых французов были не совсем клеветой. Я вам скажу, кавалер, что дуэли запрещены в Мальте и что строгое наказание преследует их, если только дуэль не происходит на strada Stretta. Это улица или скорее переулок, очень длинный, очень узкий, на котором нет ни одних ворот, и на который не выходит ни одно окно. Этот переулок был создан как будто нарочно затем, чтобы два человека могли стать друг против друга и скрестить шпаги, не имея возможности отступить. Секунданты сражающихся обычно становятся на концах улицы и не допускают праздношатающихся и любопытных мешать дуэлянтам. Цель этого обычая заключается в том, чтобы уменьшить, как можно более, число дуэлей…
— Я вас не понимаю, — перебил Рауль. — Мне кажется, что обычай, о котором вы говорите, напротив должен увеличить число их, потому что доставляет полную безнаказанность.
— Извините, — возразил командор. — Вы забываете, что рыцарь, который не хочет ни вызвать другого, ни отвечать на вызов, может никогда не проходить по улице Стретта; если же начало дуэли и сама дуэль произойдут в другом месте, то она не считается случайной и сражающиеся подвергнутся наказанию, предписываемому статусом ордена. Сверх того, запрещено под страхом смерти выходить на улицу Стретта с пистолетом или кинжалом, потому что тогда дуэль легко превратилась бы в убийство. Теперь вы понимаете, что дуэль вовсе не в милости в Мальте, но пользуется там непризнанной терпимостью; о ней говорят со стыдливым замешательством, как о поступке, противном христианскому милосердию и неприличном в главном местопребывании религиозного и гостеприимного ордена.
Таким образом, ничего не могло быть неприличнее и неуместнее поведения командора Фулька, который каждый день выходил из дома, окруженный толпой молодых французов и непременно выбирал целью своих прогулок улицу Стретта. Там он останавливался, показывал своим спутниками все места, где он дрался, рассказывал о причинах и обстоятельствах своих дуэлей и входил в бесконечные подробности о замечательных ударах шпагой, которые получал и давал. Молодые французские рыцари были по природе очень обидчивы и задорливы, а прогулки и рассказы командора сделали их еще большими забияками, чем прежде. С ними почти невозможно было говорить: они обижались при малейшем слове и правая рука их почти не отходила от эфеса шпаги. Так как эта задиристость все более и более увеличивалась, мы, испанцы, удвоили осторожность и холодность, но это было напрасно. Французы не обращали внимания на нашу сдержанность, и их придирки не давали нам покоя.
Такое положение вещей не могло долго продолжаться. Мои соотечественники собрались у меня, и мы принялись рассуждать, какие предпринять меры, чтобы остановить наглость французов, которую более невозможно было переносить.
XXXVII. Шпага командора
На этом совещании было решено, что я буду просить командора Фулькера прекратить злоупотребления, которых он же сам был причиной. Я должен был объяснить ему неприличность поведения молодых французов. Последствия этого поведения мог предотвратить только он один по причине справедливого уважения, которого заслуживали его знатное имя, огромное богатство, известная храбрость и неоспоримое влияние над всеми своими соотечественниками. Я намеревался сделать это объяснение как можно осторожнее и со всем возможным уважением, но почти был уверен, что оно кончится не иначе, как дуэлью. Впрочем, я был в восторге, что именно меня выбрали посредником в этом деле чести, по двум причинам:
Во-первых, оно интересовало самым прямым образом мое достоинство.
Во-вторых, с первой минуты, как я увидал Фулька де Фулькера, я почувствовал к нему странную антипатию, и мысль о кровавом поединке с ним улыбалась мне, как приятнейшее препровождение времени.
Я поблагодарил моих соотечественников за благосклонное доверие, которым они меня почтили, и обещал им оправдать это доверие.
Это было в первые дни страстной недели. Исполненные уважения к этим торжественным дням, мы условились отложить свидание с командором до окончания святой недели. Хотя я никогда не имел доказательств этого, однако для меня было очевидно, что Фульк узнал о том, что происходило в моем доме, узнал о принятом мною намерении и решился предупредить нас, поссорившись с нами.
Наступила Великая Пятница. По испанскому обычаю мужчина, интересующийся женщиной, должен следовать за нею из церкви в церковь и везде подавать ей святую воду в минуту ее входа и выхода. Я не сомневаюсь, что ревность, врожденная во всех сердцах испанских, внушила этот обычай, потому что вся цель его, очевидно, заключается только в том, чтобы помешать какому-нибудь смелому кавалеру воспользоваться вашим отсутствием и случайно познакомиться с дамой ваших мыслей.
В этот день я ходил за молодой и прелестной женщиной, с которой узы нежной связи соединяли меня уже давно. Первая церковь, в которую она вошла, была Санта-Мария-Маджоре. В ту минуту, когда я входил вслед за нею, на паперти стояла толпа французских караванистов, которые занимались не набожностью, а бросали пылающие взоры на хорошеньких honorate, проходивших мимо. Я поспешил дойти до кропильницы. Командор Фулькер стоял уже возле нее. Он фамильярно и дерзко подошел к моей любовнице, чтобы подать ей святую воду, стал между нами, повернувшись ко мне спиной, толкнул меня локтем и наступил на ногу. В ту же минуту я услышал тихий смешок французских караванистов и понял, что оскорбление, нанесенное мне, было умышленно и замечено другими. Кровь бросилась мне в лицо и ослепила меня; однако, из уважения к святости места, я удержался и не отплатил оскорблением за оскорбление. Через минуту гнев мой если не исчез, то, по крайней мере, несколько уменьшился, и я совершенно овладел собою. Я терпеливо дождался, чтобы Фульк вышел из церкви, и тогда, подойдя к нему с холодным и равнодушным видом, вежливо сказал:
— Господин командор, я очень рад, что эта нечаянная встреча позволяет мне осведомиться о вашем здоровье.
— Господин командор, — отвечал Фулькер, — мое здоровье очень хорошо и я нижайше благодарю вас за участие, которое вы принимаете во мне…
— Осмелюсь ли спросить, — продолжал я, — в какую церковь пойдете вы отсюда?
— В церковь Святого Иоанна, — отвечал Фулькер.
— Если вам угодно, — продолжал я, — я буду иметь честь проводить вас туда самым кратчайшим путем…
Я ожидал, что Фулькер удивится моей странной вежливости. Ничуть не бывало. Напротив, он отвечал мне с самым учтивым и любезным видом:
— Я буду очень рад пойти с вами и чувствительно благодарю вас за вашу предупредительность…
Говоря таким образом, он пошел за мной. Я старался занять его разговором и привел так, что он этого не заметил, на улицу Стретта. Там я поспешил вынуть шпагу, будучи уверен, что в такой день церковная служба привлекает всех в церковь и никто нам не помешает. Фулькер заметил мое движение и вскричал:
— Как, командор, вы беретесь за шпагу?!
— Да, — отвечал я, — да, командор, я берусь за шпагу и жду вас!
После минутной нерешимости, Фулькер также обнажил шпагу, но почти тотчас же опустил ее.
— Что вы делаете? — вскричал я. — Вы не защищаетесь?.. Отчего?
— В Великую Пятницу, — прошептал он.
— Что нужды?..
— Послушайте: уже шесть лет не был я на исповеди, меня пугает состояние моей совести, но через три дня, то есть в понедельник утром, мы встретимся здесь.
— Нет, не через три дня! — вскричал я. — Не через два! Не завтра! Не через час! Но сию же минуту!..
— Именем Бога живого, который умер за нас в этот день, — продолжал Фулькер. — Не отвергайте моей просьбы!
— Отвергаю ее.
— Итак, вы безжалостны?
— Да.
— В таком случае, я не хочу подвергать спасения души моей вечной погибели и отказываюсь драться сегодня.
Я человек очень миролюбивый, а вы знаете, что люди с таким характером никогда не слушаются рассудка, когда они раздражены. Едва командор произнес эти слова, я поднял шпагу и ударил его плашмя. При этом кровавом оскорблении багровая краска сменила обычную бледность де Фулькера, молния сверкнула из его глаз, рука судорожно сжала эфес шпаги, и он во второй раз приготовился к бою. Я напал на него с бешенством. Едва скрестили мы шпаги, как выражение его лица изменилось. Ужас изобразился на его чертах, снова побледневших, и он встал возле стены, как бы предвидя, что упадет, и желая опереться. Это было предчувствие, потому что при первом же ударе, который я ему нанес, шпага моя проколола его насквозь. Прислонившись к стене, он держался с секунду, потом упал на колени и, опершись рукою о землю, сказал мне голосом слабым и уже прерывающимся от хрипения смерти:
— В Великую Пятницу!.. в Великую Пятницу… Да простит вам Господь смерть мою!.. Отвезите мою шпагу в Тет-Фульк и закажите в капелле замка сто панихид за упокой души моей…
Потом колени его опустились на землю, омоченные кровью руки судорожно вытянулись, и он упал, со сжатыми зубами, с открытыми глазами; конвульсии пробежали по его телу… Он умер.
В первую минуту я не обратил большого внимания на последние слова, произнесенные им, и если пересказываю их вам в точности сегодня, то лишь потому, что с тех пор они, к несчастью, много раз раздавались в ушах моих.
Я объявил о моем поступке по форме, установленной статусами. Капитул ордена собрался рассудить об этом деле и, разумеется, нашел, что так как мы встретились на улице Стретта, то, вероятно, по национальной вражде, не хотели уступить друг другу дороги; спор, конечно, превратился в серьезную ссору, а за нею последовала и дуэль. В общественном мнении эта дуэль не повредила мне, а, напротив, принесла величайшую честь. Все наперерыв поздравляли меня, осыпали комплиментами, потому что Фулькера вообще все ненавидели и находили, что он заслужил свою участь.
Таковы были суждения людей, но суд Божий и моя совесть судили иначе. Я скоро понял, что мой поступок был вдвойне преступен: во-первых, я пролил кровь моего ближнего в Великую Пятницу; во-вторых, я отказал несчастному командору, в трех днях отсрочки, о которой он умолял, чтобы примириться с небом. Я не только убил тело де Фулькера, но также, по всей вероятности, убил и его душу, подвергнув погибели его вечное спасение. Я говорил себе все это, я обвинил себя в своем преступлении на исповеди, и упреки моего духовника были так же строги, как и те, которые я делал сам себе.
XXXVIII. Покаяние
В ту минуту, как дон Реймон произнес последние слова, полночь пробила на часах восточной гостиной.
Едва раздался первый из двенадцати ударов, дон Реймон схватился за грудь, из которой вырвался болезненный стон, и прошептал:
— Он идет!.. Он идет! Вот он!..
Он упал на ковер, как бы пораженный громом. Рауль поднял своего гостя и положил на широкий диван. Потом, не желая нарушить обещания, данного им за несколько минут назад, он взял книжку в черном сафьянном переплете, которую дал ему дон Реймон, раскрыл ее на том месте, где была вложена закладка кровавого цвета, стал на колени возле дивана и начал вполголоса читать семь псалмов покаяния. Едва он окончил, как обморок командора прекратился, словно по волшебству.
Дон Реймон встал с дивана. Лицо его, казалось, было бледнее обыкновенного. Он взял раскрытую книгу, которую Рауль держал в руке, и сказал:
— Вы сделали то, о чем я просил вас. Благодарю.
Потом, как будто бы с ним вовсе не случилось ничего странного и таинственного, он принялся за свой рассказ, прерванный на несколько минут.
— В ночь с пятницы на субботу, ровно через неделю после моей роковой дуэли с Фульком де Фулькером, я был разбужен боем моих стенных часов, которые пробили полночь. Хотя я знал наверно, что погасил свечку прежде, чем заснул, моя комната показалась мне слабо освещенной. Я осмотрелся вокруг, думая, что кто-нибудь прокрался в мою квартиру, и увидал (да, увидал, потому что это было видение, а не сон), что я нахожусь не в моей комнате, не на постели, а на улице Стретта и лежу на мостовой. Прямо напротив меня, опустившись на одно колено и опираясь рукой о землю, стоял командор. Лицо его было бледно, как у мертвеца, вышедшего из могилы. Поток крови струился из широкой раны, которая была у него под сердцем. Губы его раскрывались, как бы затем, чтобы говорить, но не издавали никакого звука. Наконец я услыхал слова, произнесенные едва внятным голосом, или, скорее, я угадал их, нежели услыхал. Он говорил:
«Отвезите мою шпагу в Тет-Фульк и закажите в капелле замка сто панихид за упокой души моей».
Видение исчезло. Я вскрикнул и лишился чувств. Когда я пришел в себя, уже давно был день и меня орошал холодный пот. На следующую ночь я велел моему камердинеру лечь возле моей кровати. Видение не возобновлялось, так же, как и в шесть следующих ночей; но с пятницы на субботу сон мой был снова прерван им. Мне казалось только, что камердинер мой лежал недалеко от меня на мостовой улицы Стретта. Я опять увидал командора де Фулькера при последнем издыхании и услышал, как он сказал в третий раз голосом умирающим и едва внятным:
«Отвезите мою шпагу в Тет-Фульк и закажите в капелле замка сто панихид за упокой души моей».
Я опять лишился чувств с криком ужаса, который разбудил моего камердинера. Он привел меня в чувство. Опомнившись, я расспросил его, и он отвечал, что в последние минуты моего сна ему пригрезилось, будто он лежит в очень узком переулке. Впрочем, он не видал командора и не слыхал слов его.
С тех пор каждую пятницу видение возобновлялось с одними и тем же подробностями и мертвец произносил одни и те же слова. Очевидно, душа покойного Фулькера желала более всего, чтобы я отвез его шпагу в Тет-Фульк. Я собрал сведения, расспросил французов и наконец узнал от одного рыцаря, уроженца Пуату, что Тет-Фульк — старый замок, находившийся в лесу, в восьми или десяти милях от Пуату. Об этом замке рассказывали самые необыкновенные и фантастические вещи; по всему краю ходили слухи, что там можно было видеть множество любопытных предметов, и особенно замечательны были доспехи знаменитого Фулька Тальефера и вооружения убитых им рыцарей. Утверждали, что в роде Фулькеров с незапамятных времен существовал обычай вешать в этом замке оружие, которое они употребляли или на войне, или на дуэлях.
Я уехал с Мальты, сначала в Рим, где покаялся кардиналу — великому исповедателю в совершенном мною преступлении. Я рассказал ему также и об ужасном видении, преследовавшем меня. Он пожалел меня и уверил, что подобные видения представлялись и другим, и что Господь в своем правосудии позволяет иногда душам умерших в смертном грехе являться на землю и просить молитв или у друзей, или у родных, или у самого убийцы. Наконец, кардинал не отказал мне в разрешении, которого я заслужил моим искренним раскаянием, но сказал, что прежде я должен подвергнуться строгому покаянию и что я буду очищен и разрешен только тогда, как в капелле Тет-Фульк будут отслужены сто панихид, составлявших часть моего покаяния. Так как я очень торопился исполнить наложенное на меня покаяние, надеясь, что видение исчезнет тотчас после этого, то взял с собой шпагу командора и немедленно отправился во францию.
Едва ступил я на землю вашего отечества, меня начала преследовать сквернейшая погода, так что я проехал Францию под проливным дождем; в некоторых местах лошади вязли по колени в грязи. Однако я кое-как добрался до Пуату, где остановился в гостинице довольно неплохой. В этот пень дождь лил еще сильнее обыкновенного, платье мое промокло насквозь, и я чувствовал сильную дрожь, пробегавшую по моим окостеневшим членам. Поэтому вместо того, чтобы тотчас же отправиться в отведенную для меня комнату, я уселся в общей зале у высокого камина, который несколько огромных поленьев превратили в пылающую печь. В эту залу беспрестанно входили и выходили путешественники, а хозяин с озабоченным видом отдавал приказания слугам. Имя командора Фулька де Фулькера, произнесенное возле меня, вдруг заставило меня приподняться.
— Фамилия угасла… — говорил один из путешественников, которого я, судя по костюму, принял за мелкого окрестного дворянина, ехавшего из своего поместья в Пуату…
— О какой фамилии говорите вы? — спросил другой собеседник.
— Э! Разумеется о Фулькерах!
— Знатный дворянский род! Только слава дурная!
— А что, разве командор умер? — спросил вдруг кто-то.
— Как! Вы не слыхали этой новости?
— Право, нет.
— Командор был убит на Мальте, два или три месяца тому назад.
— На дуэли?
— Да…
— Известно, кем?
— Испанским рыцарем, которого имени я не знаю.
— Вот доблестная шпага, нанесшая удар, достойный похвалы! Не думаю, чтобы много слез было пролито в память командора Фулька! Дурной был человек!..
— Скажите лучше: воплощенный дьявол, предмет ужаса своих вассалов, у которых он убивал сыновей и насиловал жен и дочерей.
— Он кажется редко посещал свой замок Тет-Фульк?..
— Да, но как ни редки были его приезды, все-таки они случались слишком часто…
— Впрочем, если уж его нет на свете, следует простить ему грехи, и пусть Господь успокоит его душу!..
— Говоря откровенно, я думаю, что дьявол всегда считал ее своей законной собственностью…
Этот разговор, который я передаю вам почти буквально, доказал мне, что известие о смерти командора опередило меня в Пуату и что в этом городе о нем сожалели еще менее, нежели на Мальте. Признаюсь, я был очень рад, что люди, знавшие командора, так единодушно осуждали его. Я думал, не знаю справедливо или нет, что теперь я был менее виновен, не исполнив просьбы человека, столь глубоко ненавидимого. Но все-таки мне надо было исполнить мое покаяние, и я решился сделать это на другой же день, в четверг, чтобы в пятницу не быть в замке Тет-Фульк.
XXXIX. Лес
В этот же вечер после ужина я позвал хозяина в мою комнату, чтобы собрать нужные для меня сведения.
— Как далеко отсюда до Тет-Фулька? — спросил я.
Трактирщик взглянул на меня с изумлением и вскричал:
— Вы едете в замок Тет-Фульк?
— Еду, — отвечал я.
— Разве вы не знаете, что в замке никто не живет и что последний владелец его Фульк де Фулькер недавно умер на острове Мальте?..
— Знаю и прошу вас только отвечать на мои вопросы.
— Это другое дело, — прошептал трактирщик. — Отсюда до Тет-Фулька восемь лье.
— А какова туда дорога?
— Плоха… и в хорошее-то время по ней мудрено ездить, а теперь, после дождей, об экипаже нечего и думать; разве что верхом…
— Можете вы достать для меня проводника?
— До половины дороги, не дальше.
— Почему же только до половины дороги?
— Да потому, что с того места, которое называется Лощиной Мертвого Человека, лес пользуется такой дурной славой, что ни за какие деньги вы не уговорите жителей Пуату проехать туда с вами…
— Что же говорят об этом лесе?
— Много ужасного.
— Однако что именно?
— Говорят о колдовстве, о чародействе, о страшных привидениях, о злых духах, которые сбивают путешественников с пути, привлекают к невидимым пропастям… Там несчастные гибнут…
— Как вы думаете, справедливы ли эти слухи?
— Клянусь честью, не знаю, но так говорят и этого достаточно, чтобы напугать любого из здешних жителей.
— Ну так достаньте мне проводника только до Лощины Мертвого Человека, как вы называете это место, дальше я отправлюсь один…
— А когда вы намерены отправиться?
— Завтра.
— В котором часу?
— На рассвете.
— Хорошо, ваши приказания будут исполнены.
Трактирщик хотел удалиться. Я удержал его.
— Это еще не все…
— Что прикажете?
— Я желаю, чтобы вы достали мне полный костюм пилигрима, с четками и посохом!..
Я заметил, что трактирщик смотрел на меня с глупым удивлением, и прибавил:
— Я иду в Замок Тет-Фульк вследствие данного обета и потому нахожу приличным надеть смиренный и освященный костюм для исполнения этого обета…
— Костюм будет у вас вместе с проводником, — отвечал трактирщик.
На другое утро все было готово. Я надел длинную коричневую рясу странствующего пилигрима. Под этой рясой я привязал с одного боку шпагу командора, а с другого кожаный кошелек, достаточно набитый золотыми монетами, которыми должен был заплатить за сто панихид. Спустившись в нижнюю залу, я нашел там моего проводника. Это был молодой крестьянин, лет пятнадцати или шестнадцати, худощавое и бледное лицо которого, окруженное белокурыми, почти бесцветными волосами, не имело решительно никакого характера. Мальчик этот был высок для своих лет, очень тощ, на длинных, как у цапли, ногах и с длинными руками, которые беспрестанно шевелились, как будто крылья ветряной мельницы.
Мы отправились. Небо было сумрачно, и шел мелкий дождь. Около часа шли мы по грязи, скользкой и жидкой, в которой вязли иногда по колени. Через час мы дошли до рубежа огромного леса, покрывавшего двадцать квадратных лье. Посреди этого леса находился Замок Тет-Фульк. Перед нами открывалась аллея столетних дубов и вязов, переплетшиеся ветви которых образовывали над нашими головами мрачный свод. Крестьянин перекрестился, входя под этот свод. Я сделал то же. Мы поступили одинаково, но были руководимы совершенно различными побуждениями. Он повиновался необдуманному и суеверному страху, я не боялся ничего, но поручал свою душу Богу.
По мере того как мы подвигались вперед, зеленый свод понижался, а аллея становилась все уже и уже и, наконец, кончилась тропинкой, по которой мы не могли идти рядом и были принуждены наклониться, чтобы не наткнуться на ветви. Иногда какой-нибудь испуганный зубр перескакивал через тропинку в десяти шагах перед нами, и при шуме сухих листьев, смятых свирепым животным, проводник мой останавливался дрожа и начинал креститься. Скоро я почувствовал усталость.
— Продвигаемся ли мы? — спросил я у моего проводника.
— Разумеется, не пятимся назад, — отвечал он. — Продвигаемся, но мало.
— Скоро ли придем мы к Лощине Мертвого Человека?
— Не могу сказать… часа через три, может статься…
— Ты знаешь наверно, что мы не сбились с дороги?
— О, да! Я с закрытыми глазами пройду по лесу, я часто прихожу сюда ловить кроликов и отыскивать гнезда черных дроздов…
Я опять пошел вперед и, чтоб постараться забыть длину пути и усталость, стал расспрашивать своего проводника о таинственных опасностях, о которых трактирщик говорил мне вчера, и сначала спросил, почему дано такое странное название тому месту, у которого он должен был меня оставить. Крестьянин отвечал, что Лощину Мертвого Человека назвали так потому что незаконнорожденный сын Фулька Тальефера, графа Ангулемского, чуть было не был убит в этом месте одним из своих вассалов, жену которого он насиловал. В отмщение за это, господин велел приковать несчастного за шею и за ноги к скале, возвышающейся посреди лощины, где тот и умер от холода и голода. Более столетия кости трупа оставались прикованными к месту казни. Крестьянин прибавил, что с тех пор адские духи завладели лесом и окрестностями Замка Тет-Фульк, и распространился в своем рассказе об ужасном обращении этих духов с путешественниками, заблудившимися в их владениях. Удивительная легенда, рассказанная проводником, произвела на меня странное впечатление. Имел ли я право не верить этим сверхъестественным происшествиям, когда сам столько раз был тревожим непонятным явлением, выходившим из пределов материального мира? И я снова поручал душу свою Богу.
Между тем мы шли уже более трех часов. Ноги мои отказывались идти далее, лицо и руки были до крови исцарапаны хворостом. Проводник вдруг остановился. В это время мы пришли к широкой долине, в которой изредка одиноко росли высокие деревья. Длина этой долины простиралась не далее трех ружейных выстрелов. Посреди возвышалась груда зеленовато-коричневых скал.
— Вот Лощина Мертвого Человека! — сказал крестьянин. — Здесь я вас оставляю, как мы условились…
— Я на половине дороги к Тет-Фульку? — спросил я.
— Почти… Я никогда не был в Тет-Фульке, но мне говорили много раз, что от замка до лощины не дальше, как от лощины до города…
— Куда же теперь мне идти?
— С другой стороны лощины вы найдете тропинку прямо против этой… ступайте по ней… она ведет прямо к замку…
Потом, дав мне почти с сожалением эти неполные указания, проводник мой повернулся и убежал со всех ног, как будто не чувствовал ни малейшей усталости. Я сошел в лощину, но, будучи не в состоянии идти далее, не отдохнув несколько минут, стал искать места, где бы укрыться от дождя, лившего безостановочно. Между скалами, о которых я говорил сейчас, находился небольшой грот, совершенно сухой. Я вошел в него, лег на густой мох, покрывавший землю, и скоро почувствовал, что сон овладевает мною; я пробовал бороться с ним, но напрасно. Я заснул.
Сколько времени продолжался сон мой, не знаю, но когда я проснулся, была уже ночь, и я поспешил выйти из грота. Я совершенно отдохнул, но умирал от голода, потому что не ел целый день.
Я мог надеяться найти убежище и пищу только в Тет-Фульке, поэтому смело пошел по той тропинке, которая, по словам крестьянина, должна была привести меня в замок. Без сомнения, было еще позднее, чем я думал, потому что через полчаса мрак сделался совершенно непроницаем. Идя почти ощупью, я вдруг дошел до перекрестка и заметил две тропинки: одна шла направо, а другая налево. По которой идти? Я предоставил все случаю и пошел налево. Без сомнения, случай обманул меня, потому что я скоро наткнулся на скалы: тропинка не имела выхода. Мною овладело отчаяние; я подумал, что, если придется провести ночь в этом лесу, я погибну самым жалким образом. Голод становился нестерпимым и члены мои цепенели все более и более. Однако я решился вернуться к перекрестку и пошел или, скорее, потащился направо. Я шел очень медленно, беспрестанно спотыкался на неровной почве и вдруг одним коленом наткнулся на пень. Боль была до того сильна, что я лишился чувств.
XL. Тет-Фульк
Опомнившись, я заметил, что нахожусь в какой-то дымной лачуге и лежу в простом деревенском кресле, сделанном из ветвей и древесной коры. Прямо против меня горел яркий огонь, разведенный торфом и сухим вереском. Возле меня стояли мужчина и женщина, черные с головы до ног. Я сначала подумал, что они принадлежат к породе фантастических существ, о которых мне говорили, но это заблуждение продолжалось недолго. Как только я раскрыл глаза, мужчина, взор которого был устремлен на меня, улыбнувшись, показал мне свои белые зубы и сказал с видом добродушия и участия:
— Как вы себя чувствуете, господин пилигрим?
Я отвечал, что не чувствую никакого страдания, кроме сильной боли в колене, и спросил, каким образом, лишившись чувств в лесу, я очнулся в хижине. Ответ был прост. Человек этот был дровосек и кормился тем, что жег уголь, который продавал потом в Пуату. Он провел день у своей печи, а вечером, возвращаясь домой, наткнулся на мое тело, лежавшее на земле. Он поднял меня и принес к себе. Я поблагодарил его за это доброе дело. Дровосек предложил мне разделить с ним умеренный ужин, приготовленный его женой. Я согласился от всего сердца.
За ужином я спросил его, что он думает о таинственных духах, которыми по слухам был населен лес. Он отвечал, что слухи эти не раз доходили до него, но сам он никогда не видал ничего такого, что могло бы подтвердить их. Притом совесть ни в чем его не упрекала, а он думал, что Господь не позволит адским духам вредить ему когда он сам не делал вреда никому. Потом я спросил у него, далеко ли от его хижины до Тет-Фулька.
— Два часа ходьбы, — отвечал он.
— Не можете ли вы проводить меня туда?
— Охотно, завтра на рассвете отправимся в путь.
— Почему же не сегодня?..
— Сегодня?..
— Да.
— Невозможно!
— Отчего?
— Оттого, что в темноте вместо двух часов мы проплутаем, по крайней мере, четыре. Потом, предположив, что мы и дойдем до замка, мы все-таки не попадем в него…
— Что же нам помешает?
— Запертые ворота.
— Разве нам не отворят их?
— Нет.
— Разве сторожа замка до такой степени негостеприимны?
— В замке нет никого, кроме старого привратника и благочестивого отшельника.
— Так что же?.. Они отопрут…
— Едва ли! Вечером привратник запирает ворота и засыпает. Старик спит крепко, и он нас не услышит. Отшельник же, как говорят, в это время молится в капелле, и уж, конечно, поверьте, что нам лучше подождать до завтра.
Я послушался таких убедительных доводов и решился дождаться утра.
Хозяева насыпали для меня в углу комнаты сухих листьев папоротника. Я бросился, не снимая моей пилигримской одежды, на эту импровизированную постель и скоро заснул глубоким сном. Дровосек, как обещал, разбудил меня утром.
— Если вам угодно, мы можем отправиться в путь, — сказал он мне.
Я тотчас встал и приметил с сильным огорчением, что ужасно страдаю от вчерашнего ушиба. Колено мое распухло за ночь и вся нога как будто одеревенела. Однако я хотел непременно попасть в замок в этот день и, несмотря на боль, пошел за моим проводником. Хотя я и опирался на свой пилигримский посох, но все-таки сильно хромал и шел так медленно и с таким трудом, что только через пять часов дошли мы до входа в прогалину, из которой виден был замок Тет-Фульк. Не имея более нужды в проводнике, я сунул ему в руку несколько золотых монет, которые он принял с глубокой признательностью, и отпустил его, потом продолжал свой путь. Наконец я кое-как дотащился до замка.
Это было огромное укрепленное здание, окруженное широкими и глубокими рвами. Высокие стены, потемневшие от времени и поросшие мхом, имели зловещий и ужасающий вид. Четыре огромные башни, омывавшие свой фундамент в зеленоватой воде рвов, стояли по четырем углам замка. Остроконечная колокольня капеллы возвышала над крышей свой шпиц и гербованные флюгера. Эта угрюмая и безмолвная масса производила неприятное и странное впечатление. Ни одного живого существа не видно было в окружности. Ни малейший шум не доходил до слуха. Все здесь напоминало холодное и мрачное спокойствие могилы. С первого взгляда можно было угадать, что угрюмое здание давно оставлено владельцами и пусто. Можно было подумать, что это один из тех проклятых замков, о которых так часто говорится в рыцарских романах.
Я прошел подъемный мост, висевший над рвом, и дошел до главных ворот. Железная цепь приводила в движение колокол, находившийся внутри. Я дернул за эту цепь. Тотчас раздался звон колокола, и эхо печально повторило его на широком дворе и огромных лестницах. Прошло несколько минут, но никто не отвечал на мой зов. Наконец я услыхал тяжелые, медленно приближавшиеся шаги, маленькая калитка, сделанная в воротах, повернулась на своих петлях, и я увидал старика, сгорбленного от старости, с волосами белыми, как снег, и одетого точно так, как одевались при добром короле Генрихе IV.
— Что вам угодно? — спросил он с мрачным видом.
— Я желал бы войти в замок.
— Замок пуст, владельцы умерли. Вам нечего здесь делать…
И он уже хотел было затворить калитку, но я с живостью остановил его и сказал:
— Я дал обет… касающийся спокойствия души вашего последнего господина — Фулька де Фулькера, и для исполнения этого обета я должен видеть тет-фулькского отшельника.
— Это другое дело. Войдите.
Двор, в котором я очутился, был огромен и окружен, подобно монастырю, длинными галереями и аркадами. Старик обернулся ко мне и продолжал:
— Отшельник в капелле, пойдемте, я провожу вас.
Он вел меня сквозь лабиринт лестниц и коридоров. Снаружи замок прекрасно сохранился, без сомнения, вследствие толщины и прочности стен, но я не могу дать вам точного понятия о внутреннем разрушении. Повсюду плиты расселись, пол опустился, своды угрожали падением. Ни в одном окне не было стекол, и ночные птицы свободно вили гнезда в залах и коридорах.
По мере того, как мы проходили по коридору, в ушах моих все яснее и яснее звучал жалобный голос, певший молитвы по умершем. Скоро я распознал De profundis. Это похоронное пение произвело на меня грустное впечатление и показалось печальным предзнаменованием. Старик отворил наконец одну дверь и пригласил меня войти в капеллу, но сам пошел за мной.
Отшельник, которому поручено было служить в этой капелле и содержать ее в чистоте, дурно исполнял свою обязанность, потому что там еще более, чем в других местах, все было в самом жалком запустении. Сырая трава росла между плитами, резные украшения, почти сгнившие, отделялись от стен, занавесь алтаря была разорвана, окна вместо стекол во многих местах были заклеены обрывками холста от старых картин.
Отшельник все пел. Он был в изношенной рясе и казался еще молод, но худ, без сомнения, от умерщвления плоти. Я опустился на колени и стал молиться шепотом, ожидая, когда он кончит молитву об усопших. Он кончил, и я отвечал: аминь! Отшельник обернулся и, увидев меня, спросил, как и старый привратник:
— Что вам угодно?
— Я пришел сюда исполнить долг совести, — отвечал я.
— Какой?
— Я дал обет.
— Скажите мне его.
— Я обещал заказать в этой капелле сто панихид за упокой души командора Фулька де Фулькера, убитого на дуэли на острове Мальта.
— Хорошо, — отвечал отшельник.
Я вынул из кошелька сто золотых монет, положил их на алтарь и прибавил:
— Беретесь ли вы, отец мой, отслужить эти панихиды?
— Я сам — нет. Я еще не вполне посвящен и не имею права служить обедни, но все-таки обещаю вам удовлетворить вашу совесть.
Я вытащил из-под моей рясы шпагу командора и сказал:
— Я дал также слово принести в этот замок шпагу, принадлежавшую командору де Фулькеру.
И, говоря это, я хотел положить шпагу возле золотых монет. Отшельник остановил меня движением руки.
— Нет, — вскричал он, — нет… Здесь не место для убийственного орудия, столь часто орошавшегося христианской кровью…
— Что же мне делать с этой шпагой? — спросил я.
— Отнесите ее в оружейную, — отвечал он резким тоном, — там она будет в обществе, достойном ее!
И он вышел со мной из капеллы.
XLI. Оружейная
Старый привратник, к которому отшельник снова отвел меня, объяснил, что оружейной называлась та зала, в которой хранилось оружие умерших Фулькеров вместе с оружием побежденных ими рыцарей. Этот обычай, строго исполняемый в роде Фулькеров, был установлен еще во времена Мелюзины и ее мужа, графа Жоффруа Пуату, по прозвищу Большой Зуб. Я желал немедленно исполнить хотя бы вторую часть моего покаяния и попросил, чтобы привратник тотчас же отвел меня в оружейную.
Это была огромная комната, содержавшаяся гораздо лучше, чем другие. Потолок, некогда выкрашенный яркой краской, почти полинял, дубовая обшивка стен почернела от времени. Кругом по стенам висели портреты всех владельцев Тет-Фулька и жен их.
Особенное любопытство возбудил во мне портрет Фулька Тальефера, графа Ангулемского, который выстроил замок Тет-Фульк для своего побочного сына, сделавшегося великим сенешалем в Пуату и родоначальником дома Фулькеров. Этот побочный сын был именно тем самым мерзавцем, которому Лощина Мертвого Человека была обязана своим зловещим названием.
Мне казалось, что портрет Тальефера был написан с ужасной и поразительной истиной. Старый и грозный рыцарь был представлен вооруженным с ног до головы, в ту минуту, когда он садится на боевую лошадь и берет круглый щит, на котором были изображены головами вперед три льва без зубов, без грив и без хвостов. Под поднятым забралом железного шлема налитые кровью глаза Фулька Тальефера сверкали мрачной и угрожающей молнией. Смотря на этот портрет, можно было подумать, что Фульк сейчас выйдет из рамы, как бы удерживавшей его в плену, и бросится в битву, махая своим мечом с воинственным, ужасающим криком.
Другие портреты тоже были довольно хорошо написаны, хотя и принадлежали к первым временам средневекового искусства. Портреты сенешаля и его жены, Изабеллы Лузиньян, висели по сторонам высокого и широкого камина. Лицо сенешаля выражало непоколебимую волю и лютую жестокость. Смотря на него, можно было угадать, что этот человек, наверное, пролил много крови и находил наслаждение среди стонов и криков своих жертв. Надменная и резкая физиономия Изабеллы Лузиньян дышала не более мужниной кротостью и благосклонностью. Я понимал, отчего в Пуату радовались исчезновению древней фамилии Фулькеров, и спрашивал себя, не сам ли Господь поддерживал в руке моей мстительную шпагу, которой командор был поражен. Я почти забыл в эту минуту, что Господь не требует смерти грешника, но желает его обращения на путь истинный, и скоро должен был получить тяжкое наказание за эту забывчивость.
Под каждым портретом висели шпаги разных веков и разных размеров, в виде трофеев. Я присоединил к одному из них шпагу командора и почувствовал невыразимое облегчение.
После моего прихода в замок поднялась сильная буря, флюгера стонали, как души грешников, а ветер врывался под аркады парадного двора с шумом, подобным шуму разъяренного моря. Эта адская погода и боль в колене не позволяли мне думать о возвращении в город в тот же день. Я спросил старого привратника, согласен ли он дать мне поужинать и позволить переночевать в замке.
— Вы пришли, — отвечал он, — за тем, чтобы заказать несколько панихид за упокой души моего последнего господина и присоединить его шпагу к шпагам его предков, поэтому вы гость во Фулькерском замке. Оставайтесь же здесь, сколько хотите, и будьте уверены, что не будете иметь недостатка ни в чем…
Я поблагодарил старика за гостеприимство и прибавил:
— Эта зала — единственная комната в замке, в которой можно жить… Не можете ли вы затопить здесь камин и постелить постель?..
— Извольте, — отвечал он, — я тотчас затоплю камин, и вы можете здесь отужинать, если хотите, но не советую вам ночевать в этой комнате и даже оставаться в ней после полуночи.
— Разве я могу здесь подвергнуться какой-нибудь опасности?
Брови старика почти сдвинулись, он покачал головой и не отвечал на мой вопрос. Я настаивал. Через минуту он продолжал:
— Послушайте меня, ночуйте в моей комнате. Я не хочу, чтобы в замке Тет-Фульк случилось какое-либо несчастье с гостем фулькерских владельцев!..
— Хорошо! — отвечал я. — Охотно принимаю ваше предложение и буду ночевать с вами.
— И прекрасно сделаете, — сказал привратник. — Я принесу сейчас огня, позабочусь о вашем ужине и приготовлю вам постель возле моей…
Старик вышел из оружейной. Я согласился ночевать с ним тем охотнее, что в этот день была пятница, и хотя я надеялся, что навсегда уже освободился от моего видения, однако боялся, чтобы оно не возвратилось. Старик пришел через минуту. Он принес дрова, которые положил в камин, и затопил его. Скоро яркое пламя охватило дрова и превратило камин в огненное горнило. Старик снова ушел, говоря:
— Я принесу вам ужин через два часа.
Оставшись один, я начал рассматривать с большим вниманием, чем прежде, оружия и портреты. Я вам сказал уже, что буря страшно ревела на дворе. Притом подходил конец осени, дни были очень коротки и вечер скоро должен был наступить. По мере того, как на небе уменьшался слабый свет дня, темнота распространялась по зале, и мрачный цвет старого полотна картин смешивался с потемневшими от времени стенами. Перемежающийся блеск каминного пламени разливал неопределенный свет, позволивший мне видеть только лица портретов, их угрожающие глаза и неподвижные губы. Мною овладел глубокий и непреодолимый ужас. Мне казалось, что вокруг меня должно произойти нечто странное и ужасное. По всей вероятности, моя робкая совесть и воспоминание о видении, которое столько раз являлось мне, повергали меня в постоянное волнение. Однако я не видал ничего.
Скоро вернулся привратник. Он принес лампу и ужин, который поставил на столик, сняв с него предварительно кучу панцирей, шишаков и набедренников. Ужин был самый простой и состоял из карпов и раков, которых привратник выудил во рву замка. Кроме того, был хлеб, довольно белый, вареные овощи и бутылка вина.
— Разве я должен ужинать один? — спросил я, когда привратник расставил передо мною блюда.
— С кем же вам ужинать? — отвечал он.
— С отшельником…
Старик опять покачал головой.
— Я сейчас спрошу его, — сказал он, — хочет ли он разделить с вами ужин, но сомневаюсь, чтобы он решился прийти сюда.
Он вышел и, в самом деле, вернувшись через несколько минут, сказал мне, что отшельник просит меня извинить его, что он питается только кореньями, сваренными в воде, и притом никогда не согласится войти в оружейную. Я сел за стол один и при помощи аппетита нашел рыбу и раков превкусно приготовленными; овощи показались мне бесподобными и даже пуатуское вино очень понравилось.
В мальтийском ордене рыцари непременно должны читать каждый день служебник, и я всегда с точностью исполнял эту обязанность. Вынув из кармана четки и молитвенник, с которыми я не расставался никогда, я приготовился тотчас после ужина приняться за чтение.
— Разве вы остаетесь здесь? — спросил меня старый привратник,
— Да, еще несколько минут. Как только кончу молитвы, я приду к вам.
— Ну и прекрасно.
— Покажите мне только дорогу, как пройти к вам…
— Очень просто. Отворите дверь, спуститесь по лестнице и вы тотчас найдете мою комнату, дверь я оставлю отпертой. Это будет шестая после стрельчатого свода, на четвертой площадке лестницы. Вы войдете в коридор, кончающийся аркадой; тут еще стоит статуя блаженной Иоанны Французской. Ошибиться невозможно.
Хотя я и находил, что эти указания были вовсе не так ясны, как думал привратник, однако я отвечал:
— О! да, я найду без труда…
— Не задолго до полуночи, — продолжал старик, — вы услышите, как отшельник зазвонит в колокол, обходя дозором по коридорам. Если вы еще будете здесь, уходите, не теряя времени… особенно… особенно не оставайтесь в оружейной после полуночи.
Сопровождая последний совет многозначительным взглядом, старый привратник оставил меня. Было около десяти часов вечера.
XLII. Привидения
Оставшись один, я раскрыл молитвенник и начал читать вечернюю службу, но, признаюсь, с сердцем взволнованным и с тревожными мыслями. Я чувствовал тот неопределенный ужас, который внушает нам неизвестная опасность, ту необъяснимую боязнь, которую порождают в нас темнота и уединение. Медная лампа, поставленная привратником на столе возле камина, разливала около себя тусклый свет, от которого отдаленные части зала казались еще темнее. Вне светлого круга я видел только смутные формы, которые иногда казались мне движущимися. Порывы бури производили странный шум, врываясь в пустые комнаты и бесконечные галереи.
Глаза мои были устремлены на молитвенник, но думал я о другом. Против воли я говорил себе, что замок, в котором я находился в эту минуту, принадлежал человеку, убитому мною! Против воли я переносился мыслью в Мальту, на улицу Стретта, присутствовал при моей дуэли и слышал, как в ушах моих раздавался слабый голос командора, говоривший мне слова, столь часто повторяемые с тех пор: «Отвезите мою шпагу в Тет-Фульк и закажите в капелле замка сто панихид за упокой души моей».
Вы согласитесь, что час и место были дурно выбраны для таких воспоминаний!.. Не раз думал я прервать молитвы и пойти к привратнику, но меня удерживало ложное понятие о чести и стыде уступить суеверному малодушию. Время от времени, я подкладывал в камин дрова, чтобы доставить себе более яркий свет, но не смел осмотреться кругом. Мне все казалось, что вот невидимая рука вдруг дотронется до плеча моего, и, обернувшись, я встречусь лицом к лицу с каким-нибудь отвратительным привидением. Я не осмеливался даже взглянуть на фамильные портреты. Если хоть на секунду я устремлял взор на который-нибудь из этих портретов, мне чудилось, будто он оживляется, а глаза и губы шевелятся. Особенно мне казалось, что фигуры великого сенешаля и его жены смотрели на меня свирепыми глазами, что они как будто покачивали головами, и обменивались между собою выразительными взглядами. Я старался объяснить то, что видел, порывами ветра, приподнимавшего ветхие картины, и призвал на помощь Бога против обманчивых грез, насылаемых на меня злым духом.
Немного успокоившись этой молитвой, я отважился снова взглянуть на портрет сенешаля и увидел, да, ясно увидел, что Фульк Тельефер делает мне из своей рамы угрожающий жест. В эту самую минуту страшный порыв ветра потряс все окна, как будто невидимые руки хотели из разбить; трофеи зашевелились с дребезжанием, которое показалось мне сверхъестественным. Я невольно задрожал, и холодный пот выступил у меня на лбу. К счастью, я услыхал звон колокола отшельника. Теперь я мог оставить оружейную, не показавшись трусом в собственных глазах. Я взял лампу, отворил дверь и, не оглядываясь, пошел по лестнице. Я еще не успел дойти до второй площадки, как новый порыв ветра погасил мою лампу. Я поспешно возвратился в оружейную за огнем, потому что о возможности отыскать впотьмах комнату привратника нечего было и думать.
Посудите же, что я должен был почувствовать в ту минуту, когда, переступив через порог оружейной, я вдруг увидал, что сенешаль и жена его, выйдя из рам, сидели друг против друга у камина, один в своих боевых доспехах, а другая в платье из серебряной ткани и в накрахмаленном воротнике. Испуг пригвоздил меня к месту; я услышал очень ясно разговор двух привидений.
— Милая моя, — говорил сенешаль, — что вы думаете о дерзости кастильца, который поселился в моем замке, будто у себя дома, и посмеивается себе после того, как убил командора, не дав ему времени покаяться?
— Мессир, — отвечал женский призрак хриплым голосом, — по моему мнению, кастилец поступил в настоящем случае подло, и, поистине, вы должны, прежде, нежели он выйдет отсюда, бросить ему перчатку.
Я потерял голову и снова бросился на лестницу, отыскивая ощупью комнату привратника, но не только не успел ее найти, а еще заблудился впотьмах. Пробежав множество галерей и Бог знает сколько лестниц, я наконец сел на ступеньку, не помня, в которой стороне оружейная и в которой статуя блаженной Иоанны Французской.
После довольно продолжительного времени, проведенного мною в мучительном ожидании и смертельном беспокойстве, я утешал себя надеждой, что скоро начнет рассветать и запоют петухи. Вы, без сомнения, знаете, что тотчас после первого пения петухов привидения, каковы бы ни были причины, привлекающие их в этот свет, принуждены возвращаться в мрак своих могил. В особенности я старался убедить себя в том, что все виденное и испытанное мною существовало только в моем взволнованном и болезненном воображении. Я все еще держал в руке погасшую лампу, безумно желая лечь и уснуть, потому что был сильно истощен усталостью. Поднявшись со ступеньки, на которой сидел, я продолжил мои поиски.
Через несколько минут я попал на лестницу и увидал наверху слабый свет. Я заключил, что этот свет должен был выходить из оружейной, от огня, вероятно, угасавшего в его высоком камине. Я поднялся на несколько ступеней и увидел, что догадка моя была справедлива. Побуждаемый надеждой зажечь лампу, я отважился дойти до порога и бросил в комнату робкий взор.
Сенешаль и жена его уже не сидели у камина. Это меня убедило, что прежде мне очевидно почудилось, и я смело пошел к камину. Едва я сделал несколько шагов, как насмешливый хохот раздался возле меня. Лампа выпала у меня из рук…
Изабелла де Лузиньян стояла в трех шагах от меня, с лицом, еще сжатым от отвратительного хохота, и указывала мне рукой на середину залы. Я обернулся, бледный и дрожащий, и увидал Фулька, ожидавшего меня. Он поднял шпагу и молча замахнулся ею на меня.
Я хотел броситься на лестницу. Возле дверей, на гранитном пьедестале стояла фигура оруженосца в полном вооружении. Днем я дотрагивался до звучной и пустой кирасы этой статуи. Теперь эта фигура вдруг сошла с пьедестала, загородила мне дорогу и грубо бросила в лицо железную перчатку, которую держала в руке и которая больно меня ушибла. Тогда гнев овладел мною и заменил ужас. Я схватил с одного трофея первую попавшуюся мне шпагу (оказалось, что это была шпага командора, повешенная мною) и бросился на моего фантастического противника.
О, ужас! Моя шпага, ударившись о его шпагу, не извлекла из нее ни звука, ни искры, как будто ударилась о пустое пространство!.. Потом вдруг я почувствовал под сердцем холодное острие, пронзившее меня насквозь; оно обожгло меня, подобно раскаленному железу. Я увидал, что кровь потекла из моей раны на плиты, и мне показалось, что я мало-помалу лишаюсь жизни…
XLIII. Кровавое пятно
На другое утро я опомнился на кровати, в маленькой комнате привратника. Он сказал мне, что около двух часов утра, беспокоясь о том, что я не прихожу, он взял сосуд, наполненный святой водой, и освященную буковую ветвь и пошел отыскивать меня. Он нашел меня на полу оружейной. Я лежал без чувств; правая рука моя крепко сжимала эфес шпаги командора, но раны у меня никакой не было.
Старый привратник и отшельник не расспрашивали меня о том, что случилось со мной в эту ужасную ночь, но оба советовали мне оставить замок как можно скорее. В тот же самый день я уехал из Тет-Фулька в Испанию, думая, что я навсегда освобожден от адского видения.
Увы! На следующую же пятницу, ночью, я вдруг был разбужен Фульком Тальефером, который стоял передо мной и готовился пронзить меня своей неотразимой шпагой. Я перекрестился. Призрак исчез в дыму, но я все-таки почувствовал удар, такой же, какой получил в оружейной, и мне точно так же показалось, что кровь полилась из моей раны. Я хотел встать с постели и позвать на помощь, но не мог и оставался в этом мучительном состоянии до пения первых петухов. Тогда я опять заснул, но сном беспокойным. На другой день я был болен, и мое физическое и нравственное состояние могло внушить сострадание даже смертельному врагу.
С того времени роковое видение посещает меня каждую неделю. Напрасно дал я обет не обнажать шпаги в пятницу даже для отмщения смертельной обиды, даже в случае законной обороны! Этой клятве, кавалер, изменил я сегодня, к моему несчастью, может статься!.. Напрасно также призывал я на помощь религию, исполнял строгие обряды набожности, которая в глазах многих покажется преувеличенной. Все это было бесполезно; моя жизнь — продолжительная мука, и если я еще не положил добровольно конца этой печальной жизни, которая тяготит меня, так потому только, что не хочу нарушить божественный закон, говорящий человеку: «Не поднимай на себя преступной руки твоей!»
Теперь вы знаете все, кавалер, теперь вы должны понять, почему мрачная и глубокая грусть положила неизгладимую печать на лице моем…
— Да, конечно! — отвечал Рауль. — Да, конечно, я понимаю все и жалею вас от всей души!
— Что вы думаете о том, что случается со мной?..
— Вы позволите мне быть откровенным с вами?..
— Не только позволяю, но даже прошу вас убедительно.
— Я сомневаюсь в существовании привидений, преследующих вас так жестоко.
— Как? — вскричал дон Реймон. — Как?! Вы сомневаетесь в моем слове!..
— О! В вашем слове я не сомневаюсь нисколько, — отвечал Рауль. — Наверное, вы искренни и действительно видели все то, что рассказали мне, но я не могу верить свидетельству ваших чувств…
— Итак, вы думаете, что это какая-нибудь галлюцинация с моей стороны?..
— Признаюсь.
— Вы думаете, что мое воображение, пораженное кровавым результатом моего поединка на улице Стретта и последними словами моего противника, само создало призраки, осаждающие меня!..
— Без сомнения.
— Вы думаете, наконец, что каждую пятницу меня давит кошмар, а не видение посещает меня?
— Да, я так думаю, — сказал кавалер.
— Смотрите же и не сомневайтесь более! — прошептал дон Реймон.
Как ни был закален Рауль против всех душевных волнений, но он почувствовал легкую дрожь, услышав эти слова. Ему показалось, что он увидит кровавый труп Фулькера или фантастический, закованный в железо призрак страшного сенешаля. Но взор его тотчас обратился на дона Реймона и он понял смысл слов, произнесенных последним. Командор распахнул свою рубашку.
— Посмотрите! — повторил он, указывая на свою открытую грудь.
Рауль подошел и увидел дюйма на два пониже сердца знак, который не был ни раной, ни шрамом, а чем-то вроде темно-красного пятна, узкого и длинного, очень похожего на отверстие раны, сделанной шпагой.
— Видите? — спросил дон Реймон.
— Да, — отвечал Рауль, — но я не понимаю, что это…
— Этот знак, — продолжал командор, — сделан шпагой сенешаля, которая поразила меня в ту минуту, как пробила полночь… Через два часа этот знак исчезнет… Ну, теперь, когда вы сами его видели, сомневайтесь, если можете…
Рауль не отвечал: он не мог опровергать того, что было очевидно, но точно также не хотел допустить и того, что было в рассказе командора сверхъестественного. Он решился молчать.
Дон Реймон сказал:
— Теперь, мне остается только поблагодарить вас за гостеприимство, которое вы оказали мне в эту ночь, и за благосклонное внимание, с которым вы слушали мою печальную историю. Квартира моя в двух шагах отсюда, и я прощусь с вами, кавалер.
У Рауля не было лишней постели, которую он мог бы предложить командору, и потому он не удерживал дона Реймона, но все-таки хотел непременно проводить его до дверей дома.
Они расстались, обменявшись взаимными уверениями в дружбе и преданности. Рауль вернулся домой через тайный проход и пошел прямо в комнату Жанны.
Молодая женщина не спала. Она ждала Рауля, и отсутствие его казалось ей нескончаемым. Это ожидание, присоединившись к испугу и волнениям того вечера, разгорячило ее кровь и придало совершенно новый оттенок цвету ее лица и блеску глаз. Жанна сияла красотой истинно божественной, и Рауль был ослеплен. Он сел возле кровати жены, взял прелестную руку, протянутую к нему, и сказал:
— Жанна, милое дитя, я был сегодня очень строг с вами, не правда ли?
— Вы находите? — спросила Жанна со сладостной и очаровательной улыбкой, с оттенком легкой грусти.
— Да, — отвечал Рауль, — строг и несправедлив, потому что проступок, в котором я упрекал вас, неосторожность, которая расстроила меня, сделаны вами от избытка любви…
— Ты это понимаешь… — прошептала молодая женщина с живейшей радостью.
— Да, понимаю, бедное дитя, вы ревновали…
— Рауль! Рауль! скажи мне, что я была не права?.. скажи мне, что ты меня любишь… что ты любишь только меня, что ты меня не обманывал! — вскричала Жанна с лихорадочной восторженностью.
— Конечно, ты была не права! — воскликнул Рауль, страстно прижав к губам обе руки жены. — Точно так же, как и то, что ты — самое прелестное создание на свете, ты также и самое обожаемое!.. Мысль о другой любви (хотя бы даже и на один час) не может войти в то сердце, в котором ты царствуешь, и твои ревнивые подозрения доказывают только несправедливую недоверчивость.
— Однако, — прошептала Жанна, — эта женщина… Она…
— А! ты еще не убедилась! Эта женщина, эта Антония Верди не должна внушать тебе никакого подозрения… Клянусь тебе Богом и нашей любовью, что я ее не знаю, даже никогда не видал…
— Если так, то зачем ты занимаешься ею?..
— Ты хочешь, чтобы я тебе сказал?
— Я не требую, но умоляю.
— Я имею все причины подозревать, что Антония Верди принадлежит к полиции регента, а так как эта самая полиция разыскивает меня вследствие того мнимого заговора, о котором я уже говорил тебе, то интересы мои требуют разузнать все, касающееся Антонии Верди самым подробным и точным образом.
Объяснение это вовсе не было ясным, но Жанна хотела убедить себя и почувствовала, что доверие и радость возродились в ее сердце.
Все было забыто, и медовый месяц снова засиял для молодых супругов.
Часть вторая. ЭМРОДА И К
I. Сын браконьера
Если нам удалось пролить хотя бы некоторый интерес на первые главы нашего рассказа, если нашлись благосклонные и невзыскательные читатели, которые следовали за нами до сих пор, то они, без всякого сомнения, должны были не раз спрашивать себя, что за человек этот Рауль де ла Транблэ, до сих пор такое таинственное и загадочное лицо.
Мы видели, что он располагает баснословными сокровищами, что он переписывается с регентом и носит с собой пропуск, данный принцем и написанный в таких выражениях, которые показывают самую высокую милость. Мы видели, что он дрожит за эту милость, которой, по его мнению, могло лишить его чародейство молодой итальянки. Мы видели, наконец, что он посредством обмана соединился с бедной Жанной, и слышали, как он признался маркизу де Тианжу в том, что он уже женат.
Нам кажется, что наконец настала минута рассказать читателям историю прошлой жизни нашего героя и объяснить все то, что казалось до сих пор таинственным. Впоследствии мы свяжем, как сумеем, нити, на минуту разорванные, нашего рассказа.
Лет за двадцать до той эпохи, в которую происходят рассказанные нами происшествия, в Пикардии находился старый замок, носивший название Ла-Транблэ. Этот замок, расположенный в нескольких лье от Амьена и на небольшом расстоянии от деревушки Кенуа, по справедливости знаменитой тем, что она была родиной самого великого живописца царствования Людовика XIV, бессмертного Лесюера, этот замок, говорим мы, обязан был своим названием довольно обширному лесу, состоявшему почти исключительно из осин. Странная судьба тяготела над последним владельцем этого огромного имения, маркизом Режинальдом, Гектором де ла Транблэ. Режинальду, наследнику богатой и могущественной фамилии, фортуна сначала улыбалась. Он женился на прелестной девушке, в которую был влюблен, и через несколько лет сделался отцом трех прелестных малюток, двух сыновей и дочери, на которых сосредоточилась вся любовь молодых супругов.
Но вдруг в ту минуту, когда старший мальчик достиг восемнадцатого года, странная болезнь положила его под холодный камень могилы. Это было первое горе для бедных родителей. Однако у них остались еще для утешения сын и дочь. Через год после преждевременной кончины старшего сына умерла дочь. Еще через год скончался и последний ребенок. Эти тягостные потери сильно поразили нежное сердце маркизы. Она не перенесла их и скоро последовала в могилу за тремя своими детьми.
Режинальд остался один на свете. Огромный замок, в котором некогда не прекращались шум и движение и в котором сердце маркиза наслаждалось радостями семейной жизни, родительской гордостью, неизменной и целомудренной супружеской любовью, вдруг превратился для него в одинокое и мрачное жилище, наполненное трауром и вечными слезами. Маркиз оделся в черное и поклялся никогда не снимать этой печальной одежды. Он навсегда отказался от двора и от света. Плечи его сгорбились, волосы поседели, глубокие морщины показались на лбу; в нем все изменилось, только кровавая рана его сердца не затягивалась и болезненно ныла.
Двадцать лет прошло таким образом. Режинальд позволял себе только одно развлечение, одно удовольствие: охоту. Но и на охоте, в то время как его егеря и собаки наполняли лес одни громкими звуками охотничьих рогов, а другие своим хриплым лаем, он часто оставался позади, молчаливый и погруженный в мысли, и останавливался где-нибудь на прогалине, дав своей лошади волю щипать траву и молодую зелень растений. В эти минуты слезы нередко ручьями лились из его опухших и покрасневших глаз. Режинальд ждал и желал смерти; но смерть, эта мрачная и зловещая кокетка, зная, что ее ждут и желают, не торопилась приходить.
Недалеко от ворот парка, на берегу болотистого пруда, стояла хижина самой жалкой наружности. Хижина эта, сплетенная из тростника и обмазанная глиной, имела только одно нижнее жилье с низкой дверью и с тремя или четырьмя неправильными отверстиями вместо окон. Глядя на это странное жилище, можно было подумать, что оно давно оставлено своими обитателями. Глубокие трещины виднелись на стенах, которые, казалось, готовы были обрушиться при малейшем ветре. Ползучие растения застилали полусгнившую соломенную крышу, покрытую толстым слоем зеленоватого мха. Позади домика, окруженного живым забором из шиповника, простирался небольшой садик, очень дурно содержимый.
Внутренность хижины соответствовала внешности. Бедность, даже нищета не мешают опрятности и порядку — этой роскоши бедных. Мы видали мансарды, вся мебель которых не стоила и полсотни франков, однако, они могли удовлетворить самый взыскательный взгляд. В хижине, которую мы описали, было совсем не так. В ней была только одна комната, служившая жилищем трем человекам, дюжине кур и, наконец, свинье, которая, пробродив целый день по полям, возвращалась вечером спать на гнилой соломе, лежавшей в углу комнаты. Мебель состояла из двух кроватей, одной очень большой и другой очень маленькой, стола, комода и соснового шкафа, почти пустого. Четыре хромых стула и две ветхие скамьи стояли у стен или валялись на грязном полу.
Мы сказали, что в этой хижине жили три человека: это были — отец, мать и сын. Отец, отставной солдат французской гвардии, в молодости бывший порядочным негодяем, заимствовал на службе все пороки больших городов. Он звался Роже Риго и был женат на молодой девушке, которая принесла ему в приданое только одну красоту. Муж и жена обладали в равной степени отвращением ко всякому труду. Однако, так как праздность не могла кормить их, а жить было необходимо, Роже Риго воспользовался своим искусством в стрельбе и сделался браконьером. Напрасно лесные сторожа деятельно надзирали за ним, он обманывал их бдительность и убивал у них под носом множество зайцев и куропаток, которых жена его носила продавать в Амьен, где они служили начинкой вкусным пирогам, уже и в то время славившимся по всей Европе.
Через два года после женитьбы, Роже Риго стал отцом толстого мальчишки, который получил при крещении имя Рауля. Ребенок рос и, еще не достигнув того возраста, в котором начинают проявляться первые проблески ума, уже обнаруживал странную смесь добрых качеств и самых разнородных пороков. Только пороков было гораздо больше. В семь лет маленький Рауль, наследовавший всю красоту матери и получивший от неба слишком раннее развитие, был горд и непослушен, но исполнен пылкости и деятельности и одарен безграничной смелостью, непонятной в ребенке этого возраста. Не то чтобы он не понимал опасности и подвергался ей слепо, нет, опасность привлекала его бессознательно, как пламя свечи привлекает неблагоразумных бабочек. Он любил рисковать своей жизнью и решался на самые дерзкие предприятия с такой отважностью, с таким искусством и так счастливо, что всегда выходил из них здрав и невредим.
Будучи восьми лет, Рауль без узды и без седла ездил на самых бешеных лошадях, которые паслись на местных лугах. Вскочив на лошадь, он обхватывал ее одной рукой за гриву, а другой беспрерывно бил по крестцу, сжимая своими крошечными ногами ее бока. Ему приятно было видеть, как красивое животное прыгало под ним и напрасно старалось освободиться от своего легкого и смелого всадника. Чтобы достать птичье гнездо, он влезал на кроны высоких деревьев и часто, перебираясь с одного дерева на другое, висел в воздухе, держась за ветви, так что случайный свидетель этих безумных шалостей не мог бы удержаться от испуга. Он переплывал самые быстрые и глубокие реки и однажды, вооруженный только палкой, убил бешеную собаку, от которой убежало с полдюжины крестьян с вилами и косами.
Между тем при всей своей храбрости, Рауль трепетал перед своим отцом. Отставной гвардеец был необыкновенно груб, и при неудачной охоте или в пьяном виде нередко облегчал свой несправедливый гнев побоями и издевательствами над своим бедным сыном. Не раз Рауль, наученный опытом и предвидя зверскую ярость, которой он часто бывал жертвой, убегал из родительского дома и проводил двое-трое суток в лесу.
Чем же питался он в это время? — спросит читатель. Это нисколько не затрудняло находчивого мальчика. В несколько часов он устраивал сети, в которых ловил маленьких птичек, потом разводил огонь, посредством трения двух сухих кусков дерева, и жарил своих пленников в пламени импровизированного костра. Картофель, который он собирал в поле и пек в горячей золе, заменял ему хлеб и дополнял вкусный обед. Спал он в гротах на мху и сухих листьях, заменявших, и, конечно, с выгодой, гнилую солому в доме Роже Риго. Когда он возвращался домой, его били, но он не очень печалился, довольный тем, что прожил несколько дней на свободе, не боясь грозно и постоянно висевшего над ним дамоклова меча — отцовского кулака.
Теперь, когда мы обрисовали несколькими словами характер и детство Рауля, посмотрим, каким образом сын браконьера достиг того, что занял в нашем рассказе такую важную роль.
В один осенний день — день мрачный и туманный — маркиз Режинальд с утра отправился на охоту. Стадо кабанов опустошало страну, и охотники надеялись убить одного из этих свирепых животных. Собак спустили со свор, и вся стая помчалась с быстротой молнии по прогалинам, чащам и кустарникам.
Маркиз де ла Транблэ, по своей почти неизменной привычке, в задумчивости ехал отдельно от других охотников. Маркизу Режинальду было тогда семьдесят лет. Длинные пряди серебристой белизны обрамляли его лицо, поблекшее от времени и горя; матовая, почти мертвенная бледность этого лица еще более подчеркивалась от черной пуховой шляпы и всей его одежды, по обыкновению, черной. Маркиз ехал на лошади огромного роста и необыкновенной силы. Правая рука его машинально опиралась на приклад короткого карабина, висевшего у седла. Карабин этот был черного дерева с серебряными инкрустациями — цвета траурные. Лошадь шла тихим шагом, всадник опустил поводья, погрузившись в печальные мысли. Голоса собак и звуки рогов были едва слышны вдали.
Вдруг в кустах неподалеку от того места, где находился маркиз, послышался громкий шелест, и огромный кабан (не тот, за которым охотились) бросился почти прямо под лошадь, которая задрожала от испуга. Инстинкты старого охотника тотчас пробудились. Твердой рукой схватил он карабин, прицеливался с четверть секунды и выстрелил; но пуля вместо того, чтобы поразить кабана в шею или голову и положить его мертвым на месте, только оцарапала ему хребет и еще более увеличила бешенство. Разъяренное чудовище одним скачком очутилось подле испуганной лошади и ранило ее клыком в грудь. Лошадь заржала от боли, встала на дыбы, быстро перевернулась и бросилась на боковую тропинку, которая вела в чащу. Напрасно маркиз де ла Транблэ удерживал ее, желая соскочить на землю, чтобы убить кабана своим охотничьим ножом. Наконец, он дал ей волю бежать, надеясь, что через минуту легко управится с нею, так как до сих пор она была очень послушна.
Маркиз ошибался. Окровавленная и страдавшая от боли, лошадь мчалась все быстрее и быстрее и через четверть часа, пробежав более двух лье, очутилась на широкой прогалине, оканчивавшейся глубоким оврагом, в глубине которого, между гранитными глыбами, протекал быстрый ручей. Лошадь скакала в эту сторону, ей нужно было не более трех минут, чтобы достигнуть края оврага.
По всему было видно, что если маркизу не удастся направить бег лошади в другую сторону, то и лошадь и всадник подвергнутся смерти ужасной и неизбежной. Конечно, смерть не пугала старика, но он счел бы почти самоубийством не употребить всех усилий, чтобы спасти свою жизнь. Он сильно дернул за поводья и пришпорил лошадь левой ногой, надеясь принудить ее таким образом повернуть в другую сторону, но все было бесполезно: ни поводья, ни шпоры не помогли. Лошадь не сворачивала с прямой линии, как пуля карабина. Только поводья лопнули в двух местах. Маркиз почувствовал себя погибшим. Соскочить с лошади нечего было и думать. Тогдашние седла, называемые «французскими», были высоки и заключали ноги всадника между двумя бархатными стенами, из которых невозможно было скоро высвободиться.
Маркиз де ла Транблэ заранее поручил душу Богу и вынул небольшой медальон, состоящий из двух круглых хрустальных пластинок, спаянных золотом. В медальон были вложены волосы четырех различных цветов. Эти волосы принадлежали жене и детям. Старик с жаром поцеловал медальон и прошептал:
— Я соединяюсь с ними!
Потом закрыл глаза и ожидал смерти…
В ту минуту, когда лошадь и всадник примчались на прогалину, белокурая головка показалась из-за группы молодых кустов, в нескольких шагах от оврага, о котором мы говорили. Мальчику, которому принадлежала эта головка, было около восьми лет. Он был высок и силен для своих лет и замечательной красоты, хотя одет в лохмотья. Черты его выражали решимость и ум. Возле него, на траве, лежало несколько пар убитых птиц, связанных вместе за лапы кожаным ремнем. Быстрый и громкий топот лошади, сильно ударявшей копытами о твердую землю, разбудил мальчика от глубокого и спокойного сна. Проснувшись, он подумал, что какой-нибудь смелый охотник мчится по прогалине во всю прыть для своего удовольствия, но, встав с места и взглянув на всадника, тотчас узнал маркиза де ла Транблэ. Для него было достаточно одной минуты, чтобы понять, что маркиза несет взбесившаяся лошадь и что он подвергается угрозе неминуемой смерти.
Мальчик не колебался ни минуты, выскочил из своего убежища и смело встал между лошадью и пропастью. Если бы маркиз Режинальд мог видеть это движение, он, конечно, задрожал бы от ужаса, угадав безумно смелое намерение мальчика, и закричал бы ему, чтобы он посторонился, но в это время у маркиза были закрыты глаза.
Между тем лошадь все скакала. Дыхание ее было шумно, бока приподнимались, густой пар вырывался из ее красных и горячих ноздрей… Менее чем в десять скачков она могла доскакать до оврага и обрушиться в него. Быстрее молнии пролетела она мимо мальчика, но тот, с проворством дикой кошки, бросился к ее голове и схватился обеими руками за мундштук. Оглушенная этим внезапным нападением, лошадь встала на дыбы и тряхнула головой, чтоб сбросить с себя новую тяжесть. Однако смелый мальчик не выпустил мундштука. Настала минута борьбы между двумя противниками, но борьба эта была непродолжительна, потому что лошадь, истощенная уже своим безумным бегом, скоро повалилась на землю, сильно ударившись головой о грудь своего победителя.
Маркиз де ла Транблэ был спасен, но спаситель его лежал на земле без чувств и весь в крови.
Этот мальчик (читатели наши без сомнения уже угадали) был не кто иной, как Рауль Риго, сын браконьера.
В ту минуту, когда маркиз Режинальд понял, что опасность миновала, и, высвободив свою правую ногу, попавшую под бок упавшей лошади, старался разгадать, чья благодетельная и неожиданная помощь спасла его, он вдруг приметил бесчувственное тело Рауля, сжатые руки которого все еще не оставляли мундштука. Маркиз поспешил поднять ребенка и посадил его, прислонив к стволу старого дерева. Он дотронулся трепещущей рукой до сердца Рауля, чтобы удостовериться, бьется ли оно, потом спустился в овраг и принес оттуда в своей пуховой шляпе холодной воды. Этой водой он обмыл неглубокую рану на груди мальчика. Оживленный ощущением внезапной свежести, мальчик скоро опомнился и раскрыл томные глаза. Он приметил Режинальда де ла Транблэ, наклонившегося над ним. Седые волосы маркиза почти касались его белокурых кудрей. Мальчик старался встать, и бледные губы его прошептали с выражением уважения:
— Маркиз… маркиз…
Режинальд закрыл рукой рот Рауля и сказал:
— Берегись, милое дитя, не говори пока… пусть кровь перестанет волноваться… пусть спокойствие возвратится к тебе…
Несмотря на кроткое увещание старика, Рауль быстро вскочил, покачал своей очаровательной головкой и отвечал:
— О! Я спокоен, маркиз, я не страдаю и никогда не чувствовал себя крепче и здоровее. Посмотрите…
Говоря это, он выпрямил свой стройный и тонкий стан и расправил грудь, еще запятнанную красными каплями.
— Посмотри, — сказал Режинальд, — кровь еще течет из твоей раны.
— Пустяки, — отвечал мальчик, — это царапина!.. Если я пойду на войну, маркиз, и получу меткую пуля или добрый удар шпагой, так ли еще потечет кровь!.. Притом кровь жидка, стало быть она создана для того, чтобы течь.
Маркиз не мог не улыбнуться живости Рауля и его мужеству. Он устремил долгий и проницательный взор на того, кто говорил таким образом, и был поражен, еще более, чем прежде, истинно аристократической наружностью маленького крестьянина, грубая одежда которого не могла скрыть его благородной и непринужденной осанки. Он любовался огненным взором Рауля, грациозными очертаниями его лица, гордостью походки, изяществом движений, потом прошептал:
— Это ребенок необыкновенный!
II. Роже Риго
Рауль выдержал продолжительный осмотр маркиза с легкой непринужденностью, в которой, однако, не было ничего слишком смелого и бесстыдного. Маркиз положил на голову ребенка свою бледную, худую руку, и сказал:
— Знаешь ли, что Господь свел тебя со мною затем, чтобы спасти мне жизнь?
— Господь все делает хорошо, — отвечал Рауль.
— Как могла прийти тебе в голову мысль остановить бешеную лошадь? Ты так слаб, ты еще дитя. Знаешь ли, что твой поступок был безумен…
— Маркиз, — сказал мальчик, — я видел, что вы не можете справиться с вашей лошадью, что поводья оборвались и что вы погибли, если вам не помочь. Я нисколько не рассуждал о том, что делал, и хотя вы называете мой поступок безумным, но, как видно, он вовсе не таков, если мне удалось помочь вам.
Маркиз изумился удивительному хладнокровию и непритворной скромности мальчика.
— Ты храбр! — вскричал он наконец, — храбр, как старый солдат!
— Не знаю, — возразил Рауль.
— Как? Что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, что не знаю, храбр ли я; я только ничего не боюсь, вот и все.
Это было тонкое различие. Услышав его, маркиз не мог удержаться от улыбки во второй раз.
— Дитя мое, — сказал он, — ты здешний?
— Разве вы никогда меня не видали, маркиз? — спросил Рауль с удивленным видом.
— Нет, не видал, по крайней мере никогда не замечал…
— Я местный.
— Как тебя зовут?
— Рауль.
— Как зовут твоего отца?
— Роже Риго.
Маркиз нахмурил брови.
— Отставной гвардейский солдат?
— Да, маркиз.
— Беден он, не так ли?
— Очень беден.
— И живет браконьерством, как говорили мне лесные сторожа, — прибавил маркиз.
— Ваши сторожа солгали! — с гордостью вскричал Рауль.
«О чем я говорю с этим ребенком? — подумал маркиз. — Сын не может и не должен обвинять отца!»
Наступила минута молчания, потом Режинальд продолжал:
— У отца твоего много детей?
— Нет, я один.
— Твой отец тебя любит?
— Не думаю.
— Стало быть, он дурно обращается с тобой?
— Иногда.
— К чему он тебя приучает?
— Ни к чему. Он научил меня только читать. Он сам больше ничего не знает, и я также.
— Хочешь ты научиться чему-нибудь другому?
— О! да!.. Но это невозможно!
— Думал ли ты когда-нибудь о будущем?
— А что такое будущее, маркиз?
— Это время еще отдаленное, в которое ты перестанешь быть ребенком и станешь взрослым мужчиной.
— Да, я часто об этом думал.
— Что же ты намерен делать, когда наступит это время?
— Как только вырасту, я определюсь в солдаты, пойду на войну, чтобы возвратиться офицером и богатым.
— Разве ты хочешь иметь деньги?..
— Очень хочу.
— Зачем?
— Затем, что отец мой твердит беспрестанно, что человеку богатому не остается ничего желать, и что тогда пользуешься всеми удовольствиями и всевозможным счастьем на свете.
Маркиз вздохнул и обратил к небу глаза, наполнившиеся слезами, потом с грустью прижал к губам медальон с волосами тех, которых он так любил и которых еще до сих пор оплакивал. Рауль приметил эту грусть и не сказал более ни слова. Маркиз де ла Транблэ продолжал:
— Дитя мое, я сам хочу отвести тебя к отцу и сказать ему, что я обязан тебе жизнью…
— Как хотите. Только, пожалуйста, постарайтесь, чтобы он не прибил меня, а то вот уже два дня, как я убежал из дома…
— Будь спокоен, он до тебя не дотронется; но скажи мне, дитя мое, зачем ты убежал от отца.
— Я боялся, чтобы он не прибил меня.
— Что же ты сделал?
— Ничего.
— Однако же гнев твоего отца против тебя должен был иметь какую-нибудь причину, я полагаю…
— Никакой. У него не было денег, но ведь я в этом не виноват… а когда у него нет денег, он всегда бьет меня. Должно быть это его утешает.
— Бедное дитя! — прошептал маркиз.
— Итак, — спросил Рауль, — мне сегодня нечего бояться?
— Нечего, — отвечал Режинальд, — и сегодня и никогда!
— Если так, — весело вскричал ребенок, — я охотно пойду с вами.
Рауль сделал несколько шагов за маркизом, который подходил к своей лошади; но вдруг его румяные щеки побледнели, кровь потекла из раны, ноги подогнулись и он упал на траву. Испуганный этим неожиданным припадком, маркиз снова принялся ухаживать за Раулем, который почти тотчас же пришел в себя и встал, говоря:
— Ну вот все и кончилось…
— Хорошо, — вскричал маркиз, — но все-таки я вижу, что ты не в состоянии дойти до дому пешком.
— Ах, нет! Я дойду как нельзя лучше… — отвечал Рауль.
— Я не позволю…
— Если вам не угодно, я останусь здесь…
— Нет…
— Но ведь вы сами сказали, что не хотите, чтобы я шел…
— Ну да… я возьму тебя к себе на лошадь. Ты не будешь бояться ехать таким образом?
— Бояться! — повторил Рауль с насмешкой. — Я сам умею ездить верхом!
— Право? — сказал маркиз шепотом несколько недоверчивым.
Этот тон задел за живое непомерное самолюбие ребенка, силы которого на время возвратились. Он подбежал к лошади, которая присмирела от жестокого урока, полученного ею, и спокойно жевала траву, которую мундштук не позволял ей проглотить. Рауль вскочил на седло, подобрал оборванные поводья, ударил лошадь по боку и пустился в галоп, заставив ее перепрыгнуть через ствол упавшего дерева. Маркиз смотрел на это с возрастающим изумлением и шептал про себя:
«Я не ошибся, это ребенок необыкновенный!.. Как жаль, что он не мой сын!..»
Рауль соскочил с лошади.
— Теперь вы видите, маркиз, что я сказал правду, — пролепетал он, голосом едва внятным, потому что новая слабость овладела им, кровь начала течь опять и бледность увеличилась.
Маркиз обвязал платком грудь Рауля и, посадив его на лошадь впереди себя, поехал шагом в деревню, куда, по всей вероятности, не должен был возвращаться никогда. Дорогой он продолжал с Раулем разговор, начало которого мы рассказали, и при каждом ответе мальчика все более и более удивлялся его здравым суждениям и необыкновенно быстрой понятливости. Часа через полтора маркиз остановил свою лошадь у хижины браконьера и позвал его. На этот зов вышла только жена Роже, потому что самого браконьера не было дома. Маркиз передал ей Рауля, рассказал в нескольких словах, что случилось, и попросил ее сказать мужу, чтобы он пришел в замок, как только вернется. Крестьянка обещала.
Приехав домой, маркиз опустился в широкое кресло возле окна в гостиной и погрузился в продолжительные и глубокие размышления. Он думал, что само Провидение свело его с Раулем, и спрашивал себя, не указывало ли оно ему тем самым, что этот ребенок должен был заменить для него сыновей, которых он лишился. Мысль усыновить Рауля и сделать его наследником своего имени и состояния возникла в его уме.
У маркиза не было других наследников, кроме довольно дальних родственников; но все они были сами богаты, носили другую фамилию, и притом маркиз был совершенно равнодушен к ним. Между многочисленными горестями его жизни одна заключалась в мысли, что его старый замок и обширные земли увеличат, после его смерти, уже без того огромное состояние его родственников. С другой стороны, в сердце маркиза зарождалась живейшая привязанность, непреодолимое сочувствие к непонятному ребенку, к этому маленькому крестьянину, столь грациозному и столь храброму, пролившему кровь ради него. Может быть, эта привязанность примирит его с жизнью и наполнит утешением и радостью дни его старости? Притом вне всех этих уважительных причин не было ли еще такой, которая одна должна была сильно перевешивать весы?.. Вырвать Рауля из рук жестокого и злого отца и доставить молодому орленку средства распустить свои крылья не значило ли совершить благочестивое и благотворительное дело — дело, внушенное самыми простыми и самыми сладостными чувствами признательности?
Вот что маркиз де ла Транблэ повторял себе, когда камердинер вошел в гостиную и доложил, что крестьянин Роже Риго пришел в замок по его приказанию.
— Приведи его сюда, сию же минуту, — отвечал старик.
Узнав от жены о том, что случилось утром, браконьер почуял прибыль, обласкал Рауля вместо того, чтобы избить его по обыкновению, тотчас надел лучшее платье и, не теряя ни минуты, побежал в замок.
Камердинер ввел его к маркизу. Отцу Рауля было около сорока лет. Высокий, сильный, он мог бы считаться красавцем, в самом пошлом значении этого слова; то есть, у него были очень широкие плечи, крепкие ноги и мускулистые руки, как у тех странствующих Алкидов, которые на ярмарках и на публичных площадях, поднимают тяжести в четыреста фунтов. Ухватки его выказывали военную крутость, и он продолжал носить длинные и черные, кверху загнутые усы, как будто все еще находился в службе. Его энергичное лицо, загорелое от солнца и от всяких непогод, выражало грубые и неистовые страсти; взгляд не был чистосердечен, а улыбка тонких губ как будто всегда скрывала ложь.
В этот день он надел чистую белую рубашку, повязал вокруг своей бычьей шеи галстук и натянул на плечи драгетовый полукафтан, на котором красовалось несколько заплат. Длинные кожаные штиблеты, сжимавшие его икры, намекали на занятие браконьерством. Наконец он держал в руке нечто в роде фуражки, цвет и форму которой нельзя было различить.
В ту минуту, когда Роже Риго вошел в гостиную, кланяясь до земли, маркиз Режинальд встретил его грациозным движением и сделал знак подойти. Браконьер повиновался. Он сделал несколько шагов и встал против маркиза неподвижно и прямо, как солдат под ружьем.
— Друг мой, — сказал ему маркиз, — если ты пришел, то, вероятно, уже видел свою жену.
— Видел, маркиз, — отвечал Роже.
— Без всякого сомнения, она сказала тебе, что твой сын спас мне жизнь…
— Да, я слышал, что мальчику посчастливилось оказать вам услугу, и благословил случай…
— Скажи лучше: Провидение…
— Да, маркиз, Провидение.
— Знаешь ли, что у тебя драгоценный сын?
— Мальчик добрый, я не спорю.
— Любишь ли ты его так, как он заслуживает быть любимым?
— Всякий любит по-своему, маркиз. Мы, бедняки, не можем любить наших детей так, как любят своих детей люди богатые и вельможи… Я иногда колочу мальчишку, когда он этого заслуживает, разумеется, а он заслуживает это часто. Но вы знаете пословицу, господин маркиз: кого люблю, того и бью.
— А! — возразил маркиз с улыбкой, — кажется, в этом смысле ты любишь его чересчур.
— Разве мальчишка жаловался на меня?
— Напротив, он заступался за тебя.
— Это был его долг! — прошептал браконьер. — Он знает, что я его люблю.
— Согласишься ли ты расстаться с ним?
— Расстаться?.. зачем?
— Все равно… отвечай на мой вопрос.
— Надо прежде подумать, маркиз… Если это для его счастья… и для моего, — прибавил Роже про себя.
— Если бы какой-нибудь знатный и богатый человек взял к себе твоего Рауля и дал тебе слово обращаться с ним, как со своим собственным сыном, согласился бы ты на это предложение?
— Если бы мне предложили… но мне не предлагают…
— Ошибаешься!
— А разве предлагают?
— Положительно.
— Кто?
— Я.
— Вы, маркиз? — вскричал Роже, притворившись глубоко удивленным.
Мы говорим, притворившись, потому, что хитрый крестьянин давно уже угадал, чего хотел маркиз, и думал только о том, как бы извлечь побольше выгод из договора, который приготовлялся заключить с ним.
— Вы, маркиз? — повторил он во второй раз.
— Я, — отвечал снова старик.
— О! если так, то согласиться можно… но вы понимаете, что я не могу отвечать сейчас…
— Отчего же?
— Дело важное, маркиз…
— Без сомнения, но я желаю, чтобы ты тотчас же решился.
— Подумайте, вы говорите мне о разлуке с сыном, а отцовское сердце всегда обливается кровью при этой мысли…
Подобная пародия на родительскую любовь возмутила маркиза. Однако он выразил свое отвращение только тем, что перебил Роже, сказав:
— Если ты действительно любишь своего сына, как говоришь, то не должен колебаться в желании доказать ему свою нежность и обеспечить его будущее.
— Маркиз, — философски заметил Роже, — богатство еще не приносит счастье!..
— Так, но по крайней мере оно способствует к нему.
— Притом, видите ли, мальчик мне помогает кое в чем… Я не могу обойтись без него…
— В чем же он помогает тебе? — спросил маркиз,
— Не могу вам объяснить этого в точности, но ребенок его лет всегда полезен в хозяйстве бедных людей…
— Потому-то я и намерен щедро вознаградить тебя за потерю, которую причинит тебе его отсутствие.
Этих слов Роже Риго ожидал с нетерпением с самого начала разговора. Маркиз коснулся единственной чувствительной струны в его сердце.
— Вы сказали, маркиз, — спросил браконьер, — что желаете взять моего мальчишку к себе?
— Да.
— Скоро?
— Сегодня же, сейчас же…
— Навсегда?
— Да, навсегда.
— Ну, маркиз, может быть, я и найду средство исполнить ваше желание…
— Каким образом?
— Рауль мой сын, мое добро, моя собственность. Он принадлежит мне, как Франция принадлежит королю. Я имею право оставить его у себя или отдать, словом, располагать им как мне вздумается…
— Никто этого не оспаривает.
— И если, — продолжал Роже свое рассуждение, — я соглашусь расстаться с мальчишкой, то единственно для его счастья, как вы сейчас сказали, маркиз.
— Потом?
— Конечно, я хочу, чтобы мой сын был счастлив… это самое большое мое желание, но мне кажется несправедливым, что мальчишка будет жить в полном довольстве, тогда как у меня нет ничего. Мне кажется несправедливо, что он будет спать на перине, а я на соломе, что у него будет десять блюд за обедом, между тем, как я буду умирать с голоду…
— Конечно, — подтвердил маркиз, — это было бы несправедливо…
— Как же быть?
— А вот я сейчас объясню тебе это…
Роже весь превратился в слух.
— Ты будешь, — продолжал маркиз, — получать от меня ежегодное содержание, которое доставит тебе мягкую постель, хороший стол, спокойную будущность…
Браконьер задрожал от радости.
— Как велика будет эта сумма, маркиз? — спросил он льстивым голосом.
— Назначь сам.
Роже подумал с минуту, потом сказал:
— Если я не ошибаюсь, маркиз, вы упомянули о ежегодном содержании?
— Ты не ошибаешься.
— Мне кажется, что тысяча двести франков…
— Ты их получишь, — с живостью отвечал маркиз.
«Я попросил слишком мало, но наверстаю на другом», — подумал Риго и потом сказал:
— Эта сумма, назначенная по контракту, будет выплачиваться мне пожизненно?
— Разумеется.
— А после моей смерти перейдет к моей жене?
— Да.
— Если вы уж так добры, маркиз, то не пожалуете ли еще единовременно триста ливров, чтобы перестроить мой бедный домишко?..
— Согласен.
— Не согласитесь ли также давать мне через каждые два года по две бочки водки?
— Хорошо.
— Наконец…
— Как! Еще что-нибудь?..
— О! почти ничего, маркиз! Простое позволение охотиться на вашей земле и в ваших лесах, с ружьем и без собаки, единственно для удовольствия.
Маркиз колебался. Как все помещики той эпохи, он очень дорожил своими охотничьими привилегиями, но тотчас же рассудил, что такой Роже, опасный браконьер, истреблял украдкой не меньше дичи, чем мог бы настрелять явным образом, и согласился.
— Ты получишь это позволение, — сказал он.
— Не знаю, право, как и благодарить вас, маркиз! — вскричал крестьянин.
— Теперь все кончено, не правда ли? — спросил маркиз. — Твой сын принадлежит мне?..
— Совершенно, маркиз, он перестает быть моей собственностью и становится вашей… Я отказываюсь от всех моих прав на него и уступаю их вам… тяжела для меня эта жертва, маркиз, но я приношу ее единственно для пользы моего милого малютки…
Маркиз снова перебил бесстыдного притворщика и сказал:
— Завтра будет подписано условие о получении тобою пожизненной пенсии. Теперь ступай за своим сыном и приведи его ко мне.
Браконьер тотчас вышел и скоро вернулся назад с сыном. Таким образом Рауль Риго вступил в замок Транблэ.
III. Режинальд и Рауль
Предчувствия и надежды маркиза де ла Транблэ не замедлили осуществиться. Присутствие Рауля возвратило в замок и в сердце маркиза если не радость, то, по крайней мере, жизнь. Улыбка, так долго не освещавшая бледных губ Режинальда, снова, хотя и изредка, начала появляться. Шумные игры, веселые крики ребенка заменили в длинных коридорах и в обширных залах угрюмое безмолвие могилы. Маркиз де ла Транблэ начал опять любить.
Едва вступив в среду богатства и знатности, Рауль привык к ним так скоро, что можно было подумать, будто он от самого рождения воспитан в аристократических привычках и что благородная кровь дворянского рода текла в его жилах. По всему было видно, что если бы Рауль не имел беспрерывно перед своими глазами бедной хижины, в которой родился, он скоро уверил бы себя, что в его происхождении нет ничего плебейского.
Мы узнаем, каковы были намерения Режинальда относительно Рауля. Старый маркиз предполагал после нескольких лет испытания усыновить его законным образом, получить от короля право передать ему имя и герб ла Транблэ и оставить ему, как единственному сыну, свое огромное богатство. Но эти планы в глазах Режинальда могли осуществиться только в таком случае, если Рауль окажется достойным тех милостей, которые ожидали его в будущности. Прежде всего надо было образовать сердце и развить способности молодого человека. Гувернеру с неоспоримыми достоинствами поручено было заняться воспитанием Рауля. Под искусным руководством этого наставника сын браконьера делал быстрые успехи и превзошел ожидания маркиза. Горячий, пылкий, решительный, Рауль обратил к труду всю свою горячность, всю пылкость, всю решимость. Твердыми и верными шагами шел он по той трудной и усыпанной терниями тропинке, которой наука окружает доступ к себе, шел прямо к цели, не отступая ни на шаг, перепрыгивая через препятствия, вместо того чтобы обходить их.
Рауль едва достиг шестнадцатого года, а наставник уже находил, что более нечему было учить его. Тогда-то старый маркиз насладился всем счастьем той искусственной родительской любви, которую он создал себе. Свободный от занятий, Рауль сделался для маркиза неразлучным товарищем. Молодой человек сопровождал его на охоту. Маркиз, казалось, помолодел на десять лет. По вечерам они часто играли в шахматы. Рауль сделался очень силен в этой трудной игре. Потом маркиз, думая, что молодому человеку нужно другое общество, кроме общества старика, раскрыл двери своего замка для соседнего дворянства, и с той поры в замке каждый день бывали многочисленные собрания, праздники, карусели. Рауль торжествовал над всеми своими соперниками изящным обращением, грациозной осанкой, несравненной ловкостью, так же, как и роскошью и великолепием одежды. Маркиз Режинальд не ставил границ своей щедрости относительно Рауля и расточал молодому человеку столько золота, что тот, не зная, как употребить его, откладывал часть в железную шкатулку, которая стояла у него в комнате и наполнялась с каждым днем все более и более.
Теперь если нас спросят, какое же место занимали в привязанности Рауля те, которым он обязан был жизнью, мы, к сожалению, должны будем ответить, что молодой человек вовсе не думал о них. Рауль не любил родного отца, и это отвращение если не извинительно, то, по крайней мере, сколько-нибудь понятно, но нам кажется странным, что он как будто совершенно позабыл о своей матери, на которую никогда не мог пожаловаться. Он даже негодовал на эту бедную женщину, зачем она произвела его на свет в таком жалком и неизвестном состоянии; он нарочно делал крюк, чтобы не проходить мимо хижины, в которой жила она и, не желая прямо ее смерти, не заплакал бы, узнав о том, что она умерла.
Конечно, все это доказывало глубокую сухость души молодого человека и беспредельную гордость. И действительно, Рауль от всего сердца отдал бы все материальное счастье, которым вполне наслаждался, чтобы только иметь право назваться сыном какого-нибудь знатного дворянина, хоть бы и бедного.
«Если бы маркиз де ла Транблэ был моим отцом, — думал он, — меня называли бы графом, а не просто мосье Раулем, как называют теперь».
Это были тяжелые раны для непомерного самолюбия молодого человека, но Рауль старательно скрывал их, и маркиз Режинальд не подозревал ничего.
Таким образом прошло два года. Сын браконьера сделался бесспорно самым красивым, самым изящным молодым человеком во всей стране. Когда он ехал на своей великолепной серой лошади, молодые девушки долго следовали за ним взором и сердца их провожали его, когда глаза уже не видели более. В окрестностях даже говорили, и мы готовы верить этим слухам, что будто две знатные владетельницы в Пуату краснели и робели в его присутствии и вздыхали, думая о нем.
В тот день, когда Раулю исполнилось восемнадцать лет, камердинер маркиза вошел в его комнату, немного ранее десяти часов утра, и сказал, что маркиз де ла Транблэ просит его пожаловать к нему. Рауль быстро оделся и побежал к своему приемному отцу. Как только молодой человек вошел в комнату, в которой ожидал его старик, тот встал со своего кресла, подошел к нему, обнял обеими руками, поцеловал в лоб с глубокой нежностью и сказал:
— Да благословит тебя Господь, дитя мое, как благословляю я, и да позволит — я прошу Его об этом на коленях, — чтобы год, начинающийся для тебя, превзошел счастьем кончившийся!..
Рауль разделил отчасти волнение, с каким были произнесены эти слова. В свою очередь он обнял маркиза и прошептал:
— Благодарю, добрый батюшка, благодарю вас за вашу нежность, и да продлит Господь мою жизнь, чтобы я мог посвятить ее вам!..
— Дитя мое, — сказал маркиз де ла Транблэ, взяв Payля за руку и указывая ему на стул возле себя, — садись нам надо поговорить…
Рауль повиновался и молча ожидал, чтобы маркиз Режинальд начал разговор. Лицо старика дышало, как всегда, самой нежной любовью, но вместе с тем в нем видно было выражение какой-то необыкновенной торжественной важности. Вероятно, разговор предстоял серьезный и о самом важном предмете. Маркиз начал его таким образом:
— Милое дитя, сегодня тебе минуло восемнадцать лет… десять лет прошло с тех пор, как мы живем вместе и я смотрю на тебя, как на сына… С того дня, как ты в первый раз переступил через порог моего дома, я не пренебрег ничем, что казалось мне необходимым для обеспечения твоего счастья… Я старался развить твое тело и образовать ум; мне удалось и то и другое, и ни болезнь тела, ни пороки, эти болезни души, не приблизились к тебе… кажется, тебе не за что упрекать меня, не правда ли, Рауль?
— О! батюшка, батюшка… — вскричал молодой человек. Упрекать?!. Что вы говорите? Мне упрекать вас!.. когда, напротив, я не нахожу слов, как выразить перед вами достойным образом мою глубокую и вечную признательность!..
Маркиз дружески знаком остановил Рауля и продолжал:
— Дитя мое, я счастлив, бесконечно счастлив, что могу сказать тебе это… ты исполнил все мои желания, превзошел все мок надежды!.. Ты моя радость, мое утешение… я горжусь тобою, и нет во всем прекрасном французском королевстве ни одного дворянина, который не почувствовал бы подобной гордости, если бы имел сына, похожего на тебя!..
Выказывая притворную скромность, Рауль хотел было прервать маркиза, но старик продолжал:
— Я хорошо узнал тебя, дитя мое. Ты добр, сердце у тебя благородно, а душа возвышенна. Может быть, я способствовал развитию блистательных способностей и прочных добродетелей, которыми ты можешь хвалиться по справедливости. Эта мысль будет радостью последних минут моей жизни… Настал день, в который ты должен получить справедливую награду. Эта награда будет достойна твоих высоких качеств. До сих пор, ты был моим сыном только по сердцу, отныне ты будешь моим сыном по закону —
Старик замолчал. Рауль, никогда не подозревавший о намерениях маркиза, прошептал:
— Батюшка, что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, — отвечал маркиз, — что отныне законный акт усыновления должен связать нас друг с другом неразрывно, что я выпрошу у короля позволение передать тебе мой герб, фамилию и титул и представлю тебя всем моим вассалам и арендаторам, как моего единственного сына и наследника…
Старик снова замолчал.
Рауль думал, что это сон. Он был ослеплен и как будто уничтожен блестящей перспективой, открывавшейся перед ним. Последние слова маркиза де ла Транблэ взволновали его. Как! Он, сын ничтожного браконьера, вдруг очутился на самой высокой ступени общественной лестницы, вдруг сделается богачом, знатным дворянином, которому все будут завидовать… сегодня он граф де ла Транблэ, потом маркиз… Он женится на какой-нибудь молодой девушке из хорошей фамилии, поедет ко двору, сделается любимцем короля, который даст ему полк, окружит его почестями!.. Кто знает, где назначен предел его счастья?..
Менее чем в одну минуту эти ослепительные мечты промелькнули в воображении Рауля. Уверив себя, что все это, в самом деле, может осуществиться, молодой человек бросился на колени перед маркизом Режинальдом, покрыл поцелуями и слезами радости его ноги и пролепетал искренние и пылкие уверения в беспредельной признательности.
Маркиз тотчас прекратил эти излияния.
— Довольно, милое дитя, ты теперь знаешь мое неизменное намерение. Через месяц оно исполнится непременно. Завтрак должен быть готов, сядем за стол, а потом поедем верхом… Сегодня я очень расположен поохотиться на зубров, и не знаю почему, но мне кажется, что у нас будет славная охота!..
Рауль последовал за маркизом, и через час они оба уже скакали по густой аллее леса. Проезжая под сводом высоких дубов, Рауль невольно нагибался. Будущий наследник рода маркизов де ла Транблэ боялся ушибить о гигантские ветви свой лоб, сиявший гордостью!..
IV. Охота на кабана
Прошла неделя после происшествий, которые мы рассказали нашим читателям в последней главе. Режинальд принял все нужные меры для полного и совершенного исполнения своей воли. Письмо к королю было написано, и курьер уже получил приказание быть готовым отвезти это письмо в Версаль. Маркиз написал законным образом акт усыновления, оставалось только подписать этот акт. Еще несколько часов, и Рауль должен был достигнуть ослепительной цели, о которой он еще недавно не смел даже и мечтать.
В этот день маркиз пригласил человек десять соседних дворян на большую охоту на кабанов. Назначено было ехать в восемь часов утра и завтракать в лесу, между тем, как егеря с собаками будут отыскивать следы зверя.
В ту минуту, когда пробило восемь часов, соседние дворяне, приглашенные маркизом, собрались уже на парадном дворе замка, но Режинальд, вопреки своим привычкам, запаздывал. Рауль заменял его и принимал со своей обычной любезностью гостей своего приемного отца.
Наконец маркиз вышел. Пока он проходил через широкую стеклянную дверь, которая вела из передней на крыльцо, Рауль при виде его не мог удержаться, чтобы не вскрикнуть от удивления и испуга. Маркиз был очень бледен. Он шел с трудом, и взгляд его больших глаз, до сих пор такой гордый, проницательный и исполненный жизни, казалось, был мрачен и как бы покрыт туманом. Рауль одним прыжком перепрыгнул ступени крыльца и, очутившись возле старика, спросил с живостью:
— Что с вами, мой добрый батюшка?.. Боже мой!.. Что с вами?..
— Со мною, дитя мое? — отвечал Режинальд. — Ничего, уверяю тебя.
— О! — сказал Рауль. — Вы страдаете!..
— Вовсе нет.
— Вы не были больны ночью?
— Нисколько, но к чему эти вопросы?..
— У вас болезненный вид. Мне показалось, что вы нездоровы и я встревожился. Я очень рад, что ошибся!..
— Благодарю за твое беспокойство, — сказал старик, улыбаясь. — Милое дитя, оно мне доказывает, как ты меня любишь, но повторяю: оно безосновательно. Правда, проснувшись сегодня утром, я нашел, что голова моя немножко тяжела, и пока камердинер одевал меня, со мною сделалось головокружение, но теперь все прошло… Если на лице и остались еще какие-нибудь следы этой легкой дурноты, то, без сомнения, утренняя свежесть и движение совершенно рассеют их…
Маркиз, не опираясь даже на руку Рауля, сошел со ступеней и подошел поздороваться со своими гостями.
— На лошадей, господа! — сказал он потом.
Но в ту минуту, когда старик, желая подать пример другим охотникам, ухватился рукой за гриву своей лошади и совал ногу в стремя, он вдруг принужден был остановиться. Рука его не имела силы, а сам он зашатался и, наверно, упал бы, если б один из егерей не поддержал его. Яркая краска вдруг покрыла лицо маркиза.
— Батюшка… батюшка!.. вскричал Рауль. — Ради Бога, откажитесь от этой охоты!..
— Нет! — отвечал маркиз с непривычной резкостью. — Разве я дряхл до такой степени, что должен слечь в постель оттого, что со мною сделалось маленькое головокружение?.. Напротив, я хочу охотиться, и держу пари, что превзойду всех вас!..
Говоря таким образом, Режинальд сел на седло и пришпорил лошадь, закричав:
— В галоп, господа!.. В галоп!.. Кто меня любит, за мной!..
Завтрак был приготовлен в прогалине, под ветвями огромного дерева. Он состоял из холодного мяса, фруктов и из большого количества бутылок лучших испанских и французских вин. Все сели на траву, и начали завтракать с аппетитом, еще более возбуждаемые прохладой легкого утреннего ветерка. Завтрак был очень весел. Режинальд пил и ел много и беспрестанно разговаривал. Посреди общего разговора один Рауль был мрачен, озабочен, задумчив. Откуда происходила эта грусть, которую, казалось, ничто не должно было оправдывать? Он сам не мог бы ответить на этот вопрос. Только странное и печальное предчувствие сжимало ему сердце.
Отдаленный и хриплый лай повторился вдруг шестьюдесятью голосами всей стаи и громко огласил лес. Кабана выгнали. Тотчас рюмки были наполнены и осушены в последний раз. Собеседники бросили салфетки и побежали к своим лошадям. Режинальд не из последних сел на седло. Охотники быстро поскакали в том направлении, куда побежали собаки. Рауль дал себе слово не расставаться ни на минуту с маркизом, но старик, проехав с полмили вместе с другими, вдруг повернул лошадь на боковую тропинку, пересекавшую лес поперек. Рауль поскакал за ним. Однако потому ли, что у маркиза лошадь была лучше, нежели у его приемного сына, или старик пришпорил ее, только он скоро значительно опередил Рауля. Молодой человек потерял его из вида, но упорно старался догнать и скакал за ним до тех пор, пока не очутился на таком месте, где сходились три тропинки, ведущие совершенно в противоположные стороны. Не зная, по которой поехал маркиз, Рауль остановился, чтобы поразмыслить, на что ему решиться.
Размышления его продолжались недолго: почти тотчас же он услыхал с левой стороны голоса собак и звуки рогов. Без всякого сомнения, Режинальд поехал в ту сторону. Рауль снова пустил свою лошадь в галоп, чтобы присоединиться к охотникам, в уверенности, что найдет между ними и маркиза. Через несколько минут молодой человек очутился посреди группы дворян, остановившихся в аллее, но маркиз еще не приезжал. В этом, конечно, не было ничего особенно удивительного, потому что маркиз, попав, может быть, на какую-нибудь запутанную тропинку, заблудился, но мог приехать с минуты на минуту. Это предположение было очень правдоподобно, однако Рауль невольно побледнел и задрожал.
— Маркиз сейчас приедет! — говорили охотники.
«Он не приедет!»— отвечал мысленно Рауль.
В ту же минуту в лесу послышался сильный топот лошади, которой было еще не видать.
— Это должен быть он! — вскричал кто-то.
Сердце Рауля перестало биться. Ветви, закрывавшие тропинку, почти непроходимую, раздались, и лошадь, топот которой слышали охотники, бросилась в аллею. Она была без седока и пустые стремена бились о бока ее, покрытые пеной. С громким ржанием пронеслась она мимо охотников и продолжала свой неистовый бег. Глухой крик вырвался из сжатого горла Рауля.
— Ах! Я это предчувствовал! — прошептал молодой человек. — Я предвидел, что с моим отцом случится несчастье!..
И он бросился на тропинку, откуда прибежала лошадь маркиза. Другие охотники последовали за ним, разделяя его ужас и как бы предугадывая какое-нибудь ужасное происшествие. Рауль пролетел как молния сквозь сеть густо разросшихся ветвей, которые до крови раздирали ему лицо и руки. Молодой человек не чувствовал царапин, кровь текла, а он не примечал этого. На каждом шагу сердце говорило ему, что скоро он увидит душераздирающее зрелище.
Наконец он очутился на том месте, где тропинка, по которой он скакал, выходила на аллею довольно широкую.
Маркиз лежал тут распростертый на земле, ничком. Рауль глухо вскрикнул, соскочил с лошади и, став на колени возле своего приемного отца, приподнял его и приложил руку к сердцу, как бы желая убедиться, жив ли он. Молодой человек делал для маркиза де ла Транблэ то же самое, что маркиз для него в этом самом лесу десять лет тому назад.
Сердце Режинальда уже не билось. Рауль прижимал к своей груди безжизненный труп с лицом почти черным. Старик умер от апоплексического удара.
V. Наследники
Когда спутники Рауля подъехали, в свою очередь, к безжизненному телу маркиза, когда несчастный молодой человек наконец убедился, что страшный удар, поразивший его, был невозвратен, отчаяние его не имело границ. Рауль, наши читатели уже знают это, не принадлежал к числу тех особенно нежных и любящих натур, которые живут только сердцем, однако же он был способен чувствовать глубокую и искреннюю привязанность. Поэтому, когда молодой человек увидел, что тесная связь, соединявшая его с маркизом, навсегда разорвана, он впал в глубокое отчаяние. В первую минуту никакая честолюбивая или алчная мысль не примешивалась к его горести. Он помнил только безграничную доброту, трогательную нежность маркиза, который заменял ему отца и даже более, чем отца, и который еще утром, час тому назад, исполненный жизни, теперь был уже охладевшим трупом. Горе Рауля было ужасно, но безмолвно и сосредоточенно. Он не ломал себе рук, сумел сдержать стоны, которые облегчили бы его горе; только лицо его помертвело и слезы обильно струились по щекам.
Охотники наскоро сделали из ветвей носилки, положили на них тело маркиза и пешком, без шляп, медленно, подобно похоронной процессии, пошли к замку из которого еще так недавно выехали на веселую прогулку.
С большой пышностью положили они тело маркиза на парадную постель в той комнате, которую он занимал при жизни; двести свечей горело вокруг покойника. Рауль провел остаток дня и целую ночь на коленях возле своего названного отца, отказываясь от пищи, которую ему приносили, и не слушая даже утешений, которыми его осыпали.
Пока молодой человек исполнял этот благочестивый долг, управитель покойного маркиза де ла Транблэ не терял времени понапрасну. Эта почтенная особа, желая знать, действительно ли Рауль был законным наследником имения и титулов маркиза, или оставался в замке только непрошеным гостем, деятельно рылся в бумагах, которые находились в кабинете его покойного господина. Там он сделал драгоценные открытия. Он нашел акт усыновления Рауля, составленный по всем формам и написанный собственной рукой Режинальда, но без подписи. Он нашел также письмо, адресованное на имя короля, которое курьер должен был отвезти на другой день, и удостоверился наконец, что завещания не было.
Это последнее обстоятельство, к несчастью, было справедливо. Маркиз де ла Транблэ, полагаясь на свою силу и здоровье, был уверен, что успеет до своей смерти законным образом усыновить Рауля, и не написал своей последней воли.
Честный управитель был чрезвычайно обрадован тем, что узнал важные подробности, рассказанные нами, и поспешил действовать согласно со своими интересами. Вследствие этого, он тотчас же отправил лакея к родственникам покойного маркиза, земли которых находились от замка де ла Транблэ не далее пятнадцати лье. Он уведомил их о смерти Режинальда и, к их величайшему изумлению, также о том, что они оказались его наследниками.
С тех пор, как слухи об усыновлении Рауля сделались гласными, то есть лет пять или шесть назад, родственники Режинальда, видя с глубокой яростью, что от них ускользает великолепное наследство, прекратили все сношения с маркизом, который, как они говорили, ограбил их. Вместе с тем они почувствовали слепую и неутомимую ненависть к юному искателю приключений, который, по их выражению, готовился украсть у них состояние. Понятно, как они обрадовались, получив письмо управителя. Теперь они могли удовлетворить в одно время и свою жадность и желание мести, могли вступить во владение огромным наследством, на которое уже не рассчитывали, и постыдно прогнать из замка, сделавшегося их собственностью, того, кого они так долго проклинали.
Между тем Рауль, погруженный в свою печаль и проливавший горькие слезы, вовсе не предвидел грозы, готовившейся омрачить звезду его счастья. Управитель же, заранее уверенный в благосклонности новых господ, воспользовался междуцарствием, чтобы прибрать к рукам все, что только мог, и набивал свои сундуки отличным бельем и тяжелым серебром с гербами покойного маркиза.
На другой день пагубной охоты, развязка которой нам известна, были назначены похороны маркиза. С утра в старомодных каретах съехалось в замок почти все провинциальное дворянство. Многие были для Рауля знакомыми и друзьями, многие протягивали ему руки с чувством дружеского сожаления и нежного сострадания. Между гостями, приехавшими отдать умершему последний долг, находились, однако, три подозрительные и странно выглядевшие фигуры.
Эти три господина, которых Рауль прежде никогда не видал, были в таком глубоком трауре, как будто присутствовали на похоронах родного отца. Они, казалось, усиливались сделать траурными и свои лица, но это покушение было напрасно. Если из одного глаза катилась заказная слеза, веселый луч сиял в другом. Если лоб нахмуривался, как бы отягченный грустной мыслью, губы не могли удержаться от улыбки. Словом, три странных господина, несмотря на свои старания, играли как нельзя хуже комедию слез и горя.
Один из них назывался кавалером Антенором де Вертапюи, другой носил звучное имя барона Станислава-Ландольфа-Адемара де Морисуша, третий наконец был виконт Клодульф-Элеонор де Жакмэ. Каждый из них имел около пятидесяти тысяч экю годового дохода. Это были родственники маркиза Гектора Режинальда де ла Транблэ. Брат одного из прадедов Режинальда, вступив в неравный брак, соединил прекрасный род маркиза с этими глупыми именами и гадкими людьми.
За несколько минут до того часа, когда похоронный кортеж должен был отправиться в церковь и на кладбище, три наследника соединились в амбразуре окна гостиной, с осторожностью и таинственностью, достойными опытных заговорщиков.
— Ну, любезные кузены, — сказал виконт де Жакмэ, уверившись, что голос его не мог быть слышен никем, кроме его двух аколитов, — мы приближаемся к минуте торжества!..
— Слава Богу, — отвечали в один голос барон и кавалер.
— Все эти мелкопоместные дворянчики, которые толпятся вокруг бездомного авантюриста, вовсе не подозревают, что они в гостях у нас…
— Конечно, нет!..
— Поэтому, когда бомба лопнет, эффект будет удивителен…
— Надеюсь, — заметил де Морисуш.
— Кстати, когда бомба должна разорваться?
— Сейчас, — отвечал барон.
— О! Еще успеем, — прошептал кавалер де Вертапюи.
— И я того же мнения, — продолжал виконт де Жакмэ. — Ни к чему торопиться!.. Пусть прежде похоронят нашего превосходного друга, нашего милого родственника, о котором мы так сильно сожалеем… Возвратившись из церкви, мы объяснимся с усыновленным… который не усыновлен.
Кавалер и барон изъявили согласие молчанием. Виконт продолжал:
— Так как мы уже заговорили об этом невинном плуте, который желал нас обворовать, то скажите мне, любезные кузены, как вы его находите?..
— Э! э! — прошипел кавалер де Вертапюи.
— О! о! — промычал барон де Морисуш.
— Понимаю вас как нельзя лучше, — сказал виконт де Жакмэ, — и думаю совершенно одинаково с вами.
— Не правда ли? — спросили оба кузена.
— Да… По-моему, в нем нет ничего обольстительного, и я не понимаю пристрастия, которое имел к нему покойный Режинальд!..
— Самое обыкновенное лицо!..
— Самая ничтожная осанка!..
— В лице нет никакой свежести!..
— И какое бесстыдство написано на нем!..
— А заметили вы его презрительные гримасы?..
— Глаза довольно недурны, но уж чересчур красны!..
— Может быть, они красны потому, что он плакал…
— Да, конечно, он плакал, — продолжал виконт де Жакмэ, — даже и теперь еще плачет, лицемер!.. Он, разумеется, считает себя наследником и потому плачет. Спрашиваю вас, правдоподобно ли это?.. Что же будет делать когда мы его выгоним?
Разговор этот был прерван большим движением в зале.
VI. Похоронный обед
Гроб, в котором заключались останки Режинальда, поставили на дроги. Каждый занял место в процессии, и она двинулась.
Рауль шел впереди, как будто действительно был сыном маркиза де ла Транблэ. Три кузена сопровождали покойного родственника, отдалившись от Рауля на значительное расстояние.
Религиозный обряд совершился пышно и торжественно: могила закрылась над трупом Режинальда и еще раз присутствовавшие увидели осуществление страшных слов: Memento, homo, gua pulvises! et in pulverem reverteris! (Человек, вспомни, что прах и в прах превратишься. ) По обычаю, установленному с незапамятных времен и еще существующему в провинции, большой обед, называемый похоронным, был приготовлен в самой обширной из комнат замка для родственников и друзей покойника, приехавших на похороны.
В ту минуту, когда гости готовились сесть за стол, на верхнем конце которого стояло пустое кресло Режинальда, три кузена исчезли. Они отправились к управителю, который ожидал их в беседке.
Между этими четырьмя достойными особами начался разговор, продолжавшийся несколько минут; потом управитель отдал виконту де Жакмэ две бумаги, которые тот старательно спрятал в карман. Это было письмо Режинальда к королю и не подписанный акт усыновления. С этими важными документами, из которых только одному предназначалось увидеть свет, три кузена возвратились в столовую. Гости уже сидели за столом, и обед начался.
Виконт де Жакмэ, которому, с общего согласия кузенов, поручено было говорить, как человеку, более других обладавшему красноречием, и мужественным и увлекательным, сделал несколько шагов, поклонился как только мог любезнее гостям и сказал:
— Господа, я, Клодульф-Элеонор виконт де Жакмэ, от себя лично и от двух моих кузенов, знатных и сильных особ: кавалера Антенора де Вертапюи и барона Ландольфа-Адемара де Морисуша, благодарю вас за честь, которую вы нам оказали, сев за наш стол в нашем замке Ла Транблэ…
Когда виконт де Жакмэ окончил эту странную речь, ропот удивления пробежал между присутствующими. Гости переглянулись. Рауль вспыхнул, потом побледнел, потом встал и, повернувшись к кавалеру, спросил у него дрожащим от волнения голосом:
— Я не понял смысла ваших слов, милостивый государь. Благоволите объяснить их.
Жакмэ окинул Рауля с ног до головы с самым презрительным видом и спросил тоном пренебрежения:
— Скажите мне прежде, кто вы такой? Я вас не знаю…
— Кто я такой? — вскричал молодой человек силясь обуздать гнев, кипевший в нем. — Я приемный сын того, чью память вы оскорбляете! Маркиз де ла Транблэ избрал сердцем и усыновил меня…
— О! о! — сказал кавалер. — В том, что вы сказали есть маленькая ошибка, которую я поправлю. Может быть, вы и действительно сын, избранный сердцем нашего дорогого родственника, маркиза Режинальда, но что касается до того, что он, как вы говорите, усыновил вас, в этом я не могу с вами согласиться…
— Милостивый государь! — прошептал Рауль с глухой яростью.
— Отвечайте мне ясно и категорически, — продолжал кавалер. — Вы думаете, что вы здесь в своем доме, не правда ли?
— Да, — отвечал Рауль. — Я так думаю.
— А на чем вы основываете свое убеждение, позвольте вас спросить?
— На нежной привязанности моего возлюбленного отца, который непременно хотел усыновить меня…
— Заблуждение! — отвечал Жакмэ. — Маркиз де ла Транблэ не хотел этого!..
— Ложь! — вскричал Рауль.
— Нет, не хотел, — продолжал виконт, — или, по крайней мере, подобное желание не было его последней волей…
— Вы лжете!.. Вы лжете!..
— Я никогда не лгу, — возразил виконт де Жакмэ, — и если уверяю в чем-нибудь, то и доказываю это…
— Докажите же! — вскричал Рауль.
— Это очень легко.
Виконт вынул из кармана бумагу.
— Это что такое? — спросил молодой человек, у которого от ужасного волнения дрожали губы и руки.
— Это акт усыновления, отвечал виконт. — Ну?..
— Я прочту его вслух, и пусть достопочтенные господа, здесь присутствующие, рассудят, кто из нас прав.
И виконт де Жакмэ начал чтение. Он дошел до конца, делая ударение почти на каждом слове. Нотариус Режинальда находился в числе гостей.
— Акт этот имеет полную силу! — вскричал он, когда виконт кончил.
— Вы думаете? — спросил де Жакмэ насмешливым тоном.
— Да, — ответил нотариус. — Его невозможно опровергнуть…
Между присутствующими послышался радостный шепот, потому что дворяне, собравшиеся в замке, принимали живое участие в Рауле и косо смотрели на трех кузенов. Однако виконт де Жакмэ не смутился, и торжествующая улыбка не сходила с его губ. Он подошел к нотариусу и подал ему акт, говоря:
— Вы, законник, прочтите же сами этот документ, и мы увидим, найдете ли вы, что его невозможно опровергнуть.
Нотариус взял бумагу, просмотрел ее, но тотчас же роковой акт выпал из его рук и он вскричал.
— Не подписан! — прошептал Рауль, уничтоженный.
— Не подписан! — повторили все гости.
— Э! Боже мой, да! — подтвердил виконт: — Бедный маркиз, которого мы так оплакиваем, забыл только эту мелочь! Правда, что она очень важна!..
Наступило молчание, которое показалось всем присутствующим каким-то зловещим. Наконец виконт возобновил речь и на этот раз тоном сухим и жестким сказал Раулю:
— Теперь, когда ясно доказано, что вы ничего не значите в этом замке и что в нем ничто не принадлежит вам, мы владельцы замка и имения Ла Транблэ, ибо являемся законными наследниками маркиза Режинальда, объявляем вам, что не имеем никакого желания видеть вас здесь и просим искать в другом месте более гостеприимной кровли!
Ропот негодования раздался со всех сторон после этих гнусных слов. Виконт де Жакмэ понял, что зашел слишком далеко, но возвратиться назад было уже невозможно. Притом гордость, весьма свойственная человеку, имеющему пятьдесят тысяч экю годового дохода и получившему в наследство новое богатство, мешала кузену Жакмэ ретироваться.
Бледность Рауля сделалась ужасной. Грустная действительность разрушила все его прекрасные мечты и повергла в бездонную пропасть. Кроме того, он был глубоко оскорблен тем, что наглый пришелец приказывал ему выйти из того жилища, в котором уже десять лет с ним обращались как с сыном и уважали его как господина. Чаша переполнилась. Рауль понял, что если он сейчас не даст своему необузданному гневу свободного исхода, то сойдет с ума. Он вытащил шпагу и бросился на виконта, крича срывающимся голосом:
— А! негодяй! Ты думаешь, что можешь оскорблять меня в доме того, кого я называл отцом!.. Ты думаешь, что можешь прогнать меня безнаказанно, как ребенка, которого бьют и который плачет?! Подожди!..
Но в ту минуту, когда Рауль уже настигал своего врага, несколько человек бросились между противниками, и виконт осторожно укрылся за этим живым укреплением.
Один старый дворянин, искренний друг Режинальда, показывавший к бедному Раулю сильную привязанность, овладел им, отнял у него шпагу, отчасти силой, отчасти убеждениями, и старался его успокоить. Он успел в этом гораздо легче, нежели надеялся. Рауль успокоился. За припадком бешенства последовала болезненная слабость, какое-то глубокое уныние. Несчастный молодой человек страдал и телом, и душой. В это время нотариус подошел к группе негодующих дворян, которые окружили виконта де Жакмэ.
— Милостивый государь, — крикнул он виконту с откровенностью честного человека, — вы совершили поступок тем более гнусный, что не имели на то права. Вы сказали этому молодому человеку, что в замке ничто не принадлежит ему. Это несправедливо, милостивый государь, Раулю принадлежит все, что он получил от щедрости маркиза де ла Транблэ, которого вы недостойный наследник; его лошадь, оружие, вещи, деньги — если он отложил их — все это принадлежит ему; и вы не имеете никакого права требовать это назад.
— Ну, хорошо! — отвечал виконт, который теперь ужасно боялся Рауля. — Мои кузены и я поступим великодушно. Пусть молодой человек возьмет все, о чем вы говорите, мы согласны, но пусть только он оставит замок сию же минуту!..
Рауль услыхал эти слова. Он возвратил всю свою власть над собой и сделался спокоен и хладнокровен. Он подошел к виконту де Жакмэ и сказал ему:
— Если вы думаете, что даете мне милостыню, то прошу вас выйти из заблуждения, милостивый государь! Ваше великодушие — ложь, которой вы сами не верите!.. Вы такой же презренный трус, как и гнусный скряга, и делаете уступку только потому, что боитесь меня. Знайте же, что я возьму безделицы, о которых вы говорили, потому что имею на это право, а не потому, что вы мне дарите их!.. О, Режинальд, мой благородный отец, в какие гнусные руки попало твое наследство! Через два дня после твоей смерти тебя оскорбляют в лице того, кого ты называл сыном! Но будь спокоен, ты будешь отмщен!.. Господин виконт де Жакмэ, я не прощаюсь с вами, потому что мы еще увидимся когда-нибудь!..
Произнеся эти слова, довольно ясно выражавшие угрозу, заставившую виконта и его обоих кузенов побледнеть от ужаса, Рауль гордо вышел из столовой и отправился в свою комнату. Там он переменил легкую шпагу, которая была на нем, на другое, более надежное и прочное оружие, обвил свой гибкий стан кожаным поясом, за который заткнул пару пистолетов с гербом Ла Транблэ, и уложил белье в небольшой чемодан, который наполнил также золотыми монетами, находившимися в железной шкатулке. Потом он пошел в конюшню, сам оседлал своего Баяра, гордого серого коня с черной гривой. Привязав чемодан позади седла, Рауль, твердый своей волей и великий мужеством, ласково распрощался со служителями, которые стояли на крыльце и искренне сожалели о его отъезде, прошел парадный двор и ворота и, держа лошадь за поводья, медленно удалился из замка, ни разу не обернувшись назад.
VII. Отъезд
Рауль направился к смиренному деревенскому кладбищу, привязал лошадь за узду к стволу одного из больших деревьев, которые росли перед церковью, и вошел на кладбище.
Могила маркиза Режинальда находилась возле могил его предков. На каждом надгробном камне вырезаны были герб Ла Транблэ, надписи и девизы; но так как не успели еще приготовить новый камень, то могилу маркиза можно было узнать только по свежей земле, покрывавшей ее.
Рауль пришел проститься в последний раз с тем, кто столько лет был его другом и отцом. Молодой человек встал на колени. Рауль не был религиозным, но кто, склонившись на эту сырую землю, которая разделяет нас навсегда от тех, кого мы любили, кто осмелится сомневаться в бессмертии души и во всемогуществе Божием? Подобное сомнение перед могилой не было ли бы оскорблением для всего человечества? Возможно ли предполагать, чтобы тот, кого оплакивают — существо благородное и разумное, — после смерти своей, погиб совершенно, и что от него остался только отвратительный остов, оспариваемый червями? Нет, в присутствии гроба, который несколько лопат земли навсегда отделили от света, самые закоренелые материалисты отрекутся на минуту от своих пагубных систем.
Это чувство, о котором мы говорим, Рауль испытал во всем его могуществе и легко предался ему. Горячие молитвы срывались с его губ, между тем как слезы текли из глаз. Потом ему показалось, что его молитвы и горе как будто вызвали великую душу Режинальда, что эта душа вошла в сообщение с его душой и слушала его.
Он говорил с нею тихо… Он рассказал ей, каким образом его прогнали из замка и лишили того наследства, которое назначил ему Режинальд. Он просил душу отца заботиться о его жизни, которая отныне не имела никакой цели и которой надежда более не улыбалась… Он поручал ей свою будущность… Потом, преодолев свое волнение, увеличивавшееся каждую минуту, Рауль приподнялся и вскричал:
— Прощай, прощай, отец мой!..
Он вышел из кладбища и отвязал свою лошадь. В недальнем расстоянии от церкви находился лесистый пригорок, с которого можно было видеть все окрестности и позади которого проходила Аббвильская дорога. Рауль отправился на этот пригорок. На вершине он остановился и обернулся. Прямо перед собою молодой человек увидел парк и старый замок, феодальные башни которого возвышались над самыми большими деревьями. Солнце уже закатилось за облака, окрасив их кровавым цветом. На этом пурпуровом и светлом небе черной массой обрисовывался профиль замка. Горькая улыбка сжала губы Рауля.
— Да, — прошептал он, протянув руку к небу и замку. — Траур, кровь и огонь! вот чего я хочу!.. вот о чем я мечтаю!.. вот что я принесу сюда!.. А! господин виконт! господин виконт!.. Я вам сказал, что вы увидите меня когда-нибудь!.. Молитесь Богу, чтобы этот день настал не скоро!.. Мало того, что вы подло отняли у меня все, что принадлежало мне по воле того, кого нет уже на свете, вам надо было еще прогнать меня и оскорбить, прогоняя… О, когда-нибудь мы еще поквитаемся… господин виконт!.. В тот день, когда мы увидимся, вы проклянете это наследство и будете просить у меня помилования!.. Но вы были безжалостны ко мне!.. и я буду безжалостен к вам!.. До свидания, господин виконт, до свидания!..
Рауль вскочил на лошадь, пришпорил ее и поскакал в галоп. Куда? Он сам не знал и даже еще не спрашивал себя об этом.
Быстрый бег лошади и вечерний ветер освежили пылающий лоб молодого человека и несколько успокоили его мысли. Проехав около трех лье, Рауль заставил лошадь идти шагом и принялся размышлять. Прежде всего ему хотелось удалиться от Ла Транблэ. Его родители еще были живы; но мог ли он просить убежище у тех, которых презирал в дни своей роскоши и которых притом не любил? В особенности мог ли он — воплощенная гордость, — решиться носить ничтожное имя Рауля Риго в том краю, где три дня назад все считали его будущим маркизом де ла Транблэ? Конечно, все дворяне, собравшиеся на похороны Режинальда, доказали ему глубокое участие, заступившись за него против виконта де Жакмэ; конечно, все эти дворяне охотно предложили бы ему свое гостеприимство; но не предпочтет ли он лучше умереть, чем быть принятым, как низший теми, которых он считал себе равными?
Рауль размышлял обо всем этом с глубокой горечью, и с минуту отчаяние переполнило его сердце. Он почувствовал себя одиноким на земле, погибшим на свете. Ночь спускалась постепенно; вокруг него поле было пусто и безмолвно. Этот мрак, это уединение показались ему изображением его жизни. Эти мысли привели молодого человека в такое отчаяние, что он чуть было не потерял сознание и зашатался на своей лошади. Рауль поспешил ухватиться за седло, и рука его встретила чемодан, который издал продолжительный металлический звук. Рауль вспомнил тогда, что он вез весьма значительную сумму, хотя в сущности и не знал, как велика она. «Стало быть, не все еще погибло», — подумал он, зная, что с золотом всегда можно выпутаться из затруднительных обстоятельств. В то же время внутренний голос прошептал ему, что если он может найти где-нибудь облегчение своим печалям, то, разумеется, всего скорее в Париже, в этом великолепном городе, о котором он слышал столько чудес. Он тотчас же решился и сказал сам себе: «Я поеду в Париж». Однако, чтобы доехать до Парижа, надо было совершить продолжительное путешествие и прежде всего найти на этот вечер ужин и ночлег. Рауль опять пришпорил Баяра, который поскакал в галоп.
Часа через полтора Рауль увидал огни и очутился у ворот Аббвиля. Он поехал шагом и скоро доехал до ворот довольно порядочной гостиницы, под вывеской «Три Короны». Конюхи тотчас овладели Баяром. Рауль поручил им хорошенько позаботиться о благородном животном, которое хотя и было покрыто пеной и потом, гордо ржало и топало о мостовую своей легкой ногой. Молодой человек сам снял драгоценный чемодан, в котором заключались все его состояние и все его надежды, взвалил его на плечо и вошел в гостиницу спросить комнату и ужин.
Мы уже знаем, что Рауль, кроме того, что был очень хорош собою, имел осанку и манеры самые аристократические, какие только можно вообразить. Поэтому, хотя в то время дворянин, уважающий себя, не путешествовал без двух, по крайней мере, лакеев, хозяин и хозяйка поспешили услужить молодому кавалеру, одетому в такой глубокий траур и по наружности такому знатному. В один миг была приготовлена прекрасная комната. Так как вечера были прохладны, развели в камине этой комнаты яркий огонь. Вертел в кухне пришел в движение и кастрюли начали свою однообразную песнь.
Рауль был печален, но он был молод. Нравственные горести не могли лишить его аппетита: приятный запах жаркого и рагу возбудил в нем приятное ощущение, а уважение, которое ему оказывали, немножко развеселило его и расположило бросить на будущее менее отчаянный взор.
VIII. Сирота
Рауль приказал подать ужин в его комнату, поскольку не собирался расставаться со своим сокровищем.
Ужин явился. Трактирщик превзошел самого себя, и блюда, которые ставили перед молодым человеком, были образцовыми произведениями поваренного искусства. Рауль поужинал хорошо, хотя иногда грустные мысли заставляли руку его опускаться в ту самую минуту, когда он подносил ее ко рту. Окончив ужин, он запер дверь своей комнаты, раскрыл чемодан и высыпал деньги на стол. Он был ослеплен количеством золота, которое лежало перед ним.
Никогда Рауль не приписывал ни малейшей важности значительной сумме, которая хранилась в его железной шкатулке и которая относительно состояния маркиза Режинальда была только каплей в море. С минуту он смотрел на блеск этой сияющей груды. Знаменитый профиль Людовика XIV блистал на двойных луидорах. Рауль принялся считать золотые монеты. Их было более тысячи. Так как они были неравного достоинства, одни в двадцать четыре, другие в сорок восемь ливров, то все количество их составляло около сорока тысяч ливров. Конечно, это было маловато для Рауля, который мечтал о ста тысячах экю годового дохода с маркизского имения; но все-таки с этой суммой нельзя было умереть с голоду, по крайней мере некоторое время. У Рауля было также несколько драгоценных вещей, но он не знал их ценности, к тому же он был намерен хранить эти вещи на память о маркизе Режинальде, от которого получил их.
Герой наш положил все свое золото в шкатулку, которую запер и поставил на ночной столик, возле своей кровати. Сделав это, Рауль удостоверился, что пистолеты его заряжены, и положил их на чемодан, как верных и грозных защитников. Наконец он лег спать и, разбитый усталостью и жестокими волнениями этого и предшествовавших дней, скоро заснул. Сон молодого человека был гораздо спокойнее, чем он опасался, и когда он проснулся, было уже довольно поздно. Он тотчас встал, слегка позавтракал, расплатился и отправился в путь.
Рауль рассчитал, что ему потребуются четыре дня, чтобы приехать в Париж, не истощая лошадь и не утомляя себя. Поэтому, он поехал умеренным шагом и мог таким образом свободно предаваться размышлениям, которые внушало ему его настоящее положение.
Между прочим, он спрашивал себя, какое самое полезное употребление может он сделать из своих сорока тысяч ливров. После долгих рассуждений, он наконец решил, что, без сомнения, всего благоразумнее было бы купить место в армии и вступить на службу его величества. Мы знаем уже давно, что военное ремесло нравилось нашему герою; притом юное и блестящее воображение легко убеждало его, что шпага ничтожного офицера может когда-нибудь сделаться в его руках фельдмаршальским жезлом. Потом ему казалось, что маркиз Режинальд одобрит его намерение с высоты небес. Решив таким образом вопрос своей будущности, Рауль почувствовал себя спокойнее.
Прошло два дня без всяких происшествий, которые стоило бы передать здесь. Утром на третий день, часа через два после отъезда из гостиницы, в которой Рауль ночевал, он очутился у подошвы горы до того крутой, что вынужден был сойти с лошади и предоставить ей свободу взбираться одной. На вершине горы сын браконьера остановился на минуту и с восторгом взглянул на великолепную панораму, которая необозримо расстилалась перед ним.
В ту минуту, когда он готовился опять сесть на лошадь, он увидал в десяти шагах от себя крестьянского мальчика, сидевшего на краю дороги у оврага. Этому мальчику было, по-видимому, лет четырнадцать или пятнадцать, не более, лицо его было умно и приятно, но покрыто мертвенной бледностью. Сжатые черты и черные круги под глазами показывали болезненное состояние и продолжительное страдание. Он сильно прижимал правую руку к стесненной груди, как бы затем, чтобы подавить жестокую боль. Грубая, поношенная блуза и разодранные панталоны составляли всю его одежду, босые ноги были обуты в тяжелые деревянные башмаки.
Когда мальчик заметил, что Рауль пристально на него смотрит, он потупил глаза. Лицо его обнаружило явные признаки сильной внутренней борьбы. Потом он протянул к Раулю руку и прошептал задыхающимся голосом:
— Я голоден!..
Рауль подошел и подал ему монету. Мальчик с живостью взял ее и поцеловал, вскричав:
— Ах! Да благословит вас Бог!.. Я не умру сегодня…
— Зачем ты говоришь о смерти? — спросил Рауль. — Разве ты так беден и несчастен?..
— Да, я очень беден и очень несчастен…
— У тебя нет хлеба?
— Я не ел уже два дня…
— О! Боже мой! — прошептал Рауль, вынув из-за седельной луки небольшую бутылку с водкой.
Он подал ее маленькому крестьянину, который выпил с жадностью и, казалось, тотчас же собрался с силами.
— Ты не здешний? — снова спросил Рауль.
— Нет, прежде я жил за шесть лье отсюда.
— Зачем же ты оставил свою деревню?
Мальчик заплакал вместо ответа. Рауль продолжал:
— Разве у тебя нет родителей?
— Нет… — пролепетал ребенок.
— Ты сирота?..
— Матери я никогда не знал, а отец мой умер на прошлой неделе…
— И тогда ты ушел из своей деревни?
— Мне нечего было больше делать…
— Отчего?
— У отца был бедный домишко и два поля… Он обрабатывал их, я помогал ему и мы жили нашими трудами… Но вот отец мой умер… Люди, которым он был должен, забрали дом и оба поля!.. и прогнали меня… Я не хотел просить милостыни… я просил работы… но мне сказали, что я слишком слаб… тогда я ушел… вчера я дошел до этого оврага и сел здесь, думая, что умру с голоду… Когда вы приехали сюда, я так страдал, что у меня недостало мужества, и я протянул к вам руку… Теперь я куплю хлеба и проживу еще сегодня… Но завтра вы уже не проедете мимо меня и я умру…
Простая и трогательная история маленького крестьянина произвела глубокое впечатление на Рауля, потому что, кроме нищеты, она походила на его собственную. Рауль сравнил свое положение с положением этого бедного мальчика и почти обрадовался такому несчастью.
«Я протяну руку этому ребенку, — думал он, — как некогда маркиз Режинальд протянул мне свою. Может быть, это принесет мне счастье».
— Как зовут тебя, друг мой? — спросил он.
— Жаком…
— Сколько тебе лет?
— Четырнадцать.
— Ну, Жак, я не хочу, чтобы ты умер завтра, как ты говорил сейчас. Все отвергли тебя, но я не отвергну. Тебе уже не нужно будет просить милостыни, если ты захочешь ехать со мною.
— Ехать с вами? — вскричал мальчик с выражением пламенной радости, смешанной с некоторым сомнением. — Возможно ли это?
— Да, — ответил Рауль, — я уже сказал тебе, что, если ты хочешь, я возьму тебя с собой.
IX. Жак
Мальчик бросился на колени, губы его зашевелились; видно было, что он мысленно благодарил Бога. Потом он схватил руку Рауля и покрыл ее поцелуями, пролепетав несколько бессвязных слов, в выражении которых слышалась признательность.
Очутившись в свою очередь покровителем, герой наш угадал, что навсегда привязал к себе душу этого ребенка, и почувствовал себя возвеличенным в своих собственных глазах.
— Жак, — сказал он через минуту, — мы едем в Париж…
Мальчик сделал жест, ясно означавший: куда поедете вы, туда поеду и я, хоть на край света!..
— Умеешь ты читать? — спросил Рауль.
— Немножко.
— А писать?
— Также немножко, но очень дурно…
Молодой человек улыбнулся этому наивному ответу, потом спросил:
— Сколько отсюда до ближайшей деревни?
— Два лье.
— Ты слишком слаб, чтобы идти пешком. Умеешь ты ездить верхом?
— Умею.
— Ну! Садись на Баяра — он очень смирен — а я пойду пешком. Пища подкрепит тебя, а как только я найду случай, я тотчас куплю для тебя одежду и лошадь… ты будешь ездить со мной…
Мальчик не верил своим ушам и был убежден, что он игрушка какой-нибудь обманчивой мечты.
Рауль и Жак прибыли в деревню. Как и предвидел Рауль, пища полностью возвратила силы мальчика. После обеда они оба отправились в путь и к вечеру добрались до небольшого городка. Первой заботой Рауля было купить маленькому Жаку готовое платье и лошадь, довольно старую, но еще годную. За платье он заплатил три луидора, лошадь стоила ему восемь, и за такую умеренную сумму Рауль достал себе вполне приличного слугу, потому что в красном жилете, серых панталонах и синей ливрее с серебряным галуном Жак имел очень приличный вид.
На другой день нашим путникам оставалось до Парижа только восемь лье. Рауль сел на Баяра, Жак взобрался на свою лошадь с гордостью, легко понятной, и с детской радостью, восторжествовавшей над его горем. После двух часов езды, сын браконьера прервал молчание:
— Жак, говоря со мной, ты должен будешь называть меня кавалером.
— Слушаю, кавалер, — отвечал сирота.
— А когда у тебя спросят, как зовут твоего барина, ты должен отвечать, что ты служишь кавалеру Раулю де ла Транблэ.
— Буду помнить, — сказал Жак.
Читатель видит, что Рауль завладел именем, не принадлежащим ему; но был ли он настолько виновен, приняв это имя? Мы этого не думаем.
Задолго до ночи Рауль приехал в Париж, где будущее приготовило для него жизнь, исполненную стольких же приключений, как жизнь Жильблаза и Лазарилла, этих бессмертных авантюристов. Мы последуем за нашим героем повсюду посреди страстей, ослеплений, интриг, радостей и горестей этой странной жизни.
X. Дом на улице Жендре
Девять часов вечера пробило на часах церкви св. Сульпиции. По улицам Парижа расстилался туман; он был так густ, что не позволял даже различать фонарей, которые исчезали в нем, как звезды, закрытые облаками; он заставлял пешеходов сбиваться с пути, кучеров — ругаться и покровительствовал ворам, которые скорее готовы были ограбить друг друга, чем пропустить такой удобный случай набить карманы. Туман, казалось, особенно был непроницаем в одном отвратительном переулке, который, неподалеку от площади Св. Сульпиции соединялся с улицей Старой Голубятни.
Этот узкий переулок, грязный и длинный, назывался тогда и называется еще поныне улицей Жендре. Два или три года назад этот переулок сохранял еще во всей целости физиономию разбойничьего вертепа, отличавшую его в ту эпоху, когда происходили происшествия, которые мы рассказываем. Почерневшие и растрескавшиеся от времени дома, подобно дряхлым столетним старухам, имели отвратительную наружность разбойничьих притонов. Узкие и низкие двери, казалось, прятались возле грязной мостовой, как будто стыдясь того, что служили входом в эти жилища такой зловещей наружности. Даже днем многие честные люди предпочитали лучше сделать длинный крюк, нежели пройти по улице Жендре. При наступлении же ночи туда входили только те, кого привлекала мысль о преступлении или самый гнусный разврат.
В тот вечер, о котором идет речь, и в час, который мы обозначили выше, несколько человек, наружность которых нельзя было рассмотреть, входили поодиночке в страшный переулок и стучались один за другим особенным образом в маленькую дверь, которая растворялась, чтобы пропустить их, и тотчас же затворялась. Человек, имевший какой-нибудь интерес проследить за этой дверью, сосчитал бы, что в нее вошли восемь человек.
Отправимся за последним из этих незнакомцев. За дверью находился вонючий коридор, плиты которого исчезали под слоем всякой грязи. В коридоре этом царствовала глубочайшая темнота. Шагов через сорок от двери была первая ступень полусгнившей лестницы с грязной веревкой вместо перил. Восемнадцать ступенек вели в первый этаж; через восемнадцать других ступенек начинался второй.
Тут остановился незнакомец, за которым мы следуем. Пошарив с минуту в темноте, он наконец постучался три раза в дверь, которая тотчас растворилась, как за минуту перед этим растворилась дверь в коридор. Комната, в которую вошел незнакомец, была передняя, довольно чистая и освещенная с большой роскошью. Пять или шесть плащей и столько же шляп висели на вешалках, прибитых к стене. Между тем как лакей снимал с пришедшего шляпу и плащ и вешал их вместе с другими, изнутри слышался веселый шум разговоров и песен, звон стаканов и стук ножей и вилок, деятельно работавших.
— Бургиньйон, — сказал пришедший лакею, — мне кажется, мой милый, что я опоздал…
— Немножко, виконт… — отвечал лакей с фамильярностью, в которой слышалось весьма мало уважения.
— Все собрались?
— Все, виконт.
— Также и мадемуазель?..
— Она пришла первая.
Незнакомец не распространял далее своих вопросов и вошел в комнату, из которой слышался шум, описанный нами.
Эта комната была одновременно и гостиной, и столовой. Великолепная с позолотой мебель, обитая богатой шелковой материей, украшала ее. Шелковые обои скрывали голые стены. Настоящий обюссоновский ковер покрывал пол. Посреди комнаты стоял огромный стол с изысканными кушаньями на серебряных блюдах и превосходнейшими винами в графинах из богемского хрусталя. Серебро было великолепное, и могло показаться странным только то, что все приборы были различной формы, с разными гербами и разными вензелями. Однако ни один из собеседников, по-видимому, не обращал на это внимания и не приписывал этому ни малейшей важности.
Собеседников было восемь человек: семь мужчин и одна женщина. Костюмы их показывали, что они принадлежали к различным сословиям, и было бы трудно объяснить в первую минуту, какое обстоятельство могло их соединить таким образом.
На первом был майорский мундир; второй был закутан в монашескую рясу; третий, стоявший тем не менее на равной ноге со всеми другими, был одет в блестящую ливрею, зеленую с золотом; четвертый был комиссионер; пятый походил на честного мещанина скромной наружности; шестой, тот, который вошел, казался дворянином, очень чванившимся своими достоинствами и своей особой. Серьезная, важная физиономия и почтенная дородность седьмого придавали ему вид управителя в знатном доме. Наконец восьмая и последняя собеседница, которую из любезности нам следовало бы назвать первой, была та самая особа, которую человек, говоривший с Бургиньйоном, называл мадемуазель.
XI. Мадемуазель
Нельзя вообразить ничего грациознее и обольстительнее лица и фигуры этой молодой девушки. Ей невозможно было дать более восемнадцати, самое большее двадцать лет. Она имела кроткое и восхитительное личико, бело-розовое, как пастель Латура, волосы светло-каштановые, удивительно шелковистые и густые. Глаза, синие и глубокие, то бросали взгляды быстрые, как острые стрелы, то покрывались облаком меланхолической задумчивости. Выражение этих глаз и взглядов было непреодолимо. Губки, очень маленькие и красные, как гранатовый цвет, выказывали, открываясь для улыбки, маленькие правильные зубы, белые как жемчуг. Изящное благородство лица этой хорошенькой девушки согласовывалось с аристократически-маленькими руками, с узкой и длинной ножкой. Стан, стройный и гибкий выше всякого описания, походил (употребляя выражение, бывшее тогда в моде) на «стан нимфы».
Очаровательница, которую мы описали, была одета в тафтяное платье, бледно-серое с малиновым отливом, отличавшееся необыкновенной простотой и вкусом.
Военный человек в ливрее и дворянин были люди молодые, капуцин, комиссионер, управитель и мещанин перешли за сорок лет, а двое первых казались даже гораздо старше.
Каким образом молодая и прелестная девушка, которая, по-видимому, была хорошего происхождения и хорошо воспитана, оказалась одна посреди семи мужчин различного возраста и звания, смеялась и пила с ними без всякого замешательства? Каким образом, наконец, это собрание оказалось в роскошной комнате и вокруг стола, уставленного деликатнейшими кушаньями, в старом, грязном доме страшной улицы Жендре? Все это, без сомнения, мы скоро узнаем.
Восьмой собеседник, вошедший в залу пиршества, был принят радостными и громкими восклицаниями.
— Здравствуй, виконт!..
— Как твое здоровье, виконт?..
— Виконт, как поздно ты пришел сегодня!..
— Я пью за твое здоровье, виконт!.. — кричали пирующие, все в один голос.
— Здравствуйте, мои милые, здравствуй, моя хорошенькая Эмрода, — весело отвечал пришедший.
Он взял стул, остававшийся пустым, сел возле хорошенькой девушки, которую назвал Эмродой, и без церемонии поцеловал ее в обе щеки. Потом, наполнив свою тарелку и стакан, он сказал:
— Я опоздал, это правда, но будьте спокойны, я вас догоню.
И действительно, судя потому, как пришедший принялся уписывать кушанья и опоражнивать стакан за стаканом, он, казалось, хотел не только догнать, но даже и обогнать своих товарищей. Собеседники глядели с минуту на подвиги этого страшного аппетита молча и с восторгом. Потом прерванный разговор возобновился, сделался общим и составил шумное целое, прерываемое громкими восклицаниями и песнями. Капуцин не подавал примера трезвости, и даже молодая девушка не уступала самым отчаянным пьяницам и переходила в словах последние границы скромности и благопристойности. Ужин продолжался до полуночи, потом виконт встал, прислонился к камину и сказал:
— Теперь, мои любезные, займемся серьезными делами.
— Да, да, — единогласно отвечали собеседники.
— Хорош был день? — спросил виконт. — Посмотрим, что вы сделали?
Никто не отвечал ни слова.
— Начнем по порядку, — продолжал виконт. — Я начинаю с нашей Эмроды.
— О! — вскричала молодая девушка. — Обо мне, право, не стоит и говорить!.. Я почти потеряла время понапрасну…
— Все-таки есть что-нибудь?
— Вот и все, — сказала Эмрода, вынимая из кармана красный сафьянный футляр, который она открыла.
В футляре лежал золотой браслет, не очень дорогой.
— Откуда это? — спросил виконт.
— От ювелира на улице Бак; но на этот магазин нельзя более рассчитывать. В мои последние визиты, ювелир сделался ужасно подозрительным, не теряет меня из виду ни на минуту и глаз не спускает с рук…
Виконт взвесил браслет на руке и рассмотрел его внимательно.
— В самом деле, — сказал он, — вещь неважная!.. Я не дам за эту безделушку и шести луидоров… Завтра, милое дитя, надо постараться быть счастливее.
— Постараюсь, — отвечала Эмрода.
— Твоя очередь, Оленья Нога! — вскричал виконт, обращаясь к мнимому комиссионеру.
— Моя пожива еще хуже, — отвечал тот. — Я стал возле Пале-Рояля, ожидая какого-нибудь случая. За мной пришли из соседнего дома, чтобы отнести чемодан. Он был довольно тяжел, и я вывел из этого благоприятное заключение…
— Где же этот чемодан?
— Разумеется, в магазине.
— Ну?
— Ну! В нем оказались только старые платья и дрянное белье. Меня совершенно обокрали!..
Виконт расхохотался, другие последовали его примеру.
— И в самом деле, — продолжал он, — день не был хорош для вас. Твоя очередь, брат Бонифаций.
Мнимый капуцин положил на стол золотые четки, кошелек с мелкими деньгами, часы и медальон, осыпанный небольшими бриллиантами.
— Я собрал все это у благочестивых душ, — сказал он. — Я знаю, что эти вещицы дрянные! Но, увы, мои возлюбленные братья, благочестие исчезает!.. Почти везде меня принимают в передней! Надо будет переменить мою специальность, отпустить волосы, обрезать бороду и представиться турком!
Продолжительный и громкий хохот встретил эти слова.
— Браво, Подсолнечник, браво! — вскричал виконт. — От капуцина до турка рукой подать! Мы подумаем, какой род промышленности будет для тебя приличнее.
— Вы меня обяжете, — отвечал Подсолнечник.
— Есть у тебя что-нибудь в виду?
— Есть.
— Что же?
— Кулак у меня крепкий, взгляд верный!.. Вы с этим согласны, не правда ли?
— Без сомнения, но, черт побери, к чему все это клонится?..
— А вот к чему: я желаю сделаться забиякой.
— Печальное ремесло! — вскричал виконт с значительной гримасой.
— Напротив, превосходное! — с живостью возразил Подсолнечник. — Всегда имеешь множество средств извернуться: не удастся одно, тотчас готово другое.
— Объяснись яснее, друг мой.
— Охотно. Во-первых, по милости воинственной физиономии, длинных закрученных усов и гигантской рапиры бываешь предметом ужаса для мещан и любимцем мещанок. Следовательно, ничего нет легче, как собирать подать с мужей посредством страха, а с жен посредством любви! Но это еще не все: посещаешь все гулянья, все веселые места и затеваешь ссоры с людьми добродушной наружности и с наивными провинциалами, которым малейший удар шпаги внушает ужас. Они предпочитают добровольно отдать несколько пистолей, лишь бы избежать поединка, одна мысль о котором заставляет их дрожать с головы до ног. Присоедините к этому, что часто можно найти случай предложить свою шпагу к услугам трусливых ревнивцев и всех тех, которые хотят отомстить врагу, не подвергаясь опасности, и вы увидите, что весьма значительную прибыль может и должно приносить почетное звание забияки. Как вы думаете, виконт?
— Может статься, ты и прав, Подсолнечник, — согласился человек, называемый виконтом. — Действуй как хочешь, брось рясу в крапиву и облачись в доспехи воина, если тебе так хочется.
— Спасибо, — сказал Подсолнечник, выпрямляя свой высокий стан и задорно приподнимая голову. — Завтра же вы увидите меня в деле, и ручаюсь вам, что я не буду бесполезным членом нашего общества.
Виконт продолжал допрос, на который честные люди, выведенные нами на сцену, отвечали так категорически. Он расспросил майора, управителя и лакея в ливрее. Каждый внес в общую кассу плоды своего дневного воровства. Когда дошла очередь до мещанина со скромной физиономией, он сказал:
— Я ничего не принес…
— Как? — вскричали два или три голоса.
— Вот это дурно, Бенуа! — прошептал виконт.
— Любезные друзья, — отвечал Бенуа, — вы произносите приговор слишком поспешно, как мне кажется, и потому слишком легкомысленно! Разве охотник заслуживает упреков, когда возвращается домой с пустыми руками, но напав на следы дичи, которую может принести на другой день?..
— К чему это предисловие? — спросил виконт.
— Узнаете сию минуту, и я думаю, что вместо упреков я буду иметь право на похвалы.
— Ждем, — пробормотали сообщники.
— Случай, этот великий властелин мира, привел сегодня ноги мои к заставе Сен-Дени. Вдруг я был остановлен множеством повозок, телег и карет; одна тележка, колесо которой сломалось, устроила эту пробку. Толпа собиралась, кучера ругались, лошади нетерпеливо топали в грязи. Так как я не хотел быть забрызганным посреди этой суматохи, я встал около одного дома, как можно ближе к стене, и ждал. Через пять минут тележку подняли и ряд экипажей двинулся вперед. Я хотел следовать за толпой, которая начала мало-помалу расходиться, как вдруг ко мне подъехал всадник на прекрасной лошади, тоже попавший в эту сумятицу. Без сомнения, лицо мое внушило ему доверие, которого я вполне достоин. Всадник этот был молодым человеком лет восемнадцати, весь в черном. Грязь, покрывавшая его лошадь и плащ, ясно показывала, что он проделал длинный путь. За ним следовал маленький лакей на дрянной клячонке и в ливрее, сшитой очевидно не для него. Подъехав ко мне, молодой человек приподнял шляпу, окруженную широким черным крепом, и сказал:
— Позвольте мне задать вам вопрос?..
Я в свою очередь поклонился ему чрезвычайно вежливо, вызвал на лицо улыбку, запечатленную самым доброжелательным добродушием, и отвечал, что я готов к его услугам и почту за истинное удовольствие отвечать не только на один вопрос, но на сто, если он сочтет нужным задать мне их.
XII. Сети Бенуа
Все сообщники с благоговейным вниманием слушали рассказ Бенуа, который продолжал:
— Я понял, как нельзя лучше, что молодой всадник был восхищен моим любезным обращением. — Милостивый государь, — сказал он мне, — вы парижанин?
— Парижский мещанин, — отвечал я, — родился в квартале Сен-Дени, где мы занимаемся уже около трехсот лет торговлей шерстью, оптом и по мелочам. Николас Бенуа, к вашим услугам, лавка под вывеской «Серебряный Баран».
— Стало быть, вы как нельзя лучше знаете столицу?..
— Мне известны все улицы и переулки.
— Будьте так добры, помогите мне выпутаться из затруднения, в котором я нахожусь.
— Объясните мне, в чем оно состоит, и я постараюсь удовлетворить вас.
— Я не здешний…
— Я так и думал.
— Я приехал в Париж в первый раз, не имею здесь знакомых и прошу вас указать мне скромную, но надежную гостиницу, где я мог бы не опасаться за свое маленькое состояние, которое я целиком везу с собой.
Эти последние слова прозвучали в ушах моих самым приятнейшим образом. Глаза мои инстинктивно обратились на кожаный чемодан, привязанный за седлом молодого человека и, по-видимому, туго набитый. Мне показалось, что при каждом движении лошади из этого чемодана раздавался металлический звук. Я угадал, что Меркурий, бог людей искусных, посылал мне добычу, для которой мне даже не требовалось расставлять сетей, и поспешил ответить:
— Для меня ничего не может быть легче, чем дать вам сведения, которых вы желаете. Я знаю небольшую гостиницу, спокойную и недорогую, хозяин которой бесспорно честнейший человек на свете.
— А где эта гостиница?
— На улице Паради-Пуассоньер, под вывеской «Золотое Руно».
— Я буду вам еще более обязан, если вы укажете мне, по какой дороге должен я ехать.
— С удовольствием указал бы, но вы непременно собьетесь с пути.
— Как же быть?
— Ничего не может быть легче. Я иду именно в ту сторону, и если вам будет угодно замедлить шаг вашей лошади, я сам вас провожу.
— Как! вы будете так добры?
— С большим удовольствием…
— В таком случае я принимаю ваше предложение с чрезвычайной признательностью.
Мы отправились и дорогой вели самый пустой разговор. Вы легко угадаете, любезные товарищи, по какой причине я указал молодому провинциалу гостиницу «Золотое Руно». Эта гостиница если не разбойничий притон, то по крайней мере дом весьма сомнительной репутации, а совесть хозяина самая сговорчивая. Мы вошли во двор.
— Вот мы и прибыли, — сказал я молодому человеку, — позвольте мне пожелать вам успеха в Париже и оставить вас.
— Вы хотите оставить меня таким образом? — сказал он, соскочив с лошади и схватив меня за руку. — О, нет! я надеюсь, что вы не откажете мне в одолжении осушить вместе со мной бутылку испанского вина.
Я сослался на дела, не терпящие отлагательства, уверял, что я не властен располагать своим временем, словом никак не соглашался. Молодой человек горячо настаивал. Я этого ожидал и наконец согласился. Конюх хотел отвести лошадей в конюшню.
— Подождите, — сказал ему молодой человек, развязавший ремни, которыми чемодан был прикреплен к седлу.
Подошел слуга, взял этот чемодан. Я наклонился к уху молодого человека, и шепнул ему:
— Там золото, не правда ли?
— Да, — отвечал он с удивленным видом.
— В таком случае, — продолжал я, — не позволяйте никому дотрагиваться до этого чемодана. Конечно, дом надежный, но не надо подвергать никого искушению… Я помогу вам отнести чемодан…
Он поблагодарил меня жестом и сделал мне знак, что принимает мое предложение. Я взял чемодан за одну ручку и восхитился его тяжестью. Мы дошли таким образом до комнаты в первом этаже, единственной, которая не была занята в эту минуту. Товарищ мой снова пожал мне руку, потом спросил бутылку хереса и две рюмки. Мы вместе сели за столик, чокнулись; молодой человек выпил и сказал:
— За ваше здоровье, месье Бенуа…
— За успех всех ваших намерений, — отвечал я. — Осмелюсь ли спросить, с кем я имею удовольствие говорить? — прибавил я.
— С кавалером Раулем де ла Транблэ, — отвечал молодой человек.
Я встал со стула и низко поклонился, вскричав с умилением:
— Какая честь для такого бедного мещанина, как я, сидеть за одним столом с таким благородным дворянином, как вы, кавалер!.. Прошу вас верить искреннему выражению моей признательности!..
— Не будем говорить об этом, — сказал он. — Садитесь, любезный месье Бенуа, и будем пить…
Я повиновался. Он налил мне стакан, я выпил за его здоровье, на этот раз величая его по имени и титулу. Прошу простить меня, любезные товарищи, но все эти подробности, которые могут показаться вам ничтожными, необходимы, чтобы дать вам понять, какими извилистыми путями, какими искусными и деликатными средствами достиг я того, что вполне овладел доверием и расположением моего нового знакомца…
— Что вы думаете об этом хересе? — спросил он меня, выпив.
— Я нахожу его превосходным.
— Это ваше мнение?
— Да, по совести. А каково ваше мнение, кавалер?
— Ах! — сказал он. — Я пил херес лучше этого в замке моего отца!..
Я увидел выражение живейшего сожаления на лице молодого человека. О чем он сожалел? О замке, о хересе или об отце?.. Я хотел выйти из этой неизвестности и сказал:
— Отец ваш, наверное, расстался с вами глубоко опечаленный.
— Разве вы не видите, что я в трауре? — прошептал молодой человек мрачным голосом.
— О! Боже мой! — вскричал я. — Неужели вы имели несчастье… ужасное несчастье…
Я остановился. Он окончил мою фразу.
— Лишиться моего отца! — сказал он. — Да, меня постигло это невозвратное горе…
Моя физиономия тотчас подернулась трауром, и я отер слезу, которой не было.
XIII. Любопытство Бенуа
Между мной и кавалером наступило молчание. Так как на лице моем все еще выражалось глубочайшее отчаяние, молодой человек, тронутый тем, что я принимал такое участие в его печалях, пожал мою руку и сказал:
— Я вижу, что вы человек добрый, и благодарю вас глубоко за ваше участие ко мне!..
Я отвечал ему, что мое участие было очень естественно и что кавалер обяжет меня, вполне располагая мною, моим временем, моим кошельком и моим кредитом…
— Я принимаю ваши любезные предложения, — объявил молодой человек, улыбаясь, — и воспользуюсь ими, кроме вашего кошелька, который мне совсем не нужен. Я не богат, но имею средства на жизнь, по крайней мере некоторое время могу не прибегать за помощью ни к кому.
Я попробовал задать несколько вопросов.
— Давно ли, кавалер, имели вы несчастье лишиться вашего отца?..
— Увы! — вскричал он, — его могила еще не заросла травой.
— Если судить по вашему отчаянию, этот благородный вельможа, верно, был достоин всей любви и всех сожалений такого сына, как вы.
— Всей моей жизни будет недостаточно для того, чтобы оплакать его, как он заслуживает.
— Ваша матушка еще жива, без сомнения?
— Нет, мать моя умерла.
— По крайней мере, у вас остались братья?
— Я единственный сын.
— Родственники?..
— Никаких.
— Как! Вы один на свете?
— Да, один на свете!..
— Ах! С каким нетерпением вы должны желать соединиться с вашими друзьями!
— С друзьями? У меня их нет!..
— Как! Неужели никто не ждет вас в Париже?
— Никто.
— Ах! Бедный молодой человек!.. Несчастный молодой человек!.. Извините эту фамильярность, кавалер…
— Не только извиняю, но и благодарю.
— Я боюсь, что мое любопытство наскучило вам…
— Нисколько.
— В таком случае, кавалер, если уж вы удостаиваете терпеливо отвечать на вопросы, может статься, нескромные, но внушаемые моим участием к вам, то скажите мне, прошу вас, какие причины привели вас в столицу? Я думал сначала, что вы ехали к родственникам или друзьям, но, как вижу, ошибся…
— Я приехал, — отвечал молодой человек, — чтобы найти здесь средства к жизни…
— Вы мне сейчас сказали, что у вас есть деньги, кажется?
— Есть, но мало, и потому я должен обеспечить себя в будущем…
— Разве вы не пользуетесь доходом с наследства вашего отца?
Кавалер сначала колебался, потом отвечал:
— Все, что я имею, находится в этом чемодане…
И он указал мне на кожаный чемодан, о котором я вам говорил.
— И как велика сумма? — спросил я.
Кавалер пристально на меня взглянул: вероятно, чувство недоверчивости проявилось в его мыслях. Я испугался и поспешил прибавить:
— Если я вас спросил об этом, кавалер, то единственно затем, чтобы дать вам какой-нибудь добрый совет… Я человек старый, к несчастью для меня… но опытный, знаю Париж, его хорошие и дурные стороны, сети, которые он скрывает под ногами тех, кто хочет искать счастья, и средства, которые он предлагает им… Может быть, если бы я знал, как велика сумма, которой вы располагаете, я посоветовал бы вам, как употребить ее с выгодой. Но если вопрос мой показался вам нескромным, не будем говорить об этом, кавалер.
Потом я встал и прибавил:
— Если вы будете иметь во мне нужду, кавалер, я готов к вашим услугам, как и говорил вам вчера. Пожалуйте запросто на улицу Грента и просите Николаса Бенуа, торговца шерстью, оптом и по мелочам, под вывеской «Серебряный Баран». Вам все укажут дом… Мы хорошо известны в квартале: триста лет живем мы там и торгуем под одной и той же фирмой… До свидания, кавалер, до свидания!..
Я сделал движение, чтобы взять свою шляпу, которую положил на стул, когда вошел. Молодой человек удержал меня. Я ожидал этого и продолжал собираться с самым неподдельным добродушием.
— Садитесь, месье Бенуа, прошу вас, — сказал он.
— Мне некогда, видите ли…
— Я прошу у вас только пять минут.
— Извольте…
Я сел.
— Месье Бенуа, — продолжал кавалер, — вы всегда держите ваше слово, не правда ли?
— Конечно!..
— Вы обещали мне сейчас дать совет?.. Так дайте его.
— Насчет чего?..
— Насчет употребления моего маленького состояния.
— А!
— У меня есть около сорока тысяч ливров.
— Сорок тысяч?..
— Да, золотом.
— И вы больше ничего не имеете?..
— За исключением нескольких вещиц, которые я хочу сохранить. Это очень мало, не правда ли?..
— Это немного, но с сорока тысячами ливров, можно предпринять что-нибудь.
— Что же, например?
— О! Это зависит от вас…
— Но если я прошу вас служить мне руководителем…
— Это такое деликатное дело!..
— Вы обещали!…
— Ну, хорошо! Я согласен, но, признаюсь, против воли… Вы хотите — не правда ли? — употребить ваши деньги таким образом, чтобы жить если не в богатстве, то, по крайней мере, в приличном довольстве…
— Именно.
— В Париже есть честные негоцианты, которые охотно возьмутся пустить в оборот ваши сорок тысяч ливров и давать вам проценты.
— Но я то что же буду делать?
— Проживать доход…
— Его хватит ненадолго… Я был воспитан в роскоши и сохранил привычку к расточительности, которая разовьется от праздности…
— Справедливо.
— Как же быть?
— Негоциант, который возьмет ваш капитал, может также предоставить вам в своем доме какую-нибудь должность…
Молодой человек сделал гримасу и слегка пожал плечами.
— Торговля! — сказал он презрительным тоном, — вы забываете любезный месье Бенуа, что я дворянин!
— Вы правы, — отвечал я, — в таком случае, придумаем что-нибудь другое…
XIV. Приглашение Бенуа
— Да, придумаем, — отвечал молодой человек.
— Кавалер, — спросил я, — не имеете ли вы сами какого-нибудь проекта?
— Имею, конечно, но, может быть, осуществление его невозможно…
— Все-таки скажите, в столкновении идей можно найти следы истины…
— Я думал купить себе роту.
— Разве вы имеете наклонность к военному поприщу?
— Более, чем ко всему другому, к тому же из чего мне выбирать?
— Справедливо, совершенно справедливо!
Я сделал вид, будто обдумываю то, что сказал мне кавалер де ла Транблэ, а на самом деле замышлял план, который скоро изложу вам, и надеюсь, что он получит ваше одобрение. Через две минуты я продолжал:
— Право, кавалер, я думаю, что в вашей юной голове более здравого смысла, нежели в самом старом мозгу. Ваша идея превосходна, и вы выбрали самое лучшее.
— Итак, вы ее одобряете?
— Совершенно.
— А дорого это будет стоить?
— О! Придется истратить все сорок тысяч… Я даже боюсь, чтобы вы не были вынуждены для своей экипировки продать те вещи, о которых сейчас говорили и которыми вы, кажется, так дорожите…
— Я дорожу ими потому, что они достались мне от отца, но если надо пожертвовать ими, я вооружусь мужеством…
— Вот это прекрасно, кавалер, но будьте спокойны: мы постараемся спасти эти драгоценные сувениры… Во всяком случае, я употреблю все старания, чтобы достичь этой цели…
— Итак, вы можете помочь мне?
— Черт побери! Вас удивляет, что ничтожный купец, торгующий шерстью оптом и по мелочам, имеет намерения вмешаться в военные дела! Конечно, сам по себе я решительно ничего не значу, но у меня есть многочисленные связи, есть добрые друзья, которые будут очень рады помочь мне.
— Неужели? — вскричал молодой человек, с восторгом.
— Боже мой, да. Послушайте, мне пришло в голову, что вы даже можете считать ваше дело почти решенным…
— Возможно ли?..
— Ничего не может быть возможнее, уверяю вас, и ничего не может быть проще. Один из моих старых и добрых товарищей, майор Танкред д'Эстаньяк, служит в Королевско-Шампанском полку, который стоит гарнизоном в Валансьене… Этот храбрый офицер теперь в отпуску и находится в Париже. Я представлю вас ему, когда вы хотите, и он почтет за истинное удовольствие доставить вам средства вступить в его полк…
— Но, месье Бенуа, — вскричал снова простодушный кавалер, — я право не знаю, как выразить вам мою признательность!
— Вы не обязаны мне ничем! Я был польщен вашей дружбой и каждый раз, как только вам будет угодно оказать мне честь воспользоваться моими услугами, я буду считать себя очень обязанным… Когда вам угодно, чтобы я представил вас майору?..
— Назначьте сами день.
— Угодно послезавтра?
— Очень рад.
— Если так, я напишу два слова Танкреду…
— Где я вас найду?
— Я сам зайду за вами.
— Где будет свидание?
— У меня, черт побери!.. В моем смиренном жилище!.. Вы увидите мою племянницу, смею сказать, образованную молодую девушку… Мы пообедаем и, весело чокаясь бокалами, будем говорить о делах…
— Любезный Бенуа, предложение ваше так чудесно, что я принимаю его без церемонии…
— И вы правы! Однако становится поздно: я вас оставлю. До свидания, кавалер.
— До свидания, мой превосходный друг!
— Еще одно слово…
Я указал пальцем на чемодан и прибавил:
— Берегите это. Париж очень большой город, в нем, конечно, много честных людей, но, кажется, прости Господи, гораздо больше плутов! А сорок тысяч ливров порядочная добыча, способная прельстить воров!.. Будьте осторожны и берегите хорошенько ваше сокровище день и ночь.
— Непременно, — отвечал кавалер и, показав пару великолепных пистолетов, прибавил: — Вот верные товарищи, которые не только лают, но и кусают!..
— Похвальная предосторожность! — одобрил я. — Но если, например, вам придется оставить на некоторое время вашу комнату… тогда что же вы сделаете?..
— Я это предвидел: мой слуга, молодой человек, совершенно мне преданный, будет ждать здесь моего возвращения, сидя на этом чемодане и держа по пистолету в каждой руке…
— Черт побери!.. Не очень-то хорошо будет тому, кто захочет обогатиться за ваш счет, кавалер!..
— Никому не советую пробовать. Но вы, кажется, мне говорили, любезный месье Бенуа, что эта гостиница очень спокойна и пользуется прекрасной репутацией?
— Говорил и готов повторить это… Совет, который я. позволил себе дать вам, происходил от избытка усердия, а также оттого, что я имею правилом лучше предупреждать несчастье, нежели сожалеть о нем.
Тут мы простились, пожимая друг другу руку, как бы для скрепления тесной и искренней дружбы, которую обещали один другому… Вот что я сделал, господа, вот почему считаю себя вправе сказать с некоторой гордостью, как сказал какой-то греческий или римский император, право не знаю: я не потерял даром дня! Любезные товарищи, что вы думаете о моем подвиге?.. Предоставляю вам самим обсудить его…
Когда Бенуа кончил, хорошенькая Эмрода зевнула во всю ширину своего маленького ротика. Человек, которого называли виконтом, начал советоваться с капуцином, с комиссионером и с некоторыми другими членами общества. Это совещание продолжалось минуты три: мнения выражались шепотом. Потом виконт сказал:
— Любезный Бенуа, общество рукоплещет вам вдвойне, вы заслужили это…
— Мне отдают справедливость! — прошептал Бенуа, с выражением законной гордости.
— Мы понимаем как нельзя лучше ваш план… — продолжал виконт.
— И одобряете его?
— Да, только надо условиться в подробностях.
— Они очень просты…
— Не спорю, но надо будет несколько поистратиться.
— Вы наш казначей, возьмите из кассы.
— Как вы спешите!
— Дело надежное…
— Может быть, но, по моему мнению, надежны только те дела, которые сделаны.
— Знаете вы одну пословицу?
— Знаю и много.
— Хорошо, но одна из них более всего согласуется с нашим положением: кто ничем не рискует, тот ничего не получит!..
— Вы правы. Притом я вам сказал: план ваш принят, теперь будем рассуждать о подробностях.
— Охотно.
В эту минуту Эмрода прервала разговор.
— Позвольте мне уйти, — сказала она.
— Ты хочешь нас оставить, капризница?
— У меня есть дела сегодня, очень важные.
— Какое-нибудь свидание, плутовка?
— Может статься, но это вас не касается, а так как я вовсе не нужна вам для исполнения вашего плана…
— Вы ошибаетесь, — перебил Бенуа, — именно вы нужны нам, любезная Эмрода, и даже очень…
— Мне показалось, однако, что в комедии, которую вы приготовитесь разыграть, нет женской роли.
— Это доказывает, что вы дурно меня слушали, малютка…
— Может быть, я спала… или думала о другом. А что же вы говорили?
— Я говорил о моей племяннице, которую должен представить послезавтра кавалеру де ла Транблэ…
— Ну?
— Ну! Кто же будет этой племянницей, если не вы?
— Ах, гадкий человек! — вскричала молодая девушка с очаровательной досадой и очень милым и кокетливым гневом. — Скажите пожалуйста, с какой стати ему вздумалось говорить о своей племяннице!..
— Следовательно, — продолжал Бенуа, — я формально сопротивляюсь тому, чтобы отпустить нашу миленькую Эмроду! Ее возлюбленный подождет…
— Мой возлюбленный! — прошептала молодая девушка с восхитительным жеманством.
— Мне бы следовало сказать «возлюбленные», — продолжал Бенуа, — я ошибся, извините.
— Дерзкий! — вскричала Эмрода.
— Бенуа прав, — вмешался виконт, — наша любезная сестрица непременно должна сегодня остаться с нами. Как вы думаете, господа?
— Да! да! да! — отвечали все сообщники в один голос.
Приговор был произнесен. Надо было повиноваться. Эмрода сделала гримасу, но осталась. Заседание прекратилось только в два часа утра. Мы скоро узнаем результат его.
XV. Дом Бенуа
На другой день после той ночи, в которую происходили сцены, рассказанные нами читателю, мирные обитатели той части улицы Грента, которая примыкает к улице Сен-Дени, смотрели внимательно, стоя у своих дверей, на зрелище, сильно подстрекавшее их любопытство. Вот в чем оно состояло.
Довольно скромная лавка, давно уже не занятая никем, была снята в это самое утро. С рассвета несколько человек работали безостановочно и внутри и снаружи этой лавки. Одни наскоро прибивали полки и прилавки, походившие скорее на декорации и аксессуары в театре, нежели на настоящие прилавки и полки, потому что они были чрезвычайно тонки и не могли бы выдержать никакой тяжести. Другие, с помощью высокой лестницы, прибивали, над главным входом, огромный железный лист, без всяких изображений и надписи. Когда этот лист был прикреплен, явились два живописца. Первый нарисовал посреди листа нечто вроде барана, с великолепными рогами, и покрыл свой эскиз густым слоем мела, подражавшего с грехом пополам изменчивому отливу серебра. Пока этот художник оканчивал свое образцовое произведение, товарищ его также не терял времени. По обеим сторонам животного с длинными рогами он начертывал огромными белыми буквами следующие слова:
СЕРЕБРЯНЫЙ БАРАН
Николас Бенуа и К°
Шерстяные товары
На улице собралась большая толпа любопытных, состоявших большей частью из давнишних ее обитателей. Все с удивлением расспрашивали друг друга.
— Николас Бенуа, — говорил один, смотря на огромную вывеску. — Вам знакомо это имя, кум?
— Нет.
— А вам?
— И мне нет.
— А вам?
— Также нет.
— Стало быть, никто здесь не знает этого Николаса Бенуа?
— Никто.
— Откуда он?
— Неизвестно.
— Что он продает?
— Шерстяные товары, по крайней мере, это написано на вывеске.
— Сказать мимоходом, вывеска-то продержится недолго.
— Еще бы! Намалевана водяными красками.
— Да, денька два дождливых, так Серебряный Баран и поминай как звали…
— Не то, что ваша вывеска, дядя Корнибер… Вот уж прочная-то!..
— Я и не жалел ничего для нее!.. Зато она и свежа, как в первый день — всякий с этим согласится.
— Конечно, конечно!..
— Не знаю, почему, но у меня плохое мнение об этом Бенуа.
— Должно быть, это ничтожный человек.
— Очень ничтожный.
— Чрезвычайно ничтожный.
— Я так же думаю…
— И я…
— Ах! Поверьте, не пройдет и полгода, у нас в квартале будет банкротство и лавка эта закроется!..
— Нет никакого сомнения, я готов побиться об заклад!..
Так сострадательно рассуждали добрые обитатели улицы Грента, смотря на вывеску «Серебряный Баран». Парижский мещанин всегда был, есть и будет одинаков!..
Бенуа лично распоряжался работами, и если слышал все эти разговоры, то они нисколько его не обеспокоили. В этом мы смело можем уверить наших читателей.
К вечеру все было кончено. Тогда перед магазином остановились две повозки с тюками, которые казались тяжелы и набиты шерстяными товарами. Два сильных работника сгибались под тяжестью, таская их в магазин. Когда все тюки были перенесены, двери лавки заперли, закрыли ставни тяжелыми железными запорами, и Бенуа остался один со своими двумя помощниками. Это были не кто иные, как виконт и комиссионер.
Они побросали тюки в угол лавки, делая это с такой же легкостью, как будто бросали мячик, которым играют дети. Оказалось, что под грубым холстом были искусно скрыты ивовые каркасы, устроенные наподобие тюков с товарами. Три товарища переглянулись, смеясь.
— Ну, друзья мои! — сказал Бенуа, когда утих припадок. — Что вы думаете обо мне теперь, когда видите меня в деле? Кажется, первые акты нашей комедии идут хорошо, и я смею льстить себя надеждой, что развязка будет удовлетворительна!
— Будем надеяться! — отвечали хором виконт и его товарищ.
— Видали ли вы когда-нибудь, чтоб такой важный торговый дом, какой основали мы сегодня, устраивался с такой удивительной быстротой?
— О! Никогда!.. Ты — искусник первой руки!..
— Превосходный дом, впрочем, — продолжал Бенуа, опять засмеявшись, — сорок тысяч ливров барыша в каких-нибудь восемь часов, с самого начала операции, и без всякого риска!.. Я думаю, что это порядочное начало!
— Конечно!..
— Я всегда думал, что имею гениальные способности к спекуляциям!.. Завтра я берусь доказать, что справедливо судил о себе; теперь пойдем ужинать… я еще окончу к сроку последние приготовления…
Трое плутов вышли из магазина и направились к дому на улице Жендре, где их ожидали другие сообщники.
На другой день очень рано двери «Серебряного Барана» снова растворились. Бенуа расставил мебель в комнате за лавкой, которая, благодаря этой заботливости, приняла довольно комфортабельный вид. Он принес с собою ящик с серебряным столовым прибором и корзинку с несколькими бутылками превосходных вин. Все это было взято из главной квартиры на улице Жендре.
Устроившись таким образом, Бенуа вышел заказать у ресторана на площади Шатле великолепный обед на пять человек. Он велел поварам отличиться, обещал им дать на водку, приказал, чтобы обед был готов непременно в семь часов и принесен в лавку под вывеской «Серебряный Баран».
В два часа носильщики принесли в портшезе даму, которая быстро вбежала в лавку. Это была мнимая племянница Бенуа, очаровательная Эмрода. Никогда молодая девушка не казалась такой прелестной, как теперь, в своем простом костюме мещанки. Коричневое шерстяное платье, превосходно сшитое, обрисовывало ее изящные формы и придавало ее развязному обращению несколько жеманный вид, восхитительно эффектный. Интересное личико Эмроды блистало лукавством и умом. Она силилась придать своим взорам простодушное выражение, которого обычно в них не было, и походила на хорошенького демона, переодевшегося ангелом, чтобы искусить какого-нибудь сурового отшельника. Словом, она была обольстительна вне всякого сравнения.
— Здравствуй, милая племянница, — сказал Бенуа, целуя ее в обе щеки. — Боже мой, как ты очаровательна!.. Ты должна завладеть сердцем молодого кавалера!..
— Вы думаете! — спросила Эмрода с соблазнительным кокетством.
— Не думаю, а уверен!
— Бедный молодой человек! — прошептала Эмрода, жеманясь.
— Уж не будете ли вы сожалеть о нем?..
— А то как же!..
— Милое дитя, — отвечал Бенуа, — будь я на месте Рауля де ла Транблэ и захоти вы любить меня в продолжение двух часов, или по крайней мере только показывать вид, что одно и то же, я не пожалел бы сорока тысяч ливров, которые пришлось бы мне заплатить за такое счастье!
— О! о! — произнесла Эмрода, смеясь. — Как вы любезны сегодня, дядюшка!
— Вы это говорите потому, что я откровенен, племянница…
— Старый льстец!..
— Недоверчивая красавица!..
Мадригалы Бенуа были прерваны появлением двух или трех женщин, которые под предлогом сделать несколько покупок пришли посмотреть на магазин. Им отвечали, что продажа начнется только через три дня, и они удалились с досадой обманутого ожидания.
К четырем часам Бенуа ушел, оставив свой магазин под надзором Эмроды и комиссионера, который успел преобразоваться в купеческого приказчика. Бенуа тоже принарядился. Он надел темно-коричневые панталоны, табачного цвета кафтан с широкими стальными пуговицами, желтый жилет с красными цветами, белый галстук, белые чулки с фиолетовыми стрелками и башмаки с серебряными пряжками. Выбрившись и надев новый парик, Бенуа пошел на бульвар за портшезом и велел отнести себя на улицу Паради-Пуассоньер, в гостиницу «Золотое Руно».
XVI. Гости Бенуа
Добравшись до гостиницы Николас Бенуа вылез из портшеза, вошел в дом и отправился прямо в комнату Рауля. Дверь была заперта изнутри. Бенуа постучал.
— Кто там? — спросил голос изнутри.
— Я, Николас Бенуа. Я пришел засвидетельствовать свое уважение кавалеру де ла Транблэ и взять его с собой, как было условленно третьего дня, — отвечал мнимый купец.
— Хорошо, — сказал голос, — сейчас отворят, любезный месье Бенуа…
Бенуа услыхал, как отодвигают запоры, и дверь повернулась на своих петлях. Он мог войти.
Рауль сидел в глубине комнаты, а дверь отворил Жак. Кавалер встал, побежал навстречу к своему вероломному другу и дружески пожал ему руку.
— Кавалер, — сказал ему Бенуа, улыбаясь, — ваша комната — настоящая крепость… чтобы войти в нее против вашей воли, пришлось бы сделать осаду!
— Ведь вы сами советовали мне быть осторожным?
— Конечно, и я могу только одобрить это…
— С тех пор, как вы меня оставили третьего дня, я никуда не выходил.
— Такое затворничество, вероятно, для вас очень тягостно…
— Немножко.
— К счастью, оно не долго продлится…
— Каким образом?
— Сегодня мы будем обедать с моим другом майором д'Эстаньяком…
— А вы уже говорили ему о моем деле?
— Говорил…
— Что же он ответил?
— Он сказал, что добрые дворяне должны поддерживать друг друга, что д'Эстаньяк не может оставить ла Транблэ в затруднительных обстоятельствах и что для него будет одновременно и честью и удовольствием быть вам полезным и приятным…
— Итак, вы надеетесь?..
— Я совершенно уверен в успехе… — Да услышит вас Бог!..
— Он меня услышит, не сомневайтесь в этом, кавалер!..
Говоря таким образом, Николас Бенуа вынул из кармана хронометр величиной в пятифранковую монету и толщиной в три пальца. Он посмотрел на циферблат, потом сказал:
— Кавалер, имею честь заметить вам, что уже поздно; обед будет скоро готов, а вы знаете, что подогретые кушанья теряют три четверти своего достоинства…
— Я готов следовать за вами, месье Бенуа.
— В таком случае, отправимся в путь, если вам угодно!..
— Сию минуту.
Рауль надел шляпу и, обернувшись к слуге, который, стоя возле дверей, слышал весь разговор, сказал:
— Жак, ты не забудешь моих приказаний, не правда ли?
— Будьте спокойны, кавалер.
— Ни под каким предлогом, не выходи из этой комнаты…
— Если загорится дом, и тогда не выйду, — отвечал Жак. — Сгорю здесь, а не оставлю чемодана, который вы поручили мне.
— Хорошо. Держи ухо востро, глаза настороже, руку на пистолете…
— Слушаю, кавалер.
— Наконец старательно задвинь засовы сразу, как я уйду, и отвори дверь только тогда, как я три раза произнесу свое имя и когда ты уверишься, что узнал мой голос.
Жак поклонился, и Бенуа вышел из комнаты с Раулем де ла Транблэ. Оба сели в портшез, который ждал их перед гостиницей.
— На улицу Грента, в магазин под вывеской «Серебряный Баран», сказал Бенуа, который прежде, чем сел возле Рауля, отдал несколько приказаний носильщикам.
Портшез двинулся, старичок возобновил разговор.
— Я знаю, кавалер, как нельзя лучше, что общество такого ничтожного негоцианта, как я, не может быть слишком приятно для такого дворянина, как вы.
Рауль хотел было возразить, но Бенуа не дал ему времени и продолжал:
— Да, кавалер, я знаю это, и то, что вы могли бы мне сказать из вежливости и благосклонности, не убедит меня в противном! Поэтому я постарался сделать насколько возможно приличный выбор моих сегодняшних гостей.
— Клянусь вам, месье Бенуа, что мне было бы совершенно достаточно вашего общества:
— Вы так не думаете, кавалер.
— Думаю, уверяю вас!
— Не верю и продолжаю: кроме моей племянницы, с которой я уже говорил и которая скорее похожа на герцогиню, чем на мещанку, и моего друга майора, у меня еще будет молодой вельможа, человек очень любезный и с большими связями. Уже около трехсот лет Бенуа пользуются покровительством виконтов де Сильвера. Вы, без сомнения, знаете, хотя бы понаслышке, этого молодого вельможу, виконта Ролана де Сильвера. Он человек очень знатный…
Рауль никогда не слыхал этого имени, однако счел себя обязанным отвечать:
— Да, да, Сильвера… Знатные дворяне!.. Я слыхал о них раз сто… по крайней мере.
— Виконт Ролан ужасно богат, — продолжал Бенуа, — и во многих случаях его высочество регент удостаивал его особенными отличиями… Советую вам сойтись с ним как можно короче, поверьте, вы много выиграете от этого; он окажет вам большие услуги, этот вельможа любит оказывать услуги и может легко это делать.
— Он моих лет? — спросил Рауль.
— Не совсем, ему около тридцати лет, но на вид не более двадцати пяти, да и характером он очень молод.
— Я непременно воспользуюсь вашими превосходными советами, — сказал кавалер.
— И хорошо сделаете!
— А о вашем друге майоре вы мне не сказали ничего… Что это за человек?..
— Настоящий дворянин, храбрый воин и сверх того славный малый! Увидите сами… Танкред д'Эстаньяк гасконец только по имени и по произношению, от которого он никак не мог отвыкнуть. А впрочем, он — олицетворенное чистосердечие, благородство и правдивость. О! я отдаю дружбу мою только таким людям, насчет которых нельзя сказать ни словечка!
В эту минуту портшез остановился. Бенуа выглянул на улицу.
— Вот мы и дома! — сказал он. — Ваш разговор так очаровал меня, кавалер, что мне казалось, будто мы только что отправились…
Рауль и Бенуа вышли из портшеза, последний заплатил и отпустил носильщиков. Не вводя еще кавалера в лавку, дверь которой была полуотперта, Бенуа поднял руку, указал молодому человеку на вывеску, написанную только вчера, и вскричал:
— Это эмблема моего магазина, эта старая вывеска, известная и уважаемая во всем Париже, гордится честью, которую вы, кавалер, оказываете ей сегодня, и благодарит вас моим голосом.
Не ожидая ответа, Бенуа повел Рауля в дом. В магазине было темно. В полусвете виднелись прилавки, загроможденные товарами, и симметрично разложенные тюки.
— Кавалер, — сказал Бенуа, проходя через магазин, — тут достанет сукна, чтобы одеть десять таких рот, как та, которой вы скоро будете командовать; надеюсь, что вы вспомните обо мне, когда вам понадобится экипировка ваших солдат… У меня есть богатый ассортимент синих сукон самого высокого сорта.
— Заранее покупаю, — отвечал Рауль, смеясь.
Они прошли в комнату за лавкой, превратившуюся, как мы уже знаем, в столовую. По искусному контрасту эта комната была освещена истинно великолепным образом. Четыре канделябра с множеством восковых свеч проливали ослепительный блеск на стол, накрытый голландской камчатной скатертью и уставленный серебром и хрусталем. Этот яркий блеск выказывал изящество и роскошь столового сервиза. Рауль был ослеплен.
В ту минуту, как он раскрывал рот, чтобы сделать комплимент Бенуа, он заметил Эмроду и уставился на нее с очевидным восторгом. Увидев внимание Рауля, девушка приятно ему улыбнулась и сделала самый скромный и грациозный поклон.
— Кавалер, — сказал Бенуа, взяв Эмроду за руку, — честь имею представить вам мою племянницу… Я вас предупреждал, что она прехорошенькая. Судите сами, обманул ли я вас…
— Ах, любезный хозяин! — воскликнул Рауль. — Вы сказали мне очень мало!.. Ваша племянница не простая смертная… это нимфа, это божество!..
Бенуа расхохотался мифологическому восторгу молодого человека.
— Эта милая малютка — моя единственная наследница, — сказал он, — так как я навсегда остаюсь холостяком. Со временем, у ней будет двадцать тысяч ливров годового дохода, понемножку накопленных ее старым дядей от продажи шерстяных материй и сукон; и, право, тот, кто сделается ее мужем, может похвалиться, что сделал недурное дельце…
Бенуа потер руки. Эмрода потупила свои большие глаза. Рауль принялся размышлять. Ему казалось ясно, как день, что старый купец некоторым образом как будто предлагает ему руку своей хорошенькой племянницы и двадцать тысяч годового дохода, которые она со временем получит в наследство. Рауль не считал себя настолько знатным дворянином, чтобы отказаться от такого выгодного брака. Он взял за руку Бенуа и выразительно пожал ее.
— Дитя мое, — спросил купец свою мнимую племянницу, — майор еще не приезжал?
— Нет еще, милый дядюшка.
— А виконт?
— Тоже не приехал…
— Эти господа вечно опаздывают… К счастью, обед еще не подан.
В эту самую минуту постучали в наружную дверь, и через минуту два новых лица вошли в комнату.
Это были блестящий вельможа Ролан де Сильвера и с ним достойный майор Танкред д'Эстаньяк.
XVII. Обед Бенуа
Майор и виконт были одеты с чрезвычайной роскошью.
Майор был в грациозной и кокетливой форме Королевско-Шампанского полка, в кафтане из красного сукна с золотым позументом, в жилете, обшитом точно таким же образом, в белых панталонах, шелковых чулках и башмаках с пряжками. Шпага билась у него по ногам. Шляпа с широким золотым позументом и белой кокардой была надета набекрень на напудренном парике. Черные, закрученные кверху усы придавали ему воинственный вид.
Костюм Ролана де Сильверы в полном смысле слова ослеплял глаза. Гродетуровый кафтан фиолетового цвета, очевидно, вышел из рук самого знаменитого портного. Тонкая вышивка подчеркивала жилет из белого муара. Ничто не могло сравниться с великолепием его кружев и манжет. На безымянном пальце левой руки у него был солитер, который должен был стоить, по крайней мере, сто тысяч ливров, если только действительно принадлежал к неподдельным сокровищам Голконды. Каждое движение головы окружало его душистым облаком самой лучшей пудры. Наконец от него пахло мускусом и амброй необыкновенно тонкого и самого аристократического благоухания1. Словом, военный и вельможа, майор и виконт — оба производили впечатление людей хорошего тона, и Раулю, который, впрочем, и не мог иметь ни малейшего подозрения, было очень извинительно обмануться искусной комедией, разыгранной этими ловкими плутами.
Николас Бенуа побежал навстречу гостям. Обменявшись первыми приветствиями, он представил им Рауля, которого они осыпали самой благосклонной вежливостью. Оба гостя поклонились потом Эмроде, которая отвечала им также поклоном, с робкой скромностью и потупив свои прекрасные глаза, нисколько не привыкшие к этому. Почти тотчас же принесли обед из ресторации. Стол, как бы по волшебству покрылся кушаньями, и Бенуа вскричал:
— За стол, господа! за стол! Не дадим кушаньям остыть!..
Этому гастрономическому совету тотчас последовали, и все заняли места в следующем порядке: Эмрода посреди, виконт направо, Рауль налево, потом майор возле Рауля, а сам Бенуа между майором и виконтом.
В первые минуты все молчали. Слышался только методичный звук ложек. Рауль ел с аппетитом, но каждую секунду он украдкой взглядывал на Эмроду, и взор его ясно выражал опасный восторг. Старая мадера развязала язык гостям, и пока Бенуа разделял на части серебряной лопаточкой великолепного палтуса, разговор начался.
— Знаете ли, любезный месье Бенуа, — сказал виконт Ролан де Сильвера, — что обедать в «Серебряном Баране» истинное удовольствие!.. Я не говорю об очаровательном приеме хозяина и о любезности его восхитительной племянницы, я говорю о чудесных обедах!..
Бенуа поклонился.
— Вы мне льстите, виконт! — прошептал он.
— Совсем нет, — отвечал виконт, — я говорю, что думаю!.. Ужины регента совсем не так роскошны, как обеды, на которые вы нас приглашаете?
— О! — сказал Бенуа.
— Не такого ли мнения и вы, майор? — продолжал виконт.
— Да, конечно! — отвечал офицер с сильным гасконским произношением.
— А вы, кавалер, что вы думаете об этом? — обратился Ролан де Сильвера к Раулю.
— Право, виконт, — отвечал последний, — я не бывал на пале-рояльских ужинах и потому не могу быть судьей в деликатном вопросе, который вы изволите мне задавать, но могу смело решить, что в целом свете невозможно встретить лучший обед, а в особенности более любезное и очаровательное общество…
Произнося последние слова, молодой человек слегка поклонился Эмроде.
— А! Браво!.. браво!.. — вскричали в один голос виконт, майор и Бенуа.
— Черт побери! — вскричал Ролан де Сильвера. — Кажется наш любезный хозяин говорил нам сейчас, что вы приехали из провинции?.. Черт меня побери, если я верю в это!..
— Однако это правда, — сказал Рауль.
— Полноте!..
— Уверяю вас, — сказал Рауль.
— Быть не может…
— Вы в Париже в первый раз?..
— Боже мой, да.
— И давно?
— Два дня.
— Рассказывайте другим!..
— Клянусь вам!..
— Рассказывайте другим, говорю я вам! Меня так обмануть нельзя!.. Я знаю в этом толк, кавалер, знаю, что не на охоте за лисицей в глубине провинции можно приобрести осанку дворянина, бывающего при дворе и умеющего говорить комплименты такие деликатные и тонкие, как тот, который вы сказали сейчас!..
— Неужели вы не верите мне, виконт?
— Сохрани Бог!
— Ну! Даю вам честное слово, что я в Париже только два дня.
— После этого сдаюсь… — прошептал виконт с изумленным видом, — но право не могу надивиться!
— Вы слишком снисходительны!..
— Я только справедлив!.. Поверьте, кавалер, вы пойдете далеко!..
— Принимаю предсказание.
— Позвольте мне задать вам два или три вопроса, внушаемые мне живейшим участием?..
— Не только позволяю, но еще буду вам чрезвычайно благодарен…
— Вы конечно приехали в Париж искать места при дворе регента?.. В таком случае, я почту себя счастливым предложить к вашим услугам все свое влияние…
— Нет, — отвечал Рауль, — я не могу стремиться так высоко…
— Может быть, вы не богаты?
— Точно, я почти беден…
— А желаете ли приобрести богатство, которого вам недостает?
— Желаю, разумеется…
— Это легко.
— Каким образом?
— Поступите на службу…
— Я уже думал об этом.
— Купите роту в каком-нибудь хорошем полку, там, как и везде, вас заметят; вы заставите говорить о себе; регент захочет вас видеть, знатные друзья будут вас горячо поддерживать, вы женитесь на какой-нибудь богатой наследнице, вместо роты будете командовать полком и сделаетесь значительным человеком. Вот ваш гороскоп, можете поверить мне, я никогда не ошибаюсь!..
— О! Это и мое мнение! — подхватил Бенуа. — Виконт сказал именно то, что я думал и что хотел сказать. Да, кавалер, да, мой юный друг… позвольте мне назвать вас этим сладостным именем… вот ваш гороскоп, а что касается богатой наследницы, то, может статься, отыскивая прилежно и долго, мы наконец найдем ее для вас!.. хе-хе!.. хе-хе!..
Бенуа весело потер руки, засмеявшись выразительным смехом и бросив взгляд на Рауля и Эмроду, которые сидели, как мы знаем, друг возле друга. Молодой человек интенсивно поднял глаза на свою хорошенькую соседку, и ему показалось, что прекрасное пурпуровое облако самой милой застенчивости распространилось по щекам ее и лбу.
— Итак, решено, — сказал Бенуа, — наш юный друг вступает в службу?..
— Да, да, да, — отвечал виконт, — решено!
— Вы знаете, — заметил Рауль, — что для этого мне необходимо купить роту.
— Справедливо, — возразил Ролан де Сильвера, — но роту можно найти…
— Не всегда, — прошептал Бенуа.
— Майор, — спросил виконт, — в вашем полку не продается ли рота?..
— Смотря по обстоятельствам… — сказал майор.
— Как это… смотря по обстоятельствам?
— Да, это зависит…
— От чего?
— От рулетки, фараона, крепса, ландскнехта и от более или менее благоприятных шансов игры…
— Вы говорите загадками…
— Нисколько.
— Только мы вас не понимаем, объяснитесь, пожалуйста.
— Очень легко. Между офицерами моего полка есть барон Гектор де Кардальяк…
— Я знаю его немножко…
— Стало быть, вы знаете, что он игрок…
— Мне помнится, что я об этом слышал.
— Все, что могли вам рассказать на этот счет, наверно, гораздо ниже действительности. Есть люди, которые играют затем, чтобы жить. Гектор, напротив, живет для того, чтобы играть, а хуже всего то, что бедного молодого человека преследует ужасное несчастье… Никогда я не видал, чтобы он выиграл, вечно играет и беспрестанно проигрывает…
— Несчастные игроки всегда бывают и самые страстные!.. — заметил виконт де Сильвера в виде философского размышления. — Продолжайте, любезный майор, продолжайте…
— Надо вам сказать, — продолжал майор, — что барон Гектор де Кардальяк имел тетку, почтенную вдову, страстно обожавшую своего негодяя племянника, которому она намеревалась оставить все свое богатство…
— Словом, это тетка с наследством… перебил Бенуа.
— Я прожил четыре наследства! — вскричал виконт де Сильвера, смеясь.
— Эта почтенная родственница, — продолжал майор, — охотно платила долги барона, а тот, постоянно преследуемый несчастьем на зеленом сукне, не пропускал случая зачерпнуть из ее кошелька…
— И, — перебил виконт во второй раз, — вдова, которой наконец это надоело, без сомнения, дала знать своему племяннику, чтоб он более на нее не рассчитывал?..
— Вовсе нет.
— А что же?
— Она умерла в прошлом месяце…
— Лишив наследства барона?
— Напротив, сделав его своим единственным наследником.
— И она была богата?..
— У ней было тысяч тридцать годового дохода.
— Майор, я не понимаю ни слова из всего, что вы нам рассказываете.
— Подождите с минуту, я сделаюсь прозрачен как горный хрусталь.
— Посмотрим!
— Получив во владение свое наследство, Гектор де Кардальяк взял отпуск и приехал в Париж… Знаете ли, зачем?
— Вот уж нет!
— Чтобы отомстить несчастью, до сих пор преследовавшему его, чтобы сразиться со случаем в правильном сражении, с армией банковских билетов вместо артиллерии. Другими словами, чтобы возвратить, посредством смелости и счастья, все суммы, которые он проиграл с тех пор, как в первый раз дотронулся до карт…
— Черт побери! Стало быть, этот молодой человек просто сумасшедший?
— Нет, не сумасшедший, а игрок…
— Это почти одно и то же.
— Я встретил барона три дня тому назад.
— Что он вам сказал?
— Он сказал, что уже успел проиграть половину состояния, оставленного ему теткой…
— И это не послужило ему уроком?
— Нисколько! Он говорит, что вовсе не теряет надежды отыграться и что будто открыл уже какое-то верное средство, которое поможет ему в трое суток сорвать все банки и сделаться десять раз миллионером.
Виконт расхохотался, другие собеседники последовали его примеру. Майор продолжал:
— Вероятно, теперь Кардальяк уже проигрался до последней копейки и все-таки не потерял надежды на свое верное средство; следовательно, он продаст свою роту, чтобы отыграться.
— Это, действительно, вероятно, — отвечал виконт.
— А мне кажется, даже несомненно, — подтвердил Бенуа.
— Необходимо увидеться с бароном, не теряя времени, — продолжал де Сильвера, — чтобы юный друг наш мог воспользоваться, если будет случай, заключить с Кардальяком выгодную сделку…
— Я увижусь с ним завтра же, — отвечал майор.
— Вы знаете его адрес?
— Знаю.
— Где он живет?
— На улице Добрых Детей, в гостинице «Мальтийский Крест». Повторяю, я буду у него утром.
— Ах! — вскричал Рауль с умилением. — Как вы добры ко мне, господа, и какой признательностью я обязан вам!..
— Полноте! полноте! — сказали в один голос трое мужчин, с дружеской настойчивостью заставляя замолчать своего юного собеседника.
— Сколько может стоить рота? — спросил Николас Бенуа у майора.
— Это зависит…
— От чего?
— Во-первых, от полка, в который хотят вступить…
— Например, в вашем полку?..
— О! Наш полк очень дорог! Самый дорогой из всех… Причиной тому отчасти наш мундир, который, как вы видите, очень щеголеват! Знатная молодежь приписывает большую важность этим мелочам, которые возвышают их природную грацию и бросаются в глаза всем женщинам.
— Ах! — вскричал Бенуа. — Дело в том, что кавалер будет очарователен в этом пунцовом кафтане! Пожалею я о бедных мужьях тех городов, где кавалер будет стоять со своим полком… Хе-хе-хе-хе!..
И Бенуа снова расхохотался, потирая руки. Через минуту он прибавил:
— Какая же цена, майор?..
— Пятьдесят тысяч ливров, по меньшей мере, — отвечал Танкред д'Эстаньяк.
— Черт побери! — воскликнул Бенуа.
— Пятьдесят тысяч ливров! — повторил Рауль с испугом и отчаянием.
— Но, — продолжал купец, — нельзя ли немножко поторговаться?
— Невозможно! Если Кардальяк захочет продать и потрудится не долго подождать покупщика, он легко получит шестьдесят тысяч ливров… Разве только побуждаемый желанием поскорее достать деньги решится он сделать уступку…
— Надо перестать об этом думать… — прошептал Рауль.
— Почему? — спросил Бенуа.
— Вы знаете сумму, которой я могу располагать?..
— Без сомнения.
— И стало быть, знаете, что эта сумма не доходит до пятидесяти тысяч, нужных для покупки…
— Так что ж за беда!
— Но мне кажется…
— Ах, кавалер!.. Неужели у вас обо мне такое жалкое мнение и вы так мало полагаетесь на мое слово и мое сочувствие?.. Откровенно признаюсь, я этого не ожидал от вас… Я смел надеяться, что в случаях, подобных этому, вы просто-напросто скажете мне: Бенуа, я имею нужду в десяти тысячах ливров!.. Чтобы доставить мне удовольствие ответить вам: Кавалер, вот они!
Рауль, глубоко растроганный, мог только горячо пожать руку Бенуа.
— Итак, — продолжал последний, — это решено/ Вы располагаете мною?..
— Да.
— Вот и прекрасно!.. Слышите, майор, мы покупаем роту барона Гектора Кардальяка, если только она продается, покупаем ее, несмотря ни на какую цену!..
— Положитесь на меня, — сказал Танкред, — я сделаю все возможное, чтобы сделать это дело.
— Теперь, господа, — вскричал виконт де Сильвера, поднимая стакан, — я предлагаю выпить за здоровье мадемуазель Эмроды, нашей очаровательной хозяйки!
Все стаканы чокнулись в ту же минуту, и за здоровье девушки было выпито три раза.
Обед продолжался. Отличные вина подавались беспрестанно. В то же время, как они сверкали в стаканах, подобно рубинам и топазам, самая безумная веселость овладевала собеседниками. Веселость эта, однако, не переступала строгих границ воздержанности и приличия, и обед на улице Грента нисколько не походил на ужин на улице Жендре. Несколько шумная веселость Бенуа походила на откровенную и простодушную веселость доброго купца, который гордится тем, что принимает у себя людей выше его звания и угощает их великолепно. Рауль забывал прошедшие горести, и воображение его плавало в прозрачных водах розовой и золотой будущности. Он упивался двойным опьянением бесподобных вин, которые беспрестанно подливал ему Бенуа, и нежностью, которую почерпал в прекрасных глазах Эмроды, ласково смотревшей на него.
Случилось, что салфетка Эмроды упала с колен ее под стол. Рауль поспешно наклонился поднять ее. Молодая девушка сделала то же движение. Волосы ее коснулись до лба Рауля и обдали его легким благоуханием; крошечные пальчики дотронулись до его руки. Неведомое и восхитительное ощущение пробежало тогда по жилам молодого человека и заставило его задрожать, как будто гений сладострастия дотронулся до него кончиком своего крыла. Ему показалось, что вся кровь из его тела прилила к сердцу быстрее, горячее, живее, чем прежде. Тогда, с неслыханной смелостью, почерпнутой в мадере и шампанском, он наклонился к Эмроде, охватил рукой ее гибкий стан и взволнованным голосом прошептал:
— Я вас люблю!..
На это Эмрода, с очаровательным взором и скромностью пансионерки, отвечала:
— Я завишу от дядюшки… Обратитесь к нему… если он примет ваше предложение, я не откажу…
Это признание, хотя не совсем прямое, еще более увеличило упоение Рауля.
— Ангел! — шептал он. — Тебе мое имя!.. тебе моя жизнь!.. Тебе моя рота… тебе… тебе… тебе…
Потом он произнес несколько несвязных слов, локти его опустились на стол, а голова упала на руки. Он был совершенно пьян. Через две минуты он спал.
Четыре особы, находившиеся в это время возле Рауля, то есть Эмрода, Бенуа, виконт Ролан де Сильвера и майор Танкред д'Эстаньяк, поставили на стол стаканы, которые подносили уже к губам, переглянулись и засмеялись, но тихим и безмолвным смехом, очевидно, не желая разбудить уснувшего гостя.
Бенуа первый прервал молчание, и то знаками, как глухонемой. Он указал на Рауля, потом на себя, потом на троих своих сообщников и два раза сделал вид, будто аплодирует. Это был новый и весьма замысловатый способ показывать, что все исполнили свой долг. Майор и виконт это поняли, и так как другие занятия призывали их в другое место, они молча пожали руки дяде и племяннице и вышли на цыпочках из лавки «Серебряный Баран».
Бенуа, Эмрода и Рауль остались одни.
XVIII. Наяда
Через две минуты Эмрода подошла к мнимому дяде и шепнула ему:
— Я уйду!..
— Куда? — спросил Бенуа, тем же тоном.
— По своим делам! Мне кажется, мой милый сообщник, что вы становитесь очень любопытны!..
— Опять какая-нибудь интрижка!..
— Может быть.
— Безумная голова!
— Старый ворчун!
— Но, — продолжал Бенуа, указывая на Рауля, — если он спросит о вас, когда проснется?..
— Есть чем думать! Отвечайте ему просто, что я ушла в свою комнату; я думаю, что это очень естественно и даже прилично.
— Кажется, бедняжка влюбился в вас серьезно…
— Не говорите этого.
— Отчего?
— Оттого, что эта любовь очень меня огорчает…
— Вы шутите?
— Нисколько! Весь вечер у меня ныло сердце!.. Я чувствовала угрызение совести, оттого что я ваша сообщница в этом гнусном деле!.. Знаете ли, ведь это гнусность грабить таким образом несчастного молодого человека?
— Знаю ли? — возразил Бенуа. — Еще бы!.. Да, я знаю, что это гнусность, но она прибыльна, а мы часто делаем такие гнусности, которые не приносят нам ничего!..
— Этот молодой человек очарователен! — прошептала Эмрода, с меланхолическим видом потупив свои прекрасные глаза, которые были устремлены на Рауля, пока говорил Бенуа.
— Берегитесь, душечка! — возразил последний. — Пожалуй, вы не шутя влюбитесь в кавалера Рауля де ла Транблэ!..
— Может быть…
— Что вы сказали?..
— Я сказала: может быть.
— Что же вы будете делать в таком случае?
— Я спасу этого молодого человека и вырву его из ваших когтей!..
— Извините, моя милая, мне кажется, что вы забыли..
— Что?
— Одну статью в уставе нашего общества…
— Какую?
— А вот эту: «Если кто-нибудь из нас изменит интересам общества и будет способствовать неудаче предприятия, начатого нами, этот вероломный сообщник будет исключен, и каждый из нас даст клятву преследовать его всегда и повсюду своей ненавистью и мщением»…
Эмрода опустила голову и ничего не отвечала.
— Теперь вспомнили? — спросил Бенуа лукаво.
— Да, — прошептала девушка.
— Очень хорошо!.. Не будем же более говорить о вещах бесполезных, и если вас ждут где-нибудь в другом месте, ступайте, милое дитя, я вас не удерживаю…
— Когда я вам буду нужна?..
— Завтра.
— В котором часу?
— В двенадцать.
— Где?
— Здесь.
— Приду непременно.
— Надеюсь…
— Прощай, старый черт!
— Прощай, очаровательный бесенок!
Эмрода набросила на плечи плащ из простой материи, закрыла капюшоном лицо, что придало ей внешность гризетки, возвращающейся с работы, бросила на Рауля последний томный и почти печальный взгляд и вышла. Николас Бенуа опять сел напротив кавалера и принялся пить,
Было около полуночи, когда мнимый купец, найдя, что гость его довольно поспал, встал из-за стола и опрокинул стул. Рауль проснулся, глаза его были еще сонные, и совершенный беспорядок господствовал в его мыслях.
— Что это? — прошептал он. — Где я?
— У вашего лучшего друга, — отвечал Бенуа медовым голосом.
Звук этого голоса заставил Рауля опомниться. Он с удивлением осмотрелся кругом. Бенуа понял этот взгляд и сказал, улыбаясь:
— Гости наши уехали, племянница легла, мы одни…
— Я заснул! — вскричал Рауль в смущении.
— И прекрасно сделали, мой юный друг!.. Разве вы здесь не как дома?..
— Но ваша племянница и эти господа… что могут они подумать обо мне?..
— Они подумают, что вы устали от продолжительного путешествия верхом и уступили непреодолимому сну… Вот и все!.. Ничего не может быть проще!
— Вы удостоверяете меня, что они не получили обо мне слишком невыгодного мнения?..
— Клянусь вам честью!..
— Ах! Вы меня успокаиваете немножко…
— Успокойтесь совершенно!..
— Теперь, любезный хозяин, позвольте мне поблагодарить вас за ваше любезное гостеприимство и проститься с вами…
— К чему вы торопитесь?
— Уже поздно, а голова у меня тяжела.
— Когда я буду иметь честь увидеть вас?..
— Когда вы хотите?
— Чем скорее, тем лучше. Вы знаете, что завтра утром мы получим известие о вашем деле…
— Надеетесь вы, что оно удастся?..
— Не сомневаюсь нисколько…
— Но я не знаю, должен ли принять ваше великодушное предложение насчет десяти тысяч франков…
— Почему же?
— Боюсь употребить во зло…
— Дитя! Я предлагаю вам эти деньги от всего сердца; притом сам не знаю почему, но мне кажется, что вы как будто принадлежите к моему семейству…
Этот слишком ясный намек на возможность брака Эмроды и Рауля заставил забиться сердце молодого человека. Он опять схватил руку Бенуа и пожал ее.
— По всей вероятности, — продолжал Бенуа, — завтра утром я увижу майора, около полудня заеду к вам, и если у вас не будет других планов, вы поедете со мной повидаться с моей племянницей, которая будет очень рада вас видеть…
— Вы думаете? — спросил Рауль с восторгом.
— Я хочу доставить ей самой удовольствие сказать вам об этом…
Этими словами окончился разговор. Бенуа и Рауль отправились на бульвар. Там Бенуа простился с кавалером, который остановил портшез и велел отнести себя в гостиницу «Золотое Руно».
Верный данному приказанию, Жак не оставлял своего поста. Он сидел на чемодане, в котором заключалось все состояние его господина, и держал в обеих руках по пистолету, готовый выстрелить в каждого, кто захотел бы войти насильно в комнату, вверенную его охране.
— Все ли благополучно? — спросил Рауль.
— Все, кавалер.
— Никто не приходил?
— Никто.
— Хорошо. Ступай, мой милый, ты уже мне не нужен.
Жак не заставил повторить этих слов, которые снимали с него тяжелую ответственность и возвращали ему право спать спокойно. Рауль остался один. Он осмотрел пистолеты, положил их на стол возле своей кровати, лег, погасил свечу и заснул почти в ту же минуту глубоким, благодетельным сном. Самые приятные сны, сны любви и счастья, снились ему на этот раз.
Сначала Раулю казалось, будто маленькая и узкая комната, в которой он находился, превратилась вдруг в веселый сад, настоящий оазис зелени, напитанной благоуханием цветов; сладостное пение птиц делало из этого сада как бы жилище Гармонии. Только — странное дело! — в самой середине его, на мраморном пьедестале, вместо статуи стоял черный кожаный чемодан, в котором находилось сорок тысяч ливров. Среди чудес веселой природы чемодан этот производил странный эффект. Но вдруг с ним произошло неожиданное превращение. Черная кожа превратилась в белый мрамор. Чемодан принял форму раковины. Послышался шелест, похожий на журчание воды, и из раковины брызнул шумный ключ, превратившийся сначала в ручей, а потом в реку. Этот новый Пактол катил свои волны из чистого золота, потому что каждая капля воды, вытекавшая из фонтана, тотчас же превращалась в луидор. Де ла Транблэ с радостным изумлением присутствовал при этом неожиданном зрелище, как вдруг нежная, почти небесная музыка раздалась в воздухе, между тем, как гармонический голос пел строфы, которые можно было бы передать таким образом:
«Наяда золотой реки явится в этих местах! Слава ей! Птицы, пойте самые сладостные ваши песни; цветы, разливайте ваше сладостнейшее благоухание! Вот наяда золотой реки!..»
Наяда наконец показалась. Она была прекрасна своей молодостью, прекрасна своими божественными прелестями, прекрасна в особенности своим нарядом, который присвоили себе богини из кокетства. Рауль вскрикнул от изумления и восторга. Он узнал Эмроду.
Старый тритон следовал за перламутровой и лазоревой раковиной, которая служила тропом и человеком юной богине. Длинная белая борода и тростниковая корона этого полубога не скрывали спокойных черт Николаса Бенуа. Как только он приметил Рауля, он вышел из реки, отряхивая золото, струившееся с его крепких членов, подошел к молодому человеку и пожал ему руку с совершенно человеческим добродушием.
— Кавалер, — сказал он, — вы любили мою племянницу, когда она была женщиной? Не правда ли?
— Более моей жизни! — вскричал Рауль.
— А теперь, когда она сделалась богиней?..
— Обожание примешивается к моей любви, но в моем сердце ничего не изменилось.
— Очень хорошо! Так женитесь же на ней!
— На богине? Такое счастье, без сомнения, мечта!
— Нет, и доказательством служит то, что великий жрец Нептуна ждет вас вон там, чтобы совершить ваш союз… Невеста в нетерпении… Не заставляйте ее ждать… Ах! я забыл вам сказать, что моя племянница приносит вам в приданое золотую реку и что вы будете богаче всех земных королей, сокровища которых составляют несколько жалких миллиардов!.. Война опустошает их сундуки!.. Ваши же со кровища наполнят океан!..
Рауль пошел за старым тритоном и женился на Эмроде перед жертвенником Нептуна.
Этот сон продолжался всю ночь.
XIX. Обман
Было около десяти часов утра, когда веселый солнечный луч разбудил кавалера де ла Транблэ. Молодой человек, внезапно оторванный от обольстительного сновидения, спрыгнул с постели и осмотрелся вокруг с некоторым беспокойством.
Это беспокойство впрочем не оправдывалось ничем. Все было на своем месте, как накануне. Ничья нескромная рука не дотронулась до шкатулки; дверь оставалась запертой. Рауль пересчитал свое золото — все оказалось в наличности. Успокоившись, молодой человек вспомнил свой сон и сказал себе, что это мифологическое видение было верным предзнаменованием счастливой действительности. Без всякого сомнения, он женится на Эмроде, очаровательной племяннице Бенуа, и этот союз обеспечит ему наследство богатого купца, доставит возможность пользоваться неисчерпаемыми источниками золотой реки.
Развеселившись этой обольстительной перспективой, Рауль оделся с чрезвычайным старанием, позвал Жака и велел подать завтракать. За несколько минут до двенадцати часов Бенуа явился в гостиницу «Золотое Руно», как обещал накануне.
— Ну, что? — спросил последний, дружески пожав руку Бенуа, — видели вы майора Танкреда?..
— Нет, но я получил от него сейчас записку…
— Что он вам пишет?
— Он меня уведомляет, что сообщит мне приятнейшие известия, и предупреждает, что будет в улице Грента в два часа.
— Приятнейшие известия… — повторил кавалер. — Что бы это могло быть?..
— Нетрудно понять!.. Он верно встретил барона Гектора де Кардальяка, и, без сомнения, ваше дело решено…
— Дай Бог! — прошептал Рауль.
— Впрочем, — продолжал Бенуа, — мы скоро узнаем, что значат слова майора, потому что, повторяю, в два часа он будет у меня…
Обменявшись этими словами, Рауль опять приказал Жаку оставаться в своей комнате и пешком отправился с Бенуа на улицу Грента.
Рауль нашел Эмроду свежее и милее — если только это было возможно, — чем вчера. Бенуа под каким-то предлогом оставил «племянницу»и кавалера наедине. Рауль поспешил воспользоваться несколькими минутами свободы. Влюбленный так сильно, как только можно влюбиться в его лета и в одни сутки, прошептал он на ухо молодой девушки страстное объяснение, которое было выслушано с волнением, не совсем притворным. О! Если бы в эту минуту Эмрода могла свободно располагать своим сердцем и своей рукой, как радостно повиновалась бы она влечению, которое чувствовала к этому молодому и очаровательному дворянину!.. Как она полюбила бы его и с какой искренностью сказала бы ему это!.. Но Эмрода не была свободна!.. Несчастная девушка отреклась от права хотеть и действовать. Она была звеном в цепи, колесом в машине и знала, что если решится на сопротивление, будет тотчас же уничтожена. Чувство этой зависимости, столь полной и столь жестокой, явилось ей в первый раз во всей своей горечи и болезненно сжало ее сердце. Две слезинки, прозрачные жемчужины, скатились с бархатных ресниц на атласные щеки.
Рауль объяснил эти слезы лихорадочным волнением, возбужденным в молодой девушке его нежным признанием. Он не сомневался более, что он любим, и счастье его удвоилось.
Когда возвратился Бенуа, ему достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что случилось во время его отсутствия. Он подошел к Раулю и сказал ему с выражением беспредельной важности и истинно родительского умиления:
— Сначала составьте себе положение, а потом… Ну! а потом, может статься, ваши желания сойдутся с моими…
Раулю захотелось броситься на шею этого достойного и превосходного человека и сжать его в своих объятиях. Без сомнения он и сделал бы это, но приход майора Танкреда д'Эстаньяка остановил это пылкое излияние чувств.
— Ну что? — с живостью спросил Бенуа у майора.
— Я не ошибся, — отвечал тот.
— В чем?
— В том, что барон де Кардальяк третьего дня порешил наследство своей тетки!..
— Разорился?..
— В пух.
— А все верит своему секрету?
— Еще бы… и даже более, чем прежде!..
— Стало быть, он соглашается продать свою роту?..
— В ту минуту, когда я заговорил с ним об этом, дело было уже почти решено с другим…
— Ах! Боже мой! — вскричал Рауль.
— Успокойтесь, — перебил майор, — я несколько возвысил цену, и, так как я товарищ барона, нам отдано преимущество.
Рауль подпрыгнул от радости.
— Итак, кончено? — спросил Бенуа.
— Я дал слово за нашего молодого друга…
— А цена?
— Пятьдесят тысяч, конкурент наш предлагал сорок восемь.
— Когда можем мы кончить? — спросил кавалер.
— Когда хотите. Патент и передаточная расписка барона со мною…
— Я побегу за деньгами! — вскричал молодой человек.
— Постойте, — остановил его Бенуа. — Как вы думаете, — прибавил он, обращаясь к майору, — не надо ли, чтобы прежде, нежели наш любезный Рауль отдаст свои деньги, регент одобрил и подписал уступку этой роты?..
— Да, конечно, — отвечал Танкред.
— Опять задержка! — прошептал Рауль.
— Никакой, если только регент в Париже… Вы знаете, здесь ли он, любезный майор?
— Да. Он не выезжает из Пале-Рояля.
— Стало быть, сегодня вечером все будет кончено, — продолжал Бенуа. — Я, кажется, вам говорил, что виконт Ролан де Сильвера в большой милости при дворе… Я отправлюсь к нему и отдам эти бумаги. Он тотчас поедет к регенту, и вы можете расплатиться вечером. Я думаю, это будет вам очень приятно, потому что вы должны спать не совсем спокойно возле вашего чемодана, набитого золотом!..
— Сколько же я буду вам должен? — сказал Рауль.
— Десять тысяч ливров, которые прибавлю к вашим сорока, — отвечал Бенуа, смеясь, — и уверяю вас, что вы найдете во мне не слишком жестокого кредитора… Однако пора! Я бегу к виконту. Вы подождете меня здесь, не правда ли?..
— Если вы позволите… — пролепетал молодой человек, которого мысль снова остаться наедине с Эмродой приводила почти в исступление.
Надежда эта была обманута. Бенуа точно вышел, но майор Танкред остался с молодыми людьми. Бедная птичка была так опутана, что ей невозможно было улететь. Следовательно, средства обольщения, употребляемые до тех пор, становились бесполезны; с другой стороны, благоразумие требовало не допустить Эмроду сделать какой-нибудь из тех необузданных поступков, которые так свойственны дочерям Евы. Рауль предпочел бы дуэт, но принужден был покориться необходимости и довольствоваться трио.
Отсутствие Бенуа было продолжительно. Он возвратился только к шести часам вечера и в карете.
— Регент подписал! — вскричал он, войдя в комнату, и показал Раулю пергамент, запечатанный огромной печатью, с гербом Франции, и подписанный Филиппом Орлеанским.
— Рота ваша, любезный друг, — сказал он юноше. — Только надо заплатить, и сегодня же вечером.
— Я готов, — отвечал Рауль.
— Я приехал в карете, — продолжал Бенуа. — Поедем к вам, возьмем деньги и вернемся сюда обедать. Потом мы с майором отвезем пятьдесят тысяч бедному безумцу Кардальяку, который тотчас их прокутит.
Рауль мог только согласиться на это предложение. Он сел в карету со своими двумя покровителями, и все трое приехали в гостиницу «Золотое Руно». По приказанию господина, Жак отворил дверь и на лице его отразилось сильная радость, когда он узнал, что с него будет снята всякая ответственность. Рауль раскрыл чемодан, чтобы вынуть вещи, доставшиеся ему от маркиза Режинальда, но тотчас передумал.
— Окажите мне еще одну услугу, — сказал он Бенуа.
— Какую?
— Поберегите у себя эти вещи, пока я их не попрошу у вас.
— Охотно, — отвечал Бенуа. — В моей кассе они будут в совершенной безопасности…
— Разумеется, гораздо более, чем в моих руках, — отвечал с улыбкой молодой человек.
Чемодан был отнесен в карету, и трое спутников возвратились на улицу Грента.
XX. Щедрость Бенуа
Приехав в магазин «Серебряный Баран», Рауль, Бенуа и Танкред д'Эстаньяк нашли там виконта де Сильверу, который ждал их с Эмродой. Кавалер де ла Транблэ с жаром поблагодарил виконта за беспокойство, которое он принимал на себя, чтобы способствовать успеху важного дела, подробности которого мы изложили и перед нашими читателями. Виконт вежливо отвечал, что считает себя счастливым, найдя случай быть полезным Раулю.
Наконец сели за стол. Обед не был так оживлен, как накануне. Какое-то непонятное смущение царствовало между собеседниками и леденило их веселость. Рауль был грустен, хотя и повторял себе, что достиг наконец цели своих желаний и что счастье, постигшее его, было так неожиданно. Какое-то тайное, необъяснимое предчувствие омрачало его мысли.
Эмрода, казалось, была нездорова. Она отвечала только односложными словами на все вопросы, по большей части хранила угрюмое молчание и ничего не ела и не пила. По временам она печально взглядывала на Рауля, и тогда ее большие глаза наполнялись слезами, которые она отирала украдкой.
Бедная Эмрода! Погибшее создание! сообщница воров! в ее сердце оставался, однако, уголок не совсем развращенный, и в этом уголке таились два небесных цветка: много, сострадания и немного любви!..
Бенуа, очевидно, был очень озабочен. Обращение молодой девушки его сердило. Он бросал на нее грозные взгляды, которых она по большей части не видала и которые заставляли ее пожимать плечами, если неравно она примечала их.
Танкред д'Эстаньяк, молчаливый против обыкновения, сосредоточил все свое внимание на рябчике с трюфелями и шамбертене, к которым, как казалось, питал истинное обожание.
Один между всеми собеседниками, виконт де Сильвера сохранил свою блистательную веселость и остроумие. Но напрасно он усиливался расшевелить своих товарищей, наконец отказался и замолчал, по примеру других.
Когда обед кончился. Бенуа взглянул на часы.
— Девять часов, — сказал он, посмотрев на майора Танкреда.
— Барон Кардальяк ждет вас, — отвечал д'Эстаньяк.
— Не заставим его ждать.
— Вы оставили карету?
— Разумеется, она стоит у дверей.
— Это прекрасно, таким образом, мы вернемся домой раньше, чем через час.
Бенуа раскрыл чемодан, вынул оттуда вещи Рауля, находившиеся в кожаном мешочке, и положил их в большой железный сундук, стоявший в углу комнаты, потом вынул из кармана портфель, казавшийся туго набитым, и показал его Раулю, говоря:
— Тут лежат десять тысяч франков, дополняющие сумму, которую вы должны Кардальяку. Мы привезем вам расписку.
Не ожидая благодарности Рауля, Бенуа взял чемодан и вместе с майором д'Эстаньяком отнес его в карету, в которую сели они оба и уехали.
Как только замолк стук колес на грязной мостовой улицы Грента, девушка горько заплакала.
— Боже мой! — вскричал Рауль. — Что с вами?
Эмрода не отвечала.
— Что с вами? Что такое? — повторял молодой человек страстным и умоляющим голосом.
— Ничего… — шептала Эмрода. — Я страдаю… Я задыхаюсь… Умоляю вас, не обращайте на меня внимания.
Рауль хотел настаивать, но виконт де Сильвера поспешил занять его и развлечь до возвращения Бенуа и майора Танкреда. Они скоро вернулись. Эмрода отерла слезы и, казалось, успокоилась, если не совсем утешилась.
— Милый друг, — сказал Бенуа, подавая Раулю бумагу, которую кавалер даже не развернул. — Вот расписка барона де Кардальяка. Все кончено: рота ваша!.. Мы откупорим бутылку эпернэ и весело осушим се в честь ваших эполет!
Пенистое вино заискрилось в стаканах, и новый офицер отвечал на тост, предложенный достойным Бенуа.
— Примите мое искреннее поздравление, кавалер! — вскричал виконт, пожимая руку Раулю.
— Примите также и мое, любезный товарищ, — сказал майор Танкред в свою очередь. — В Королевско-Шампанском полку с этой минуты стало одним прекрасным офицером больше!
— Благодарю вас, господа!.. Благодарю, друзья мои! Мои добрые друзья! — отвечал Рауль, пожимая протянутые ему руки. — Никогда, нет, никогда, не забуду я всего, что вы сделали для меня!..
— Когда вы поедете в полк? — спросил Танкред.
— Так скоро, как только возможно.
— Вы знаете, что я беру на себя вашу экипировку, — сказал Бенуа.
— Я поеду с вами в Валансьен, — перебил майор, — хочу иметь удовольствие сам представить вас нашим товарищам офицерам.
Рауль снова поблагодарил и принял любезное предложение д'Эстаньяка.
Пришло время разъезжаться. Рауль хотел проститься, но в эту минуту Эмрода подошла к Бенуа, взяла его руку и увлекла в угол комнаты. Там она начала что-то шептать ему. Бенуа нахмурил брови. Эмрода продолжала. Лицо мнимого дяди делалось все мрачнее и мрачнее. Наконец он отвечал Эмроде. Без сомнения, ответ этот не согласовался с желаниями или скорее с волей девушки, потому что ее очаровательные брови нахмурились в свою очередь; молния сверкнула в глазах ее, и она с нетерпением и даже с гневом топнула ногой. Потом разговор продолжался еще с минуту. Наконец Бенуа, казалось, уступил, хотя неохотно. Он пожал плечами и не говорил более ничего. Молодая девушка вернулась на свое место. Бенуа поговорил с виконтом и майором о посторонних вещах, которые, очевидно, должны были служить только переходом от одного предмета к другому, потом взял Рауля за руку и отвел его в сторону.
— Право, — сказал он ему вполголоса, — я старый ветреник!..
— Почему же? — спросил молодой человек.
— Самые простые вещи выпали у меня из памяти!.. Я, кажется, потерял голову…
При этом предисловии, глаза Рауля выразили самое полное удивление. Бенуа продолжал:
— Вы отдали мне деньги сегодня вечером…
— Да.
— Все ваши деньги?
— Без сомнения.
— Стало быть, у вас не осталось ничего?
— Это правда! — сказал Рауль.
— Решительно ничего?
— У меня остается только один луидор и немного мелочи, — отвечал молодой человек, шаря в карманах.
— Этого не хватит для того, чтобы ждать даже несколько дней… Считайте меня, пожалуйста, вашим банкиром и свободно черпайте из моей кассы. Десять тысяч франков, которые я заплатил за вас сегодня вечером, несколько опустошили ее, но послезавтра она снова наполнится… Возьмите же пока эти двадцать пять луидоров, через три дня я привезу вам несколько тысяч экю.
Рауль легонько оттолкнул руку Бенуа, которая протягивалась к нему с пригоршней золота.
— Нет, сказал он, — я не приму от вас…
— Почему же? — спросил купец.
— Потому что этого слишком много!.. слишком много!.. Отец не сделал бы для сына того, что вы делаете для меня!..
— Какая шутка!.. полноте, возьмите эту безделицу…
— Нет, — повторил Рауль.
— Я хочу!..
— Я не могу…
— Прошу вас…
— Не настаивайте.
— Упрямец! — вскричал Бенуа с умилением. — Вы огорчаете меня и еще другую особу…
И мнимый купец указал глазами на Эмроду, которая не теряла ни одной из подробностей этой маленькой сцены.
— Ну… — продолжал Бенуа, — теперь осмельтесь-ка сказать еще раз «нет».
В самом деле Рауль был побежден. Он протянул руку и отвечал:
— Если вы хотите… если непременно нужно… я принимаю…
— Ну, вот и прекрасно! — вскричал Бенуа, — вот теперь я вас люблю!
Простились. Рауль вернулся в свою гостиницу с деньгами, которые Бенуа дал ему, с пергаментом, посредством которого Филипп Орлеанский, регент Франции, давал ему роту в Королевско-Шампанском полку, и наконец с распиской барона Гектора де Кардальяка в получении пятидесяти тысяч ливров. Все его состояние теперь заключалось в двадцати шести луидорах золотом и в двух трехфранковых экю.
XXI. Обкраден!!!
В эту ночь Рауль заснул спокойно и не видал ничего во сне. Уверенность, что он сделал своему маленькому состоянию хорошее и полезное употребление, сняла с его души мучительную тяжесть. Отныне он имел положение серьезное и почетное. Будущее принадлежало ему. Он был уверен, что ему будет на что жить!..
Рауль проснулся рано, дал луидор Жаку и, отпустив его на целый день, позволил ему располагать своим временем, как он хочет. Легко можно угадать, что Жак очень обрадовался этому позволению, потому что с тех пор, как он был в Париже, он не видал ничего, кроме узкого двора, кухонь и меблированных комнат гостиницы «Золотое Руно». Он весело положил луидор в карман и тотчас же отправился в путь.
Рауль сделал то же со своей стороны. Первой его мыслью, первым движением было отправиться в магазин на улице Грента. Эмрода накануне была печальна и нездорова, и Раулю казалось весьма естественным и приличным осведомиться о ее здоровье. Приличие было, по правде сказать, только предлогом, который Рауль предавал тайным желаниям своего сердца, потому что, повторяем, молодой человек любил Эмроду, или, лучше сказать, принимал за любовь сильный восторг, который почувствовал, увидев ее.
Пройти с улицы Паради-Пуассоньер на улицу Грента было недолго. Кавалер быстрыми шагами подошел к двери магазина. Там его ожидал неприятный сюрприз. Дверь была заперта. Рауль постучал. Никто не отворял.
«Вероятно, все вышли, — подумал он, — однако сегодня не праздничный день… Я вернусь немножко позже».
И молодой человек со скукой и обманутым ожиданием пошел расхаживать по улице Сен-Дени. Во время этой прогулки мимо него проходило много хорошеньких гризеток, и не раз он был поражен приятной наружностью лавочниц и мещанок этого квартала. Но образ Эмроды занимал так много места в его сердце, что он не мог долго предаваться размышлениям такого рода. На лавочниц и гризеток смотрел он рассеянно и даже не оборачивался, чтобы следовать за ними взором.
Через час он воротился на улицу Грента. Дверь «Серебряного Барана» была заперта по-прежнему. Молодой человек снова постучал. Как и в первый раз, никто не отвечал на его зов. Только один лавочник, стоявший у дверей своей лавки, на противоположной стороне улицы, начал хохотать довольно громко. Рауль обернулся и, не понимая причин этой веселости, пошел расспросить лавочника. Увидев, что высокий и красивый молодой человек подходит к нему, лавочник тотчас сделался серьезным.
— Извините, — сказал ему Рауль, — позвольте вас просить ответить на один вопрос.
— С величайшим удовольствием, — отвечал лавочник.
— Разве хозяева этого магазина имеют обыкновение запирать его таким образом среди дня, без всякой причины?
— О каком магазине вы говорите?
— Вот об этом…
И Рауль указал на «Серебряного Барана».
— Я не могу ответить вам на ваш вопрос…
— Почему?
— Потому что вы меня спрашиваете о том, чего я сам не знаю…
— Может быть, вы недавно живете в этой улице?
— Скоро будет двадцать лет…
— Как же это?..
— Что я не знаю того, о чем вы меня спрашиваете?
— Именно.
— Это очень просто… не я поселился недавно на здешней улице, а этот магазин…
— «Серебряный Баран»…
— Да.
— Вы шутите?
— Нисколько.
— Как! Разве фирма «Серебряный Баран» не существует тут свыше трехсот лет?
Лавочник расхохотался.
— Как? — продолжал Рауль, раздираемый чувствами испуга и недоверчивости. — Вы не знаете Николаса Бенуа?..
— Три дня назад я в первый раз увидал его имя…
— Где?
— На этой вывеске.
— Кому же до него принадлежал «Серебряный Баран»?..
— Никому…
— Что вы говорите?..
— Я говорю, что этот магазин не принадлежал никому, потому что его просто не было…
Раулю показалось, что дом обрушился над головой его, и он с минуту стоял как оглушенный.
— Ради Бога, объяснитесь яснее! — вскричал он потом, — я боюсь понять вас… если действительно ваши слова имеют тот смысл, который мне представляется, значит я глупец, попал в сети мошенников… я погиб!..
— Милостивый государь, — сказал лавочник, тронутый отчаянием, выражавшимся в лице и в голосе Рауля, — я вам сообщу все, что знаю…
— Прошу вас об этом на коленях!
— К несчастью, я знаю очень немного! Три дня тому назад пришли сюда работники и повесили над дверью этой лавки железный лист, на котором нарисовали, как видите, барана и имя Николаса Бенуа… В тот же вечер приехала повозка с тюками, которые должны еще находиться в магазине: по крайней мере, я не видал, чтобы отсюда что-то увозили. В продолжение трех дней в магазине перебывало довольно народа; экипажи и портшезы останавливались перед ним частенько, сегодня же не приходил никто… Более я не могу сказать вам ничего, это все, что я знаю…
— Благодарю, — прошептал Рауль, который уже почти не сомневался в своем несчастье.
— Не худо бы вам расспросить хозяина дома, — продолжал лавочник. — Может быть, от него вы получите какие-нибудь полезные сведения.
— Вы правы.
— Вот его имя и адрес: Пьер Шовэ, на улице Ренар-Сен-Совер, номер 21.
— Благодарю вас тысячу раз, — сказал опять Рауль. — Я воспользуюсь вашим добрым советом.
Молодой человек поспешно отправился по указанному адресу. Пьер Шовэ, к которому он обратился, отвечал ему, что, четыре дня назад, низенький старичок, довольно приличной наружности, назвавшийся Николасом Бенуа, пришел снять магазин в нижнем жилье дома в улице Грента и заплатил, по обычаю, за шесть месяцев вперед. Более Шовэ ничего не знал.
Печальные предположения молодого человека превратились теперь в уверенность. Очевидность выказалась неопровержимо. Бедный Рауль попал в адские сети, раскинутые искусными плутами. Но как ни хитры были плуты, одурачившие его, могло статься, что еще было средство найти их следы и заставить возвратить украденное. Рауль прицепился к этой последней надежде и побежал к префекту полиции. Прошли целые сутки прежде, чем он мог добиться аудиенции. Наконец он очутился в присутствии высокой особы, которой было поручено охранять в столице порядок и нравственность. Рауль назвал себя и рассказал свое несчастное приключение со всеми подробностями. Слушая этот рассказ, префект несколько раз улыбался.
— Вы имели дело с первостепенными плутами, — сказал он наконец нашему герою. — По крайней мере, это утешительно… Если ваши денежные дела и пострадали, зато не страдает самолюбие. Нет ни малейшего стыда быть обманутым такими искусниками.
Это утешение нисколько не обрадовало Рауля. Он расспрашивал префекта, нет ли какой-нибудь возможности отыскать украденные у него деньги, но префект снова улыбнулся и покачал головой с видом сомнения, чем заставил молодого человека прийти еще в большее отчаяние.
— Вы понимаете, кавалер, — сказал префект, — что люди, изобретающие комедии, как та, в которой вы без вашего ведома играли незавидную роль, не затруднятся выдумать новую комедию, которая собьет с толку моих сыщиков… Впрочем, полиция искусна… Положитесь на нас; мы употребим все наши усилия, чтобы помочь вам.
Потом он велел проводить Рауля к одному из главных сыщиков, которому поручены были самые трудные операции подобного рода и который за свою изумительную проницательность давно уже получил и от своих товарищей и от воров прозвание Рысьего Глаза.
Рауль должен был опять начать свой рассказ. Выслушав его, сыщик покачал головой точно так же, как сделал это префект за несколько минут назад.
— Черт возьми! Черт возьми! — пробормотал он сквозь зубы.
Взяв у Рауля все необходимые сведения и заставив его сделать подробное описание примет Бенуа, виконта Ролана де Сильверы, майора Танкреда д'Эстаньяка и наконец очаровательной Эмроды, сыщик записал все это и обещал тотчас же разослать по всем направлениям своих подчиненных.
— Впрочем, — прибавил он, — я не надеюсь, что мы достигнем удовлетворительного результата. Данное вами описание, без всякого сомнения, ни к чему не послужит. Будьте уверены, что все эти люди уже успели так переменить свою наружность и ухватки, что вы пройдете мимо них и не узнаете. Прибавьте к этому, что у них, наверно, есть десять квартир и тридцать переменных имен, и вы согласитесь со мною, что предприятие, на которое мы пускаемся, не из легких… Однако, — закончил он, как и его начальник, — положитесь на нас, мы сделаем все, что от нас зависит.
Когда Рауль вышел от сыщика, он потерял всякую надежду.
XXII. Голод
Кавалер де ла Транблэ, к несчастью, не обманулся в своих печальных предположениях. Явившись через неделю к префекту полиции, Рауль встретил там и своего знакомого сыщика. Тот сообщил ему, что не нашел и следа его сорока тысяч ливров и тех, которые украли их.
— Советую вам, — прибавил сыщик, — примириться с мыслью об этой потере, потому что, если б нам даже и удалось захватить воров, то ясно как день, что мы уже не найдем у них ваших денег… Вы, конечно, понимаете это так же хорошо, как и я…
«О! — подумал Рауль, — я понимаю как нельзя лучше, что гибель моя неизбежна».
Со смертью в душе воротился молодой человек в гостиницу. Положение его действительно было плачевное. Он находился один-одинехонек посреди Парижа, не знал в нем никого и скоро должен был остаться без всяких средств. Что с ним станется и как он будет жить, когда оставшиеся у него деньги истратятся?..
Рауль задавал себе эти отчаянные вопросы и не мог ответить на них.
Прошло два месяца. Кавалер продал обеих лошадей, свою и Жака, и ничтожная сумма, вырученная из этой двойной продажи, послужила на удовлетворение издержек господина и слуги, потому что Рауль, несмотря на нищету, увеличивавшуюся с каждым днем, не думал расставаться со своим товарищем, пока мог дать ему кусок хлеба.
Настал день, когда последняя золотая монета была разменяна. Через три дня исчезли и остальные двадцать четыре су. Господин и слуга скоро почувствовали голод. К вечеру Рауль был очень бледен. Жак украл на кухне хлеб и принес ему.
— Спасибо, мой милый, — сказал кавалер. — Я не дотронусь до этого.
— Отчего?
— Оттого, что бесполезно продолжать на несколько часов жизнь, которая тяготит меня и от которой я освобожусь…
— Вы хотите умереть? — перебил Жак с испугом.
— Хочу, потому что это необходимо…
— О! Боже мой! Боже мой! Кавалер! Имейте же мужество!
— Я имел его, но теперь не имею!
— Ждите! Надейтесь!
Рауль пожал плечами.
— Чего ждать? На что надеяться? — вскричал он. — Положим, что я соглашусь прожить еще сегодня, но разве ты не видишь, что в тот день, когда тебе не удастся ничего украсть, нам все-таки придется умереть с голоду?.. Нет!.. Нет!.. лучше покончить скорее…
Жак залился слезами.
— Итак, вы меня бросаете! — прошептал он среди судорожных рыданий.
— Сожалею, мой бедный Жак, — сказал Рауль, — но, говоря откровенно, ты ничего не потеряешь от моей смерти… тебе хуже не будет… Расставшись со мною, ты без труда найдешь себе место, если не очень хорошее, то по крайней мере такое, где будут кормить тебя каждый день…
Рыдания молодого слуги удвоились. Его привязанность к своему господину походила на фанатизм.
Рауль встал, надел шляпу, подошел к Жаку и протянул ему руку.
— Прощай, мой бедный Жак! — сказал он.
Жак схватил руку молодого человека, уцепился за нее и покрыл поцелуями. Рауль старался вырваться. Жак сопротивлялся.
— Прощай, — повторил Рауль.
— Вы уходите? — вскричал Жак, забыв от горя, что приличие запрещало ему расспрашивать своего господина.
— Да, ухожу…
— Куда?
— Сам не знаю…
— Я пойду с вами…
— Нет.
— Я хочу…
— А я запрещаю!
— Кавалер, прошу вас, умоляю на коленях! Позвольте мне идти с вами…
— Нет! Нет! Нет!
— Отчего!
— Оттого, что я не хочу! Полагаю, что этой причины достаточно!
— В таком случае я пойду за вами без позволения…
— Как! Несмотря на мое приказание?
— Несмотря ни на что!..
— Разве я тебе уже не господин?..
— Нет, когда вы хотите лишить себя жизни, а мне приказываете остаться здесь!..
— Жак! — вскричал Рауль с гневом.
— О! — продолжал Жак, — сердитесь сколько хотите! Прибейте меня, мне это все равно! Но если вы не убьете меня на месте, я пойду за вами непременно… Я так хочу…
— А! Ты хочешь?
— Да, хочу.
— Ну! Так ступай же!..
И Рауль, схватив Жака за плечи, но не причиняя ему ни малейшей боли, бросил его на кровать. Пока Жак, оглушенный падением, старался встать, молодой человек бросился из комнаты, запер дверь на ключ, быстро сбежал с лестницы и очутился на улице. В это время было около девяти часов вечера.
В ту эпоху, когда происходили описываемые нами происшествия, Париж не был, как ныне, волшебным и светлым городом, который, при наступлении ночи, увенчивает чело свое миллионами огней и при свете газа кажется еще ослепительнее, чем при солнечных лучах. Нет, в то время, едва только наступал вечер, Париж засыпал в грязи своих дурно вымощенных улиц, погруженных в темноту почти сплошную. Во-первых, тогда не знали другой системы освещения, кроме очень небольшого числа фонарей; во-вторых, эти фонари зажигались только тогда, когда не было луны. О! То было блаженное время для воров и влюбленных. Поэтому и те и другие, смело можем утверждать, потешались вдоволь.
Рауль сказал Жаку совершенную правду: действительно, он сам не понимал, куда шел. Ему хотелось покончить с жизнью… Но он еще не знал, какое средство выберет для исполнения своего ужасного намерения.
Молодой человек машинально дошел до бульвара. говорим машинально потому, что он шел почти как автомат; ни мысль, ни воля не руководили его неверными шагами. Вечер был прекрасный, небо чистое, воздух теплый и приятный. На бульварах шумела веселая толпа. Шарманщик увеселял прохожих звуками своей нестройной музыки и своим напыщенным красноречием. Фокусники привлекали зевак к своему столику, освещенному четырьмя сальными огарками. В кабаках смеялись, пели, обнимались, танцевали и ели. Портшезы и экипажи мелькали на мостовой. Шум был ужасный, но исполненный увлечения и веселости.
Это зрелище было неприятно для Рауля. Понятно, что в том физическом и нравственном расположении духа, в каком он находился, подобное зрелище могло только еще более растравить кровавые и болезненные раны его сердца. Ему казалось, что все эти люди богаты и веселы, что они оскорбляют своим счастьем его нищету и печаль. Одно мгновение ему пришло на мысль подойти к первому встречному, вызвать его и получить на дуэли смерть, которой он искал, но его остановила другая мысль. Он мог напасть на такого противника, который ранит его, но не убьет, и тогда новое страдание прибавится к тем, которые он уже терпит. Итак, Рауль отказался от этого первого плана.
Он сошел с бульвара на улицу Монмартр, дошел до Нового Моста и остановился, облокотясь па парапет и смотря на реку, в которой отсвечивалось, как в зеркале, небо, сверкавшее звездами. Несколько дней тому назад шли сильные дожди. Река наполнилась чрезмерно, вода текла быстро, разбиваясь об арки моста с тихим рокотом.
— Да! — прошептал Рауль. — Случай привел меня сюда, или скорее сама судьба!.. Тут сон! Тут забвение! Тут спокойствие!.. О! Режинальд!.. О! Мой благородный отец!.. Еще минута, и я соединюсь с тобою! Еще минута, и я скажу тебе все, что я выстрадал с того дня, как ты оставил меня на земле одного!..
Сделав это краткое воззвание к памяти приемного отца, Рауль осмотрелся кругом, опасаясь, чтобы кто-нибудь не помешал ему исполнить его гибельное намерение. Мимо него прошло несколько пьяных солдат, шатаясь и напевая куплеты чересчур веселого содержания. Рауль подождал. Вдруг послышался громкий хохот, прерываемый звучными поцелуями. Это были гризетки, прогуливавшиеся со своими возлюбленными. Рауль отвернулся и снова начал ждать. Наконец он остался один. Тогда, положив свою шляпу возле тумбы и не снимая платья и шпаги, взобрался он на парапет и бросился в Сену, волны которой, на секунду раздавшиеся при его падении, безмолвно сомкнулись над ним.
XXIII. Ночь в Сене
«Кончено! — подумал Рауль в ту минуту, когда почувствовал себя обвитым движущимися складками своего ледяного савана. — Кончено! Я умираю».
Падение молодого человека было так сильно, что тело его рассекло воду до самого дна, и он стукнулся ногами о песчаный грунт, составлявший ложе реки. Все наши читатели, которым знакомо плавание, поймут без труда, что тело, коснувшись дна, всплыло на поверхность почти так же быстро, как спустилось, и Рауль в несколько секунд очутился на поверхности воды.
В тех главах, где говорилось о детстве кавалера, мы уже сказали, что Рауль умел превосходно плавать. Сила привычки была в нем так велика, что и теперь, сам того не сознавая, он начал плыть. Это продолжалось две или три минуты. Наконец Рауль заметил, что он спасается против воли, потому что приближался к берегу с чрезвычайной быстротой. Не этого хотел молодой человек: он бросился в Сену за тем, чтобы утопиться, и хотел утопиться добросовестно. Вследствие этого он скрестил руки, опустил ноги и начал тонуть. Пока молодой человек сохранял присутствие духа, он все погружался на глубину, но когда он начал терять сознание, и именно в ту минуту, когда вода стала душить его, инстинкт самосохранения одержал верх, и кавалер снова принялся плыть. Однако на этот раз он плыл уже не так свободно, как прежде, потому что силы его истощились в борьбе с самим собою. Впрочем, эта борьба уже не возобновлялась более: Рауль понимал теперь, что смерть от утопления — смерть ужасная, и говорил себе, что во сто раз лучше вонзить нож в сердце или пустить пулю в лоб.
Решившись отложить свое самоубийство до другого времени и исполнить его иначе, Рауль бросил вокруг себя испуганный взор. Он находился посреди Сены, довольно широкой в этом месте, как известно. Дрожащий свет звезды отражался в мутной воде, и расстояние удваивалось от темноты.
«Доплыву ли я?»— спрашивал себя Рауль, уже начинавший задыхаться.
Он поплыл к правому берегу. Постепенно оцепенение овладело им. Острая и перемежающаяся боль угрожала ему судорогами. Прибавим к этому, что Рауль был одет и что одежда его, пропитанная водой, с каждой минутой тяжелела все более и более. Однако он еще плыл, но все медленнее и медленнее. Глаза его затмевались туманом. Огненные блестки мелькали перед ними. Ему казалось, что он нисколько не продвигается, а берег между тем отдаляется от него. Рауль почувствовал себя погибшим и тогда, по странному феномену человеческой натуры, вдруг полюбил жизнь, которой хотел лишить себя. В эту минуту ему показалось, что звезда отделилась от неба, упала в реку и понеслась по воде, приближаясь к нему. Эта звезда, едва мерцая, указала ему землю, которая находилась от него не более, как в двадцати саженях.
«Доплыву ли?»— спросил себя молодой человек во второй раз.
И он сделал новое усилие, но его окоченелые ноги более не повиновались его воле. Он мог только приподняться в последний раз и закричал хриплым голосом:
— Ко мне!.. Ко мне!.. Помогите!..
И упал в изнеможении. Волны раскрылись, чтобы принять его тело.
Почти в ту же минуту Рауль почувствовал сильную боль: точно железное острие воткнулось в его левое плечо. Это краткое, но в высшей степени болезненное ощущение было последним, которое он почувствовал. Губы его, невольно раскрывшись, втянули глоток воды, в котором он захлебнулся.
Он решил, что умирает, и лишился чувств…
На берегу Сены, в нескольких шагах от Нового Моста, на том клочке земли, который находился между рекой и набережной, стояли в ту эпоху две или три жалкие избушки, грубо построенные из полусгнивших досок, оставшихся от сломанных лодок. В этих избушках жили люди, отличавшиеся странным образом своей жизни, отчасти рыбаки, отчасти бродяги, воры по склонности, убийцы по случаю. Днем они закидывали в реку сети и занимались спасением топающих, ночью бродили по берегу, отыскивая неизвестно чего, или в своих легких лодках подъезжали к большим купеческим садам и под покровительством мрака совершали грабежи всякого рода.
Между этими злодеями, особенно были опасны двое: муж и жена, по имени Леонар и Гертруда. Они жили в одной из избушек, о которых мы сейчас говорили, и днем и ночью занимались самым мрачным промыслом.
В этот вечер, именно в ту минуту, когда Рауль бросался с парапета Нового Моста, Леонар и Гертруда отправлялись в свою обычную ночную экспедицию. Они уже отвязали цепи своей лодки и приготовили, кроме весел, крюк и три мешка довольно большого размера. Шум от падения тела достиг до них.
— Слышишь? — спросила Гертруда.
— Слышу, — отвечал Леонар, — кто-то утопился…
— Пойдем посмотрим…
— Не стоит труда: тело само приплывет сюда по течению; нам надо только подождать…
— Все-таки сядь в лодку…
— Сесть можно… Сходи за огнем…
Гертруда вернулась в хижину, зажгла факел и воткнула его в корму маленькой лодки. Этот-то факел Рауль принял за звезду, упавшую с неба. Гертруда взялась за весла, Леонар стал на носу лодки, держа в руке крюк; в этом положении они оба с минуту оставались неподвижны, безмолвны и внимательны. Вдруг они услышали прерывистый звук прерывистого дыхания Рауля и плеск воды, рассекаемой его руками.
— Греби! — сказал Леонар жене.
Гертруда наклонилась над веслами, и лодка удалилась от берега. В эту минуту обессиленный Рауль вскрикнул и исчез в волнах.
— Греби! — сказал Леонар во второй раз. — Налево!.. Да проворнее!..
Лодка быстро скользила. Леонар погрузил крюк в то место, где волны поглотили молодого человека, и с первого же раза зацепил его тело. Крюк прошел сквозь платье и слегка оцарапал плечо. Эту-то боль и почувствовал Рауль, прежде чем лишился чувств. Через полминуты он лежал у ног двух злодеев. Гертруда причалила лодку к берегу. Леонар взял Рауля на руки и понес к себе. Гертруда шла за ним с факелом и, войдя в избушку, старательно затворила за собою дверь.
Внутренность избушки представляла самую ужасающую картину: она обнаруживала постыдную и гнусную нищету, разврат и преступление. Мы уже знаем, что избушка была построена из гнилых досок. Густая паутина покрывала потолок и стены. На протянутой веревке висели отвратительные лохмотья. Бочка служила вместо стола. На ней стояли бутылка с водкой, вполовину опорожненная, пустая миска и два изогнутых оловянных стакана. Постель состояла из грязного дырявого мешка, набитого гнилой соломой. Не было ни одеяла, ни простыни. Остатки пищи покрывали пол, в углу валялись обглоданные кости. Возле кровати стояло старое ружье, а на полке лежал бычий рог, наполненный порохом, пули и два или три ножа различного размера.
Ничто не может дать точного понятия о едком и смрадном воздухе и о нестерпимой вони, стоявшей внутри этой отвратительной лачуги. В пять минут в ней мог задохнуться самый крепкий, самый здоровый мужчина.
Гертруда, как мы сказали, заперла дверь. Леонар бросил тело Рауля на постель.
XXIV. Злодеи
Гертруда поднесла факел к лицу молодого человека, Леонар тоже наклонился, чтобы поближе взглянуть, кого он спас. Группа, которую таким образом составляли эти три лица, поражала своей необычайностью и могла привести в ужас. Лежа на грязной постели, о которой мы говорили, Рауль походил скорее на труп, нежели на живое существо: до того бледность его лица была мертвенна. Его длинные волосы, с которых струилась вода, закрывали ему лоб и щеки.
Гертруда казалась точным олицетворением тех цыганок, портреты которых так чудно начертаны мастерской кистью бессмертного Вальтера Скотта. На ней была шерстяная коричневая юбка, оборванная внизу, запачканная грязью и залитая вином. Нечто вроде кофты, неопределенного цвета из какой-то странной материи, прикрывало ее худую и впалую грудь. На голове у нее был большой красный платок, повязанный в виде тюрбана, из-под которого выбивались длинные пряди седых волос, извивавшиеся, подобно змеям, вокруг угловатого желтого лица, с грубыми неправильными чертами и со свирепым выражением. Крошечные серые глаза ее походили на глаза хищной птицы.
Леонар был мужчина высокого роста и атлетической силы, был смешон и ужасен в своем отвратительном безобразии. Его короткие руки, обнаженные до плеч, были полны и мясисты, как ляжки крепко сложенного человека. Сеть необыкновенно выпуклых мускулов и жил в палец толщины виднелась под его смуглой и обросшей волосами кожей. Его угловатые колени были широки до невероятности. Синие суконные штаны в бесчисленных заплатках покрывали кривые ноги, оканчивавшиеся ступнями неимоверной величины. Очень маленькая голова со свирепой физиономией торчала на плечах этого безобразного гиганта.
Итак, Леонар наклонился, чтобы хорошенько рассмотреть Рауля.
— Утопленник-то молодой! — сказал он.
— Да и какой красивый! — прошептала Гертруда.
— Ты находишь?
— Нахожу!
— Скажи-ка, жена, уж не чувствуешь ли ты к нему чего-нибудь? — спросил Леонар с циническим хохотом.
— Может быть…
— Ну так брось об этом думать.
— Зачем?
— Уж я про это знаю…
— Разве утопленник-то не оживет?
— Это зависит от нас…
— Как?
— Да, если мы захотим, то через пять минут этот молодой человек будет здоров так же, как и мы с тобой… Если же не захотим, то стоит только оставить его в этом положении, и он умрет, не раскрывая глаз.
— Что же ты думаешь делать?
— А то, что нам будет выгоднее.
— Как же это узнать?
— Надо посмотреть.
— Так посмотрим же скорее…
Леонар расхохотался.
— Ах, старая колдунья, — вскричал он, — как ты торопишься! Ты верно воображаешь, что этот красивый дворянин — а это непременно дворянин — может услыхать твои слова и в признательность предложит тебе свое сердце?..
— Полно болтать чепуху! — отвечала Гертруда. — Скажи лучше, старый злодей, что ты намерен делать с этим утопленником? Если нам будет выгоднее отвязаться от него, так я первая схвачу его за ноги и швырну в воду!
— Вот это ладно… вот что называется говорить дело моя милочка!.. Ну, слушай же, что я думаю. Этот красавец, конечно, не по своей охоте бросился в воду, если барахтался что есть мочи и кричал изо всех сил: «Помогите! Помогите!» Может быть, какой-нибудь раздосадованный муженек заставил его нырнуть, чтобы больше не слышать о нем… Мы его обыщем: если у него есть деньги в кармане, мы возьмем их и оставим его спокойно отправляться на тот свет, если же, напротив, карманы у него пусты, мы поможем ему опомниться, потому что, впоследствии, может статься, он и вознаградит нас за наше доброе дело.
Вот от какого странного рассуждения зависела жизнь Рауля. Нашему герою на роду было написано находиться беспрерывно вне обыкновенных условий человеческого существования. Деньги почти всегда помогают выпутываться из беды, а на этот раз, напротив, нищета молодого человека становилась единственным средством к спасению.
Гертруда вполне одобрила замысловатый взгляд своего мужа на вещи. Леонар, довольный этим одобрением, без которого, впрочем, он легко бы обошелся, тотчас же начал обыскивать карманы Рауля. Мы уже знаем, что карманы эти были совершенно пусты.
— Черт возьми! — вскричал злодей, окончив обыск. — Мы обкрадены!
— Как? — спросила Гертруда. — Неужели нет ничего?..
— Ни одного су!.. Прежде, чем негодяй бросился в воду, он вероятно все прокутил нарочно, чтоб обидеть нас! Разбойник!..
— Если только, — заметила Гертруда, — его не ограбили сейчас на Новом Мосту…
— Это возможно. На всякий случай я его воскрешу: пусть он сам расскажет нам все.
Говоря таким образом, Леонар приподнял за обе ноги тело Рауля, и при этом движении левая рука молодого человека, закрытая до сих пор полою платья, показалась наружу.
— Смотри! — с живостью вскричала Гертруда.
— Что такое? — спросил Леонар.
— Бриллиант!..
— Где?
— Вот.
И Гертруда указала на безымянный палец Рауля.
— Скажите пожалуйста! — вскричал Леонар. — А я и не видал!..
На безымянном пальце левой руки Рауль действительно носил маленькое бриллиантовое кольцо, которое могло стоить каких-нибудь три или четыре луидора. Он даже и не подумал продать его, зная, что вырученных за него денег не могло хватить надолго. Притом он помнил, что это кольцо было последним подарком маркиза Режинальда, и потому считал его настоящей святыней. Однако этой ничтожной вещицы было совершенно достаточно для того, чтобы возбудить жадность Леонара. Он взял руку Рауля и начал снимать кольцо, но пальцы молодого человека до того распухли и окоченели, что оно решительно не снималось.
— Черт побери! — прошептал злодей, выпуская руку. — Невозможно!
— Дурак! — вскричала Гертруда. — На твоем месте я бы знала, что делать…
— А что бы ты сделала?
— Я отрезала бы палец!
— Ты права, старуха. Дай мне нож!
Гертруда взяла с полки один из ножей, лежавших там, и подала мужу. Леонар удостоверился, что нож был довольно остер, и принялся рубить палец Рауля. Сильная боль произвела в молодом человеке внезапную и полную реакцию, обморок тотчас прекратился и Рауль, еще бледный, как смерть, вскочил на ноги, с громким криком выдернув свою руку. Гертруда с испугом отступила на несколько шагов. Леонар поднял нож и инстинктивно стал в оборонительное положение. Рауль осмотрелся кругом, увидел, в каком странном жилище он находится, увидел зловещие лица хозяев, увидел свою окровавленную руку, мокрое платье, вспомнил, что случилось час тому назад, и понял все.
— Кто вы? — спросил он Леонара и Гертруду.
— Мы рыбаки и вытащили вас из воды, — отвечал злодей.
— Чего вы хотите от меня?
— Мы хотим этот перстень.
— Не за тем ли вы и рубили мой палец?
— Да.
— Какая гнусная жестокость!
— Мы считали вас мертвым!
— Это ложь!
— Пожалуйста, не верьте.
— Но теперь, когда вы видите меня живым, вы все-таки хотите иметь этот перстень?
— Более, чем прежде!
— Негодяи!
— Успокойтесь и лучше дайте нам эту игрушку.
— Не дам!
— А мы все-таки возьмем ее.
— Каким же образом? Насильно?
— Разумеется!
— Воры!
— Не бранитесь, отдайте добровольно, а не то берегитесь!
— Вы, кажется, угрожаете мне?
— Угрожаю.
— Но разве вы забыли, что, выйдя отсюда, я могу донести на вас в полицию, и, конечно, сделаю это!
— Можете, без сомнения, если только выйдете отсюда…
— Кто же меня удержит?..
— Я!
— А каким образом?
— Ах! Боже мой! Очень просто: я вас убью! Это отличное средство и всегда производит свое действие!..
Говоря эти слова с адской насмешкой, свойственной ему, Леонар сделал шаг к Раулю. Тот засунул правую руку под полу своего платья и вытащил шпагу, которую, по простой случайности, или по особенной милости Провидения, не снял, бросаясь в Сену. Злодей не заметил движения молодого человека и бросился на него, но наткнулся на длинный и острый клинок. Удар был чрезвычайно силен. Шпага прошла сквозь грудь и вышла между плечами.
Нож выпал из рук Леонара, злодей сделал два или три поворота, замахал руками и наконец повалился посреди красной и пенистой лужи, которую образовала кровь, лившаяся из его широкой раны. Хриплый и невнятный крик вырвался из его горла. Потом глаза его закатились. Последние судороги искривили лицо, рана закрылась сама собою и кровь перестала течь. Все было кончено. Леонар умер.
XXV. Звезда Рауля
Оцепенев от испуга, Гертруда присутствовала безмолвно и неподвижно при сцене, которую мы описали. Казалось, она как будто окаменела, ничего не видала и не слыхала. Но, когда она увидала, что Леонар упал и бьется в конвульсиях, когда поняла, что он умер, она предалась совершенно слепой ярости и безумной жажде мщения. Она испустила хриплый вой и готовилась броситься на Рауля.
Молодой человек, которому вовсе не было охоты бороться с этой бешеной мегерой, завертел перед ней своей шпагой, которую вытащил из трупа Леонара. Гертруда чувствовала, что не сможет приблизиться к молодому человеку, защищавшему себя таким опасным орудием. Не двигаясь с места, она начала хватать вещи, находившиеся у нее под рукой, и бросать их в Рауля. Глиняная миска даже сделала ему на лбу легкую рану. Такой жалкий результат, конечно, не мог удовлетворить Гертруду. Бесполезность усилий удвоила ее бешенство. Пена, подобная той, которая появляется на губах людей, одержимых падучей болезнью, выступила у нее на губах. Глаза ее налились кровью и, по всей вероятности, она упала бы, пораженная овладевшим ею бешенством, если б вдруг не приметила ружья, которое стояло в углу так близко от нее, что она могла достать его рукой. Крик дикой радости, хриплый и подобный реву гиены, вырвался из стесненного яростью горла злодейки. Быстрая в своих движениях, как тигрица, бросающаяся на свою добычу, она схватила ружье, прицелилась в Рауля и спустила курок.
Молния прорезала мрак, потому что, схватив ружье, Гертруда бросила факел, который погас, упав на землю. Раздался выстрел, и пуля, засвистев около лба Рауля, вонзилась в одну из досок, составлявших стены избушки. Дрожащая рука Гертруды изменила желанию мщения. Рауль не дал ей времени опомниться и выстрелить во второй раз. Он вырвал у нее ружье и швырнул его с необыкновенной силой в ту сторону, куда отскочила старуха. Мы уже сказали, что факел погас и темнота была глубокая. Поэтому только глухой крик и падение тела показали Раулю, что удар попал в цель.
Тогда, не беспокоясь справляться, жива ли еще Гертруда или нет, молодой человек на ощупь отыскал дверь и, шатаясь от изнеможения, вышел из этого проклятого жилища, наполненного теплыми испарениями человеческой крови, еще так недавно пролившейся.
Когда Рауль очутился на набережной и посмотрел на чистое небо, усыпанное звездами, подышал свежим ночным ветерком, в душе его пробудилась живейшая радость. Молодой человек почувствовал бесконечную признательность к Высочайшему Существу, которому он должен был верить, потому что только оно одно могло так чудесно спасти его от угрожавших ему опасностей. Рауль почувствовал тогда всю цену той жизни, которой хотел лишить себя. Он сказал себе, что было столько же мужества бороться против несчастья, как и искать смерти, и отказался навсегда от гибельной мысли о самоубийстве.
Однако, с тех пор как он вышел из гостиницы «Золотое Руно», положение его сделалось еще хуже. Платье его, пропитанное водой, почти никуда не годилось и, прилипая к его дрожащему телу, леденило его своим прикосновением. Плечо и палец левой руки, раненные одно крюком, а другой — ножом Леонара, причиняли ему жестокую боль, Все члены его были разбиты от усталости, и если бы он не торопился возвратиться в гостиницу, у него недостало бы сил дойти до нее.
Кроме плохого состояния его костюма, у Рауля не было ничего на голове, а пройти в таком виде почти половину Парижа и не привлечь к себе внимания прохожих было решительно невозможно. Между тем, молодой человек не мог взять портшеза: мы знаем, что ему нечем было заплатить. Поэтому Рауль поспешно дошел до одной из тех лестниц, которые ведут от реки к набережной, и отправился на Новый Мост. Там ему посчастливилось найти свою шляпу, которую он час назад оставил на тумбе, и которая благодаря темноте не была никем замечена. Как ни был незначителен сам по себе этот случай, он показался Раулю счастливым предзнаменованием и расположил его лучше думать о будущем.
«Откуда знать, — думал молодой человек, — может быть, счастье и вернется ко мне. Может быть, моя звезда, так долго скрывающаяся под непроницаемыми облаками, и появится наконец!»
И он продолжал более твердыми шагами, нежели смел надеяться, идти к улице Паради-Пуассоньер. Когда он дошел, кровь страшно билась в его жилах, голова горела и ослабевшие ноги не могли долее поддерживать тяжесть его тела.
Подходя к гостинице, Рауль заметил, что у дверей ее кто-то ходил взад и вперед, как движущаяся тень. По мере того, как он приближался, тень эта, вероятно, увидав его, пошла к нему навстречу и, когда молодой человек был уже только в нескольких шагах от нее, она вскрикнула от радости, бросилась к нему на шею и с любовью сжала его в своих объятиях, прошептав:
— Это вы, кавалер!.. Это вы!.. Ах, Боже мой, как я рад! Ах Боже, как я счастлив!
Можно угадать без труда, что это был не кто иной, как верный Жак, нежная привязанность которого к господину заставила забыть о строгих условиях уважения и приличия.
— Благодарю, мой милый! — отвечал Рауль, тронутый этими знаками любви. — Помоги мне скорее войти наверх: у меня уже нет сил и мне кажется, что я умираю…
Жак побледнел, услышав эти слова. В то же время он заметил, что с платья кавалера струится вода.
— Ради Бога! — вскричал он, — что с вами случилось?..
— Расскажу после… но пойдем… пойдем, не теряя ни минуты!.. Или мне станет дурно…
Жак, не говоря ни слова, подставил плечо своему господину, который, опираясь на него, вошел на лестницу и, дойдя до своей комнаты, упал на постель. Жак зажег лампу и увидал, что рука и лоб кавалера окровавлены. Он не смел расспрашивать, но поспешил омыть обе раны свежей водой. Раны эти оказались легкими. На лбу была только царапина, сделанная обломком глиняной миски, едва зацепившим Рауля. На пальце была рана глубже, но вовсе не опасная. Это успокоило Жака. Он раздел своего господина, уложил его так заботливо, как мать укладывает больного ребенка, и потом подал ему ящичек, обвязанный зеленой лентой, которая была припечатана печатью.
— Что это такое? — спросил Рауль.
— Не знаю. Посыльный принес этот ящик через полчаса после того, как вы ушли…
— От кого?
— Он не сказал.
Рауль взял ящичек, показавшийся ему довольно тяжелым. На нем было надписано:
КАВАЛЕРУ РАУЛЮ ДЕ ЛА ТРАНБЛЭ, в гостиницу «ЗОЛОТОЕ РУНО».
Очень срочное.
— Отопри его, — сказал молодой человек.
Жак повиновался и, отперев ящик, подал его своему господину. Рауль открыл крышку. В ящике находились две вещи: довольно длинный сверток и бумажка, сложенная вчетверо. В свертке было двадцать пять луидоров. На бумажке были написаны только следующие слова: «От ЭМРОДЫ».
XXVI. Жилище Эзехиеля
Болезнь была ужасна. Целые две недели Рауль находился между жизнью и смертью и ни на минуту не приходил в сознание. В бреду своем он постепенно припоминал все неприятные происшествия, совершившиеся после скоропостижной смерти маркиза Режинальда. То ему представлялась зловещая сцена на похоронном обеде, то он находился на обеде с Эмродой и Бенуа, то, наконец, начиналась опять неоконченная драма его самоубийства, и он боролся с Леонаром и Гертрудой в лачуге на берегу. Все эти волнения еще более увеличивали его болезнь, и без его молодости и сильной организации Рауль никак бы не выздоровел. Через две недели началось выздоровление и делало быстрые успехи, к величайшей радости бедного Жака, усердие и преданность которого не изменились.
В Париже, и притом в гостинице, две недели болезни стоят дорого: надо платить за визиты доктору, за лекарства, за корыстолюбивые попечения равнодушных. Когда Рауль встал с постели, у него осталось только два или три луидора из тех двадцати пяти, которые прислала Эмрода в виде позднего и весьма неполного вознаграждения. Эти небольшие средства скоро истощились, и Рауль, уже начинавший было верить возвращению своей звезды, стал опять отчаиваться в будущем.
К счастью и очень кстати для того, чтобы внушить молодому человеку более утешительные мысли, таинственный комиссионер принес еще ящичек, в котором находились часы драгоценной отделки, осыпанные очень дорогими бриллиантами и некогда подаренные Раулю Режинальдом. Эти часы стоили по крайней мере сто луидоров. Записка сопровождала посылку, и на этой записке стояли, как и в первый раз, только следующие слова:
«ОТ ЭМРОДЫ».
— Бедная девушка! — вскричал Рауль в порыве признательности, — это была прекрасная и благородная натура, которую случайности жизни погубили и развратили! Бедная девушка! Бог создал ее не за тем, чтобы она сделалась сообщницей воров! Она так молода! Так прекрасна! Так благородна! И упала так низко! О! Зачем не придет она ко мне? Я мог бы еще любить ее и возвысил бы ее моей любовью!
Рауль говорил что думал и, без сомнения, исполнил бы это, если бы Эмрода пришла, но она не приходила, к счастью для Рауля.
Однако молодой человек не мог оставить у себя вещь, которая была возвращена ему таким чудесным образом. Он должен был если не продать, то, по крайней мере, заложить ее. В ту эпоху заемных домов еще не было, и Рауль, не знавший никого в Париже, поручил Жаку ловко осведомиться, где можно найти какого-нибудь жида, ростовщика или торговца подержанными вещами, который давал деньга под залог.
Жак немедленно исполнил поручение своего господина и возвратился через два часа с весьма подробными сведениями. Он принес адрес достойного Эзехиеля Натана, который жил на улице Сент-Оноре, неподалеку от Пале-Рояля, давал в рост деньги и сочетал с этим ремеслом семь или восемь других занятий различного рода. Эзехиель продавал лошадей, вещи, материю, мебель, редкости, картины. У него можно было найти старые вина, прекрасное оружие, редкие и драгоценные книги. Он брал под умеренные проценты, до шестидесяти на сто, векселя от несовершеннолетних и расточительных сынков богачей, обязывал своими деньгами купцов, находившихся в стесненных обстоятельствах, и вообще давал взаймы под залог вещей всякого рода и всякой цены.
— Хорошо, — сказал Рауль, — сегодня вечером я пойду к этому жиду…
Бедный молодой человек, провинциал в полном смысле слова, был еще так честен и стыдлив, что днем не хотел войти к ростовщику. Когда наступила ночь, он взял часы вышел из гостиницы и скоро отыскал дом, адрес которого принес ему Жак. Дом этот был очень невелик, состоял только из двух этажей и имел в каждом из них только по одному окну. Он находился возле огромного, ярко освещенного отеля, ворота которого, растворенные настежь, вели на большой двор, наполненный лакеями и портшезами. Рауль мимоходом бросил завистливый взгляд на этот великолепный отель, вероятно, принадлежащий какому-нибудь знатному миллионеру.
«И я также мог быть богат… и у меня также мог быть замок, земли и, если бы я захотел, такой же отель в Париже!.. Но рок решил иначе…»
Молодой человек поднялся на три ступеньки, которые вели в жилище Эзехиеля, и постучался в дверь. Тяжелый молоток, ударившись о бронзовую дощечку, пробудил эхо внутри дома, и Раулю показалось, будто он услыхал отдаленный вой.
Прошло несколько минут. Рауль постучал во второй раз. Тогда раздались шаги в коридор, который вел к двери на улицу, отворилась маленькая форточка, и свежий молодой голос спросил:
— Кто вы?
— Дворянин, очень желающий войти…
— Что вам нужно?
— Мне нужно видеть Эзехиеля Натана. Он ведь здесь живет, не правда ли?
— Здесь.
— Отворите же мне.
Но дверь не повернулась на своих петлях, и допрос продолжался.
— Зачем вам нужно видеть Эзехиеля Натана? — продолжал голос.
— Я хочу говорить с ним.
— О делах?..
— Да.
— Он вас ждет?
— Нет.
— По крайней мере, знает?
— Вовсе нет.
— Вы сюда уже приходили?
— Никогда.
— Кто вас прислал?
— Никто.
— Как же вы узнали адрес Эзехиеля?
— Лакей мой осведомлялся, и ему сказали.
— Зачем вы пришли так поздно?
— Затем, что не мог или не хотел прийти раньше! — отвечал Рауль, которого эти вопросы совсем вывели из терпения.
— Вы одни? — спросил голос.
— Вы видите!..
Молодому человеку показалось, что в эту минуту кто-то пристально взглянул в форточку, без сомнения, затем, чтобы удостовериться, правду ли он говорил. Вслед за тем, ему послышалось, что отодвинули с полдюжины запоров, толстый ключ повернулся в массивном замке, дверь отворилась, и Рауль наконец смог войти.
Та, которая впустила его после таких странных и продолжительных расспросов, была юная девушка лет восемнадцати или двадцати. Она держала в руке лампу, которая позволила Раулю полюбоваться ее гибким и стройным станом и чертами изумительно прекрасными и правильными. Девушка была высока и тонка, смугла лицом и с черными волосами, как настоящее дитя пустыни. Несколько продолговатое лицо и необыкновенно блестящие черные глаза представляли восточный тип в самой чистой красоте его. Таковы, конечно, были еврейские девы, когда народ Божий оставил в одну ночь дворцы фараонов-притеснителей и проклятую египетскую землю.
Она приметила, с каким восторгом Рауль смотрел на нее, и почти презрительная улыбка пробежала по ее губам, красным, как влажный коралл. Маленькой, но сильной рукой задвинула она запоры и сказала:
— Пойдемте со мной, я отведу вас к моему отцу!..
Рауль вошел за юной чаровницей, которая повела его по довольно длинному коридору, выходившему на маленький двор. Вой, слышанный Раулем, становился все яснее и ужаснее. Наконец кавалер приметил на цепи огромную абруццскую собаку, с кровавыми глазами и пеной у рта. Без сомнения, каждую ночь хозяева спускали с цепи этого свирепого и бдительного часового, который охранял дом лучше целой роты солдат.
XXVII. Эзехиель
Жидовка и Рауль прошли двор и поднялись по старой, полусгнившей лестнице, которая дрожала и трещала под их ногами. В верхнем этаже растворилась дверь, и голос с очень резким итальянским произношением закричал:
— Дебора!
— Что, батюшка? — отвечала молодая девушка, остановившись.
— Кто стучался?
— Дворянин, который желает поговорить с вами о делах.
— Где этот дворянин?
— Здесь со мной.
— Хорошо! Пусть он придет один, а ты ступай в нижнюю залу к мадемуазель Луцифер.
— Сейчас пойду, — отвечала Дебора. — Слышите, отец мой вас ждет? Ступайте!
И жидовка, быстро бросившись назад, исчезла из глаз Рауля. Молодой человек несколько минут оставался неподвижен, отыскивая смысл слышанных им слов: «Мадемуазель Луцифер». Неужели этим странным именем могло называться какое-нибудь человеческое существо? Какая женщина согласится носить это дьявольское название?
Суеверный ужас овладел молодым человеком, ослабевшим от продолжительной болезни; он спрашивал себя, не заключаются ли в этом странном доме какие-нибудь адские таинства… Он спрашивал себя, не дочь ли сатаны эта мадемуазель Луцифер, к которой пошла Дебора?.. Но эта галлюцинация недолго продолжалась. Рауль улыбнулся почти тотчас своим безумным страхам; он продолжал подниматься на лестницу и дошел до второго этажа. Дверь была отперта, и возле нее стояло маленькое странное и смешное существо, походившее на одного из тех гномов — хранителей сокровищ, которыми легенды средних веков населяли подземные царства. Эзехиель Натан — это был он — имел не более четырех футов вышины. Он был горбат и спереди и сзади. Угловатое лицо его, желтое, как лимонная корка, имело веселое выражение, которого, конечно, никто не ожидал бы встретить на лице ростовщика. Это выражение еще более усиливали мигающие и шутливые глазки и постоянная улыбка широкого рта с длинными и острыми зубами. Совершенно плешивый череп Эзехиеля составлял резкий контраст с густой рыжей с проседью бородой, падавшей на грудь. Жид с каким-то кокетством был закутан в старый халат из очень полинялой восточной материи. Этот маленький смешной человечек мог иметь около шестидесяти пяти или семидесяти лет. Рауль с изумлением глядел на него, и им овладела сильная охота расхохотаться, от которой он, однако, удержался, хотя и с большим трудом.
«Как! — подумал он, — это отец очаровательной Деборы, этого прелестного создания?! Если это правда, то надо признаться, что природа имеет иногда очень странные фантазии!..»
И молодой человек не мог удержаться, чтоб не составить себе кое-каких предположений, довольно оскорбительных для добродетели госпожи Натан и ее супружеской верности. Может быть, он и ошибался. Можно привить самые прелестные розы к стеблю дикого шиповника.
— Войдите, войдите, — говорил жид Раулю, — это я Натан… вы ко мне пришли…
Рауль пошел за жидом через две или три комнаты, заваленные теми разнородными вещами, которые с незапамятных времен наполняют жилище ростовщиков и, без всякого сомнения, будут наполнять их всегда. Дом Эзехиеля, очень узкий, мы это знаем, был чрезвычайно глубок, что объясняет нам длинную анфиладу комнат. Наконец они дошли до кабинета, где жид обыкновенно принимал своих клиентов. Посреди этого кабинета стоял массивный черного дерева стол, на котором лежали весы, чтоб вешать золото. В глубине комнаты находился железный сундук.
Маленький жид, все улыбаясь и становясь на цыпочки, чтоб увеличить свой крошечный рост, подвинул к Раулю стул, а сам сел в старое кресло, стоявшее позади стула.
— Я к вашим услугам, — сказал он. — Что вам угодно?
— Мне нужны деньги, — отвечал Рауль.
— О! Разумеется… К старому Натану только за этим и приходят… Но деньги нынче стали очень редки, и я надеюсь, что вам нужно немного…
— Пятьдесят или шестьдесят луидоров, если возможно.
— Вы, конечно, принесли залог. Иначе… вы понимаете, что, не имея чести знать вас, я не могу довольствоваться вашей подписью…
— Да, — отвечал Рауль, — я принес залог.
— Какой?
— Вот этот.
И молодой человек вынул из кармана осыпанные бриллиантами часы и подал их Эзехиелю. Жид протянул руку, которую мы охотнее назвали бы кривой лапой, и начал рассматривать часы. Глаза его заблистали тем мрачным огнем алчности, который так хорошо умели передавать Мэтцу, Мьерис и Кутюр.
— Часы фамильные, не правда ли? — спросил он потом, заметив герб де ла Транблэ, вырезанный на корпусе.
— Да, — отвечал Рауль.
— Вы, верно, ими дорожите?..
— Дорожу.
— Стало быть, вы не продаете, а только закладываете их?
— Именно.
— Сколько же вы просите?
— Повторяю, пятьдесят или шестьдесят луидоров…
Улыбка внезапно исчезла с лица Эзехиеля.
— Черт побери! Черт побери! — прошептал он.
И он начал взвешивать часы и считать бриллианты.
— Пятьдесят луидоров, — сказал он через минуту, — я, пожалуй, дам, но не больше… И это уже много.
— Хорошо, — отвечал Рауль.
— Выслушайте же мои условия: бесполезно их оспаривать, хотите соглашайтесь, хотите нет… Дело ваше…
— Посмотрим.
— Я дам вам пятьдесят луидоров и оставлю у себя часы.
— Согласен.
— Я дам вам эту сумму на один месяц…
— На такое короткое время?
— Ну, пожалуй, на шесть недель, но ни одним днем более…
— Далее?
— Если через шесть недель вы не принесете мне шестидесяти луидоров, часы будут мои.
— Как! — вскричал Рауль. — На пятьдесят луидоров вы берете десять луидоров процента, и только на шестинедельный срок…
— Да!..
— Но это ужасно!..
— Ба! — возразил Эзехиель с прежней улыбкой. — Если по истечении срока вы не будете в состоянии заплатить, то для вас все равно, больше или меньше будет сумма!.. Если же, напротив, у вас будут деньги, в таком случае что значат несколько лишних луидоров?
Это хитрое рассуждение показалось довольно логичным Раулю, который был не слишком силен в расчетах. Однако он еще колебался, и Эзехиель, заметив его нерешимость, поспешил прибавить:
— Притом мне почему-то кажется, что эти пятьдесят луидоров принесут вам счастье; я воображаю, что вы выиграете нынешней ночью груды золота и завтра придете ко мне забрать часы обратно.
— Выиграю груды золота! — повторил Рауль, которому последние слова были почти совершенно непонятны. — Каким образом могу я их выиграть, позвольте вас спросить?
— Играя, как мне кажется.
— Играя? Где же?
— Разве вы занимаете у меня деньги не затем, чтоб играть? — спросил жид с большим удивлением.
— Право, нет!
— Извините же мою ошибку, мое бедное жилище находится возле знаменитого игорного дома, в котором все молодые парижские вельможи собираются каждую ночь. Видя, что вы обратились ко мне в такое позднее время, я натурально предполагал, что вы хотите попробовать счастья! Я ошибся… простите еще раз…
Но Рауль не слушал извинений жида. Слово «игра» заставило зазвучать в его сердце струну, до сих пор молчавшую. Жгучая мысль овладела его умом: играть! выиграть! разбогатеть!..
— О! Звезда моя, ты привела меня сюда! Дайте же мне эти пятьдесят луидоров! — прибавил он вслух.
— Вот они, — отвечал Эзехиель, положив перед Раулем две небольшие кучки золота, в каждой из которых было по двадцать пять луидоров.
— Благодарю, — сказал молодой человек. — Завтра, — прибавил он с уверенностью, — я принесу вам ваши деньги и возьму свои часы…
И он вышел из жилища ростовщика, который провожал его, улыбаясь и подпрыгивая.
Куда шел Рауль? Читатель, вероятно, уже угадал. Он побежал в тот игорный дом, который непреодолимо привлекал его, как магнит железо. Мы не будем описывать этого дома. Однажды мы уже водили туда наших читателей и, следовательно, знаем, что там ведут безумную игру и что золото с вечера до утра блестит на зеленом сукне.
Есть убеждение, по нашему мнению, весьма сомнительное, что будто бы слепая фортуна, распоряжающаяся азартными играми, непременно осыпает своими милостями новичка, который в первый раз является испрашивать их у нее. Однако в эту ночь приведенное нами убеждение, справедливое или ложное, спорить не будем, получило блистательное подтверждение. Менее, чем в четыре часа, играя с таким удивительным и постоянным счастием, что оно походило почти на чудо, Рауль выиграл двести тысяч ливров. Среди такого невероятного богатства молодой человек сохранил хладнокровие, не менее изумительное, чем его выигрыш. Карманы его были набиты золотом и банковскими билетами.
Рауль подошел к окну, растворил его и взглянул на небо, еще усеянное звездами, которые должны были скоро побледнеть от первых лучей рассвета.
— О, Звезда моя, — прошептал он, — ты здесь!.. Я узнал тебя!..
Потом он бросил на окружавших его горделивый и повелительный взгляд, и с губ его сорвались эти слова:
— Теперь я богат! Жизнь принадлежит мне! Будущее — мое!
Часть третья. ВЕНЕРА И ДЕБОРА
I. Две девушки
Вот что происходило в комнате нижнего жилья в доме ростовщика Натана в ту минуту, когда наш старый знакомый Рауль де ла Транблэ вышел из этого жилища попробовать счастья в игорном доме.
Здесь необходимо сделать описание, оно некоторым образом послужит рамкой сцене, в подробности которой мы войдем несколько далее. В прошлой части мы водили наших читателей в ту часть дома Натана, где достойный жид предавался прибыльным операциям своей торговли. Там, как в большей части жилищ ростовщиков, мы нашли решительную пустоту, или странное соединение разнородных вещей, сложную и уродливую смесь, которая может объясниться только еврейскими привычками.
Ничего не могло быть поразительнее контраста, который составляли комнаты нижнего жилья с комнатами первого этажа. В нижнем жилье находилась комната Деборы, дочери Натана, единственного человеческого существа, которое он любил столько же и даже более, нежели золото. Уже лет сорок или пятьдесят жид занимался своим туманным ремеслом, монополия которого сохранилась в его роде во всех странах и во все времена. Натан был изумительно богат. Баснословные суммы, которые каждый день увеличивались в его руках, становились для него источником двойного наслаждения. С одной стороны Натан находил странное удовольствие, столь свойственное всем скупцам, удовольствие копить деньги; с другой, он имел приятную заботу, которая доставляла ему едва ли не более наслаждения, чем желание увеличить свое богатство, и заключалась в старании окружать свою единственную дочь Дебору всеми чудесами той роскоши и того богатства, в которых он отказывал самому себе. Действительно, Натан собрал вокруг Деборы царские сокровища, которые, конечно, могла бы удовольствовать тщеславие любовницы любого короля.
Нижняя зала, довольно обширная комната, два окна которой выходили на внутренний двор, была вся обтянута восточной материей вроде чрезвычайно тонкого кашемира. Грунт этой материи был серый, но он почти совершенно исчезал под чудными букетами цветов и группами птиц, вышитых шелком и золотом с неслыханным совершенством и с неподражаемым богатством красок. Круглые диваны, обитые пунцовой шелковой материей с серебряной тесьмой, стояли вокруг этой комнаты, и вместе с турецким ковром составляли всю ее мебель. На стенах висели в серебряных филигранных рамах четыре картины, четыре образцовых произведения. Эти шедевры, сами по себе составлявшие целое богатство, были написаны Рафаэлем, Леонардо да Винчи, Перуджино и Аннибалом Караччи.
Они представляли собой библейские сюжеты, заимствованные из летописей народа Божия. Кусок материи, точно такой же, какой были обиты диваны, богато драпированный, закрывал дверь, которая из залы вела в спальню Деборы.
Этой спальни мы не станем описывать. Скажем только, что она могла соперничать в великолепии с будуаром куртизанки-миллионерши, сохраняя между тем печать девственного целомудрия.
В эту минуту, когда Рауль де ла Транблэ вышел из дома Натана, две девушки находились на нижнем этаже. Одна была Дебора, другая носила то странное имя, которое мы уже слышали один раз: Луцифер.
Мы сказали выше, что Деборе было лет восемнадцать или двадцать. Мы знаем, что стан ее был тонок, строен, гибок, а черты изумительно прекрасны и правильны. Мы знаем, что она была высока, смугла и с черными волосами. Мы знаем, что продолговатое лицо ее и большие черные глаза, необыкновенно блестящие, представляли восточный тип в самой чистой красоте его. Мы знаем, наконец, что таковы, вероятно, были еврейские девы, когда народ Божий оставил в одну ночь дворцы фараонов и проклятую египетскую землю. Густые черные волосы Деборы лежали на голове ее в виде тяжелой короны. Платье на ней было из шерстяной темной материи и отличалось почти монашеской простотой.
Впрочем, между красотой ее и мадемуазель Луцифер, ее подруги, было много сходства в том отношении, что у обеих были большие черные глаза, смуглая кожа и длинные черные волосы. Только Луцифер не представляла никакого следа арабского типа, так великолепно выказывавшегося в Деборе. Кроме того, Луцифер была не так высока, более миловидна в своих грациозных формах и отличалась излишней свободой в обращении. Дебора походила на газель еще почти дикую, подруга ее могла сравниться с ласковой кошечкой. На Луцифер был костюм, во всех отношениях похожий на наряд парижских швей, которых в ту эпоху уже начинали называть «гризетками». Полинялые ленты приподнимали по бокам ее холстинковое платье. Маленькая ножка в белых чулках с красными стрелками, казалось, трепетала в башмачках с каблуками. Серая мантилья с капюшоном небрежно падала на плечи.
Обе молодые девушки составляли прелестную группу, достойную внимания живописца. Дебора полулежала на широком, круглом диване. Голова ее, несколько запрокинутая назад, беспечно прислонилась к подушке. Луцифер стояла перед нею. Продолговатая тонкая и прелестная рука жидовки лежала в хорошенькой и полненькой ручке ее подруги.
— Ну, что же, моя милая? — прошептала Дебора.
Розовые губки Луцифер раскрылись для ответа, но легкий шум заставил ее вздрогнуть и замолчать. Обе девушки начали прислушиваться. Луцифер выпустила руку Деборы. Наружная дверь дома затворилась, и слышно было, как Натан задвинул тяжелые запоры и повернул ключ в массивном замке.
— А! — сказала жидовка, — верно, ушел тот молодой человек, которого я сейчас проводила к батюшке.
— Каков был собою этот молодой человек? — с любопытством спросила Луцифер.
— Право, не знаю хорошенько…
— Как? Разве вы его не видели?
— Видела, но не рассмотрела.
— Отчего?
— Оттого, что он слишком меня рассматривал.
— А! Он вас рассматривал…
— Очень пристально, и глаза его сверкали, как бриллианты тех ожерельев и браслетов, которые заперты в моей кедровой шкатулке и которые я вам сейчас показывала…
— Понимаю, — засмеялась Луцифер, — вам нельзя было поднять глаза под залпом взглядов этого кавалера, но вы знаете, что мы дочери Евы видим не глядя…
— Это отчасти справедливо…
— Совершенно справедливо. И вы видели довольно, моя милая, чтобы отвечать мне… Если только захотите.
— С удовольствием. Расспрашивайте, любопытница.
— Высок он?
— Кажется.
— Строен?
— Да.
— Блондин или брюнет?
— Волосы каштановые, блестящие и шелковистые…
— Глаза голубые или черные?
— О! На это невозможно ответить, я видела только искры, вылетавшие из зрачков…
— Пропустим это. Как одет был этот дворянин?
— Вы говорите, дворянин? Разве вы думаете, что он дворянин?
— Я вас спрашиваю. Мне кажется, что его наружность должна была дать вам ключ к этой загадке.
— О! Наружность его была самая благородная, а разговор показывал вельможу.
— Стало быть, он дворянин: вы видите, что знаете больше, чем думали сами…
Дебора наклонила голову в знак согласия, потом продолжала:
— Наряд его был прост и отличался, как мне показалось, большим вкусом… но я не могу описать его подробно…
— Как вы думаете, зачем он приходил к вашему отцу?
— Ах! Боже мой, вероятно, за тем же, за чем приходят к нему почти все молодые вельможи… занимать деньга.
— Стало быть, он богат?
— На чем вы основываете это предположение?
— Разве вы не знаете очень старой и мудрой пословицы?..
— Какой?
— «Дают взаймы только богатым». Притом я не думаю, чтобы ваш превосходный отец давал деньги без верного залога…
Дебора слегка пожала плечами, что означало: «Бог знает!», потом прибавила вслух:
— Еще неизвестно, дал ли батюшка взаймы этому молодому человеку. Из десяти человек, приходящих занимать деньги, он отказывает, по крайней мере, пятерым или шестерым…
— Спросите его, он вам скажет.
— О! Я совсем не хочу этого знать, и не знаю, почему целые пять минут мы с тобой занимаемся только этим незнакомцем…
— Правда, — отвечала Луцифер, улыбаясь, — какое нам дело до этого дворянина, которого я никогда не видала, а вы, может статься, и не увидите никогда? Вознаградим же себя за потерянное время и поговорим о другом.
Дебора опять протянула руку Луцифер, говоря:
— Вы сейчас рассматривали линии моей руки, чтобы составить мой гороскоп.
— Хотите, чтобы я продолжала?
— Пожалуйста.
— Ну! Хорошо…
Луцифер взяла изящную ручку, поданную ей Деборой, и начала рассматривать со вниманием, почти торжественным, неприметные линии, перекрещивавшиеся на гладкой и перламутровой ладони.
II. Предсказание Луцифер
Почти полминуты Луцифер, казалось, была погружена в глубокое созерцание. Какое-то недоверие виднелось на ее белом и гладком лбу. По временам мрачное и озабоченное выражение сжимало ее тонкие брови, проведенные дугой; потом вдруг губы ее улыбались, будто чувства, противоречащие одно другому, волновали ее. Все это, повторяем, продолжалось полминуты; но Дебора, вероятно, нашла молчание своей подруги слишком продолжительным, потому что сказала:
— Ну! Моя милая, говорите же, я жду…
Луцифер подняла свои прекрасные глаза на жидовку и отвечала серьезным голосом:
— Лучше я не буду говорить…
— Почему?
— Потому что я читаю на вашей руке странные, непонятные вещи, которые меня удивляют и в которых я не могу дать ответа самой себе…
— Все равно! Все-таки скажите…
— Пожалуйста, не настаивайте!..
— Разве вы не угадываете, душа моя, что ваш отказ подстрекает мое любопытство?
— Уступаю, но с условием…
— С каким?
— Вы не будете верить ни одному слову из всех глупостей, которые я вам скажу…
— Глупостей? — повторила жидовка с изумлением. — Разве вы не верите науке вашей матери?..
— Нет, — отвечала Луцифер, — нет, я вполне верю тому, что вы называете наукой моей матери…
— Ну?
— Я сомневаюсь не в науке…
— В чем же?
— В себе самой.
— В каком отношении?
— А в том, что я несведуща и неопытна, первоначальная ученица, складывающая с великим трудом слоги той таинственной азбуки, в которой моя мать читает так же бегло, как в открытой книге, наконец, я боюсь ошибиться и невольно обмануть вас…
— Это все?
— Все.
— Ну! Если мы и ошибемся в нашем будущем, так что ж за беда?..
— Беда, конечно, небольшая, если только мои предсказания не произведут на вас гибельного впечатления.
— А, стало быть, вы видите в моем гороскопе ужасные вещи?
Луцифер колебалась. Дебора повторила вопрос. Молодая девушка вдруг решилась и отвечала:
— Да, я вижу ужасные вещи, и они были бы просто страшны, если бы не были так нелепы…
Глаза жидовки сверкнули тем почти фосфорическим блеском, первые искры которого должны были заблистать в глазах нашей прабабушки Евы, когда змей-искуситель предложил ей вкусить плод от древа познания добра и зла.
— Ах! — вскричала она. — Говорите, душа моя, говорите скорее! Вы видите, что я умираю от нетерпения! Умоляю вас… не томите меня дольше. Вам опять нужно взглянуть на мою руку?
— Нет, я достаточно изучила линии и видела все, что хотела… или, лучше сказать, все, что могла прочесть!..
— Чего же вы ждете? Удовлетворите мое любопытство!
— Я жду, чтобы вы задавали мне вопросы, на которые я буду отвечать как умею…
— Начинаю… Сначала я спрошу вас о том, что всего более интересует нас, молодых девушек…
— О любви, не правда ли?
— Да.
— Что вы хотите знать?
— Я хочу знать, буду ли я любить…
— Да, вы будете любить.
— Очень?
— Всей душой.
— И… буду ли я любима?..
— Конечно.
— Столько же, сколько буду любить сама?..
— Я так думаю.
Дебора не могла удержаться от улыбки.
— До сих пор, моя милая, — сказала она, — ваши предсказания не имеют ничего зловещего…
— В таком случае, — с живостью заметила Луцифер, — остановимся же на этом, не спрашивайте меня более…
— Как это можно! — возразила жидовка, — остановиться на такой прекрасной дороге! Нет, нет, я продолжаю…
Луцифер опустила голову с покорным видом. Дебора продолжала:
— Выйду ли я замуж за того, кого полюблю и кто меня полюбит?..
Молодая предсказательница снова колебалась секунду, потом решилась и отвечала:
— Нет.
Жидовка задрожала.
— Вы думаете? — спросила она потом.
— Я в этом уверена.
— Уверены?
— Да, если только мои наблюдения не обманывают меня, а мои расчеты не ошибочны… Я вас сейчас предупреждала, что едва читаю по складам загадочный язык книги будущего…
— Продолжайте, — сказала Дебора.
— Что вам сказать еще?
— Что выйдет из этой любви, о которой вы мне говорите?
— Линии вашей руки отвечают мне на это неопределенным и тревожным образом.
— Что именно?
— Я вижу, что вы отдадите ваше сердце какому-то странному человеку, какому-то таинственному существу. Я вижу ужасное соперничество, постыдное вероломство, неизбежную измену и наконец…
Луцифер остановилась.
— Наконец? — спросила жидовка.
— Самую гибельную и трагическую развязку! — отвечала или, скорее, пролепетала молодая девушка.
— Какую развязку?
— Насильственную и преждевременную смерть…
— Насильственную… преждевременную смерть! — вскричала Дебора с ужасом. — Разве будет убийство?
— Да.
— И я буду жертвой?
— Да.
— А кто же будет убийцей?
— Непроницаемый мрак скрывает от меня преступную руку. Я вижу убийство, но не вижу убийцы…
Дебора побледнела. В эту минуту ее прелестная головка, отделившаяся от подушек дивана, совершенно опрокинулась назад, густые и шелковистые пряди ее великолепных волос закрыли ее своими черными волнами. Жидовка начала лишаться чувств.
— Боже мой! Дебора, что с вами? — вскричала с испугом Луцифер.
Дебора могла отвечать только таким слабым движением, что оно было почти незаметно.
III. Двести тысяч ливров и двойной луидор
Луцифер бросилась на колени возле жидовки. Она подняла ей голову, обвила руками, отстегнула аграфы корсажа.
Облегченная почти тотчас же этой заботой, жидовка раскрыла глаза и устремила их на свою подругу с дружеским выражением. В то же время губы ее прошептали:
— Ничего… Ничего.
Через несколько секунд силы совершенно возвратились к Деборе, и яркий румянец здоровья опять появился на ее деках; она могла встать с дивана.
— Что было с вами? — спросила Луцифер с нежным участием.
— Не знаю, — отвечала жидовка, — но эти мрачные образы, это зловещее предсказание произвели на меня ужасное впечатление… Мне показалось, будто сердце мое леденеет. Мне показалось, будто убийственная рука, о которой вы сейчас говорили, тяготеет уже надо мною… Я задрожала, я испугалась… Конечно, это нелепое и смешное сумасбродство, но, пожалуйста, душа моя, не насмехайтесь надо мной…
— О! — вскричала Луцифер, — вы приводите меня в отчаяние!..
— Я! Чем?
— Я вижу, что испугала вас… я чувствую себя виновной и никогда не прощу себе этого.
— Дитя!.. Ведь вы говорили против вашей воли?
— Это правда.
— Вы уступили моим настоятельным убеждениям… Притом могли ли вы предполагать, чтобы я была глупа до такой степени и испугалась того, что вы сами называете сумасбродством?
— Вы правы, но, несмотря на все это, я должна была молчать… я должна была не соглашаться на ваши просьбы. Я надеюсь, по крайней мере, милая Дебора, что это грустное впечатление прошло, и вы не верите более ни одному слову из моих глупых предсказаний…
— О! Будьте спокойны, — отвечала жидовка, улыбаясь, — я лучше желаю усомниться в вашей науке, нежели в любви и будущем… Притом, моя милая, в девятнадцать лет знать, что умрешь преждевременной и еще насильственной смертью, право, слишком неприятно.
— И вы прощаете мне?
— В чем могу я вас прощать?..
— В минуте горести и страдания, которую я вам причинила.
— Как вы сумасбродны!.. Не только не сержусь на вас, но уже все забыла…
— Точно?
— В доказательство раскрываю вам мои объятия.
И Дебора протянула к Луцифер свои прекрасные, белые и грациозные руки. Девушка бросилась к ней на шею. Обе обнялись горячо и ласково.
Никогда воображение поэта не могло представить себе более обольстительной группы. Полуоткрытый корсаж платья Деборы выказывал прелестную шею. Тяжелые косы ее великолепных волос падали, подобно черным бархатным лентам на ее открытые плечи. Луцифер, которая была несколько ниже своей подруги, поднялась на цыпочки, чтобы достать до лба Деборы, к которому она приложила свои губы, красные как коралл. Этот поцелуй, целомудренная и очаровательная ласка, оказанная молодой девушкой ее подруге, был дан с такой жаркой страстью, что походил на сладострастную ласку. За этим поцелуем последовал веселый разговор, прерываемый громким хохотом. Никаких признаков того, что случилось, не осталось в памяти Деборы. Луцифер также, казалось, ничего не понимала.
Но оставим пока этих молодых резвушек, мы скоро встретимся с ними опять.
Читатели, может быть, помнят, что Рауль де ла Транблэ выиграл в игорном доме двести тысяч ливров. Спустившись с гордостью с широкой лестницы игорного дома, он сел в портшез и велел отнести себя в гостиницу «Золотое Руно», куда обещал себе ступить ногой в последний раз.
Жак сидел в комнате Рауля. Верный слуга, чрезвычайно беспокоясь о продолжительном отсутствии господина, не ложился спать и ожидал его.
— Боже мой, кавалер, — сказал ему бедный Жак, — если бы вы знали, как я боялся. Не случилось ли с вами чего-нибудь неожиданного и странного?
— Ты не ошибся, мой милый, — отвечал Рауль, — со мною действительно случилось нечто…
— Ничего неприятного, надеюсь?
— Суди сам…
И Рауль, засунув обе руки в карманы, вытащил пригоршни золотых монет, которые рассыпались по полинялому сукну стола.
Жак смотрел на эту металлическую лавину и не верил своим глазам. Наслаждаясь удивлением своего слуги, Рауль опять засунул руки в карманы, как бы в бездонный океан и вновь вынул их наполненными золотом.
— Боже мой! — вскричал наконец Жак. — Боже мой! Сколько золота… сколько золота!..
— Это лучше, нежели золото, мой милый, — с важностью возразил Рауль. — Это первый камень здания, которое будет грандиозно! Это — могущество! Это — мщение! Я был изгнан… Я был оскорблен людьми, которые отняли у меня мое состояние и мое имя!.. Этих людей я заставлю просить у меня помилования и пощады!.. Тебя также, мой милый Жак, прогнали из дома, в котором умер твой отец!.. Но если ты хочешь, то, когда я окончу свою месть, мы займемся и твоей!..
— Кавалер, — отвечал Жак смиренно, — я не желаю мстить никому…
— Неужели у тебя такое низкое сердце, что ты забываешь сделанное тебе зло?..
— О! Это не так, кавалер. Ведь те, которые хотели сделать мне зло, напротив, принесли пользу.
— Каким образом?
— Если бы я не остался без убежища и без хлеба, вы, кавалер, не нашли бы меня на дороге…
— Конечно.
— Не сжалились бы надо мною…
— Справедливо.
— Не взяли бы с собою в Париж…
— Вывод совершенно логичный!
— Стало быть, несчастье составило мое счастье, потому что благодаря ему вы, кавалер, позволяете мне служить вам. Нет места на свете, которое, по моему мнению, могло бы сравниться с моим…
Рауль был тронут истиной слов Жака, так глубоко прочувствованной, и его так простодушно выраженной привязанностью. Несмотря на аристократические предрассудки, которыми он обязан был если не рождению, то по крайней мере воспитанию, он протянул руку своему верному слуге, но Жак, несмотря на избыток радости, долго колебался прежде, чем осмелился пожать эту руку.
— О, бедный мой Жак, ты так добр!.. — сказал Рауль. — Ты лучше меня!.. Я знаю, что золотом нельзя заплатить за такую преданность, как твоя, — прибавил кавалер после некоторого молчания, — но если я разбогател, ты тоже должен пользоваться моим богатством… Все, что находится на этом столе, принадлежит тебе точно так же, как и мне… Бери сколько хочешь…
Жак подошел к столу, взглянул на груду золотых монет и банковых билетов, протянул руку, взял, не без некоторой нерешимости, один луидор и опустил в карман, думая: «Что мне делать с такой кучей денег?»
IV. Незнакомка
«Добрый мальчик! — думал Рауль при виде такой характерной черты нашего приятеля Жака, — золотая душа!.. Ангельский характер!.. Бархатное платье дворянина часто скрывает сердце менее благородное, нежели то, которое бьется под ливреей лакея!.. Я думаю только о мщении, а он думает только о том, чтобы любить меня и служить мне!»
Потом, так как бледное лицо и красные глаза Жака показывали чрезвычайную усталость, Рауль велел ему ложиться и спать сколько он захочет. Жак повиновался с быстротой, доказывавшей, что приказание, полученное им, было для него особенно приятно. Рауль, со своей стороны, лег тотчас же и скоро заснул. Сны, то страшные, то веселые, но все с хорошим предзнаменованием, виделись ему. Молодому человеку грезилось, что он гонится со шпагой за виконтом Клодульфом-Элеонором де Жакмэ, трепещущим и испуганным. Ему грезилось, что он вешает на толстых ветвях старого дуба этого смешного и низкого дворянина вместе с его достойными друзьями и родственниками, кавалером Антенором де Вертапюи и бароном Станиславом-Ландольфом-Адемаром де Морисушем. Эти три гадкие твари, вырываясь от Рауля, делали разные смешные гримасы, забавлявшие его выше всякого выражения. Потом Рауль видел Дебору, прелестную жидовку, наружность которой накануне поразила его более, нежели он хотел себе признаться в этом. Он видел ее уже не в темном платье, не с лицом, запечатленным строгим достоинством, но в ослепительном наряде, улыбающуюся, преклоняющую перед ним колено и подающую ему с улыбкой, исполненной любви, ключи от феодального замка Транблэ на золотом подносе с гербом маркизов де ла Транблэ.
Мало-помалу сны эти изгладились. Горячка, возбужденная ночью, проведенной в игре, угасла в жилах молодого человека. Усталость воспользовалась своими неоспоримыми правами: сон Рауля стал тяжелым и глубоким и продолжался очень долго.
Было три часа пополудни, когда Рауль, окончив свой туалет, вышел из гостиницы. Он намеревался отыскать себе квартиру, достойную его нового положения, но прежде всего хотел взять от ростовщика Натана усыпанные бриллиантами часы, этот драгоценный сувенир маркиза Режинальда. Он пошел на улицу Сент-Онорэ легкими шагами, потому что чувствовал потребность подышать свежим, чистым воздухом, и с этой целью не хотел нанимать ни кареты, ни портшеза. Притом наемные экипажи казались молодому человеку неблагородными и пошлыми. Он намеревался немедленно купить собственный экипаж и написать на нем аристократический герб. В своем воображении он запрягал уже в этот экипаж пару великолепных буланых лошадей, длинные гривы и пушистые хвосты которых будут изящно украшены пунцовыми лентами с серебром.
Он шел таким образом, улыбаясь своим мечтам и гордо подняв голову. Внешне это был тот же человек, что и накануне, однако теперь, конечно, никто не узнал бы его. Походка и приемы его совершенно изменились. Выражение лица тоже переменилось, как и все остальное. Отчего? спросит читатель. Боже мой, причина очень проста. Накануне Рауль подвергался жестоким законам нищеты. Он должен был надевать на лицо маску смирения, шнурки которой бедные не имеют права развязывать. Сегодня же он чувствовал себя богатым и готовился, по своему решительному убеждению, разбогатеть еще более. Он повторял себе до пресыщения слова, сорвавшиеся с его губ в ту минуту, когда он узнал свою звезду, сиявшую на небе среди туманных созвездий.
— Жизнь принадлежит мне!.. Будущее — мое!
Понятно, что в подобном расположении духа Рауль изрядно толкал прохожих. Некоторые хотели рассердиться на дерзкого молодого человека, который ничего не видел перед собой, но гордая внешность Рауля и шпага, которую он носил с неоспоримой грацией, заставляли возмущенных умолкать, и граждане, на минуту раздраженные и тотчас же ставшие миролюбивыми, проходили мимо, кланяясь и ворча себе под нос.
Рауль же, рассеянный, как поэт или как влюбленный, не видал и не слыхал их. Счастливец! Зачем мы не наслаждаемся, подобно ему, такой же драгоценной способностью в этом Париже, где беспрестанно подвергаешься на тротуарах неприятной встрече с лавочниками и с академиками?!.
Однако как медленно и рассеянно ни идешь, наконец дойдешь-таки немного раньше или позже. Рауль приближался к углу Сент-Онорэ, как вдруг наткнулся на кого-то, поспешно идущего ему навстречу. Первым движением Рауля было вскричать:
— Какой неловкий!
Но человеком, на которого он наткнулся, была хорошенькая девушка. Она так мило вскрикнула, что Рауль поспешно взглянул туда, откуда раздался этот крик, и тотчас же поднес руку к шляпе, потом вместо того что намеревался произнести, прошептал самым смиренным голосом:
— Ах! извините… извините… тысячу раз извините!
Отчего произошла такая резкая и неожиданная перемена в обращении нашего героя? Это можно легко угадать. Ослепленный взор Рауля остановился на самом очаровательном личике, какое только он мог вообразить, и хотя это лицо принадлежало простой гризетке (судя, по крайней мере, по одежде девушки), но Рауль подвергался влиянию, которое красота неоспоримо производит на человека с тех пор, как существует свет. Гризетка со своей стороны подняла на Рауля большие черные глаза, которые тотчас же прикрылись сетью бархатных ресниц, и пунцовые губы ее произнесли, улыбаясь:
— Боже мой! это ничего…
— Право я не могу выразить, как мне досадно, — пролепетал молодой человек, — что я был так неосторожен, мне так неловко, что я толкнул вас…
Девушка опять улыбнулась, и эта улыбка заставила сверкнуть восточные жемчужины, служившие ей зубами.
— Повторяю вам, это ничего, — еще раз сказала она.
При этом девушка сделала легкий поклон, ловко поправила капюшон мантильи и складки платья, улыбнулась еще раз и продолжала свой путь.
Рауль почтительно посторонился, чтобы пропустить ее, но, когда она прошла, обернулся посмотреть на нее. Девушка удалялась походкой хорошенькой серой мышки, выбирая, куда ступить своей маленькой ножкой. Когда она прошла шагов сто, походка ее сделалась медленнее, она поступила точно так же, как и Рауль: повернула голову назад и заметила Рауля, все еще стоявшего на том же месте, с шляпой в руке.
«Боже мой! — подумала она, — как он хорош и как он на меня смотрит… Что, если он пойдет за мной?!»
Однако в этой мысли, вероятно, не было для нее ничего страшного, потому что она не ускорила своих шагов.
«Какая она хорошенькая! — подумал Рауль в то же время. — Не пойти ли мне за ней?»…
Одну секунду он был в нерешимости; но сон прошлой ночи вдруг пришел ему на память: он вспомнил о Деборе с ее бледным и гордым личиком и арабскими глазами.
«К чему мне следовать за этой гризеткой? — спросил он себя. — Не увижу ли я через минуту существо еще более прелестное?..»
Однако его нерешимость еще продолжалась, и если бы он заметил, что молодая девушка еще обернулась взглянуть на него, то, без всякого сомнения, пошел бы за нею. Но это движение ускользнуло от него, толпы зевак заслонили от него незнакомку и он вдруг потерял ее из виду. Этого было достаточно, чтобы изгладить из головы Рауля мимолетное впечатление. Он надел шляпу на голову и поспешно обогнул угол улицы Сент-Онорэ. Между тем, незнакомка, удаляясь, еще повторяла:
— Что, если он пойдет за мною? Что, если он пойдет за мною?..
Но Рауль не пошел за девушкой по имени Луцифер…
V. Рауль и Натан
Через несколько минут Рауль дошел до дома Эзехиеля Натана. Как и накануне, он прошел три ступени, которые вели к единственному входу в этот дом, как накануне, поднял молоток и громко им стукнул. Ему показалось, что молоток, стукнув по бронзовой дощечке, на этот раз извлек из нее более веселый звук и что эхо, пробудившееся внутри дома, приветствовало его как дружеский голос. Прошло минуты две. Большая абруццская собака, сидевшая на цепи на дворе, бешено завыла. Рауль думал о Деборе.
«Она придет», — говорил он сам себе.
Но походка, нимало не похожая на ее шаги, раздалась в коридоре. Растворилась форточка и из нее выглянуло желтое и пергаментное лицо. Голос вовсе не свежий и не молодой спросил:
— Кто вы и чего вам нужно?
Рауль задрожал. Натан заменил Дебору. Однако молодой человек отвечал:
— Я дворянин, которого вы принимали вчера вечером, мне нужно видеть вас…
— А-а! В самом деле, теперь я вас узнал. Извините меня, но я вижу такое множество людей каждый день, что иногда смешиваю лица. Притом я старею и память у меня уже не так хороша, как прежде.
— Хорошо… хорошо, но отворите же мне дверь…
— Сейчас, сейчас, — отвечал жид, отодвигая запоры.
Дверь растворилась. Рауль вошел.
— Пожалуйте за мной, — сказал жид, — мы поговорим о делах наверху.
Рауль пошел за Натаном и дорогой смотрел повсюду, не приметит ли Деборы, но девушка оставалась невидимой, и ничто не обнаруживало ее присутствия. Рауль и ростовщик пришли в ту комнату, которую мы уже знаем. Жид сел в старое кресло, положил на прилавок свои хищные и крючковатые руки с желтыми пальцами и черными ногтями и сказал:
— Если вы пришли за новым займом, то вы уже знаете, что я не могу дать ничего без залога… Посмотрим, каков залог…
— Я пришел не занимать, — отвечал Рауль.
— Чего же вы желаете?
— Возвратить вам свой долг.
— Шестьдесят луидоров?
— Да.
— Но вы брали у меня эти деньги на шесть недель…
— Я предпочитаю расплатиться с вами сейчас.
— Вы, конечно, не забыли нашего условия, что проценты будут одинаковы, заплатите ли вы деньги через два дня или через шесть недель?
— Помню, помню и не спорю. Я вам должен шестьдесят луидоров, вот они…
И Рауль положил перед жидом небольшую кучку золотых монет.
— Счет верен, — сказал Натан, взвесив каждый луидор в своих ястребиных когтях. — Золото хорошее и не обрезанное! Черт побери, как вы аккуратны!..
— Это вас удивляет?
— Нисколько. Я не удивляюсь ничему. Я говорю только, что с вами приятно иметь дело. Поверьте, что моя касса будет всегда к вашим услугам. Вам стоит только сказать слово.
Рауль сделал головой знак, который, пожалуй, мог быть принят за благодарность.
— Вы должны отдать мои часы, — сказал он потом.
— Справедливо, а я было и забыл!.. Это очень смешно… но будьте спокойны, они здесь…
Натан встал с кресла, подошел к сундуку и растворил его. Часы Рауля действительно лежали в сундуке, посреди груды вещей всякого рода. На каждой вещи был привязан ярлычок, на котором обозначались число, условия и имя владельца. Этот порядок, по всей вероятности, служил основным началом при устройстве заемного банка, известного у нас под именем mont-de-piete, того филантропического заведения, которое дает взаймы деньги работникам, студентам и девицам, живущим на содержании, за такие проценты, в которых не захотят признаться даже ростовщики. Но таковы уж наши нравы и законы.
Натан взял часы, снял ярлык и подал их Раулю, говоря:
— Те самые, не так ли?
— Да, — отвечал молодой человек.
— Они очень хороши, если бы вы предложили мне купить их, так как бриллианты чудесной воды, то я, кажется, сделал бы глупость и заплатил бы вам за них сто луидоров… Да, право, сто луидоров… не отпираюсь…
— Надеюсь, что я никогда не буду иметь надобности продавать их, — отвечал молодой человек, желая продолжить разговор, надеясь, что скоро явится Дебора.
— Тем лучше для вас. О! тем лучше, — прошептал Натан с умилением.
— Благодарю, — сказал Рауль.
— Позвольте мне задать вам вопрос?
— Охотно.
— Может быть, вы найдете его нескромным?
— Нисколько.
— Вероятно, вы получили наследство после вчерашнего дня?
— Почему вы спрашиваете меня об этом?
— Потому что вчера вы занимали деньги, а сегодня у вас, кажется, их достаточно.
— Нет, — отвечал Рауль с улыбкой, — я не получил наследства, а выиграл.
— А! вы последовали моему косвенному совету?
— Какому?
— Пойти в игорный дом?
— Да, и мне посчастливилось.
— Фортуна вам улыбалась?
— Целую ночь.
— Стало быть, вы выиграли много?
— Очень.
— А сколько?
— Двести тысяч ливров.
— Двести тысяч! — повторил жид, задрожав на своем кресле.
— Да, именно столько.
— Знаете ли, это бесподобно!
— Конечно.
— А вы не находите, что, взяв с вас десять луидоров взамен мысли сесть за игорный стол, я взял с вас за эту мысль не слишком дорого?
— Я готов согласиться с этим…
— Тогда позвольте же мне дать вам второй совет, такой же хороший, как первый, и за который я ничего не возьму с вас…
— Какой?
— Теперь, когда вы разбогатели, не ходите более никогда в игорный дом.
— Почему?
— Просто потому, что, если вы выиграли эти деньги в четыре часа, то проиграете их в два…
— Этого нельзя знать наверно.
— По крайней мере, это довольно вероятно. Я видел много людей, которые были в положении, подобном вашему, исключая огромность выигранной вами суммы, успех опьянял их, они возвращались к игре, чтобы удвоить свое богатство, и на другое утро прибегали ко мне заложить что-нибудь и снова отправляться пытать счастья, которое насмехалось над их усилиями, как молодая кокетка…
— Благодарю вас за советы, но люди, о которых вы говорите, все были безумцы, терявшие голову, упорствовавшие против несчастья, не имевшие хладнокровия и твердости, необходимых для игрока…
— А имеете ли вы это хладнокровие и эту твердость?
— Думаю, что так.
— Итак, вы еще будете играть?
— Не знаю… Может быть.
— Если так, то не пройдет и недели, как эти часы, которые я возвратил вам, опять займут место в моем сундуке.
— Увидим.
— Не забудьте, что, если вам будет нужно продать или заложить, я предложил вам и опять предлагаю сто луидоров.
Рауль пожал плечами. Натан проводил его до двери. Дебора не показывалась.
VI. Натан и Дебора
«Боже мой! — думал Рауль, выходя из дома Натана, — как этот старый жид неприятен со своими советами и предсказаниями!.. Пусть бы себе занимался своим ремеслом и брал огромные проценты, лишь бы только не осмеливался давать уроки благоразумия тем, кого бесстыдно грабит! Безумец! Он не понимает влияния звезд! Он не понимает, что я вступил на путь счастья и богатства и что с прошлой ночи все должно мне удаваться! Если бы дочь его не была так хороша, я никогда не возвратился бы в логовище этого лихоимца! Но эта божественная Дебора, эта смуглая девушка с глазами газели и с бархатными ресницами, расшевелила мне сердце! Я хочу ее увидеть и увижу!»
Легко понять, что Рауль, обвиняя других в сумасбродстве, сам не отличался слишком большим благоразумием. Легко также понять и то, что если он не был еще влюблен в Дебору, то, по крайней мере, был близок к этому.
Затворив дверь за Раулем, Натан отправился на первый этаж продолжать свои счеты, прерванные приходом посетителя. Он уже переступил первые ступени лестницы, когда его позвал голос, звуки которого, кроткие и звучные, заставили забиться его сердце. Голос этот принадлежал Деборе. Жид поспешно вошел в нижнюю залу, где находилась его дочь.
Дебора, казавшаяся утомленной, лежала на широком диване. По странной прихоти, молодая девушка надела в этот день вместо вчерашнего простого платья ослепительно богатый восточный костюм. Жемчужное ожерелье обвивало ее гибкую шею. Цехины сверкали в ее черных волосах. Руки, закинутые назад, поддерживали томную голову. Легкие синеватые круги окружали ее веки и доказывали, что она провела бессонную ночь. Ни один из этих признаков страдания не избег нежных родительских взоров Натана.
— Дитя мое, дитя мое, — прошептал он с беспокойством. — Ты нездорова? Ты страдаешь?
— Небольшая мигрень, мой добрый батюшка, может быть, расстройство нервов, но это ничего, решительно ничего, — отвечала Дебора.
— Точно?
— Да, добрый батюшка, завтра утром все пройдет…
— Да услышит тебя Бог! — сказал он, несколько успокоившись. — Но скажи мне, ты сейчас звала меня?
— Звала…
— Чего ты хотела?
— Видеть вас и поговорить с вами, вот и все…
— Не хочешь ли ты спросить меня о чем-нибудь особенном?
— Решительно ни о чем.
— Тогда давай поговорим, но сначала объясни мне, зачем, против своего обыкновения, сегодня ты нарядилась так блистательно?
— Зачем!.. Право, сама не знаю… Просто прихоть, фантазия. Я убирала в шкафах, и этот костюм попался мне на глаза; мне пришло в голову надеть его, а так как я тотчас же почувствовала себя нездоровой, мне уже не хотелось переодеваться…
Натан не настаивал. Объяснение дочери показалось ему совершенно правдоподобным.
Наступило молчание. Без сомнения, Дебора искала средства привести разговор к тому предмету, к которому она давно желала приступить. Наконец она заговорила:
— Батюшка, у вас кто-то сейчас был?
— Да, тот молодой человек, которого ты приводила ко мне вчера.
Щеки Деборы покрылись легким румянцем, которого Натан не заметил.
— А, — прошептала она, — этот молодой человек опять приходил…
— Да, приходил.
— Зачем?.. Верно, опять занимать!
— Ошибаешься: он принес мне деньги, которые я дал ему взаймы вчера.
— Уже?
— О, этот дворянин очень торопился расплатиться.
— Вы говорите: дворянин?
— Да.
— Почему вы так думаете?
— Я не могу в этом сомневаться.
— Вы знаете его имя?
— Нет, не знаю.
— Ну, так на чем же вы основываете свое мнение?
— Дитя мое, вещь, которую он оставил мне в залог, фамильная драгоценность; заметь хорошенько, часы с гербом, с великолепным гербом, на котором представлена золотая осина в красном поле, притом маркизская корона.
— Но, батюшка, — сказала Дебора с притворным равнодушием, — нетрудно было бы отыскать в гербовнике, какой фамилии принадлежит этот герб.
— Конечно, это было бы легко, но к чему? С какой целью отыскивать его?
— Вы правы, с какой целью! Наверно, вы никогда уже не увидите этого дворянина!
— О! в этом ты ошибаешься, — возразил Натан, улыбаясь.
— Он вернется?
— И даже скоро.
— Занимать у вас денег?
— Именно.
— Однако, если он заплатил вам сегодня?
— Ты предполагаешь, что он не будет уже иметь надобности во мне?
— Мне кажется…
— Знаешь ли, какие деньги принес он мне сегодня?
— Откуда мне знать?
— Деньги, которые он выиграл в игорном доме. Он выиграл огромную сумму… двести тысяч ливров! Но эту сумму он приобрел ужасной ценой, он сделался игроком на всю жизнь… я это прочел в его глазах… Карточная лихорадка течет теперь в его жилах вместе с кровью; он опять будет играть, проиграет все выигранное и принесет мне в залог эти самые часы или какую-нибудь другую вещь…
Дебора уже не слышала отца.
«Игрок! — думала она. — Как жаль!..»
Жид продолжал:
— Видишь ли, мое бедное дитя, игрок соединяет в себе посредством этой дьявольской страсти все пороки, которые обыкновенно не идут рядом. Игрок! Ах! по-моему, лучше быть вором или развратником. Для игрока нет ничего священного. Он продаст жену, мать, чтобы достать денег для игры! Если бы он располагал такими сокровищами, какие я накопил в этом доме и которые со временем будут принадлежать тебе, он проиграл бы их в несколько часов!.. А когда у него не осталось бы ничего, он стал бы красть, чтобы только играть!..
Натан замолчал и закашлялся. Эта длинная тирада, сказанная с жаром, взволновала его до крайней степени. Одышка заставила его почувствовать в эту минуту, что он должен был воздерживаться старательно от декламации и излишнего воодушевления.
Дебора встала с дивана и побежала приготовить для отца стакан сахарной воды, в которую налила несколько капель лекарства. Натан опорожнил стакан залпом и почувствовал тотчас облегчение.
— Милая дочь, — прошептал он, — дорогое дитя, твой старый отец благодарит тебя…
— Зачем вы так горячитесь? — отвечала Дебора своим кротким голосом. И прибавила мысленно во второй раз:
«Игрок! Как жаль!..»
Отец и дочь обменялись еще несколькими незначительными словами. Потом кто-то постучал в дверь с улицы и Натан оставил Дебору, чтобы принять нового посетителя.
Как только жидовка осталась одна, она уселась опять на диване в своей прежней небрежной позе. Скоро глаза ее закрылись и она как будто заснула, но она не спала, она думала. О чем? Ах, Боже мой! О том молодом незнакомце, который со вчерашнего дня занимал ее таким странным образом.
«Батюшка проклинает игроков, — думала она, — и думает, что они неисправимы!.. Но говорят, что нет такого неисправимого недуга, который не могла бы излечить любовь!..»
Потом, долго мечтая на эту тему, она прибавила:
«Где найти гербовник, чтобы узнать его имя?..»
VII. Как Рауль провел вечер
День кончился в ту минуту, когда Рауль оканчивал мысленно последние фразы монолога, переданного нами в прошлой главе. Густой туман, поднимавшийся от земли к небу, окружал Париж. Прохожие как будто терялись в этом тумане, все более и более сгущавшемся. Слабый свет начинал мелькать за узкими и темными окнами лавок улицы Сент-Оноре — печальное и жалкое освещение, предшественников газа, который ныне блистает в этих же местах. Рауль смотрел направо и налево.
— Куда идти? — спросил он сам себя.
На этот вопрос отвечал ему голос его собственного желудка, кричавшего, что он голоден и что давно пора обедать. Рауль, как нам известно, встал очень поздно и вышел из гостиницы, не позавтракав. Человек никогда не отказывается повиноваться желудку, разумеется, когда состояние кошелька позволяет исполнять его приказания. А мы знаем, что кошелек Рауля был туго набит.
Молодой человек пошел в ту знаменитую гостиницу, о которой мы уже говорили с заслуженными похвалами и которая была известна под вывеской «Золотой Колесницы». В этой гостинице хорошо кормили, подавали превосходные вина, словом молодые дворяне и богатая буржуазия часто посещали ее. Конечно, она нисколько не походила на те, которые ныне носят названия «Братьев Провансальцев», «Золотого Дома»и «Английской Кофейной». Чтобы найти теперь что-либо ей подобное, надобно отправиться в те многочисленные харчевни, которые процветают у Мон-Парнасской и Менской застав. Разумеется, мы говорим только о внешности заведений, а не о качестве кушаний.
Чтобы дойти до обширных зал, где обедали посетители «Золотой Колесницы», надо было идти через кухню. В этой кухне осуществлялись гомерические торжества камачовых свадеб и пиров Гаргантюа. Двенадцать вертелов, длинных, как реи трехмачтового корабля, беспрерывно вертелись над огромным костром, подобным тому, о котором говорит «Илиада»и которого достаточно было бы для того, чтобы изжарить на нем целого быка на обед героям. Ягнята, поросята, бараны, индейки жарились вместе, орошаемые каждые три секунды потоками растопленного жира. Об этом заботился целый батальон внимательных поварят. Несколько далее фазаны, куропатки, перепелки, словом, дичь всякого рода, даже винноягодники и овсянки, разливали приятный запах, золотясь перед менее жарким огнем. Смешанный запах трюфелей и пряных кореньев приятно ласкал обоняние лакомки. С противоположной стороны шесть поваров в белых колпаках и передниках наблюдали за бесчисленным множеством кастрюль, в которых кипели изысканные рагу. Конечно, все это было не изящно, но имело свою хорошую сторону, с этим нельзя было не согласиться. Не приятно ли было для гастронома, имеющего притом хороший аппетит, наслаждаться гармоническими подробностями таких успокоительных приготовлений и заказать свой обед.
Рауль вошел и велел подать себе обед, от которого не отказался бы Брилья Саварен. Бутылка старого испанского вина, другая бутылка превосходного «помара»и наконец третья «сильери» оросили вкусные яства, которые вместе с винами скоро привели молодого человека в то состояние нравственного блаженства, которое гораздо ближе к экстазу, чем к опьянению. Желудок Рауля был удовлетворен, сердце довольно, мысли свободны, и он смотрел на весь человеческий род с такой благосклонностью, что мы готовы предложить пари, что он охотно подал бы руку и бокал шампанского даже Бенуа, если бы Бенуа в эту минуту сел возле него. Но Бенуа не пришел, а Рауль, расплатившись золотом за обед, вышел из ресторации с намерением приходить в нее каждый день. Потом молодой человек задал себе новый вопрос: «Куда мне идти?»
Но этот вопрос остался без ответа. Было уже слишком поздно, чтобы искать в этот день квартиру, и Рауль решился идти прямо, предоставив случаю распорядиться его вечером. Случай — большой лукавец! Он привел нашего героя прямо к высоким и широким воротам игорного дома. Двор был так же великолепно освещен, как и накануне, и загроможден лакеями, которые потрясали факелами, и вельможами, выходившими из портшезов. Рауль невольно остановился. Он хотел было продолжать дорогу, но невидимый магнит как будто удерживал его и не допускал удалиться.
«А почему бы мне и не войти?»— подумал он.
И тотчас же ответил себе:
«В самом деле, почему не войти? Чего мне бояться?.. Разве я не могу, не дотрагиваясь даже до карт, провести приятный вечер, глядя, как сыплется золото по зеленому сукну, как оно сияет при свете сотни свеч?.. Какая музыка! очаровательные звуки катящихся луидоров, из которых брызжут мириады искр? Притом, если я захочу играть, чем я рискую?.. У меня в карманах не более тридцати луидоров… Если я и проиграю эту безделицу, какая беда?.. К тому же, почему я непременно должен проиграть?.. Прошлую ночь пятьдесят луидоров доставили мне двести тысяч ливров… Несмотря на слова старого Натана, я могу выиграть столько же и сегодня!..»
Когда рассуждаешь таким образом с самим собой, можно быть уверенным заранее, что поддаешься искушению. Рауль действительно поддался. Он ступил за ворота и через минуту входил уже в блестящие залы первого этажа. Хотя было еще не поздно, но игроки собрались уже во множестве. Приход Рауля произвел между ними волнение. Только и говорили, что о его изумительном счастье и огромном выигрыше накануне. Его присутствие в высшей степени подстрекнуло общее любопытство. Будет ли он играть? много ли выиграет? или, напротив, все проиграет? Вот о чем каждый спрашивал себя.
Характер человека почти всегда так странно проникнут ребяческим тщеславием, что Рауль, заметив общее внимание к себе, был внутренне польщен этим и сожалел, зачем не принес с собой тысяч двадцать, чтобы в случае надобности поддержать свою репутацию большого игрока. В эту минуту молодой человек был готов вернуться в гостиницу за деньгами, но от улицы Сент-Онорэ до Паради-Пуассоньер было далеко, и Рауль решился остаться и попытать счастья.
В тех залах, куда мы ввели наших читателей, играли в фараон, в бириби, в бассет, в ландскнехт и проч. Рауль подошел к тому столу, где шла игра в ландскнехт, к тому самому столу, у которого, через несколько лет, он будет так жестоко оскорблен виконтом д'Обиньи. Ему тотчас дали место. Рауль первый раз видел, как играют в ландскнехт, и потому минуты две или три присматривался к игре, чтобы понять ее сущность. Наконец, когда дошла до него очередь метать, он взял карты и бросил на стол двадцать пять луидоров.
— Ва-банк! — поспешно подхватил сосед его справа, прибавив тихо: — Я вперед знаю, что выиграю… два раза кряду не бывает подобного счастья, как то, которое благоприятствовало этому молодому человеку вчера.
VIII. Портшез
Однако выиграл Рауль. Сосед его справа, казалось, был очень раздосадован и в особенности очень удивлен, что проиграл двадцать пять луидоров, но утешился, думая:
«Ба! Если этот дворянин будет продолжать игру, я буду держать против него пятьдесят луидоров и на этот раз уж непременно выиграю!»
Рауль действительно продолжал играть.
— Ва-банк! — опять сказал сосед.
Рауль выиграл снова. На губах соседа образовалась очень заметная гримаса.
«Черт побери! черт побери! — думал он. — Неужели счастье будет постоянно ему благоприятствовать?»
И, вдруг сделавшись осторожным, он не стал рисковать ничем против ставки Рауля.
«Осторожность — мать безопасности»— говорит пословица. Эта пословица, чрезвычайно мудрая, заключает в себе весьма полезный совет. Сосед хорошо сделал, что последовал этому совету. Счастье Рауля было и на этот раз не менее изумительно, чем в прошлую ночь. Семь раз подряд случай помогал молодому человеку.
Интерес, внушаемый партией в ландскнехт, был так велик, что все игроки, игравшие в фараон, бассет и прочие игры, оставили их и столпились у стола, за которым играл наш герой. В эту минуту на зеленом сукне лежала огромная сумма в сто пятьдесят три тысячи шестьсот луидоров золотом и банковыми билетами — ослепительный результат первой ставки в двадцать пять луидоров.
— Кто хочет держать? — сказал Рауль. — Я не снимаю ничего.
Легкий трепет пробежал по зале. Неслыханная смелость молодого человека, который с беззаботным видом рисковал целым состоянием на одну ставку, внушила всем игрокам лихорадочный восторг, смешанный с каким-то испугом. Один Рауль был спокоен, и мы утверждаем, что с его стороны не было никакой заслуги в том, что он оставался хладнокровным. Его вера в свою звезду была так слепа, что он даже и не подумал, что мог бы проиграть хоть одну ставку. Это суеверное доверие мало-помалу разделили все присутствующие, так что в ту минуту, когда Рауль произнес слова, приведенные выше, никто не отвечал на его вызов, и ни один луидор не был положен на стол. Рауль удивился страху, который внушал.
— Я жду, господа, — сказал он. — Я жду…
Молчание продолжалось.
— Как! — вскричал Рауль, — никто не поставит даже нескольких тысяч ливров!..
И он поглядел направо и налево, но увидал только испуганные и плачевные физиономии, потому что все окружающие его были в проигрыше, каждый оставил перья со своих крыльев в огромной груде золота, возвышавшейся перед молодым человеком.
— Стало быть, я должен оставить игру, господа! — продолжал Рауль. — Надеюсь, по крайней мере, что меня не обвинят в жадности, потому что я ухожу не по своей охоте…
Говоря таким образом, он встал и набил карманы золотом.
О! случаи!.. Тот, кто заменил Рауля за столом, тут же проиграл!.. Фортуна как будто хотела доказать, что одному нашему герою расточала она свои милости!.. Все горько сожалели, что не держали последней ставки Рауля, но было уже поздно!..
Молодой человек начал прохаживаться по обширным великолепным залам, не участвуя постоянно ни в какой игре, но, время от времени ставя карту то в бириби, то в бассете, и все с тем же неслыханным счастьем. К полуночи выигрыш его превосходил уже вчерашний: Рауль выиграл более двухсот тысяч. Один из банкиров игорного дома подошел к нему и любезно предложил обменять большую часть его золота на банковские билеты и ассигнации, деньга удобоносимые. Рауль принял это предложение с восторгом. Он положил в карман сверток полученных билетов и оставил у себя золотом только полтораста луидоров. Выйдя из игорного дома, молодой человек кликнул носильщиков, стоявших у ворот, бросил им золотую монету, сказал адрес своей гостиницы и прибавил:
— Вот вам луидор, только вы должны лететь, как ветер.
— Постараемся угодить вашему сиятельству, — отвечал один из носильщиков, бросившись за золотой монетой, покатившейся по мостовой.
Когда дверца затворилась за молодым человеком, оба носильщика переглянулись, потом начали перешептываться:
— Жан…
— Что!
— Мне пришла в голову мысль…
— И мне также.
— Скажи ты.
— Верно, одна и та же…
— Может статься…
— Сделать можно…
— Ты находишь…
— Значит, решено!
Удивляясь неподвижности портшеза, Рауль закричал изнутри:
— Эй, негодяи, что же мы не двигаемся с места?
— Извините, ваше сиятельство, — отвечал носильщик, уже прежде говоривший с Раулем, — мы с товарищем прилаживали помочи, теперь мы готовы и сейчас пойдем…
В самом деле портшез дввинулся. Рауль прижался в угол и, приятно убаюкиваемый быстрым и ровным движением своего экипажа, скоро задремал. Прошло четверть часа. Вдруг носильщики снова остановились. Рауль проснулся, думая, что его донесли до гостиницы, и высунул голову в дверцу. Он не узнал дома, напротив которого остановился портшез. Улица была совершенно пустая, узкая, грязная, и тусклый свет луны едва проникал сквозь густой мрак. Носильщики, казалось, совещались, стоя шагах в десяти от портшеза, который поставили на землю.
— Где же это мы? — закричал им Рауль.
Носильщики подошли. Рауль повторил свой вопрос.
— Пора выходить, — сказал один из них грубым голосом.
— Выходить?.. Разве мы уже дома?
— Да.
— Где гостиница «Золотое Руно»?
— Она здесь или в другом месте, это все равно.
— Вы что, с ума сошли?
— Полно разговаривать!.. Выходите, да поскорее, а не то мы вас сами вытащим…
Носильщик, говоривший таким образом, растворил дверцу. Рауль понял, что ему угрожает большая опасность. Присутствие духа не оставило его. Он выскочил из портшеза как можно дальше от носильщиков. Предчувствуя, что на него будет сделано нападение, молодой человек прислонился к стене, чтобы мошенники не могли окружить его. Положив руку на эфес шпаги и приготовясь защищаться, он спросил:
— Чего вы хотите от меня, негодяи?
— Ваших денег!
— У меня их нет.
Носильщики отвечали свирепым хохотом.
— Вы вышли из игорного дома… бросили нам луидор за расстояние, требующее не более получаса ходьбы, и еще уверяете, что у вас нет денег!.. Плохую же отговорку вы придумали!
IX. Улица Прувер
— Ну, если так, — сказал Рауль, чувствуя, что должен не терять присутствия духа и смело рисковать всем, — если вам нужны мои деньги, а я не хочу дать их вам, придите и возьмите их сами…
— Так мы и сделаем…
— Я жду!
И, обнажив шпагу, Рауль принял оборонительную позицию. Воры обычно очень трусливы. Редко бывает, чтобы они подвергали себя опасности, когда она представляется им лицом к лицу; сопротивление открытое, притом вооруженной рукой, большей частью смущает их. Рауль рассчитывал на это и не ошибался. Разбойники, несмотря на то, что их было двое против одного и что тяжелые палки портшеза могли стать в их руках оружием более опасным, чем щегольская шпага, отступили назад, вместо того чтобы броситься вперед. Рауль воспользовался этой остановкой, чтобы сделать четыре шага направо и таким образом с выгодой изменить свое положение. Он встал в углубление, образованное дверью. Ступени этой двери служили ему как бы пьедесталом, так что он возвышался над своими противниками, которые снова начали советоваться. Наконец один из них выступил вперед и сказал смягченным тоном, показывавшим примирительное намерение:
— Не сердитесь, давайте, если можно, поговорим.
Рауль сделал движение, означавшее: я слушаю. Разбойник продолжал:
— Мы хотим ваших денег, мы зашли уже слишком далеко, чтобы отступать, мы сильнее и, следовательно, вы должны исполнить наше требование; будьте же любезны, сделайте это добровольно, и, честное слово, мы вам не причиним ничего дурного…
Рауль колебался.
«Может быть, — думал он, — бросив горсть золота этим разбойникам, я успею спасти мою жизнь, которой угрожает опасность, и огромную сумму, которая со мной…»
Но почти тотчас же ему пришло в голову, что едва ли они удовольствуются несколькими луидорами, которые он им пожертвует. Притом Рауль не принадлежал к числу тех слабых душ, которые отступают перед опасностью.
— Я отказал сейчас и отказываю опять, — отвечал он твердо.
— Напрасно.
Рауль пожал плечами и промолчал.
— Это ваше последнее слово?
— Последнее.
— Раз, два, три?
— Да, да! сто раз «да»!..
— Ну, как вам будет угодно!..
И носильщики оба бросились на Рауля с поднятыми палками. Молодой человек хотел отразить удар своей шпагой, но палки были втрое длиннее его ломкого оружия. Противники Рауля могли нападать на него издали, а ему невозможно было достать до них. Однако на минуту ему удалось уклониться от удара. Затем шпага Рауля наткнулась на конец палки и сломалась как стеклянная. Обезоруженный таким образом, молодой человек должен был погибнуть. Страшный удар поразил его голову. Он вскрикнул и упал навзничь, без чувств. Без сомнения, дверь, к которой он стоял прислонившись, была плохо заперта, потому что под тяжестью его тела она растворилась. Тело Рауля распростерлось наполовину в коридоре дома, наполовину на грязной мостовой улицы.
— Попался наконец! — пробормотали разбойники с торжеством.
И они бросились к своей бесчувственной жертве со свирепой жадностью коршунов, устремляющихся на труп. Они обшарили карманы молодого человека и вытащили золото и часы с гербом.
— Все ли? — спросил один из них.
— Все, что я мог найти.
— Маловато!
— Да, черт побери!
— Ты, наверно, плохо обыскивал.
— Обыщи лучше, если можешь.
— Я так и сделаю.
И снова карманы Рауля были обшарены вдоль и поперек.
Десять раз жадные руки воров касались связки банковских билетов, но негодяи не подозревали о ценности этого пакета шелковистых бумажек и не обращали на него ни малейшего внимания.
— Решительно это все! — вскричал разбойник, которого звали Жаном.
— И мне кажется, что так.
— Надо удовольствоваться и этим…
— Да, за недостатком лучшего.
— Теперь нам нечего здесь делать, не правда ли?
— Нечего.
— Так бежим отсюда…
— И поскорее!..
Разбойники хотели уже удалиться, но Жан остановил своего товарища.
— Постой минуту! — сказал он.
— Ну, что еще?
Жан указал на тело Рауля.
— А что мы будем делать с этим молодцом?
— Не знаю.
— И я так же не знаю, поэтому и спрашиваю.
— Ты думаешь, что он умер?
— О! да.
— Не худо было бы удостовериться в этом…
— Каким образом?
И разбойник докончил фразу свирепым жестом. Жест этот показывал, что нужно было нанести Раулю новый удар и прекратить его жизнь совсем, если он был еще жив.
— К чему? — спросил его товарищ, у которого, вероятно, сердце было не так жестоко.
— А если он опомнится и встретится с нами?..
— Где?
— Откуда мне знать?
— Он нас не встретит…
— Не полагайся на это!..
— Он совсем нас не разглядывал… Нам стоит только возвратиться на улицу Сент-Онорэ, притом у него нет ни свидетелей, ни доказательств, чтобы обвинить нас…
— Все это прекрасно, но я не положился бы на это!..
— Напрасно.
— Стало быть, ты не хочешь его прикончить?..
— Нет.
— Мокрая курица!.. Ну, пусть будет по-твоему! Если уж тебе так хочется, я исполню твое желание!
В эту минуту на конце улицы (которая, сказать мимоходом, называлась улицей Прувер) послышались размеренные шаги.
— Слышишь? — сказал Жан.
— Слышу…
— Это дозор?
— Да.
— Бежим!
— Давно пора!
Разбойники, возвратив к прежнему назначению обе палки, взяли свой портшез и, оттолкнув в коридор тело Рауля и затворив за ним дверь, наскоро удалились в направлении, противоположном тому, откуда приближался дозор. В то время дозор имел похвальную привычку, которую, по преданию, так старательно сохраняет и нынешний наш патруль. Тогда, как и ныне, полицейским солдатам предшествовал шум, который слышался на другом конце улицы, и злодеи, предостерегаемые этим шумом, утихали и спокойно дожидались, пока восстановится безмолвие и уединение.
Ночной дозор прошел беззаботно и весело. Один солдат напевал какую-то модную песню, другой рассказывал товарищу историю своей любви с хорошенькой швеей, третий наконец говорил с энтузиазмом об удивительном вкусе старого вина во вновь открытом трактире. Словом, ночной дозор только будил добрых граждан, спокойствие которых должен был оберегать. Ни один солдат не подозревал, что на этом месте только что совершилось преступление и что за этой полузакрытой дверью, возможно, лежал труп!
X. Молох
Дом, перед которым происходила борьба, описанная нами в прошлой главе, был грязен, черен и имел только три этажа.
Пока Рауль боролся с двумя убийцами, вот что происходило в самом верхнем этаже этого дома, в грязной квартире самой зловещей наружности.
Представьте себе комнату средней величины, голые стены которой почти совершенно покрыты слоем зеленой плесени. Бревна и доски служили вместо потолка, грубые камни покрывали пол. Большой разодранный занавес, продернутый в железные кольца, прикрепленные к длинному пруту, разделял эту комнату во всю длину и составлял таким образом две комнаты неравной величины: одна была втрое больше другой.
В том отделении, которое было меньше, стояли кровати, покрытые простынями сомнительной белизны и одеялами, походившими на разодранные тартаны ирландских нищих, Большой дубовый шкаф, четырехугольный стол и четыре стула составляли всю мебель. На столе стояли медные лампы и графин из богемского хрусталя, наполненный прозрачной водой. На этом же столе храпел, свернувшись, огромный черный кот и спала старая ворона с ощипанными перьями, стоя на одной ноге и подвернув голову под крыло.
По сторонам этого стола сидели друг напротив друга две женщины, старая и молодая.
Старухе должно быть лет под шестьдесят. Она была очень высока и очень худощава. Может быть, она и была хороша собой в то время, когда молодая и смуглая кожа покрывала ткани ее лица, теперь морщинистого и жесткого как пергамент.
Большие черные и впалые глаза бросали время от времени мрачные молнии. Орлиный нос придавал профилю некоторое сходство с хищной птицей. Впалые щеки и рот придавали нижней части лица какое-то зловещее выражение. Костюм этой женщины еще более увеличивал странный и почти страшный ее вид. Шелковый платок, некогда красный, был завязан на голове в виде тюрбана. Длинные пряди седых волос выбивались из-под многочисленных дыр этого головного убора. Широкое черное платье, с висячими рукавами, завязанное вместо пояса веревкой, закрывало длинное костлявое тело. На этом платье были вышиты красным шелком какие-то странные, без сомнения, кабалистические знаки.
Старуха, описанная нами и пользовавшаяся в квартале признанной репутацией чародейки, ворожеи, гадавшей на картах, по линиям руки и по звездам, и торговки тайными лекарствами, была известна под именем тетушки Молох.
Молодую девушку, которая сидела напротив нее, наши читатели уже знают. Мы представляли ее им два раза: сначала в доме Натана, возле прелестной Деборы, потом на углу улиц Ришелье и Сент-Онорэ, когда на нее наткнулся Рауль. Словом, это была Луцифер, без сомнения прозванная так потому что она была или по крайней мере слыла дочерью Молох, а всякому известно, что имя «молоха» носит старый дьявол, неоспоримо один из самых могущественных вельмож адского царства.
— Слышите, матушка? — сказала девушка, прислушиваясь.
— Что? — спросила старуха.
— Точно будто дерутся на улице.
— А нам какое дело?
Луцифер встала и подошла к маленькому окну, которое днем впускало в комнату частицы воздуха и света, и раскрыла его. Это было в ту минуту, когда носильщики напали на Рауля с палками. Звуки стали о дерево раздавались ясно и редка.
— Я не ошиблась, матушка, — прошептала девушка.
— Послушайте, послушайте…
— Ну, дерутся на дуэли — вот и все.
— На дуэли не дерутся ни в такое время, ни на такой улице, как наша.
— Что же это такое, по-твоему?
— Это не дуэль, матушка, а убийство!
Молох иронически улыбнулась и возразила:
— Полно, моя бедная Венера, ты помешалась, совсем помешалась!
Девушка не слыхала этого ответа. Едва дыша, она прислушивалась к тому, что происходило на улице. Сломавшаяся шпага Рауля упала на мостовую. Звук этот достиг слуха Луцифер и заставил ее вздрогнуть. Сразу же после этого раздался сильный глухой удар, потом громкий крик… потом звук падения тела… потом все смолкло.
Луцифер застонала, отошла от окна, закрыла лицо обеими руками и пролепетала:
— Кончено… кончено!.. его убили!..
— Кого? — спросила старуха.
— Не знаю, но я уверена, что совершено преступление.
— Нам до этого нет никакого дела! У нас нечего красть, следовательно, нам нечего и бояться… Поздно, лампа почти догорела… Ляжем спать!
— Спать! — вскричала молодая девушка, — неужели вы будете в состоянии заснуть?
— Конечно!
— А я дрожу… То, что случилось сейчас, оледенило кровь в моих жилах.
Молох расхохоталась и возразила:
— Повторяю, моя бедная Венера, ты помешалась! совсем помешалась!..
Венера — это было настоящее имя Луцифер — Венера ничего не отвечала. Прошло минуты две. Вдали послышался приближающийся дозор. Девушка опять подбежала к окну.
«Они найдут тело убитого», — подумала она.
И по мере того, как приближались солдаты, сердце ее переставало биться. Мы уже знаем, что дозор прошел, не останавливаясь. Как только опять все смолкло на улице, Луцифер схватила медную лампу, догоравший фитиль которой бросал тусклый свет, и пошла к двери.
— Куда ты идешь? — спросила старуха.
— Вниз.
— Зачем?
— Я непременно должна узнать, что случилось… Я должна увидеть, есть ли кровь на мостовой перед нашим домом.
И девушка вышла на лестницу.
— Подожди меня, по крайней мере!.. подожди же меня! — закричала сердито Молох, которой, может быть, не очень хотелось оставаться одной впотьмах.
Молодая девушка тотчас остановилась. Мать пошла вместе с нею, ворча и повторяя:
— Да, помешалась!.. помешалась!.. именно помешалась!..
Обе женщины сошли вниз. Коридор был длинный и узкий. Луцифер заслонила рукой лампу, и коридор таким образом слабо осветился на всю длину.
Вдруг девушка вскрикнула и попятилась. Она заметила человеческое тело, лежавшее на земле.
— Что такое? — спросила Молох.
— Я не ошиблась: действительно, преступление совершено… воры убили человека, и тело его лежит вон там…
— Ты в этом уверена? — спросила старуха, слабые глаза которой не могли проникнуть сквозь мрак так хорошо, как глаза Венеры.
— Уверена… вижу… Пойдемте!..
XI. На первой ступеньке лестницы
Луцифер, за которой следовала Молох на расстоянии двух или трех шагов, подошла к распростертому на полу Раулю, совершенная неподвижность которого походила на смерть. Девушка поднесла лампу к бледному лицу молодого человека и слабо вскрикнула, узнав его. Читатели, конечно, помнят, что за несколько часов перед этим молодая девушка встретила Рауля и что эта встреча произвела на нее довольно сильное впечатление, так что она даже желала, чтобы Рауль пошел за ней. Восклицание Венеры не ускользнуло от внимания Молох.
— Разве ты знаешь этого молодчика? — спросила она живо.
— Нет… нет, — поспешила ответить девушка.
— Точно?
— Уверяю вас.
— Зачем же ты так удивилась и даже смутилась?
— Я не удивилась… но как же мне было не смутиться?.. Подумайте, что перед нами лежит труп… который несколько минут назад был полон жизни и сил…
— Я не вижу крови, — отвечала старуха, — и ничто не доказывает, чтобы этот молодой человек умер.
— Вы думаете? — вскричала Венера.
— Наверно не знаю, но говорю, что это возможно.
— Почему бы вам не удостовериться?
— Я так и сделаю, только затвори дверь на улицу. Убийцы этого молодого человека могут вернуться и если увидят нас здесь, плохо нам придется!..
Луцифер тотчас исполнила приказание матери. Успокоившись, старуха не без труда встала на колени возле тела Рауля. Одну руку приложила она к сердцу, а другую к жиле правой кисти молодого человека. Луцифер тревожно следила за выражением лица своей матери, но это лицо решительно ничего не выражало, и девушка наконец принуждена была спросить:
— Ну, что же? — сказала она слабым голосом.
— Пульс бьется спокойно, будто этот молодой человек спит.
— Значит, опасности нет?
— Никакой.
— Слава Богу! Нашли вы рану?
— Если бы была рана, текла бы кровь, а я не вижу ни малейших следов ее.
— Однако не без причины же этот молодой человек лишился чувств?..
— Вероятно, но, повторяю, я не вижу крови.
— А мне кажется, что на лбу видна красная капля…
— Ты права, — отвечала Молох, засунув свои длинные, худые пальцы в густые каштановые волосы Рауля.
— Ну, что же? — спросила Луцифер во второй раз.
— Есть рана на голове, — объявила старуха.
— Опасная?
— Не думаю. Молодой человек получил удар не шпагой, а палкой, и, верно, череп у него очень крепок, потому что, по-видимому, удар был довольно сильный. Можно опасаться только одного: воспаления в мозгу.
— А нельзя ли избежать этой опасности?
— Можно.
— Как же?..
— Небольшое кровопускание тотчас облегчит мозг.
— И больной опомнится?
— Без всякого сомнения.
— Я слышала от вас раз сто, что ни один из докторов в Париже не умеет пускать кровь так искусно, как вы…
— Я говорила правду.
— Стало быть, вы можете вылечить этого молодого человека?
— Могу, только…
Молох остановилась.
— Только что? — с живостью спросила Луцифер.
— С какой стати мне это делать?
— Из человеколюбия.
Молох пожала плечами. Венера поняла, что она выбрала ложный путь, обращаясь к сердцу мнимой колдуньи, и поспешила прибавить:
— Притом этот молодой человек, кажется, богат и наверно щедро вознаградит вас за вашу заботу.
Этот аргумент произвел немедленное действие. Расположение старухи изменилось в один миг. Она помогла Венере донести (или скорее дотащить) тело Рауля до первой ступеньки лестницы, потом велела девушке сбегать в их комнату и принести заржавевший ланцет, спрятанный под грудой тряпок, несколько лоскутков старого белья для перевязки и какой-нибудь сосуд, в который могла бы стечь кровь.
Луцифер не заставила мать повторять два раза и вернулась с изумительной поспешностью. Старуха приготовила все с искусством заслуженного хирурга. Только рука ее, дрожавшая от старости, и жалкое состояние ланцета поставили ее перед необходимостью рассечь жилу три раза, прежде чем показалась кровь. На третий раз кровь брызнула в таком изобилии, что руки и лицо Луцифер были ею залиты. Девушка побледнела, задрожала, почувствовав на лице теплую влагу, и чуть было, в свою очередь, не лишилась чувств. Однако она удержалась на ногах, ухватившись за веревку, которая служила перилами грязной лестнице, отерла окровавленные руки и лицо, и волнение ее утихло.
По мере того, как кровь текла из открытой жилы Рауля, предсказание старухи оправдывалось. Через несколько минут раненый глубоко вздохнул. Обморок начинал проходить. Молодой человек раскрыл томные глаза, но взгляд, которым он обвел вокруг себя, был мутен и неясен. Глаза его не видели, или, по крайней мере, расстройство, сделанное в его умственных способностях страшным ударом, потревожившим мозг, не позволяло ему отдать себе отчет ни в том, что он видел, ни в обстоятельствах, которые привели его в незнакомое место.
Старуха пустила Раулю кровь из левой руки. Он приподнял правую и приложил ее два или три раза к голове. В ней была боль, которую он, очевидно, хотел понять, но не мог. Жизнь тела возвратилась, жизнь души еще медлила своим проявлением.
Луцифер следовала взором за каждым движением ля с беспокойством, исполненным волнения и страсти.
XII. Пробуждение
Между тем кровь все текла. Фаянсовая чаша, принесенная Венерой, была полна до краев. Рауль, уже очень бледный, бледнел все более и более, и симптомы близкого обморока начинали уже обнаруживаться на лице его.
— Кажется, теперь довольно, — сказала Молох, и она приложила палец к открытой жиле, между тем как Луцифер развязывала жгуты, стягивавшие руки. Кровь тотчас остановилась. По указаниям матери, молодая девушка крепко перевязала рану и, когда это было сделано, сказала:
— Что же нам делать теперь?
— Раз уж мы начали лечение, — заявила Молох, — надо кончить… В таком положении молодой человек не может возвратиться домой, точно так же, как не может остаться на лестнице: надо его взять к нам и уложить.
Этого-то именно Луцифер и желала более всего, но не смела предложить матери. Поэтому, услышав слова старухи, она затрепетала от радости.
— Только, — продолжала Молох, — так как мы не в силах вдвоем отнести этого молодого человека, он должен постараться встать и идти сам, а ты его будешь поддерживать…
— Слушаю, матушка, — сказала девушка. — Милостивый государь, — прибавила она, обращаясь к Раулю самым нежным голосом.
Голос этот поразил слух Рауля, но он услыхал его, как бы во сне. Однако губы его машинально пролепетали:
— Что вам угодно?..
— Попробуйте встать, — продолжала Венера.
Рауль сделал усилие подняться на ноги, но не мог, и снова упал на ступеньку лестницы. Луцифер взяла его за руку, чтобы помочь ему. Опираясь на руку девушки, Рауль сделал новое усилие и сумел приподняться. Но все как будто вертелось вокруг него, странный шум раздавался в его ушах. Слабость раненого была так велика, что он упал бы снова, если бы Луцифер не удержала его обеими руками.
— Теперь пойдемте, — прошептала она.
Продолжая обхватывать стан молодого человека, она помогла ему подняться на лестницу, но переход до третьего этажа, разумеется, был продолжителен и труден. Беспрестанно надо было останавливаться, потому что Рауль и Венера оба сильно утомлялись.
Молох, с лампой в руке, шла вперед и глухо ворчала. Наконец все трое дошли до мансарды. У девушки уже недоставало сил. Будь на лестнице еще несколько ступенек, и подвиг ее мог бы не совершиться. Доведя Рауля до своей кровати, Венера уложила его и потом, едва переводя дух, упала на стул, будучи готова лишиться чувств. Молох продолжала ворчать однообразно и невнятно. Невозможно было уловить ни одного из слов, вырывавшихся из ее беззубого рта, но вот каков был смысл ее сердитого монолога:
— Сколько забот! сколько хлопот! сколько неприятностей!.. Проводить таким образом ночь!.. В мои лета!.. Тут нет здравого смысла!.. и ради кого? Ради человека совершенно незнакомого! Хорошо еще, если он заплатит. Но заплатит ли? Вид у него порядочный, одежда дворянская… но не все то золото, что блестит, и я не верю гладкой внешности.
Давно уже медная лампа грозила погаснуть от недостатка масла, давно уже пламя дрожало на конце фитиля, мало-помалу превращавшегося в уголь. Вдруг масло кончилось. Слабая блестка задрожала в последний раз и исчезла.
Молох воспользовалась этой темнотой, чтобы лечь на свою постель, все с тем же ворчанием, но сон скоро посетил ее, и угрюмый ропот превратился в звучный храп.
Рауль также крепко спал. Луцифер еще некоторое время оставалась на стуле, к которому пригвоздила ее усталость. Несмотря на странное волнение, происходившее в ее душе, природа предъявила свои права, и сон сомкнул глаза молодой девушки.
Когда утренний свет проник в мансарду сквозь крошечные стекла единственного окна, Рауль проснулся первый. Большая слабость и сильная головная боль были для него единственными последствиями происшествий, которые могли окончиться так ужасно. Мыслям его возвратилась прежняя ясность. Однако в первые минуты после пробуждения он не помнил ничего. Он приподнялся на локте и огляделся вокруг, не узнавая своей спальни и не понимая, где находится. Увидев Луцифер, спавшую возле его кровати, он вспомнил тотчас, что уже не в первый раз видит это прелестное личико. Он справился со своей памятью, которая напомнила ему вчерашнюю встречу на углу улиц Ришелье и Сент-Онорэ. Это первое указание дало направление его мысли, и он постепенно вспоминал, как был сначала у жида Натана, потом в игорном доме и как наконец попал в ужасный портшез, оказавшийся для него таким гибельным. Рауль припомнил все обстоятельства своей борьбы с двумя убийцами, до той минуты, когда удар, полученный им, поставил преграду между действительностью и его воспоминаниями. Впрочем, молодому человеку было легко дополнить этот пропуск.
«Меня ударили, — думал он, — и я лишился чувств. Во время обморока меня, без сомнения, обобрали, потом меня приняла эта девушка и ухаживает за мной… Все это ясно как день… Несчастье небольшое, и если бы у меня не было двухсот тысяч ливров в кармане, я мужественно покорился бы моей участи!.. Но лишиться двухсот тысяч ливров за один раз!.. Черт побери!.. Черт побери!.. Это немного тяжеловато!..»
Размышляя таким образом, молодой человек сел на край постели и машинально начал шарить в карманах. Мы уже знаем, что часы его находились в кармане одного из разбойников. Золотые монеты ушли тем же путем.
— Это вполне естественно, — прошептал Рауль философски, — я этого и ожидал… Но нельзя не признаться, что мошенники отлично поживились!..
Между тем рука молодого человека продолжала обыск и скоро нащупала пакет средней величины. Рауль поспешно вынул его. Узнав сверток банковых билетов, молодой человек не мог удержаться, чтобы не вскрикнуть от радости. Молох проснулась. Луцифер вздрогнула и раскрыла глаза.
XIII. Ремесло Молох
Мы знаем, что старуха легла, не раздеваясь. Луцифер совсем не ложилась. При крике Рауля обе женщины в одну минуту были на ногах. Они увидели молодого человека, сидящего на краю постели и лихорадочной рукой развязывавшего пакет банковских билетов.
«Сколько денег», — подумала Венера.
«О! — думала Молох, — хорошо я сделала, что помогла ему: он богат!»
Рауль, обрадовавшись, что нашел сокровище, которое считал потерянным, только тогда и заметил, что в мансарде была не одна девушка. Он не мог не выразить своего изумления при виде Молох, которая в эту минуту была еще страннее, нежели вчера, потому что ночью красный платок, служивший ей тюрбаном, развязался, и серые волосы, смешанные с совершенно белыми прядями, рассыпались в беспорядке по ее плечам и придали ее смуглому лицу какое-то зловещее выражение. Изумление Рауля не укрылось от глаз Молох.
— А! — прошептала она с горечью. — Я знаю, что вы думаете!.. Вы находите меня старой и безобразной, я почти пугаю вас! Однако я была некогда хороша… такой же, а может быть, и лучше этой девушки, которую вы видите здесь и которая приходится мне дочерью!.. В то время вы не отвернулись бы от меня с ужасом и отвращением!.. Впрочем, как я ни стара, как ни безобразна теперь, а все-таки вы без меня не выжили бы…
— Вы приписываете мне чувства, — перебил с живостью Рауль, — которых совсем во мне нет… Удивление, обнаружившееся на моем лице, должно казаться вам очень естественным… Подумайте, я опомнился в неизвестном месте и нашел значительную сумму, которую считал потерянной; нечего и говорить, что в эту минуту я мог только подумать, что вижу все это во сне. Извините же меня, и в особенности, не сомневайтесь в глубокой признательности, которую внушает мне гостеприимство и заботы, оказанные вами мне, человеку, совершенно вам не известному…
Старуха хотела возражать, но Луцифер поспешила перебить ее.
— Матушка ошиблась, — сказала она Раулю, потупив глаза, — она это хорошо понимает… Я уверена, что она сожалеет о горечи и запальчивости своих слов… Что касается забот, о которых вы говорите, то мы очень рады, что могли предложить их вам, и благодарим небо, которое допустило, чтобы они не были безуспешны…
Эти слова, произнесенные кротким и почти нежным голосом, произвели на Рауля впечатление, похожее на то которое чувствует истощенный усталостью и зноем путешественник при свежем дуновении душистого ветерка. Рауль поблагодарил девушку с дружеской живостью, потом попросил объяснения насчет того, что случилось с ним после того, как он лишился чувств. Луцифер объяснила ему все в нескольких словах, и как ни мало был религиозен Рауль, однако он должен был сознаться, что рука Божия очевидно защитила его…
Между тем как молодая девушка говорила, Молох приводила в порядок мансарду, которую мы уже описали нашим читателям. Убирая или, лучше сказать, делая вид, будто убирает, она не теряла из вида правого кармана Рауля, потому что молодой человек положил в этот карман связку банковских билетов, которые возымели на старуху действие настоящих чар.
Истощив круг вопросов, относившихся к нему, Рауль занялся предметами, которые его окружали, и весьма естественно, приводили в удивление. В особенности черный кот и ощипанная ворона, жившие, по-видимому, в совершенном согласии, в высшей степени подстрекали его любопытство. Он спросил о них Луцифер, но ему отвечала Молох.
— Это орудия моего ремесла, — сказала старуха, став перед Раулем, подняв голову и подбоченясь.
— Вашего ремесла! — повторил молодой человек.
— Да.
— Какое же это ремесло?
— Ремесло хорошее, которому следовало бы быть первым и лучшим ремеслом из всех и доставлять мне каждый день бочки золота и бриллиантов, если бы свет был справедлив, а между тем мы с дочерью почти умираем с голоду.
Старуха остановилась, чтобы перевести дух. Рауль не понимал ее слов.
— Вы не угадываете? — продолжала она.
— Нет, признаюсь…
— Я читаю в прошедшем, знаю настоящее, предвижу будущее…
— А! — сказал Рауль. — Понимаю… вы предсказательница, ворожея.
— Да, я повелеваю духами, голос которых говорит мне таинственным языком, и я одна могу его слышать… Книга судеб не имеет для меня тайны: я перевертываю ее страницы, уже написанные, так же легко, как и те, которые будут написаны после.
Старуха произнесла последнюю тираду мистическим тоном и с восторженной улыбкой. Она как будто сама верила своим словам. Рауль с трудом удержался от насмешливой улыбки, которая начинала обрисовываться на его губах.
— Духи, находящиеся в вашем распоряжении, всегда ли вам повинуются?
— Что вы разумеете под этим?
— Я желаю знать, будут ли они отвечать вам, в какое бы время дня и ночи вы ни спросили их?
— Конечно.
— Могу я сделать опыт?
— Разумеется.
— Когда?
— Когда хотите…
— Сегодня, например?
— Хорошо.
— Сейчас?
— Можно.
— Ну! Не будем же откладывать… Созовите ваших демонов… поговорите с ними… Пусть они вам ответят… Расскажите мне мое прошлое, посвятите меня в таинства моего будущего…
Рауль говорил серьезно, но никак не мог отнять у своего голоса едва заметного выражения насмешки. Старуха вполне поняла это.
— Вы не верите! — возразила она с колкостью. — Но нужды нет!.. По тому, как мои демоны расскажут мне ваше прошлое, вы будете судить, обманывают ли они меня, говоря о вашем будущем.
— Начнем, — сказал Рауль.
Молох сделала знак дочери. Луцифер надела свою серую мантилью, спустила капюшон на лицо и, с очевидным сожалением, пошла к двери.
— Как, вы уходите? — вскричал Рауль.
— Так надо, — отвечала молодая девушка.
— Зачем?
— Дочь моя не может оставаться с нами, — перебила Молох, — и присутствовать при заклинании. Оставаться должны только двое: тот, кто спрашивает, и та, которая отвечает.
— А если нас будет трое? — спросил Рауль.
— Дух, голос которого я слышу, не будет говорить со мной, — возразила Молох.
— Вы видите, что я лишняя, — сказала Венера, — и потому ухожу, но скоро возвращусь.
И она исчезла в полурастворенную дверь, обернувшись и бросив на Рауля последний взгляд.
— Теперь, — сказал Рауль старухе, — теперь мы одни вы можете начать, не правда ли?
— Да.
— Не будем же терять времени…
— И не к чему…
— Приготовления продолжительны?
— Не более нескольких минут.
— Принимайтесь же за дело.
— Сейчас.
Молох растворила дубовый шкаф, о котором мы говорили в одной из предыдущих глав, взяла склянку с несколькими каплями масла, намазала им фитиль в медной лампе, зажгла ее и поставила на стол, потом повесила перед узким окном кусок толстой материи, так что совершенно закрыла дневной свет.
XIV. Заклинание
Этими первыми приготовлениями старуха Молох сделала в мансарде искусственную ночь, едва освещаемую бледным и дрожащим светом лампы.
— О! о! — сказал Рауль, улыбаясь, — кажется, ваши духи любят темноту…
— Недаром они духи тьмы, — отвечала старуха таким серьезным и торжественным тоном, что молодой человек невольно спросил себя:
«Неужели она сама верит?»
Молох поставила стул возле стола.
— Садитесь, — сказала она Раулю, указывая на стул.
Рауль повиновался. Старуха встала возле него.
— Дайте мне вашу руку, — сказала она.
Рауль протянул ей правую руку. Она взяла ее, рассматривала с минуту молча, потом выпустила.
— Я должна прежде задать вам несколько вопросов, — прошептала она потом.
— Слушаю.
— Эти вопросы, пожалуй, покажутся вам незначительны… однако, отвечайте…
— Буду отвечать.
— Хорошо. Какое животное любите вы больше всего?..
— Лошадь.
— Какой цветок предпочитаете вы?
— Розу.
— Какой запах нравится вам более всего?
— Запах цветка, названного мной.
— Какая самая главная ваша страсть?
— Я сам не знаю.
— Какое самое горячее желание?
— Мщение.
Молох замолчала на минуту. Рауль прервал это молчание и спросил:
— Это все?
— Да, пока все, — отвечала старуха.
Произнеся эти слова, Молох во второй раз раскрыла шкаф, из которого несколько минут тому назад вынимала масло, достала оттуда колоду карт и положила их на стол. Ветхость этих карт была такова, что их можно было принять за современных тем, которые были изобретены Жакменом Гренгоннером для развлечения бедного сумасшедшего короля Карла VI. Они были большого размера, истерты по всем углам и покрыты таким густым слоем грязи, что было чрезвычайно трудно различить фигуры. Молох стасовала карты, потом протянула их Раулю, говоря:
— Снимите!
Молодой человек протянул правую руку.
— Нет! Нет! — поспешно вскричала Молох, — снимите левой рукой… левой.
Хотя левая рука Рауля еще находилась в оцепенении от недавнего кровопускания, однако он постарался снять карты и успел в этом не без труда. Молох разложила карты на столе в особенном порядке и куском белого мела начертила вокруг них большой круг, потом взяла в глиняной чаше горсть проса и рассыпала зерна по всем фигурам карт.
Рауль смотрел на ее действия с любопытством и участием, которых не мог скрыть от самого себя. Старуха, казалось, была совершенно погружена в свои странные занятия. Время от времени лучи внутреннего фанатизма блистали в ее мрачных и впалых глазах. Черный кот выгибал спину на столе и мурлыкал, обращая на госпожу свои круглые желтые зрачки, сверкавшие в полумраке. Ощипанная ворона хлопала крыльями и чистила свое тощее тело жестким и острым клювом. Молох два или три раза погладила по спине кота, против шерсти. Несколько электрических искр сверкнули из его густой шерсти. Потом она взяла ворону и поставила ее посреди карт. Птица тотчас начала прыгать на одной ноге, подбирая направо и налево просо.
Молох следила с чрезвычайным вниманием за каждым ее движением и замечала ее прихотливые эволюции и фигуры, на которых ворона останавливалась несколько долее, нежели на других. Это продолжалось минут восемь. В конце этого времени ужасная птица, казалось, насытилась и устала, она остановилась, спрятала голову под крыло и заснула. Старуха не мешала ей. В третий раз открыла она шкаф и вынула из него хрустальный флакон в два дюйма величиной, наполненный до половины желтой и прозрачной жидкостью, похожей на растопленный топаз. Она налила в железную ложку одну каплю этой жидкости, села напротив Рауля и сказала ему:
— Когда я выпью эту жидкость, начнется экстаз, а с ним придет и предсказательный дух. Как только вы удостоверитесь, что он овладел мною — вы это тотчас заметите, — спрашивайте меня, я буду отвечать. Если некоторые из моих ответов покажутся вам темными, перетолковывайте их как хотите. Я могу только повторять вам те слова, которые дух шепнет мне на ухо. Когда экстаз прекратится, не спрашивайте меня насчет того, что я сказала. Я уже ничего не буду помнить.
Молох поднесла к своим губам железную ложку и выпила каплю жидкости. Не прошло и полминуты, как истинное преобразование совершилось в старухе. Морщины на лице ее изгладились, точно молодая и горячая кровь наполнила ее жилы и придала коже блеск и прозрачность молодости. Губы сделались красны. Сверхъестественный огонь вложил почти ослепительные лучи в глаза. Через несколько секунд это не была уже отвратительная колдунья, которую мы знаем, — это была женщина еще молодая, красоты дикой, но могущественной. Раздувшиеся ноздри ее дрожали, волосы, откинутые назад, казались в тени черны как ночь. Впрочем, это магическое превращение продолжалось недолго. Скоро призраки возрождения сменились утомлением и истощением. Морщины на лбу и на щеках показались глубже прежнего. Рот впал. Синие круги вокруг глаз как будто расширились и потемнели. Крупные капли пота выступили на висках. Жилы на шее раздулись, мускулы рук вытянулись. Глаза непомерно раскрылись и сделались неподвижны, как у мертвеца, потом судорожный трепет потряс все тело. Наконец губы раскрылись и старуха прошептала хриплым голосом:
— Он идет… он идет… я это чувствую… я его вижу… он приближается… он пришел… он здесь…
— Кто? — спросил Рауль голосом, почти так же дрожавшим, как и у Молох.
— Дух, — прошептала ворожея.
— Стало быть, я могу вас спрашивать?
— Можете.
— Скажете ли вы мне правду?
— Будете судить сами…
— Этого невозможно, я не знаю будущего…
— Но вы знаете прошедшее, и когда я вам расскажу вашу прошлую жизнь, вы поверите без труда, что точно так же я могу открыть вам и будущее.
Старуха говорила медленно и торжественно. В звуках ее голоса не было ничего человеческого. Это был звук странный, как будто металлический, который мы не можем объяснить никаким сравнением. Неподвижная, сморщенная, с полуоткрытым ртом, старуха походила на труп, а когда она произнесла эти странные слова, еще более странным голосом, ее можно было принять за демона. Волосы Рауля встали дыбом. Первый раз в жизни молодой человек испугался.
XV. Будущее
— Спрашивайте, спрашивайте, — пролепетала старуха. — Я вам сказала… дух здесь, не надо, чтоб он мучил меня напрасно…
Эти слова напомнили Раулю его положение. Скептицизм, на минуту подавленный ужасом, заговорил в нем сильнее прежнего. Он счел все, что делалось со старухой шарлатанством, искусным фиглярством и обещал себе посмеяться над предсказаниями ворожеи.
— Прежде всего, — спросил он, — скажите мне, кто я такой?.. знаете ли вы это?
— Знаю, — отвечала старуха, без малейшей нерешимости, — я знаю, что вы родились на свете под несчастной и вероломной звездой… положение ваше неопределенно, вы не простолюдин и не дворянин… Сначала занимая очень низкое место, вы чуть было не достигли самого высокого, но, повторяю, звезда ваша гибельна, и случай как будто сделал для вас многое только затем, чтобы падение ваше было тяжелее и мучительнее…
Старуха замолчала. Рауль едва дышал. Он слушал в изумлении этот быстрый и чудный анализ, который в нескольких словах определил всю его жизнь. Старуха продолжала:
— Вы носите имя, не принадлежащее вам, но, однако, никто не имеет права оспаривать его у вас… Вы взяли себе титул, который не принадлежит вам и которого нельзя у вас отнять… Вам должно было принадлежать огромное богатство… влияние вашей звезды лишило вас этого богатства, .. Теперь вы богаты, но богаты по милости случая, и то, что он дал вам сегодня, он может отнять у вас завтра.
Старуха опять остановилась. Рауль не сомневался долее. Он верил, верил твердо второму зрению, таинственному и сверхъестественному, которым старуха была одарена. Оставив в стороне прошлое, Рауль поспешил спросить ее о будущем.
— Это гибельное влияние, о котором вы мне сейчас говорили, перестанет ли когда-нибудь преследовать меня?
— Нет, до вашего последнего часа, лучи несчастной звезды будут освещать вашу жизнь.
— Стало быть, я никогда не буду счастлив?
— Никогда, по крайней мере, в том смысле, какой приписывается этому слову… Иногда вы будете верить счастью, иногда все будет вам улыбаться… Остерегайтесь!.. ваша судьба, ваши страсти и пороки превратят в бедствия и горести это мнимое благоденствие… в вашей жизни осуществится древний символ змеи под цветами.
— Не существует ли какого-нибудь средства избежать всех этих несчастий, предсказанных вами?..
— Существует одно…
— Какое?
— Я должна молчать!..
— Отчего?
— Оттого, что только голос ангела света, а не демона тьмы может указать вам путь.
— Говорите…
— Я не могу!..
— Я хочу…
— Запомните же эти три слова: милосердие, молитва и прощение.
Произнося эти последние слова, Молох, казалось, терпела истинную пытку. Без сомнения, злой дух, которого она была рабою, бичевал ее в наказание за то, что она советует следовать правилам добродетели.
— Прощение!.. — повторил Рауль мрачным голосом. — О! если мне понадобится простить, чтобы быть счастливым, я должен буду сказать: «Прощай, счастье!..»
Молния адской радости осветила лоб и расширила ноздри старухи. Казалось, страдания ее тотчас прекратились.
— Хорошо! — прошептала она, — хорошо…
Рауль продолжал:
— Вы знаете, что я мечтаю об отмщении?..
— Знаю.
— Это мщение совершится?
— Да.
— Именно так, как я о нем мечтаю?
— Да.
— Великолепное, блестящее, неумолимое?
— Да, да, да! — три раза повторила колдунья.
— Таким образом те, которые заставили меня плакать и страдать, будут плакать и страдать более меня?..
— Они будут плакать кровавыми слезами, будут проклинать день, в который родились!
— Как! — вскричал Рауль с восторгом. — Как?! Мое мщение исполнится в таком виде, как я хочу, как я мечтаю, и вы уверены, что я не буду счастлив!.. Полноте, вы помешались!..
Молох не отвечала ни слова, и только ужасная улыбка сжала ее бесцветные губы.
— В этом свете есть только три вида настоящего и серьезного счастья, — продолжал молодой человек, — богатство, мщение и любовь. Я имею одно, вы обещали мне другое, буду ли я иметь третье?
— Любовь?
— Да.
— Вы, конечно, спрашиваете меня, будете ли вы любимы?
— Точно, я именно это хочу знать.
— Будете.
— Много?
— Очень, даже слишком…
— Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, что большая часть несчастий, которые вас постигнут, проступков и даже преступлений, которые вы совершите, будут иметь началом любовь, которую вы почувствуете или внушите.
— Преступлений… — повторил Рауль. — Вы уверяете, что я совершу преступления?
— Уверяю.
— Серьезно?
— Взгляните на меня, — прошептала Молох, — и повторите ваш последний вопрос, если осмелитесь…
Невольно Рауль устремил на старуху глаза. Ее зловещая и ужасная физиономия до такой степени исключала всякую мысль о шутке, что кавалер де ла Транблэ почувствовал какое-то беспокойство. Но силясь преодолеть его, он продолжал:
— Проступки, пусть так! Но что касается преступлений, то позвольте мне заверить вас, милостивая государыня, что ваш дух обманывается или обманывает вас.
Молох покачала головой совершенно особенным образом.
— Как хотите, — сказала она, — вы спрашивали, я отвечала, вы вольны мне не верить.
Рауль продолжал расспросы, но со все увеличивающейся недоверчивостью.
— Должен ли я опасаться кого-то или чего-нибудь особенно? — спросил он.
— Да.
— Кого?
— Женщины.
— Какой?
— Я не могу определить ее вам иначе, как только сказав, что она молода и хороша…
— Знаю ли я ее?
— Да.
— Часто видал ее?
— Два раза.
— Давно? — спросил молодой человек, подумав об Эмроде.
— Я не могу отвечать на это. Остерегайтесь! Вот все, что я могу сказать вам.
— Но…
— Не настаивайте и если хотите спросить меня о чем-нибудь другом, не теряйте времени, потому что духу надоело повиноваться мне, и я чувствую, что он хочет оставить меня!..
Рауль продолжал:
— Долго я проживу?
— Дольше, может быть, чем желали бы сами…
— О! вот хороший ответ! — прошептал Рауль, улыбаясь. — Жизнь моя будет так продолжительна, что успеет надоесть мне!.. Браво!.. Верю предсказанию!..
На губах Молох снова показалась печальная и мрачная улыбка.
— Еще один вопрос, — сказала старуха прерывистым и почти невнятным голосом, — только один, потому что прежде, чем вы успеете досчитать до ста, дух удалится…
Рауль колебался. О чем спросить ему?.. Двадцать различных вопросов вертелись на губах его. Однако надо было поспешить.
— Что я буду делать ровно через десять лет? — спросил он наконец.
— Вы опоздали с вопросом, — сказала Молох. — Я не могу уже отвечать вам на него, но могу показать…
— Каким образом?..
— Взгляните на стол…
— Гляжу.
— Что вы там видите?..
— Черного кота… разложенные карты…
— Еще что?..
— Графин.
— Наполненный прозрачной водой, не правда ли?
— Да.
— Возьмите этот графин.
— Взял.
— Поднесите его к вашему лицу так, чтобы он находился между светом лампы и вашими глазами…
— Сделано.
— Теперь устремите глаза на графин и не спускайте их с него до тех пор, пока не узнаете того, что желаете знать…
«Не мистификация ли это? — подумал Рауль. — Не насмехается ли мнимая колдунья над моим легковерием?..»
И он чуть было не поставил графин на стол. Но любопытство одержало верх. Молодой человек повиновался указаниям старухи и устремил жадный взор на прозрачную воду. Он увидал сначала только игру света, придававшую воде перламутровые тона радуги и заставлявшие грань хрусталя сверкнуть подобно бриллиантам. Однако через минуту — был ли это обман мечты или действительность? — Раулю показалось, что вода теряет свою прозрачность и принимает молочную белизну. Рауль не ошибался, потому что через полминуты графин наполнился густым дымом. При этом неоспоримом феномене суеверие, страх, трепет молодого человека возвратились. Рауль испугался, но смотрел. Скоро пар сгустился у боков графина, оставив посреди пустое пространство, Рауль приложился глазом и увидал печальное зрелище, которое, казалось, не могло иметь никакого прямого отношения к его настоящему или будущему положению.
Это была внутренность подземелья, служащего тюрьмой. Стены были голы и сложены из огромных камней, вырванных из недр земли без сомнения рукой титанов. Сырость наложила на эти массивные стены свою зеленоватую плесень. Бледный и холодный луч проникал в узкое окно, находившееся в пятнадцати футах от земли. Там и тут заржавленные цепи, вделанные в стену, висели рядом с орудиями пытки — остатки варварских и кровожадных нравов средних веков. По неровной и грязной земле ползали холодные и отвратительные пресмыкающиеся и насекомые, которые живут и плодятся без воздуха и солнца в подземных тюрьмах и брошенных цистернах. Рауль одним взглядом обнял эти зловещие подробности, но ему показалось, что ни одно человеческое существо не страдало в этой ужасной тюрьме. Он ошибался. Мало-помалу взгляд его привык к глубине этого густого мрака. Тогда он различил предмет, сначала ускользнувший от его внимания.
Это была женщина, женщина неоспоримой молодости и такой ослепительной красоты, что она устояла от страшного клейма, налагаемого и болезнью и горем. Это несчастное существо сидело в углу тюрьмы на куче полусгнившей соломы, прислонившись спиной к стене. Голова, запрокинутая назад, висящие безжизненно руки выражали совершенную безнадежность и глубочайшее отчаяние. Исхудалые черты прелестного лица были покрыты такой бледностью, что, казалось, кровь уже не текла под тонкой и атласной кожей красавицы. Большие глаза, синие и глубокие, были неподвижны и тусклы и если не плакали, лишь потому, что источник слез истощился. Длинные и великолепные волосы, мягкие, золотистые, струились по плечам в беспорядке, еще более обнаруживавшем их красоту. Эта несчастная женщина была одета в черное платье, все в лохмотьях.
— «Боже мой! — спрашивал себя Рауль, видя эту неподвижность и бледность. — Боже мой!.. Уж не мертва ли она?»
Сомнение его скоро разрешилось. Вероятно, шум, неуловимый для слуха Рауля, послышался в подземелье, потому что заключенная медленно повернула голову. Взор ее принял необъяснимое выражение и обратился к двери, находившейся под лестницей в шесть ступеней. Рауль также взглянул в ту сторону. Дверь отворилась. В тюрьму вошел мужчина в черном бархатном платье. Он нес в одной руке глиняную кружку, наполненную водой, а в другой небольшой кусок хлеба. Несмотря на все свое внимание, Рауль не мог различить в темноте лица этого человека. Однако, приближаясь к заключенной, незнакомец непременно должен был пройти под слабым лучом света, который окно пропускало в тюрьму как милостыню. Рауль ожидал этой минуты со странным и лихорадочным беспокойством, потому что этот человек шел медленно. Наконец он дошел до освещенного места, и лицо его как будто отделилось от мрака.
Рауль глухо вскрикнул и выронил из рук волшебный графин, который разбился вдребезги. В человеке, одетом в черное бархатное платье, он узнал самого себя!..
XVI. Рауль и Венера
Крик Рауля, стук разбитого графина пробудили Молох от летаргического сна, который овладел ею. Голова ее, наклоненная на грудь, приподнялась, глаза раскрылись. Она взглянула на Рауля с беспокойством и испуганным видом, как будто не узнала его, и спросила:
— Кто вы?.. что вы здесь делаете?.. чего от меня хотите?
Рауль отвечал. Но старуха, казалось, его не понимала и два или три раза повторила вопрос. Очевидно, она находилась еще под влиянием галлюцинации, смущавшей ее мысли. Рауль ожидал, чтобы Молох оправилась от нравственного расстройства, причиненного слишком сильным потрясением. Мало-помалу ворожея успокоилась, провела рукой по лбу и прошептала:
— Ах, да!.. помню… Вы меня спрашивали… Я призвала того, кто знает все… настал экстаз… дух отвечал мне и я говорила, не правда ли?
— Да, — отвечал Рауль, — вы говорили…
— Стало быть, вы знаете теперь то, что хотели знать?..
— Нет еще… не совсем…
— Это жаль, но я не могу сказать вам ничего более.
— Не можете ли объяснить по крайней мере?
— Не могу! — вскричала старуха, — я ничего не знаю… ничего не понимаю… Не настаивайте и не спрашивайте меня. Усталость утомляет меня. Я страдаю, умираю… Докажите, что вы великодушны, и оставьте меня…
«Пусть так! — подумал Рауль, — на сегодня довольно, но я еще возвращусь к ней, и тогда она должна будет объясниться… Я должен узнать до конца эту мрачную историю, в которой, кажется, буду играть ужасную роль!.. Я должен узнать, неужели мне в самом деле придется сделаться когда-нибудь тюремщиком и палачом?»
Молодой человек сказал себе, кроме того, что он обязан щедро вознаградить старуху, не только за ее предсказания, но и за уход, который она оказала ему в прошлую ночь. И со щедростью, которая свойственна почти всем игрокам, много выигравшим, Рауль вынул из кармана три банковских билета в тысячу ливров каждый и положил их на стол перед старухой. Молох бросила дикий взгляд на драгоценные бумажки и, очевидно, не могла поверить своим собственным глазам. Она протянула костлявые пальцы к билетам, схватила их и сжала в руке с судорожной жадностью и радостью, потом начала испускать бессвязные восклицания, делать безумные движения, наконец схватила руку Рауля и покрыла ее поцелуями.
Молодой человек несколько задрожал от этих поцелуев, запечатленных холодными губами. Такой восторг и упоение от денег казались ему отвратительными. Он взял шляпу, лежавшую на постели, надел шпагу, отстегнутую Венерой, растворил дверь и вышел. Сойдя на первый этаж, он услыхал внизу легкий шшум двух маленьких ножек и шелест платья. Это была Луцифер, проворно всходившая на лестницу. Молодые люди очутились лицом к лицу и оба остановились в одно время. Сама не зная почему, Луцифер покраснела до ушей и прошептала своим нежным голосом:
— Как, вы уходите?.. уже?
Рауль был озабочен, растревожен; самые мрачные мысли, самые печальные предчувствия наполняли его. В ушах его еще раздавались зловещие предсказания старухи Молох. Ему все представлялось странное и фантастическое зрелище, как он опускался в тюрьму и нес хлеб и воду бледной и умирающей женщине. Это достаточно объясняет, как далеко находился он от всякой охоты любезничать. Он даже не примечал уже, что Луцифер была прелестна; даже не помнил, как накануне готов был следовать за нею, до того находил он ее тогда обольстительной и привлекательной. Потому он отвечал сухо и кланяясь с церемонной холодностью:
— Да, ухожу… Я оставил вашу матушку очень усталой и нездоровой, и, кажется, вы хорошо сделаете, если пойдете к ней как можно скорее, потому что вы очень ей нужны.
При этом холодном ответе Луцифер побледнела и сердце ее сжалось. Однако она боролась сама с собой и спросила почти трепещущим голосом:
— А вы как чувствуете себя сегодня?
— Хорошо, очень хорошо, — отвечал Рауль, — благодаря попечениям вашим и вашей матушки. Благодарю вас тысячу раз и умоляю не сомневаться в моей благодарности…
«В его благодарности, — подумала Венера. — Боже мой! Разве я прошу у него благодарности?»
Потом, когда Рауль сделал движение, чтобы пройти мимо нее, она пролепетала:
— Вы возвратитесь?
— Непременно.
— Чтобы опять спросить о будущем мою мать?
— Да, я хочу, чтобы она докончила начатые предсказания…
— И скоро вы придете?..
Рауль был так озабочен, что вовсе не заметил, как странна была эта настойчивость в девушке. Он отвечал просто:
— Да, скоро, через несколько дней, а, может быть, и завтра…
Поклонившись снова Луцифер, он прошел мимо нее по коридору на улицу и продолжал идти прямо, не зная, куда идет, и думая совсем не о том, куда направить свои шаги. Эта рассеянность продолжалась долго. Рауль опомнился только на бульварах, увидев себя вдруг посреди толпы гуляющих зевак, кокеток, гризеток, шутов и прочих. Уже с полчаса погруженный в задумчивость, он почти совершенно потерял отчет в своих поступках. Когда же наконец наш герой пришел в себя, первым движением его было вскрикнуть от досады и ударить себя по лбу. Он вспомнил, что не заметил номера того дома, в котором жила старуха Молох, и даже не знает, как называется та улица, где находился этот дом.
В это время Луцифер, немного утешившись последними словами Рауля, повторяла самой себе:
— Он скоро придет, через несколько дней!.. а может быть и завтра!..
XVII. Переход
Когда Рауль вернулся домой, то есть в гостиницу «Золотое Руно», он почувствовал с огорчением и даже с некоторым испугом, что был нездоров гораздо более, чем думал. Кровопускание облегчило голову только на первое время. Молодой человек вдруг почувствовал сильную боль в верхней части черепа. Раулю казалось, будто все члены его разбиты, все суставы недвижимы. Он лег в постель. Началась горячка. Она была жестокая и продолжалась три дня. В конце этого времени доктор, которого позвал верный Жак, объявил, что опасность прошла и начинается выздоровление. Доктор не ошибался. Рауль поправился в одну неделю. От его непродолжительной болезни в нем осталась только какая-то странная беспамятность относительно того, что происходило у ворожеи. Как будто густое покрывало опустилось между мансардой старухи Молох и воспоминаниями молодого человека. Если Рауль иногда и старался вызвать какое-нибудь воспоминание о видении, представившемся его взорам в волшебном графине, он никак не успевал в том, а в скором времени и последние следы этого видения изгладились в смутном и непроницаемом тумане, как утро изглаживает сон.
Мы знаем, что у Рауля находилось в руках четыреста тысяч ливров. Сумма эта составляла настоящее богатство, весьма значительное в ту эпоху, и в особенности огромное, если сообразить, что она свалилась как будто с неба на молодого человека, который накануне не имел ни копейки.
Мы помним, что кавалер де ла Транблэ хотел оставить как можно скорее гостиницу, в которой квартировал с приезда своего в Париж. Как только он смог выходить, он поспешил осуществить это желание. Он начал искать. После нескольких поисков, он нашел в самом аристократическом квартале, в улице Па-де-ла-Мюль, в Марэ, дом именно такой, какой искал. Дом этот был не слишком велик, не слишком мал и находился между двором и садом. В нем было только нижнее жилье и первый этаж. Внизу находились приемные комнаты, спальня, кабинет и библиотека занимали первый этаж. Кухни были в подвале. Рауль заключил с хозяином дома контракт на девять лет, потом занялся меблированием своей новой квартиры.
Мы не будем описывать этой меблировки, которая была великолепна. Достаточно будет сказать, что повсюду красовались драгоценные китайские куклы и то розовое дерево, которое так любили наши добрые прадеды, а в особенности наши прелестные прабабушки. В несколько дней Рауль истратил около шестидесяти тысяч ливров. Впрочем, надо признаться, что эти деньги были истрачены с толком.
Окончив устройство квартиры, Рауль купил карету и пару красивых буланых лошадей, нанял толстого кучера, который вместе с поваром, двумя лакеями и Жаком, занимавшим должность камердинера, составляли всю прислугу Рауля.
Потом молодой человек занялся важным делом: вздумал отыскивать себе любовницу.
Наши читатели вправе раскричаться и обвинить нас и нашего героя в непростительной непоследовательности. Мы точно показали Рауля жаждущим мщения более всего, как слепой желает света, как умирающий желает жизни. Теперь же мы видим его занятым совсем другим.
Логично ли это? Да. Каким образом? Боже мой, очень просто. Рауль презирал мщение обыкновенное, поспешное, бесцветное. Ему хотелось чего-нибудь полнее, замысловатее. Он хотел поразить своих врагов в самое чувствительное место их сердца и провернуть нож в ране. Но каким образом и какими средствами мог он достигнуть этой цели? Этого Рауль еще и сам не знал. Вот почему он решил повременить. Молодой человек изобретал свой план, как художник изобретает свой идеал, как поэт изобретает свою драму.
Скоро ли он должен был найти его? Это покажет нам будущее.
Мы сказали выше, что Рауль решился взять любовницу. Не то, чтобы он повиновался пылким страстям. Напротив, разврат вовсе не был в числе главных пороков молодого человека, но в ту эпоху дворянин без любовницы был, как тело без души, существо неполное, аномалия, невозможность. Надо было подвергнуться общему закону, и Рауль признавался себе внутренне, что в этом законе не было ничего тягостного.
XVIII. Рауль и Натан
Однако выбрать любовницу было нелегко. Где найти ее?.. Рауль не мог удовольствоваться первой встречной. Ему нужна была женщина, которой он мог бы похвастаться, женщина молодая и прелестная, которую он окружил бы изяществом и великолепием, которая составляла бы часть его роскоши, которую он мог бы показать с гордостью своим друзьям и врагам, как показывают бриллиант в шестьдесят тысяч ливров на мизинце левой руки или на эфесе шпаги. Ему нужна была женщина настолько прекрасная, чтобы ее заметили везде, настолько хорошо воспитанная, чтобы сумела держать себя повсюду, словом, такая женщина, как Эмрода, исключая, разумеется, ее сообщества с ворами.
Но, еще раз, где найти такую женщину? Взять оперную танцовщицу? Рауль не хотел об этом думать. Эта продажная нежность, эти ласки, беспрестанно готовые к услугам того, кто больше даст, эти губы, вечно готовые для поцелуев, возмущали благородные инстинкты и деликатные чувства, еще остававшиеся в нем. Взять гризетку? Но в таком случае надо было опуститься слишком низко, чтобы возвысить потом до себя какую-нибудь истасканную рожицу, которая будет сожалеть о лавочниках и украдкой будет гореть незаконным пламенем к какому-нибудь красивому солдату. Знатную даму? Это было для Рауля невозможно. Мы уже знаем, что он не был знаком ни с кем, кто мог бы ввести его в аристократический круг.
Велико было недоумение молодого человека, когда внезапная мысль пробежала в голове его. Мысль эта была великолепна, или по крайней мере показалась ему такой. Он вспомнил жидовку Дебору, и начало любви, которую почувствовал, встретив ее один раз. Рауль не знал огромного богатства Эзехиеля Натана, которого считал ростовщиком самого низшего разряда, и потому не сомневался, что прелестная жидовка с готовностью, исполненной упоения, уступит обольщению, которому он намеревался подвергнуть ее. Только для этого надо было ее видеть, но чтобы видеть, требовалось снова попасть в дом жида; а чтобы попасть в этот дом, нужен был предлог, которого у Рауля еще не было. Без сомнения, ничего не могло быть легче, как занять деньги и отдать какую-нибудь вещь в залог ростовщику… Но Рауль знал, что бедность не обольщает молодых красавиц, и ему не хотелось, чтобы Дебора считала его бедным и вынужденным прибегать к займам.
Как же быть?.. Случай помог нашему герою и доставил ему предлог, которого не могло придумать воображение.
Прошло три недели после происшествия, случившегося с Раулем, а еще ни разу он не был в игорном доме. Однажды вечером он почувствовал непреодолимую потребность посмотреть, как золото блещет на зеленом сукне, которое два раза принесло ему столько счастья. Вследствие этого он после обеда отправился в игорный дом. В то время, как молодой человек входил в ворота, которые вели на обширный двор, кто-то дернул его за полу платья. В ту же минуту голос, не совсем ему знакомый, сказал ему гнусаво и с немецким произношением:
— Извините… извините за такую смелость…
Рауль обернулся и увидал возле себя смешную и тщедушную фигуру жида Эзехиеля, широкий и беззубый рот которого улыбался ему. В любом другом случае Рауль рассердился бы на него, как он осмелился подойти к нему в публичном месте, обнаружив таким образом сношения, которые должны были остаться тайными. Но ростовщик был отцом божественной Деборы. Он первый заговорил с Раулем, стало быть, имел до него дело. По всей вероятности, предлог быть в доме жида, тщетно отыскиваемый молодым человеком, наконец ему представился.
Между тем Натан, которому Рауль еще не ответил, кланялся до земли и повторял свою фразу:
— Извините… извините за великую смелость…
Все размышления, приведенные нами выше, Рауль сделал гораздо скорее, нежели мы написали. Поэтому вместо того, чтобы показать жиду неудовольствие от его неуместной фамильярности, Рауль отвечал с самым дружелюбным видом и благосклонным тоном:
— Здравствуйте, любезный месье Натан, что вам угодно?
— Не удостоите ли поговорить со мною несколько минут?
— Ничего не может быть легче.
— Можете вы выслушать меня сейчас?
— Очень хорошо.
— Этот двор, наполненный множеством народа… Прогуляемся по улицам?
— Как хотите.
Они удалились на несколько шагов.
— О чем хотите вы поговорить со мною, любезный месье Натан? — спросил Рауль.
— О деле, касающемся вас…
Рауль с удивлением взглянул на него.
— Меня? — повторил он.
— Вас.
— Что ж это за дело?
— Я вам скажу, и вы уже знали бы это давно, если бы я мог найти вас… Так как я не знал ни вашего имени, ни адреса, то мне пришлось ждать случая встретиться с вами…
— Это правда.
— Пять или шесть раз подстерегал я вас у ворот игорного дома, и все понапрасну.
— Я не был здесь три недели.
— А! Так вот отчего я вас и не видал!.. Но приступаю к делу, касающемуся вас…
Любопытство Рауля было возбуждено. Жид продолжал:
— Вас обокрали?
Рауль вздрогнул.
— Откуда вы знаете? — вскричал он.
— Ничего не знаю, решительно ничего, но делаю предположения и считаю их справедливыми… Вас обокрали, не правда ли?
— Да, меня обокрали и чуть было не убили в придачу.
— Что у вас взяли?
— Все золото, какое только было в карманах.
— А еще что?
— Часы с гербом, которые я выкупил у вас за несколько часов перед тем.
— Это-то мне и хотелось узнать.
— Я вас не понимаю.
— Сейчас объяснюсь: ведь эти часы — фамильная драгоценность?
— Я вам уже говорил.
— Вы очень ими дорожите?
— Чрезвычайно.
— Стало быть, вы будете рады найти их.
— Я дам охотно вдвое против того, что они стоят.
— Я знаю человека, который предоставит их вам.
— Полноте, это невозможно!
— Нет очень возможно.
— Кто же это?
— Я.
— Вы, — повторил Рауль с изумлением.
— Да я сам…
— Но каким образом…
Рауль остановился. Натан кончил его фразу:
— Вы хотите знать, каким образом ваши часы находятся в моих руках?
— Именно.
— О! Это целая история.
— Можете вы мне рассказать ее?
— Конечно. Она очень проста.
— Я слушаю.
— Представьте себе…
Но жид не успел договорить фразы, его прервал маленький африканский негр, довольно жалко одетый. Негр этот служил Натану слугой или скорее комиссионером. Он подошел к своему господину, шепнул ему несколько слов на ухо и удалился, выслушав ответ его.
XIX. Часы
— Сегодня, — сказал Натан Раулю, как только негр ушел, — я не могу ни отдать вам часов, ни рассказать, вследствие каких происшествий они попали в мои руки.
— Почему же вы не можете? — спросил Рауль.
— Мне сейчас сказали, что меня ждет человек, с которым я должен увидеться сию же минуту… Я должен вас оставить.
— Если вам необходимо, ступайте…
— Когда я буду иметь честь видеть вас?
— Могу я прийти завтра к вам?..
— Прекрасно.
— В котором часу я застану вас дома?
— Когда вам будет угодно. Я буду ждать вас целый день…
— В таком случае до завтра, любезный месье Натан, прощайте…
— Имею честь кланяться…
Жид поклонился до земли и ушел так скоро, как только позволяли ему маленькие ноги, по направлению противоположному его дому. С минуту Рауль следовал за ним глазами. Губы его улыбались и шептали:
— И этот смешной пигмей, этот хилый выродок, отец прелестной Деборы — этого великолепного создания, самой ослепительной, самой пленительной из дочерей Евы!.. О природа, природа, как ты прихотлива и сумасбродна!
Эхо улицы повторило юмористическое замечание Рауля, и он отправился в игорный дом. На этот раз никто его не остановил на пороге, молодой человек вошел. Часа два прохаживался он по залам, бросая и направо и налево золотые монеты на зеленое сукно, не столько затем, чтобы выиграть, сколько для того, чтобы развлечься. Однако благоприятствусмый тем изумительным счастьем, с которым он, казалось, заключил обязательный контракт, молодой человек и на этот раз ушел в полночь домой, унеся с собой двенадцать тысяч ливров — золотую дань его счастливого рудника.
Нам не нужно говорить, что, возвращаясь домой, он не нанял портшеза.
На другой день Рауль рано отправился к Натану. Его побуждала двойная причина: во-первых, сильное и почти страстное желание увидеть Дебору; во-вторых, желание, не менее сильное, услышать рассказ о часах с гербом, обещанный Натаном накануне.
На этот раз опять сам жид отворил Раулю дверь. Немного раздосадованный, Рауль последовал за хозяином на первый этаж. Часы лежали на дубовом столе, который служил Натану прилавком и конторкой.
— Видите?.. — сказал жид, указывая на часы Раулю.
— Точно, — отвечал последний, взяв часы и осмотрев их. — Точно, это они… Бедные часы, вы опять возвратились ко мне… Отчего не может вернуться ко мне тот, кому вы принадлежали!..
Говоря это, Рауль думал о Режинальде; глаза его наполнились слезами, и он благоговейно поднес часы к своим губам. На несколько секунд Натан почтил уважением скорбь молодого человека, потом продолжал:
— Вы, конечно, никак не думали, что найдете эту вещь, не правда ли?
— Не думал нисколько и готов был побиться об заклад, что золотой корпус давно расплавлен в воровском тигле.
— Это действительно легко могло случиться, но вы счастливец.
— Да, — возразил Рауль, улыбаясь, — даже очень счастлив… Мне посчастливилось даже тогда, когда я не последовал вашим превосходным советам…
— Что вы хотите сказать? — спросил жид.
— Я хочу сказать, что вы уверяли меня, будто я погибну, если вернусь в игорный дом…
— И вы таки были в нем?
— Еще бы!..
— И опять выиграли?
— Выиграл.
— Много?
— Очень.
— Однако какую сумму…
— Почти двести тысяч.
— Стало быть, у вас теперь более четырехсот тысяч ливров?
— О! Вы умеете прекрасно считать.
— Хорошие денежки! — вскричал Натан, кланяясь. — Хорошие, честное слово. Далеко вы уйдете с ними, если только сумеете распорядиться.
— Сумею, — отвечал Рауль с несколько насмешливым видом. — Но не об этом идет речь, возвратимся к часам… Каким образом, украденные из моего кармана, они находятся теперь на вашем столе?
— Я вам уже говорил вчера, что все это случилось очень просто. Видите ли… У меня есть собрат, имя и адрес которого я вам не скажу по весьма основательной причине… Этот собрат делает в малом виде то, что я делаю в большом, то есть покупает всякого рода товары и дает взаймы деньги под залог. Только я имею сношения с людьми светскими, с дворянами и вельможами, между тем как его клиенты все простолюдины. Мне часто приносят под заклад вещи в тысячи луидоров… Он же берет в залог лохмотья и тряпье. Поэтому моя торговля идет лучше, чем у него. Злые языки уверяют — наверно, лгут! — что бедняга охотно принимает вещи от самых низких мошенников, которые обкрадывают провинциалов и иностранцев. Так говорят, но я не верю. Намедни собрат мой пришел ко мне рано утром. На этот раз, в физиономии его было какое-то необыкновенное выражение. Я это приметил, расспрашивая его о причине раннего посещения.
«Натан, — сказал он мне, — хотите устроить со мною дельце?»
«Охотно, — отвечаю я, — если только дело хорошее».
«Отличное».
«В таком случае я согласен… О чем идет речь?»
«А вот о чем».
Говоря таким образом, он вынул из кармана ящичек, завернутый в толстую серую бумагу. В этом ящичке лежали ваши часы. Я узнал их с первого взгляда и, удивившись, как они могли попасть к нему, спросил:
«Откуда вы взяли эти часы?»
«О! — с живостью отвечал мой собрат, — можете быть спокойны, это вещь не краденая…»
«Вы уверены в этом?»
«Как в себе самом».
«Но я спрашиваю вас, откуда вы взяли эти часы?»
«Вы непременно хотите знать?»
«Непременно».
«Эти часы были найдены…»
«Кем?»
«Одним честным человеком, которого я знаю давно».
«Кто он таков?»
«Носильщик портшеза…»
— Носильщик портшеза!.. — перебил Рауль. — А! Теперь я начинаю понимать.
Натан продолжал:
«Этот честный человек, — сказал мой собрат, — время от времени находит в своем портшезе вещи, забытые его клиентами… он приносит их ко мне, а я их покупаю».
«Зачем же вы теперь не хотите купить?»— спросил я.
«Потому что негодяй уверяет, будто эти часы стоят двадцать пять луидоров».
«Он прав, они стоят даже пятьдесят».
«Я знаю, что он прав… знаю очень хорошо! Но он не хочет сбавить ни копейки, а так как у меня нет двадцати пяти луидоров, то я и пришел занять их у вас; оставьте у себя часы, продайте их и разделите барыш со мной… Теперь мне нужны всего только двадцать луидоров, потому что я отдал уже пять в задаток этому честному носильщику…»
Я молчал.
«Хотите? — спросил мой собрат. — Скажите только да или нет».
Я не отвечал ни да ни нет, а начал расспрашивать:
«Он украл их».
«Почему вы предполагаете это?»
«Я не предполагаю, а утверждаю».
«Наудачу?»
«Нет, я знаю законного владельца этих часов».
Собрат мой почесал ухо.
«Черт побери!.. Черт побери!.. — сказал он потом, — это затруднительно, очень затруднительно!..»
«Я не нахожу…»
«Потому что вы не на моем месте… Подумайте, что носильщик ждет меня на улице».
«Ну так что ж!»
«Он силен как Геркулес, этот разбойник!.. И груб… Груб как носильщик портшеза!»
«Какое вам дело!»
«Как какое дело?.. Он у меня потребует двадцать луидоров!»
«Не давайте их. Это легко…»
«Легко сказать…»
«Легко и сделать…»
«Но как отвязаться от него?»
«Всего-то и делов! Уж признайтесь лучше, что вы боитесь…»
«Немножко…»
«Ну хорошо, я беру все на себя…»
«И прекрасно! Что же мне надо делать?»
«Ступайте к вашему честному носильщику, как вы его называли прежде, или к вашему разбойнику, как вы его назвали сейчас, и скажите ему, что человек, к которому вы обратились за деньгами, хочет дать их ему самому, но прежде желает знать, где он нашел эту вещь».
«Он не пойдет со мной…»
«Это вероятно».
«Наделает шума…»
«Не думаю… Однако, если это случится, вам стоит только сказать ему: Пойдем, дружок, объясниться в полицию… Ваш носильщик убежит со всех ног…»
«Иду…»
«Скорее».
Собрат мой вышел и возвратился через несколько минут.
«Ну, — спросил я, — что сказал этот человек?»
«Он начал кричать, уверять, что имеет дело со мной, а не с вами… потом вдруг успокоился, спросил ваше имя и ушел, ворча: меня обокрали; хорошо, не будем говорить об этом; но поплатятся же они мне за это!»
«Он верно говорил это обо мне?»
«О вас и обо мне, об обоих нас. Разве это вас не тревожит?»
«Право, нет».
«Что же вы намерены сделать с часами?»
«Я вам уже сказал, оставлю их у себя».
Собрат мой сделал гримасу. Я продолжал:
«Оставлю у себя, чтобы возвратить владельцу. Это будет доброе дело».
«Доброе дело, пожалуй, но вы меня обижаете!..»
«Чем?»
«Я дал вперед значительную сумму: пять луидоров!.. Неужели вы намерены заставить меня потерять их?»
«Нисколько».
«Стало быть, вы мне их возвратите?»
«Возвращу».
Лицо моего собрата прояснилось на минуту, потом тотчас же снова помрачилось.
«Ну что еще?»— спросил я.
«А вот что: вы мне даете только пять луидоров… Маловато!.. Я рискнул деньгами, а между тем они не принесут мне никакого барыша!.. Разве это справедливо?»
«Нет: если посеять, то надо и пожать».
«Стало быть, вы мне прибавите что-нибудь».
«Прибавлю».
«Сколько?»
«Три луидора… Довольны ли вы?»
«Начиная это дело, я рассчитывал получить больше, но если уже надо сделать, как вы хотите, я согласен».
Я отсчитал восемь луидоров моему собрату, и он ушел насовсем довольный… Вот и все. Теперь вы знаете, каким образом возвращена вам эта драгоценная вещь. Возьмите ее и старайтесь впредь беречь хорошенько.
Рауль поблагодарил жида от всего сердца и прибавил:
— Ну вот, я опять сделался вашим должником и очень желаю сейчас же расплатиться. Сколько вам следует?
— Вы знаете…
— Право нет.
— Я заплатил за вас восемь луидоров: отдайте их мне, и мы будем квиты!
— Как!.. А проценты?
— Назначьте сами какие хотите.
— Назначить должны вы.
— Невозможно! Это дело выходит из разряда тех, которыми я обычно занимаюсь. Когда вы будете занимать у меня деньги, я возьму с вас столько процентов, сколько захочу; на этот раз я не прошу ничего.
Рауль не настаивал, вынул из кармана сверток с пятьюдесятью луидорами и отдал его Натану. Тот отпер сундук и бросил туда золото, говоря Раулю:
— Вы щедры!.. щедры как игрок, выигравший в две ночи четыреста тысяч; но берегитесь, счастье может повернуться, и таким образом далеко не уйдешь!
Рауль отвечал только улыбкой. Наступила минута молчания. Молодой человек смотрел направо и налево. Мы знаем, что комната была загромождена разными вещами.
Вдруг Рауль вскрикнул от удивления и восторга. Он приметил в глубине комнаты прислоненную к стене чудную картину, одно из тех божественных произведений, в которых полотно и краски уже не мертвый материал, а преобразованные прикосновением гения становятся текущей кровью, бьющимся сердцем, трепещущим телом. Эта картина была копией Ванло с «Венеры» Тициана. Французский живописец возвысил свой талант до высоты гения итальянского художника.
Между темно-зелеными складками флорентийского штофа, обложенного серебряной бахромой, и простынь ослепительной белизны, покрывавших до половины пунцовые шелковые подушки, лежала молодая богиня. Как она была прекрасна в своей небрежной позе!.. Густые волнистые волосы того белокурого, почти рыжего цвета, который так любили колористы итальянской школы, обрамляли ее прелестный лоб своими золотистыми отблесками… В ее больших глазах несравненной нежности сверкал огонь. Пунцовый ротик, похожий на лук божка Купидона, бросал в сердца неотразимые стрелы. Словом, все это было живо точно, безукоризненно. Ванло так передал творение великого художника, что копия стоила оригинала. Картина была ослепительна!..
XX. Гербовник
Натан следовал взором за Раулем де ла Транблэ и увидел, с каким восторгом он смотрел на описанную нами картину.
— Любите вы живопись?.. — спросил он Рауля.
— Очень люблю, — отвечал Рауль.
— Тем лучше!
— Отчего?
— Оттого, что вы будете покупать у меня картины.
— Разве вы продаете картины?
— Я продаю все. Мне кажется, вы любуетесь этой Венерой?..
— Да, прекрасная вещь!
— Я думаю!.. Тициан, скопированный Ванло!.. Хотите приобрести?..
— Охотно, если только ваши требования будут рассудительными.
— Не сомневайтесь в этом…
— Скажите вашу цену…
— Что вы думаете, например о…
И Натан назначил цену. Сумма, назначенная им, без всякого сомнения, превосходила настоящую цену картины, однако Рауль не нашел ее преувеличенной, до того был он прельщен великолепным зрелищем, которое находилось у него перед глазами. Торг был заключен почти без спора.
— Если вы любитель, я покажу вам кое-что другое… — прибавил Натан.
— Опять картины?
— Без сомнения…
— Которые вы желаете мне продать?
Натан улыбнулся.
— Нет, — сказал он, — я не желаю их продать, да вы и не могли бы их купить…
— Отчего?..
— Вашего состояния не хватило бы на это…
— Вы шутите? — вскричал Рауль.
— Право, нет!..
— Значит, по вашему мнению, эти картины стоят огромных денег?
— Я их не отдам и за миллион…
Рауль не мог удержаться от удивления. Жид продолжал:
— Притом, я не имею права их продать…
— Стало быть, они не ваши?
— Нет, не мои.
— Чьи же?
— Моей дочери.
Наступило молчание. Потом Натан продолжал:
— Но если я не могу их продать, ничто не мешает мне показать их вам, так я и сделаю…
— Где эти картины? — спросил Рауль.
— В нижней зале, где живет Дебора…
Сердце Рауля забилось. Самое сильное его желание исполнится! Он увидит наконец прелестную жидовку!..
— Пойдемте, — продолжал Натан.
Он первый вышел из комнаты, в которой происходил описанный нами разговор. Рауль последовал за ним.
— Подождите секунду, — сказал Натан, остановившись у дверей нижней залы, — дочь моя тут со своей приятельницей, и я попрошу ее уйти в спальную, чтобы мы могли на свободе остаться в зале.
Он вошел, оставив в коридоре Рауля, надежда которого еще раз была таким образом обманута. Через минуту Натан возвратился. Он ввел Рауля в восточную залу, описанную нами прежде, и показал ему четыре картины великих художников, те драгоценные бриллианты, о которых мы уже говорили.
— Вот мои сокровища!.. — сказал он. — Глядите… и судите сами, преувеличиваю ли я их ценность!..
Восторг Рауля вылился более в напыщенных, нежели в искренних выражениях, не потому, что молодой человек был нечувствителен к достоинству великолепных произведений, находившихся перед его глазами. Нет, не то. Рассеянность и озабоченность на время заглушили в нем артистическое чувство. Он был ослеплен азиатской роскошью, которой вовсе не ожидал. Притом ему казалось, что в этой комнате, где носилось какое-то благоухание, Дебора оставила нечто от себя, частички своей души и красоты. Ему казалось, что она находится возле него… что он чувствует ее нежное дыхание, слышит шелест ее платья. Глаза его не могли оторваться от портьеры, которая закрывала внутренний вход и за которой, может быть, скрывалась очаровательная жидовка. Иногда ему казалось, будто портьера шевелится, и тогда сердце его тоже начинало трепетать.
Натан был совершенно погружен в созерцание образцовых произведений и не примечал рассеянности своего гостя. Рауль сделал несколько шагов, чтобы приблизиться к жиду, стоявшему возле портьеры. Посреди залы стоял геридон драгоценной работы. На геридоне лежала большая раскрытая книга. Рауль, проходя мимо, взглянул на эту книгу, и у него вырвалось движение изумления. Он сделал шаг назад, остановился и посмотрел пристальнее.
— Ах!.. — прошептал он довольно громко, так что Натан услыхал. — Как это странно!
— Что такое? — спросил жид, отвлеченный от своего созерцания.
— Не можете ли вы объяснить мне, — сказал Рауль, — каким образом эта книга оказалась открытой именно на этой странице?..
— Какая книга?
— Вот эта.
Натан подошел и взял книгу.
— Гербовник!.. — изумился он.
— Как видите.
— Эта книга не принадлежит мне, и я даже не знал, что она лежит здесь.
— Неужели?
— Право… открытая же страница, как кажется, заключает генеалогию маркизов де ла Транблэ, старинного пикардийского дома, но я не знаю никого, носящего это имя. А вы?
Рауль не отвечал. Его удивление и волнение увеличивались каждую секунду. Натан продолжал смотреть на страницу, напечатанную большим буквами и украшенную фигурами, вырезанными на дереве.
— А-а! Вот и герб этой фамилии, — сказал он, — золотая осина в красном поле, с девизом «Транблэ не дрожит» (Tremblaye ne tremble)… — Однако, мне знаком этот девиз и этот герб, — продолжал Натан, вытаращив глаза. — И тот и другой вырезаны на ваших часах… О! Теперь я понимаю ваше удивление при виде книги, открытой на этой странице… Вы маркиз де ла Транблэ, не правда ли?
— Да, — отвечал Рауль, — я де ла Транблэ, последний из моего рода…
Жид поклонился. Едва молодой человек произнес последние слова, как в соседней комнате послышался внезапный шум. Портьера поднялась, и в дверях вдруг показались два бледных женских личика. Потом портьера снова опустилась. Тотчас же послышался глухой крик, потом падение тела, упавшего на ковер.
— Боже!.. — прошептал Натан с испугом. — Что это значит?.. Что случилось?..
И он поспешно поднял портьеру, отделявшую залу от спальной. Неожиданное зрелище поразило взоры Рауля и жида.
Молодая девушка, страшно бледная, лежала без чувств на полу. Дебора стояла на коленях возле нее. В бесчувственной девушке Рауль узнал Луцифер.
XXI. Улица Рибод
Теперь мы должны опять поступить так же, как уже поступили однажды в продолжение этой романтической эпопеи, то есть остановиться на минуту. Подобно тому, как мы прервали наш рассказ для того, чтобы посвятить наших читателей во все подробности исполненной приключений жизни Рауля де ла Транблэ, точно так же и теперь должны мы возвратиться назад и рассказать о жизни Луцифер.
Этот новый эпизод будет очень не длинен и притом, мы думаем, что он не совершенно лишен того драматического интереса, который в настоящее время любят исключительно. Начинаем!
За восемнадцать лет до того, как Рауль де ла Транблэ увидал в доме жида Эзехиеля Натана прелестную Дебору на коленях возле бесчувственной Луцифер, вот что происходило под жгучим небом Лангедока, в древнем городе Тулузе.
Было около полуночи. Светлая июльская атмосфера, прозрачная более чем туманное утро в северных широтах, позволяла различать предметы на довольно большом расстоянии. Гуляющие наполняли главные улицы. Вокруг Капитолийской площади толпились студенты, офицеры и буржуазия, наслаждаясь свежестью ночного ветерка. Хорошенькие тулузские гризетки, почти столь же знаменитые как и бордоские за свою пленительную развязность, проходили легко и проворно, едва касаясь мостовой своими щегольскими ножками.
Оставим в стороне эту пеструю толпу и эти шумные кварталы. Отправимся в небольшую темную, грязную улицу за новым лицом, с которым мы должны познакомиться. Это был молодой человек, по крайней мере так можно было предположить по его высокому росту, стройному стану и по твердой и быстрой походке. Лицо же, без сомнения, он имел какую-нибудь причину скрывать от всех, потому что оно не только было закрыто широкими полями черной пуховой шляпы, но еще и приподнятой полой темного плаща. Плащи!.. в июле!.. в Тулузе!.. Сколько восклицательных знаков надо бы поставить для выражения того, что в подобном обстоятельстве было необыкновенного, неуместного и даже невероятного!.. Наверное, какая-нибудь страшная драма, какая-нибудь мрачная тайна должны были скрываться под складками этого плаща!..
Молодой человек вошел в улицу, пользовавшуюся дурной славой и сохранившую от средних веков старое название — улицы Рибод. Войдя в нее, он пошел медленнее, поднял голову кверху и с чрезвычайным старанием рассматривал номера домов. Все эти дома были заперты от нижнего жилья до чердака, и только сквозь закрытые ставни кое-где пробивался свет. Слышался также неопределенный и неясный шум, но мало-помалу слух различал в этой смешанной мелодии металлический звук серебряной и золотой монеты, стук разбитых стаканов, пение, поцелуи. Скажем короче, каждое жилище на улице Рибод было картежным домом, или еще хуже.
Единственный дом в один этаж, угрюмый, мрачный, безмолвный, казалось, спал глубоким сном среди своих бодрствующих братьев. Молодой человек остановился перед этим домом: смотрел с минуту на грязный фасад, потом прошептал:
— Номер 13… Это здесь…
Он подошел и толкнул дверь. Она не отворилась. Он стал искать молоток или колокольчик, но не было ни того, ни другого. Молодой человек сначала, казалось, не знал, что делать, но скоро решился и начал стучать тихо и осторожно. Никто не отвечал, никто не выходил.
— О! О! — пробормотал молодой человек сквозь зубы, — неужели меня обманули… и дом пуст?..
Он опять начал стучать, но на этот раз гораздо сильнее. В первом этаже отворилось окно, показалась голова старухи и хриплый голос закричал:
— Ступай своей дорогой, негодяй…
Молодой человек отступил на несколько шагов, чтобы рассмотреть ту, которая говорила с ним таким образом, и отвечал с поклоном, показывавшим знатного дворянина:
— Извините, сударыня, что я буду противоречить вам, но я не негодяй и не уйду отсюда…
— Право! Почему же?
— Потому что я пришел именно сюда…
— Вы, вероятно, ошиблись домом…
— Не думаю.
— Вы ищете картежников и веселых женщин?.. Глядите дальше… Направо и налево.
— Я не ищу ни тех, ни других…
— Чего же вам нужно?..
— Мне нужен номер 13 по улице Рибод. Ведь это тринадцатый номер, да или нет?
— Положим так, но в этом тринадцатом номере живет бедная старуха, которая после полуночи не отпирает своих дверей… Повторяю, ступайте своей дорогой…
И старуха хотела затворить окно. Незнакомец остановил ее, вытащив из-под плаща большой красный шелковый кошелек, наполненный золотом, и тряхнул им. Звук монет произвел магическое действие. Старуха, уже готовая затворить окно, остановилась. Молодой человек продолжал с живостью, приглушенным голосом:
— Если вы мадам Клодион, в чем я не сомневаюсь, то я имею до вас дело и отдам вам все золото, находящееся в этом кошельке.
— Вот что дело, то дело! — пробормотала старуха. — Это называется говорить!.. Подождите… Я сейчас выйду к вам.
— Слава Богу, насилу уговорил!.. Честное слово! — вскричал молодой человек, потерявший терпение от предшествовавшего разговора.
Поспешим сказать, что ждал он недолго. Звук золота, без сомнения, возвратил старухе все проворство молодости. Через несколько секунд, она растворила дверь на улицу и сказала незнакомцу:
— Войдите, я к вашим услугам…
Мы тоже последуем за человеком, которого ввели в этот дом. Как только старая хозяйка затворила за ним дверь коридора, он очутился в совершенной темноте.
— Уж не у черта ли мы здесь? — спросил он.
— Почти, — отвечала хозяйка дома с насмешкой. — Ступайте прямо, когда сделаете двадцать пять шагов, поверните направо и увидите свет…
XXII. Клодион
Незнакомец не колеблясь исполнил то, что сказала ему старуха: отсчитал двадцать пять шагов и повернул направо. Он заметил слабый свет, пробивавшийся сквозь дверь. Он толкнул эту дверь и очутился в узкой и низкой комнате довольно прилично убранной и освещенной небольшой лампой, стоявшей на столе. Старуха вошла в эту комнату почти в одно время со своим гостем.
Она была очень мала, очень худощава, очень сгорбленна. На желтом лице ее было бесчисленное множество морщин. Во рту не было ни одного зуба. Крючковатый нос доходил почти до подбородка, глаза как будто проткнутые буравчиком еще зорко смотрели под красными веками. Словом, наружность этой старухи была и смешна, и зловеща.
Она вошла и старательно затворила за собой дверь. Незнакомец снял шляпу, которую положил на стул, и сбросил плащ. Лицо, до сих пор совершенно скрытое, открылось. Он был действительно молод, как прежде показывали его рост и походка: ему едва ли было тридцать лет. Черты правильные и резкие имели выражение странной энергии. Он был бледен, но не той болезненной бледностью, которая показывает нездоровье, не той матовой бледностью, которая служит признаком горячего и нервного темперамента, но той мимолетной и случайной бледностью, которая есть верный признак сильного волнения. Старуха начала разговор:
— Вы имеете ко мне дело, я здесь; вы хотите говорить со мною, я слушаю; вы обещали мне золото, я жду…
— Вы мне нужны, это правда, — заявил незнакомец, — я сдержу свое обещание и даже сделаю еще более…
— Очень хорошо; о чем идет речь?
— Я жду от вас услуги.
— Важной?
— Да.
— Тем лучше, вы дороже заплатите…
— Но прежде я задам вам один вопрос…
— Говорите.
— Могу я положиться на вашу скромность?
— Более, чем на могилу. Могила иногда еще раскрывает свои тайны, а я никогда не изменяю моим… Меня убьют десять раз, но не вырвут ни слова из того, чего я не хочу или не должна говорить…
— В тайне, часть которой вы узнаете, речь идет о жизни и смерти.
Старуха быстрым движением указала на голову и сказала:
— Эта тайна будет тут в хорошей компании, я знаю много других…
— Вы искусная повивальная бабка, не правда ли?
— Говорят…
— Вы уверены в себе?
— Насколько это возможно… Много женщин прошло через руки Клодион, и ни одна на нее не жаловалась… А! Так речь пойдет о родах?
— Да,
— Согласна. Приведете вы ко мне эту особу?
— Нет.
— Стало быть, я должна идти к ней?
— Да.
— Когда же?
— Сию минуту.
— Куда?
— Я не могу вам этого сказать.
— Как? — вскричала старуха. — Надо же мне знать, однако…
— Не расспрашивайте и слушайте.
— Слушаю обоими ушами.
— Вот какие условия я предлагаю вам…
— Посмотрим…
Незнакомец вынул из-под плаща черную бархатную полумаску, совершенно похожую на все маски, с той только разницей, что в ней для глаз не было сделано отверстий.
— Прежде всего вы должны надеть эту маску, — продолжал незнакомец.
— Для какой цели?
— Ах, Боже мой! Просто для того, чтобы вы ничего не видели.
— Понимаю… Потом?
— Потом я поведу вас за руку…
— В какое место?
— Не очень далеко отсюда, где мы найдем карету, запряженную парой отличных лошадей…
— И эта карета?..
— Отвезет нас менее, чем через час в то место, где нас ждут…
— Женщина, положение которой требует моих попечений, молода?
— Лет двадцати…
— Слабого или крепкого здоровья?
— Очень крепкого.
— Вы уверены, что время родов пришло?
— Да, уже начались первые боли.
— Давно ли?
— Часа три назад.
— Стало быть, нельзя терять ни минуты.
— Я думаю. Поспешим же заключить наши условия и поедем.
— Еще одно слово…
— Что?
Черты старухи приняли зловещее выражение. Она подошла к незнакомцу и шепнула ему тихим и глухим голосом, словно боялась, чтобы слова ее не имели отголоска:
— Ребенок должен остаться жив?
— Как? — вскричал незнакомец. — Что вы хотите сказать?
Старуха улыбнулась.
— Вы меня не понимаете? — спросила она.
— Объяснитесь…
— Я вас спрашиваю, должен ли ребенок остаться жив, потому что если его рождение для вас стеснительно, я могу освободить вас от него…
Незнакомец не мог удержаться от движения ужаса.
— Вы будете отвечать мне вашей жизнью за жизнь этого ребенка! — вскричал он.
— Хорошо, — буркнула старуха, — мне самой это больше нравится, и я охотно поручусь за все, разумеется, исключая то, что я не могу отвратить, и за что вовсе не намерена отвечать…
— Только не пренебрегайте никакими средствами вашего искусства, чтобы спасти мать и ребенка… я не требую ничего более…
— Будьте спокойны, вы останетесь довольны мною…
— Теперь кончим… Чего вы хотите?
— Я считаю вас щедрым: назначьте сами плату за услугу, которую я вам окажу…
Незнакомец снова вынул шелковый красный кошелек, который уже играл роль.
— Возьмите, — сказал он, подавая его старухе, — в этом кошельке пятьдесят луидоров…
Старуха сделала поклон, выражавший глубокую признательность. Незнакомец продолжал:
— Я удвою эту сумму тотчас после разрешения, если буду убежден, что вы ничем не пренебрегли, чтобы исполнить мое желание.
— О! — вскричала старуха с радостью, — вы останетесь довольны!.. останетесь довольны, клянусь вам!..
XXIII. Карета
— Теперь пойдем, — продолжал незнакомец.
— Сию минуту, — отвечала старуха.
— Смотрите, не забудьте чего-нибудь необходимого…
— Сейчас я возьму все нужные инструменты и пойду за вами.
Клодион отворила шкаф, вынула полный набор хирургических инструментов, которые в ту эпоху очень походили на орудия пытки, завернула их в кусок зеленой саржи и крепко завязала бинтами.
— Я готова, — сказала она.
— Наденьте маску, — возразил незнакомец.
— Извините, я должна прежде запереть дверь моего дома.
— Справедливо.
— Как только мы выйдем на улицу, я сделаю все, что вам угодно… хотя моя известная скромность делает эту предосторожность совершенно излишней.
Незнакомец не отвечал.
— Пойдемте же, — продолжала Клодион.
Как только они вышли из дома и старуха повернула ключ в массивном замке, незнакомец подал ей маску. Она не колеблясь надела ее. Незнакомец, удостоверясь, что шнурки были крепко завязаны, взял за руку свою спутницу и поспешно тащил ее минут двадцать по лабиринту переулков совершенно пустых. Наконец он остановился и сказал, задыхаясь, старухе:
— Первая часть вашей обязанности исполнена… мы садимся в карету…
В это время был час пополуночи. Карета стояла на углу одного из переулков, о которых мы говорили. Эта карета была запряжена парой вороных лошадей. Кучер был без ливреи и сидел на козлах безмолвно. Незнакомец отворил дверцу, приподнял Клодион и посадил ее.
— Скачи! — закричал он кучеру. — Скачи… во весь опор, чтобы мы приехали непременно через час.
— Слушаю, граф, — пробормотал кучер.
Лошади понеслись во весь опор, сильно тряся карету по неровной мостовой. Через несколько минут карета покатилась спокойнее по гладкой и мягкой земле. Незнакомец и Клодион выехали из города и скакали по одной из больших дорог, которые идут от Тулузы во внутренность Франции. Три четверти часа бег лошадей не замедлялся ни на минуту. Клубы пыли поднимались из-под колес и покрывали карету густым облаком.
Незнакомец и старуха Клодион не обменялись ни одним словом. Молодой человек, без сомнения, был погружен в глубокую озабоченность и считал минуты, которые казались ему продолжительны, как века. Старуха же, конечно, пересчитывала в уме выгоды, которые должна была получить в эту ночь. Вдруг сильный толчок оторвал незнакомца от его задумчивости, а Клодион от ее расчетов: карета повернула налево с большой дороги на проселочную, очень дурно содержимую. Колеса перескакивали с рытвины на рытвину, ось трещала и скрипела. Словом, экипаж, по-видимому, готов был развалиться, к великому ужасу Клодион. Но, без сомнения, кучер понимал так же хорошо, как и хозяин, как необходимо приехать поскорее, потому что не сдерживал быстрого бега своих лошадей, покрытых пеной. Прошел ровно час, как карета выехала из Тулузы.
— Мы приехали? — спросила Клодион, начинавшая умирать от страха.
— Почти, по крайней мере, здесь мы выйдем из кареты.
— А! Какое счастье!..
— Нам придется немного пройти пешком, но не более пяти минут… С этой минуты, прошу вас хранить глубочайшее молчание…
— Да у меня и нет никакой охоты разговаривать! — возразила старуха.
— Тем лучше!
Незнакомец вышел первый и сам высадил из кареты старуху, точно так, как прежде посадил ее. Потом он взял с передних подушек шпагу, надел ее и заткнул за пояс пару маленьких пистолетов. Сделав это, он взял под руку старуху и пошел с нею по направлению к высокой и обширной белой массе, которая, будучи ярко освещена, оттенялась мрачной зеленью высоких деревьев, окружавших ее. Эта белая масса была фасад замка Рокверд. В этом-то замке и ждали незнакомца и Клодион.
XXIV. Замок
Сделав несколько шагов, старуха и проводник ее подошли к стене, окружавшей парк. Минуты через две они дошли до узкой и низкой калитки, которая была совершенно незаметна под густым мхом и ползучими растениями. Незнакомец остановился, вынул из кармана маленький ключик и вложил его в замок калитки. Она тотчас отворилась без малейшего шума. Незнакомец втолкнул старуху в эту калитку, потом вошел сам и старательно закрыл ее за собой. Они очутились в парке, великолепие которого могло бы соперничать с королевской пышностью версальского сада. Синеватое сияние луны неопределенно освещало бесконечные перспективы, утопавшие в прозрачном тумане. Там и тут белые статуи на мраморных пьедесталах казались неподвижными привидениями. Несколько лучей, падавших с золотого полумесяца богини охоты Дианы, бросали искры на струистый водопад, и эти искры казались движущимся дождем причудливых звездочек.
В ту минуту, когда калитка затворилась за ночными посетителями, послышался отдаленный и яростный лай. Лай этот прерывался на секунду, потом раздавался снова еще яростнее, еще ближе. Клодион начала дрожать всем телом, но молодой человек не обнаруживал никакого страха, только вдруг остановился и начал нетерпеливо топать ногой. Лай все приближался.
— Мы погибли!.. — прошептала Клодион, и ее затрясло от испуга.
Наконец явилась огромная пиренейская собака. Она бежала с глазами, налитыми кровью, со взъерошенной шерстью; но едва свирепое животное узнало молодого человека, как из страшного и угрожающего превратилось в смиренное и покорное. Собака перестала лаять, легла на землю и ползком приблизилась к незнакомцу, вертя своим огромным хвостом и визжа от радости.
— Хорошо, хорошо, — прошептал молодой человек, — хорошо, мой добрый Фидель, но ни к чему было так шуметь сейчас.
Собака подняла свою огромную голову и начала лизать руки того, кто говорил с ней таким образом. Клодион совершенно успокоилась. Молодой человек продолжал:
— Теперь, Фидель, ступай и ляг…
Он сделал знак, который собака верно поняла, потому что тотчас встала и удалилась в ту сторону, откуда пришла.
— Теперь мы избавились от этой собаки, — сказал молодой человек своей спутнице, — но очень может быть, что ее проклятый лай поднял тревогу, и потому осторожность требует, чтобы мы подождали здесь несколько минут.
Старуха утвердительно кивнула. Волнение, испытанное ею за минуту перед тем, лишило ее на время дара речи. Незнакомец ввел ее в рощу, и оба молчаливо и неподвижно ждали минут пять. Не слышно было никакого шума. Все осталось спокойно в парке и около замка.
— Теперь пойдемте и поскорее!.. — сказал наконец незнакомец. — И более чем прежде соблюдайте тишину!..
Они шли тихо, удерживая дыхание, и дошли таким образом до фасада замка. Это грандиозное и почти княжеское здание являло взорам все сокровища своей архитектуры. Широкое крыльцо с каменной лестницей, с железной баллюстрадой, причудливо вычеканенной, вело к трем дверям. Гигантские кариатиды поддерживали на своих крепких плечах балкон первого этажа. Каждое из окон было украшено лепными орнаментами, достойными резца Жана Гужона.
Молодой человек довел старуху до входа, так хорошо скрытого в стене, что, не зная о нем, нельзя было догадаться о его существовании. С помощью второго ключа молодой человек отворил дверь, и спутники вошли в темный коридор. В конце коридора находилась узкая и крутая лестница. Взойдя на верх лестницы, незнакомец коснулся пальцем пружины, и открылось, словно по волшебству, пространство, довольно широкое для того, чтобы человек мог пройти боком. Молодой человек и Клодион очутились в широком коридоре или, скорее, в галерее, слабо освещенной двумя лампами, горевшими на обоих концах ее. Направо и налево по галерее было несколько широких и высоких дверей. С каждой стороны их было по двенадцать, всего двадцать четыре двери. Между дверями висели большие фамильные портреты в великолепных рамах с гербами. Неопределенно виднелись в полусвете свирепые лица рыцарей в тяжелых вооружениях, — торжественные лица генеральных прокуроров и президентов, и аристократически накрахмаленные корсажи красивых и безобразных дам. Это были предки маркиза Рокверда.
Незнакомец дошел до конца галереи. Отворив с левой стороны позолоченную дверь, он взял Клодион за руку, ввел ее за собой и запер дверь запором изнутри.
— Мы приближаемся к цели, — сказал он шепотом, — до сих пор все идет хорошо… Подождите меня здесь, я вернусь через минуту. Теперь вы можете снять маску.
XXV. Комната маркизы
Произнеся последние слова, незнакомец исчез во второй комнате. Старуха, очень раздосадованная тем, что осталась одна, должна была покориться необходимости и ждать терпеливо, чтобы ее странный проводник заблагорассудил вернуться.
Слабые лучи света, пробивавшиеся из соседней комнаты в полурастворенную дверь, позволяли различать предметы. Клодион опустилась в кресло в небольшой гостиной, служившей ей убежищем, или, лучше сказать, тюрьмой; потом предалась размышлениям, не весьма приятным, относительно того положения, в котором она находилась по своей же вине. Она прикинула все опасности, действительные или мнимые, еще преувеличила их в взволнованных мыслях и горько пожалела, что уступила жажде прибыли и впуталась, очертя голову, в ужасную интригу, из которой, может быть, не выпутается невредимой. Без всякого сомнения, в эту минуту Клодион отдала бы от всего сердца не только то золото, которое получила от незнакомца и которое еще должна была получить от него, чтобы только очутиться опять в своей квартире на улице Рибод, но дала бы еще в придачу несколько старых луидоров из сокровища, скопленного ею и заботливо запрятанного в таком месте, где никто, кроме нее, не мог найти его. Однако делать было нечего, оставалось покориться всем последствиям этой неосторожности.
Старуха была отвлечена от своих мрачных размышлений внезапным шумом. Она задрожала всем телом и начала прислушиваться, чтобы понять, какого рода был этот шум. Это были глухие стоны, заглушаемые крики. Вероятно, тот, кто старался заглушить свои стоны, терпел ужасную пытку. Без сомнения, физическая боль терзала тело с такой силой, что никакая человеческая энергия не могла заставить эту боль оставаться безмолвной.
В эту минуту незнакомец вернулся в первую комнату. Если бы темнота не мешала старухе видеть его лицо, она испугалась бы его бледности. Крупные капли пота выступили на его нахмуренном лбу. Он встал напротив старухи.
— Слышите?!. — сказал он голосом, до того взволнованным, что его едва можно было расслышать.
— Слышу, — отвечала старуха.
— Вы готовы?
— Готова.
— Пойдемте же.
Он сделал несколько шагов вперед. Старуха пошла за ним; но на пороге двери он остановился и обернулся.
— Послушайте, — пролепетал он. — Я вам сказал, что вы отвечаете мне за жизнь матери и ребенка. Вы помните?
— Помню, что я обещала вам употребить все средства. Все, что может сделать человек, я сделаю, но не ручаюсь ни за что.
Услышав эти слова, незнакомец побледнел еще больше, несмотря на свою бледность. Он схватил руку старухи, сжал ее, как в тисках с судорожной силой, и сказал:
— По крайней мере, ручайтесь мне за мать. Поклянитесь, что вы спасете мать.
— Да, да! — вскричала старуха, чувствуя страшную боль от ужасного пожатия молодого человека. — Я спасу ее, клянусь!
— Хорошо, — сказал незнакомец, отпустив руку старухи. — Не забудьте же, что вы жизнью отвечаете мне за это. Так же справедливо, как держу вас в своей власти, так же справедливо, как меня зовут графом Анри де Можироном, вы умрете, если умрет та, которой вы должны помочь…
Клодион задрожала. Теперь только она узнала имя своего проводника, а имя это было знаменито во всей провинции по страшному и безнаказанному насилию, которое часто позволял себе тот, кто носил его. Притом голос человека принимает иногда такое выражение, в значении которого нельзя обмануться. Старуха вполне убедилась, что граф де Можирон исполнит свою угрозу.
Как видно, положение запутывалось. Старуха теперь отдала бы уже не только несколько луидоров, но все, что имела, чтобы очутиться подальше от этого проклятого замка. Две или три секунды продолжалось молчание.
— Пойдемте, — сказал потом граф, — пойдемте, и пусть рука ваша не дрожит, потому что моя рука прямо дойдет до цели, а она, как видите, вооружена.
Сказав эту последнюю угрозу, заключавшуюся в таких страшных словах, граф взял за руку старуху и ввел ее во вторую комнату.
Ничего нельзя было видеть свежее, кокетливее и в то же время великолепнее этой спальни, обтянутой белой шелковой материей, по которой рассыпаны были букеты вышитых роз и извивались ветви жимолости. Кровать была с балдахином и с занавесками из той же материи, как и обои. Позолоченные столбы этой кровати были украшены резными цветами и фигурами крылатых амуров. Часы и канделябры из севрского фарфора опережали некоторым образом моду и предвещали изящные и грандиозные фантазии, которые несколько позже были изображены художниками той эпохи, для любовниц Людовика XV. Алебастровая лампа, привешенная к потолку на серебряной цепочке, освещала все эти чудеса своим нежным, матовым светом.
Однако по одному из тех странных контрастов, которые так любит прихотливый случай, эта прелестная комната служила местом пытки, даже почти агонии!.. Эта кокетливая кровать, это душистое и сладостное ложе, которые как будто призывали любовь и улыбались наслаждениям, были кроватью страдания, ложем боли.
Молодая женщина беспокойно металась на голландской простыне в ужасных страданиях. Ее длинные волосы, черные, как смоль, составляли резкую противоположность с ослепительной белизной груди и плеч. Время от времени сильный трепет пробегал по телу этой женщины. Тогда она схватывала обеими руками одеяло, кусала его зубами с судорожной силой, чтобы заглушить свои крики. Однако ее усилия были напрасны: заглушаемые стоны, которые мы уже слышали, опять начали раздаваться.
Клодион поспешно подошла к постели, осмотрела молодую женщину и сказала ей голосом, который постаралась сделать нежным и ласковым:
— Не теряйте мужества: вам осталось страдать несколько минут, сейчас все пойдет прекрасно.
XXVI. Можирон
Минута спокойствия сменила ужасный кризис, измучивший молодую женщину. Можирон воспользовался этими несколькими секундами отдыха. Он взял Клодион за руку и увлек в амбразуру окна.
— Ну, что? — спросил он шепотом. — Что вы думаете?
— Я надеюсь.
— Вполне? — прошептал граф с живостью и радостью.
— Да.
— За мать или за ребенка?
— За обоих: мать молода и здорова, все кончится благополучно.
Эти слова так обрадовали графа, что он даже взял старуху за руку и пожал ее.
— О! — прошептал он, — сделайте то, что вы обещали мне. Спасите обоих, и моя признательность к вам будет безгранична; я сумею доказать вам ее.
Улыбка алчности раскрыла поблекшие губы Клодион. Она покачала головой два или три раза и хотела отвечать, но новый стон молодой женщины прервал разговор. Клодион хотела подойти к постели, но граф остановил ее.
— Еще одно слово, — шепнул он ей на ухо.
— Что?
— Видите вы эту дверь?..
Он указал на широкую позолоченную дверь с левой стороны комнаты, запертую только небольшой задвижкой, которая не могла устоять от крепкого натиска.
— Вижу… — отвечала старуха.
— Там — опасность.
— Как?
— За этой дверью спит один человек.
Старуха вздрогнула.
— Какой человек? — спросила она с ужасом.
— Муж.
— А!
— Неосторожный крик, малейший шум могут разбудить его… Он войдет… и тогда может произойти ужасная кровавая сцена, потому что кто-нибудь из нас, он или я, не выйдет отсюда живой.
И как будто желая придать новую силу произнесенным словам, граф вынул из ножен шпагу и положил ее на кресло возле своих заряженных пистолетов.
— Боже мой! Боже мой! — лепетала Клодион, испуг которой увеличивался. — Боже мой!.. как же быть?
— Удвойте предосторожности, действуйте так быстро, как только можно, в особенности заглушите крики ребенка.
— Я ручаюсь за себя, — отвечала Клодион. — Но эта дама?
— Будьте спокойны, эта дама знает опасность, она будет мужественна и, хоть бы ей пришлось умереть, не закричит.
Молодая женщина, в самом деле, изгибалась на своем ложе, как змея, но не кричала. Она даже успела с героическим усилием удержать свои стоны.
— Вот! — прошептала старуха, — минута настала!
Оставим Клодион заниматься опасным делом и объясним в нескольких словах положение двух новых особ, которых мы вывели на сцену. История эта очень проста, следовательно, будет коротка.
Анри де Можирон, отличавшийся прекрасной наружностью, был знатен, очень богат и пользовался в целой провинции самой дурной репутацией. Стоило только произнести его имя, чтобы тотчас поднять целый ураган обвинений. Со всех сторон говорили, что у него было испорченное сердце и погибшая душа, что он был страшный игрок, бешен до безумия, пьяница более, нежели тамплиеры вакхической памяти, и сладострастен, как сатир. Из-за одного взгляда, а иногда даже вовсе из ничего, он вызывал на дуэль и убивал своего противника в какие-нибудь четыре минуты. Он обожал скандалы и как будто гордился своими пороками, похваляясь своими дурными поступками. Он обольщал девушек, чтобы сделать их орудиями своих удовольствий, вербовал юношей, чтобы сделать их соучастниками своих оргий. Словом, повторяем, все осуждали его, но и все его боялись, как огня.
Таков был граф Анри де Можирон. Однако в один прекрасный день все это совершенно изменилось. Граф вдруг бросил своих любовниц, приятелей, льстецов; перестал удивлять Тулузу своими сумасбродными подвигами и стал вести такую праведную жизнь, что самый строгий судья не мог бы сделать ему ни малейшего упрека.
Откуда же происходила эта внезапная и неожиданная перемена? Никто не угадывал. Любопытные не знали, чему приписать ее. Мы же, по авторской привилегии, скажем, что любовь, эта всемогущая владычица, в первый раз овладела сердцем Анри, которого своим единственным присутствием возродила и очистила. Граф де Можирон любил, любил целомудренной и глубокой страстью молодую девушку, достойную внушить подобную любовь.
Анриэтта де Лансак, так звали эту молодую девушку, принадлежала к такой же знатной и богатой фамилии, как и граф. Анриэтта разделила всей душой внушенную ей любовь. Будущность этих молодых людей как будто была начертана заранее. Не должны ли они были найти в союзе, приличном во всех отношениях, почти верное счастье? Но есть ли на свете такие родители, которые более или менее не имели бы притязаний располагать жизнью своих детей и устраивать их будущность по своему усмотрению. Родители Анриэтты походили на всех. Граф де Можирон официально предложил руку молодой девушке, но его дурная репутация опередила его! Родители Анриэтты не подумали, что сумасбродства в молодости были залогом безопасности для зрелого возраста. Они забыли, что из кутил почти всегда выходят превосходные мужья, и, наконец, не обратили никакого внимания на любовь Анриэтты, любовь, которая говорила красноречивыми слезами и немым отчаянием. Графу де Можирону отказали, но, опасаясь его бешеного характера, решились поставить между ним и Анриэттой непреодолимую преграду. Молодую девушку выдали замуж за маркиза де Рокверда, знатного и благородного человека, но его шестьдесят лет и снежная седина составляли странный контраст с восемнадцатью годами и черными волосами Анриэтты.
Несчастная девушка знала, что не имеет никакой возможности сопротивляться непреклонной воле отца. Она покорилась, даже постаралась скрыть свои слезы и поклялась себе быть безукоризненной супругой.
Граф де Можирон, приведенный в отчаяние, хотел постараться, если не забыться, то по крайней мере рассеяться. Он предался очертя голову самому грязному разврату, возобновил все разорванные связи, сделал из своего замка притон картежников и женщин легкого поведения. День и ночь непристойные песни и пьянство раздавались там, где Анри мечтал наслаждаться чистой и взаимной любовью.
Господин и госпожа де Лансак радовались всей душою, что не отдали дочери за этого развратного негодяя и засыпали со спокойной совестью. Бедные люди! Они не подозревали, что сами возвратили пороку жертву, вырванную у него любовью! Увы! Свет наполнен такими слепцами, которые делают зло, сами того не зная, и радуются тому, что они наделали!
XXVII. Любовь разбитая и возобновленная
Господин и госпожа де Лансак не пропускали ни малейшего случая произносить при дочери, сделавшейся маркизой де Рокверд, гнусное имя Анри де Можирона, прибавляя к нему самые презрительные эпитеты и распространяясь о скандальных анекдотах беспорядочной жизни, которую вел Анри.
Анриэтта слушала эти рассказы и никогда не возражала. Только бледность разливалась по ее лицу, и на другое утро красные веки и синие круги под глазами показывали, что она плакала всю ночь. Несчастная женщина силилась забыть графа, но не могла. Чем более хотели бросить в ее сердце ненависть и презрение, тем более сердце это наполнялось любовью.
Маркиз де Рокверд не был ревнив. Сказать по правде, он и не знал о взаимной любви графа де Можирона и Анриэтты. Впрочем, хотя он и имел неограниченное доверие к добродетели своей молодой жены, достаточно было бы одной искры подозрения, зародившейся в его душе, чтобы зажечь в ней пожар, опустошение которого было бы ужасно. Маркиз де Рокверд принадлежал к той породе людей, высеченных из гранита и вылитых из бронзы, которые не извиняют ни малейшей слабости, не прощают ни малейшей измены.
Два года прошло таким образом. Анриэтта худела день ото дня и угасала, хотя красота ее никогда не была ослепительнее. Большие глаза ее сверкали странным блеском, которого почти нельзя было выдержать, в бледных щеках было что-то неземное. Самые умные врачи не могли угадать неведомого недуга, истощавшего в Анриэтте источники жизни. Этот недуг был смертельной лихорадкой неутоленной любви.
Если бы не случилось одно обстоятельство, которое мы расскажем, агония маркизы де Рокверд не продолжалась бы долго и бедная молодая женщина скоро была бы вознаграждена Небом за горести и самопожертвование. Но случай или, скорее, какой-то злобный демон, распорядился иначе.
В один прекрасный день прибыла в Тулузу труппа странствующих комедиантов, устроившихся в огромном дощатом балагане. Одна половина этого здания служила сценой и кулисами, другая предназначалась для зрителей. Для аристократической части публики было сделано нечто вроде лож. Представления этих странствующих актеров начались и тотчас же получили блестящий успех. Без сомнения, фарсы были смешны, а актеры сносны, так что народ, буржуазия и высшее общество наполняли скромный театр. Скоро вошло в моду показаться на часок в балагане, как ныне модно показываться во французской и итальянской операх.
Маркиз де Рокверд, надеясь развлечь увеличивавшееся уныние обожаемой им жены, непременно хотел свозить ее на представление странствующих актеров. Анриэтта сначала этого не хотела. Такое удовольствие было ей неприятно по своей пошлости. Однако наконец она уступила настоятельным убеждениям, оделась почти с монастырской простотою и поехала с мужем.
В ту минуту, когда маркиз с женой выходили из кареты, к театру быстро и с оглушительным шумом подкатилась большая коляска, запряженная четверней, и остановилась как раз против них. Женщины были хороши собой, и в их дерзких взорах, в смелых позах, в сумасбродных туалетах ясно высказывалось их звание: жрицы Венеры. Спутник их был одет с цинической небрежностью. Опьянение, но только не любви, бросало из глаз его пламя и покрывало щеки густым румянцем. Молодой человек, опьяневший от вина и разврата, вылез из коляски, шатаясь пошел к двери между двух куртизанок и споткнулся на пороге. Это был Анри де Можирон.
Анриэтта стояла еще у дверей под руку с мужем, которого удержало любопытство. В первую минуту она не поняла, при какой сцене присутствовала, но через секунду мысли ее прояснились. Она узнала Анри. Она угадала звание спутниц этого человека, которого любила еще и теперь. Вся кровь прилила к ее сердцу. Она почувствовала, как земля заколебалась под ее ногами, и упала бы, если б не ухватилась за дверь.
«О! Благодарю тебя, Боже мой! — подумала она, — благодарю, что Ты показал мне его в таком виде, потому что теперь я не могу более любить его!»
Анри также, несмотря на опьянение, узнал маркизу. Он попятился, как бы пораженный громом, и охотно отдал бы десять лет жизни, чтобы провалиться сквозь землю. Анриэтта быстро собралась с силами.
— Войдем, — сказала она мужу, который не приметил ничего.
И она увлекла его в театр. Когда де Можирон опомнился, маркизы уже не было. Он почувствовал против себя самого сильный припадок бешенства, смешанный с глубоким отчаянием. Он понял, что все сделанное им для того, чтобы закружить себе голову и забыться, не послужило ни к чему. Напрасно губил он тело, пачкал душу, он не достиг желаемой цели. Он с гневом и отвращением прогнал привезенных им женщин и один вошел в театр. Мы утверждаем, что в эту минуту в графе де Можироне не осталось ни малейшего следа опьянения. Бледность, почти мертвенная, сменила на его лице румянец, зажженный вином. Несчастный молодой человек должен был уже внушать не ужас и отвращение, а глубокое сострадание! Он не имел нужды отыскивать глазами Анриэтту. Взор его, как бы непреодолимо привлекаемый магической силой, прямо обратился на ту ложу, в которой сидела маркиза де Рокверд.
По такому же магнетизму и глаза маркизы обратились на Анри. В ту минуту, когда эти два луча встретились, прежние влюбленные вздрогнули. Будто искра из электрического колеса поразила их в одно и то же время. Анриэтта хотела отвернуться, она успела уже заметить бледность и волнение Анри, успела увидеть, что он один. По высокому инстинкту, дарованному Богом, избранным душам и женским любящим сердцам, Анриэтта поняла, как сильно страдал ее возлюбленный, угадала, что его раскрасневшееся от вина лицо носило на себе печать бесконечной горести. Она почувствовала себя любимой любовью, равнявшейся ее любви, и почувствовала необъяснимую радость, какое-то горькое наслаждение, в котором упрекала себя, но напрасно. Повторяем, по странной прихоти случая или насмешливого демона, то самое обстоятельство, которое должно было разъединить два сердца, напротив, скрепило их неразрывными узами.
Задолго до конца спектакля, Анриэтта просила мужа отвезти ее домой. Граф де Можирон следовал за ними издали, пешком, до самого дома их.
Новая перемена совершилась в жизни молодых людей, которых Бог создал друг для друга, а люди разлучили. С этой минуты Анриэтта, подавленная любовью, не боролась уже с нею и без сопротивления предоставила свою душу увлекавшему ее потоку. Анри безвозвратно отказался от жалких и постылых удовольствий разврата. Он совершил в самом себе нравственное преобразование и сделался чист посредством любви, и для любви.
Увы! Приближалась катастрофа!
Через два месяца после рассказанных нами происшествий маркиз де Рокверд уехал в Испанию, куда призывали его важные дела. Речь шла о значительном наследстве. Дальний родственник маркиза, двадцать пять лет назад поселившийся в Мадриде, умер, отказав все свое состояние мужу Анриэтты. Это состояние, скажем мимоходом, доходило до миллиона, стало быть, стоило побеспокоиться!
Итак, повторяем, маркиз уехал в Испанию, оставив жену в замке Рокверд. Отсутствие его должно было продолжаться только несколько недель; но неожиданные обстоятельства, о которых мы упомянем в свое время и в своем месте, замедлили его возвращение.
Введем теперь наших читателей в замок Рокверд, в комнату Анриэтты, через неделю после отъезда маркиза. Было около одиннадцати часов вечера. Знойный день сменился душной и темной ночью. Ни малейшее дуновение ветра не шевелило неподвижными ветвями огромных деревьев. Густые тучи совершенно заволокли небо и казались мрачной завесой, отделявшей землю от бледного сияния звезд. Время от времени ослепительная молния раздирала этот мрак. Тогда на полсекунды твердь небесная походила на горящий купол. Потом молния угасла и победоносный мрак казался еще непроницаемее. Под гнетом этой душной атмосферы, цветы и листья испускали упоительное благоухание, носившееся в воздухе, пропитанном электричеством. Это была ночь, исполненная ужаса и любви.
Ночная лампа, стоявшая на геридоне в углу спальни Анриэтты, проливала слабый и неясный свет. Молодая женщина не могла спать. Завернувшись в длинный белый пеньюар и облокотясь на каменную балюстраду балкона, за опущенными шторами, Анриэтта испытывала какое-то странное волнение, какую-то необъяснимую томность. Может статься, без ее ведома, душа ее сладостно предавалась мыслям о любви, сладостным мечтам.
«Боже мой! — думала Анриэтта. — Как жестоки были те, которые устроили мне жизнь скучную и печальную, вместо той счастливой жизни, о которой я мечтала! Как они были жестоки! Как я проклинаю имя, которое ношу! Как я проклинаю этот титул, это звание и это богатство, в которых мне завидуют! Зачем я не дочь бедного крестьянина, неизвестного земледельца! По крайней мере для них счастье возможно! Если они любят, то могут отдать свою жизнь тому, кому отдали душу… Их не бросают в объятия старика, не велят их сердцам умолкнуть и перестать биться; они не слышат, как каждый день низко оскорбляют человека, которого они сделали своим кумиром… Они счастливы! Да! Очень счастливы! Анри, я никогда не буду принадлежать тебе, но моя душа стала твоей навек!.. Тебе отдаю я все мои мысли! Где ты? Зачем Господь не позволил, чтобы ты был возле меня… возле меня беспрестанно? Зачем Бог не позволил, чтобы я была твоей женой… твоей преданной и верной женой? Как я любила бы тебя! как я буду любить тебя! как я люблю тебя!..»
Так думала Анриэтта и мало-помалу углубилась в мечтательность, грустную и нежную. Сердце ее билось неправильно и сильно, грудь тяжело поднималась, шум раздавался в ушах… Волнение ее увеличивалось с каждой минутой, и ей казалось, что давно предвиденное и давно желанное событие осуществится наконец.
Вдруг ей послышался позади легкий шум. Она с живостью обернулась. Граф де Можирон был у ее ног и еще шевелившаяся портьера показывала, каким путем вошел он в комнату. Первым движением молодой женщины было броситься назад с восклицанием удивления и почти ужаса. Горестный и страстный жест Анри удержал ее на месте.
— О!.. Вы… здесь!.. прошептала она.
— Да… — пролепетал де Можирон.
— Как вы осмелились?..
— На что не осмелюсь я, чтобы приблизиться к вам!
— Разве вы не думаете, что можете погубить меня?
— Я не думаю ни о чем, кроме того, что люблю вас… что я упоен… что я без ума… и что умру, если не буду вас видеть…
— Неблагоразумный!..
— Скажите, влюбленный!..
— Но наконец, чего же вы от меня хотите?..
— Слышать вас… смотреть на вас… дышать тем воздухом, которым дышите вы… вот и все.
— Ну! Вы меня слышали… вы меня видели… теперь… — Анриэтта колебалась.
— Теперь? — повторил граф де Можирон.
— Вы уйдете, не правда ли?.. — продолжала маркиза тоном мольбы.
— Уйти?!. — вскричал Анри.
— Да, уходите…
— Уже?
— Так надо…
— Я только что пришел.
— Друг мой, я хочу этого… или лучше сказать, я прошу вас об этом!
— Зачем?
— Могу ли я оставаться с вами одна… ночью?
Произнеся эти слова, маркиза де Рокверд стыдливо завернулась в свой пеньюар. Граф де Можирон, все остававшийся на коленях перед Анриэттой, вдруг встал.
— Если вы меня прогоняете, — сказал он дрожащим голосом, в котором слышались слезы, — я повинуюсь… я ухожу…
И он медленно пошел к двери. Маркиза удержала его.
— Анри… — сказала она слабым голосом.
Граф де Можирон остановился.
— Разве мы расстанемся таким образом?.. — спросила молодая женщина умоляющим голосом. — Расстанемся… вы — раздраженным, а я — с сердцем, полным и моим горем и вашим!
И она протянула графу де Можирону руку, которую тот не взял.
— Как!.. — вскричала Анриэтта с отчаянием. — Как! Вы раздражены против меня до того, что не берете руки моей!
— Прежде, — прошептал молодой человек, — вы меня любили… по крайней мере, вы говорили мне это…
Анриэтта не отвечала, но выражение ее глаз, поднятых к нему, дало блистательное свидетельство той любви, воспоминание о которой вызывал граф де Можирон.
— Сейчас, — продолжал Анри, — вы меня спрашивали, чего я хочу, и я ответил: я хочу слышать и видеть вас, вот и все. Анриэтта, не верьте мне, я лгал.
— Лгали? — с изумлением повторила молодая женщина.
— Да.
— Чего же вы хотели?
— Я хотел просить вас, умолять на коленях, отвечать мне… я хотел узнать, жить или умереть должен я… я хотел удостовериться, не сон ли все прошедшее… существует ли у нас будущее… наконец, я хотел знать, любите ли вы меня еще…
Анриэтта задрожала. Страдание ее было очевидно.
— Люблю ли я вас?!. — вскричала она. — Вы знаете, что я не могу, не должна любить вас… Вы знаете, что я принадлежу другому…
— Анриэтта… Анриэтта… — возразил молодой человек с трепетом, — не это хочу я слышать и не это должен узнать от вас! Зачем говорите вы мне о долге?… Зачем вы говорите мне о другом?.. Я спрашиваю вас, любите ли вы меня еще?.. Отвечайте… отвечайте: да или нет?..
Анриэтта колебалась. Страшная борьба происходила в душе ее между долгом и любовью. Она хотела бы отвечать: «Нет… нет, я вас не люблю»… но не могла и потому молчала. Граф де Можирон думал, что эта нерешимость и это молчание служат очевидными доказательствами, что прошлое, как он сказал, могло быть только сном. Горькое и непритворное отчаяние было написано на его чертах.
— Прощайте, — прошептал он, — прощайте… Не бойтесь ничего от меня, Анриэтта… На этот раз я удалюсь, и вы не увидите меня более никогда…
Произнося эти слова, Анри во второй раз пошел к двери. На пороге он обернулся и прошептал прерывающимся голосом:
— Анриэтта… когда меня не станет, не забудьте моего имени и молитесь иногда за того, кто вас так любил…
— Боже мой!… — вскричала молодая женщина, испуганная тоном Анри. — Боже мой! Какое у вас намерение?..
— Скоро узнаете… — пролепетал граф де Можирон.
— Вы помышляете о смерти, не так ли?
— Это правда… — отвечал Анри после минутной нерешительности. — Я не могу жить, если вы меня не любите…
Побежденная отчаянным тоном, каким были произнесены эти слова, маркиза де Рокверд не сопротивлялась более увлекавшей ее страсти. Она поняла, что надо было прежде всего спасти Анри от гибельного намерения, которое влекло его к самоубийству, что надо было во что бы то ни стало остановить его на краю пропасти. Любовь у женщин часто принимает вид преданности. Они охотно губят себя, чтобы спасти других… О, дочери Евы, нет ли иногда немного эгоизма в ваших жертвах?
Анриэтта подбежала к графу де Можирону. Она обняла его взором, в котором смешивались любовь и ужас, потом прошептала, потупив свои большие глаза, наполненные томным пламенем, и вспыхнув от волнения и целомудренного стыда:
— Анри… Анри… не уходите… я вас люблю!..
Граф де Можирон вскрикнул и побледнел, как человек, неожиданно узнавший великое счастье. Но реакция не заставила себя ждать, и скоро Анри заключил в свои трепетные объятия обезумевшую и дрожащую маркизу.
Тут пока должна остановиться наша роль рассказчика.
С этой ночи упоительная действительность сменила для обоих любовников платоническую мечтательность несчастной любви. Эта действительность имела естественные и предвиденные последствия.
Не прошло и двух месяцев как маркиза де Рокверд получила уверенность, внушившую ей глубокую радость, смешанную с ужасом. Она готовилась быть матерью!.. Она готовилась дать тому, кого любила, залог своей нежности! Но как скрыть от маркиза де Рокверда событие, весьма интересное для него, в котором, однако, он так мало участвовал?.. И в случае, если не удастся обмануть его, каковы должны быть ужасные последствия его глубокого и законного гнева?
Таковы были вопросы, которые Анриэтта часто задавала себе в минуты отчаяния и грусти. На эти вопросы невозможно было дать ответа.
Мы сказали выше, что непредвиденные обстоятельства продолжили отсутствие маркиза. Дело по наследству запуталось. Дальний родственник покойного затеял процесс. Маркиз де Рокверд, задетый за живое этим неожиданным препятствием и раздраженный притязаниями, которые считал нечестными, захотел сам следить за процессом. А в Испании, как и во Франции, в ту эпоху, как и ныне, правосудие никогда не действовало быстро. Маркиз написал Анриэтте, чтобы предупредить ее о промедлении, в котором, как мы уже знаем, она утешалась довольно легко. Процесс затянулся, и маркиза де Рокверд начала думать, что, может быть, успеет разрешиться до возвращения мужа. Надежда эта была, однако, обманута.
За два или три дня до родов маркизе принесли письмо, заставившее ее побледнеть и задрожать. Письмо это опередило маркиза одними сутками и уведомило о его приезде на другой день. Это было громовым ударом для Анриэтты.
К счастью, граф де Можирон находился в замке и мог условиться с Анриэттой. Он сначала предложил молодой женщине тотчас бежать с ним в какое-нибудь неизвестное убежище и скрыть на другом конце света их любовь и счастье. Маркиза отказала. Она не решалась подвергнуть свое имя публичному и громкому бесславию. Анри настаивал. Маркиза осталась непоколебима. Ока приняла единственное благоразумное намерение, исполнение которого было возможно, даже легко и представляло надежду на успех. Она притворилась тяжело больной, легла в постель и решилась встать только после родов. Анри должен был тайно привести в замок повивальную бабку, когда настанет роковой час.
На другой день приехал маркиз де Рокверд. Найдя жену больной и в постели, он был горестно удивлен, но ни малейшее подозрение не закралось в его душу. Такой откровенный и благородный характер, какой был у него, подозревает других только в последней крайности и перед каким-нибудь громким и неопровержимым доказательством.
Через три дня после возвращения мужа, Анриэтта поняла по сильной боли, что решительная минута наступила. Через горничную, которой она принуждена была поверить свою тайну и которая была ей предана, она уведомила в Тулузе графа де Можирона. Мы уже знаем, как последний успел привести повивальную бабку в замок Рокверд. Кроме того, мы растолковали нашим читателям, как расположены были комнаты Анриэтты, и сказали, что ее спальня соединялась дверью со спальней маркиза.
Теперь возвратимся к графу де Можирону и Клодион, которые стояли возле болезненного ложа, на котором маркиза де Рокверд терпела страшную боль, тем более, что принуждена была заглушать ее. Несчастная молодая женщина изгибалась, как змея, кусала одеяло, крупный пот струился по ее бледному лицу, и слезы катились из полузакрытых глаз, окруженных синеватыми полосами. Слышно было, как хрустели члены молодой женщины, как трещала кровать. Граф де Можирон закрыл голову обеими руками, чтобы не видеть этой ужасной пытки.
Вдруг Клодион сделала торжествующее движение. Раздался слабый крик, и старуха с ребенком в руках, подошла к графу.
— Все кончено… — шепнула она, — девочка…
— Живая?
— И здоровенькая, как видите…
— А мать?..
— Мать в хорошем состоянии.
— Вы теперь отвечаете за нее?
— Да, если только какое-нибудь непредвиденное обстоятельство не возродит опасности. Величайшее спокойствие необходимо больной… всякое потрясение убьет ее…
Все эти слова были произнесены глухим голосом.
Маркиза сделала знак, что хочет видеть своего ребенка. Клодион подала ей новорожденную. Анриэтта прижала девочку к груди и покрыла ее поцелуями и слезами. Пока она целовала ее, бледные губы ее шептали:
— Бедное дитя, грудь моя не будет кормить тебя… Бедное дитя, нежность матери может печься о тебе только издали… Да не оставит тебя Господь в годы твоей юности, во всю твою жизнь!.. Да не накажет тебя правосудный Бог за преступление, которое совершила я, дав тебе жизнь… Да дарует Он тебе невинность и целомудренную любовь… Да не откажет он тебе, дитя, в счастье, которого мать твоя никогда не знала!..
И несчастная Анриэтта поднимала к небу, которое умоляла, свои прекрасные глаза, смоченные слезами.
Между тем Клодион завернула новорожденную в пеленки. Она растолковала Анриэтте, какие нужно принять предосторожности в следующие дни и потом, желая как можно скорее оставить замок, в котором чувствовала себя не в безопасности, обратилась к графу де Можирону и сказала:
— Мне более нечего здесь делать, граф, а этой малютке нужна кормилица…
— Понимаю, — отвечал Анри, — пойдем…
Девочка, рождение которой мы рассказали, должна была в последствии получить имя Луцифер.
XXVIII. Любовник и муж
Поговорив с Клодион, молодой человек подошел к постели маркизы и встал на колени у изголовья. Среди клятв в вечной нежности, он также поклялся ей посвятить всю жизнь ребенку, явившемуся на свет, умоляя ее позаботиться о своем здоровье из любви к нему и обещал воротиться на следующую ночь. Потом граф сделал знак старухе Клодион, и они оба, он, положив руку на эфес шпаги, а она, держа на руках девочку, вышли из спальни молодой женщины.
В ту минуту, когда граф де Можирон входил со старухой в парк через потайную дверь, он обернулся взглянуть на слабо освещенное окно спальни своей возлюбленной. Странное дело!.. Ему показалось, что вдруг свет в этой спальне уменьшился, как будто какое-то тело встало между лампой и окном. Но как могло такое случиться? Кто в это время мог войти в комнату Анриэтты? Граф де Можирон подумал, что он ошибся, и начал всматриваться пристальнее, надеясь убедиться в своей ошибке. Тщетная надежда… Анри не ошибался. Свет действительно побледнел и вдруг заглушаемый крик, крик тоски и почти агонии, раздался в воздухе и как удар кинжала поразил молодого человека в самое сердце. Он узнал голос Анриэтты. Наверное, какое-нибудь странное, непредвиденное, неожиданное ужасное несчастье совершилось за безмолвными стенами замка. Клодион также слышала и дрожала всем телом.
— Ступайте, — сказал ей Анри резким голосом, который от волнения был едва внятен, — ступайте к карете и поезжайте скорее в Тулузу… Не теряйте ни минуты… бегите… спасите ребенка… Я возвращусь в замок… Я увижусь с вами завтра… Ступайте… ступайте скорее!..
Клодион не заставила повторять два раза это приказание. Она убежала, села в карету и закричала кучеру:
— В Тулузу… Скачите во весь опор… Ваш господин приказал вам приехать как можно скорее… Дело идет о жизни и смерти…
Кучер, убежденный, что старуха действительно передает ему приказания его господина, сильно ударил по лошадям, которые поскакали в галоп, так что карета чуть было не разбилась на неровных камнях дороги. Менее чем через час Клодион вышла из кареты, неподалеку от своей квартиры. Прибавим, что старуха сочла себя в безопасности от всякого последствия только тогда, как заперла свою дверь тройным запором. Ребенок, которого она привезла, жалобно кричал.
Но воротимся к графу де Можирону.
В ту минуту, когда Клодион исчезла за углом первой аллеи, он побежал к замку. Запыхавшись, едва дыша, пробежал он лестницу и портретную галерею и остановился в комнате перед спальней Анриэтты, приложившись жадным ухом к двери. Но он не слыхал ничего… ничего, кроме глухого, быстрого, неправильного шума, который раздавался внутри него и оглушал его, ударяя в виски. Этот шум происходил из его собственного сердца, бившегося вдвое сильнее обыкновенного. Через несколько минут этот, шум утих. Анри, наконец, мог слышать внешний шум; вдруг волосы стали дыбом на голове его: он услыхал страшные слова, поразившие его слух сквозь запертую дверь:
— Его имя… имя вашего любовника… скажите мне его… вы должны сказать… я хочу… скажите мне… или я вас убью…
Голос, говоривший таким образом, голос хриплый, задыхающийся, принадлежал маркизу де Рокверду. Никакого ответа не последовало на это повелительное требование.
— Скажете ли вы?.. — продолжал маркиз голосом еще более громким, еще более угрожающим. — Скажете ли вы, несчастная женщина?!.
Анриэтта молчала. Это молчание было ужасно. Маркиз де Рокверд в бешенстве топнул ногой. Анриэтта болезненно застонала. Потом опять наступило молчание. Может быть, маркиз исполнил свою ужасную угрозу и убил бедную женщину, которая так упорно не хотела говорить?
Граф де Можирон не выдержал. Шатаясь, бледный, как смерть, с глазами, бросавшими пламя, со шпагой в руке, явился он на пороге двери. Какое зрелище представилось ему! Анриэтта, почти умирающая, стояла на коленях посреди комнаты, у ног своего мужа, который сдавил ее правую руку своими обеими руками. Она готова была лишиться чувств, взор ее угасал, голова была откинута назад. Когда молодая женщина приметила Анри, глаза ее раскрылись. Она громко вскрикнула, сделала усилие, чтобы приподняться и подбежала к нему, но силы ей изменили и она упала. Все это произошло гораздо скорее, нежели мы успели написать.
Мы знаем уже, что маркиз де Рокверд был стариком, и отдали справедливость благородству и честности его характера. Прибавим, что его высокий рост и бледный лоб, окруженный прекрасными седыми волосами, придавали его наружности нечто патриархальное. Но в эту минуту он не походил на самого себя: бешенство исказило его черты.
— А! — прошептал он, выпустив руку Анриэтты, — я спрашивал его имя, а вот он и сам… Бог послал его!
И он прямо подошел к Анри и взглянул ему в лицо.
— Вы!.. — закричал он с хохотом, похожим на тот, каким должны были хохотать проклятые в аду. — Вы!.. граф де Можирон!.. Человек, погибший от разврата!.. человек со всеми пороками, человек, осрамивший себя повсюду… любовник самых грязных тварей на улице Рибод!.. Мне надо было бы догадаться!.. Какой другой человек был достоин любви маркизы де Рокверд.
Если бы оскорбление это относилось только к графу де Можирону, оно, может статься, не затронуло бы его, но в то самое время, как оно было брошено ему в лицо, оно поразило Анриэтту в сердце.
— Молчите!.. молчите! — вскричал он в свою очередь с негодованием и угрозой.
Смелость Анри сначала изумила маркиза де Рокверда, но он тотчас же пришел в себя и продолжал:
— Вы осмеливаетесь… подлец!.. Вы осмеливаетесь говорить со мной таким образом?!. вы осмеливаетесь заставлять меня молчать!..
— Да, я осмеливаюсь сказать вам, — перебил его граф де Можирон, — что если есть здесь подлец, то это вы!.. вы, палач этой женщины, вы, гнусный старик, навязавшийся к ней со своей отвратительной любовью и теперь безжалостно убивающий ее.
Белая пена выступила на губах маркиза. Он сделал шаг вперед… поднял правую руку и ударил Анри по щеке. Граф выхватил шпагу, чтобы поразить старика; но тотчас же опустил ее, пролепетав задыхающимся голосом:
— Оружие!.. возьмите оружие и защищайтесь!.. Я не убийца, вроде вас… убийца и палач женщины!..
Маркиз де Рокверд вошел в комнату Анриэтты со шпагой, которая лежала на полу. Он поднял ее и бросился на Анри с бешеной яростью и со всей стремительностью молодого человека.
Начался поединок. Анриэтта лишилась чувств.
XXIX. Суд Божий
К чему описывать еще раз дуэль? Страницы предыдущих глав и так уже наполнены ударами шпаг, которые похожи друг на друга более или менее. Поэтому мы предпочитаем не повторять одного и того же.
Дуэль, подробности которой мы не рассказываем и которая, впрочем, продолжалась всего несколько минут, была выражением того, что в средних веках называли Судом Божьим. Конечно, с точки зрения справедливости и нравственности, право было на стороне маркиза де Рокверда. Как ни извинительны были некоторые обстоятельства для любовников, тем не менее было справедливо, что граф де Можирон был похититель чести, а Анриэтта неверная жена. Господь запрещает преступную любовь, и клятва в нерушимой верности, данная перед служителем Всемогущего, должна оставаться священной.
Совершено было преступление… Наказание было ужасно… но надо преклониться перед приговором высшей воли… Ропот в таком случае был бы также преступлением. Шпага маркиза пронзила грудь графа де Можирона. Удар был так силен, что оружие вышло между плечами. Анри выронил свою шпагу. Поток крови хлынул из груди к губам, остановив слова, которые он хотел произнести. Для него менее чем в секунду прошел целый век страшных мучений. Он чувствовал, что поражен смертельно, понимал, что менее, чем через минуту, он перестанет жить… и думал об Анриэтте… об Анриэтте и о своей дочери!.. о своей любовнице и о своей дочери!.. оставленных на произвол судьбы!.. Что с ними будет, когда его не станет, чтобы защищать одну и заботиться о другой? О! Без сомнения, Господь строг, но Он милосерден, Он справедлив… Всякому человеческому существу он определяет меру страданий, и тем, кто много страдал, Он много прощает.
Не будем же сомневаться, что Господь зачел графу де Можирону эту невыразимую тоску, эту страшную муку, и, когда душа молодого человека вырвалась, наконец, из своей земной оболочки, она явилась перед Судьей снисходительным и готовым простить.
Глаза Анри угасли, кровь брызнула из полускрытых губ. Он упал во всю вышину своего роста, как дуб, срубленный снизу. Послышался слабый и последний вздох — потом все было кончено.
Граф де Можирон умер!
Маркиз де Рокверд, окончив первую часть этой ужасной драмы, с остолбенением и почти с ужасом смотрел на труп молодого и прекрасного графа, распростертый у его ног. Тогда он испугался своего поступка… и пожалел, что отомстил слишком жестоко.
— Ей… — прошептал маркиз слабым голосом, — ей, по крайней мере, я прощу…
И он наклонился, чтобы поднять Анриэтту и положить ее на постель. Старик преуспел Б этом не без труда, потому что по мере того, как гнев проходил, совершенное истощение сменяло искусственную силу, до сих пор поддерживавшую его.
«Какая бледность!.. — подумал он. — О! несчастная женщина! как она должна была страдать!..»
Маркиз дотронулся рукой до сердца жены, ему показалось сначала, что он не нашел того места, где это сердце должно было биться. Он начал искать снова, но напрасно!..
— О, Боже мой! — вскричал он с отчаянием. — Боже мой! Ее сердце уже не бьется!
И рука его все искала, надеясь, наконец, нащупать легкое движение.
Увы! Маркиз де Рокверд не ошибался. Анриэтта уже перестала страдать. Сердце ее больше не билось. Душа ее улетела первая, и душа любимого ею человека только что соединилась с ней!
Вот как объясняется присутствие маркиза в спальне жены, почти в ту самую минуту, когда оттуда вышли Анри и Клодион.
В начале событий, происходивших в спальной маркизы, муж ее спокойно спал. Вдруг он проснулся, и в первую минуту его пробуждения ему послышался легкий шум в комнате жены. Это уходили Анри и Клодион. Маркиз вскочил с постели и подошел прислушаться к двери, но не услыхал ничего.
«Я ошибся», — подумал он.
Но странное и непонятное волнение овладело им. Он чувствовал, что уже не может заснуть в эту ночь, наскоро оделся и подошел к окну, выходившему в парк. Через минуту маркиз ясно увидел мужчину и женщину, быстро удалявшихся от замка по тенистым аллеям, и ему показалось, что он получил в сердце страшный удар. Стало быть, он не ошибся; шум, слышанный им по пробуждении, имел причину: кто-то вышел из спальни Анриэтты. Но кто?.. Этого вопроса маркиз де Рокверд не задавал себе два раза. С непонятной и ужасной ясностью он угадал истину… он догадался, он понял то, что случилось…
Схватив шпагу и побуждаемый адской яростью, он бросился в спальню жены. Анриэтта, увидя его, страшного, покрытого смертельной бледностью, со шпагой в руке, испустила тот крик испуга, который достиг сердца ее любовника. Она бросилась к ногам маркиза и закричала:
— Пощадите… пощадите!..
Читатели знают остальное.
На другое утро в спальне маркизы слуги нашли два трупа: Анриэтты, лежащей на постели и как будто спящей, и Можирона, окровавленного и распростертого на полу.
Маркиз де Рокверд исчез. Непроницаемое покрывало для всех (кроме нас, разумеется) спустилось над событиями этой ужасной ночи. Суд не захотел вмешиваться в это дело, потому что раскрытие тайны зависело от уголовного следствия, в которое пришлось бы запутать знатнейшие имена во всей провинции.
Через год после этого старик, уже одной ногой стоявший в могиле, постригся в доминиканском монастыре в Италии.
Это был маркиз де Рокверд.
XXX. Планы Клодион
Утром после страшных происшествий, совершившихся в замке Рокверд, Клодион, достойная обитательница улицы Рибод, начала искать кормилицу для ребенка, вверенного ей на попечение графом де Можироном. Эти поиски, сделанные искусным образом, имели быстрый успех. Скоро девочка жадно сосала грудь красивой молодой женщины, обещавшей заботиться о ней с такой же нежностью, как о своих собственных детях.
Совершив этот подвиг, Клодион воротилась домой и с нетерпением ожидала графа де Можирона. Мы говорим с нетерпением, потому что Клодион помнила как нельзя лучше то, что, может статься, читатели наши уже забыли, то есть, что ей обещана была графом награда, если все закончится благополучно.
Граф де Можирон не приходил. По мере того, как время проходило, нетерпение Клодион все более и более сменялось сильным беспокойством. Она вспомнила тот страшный крик, который вдруг услыхала в ночной тишине, крик, заставивший графа де Можирона поспешно оставить ее и воротиться в замок. Старуха начала опасаться, не случилось ли какого несчастья. Она опасалась не потому, чтобы у ней было доброе сердце… Ах! Великий Боже! Кто мог бы предположить подобную вещь? Сердце Клодион давным-давно окостенело, если только (а это нам кажется чрезвычайно сомнительным) оно существовало когда-нибудь… Нет, она опасалась, потому что несчастье, случившееся с графом де Можироном, сильно повредило бы ее интересам. Во-первых, из этого произошла бы немедленная потеря обещанной награды; во-вторых, ребенок остался бы у нее на шее и ей пришлось бы очень тяжело, если бы она принуждена была платить кормилице и делать издержки всякого рода по мере того, как девочка стала бы расти. При одной этой мысли холодный пот выступил на всем тощем теле старухи. Однако она все ждала, все еще надеялась.
На третий день до нее донеслись слухи, совершенно искаженные, о страшной драме, разыгравшейся в замке Рокверд. Клодион все поняла и пришла в отчаяние, но внезапная мысль успокоила ее горе.
«То, что случилось через пять минут после моего ухода, могло случиться пятью минутами ранее… — думала Клодион, — и почему знать, осталась ли бы я еще жива? Между тем теперь я жива и здорова, только денег лишилась. Не надо же отчаиваться сверх меры».
Рассудив таким образом, Клодион вышла из дома и отправилась к кормилице с целью объявить ей, что со следующего месяца она не будет уже заботиться о ребенке, и предоставит ей полную свободу отнести сиротку в Воспитательный Дом. Но ее намерения скоро совершенно изменились, и вот по каким причинам.
— Ах, какая красавица будет эта девочка!.. — сказала ей кормилица после первых приветствий.
— Ты думаешь? — спросила старуха.
— Как же не думать?.. Посмотрите, как она сложена!.. Многим вскружит она голову в пятнадцать лет!..
Клодион начала размышлять. Она вспомнила несравненную красоту несчастной молодой женщины, которой помогла в родах. Она вспомнила также, что граф де Можирон слыл во всем краю очаровательнейшим молодым человеком, и сказала себе, что девочка, без всякого сомнения, наследует от тех, которые дали ей жизнь, красоту — ее единственное наследство…
Обдумав все это, Клодион убедилась, что этот брошенный ребенок не может стать для нее причиной разорения, а напротив, еще доставит ей средства достигнуть неожиданного богатства. Только надо было подождать… Но Клодион считала себя еще молодой, и пятнадцать лет казались ей слишком отдаленной будущностью.
Все эти размышления совершенно изменили намерения старухи. Вместо того чтобы велеть кормилице отнести девочку в Воспитательный Дом, Клодион приказала ей окружить ее самыми заботливыми попечениями.
— Но как же нам назвать эту милую малютку? — спросила кормилица?
— Называйте ее Венерой, — отвечала старуха, — это имя принесет ей счастье…
XXXI. Пропала!
Новые планы Клодион были очень просты, и ясно, в какой степени эта превосходная женщина обладала духом спекуляций.
Объяснимся. Во время своей долгой жизни Клодион занималась почти всеми ремеслами. Последнее было самое прибыльное, и вот почему: с одной стороны, скромность Клодион была нерушима и хорошо известна; с другой, совесть ее была очень сговорчива, и наши читатели сами могли убедиться, что повивальная бабка не затруднялась ничем. Поэтому практика у нее была многочисленная и необыкновенно прибыльная. Причина очень проста. Никакой товар на свете не продается так дорого, как совесть, как она ни испорчена. Ничто не покупается так дорого, как сообщничество. Притом скрывающийся порок имеет привычку быть щедрым, и преступление не торгуется, когда хочешь остаться скрытым и, следовательно, безнаказанным. Клодион знала это как нельзя лучше и умела пользоваться случаем. Поэтому она скопила порядочную сумму, которую надеялась еще увеличить. Она знала, что в Тулузе живет много старых, развратных миллионеров.
Теперь можно угадать без больших подробностей, на какого рода спекуляциях основывались будущие планы Клодион. Если бы душа бедной Анриэтты могла видеть из другого мира, какая судьба предназначалась ее дочери, то, конечно, единственный проступок ее жизни был бы достаточно искуплен страданием!..
Прошло четыре года. Маленькая Венера заметно росла. Красота ее и грация развивались с каждым днем и обещали сделаться поистине изумительными через несколько лет.
Клодион, которая по своим занятиям редко бывала дома, оставила девочку у кормилицы, где свежий воздух и свобода быстро развивали ее. Два или три раза в неделю Клодион посещала Венеру. Она приходила в восторг от прелестной девочки, восхищалась ее длинными черными волосами, густыми и бархатистыми, ее крошечным ротиком, эластичной кожей и большими глазами, взгляд которых скоро должен был сделаться непреодолимо пленительным. И старуха потирала себе руки и готова была заранее заказать огромный сундук для своего будущего богатства.
Случай, судьба, рок или провидение часто расстраивают прекрасно задуманные планы. Клодион не рассчитала, что ее может застигнуть смерть. Та явилась неожиданно.
В одно прекрасное утро дверь старухи не отворилась. Она не открылась и на другой, и на третий день. Услужливые соседи выбили дверь и вошли в дом. Страшный запах принудил их отступить. Черви уже истребляли сгнившее тело Клодион. Никто не пожалел о старухе, никто, кроме кормилицы, которая тотчас подумала, что теперь уже некому будет платить за маленькую Венеру. Но кормилица была женщина добрая. Она любила девочку и решилась оставить ее у себя и обращаться с ней точно так же, как со своими собственными дочерьми.
К несчастью для Венеры, это доброе намерение было уничтожено обстоятельствами.
Дом кормилицы находился на самом конце предместья, почти за городом…
В один день Венера, которой в то время было немного более четырех лет, и ее две молочные сестры вышли, по обыкновению, после завтрака погулять в поле. Когда наступил вечер, дети кормилицы вернулись одни. Венеры не было с ними. Кормилица в отчаянии расспрашивала дочерей. Те отвечали со слезами, что они вместе с Венерой бежали до предместья за людьми в красных платьях с золотом, которые били в барабаны и играли на трубах. Люди эти остановились на площади и вошли в дом из холста, откуда вышли с женщинами, одетыми подобно принцессам, и опять начали свою музыку. Большая толпа скоро собралась возле балагана. Девочки были окружены со всех сторон и не помнили, сколько времени оставались тут, разинув рты и вытаращив глаза. Все трое держались за руки. Только настала минута, когда толпа их разделила. Сестры нашли друг друга, но Венеры не было. Они ждали. Венера не приходила. Девочки подумали, что, наверное, подруга не могла отыскать их в толпе и возвратилась домой. Они подождали ее еще немножко и потом, в свою очередь, побежали домой. Они надеялись найти Венеру дома.
Мы знаем, что Венера домой не вернулась. Прошла ночь, прошел еще день. Ее искали, но не находили нигде. Единственное правдоподобное предположение было то, что Венера была украдена цыганами, дававшими представление на площади, но цыгане эти оставили Тулузу в тот же самый вечер, и невозможно было узнать, в какую сторону они направили свои бродяжнические шаги. Притом у бедной кормилицы недоставало денег, чтобы продолжать поиски в более обширном кругу. Она покорилась не без труда, но сохранила в глубине сердца слабую и отдаленную надежду увидеть когда-нибудь свою приемную дочь.
Надежда ее была безосновательна. Последствия доказали это. Венера больше не вернулась.
— Она умерла!.. говорила кормилица через некоторое время. — Она умерла, бедняжка!..
Добрая женщина заказала панихиду за упокой души той, которую кормила своим молоком. Но, увы! она ошиблась! Венера была жива, к несчастью для нее самой, к несчастью для других!..
XXXII. Цыгане
Вот что случилось.
В ту минуту, когда три девочки были разлучены окружившей их толпой, низенький мужчина, бледный, худощавый, с красным носом и глазами, с рыжими волосами, в платье серого цвета сомнительной свежести, в старой пуховой шляпе с широкими полями, подошел к Венере, которая отыскивала глазами своих подруг.
— Здравствуй, малютка… — сказал он ей медовым голосом и с улыбкой на тонких губах, улыбкой, которую хотел сделать ласковой.
Венера, приученная к вежливости своей кормилицей, отвечала с низким поклоном:
— Здравствуйте, сударь…
— Ты здесь одна? — спросил незнакомец.
— Не-ет…
— Верно твоя мамаша пришла с тобой?
Венера покачала головой отрицательно.
— Кто же? — спросил худощавый мужчина.
— Мои сестрицы.
— А!.. Где же они?..
— Вот здесь недалеко.
— Зачем же ты их оставила?
— Не нарочно, я сейчас их отыщу.
— Я провожу тебя… вот, кажется, я их вижу…
— С которой стороны?
— Вон там.
Худощавый мужчина показал налево. Венера снова покачала головой и маленькой ручкой указала направо.
— Они там… — сказала она.
— Ну, пойдем туда… Ты из Тулузы, малютка?..
— Да… из предместья.
— И пришла послушать музыку и посмотреть на шутки мужчин, одетых в красное платье, и дам, разряженных, подобно королевам?
— Да.
— Это тебя занимает?
— Очень.
— Но ты так мала, что тебе не все видно?
— Правда.
— Хочешь посмотреть ближе? Так лучше?
— Очень хочу…
— Ну, так пойдем же.
— Куда?
— Поближе к балаганам… я возьму тебя на руки, и ты все увидишь…
Венера обрадовалась, но тотчас же прибавила:
— А мои сестрицы?
— Как только я поставлю тебя на хорошее место, я схожу за ними и приведу их к тебе. Пойдем же…
Незнакомец взял Венеру на руки, растолкал с этой легкой ношей толпу и скоро дошел до балюстрады. Эта балюстрада мешала публике взойти на платформу, на которой полдюжины шутов, мужчин и женщин, кривлялись и ломались под звуки нестройной музыки. Венера вне себя от восторга не могла наглядеться и наслушаться. Она удивлялась движению, шуму, костюмам, которые находила великолепными, и музыке, которая казалась ей гармонической. Через минуту незнакомец сказал ей:
— Кажется, все это очень нравится тебе?
— О! — вскричала девочка вместо ответа.
— А если бы ты видела…
— Что такое?
— Представление внутри балагана, ты сказала бы другое!
— О! — повторяла девочка.
— Хочешь посмотреть?
— Хочу.
— Ничего не может быть легче.
— Войдем.
— Нас пропустят?
— Конечно, если мы заплатим.
— У меня нет денег…
— У меня есть, я хочу доставить тебе это удовольствие.
Венера захлопала в ладоши с истинным восторгом, но почти в то же время лицо ее помрачнело.
— А сестрицы?.. — прошептала она. — Сестрицы не знают, где я!..
— Как только мы войдем в балаган, я пойду за ними и приведу их к тебе…
— Поскорее же…
Незнакомец снова поднял Венеру и прошел с ней через балюстраду. Потом поднял грубый холщовый занавес и вошел в палатку. Там на деревянной скамейке сидела женщина огромного роста с чрезвычайно раскрасневшимся лицом. На столике, стоявшем возле нее, находились бутылки, стаканы и сахарница. Толстая женщина, казалось, была пьяна и сверх того погружена в вакхические размышления. Приход худощавого мужчины заставил ее поднять голову.
— Это ты, Эшинэ?!. — сказала она.
Незнакомец приложил палец к губам и указал на девочку. Толстая женщина всплеснула руками. Она взглянула на Венеру и вскричала:
— Экая красотка!..
— Не правда ли, милая мадам Рогомм?..
— Сокровище!.. здравствуй, малютка, как тебя зовут?..
— Венера.
— Как?..
Девочка повторила.
— Венера! — сказала в свою очередь толстая женщина. — Как ей пристало это имя!.. Где ты поймал эту прекрасную птичку?.. — обратилась она к Эшинэ.
— На площади, в двух шагах отсюда.
— Молодец!
— Могу похвалиться.
— Одна она?
— Есть сестрицы…
Эшинэ подмигнул и сделал довольно эксцентрический знак. Потом продолжал, делая ударение на каждом слове.
— Сестрицы… за которыми я пойду… слышите ли, милая мадам Рогомм… за которыми я пойду… чтобы показать им представление, как этому херувимчику… Поставьте хорошенько этого прелестного ребенка и берегите как зеницу ока, пока я схожу за другими.
— Будьте спокойны, — отвечала толстая женщина.
Мужчина в сером платье опять подмигнул ей, приподнял холщовый занавес и вышел. Рогомм осталась одна с Венерой. Девочка не совсем успокоилась. Какой-то неопределенный страх овладевал мало-помалу ее душой. Она дрожала, сама не зная почему. Рогомм встала.
— Ну, душечка, — сказала она Венере, — пойдем посмотрим на представление. Но прежде выпьем стаканчик сладенького винца, чтобы освежиться.
— Мне не хочется… — пролепетала Венера.
— Ба! ничего, выпить все-таки можно… вино сахарное!.. очень вкусное…
И старуха положила несколько кусков сахару в стакан, наполненный до половины вином, и влила в эту смесь несколько капель из пузырька, который вынула из кармана. Потом размешала сахар оловянной ложкой и подала стакан Венере, говоря:
— Ну, малютка, выпей-ка попроворнее, потом мы посмотрим представление и подождем твоих сестриц…
Венера взяла стакан. Она не смела не выпить, несмотря на свое отвращение, но как только отпила немного, стакан выпал у ней из рук и она опустилась на руки Рогомм, которая, ожидая этого результата, была готова поддержать ее. Венера уснула.
XXXIII. Украдена!
Когда Венера проснулась от тяжелого и глубокого сна, произведенного сильным наркотическим средством, густой мрак окружил ее. В первую минуту она не поняла своего положения. Ей показалось, что она видит странный сон. Она протянула руки, понять где находится, и заметила, что лежит на куче соломы и сена. Она встала и хотела сделать несколько шагов, но наткнулась на холстинную стену. Она повернулась налево. Рука ее встретила такую же стену. Она пошла вперед. Пространство было свободно шагов на десять. Венера чувствовала, как свежий воздух ударяет ей в лицо. Наконец она достигла края своей тюрьмы и узнала, что находилась в покрытой холстом повозке, которая стояла на большой дороге, возле поляны. Венера робко высунула голову.
Зрелище, достойное карандаша бессмертного Калло, представилось глазам ее. Это был цыганский табор во всем своем живописном беспорядке. Ночь была мрачная. Труппа шарлатанов и акробатов, которых мы видели в Тулузе, расположилась вокруг большого костра, разложенного во рву. Эти разбойники, выйдя из города, сняли свои блестящие костюмы. Они выказывали теперь свои лохмотья с цинизмом и отвратительной неопрятностью! Худощавый мужчина походил на заморенную ласточку. Рогомм — на самую отвратительную колдунью. Ужин шайки приготовлялся в огромном котле, висящем над костром. Оборванные, голодные, отвратительные цыгане, казалось, были веселы и беззаботны. Бутылки переходили из рук в руки. Горящие уголья бросали красный свет на пьяные лица и производили эффект света, как в картинах Рембрандта. Слышались громкий хохот, веселые крики, непристойные песни. Словом, это было зрелище странное, смешное и ужасное.
Понятно, что ребенок в летах Венеры, не мог одним взглядом объять подробности набросанной нами картины. Девочка поняла только ее страшную сторону: чувствовала, что она одна, что она погибла. Она хотела бежать… Но каким образом? Куда? С тем врожденным инстинктом, который часто развивается в детях с преждевременной понятливостью, Венера рассчитала, что Тулуза должна была находиться в стороне, противоположной той, по которой следовала увозившая ее повозка. Она спустилась с этой повозки, решившись бежать по большой дороге до тех пор, пока достигнет дома своей кормилицы. К несчастью, в ту минуту, как нога девочки коснулась земли, платье ее зацепилось за колесо и заставило ее потерять равновесие. Она упала в песок. Шум от ее падения, как ни был легок, привлек внимание акробатов. Рогомм приметила девочку и своим грубым голосом произнесла страшное ругательство. Худощавый мужчина, заменивший синим изорванным балахоном серое платье, подбежал к Венере, поднял ее и притащил к шайке, сидевшей вокруг огня.
— Ну!.. ну!.. куда это ты хотела бежать?.. — сказала с насмешкой толстая женщина.
Венера, сердце которой сильно билось в груди, молчала.
— Я не люблю, когда не отвечают на мои вопросы… — продолжала Рогомм, начиная сердиться, — отвечай же, малютка, или я тебя прикончу…
Венера залилась слезами. Толстая женщина подняла сломанную ветку, валявшуюся около нее, и несколько раз ударила девочку по рукам и по плечам, повторяя:
— Будешь ты говорить?..
— Буду… буду… буду… — пролепетала Венера, рыдая.
— Скорее же! давно пора!..
— Буду… буду… — повторила девочка.
— Что ты хотела делать?
— Бежать.
— Куда?
— В Тулузу.
— Зачем?
— К мамаше… и сестрицам…
Рогомм расхохоталась.
— Придется тебе обойтись без них, — продолжала она, — обойтись без твоей мамаши и сестриц… ты не расстанешься с нами…
Венера сделала движение ужаса.
— Это тебе не нравится? — спросила Рогомм.
— О! — прошептала девочка, — что вы хотите со мною делать?
— Увидишь.
— Прошу вас, сударыня, отпустите меня…
Толстая женщина начала свистеть с насмешливым видом.
— Ну, довольно разговаривать, милочка, — сказала она потом. — Не голодна ли ты? Хочешь поужинать с нами?
Венера сделала отрицательный знак.
— Не хочется ли тебе спать?
Венера покачала головой.
— А! Ты не хочешь ни есть, ни спать… Как тебе угодно… садись в этот ров, малютка, и соси свой пальчик… только помни хорошенько, что, если вздумаешь опять бежать, у нас ноги подлиннее твоих… тебя скоро поймают и тогда я переломаю тебе все кости…
Потом Рогомм повернулась к Венере спиной и перестала заниматься ею. Девочка, дрожа от страха, присела на землю, закрыла голову руками и старалась заглушить, сколько могла, свои рыдания. Через некоторое время, утомленная усталостью, она заснула, несмотря на свое горе.
Утром, когда Венера проснулась, она опять увидела, что лежит на соломе, в повозке, которую медленно тащила пара чахлых лошадей.
Мы скоро узнаем, какая жизнь была предназначена бедной Венере и почему впоследствии она должна была играть роль в странной и гибельной драме.
Конец первой книги.
Примечания
1
Мы знаем как нельзя лучше, что ничто не может быть менее аристократично, чем духи, о которых идет речь; но в ту эпоху, когда происходили рассказываемые нами события, душились до крайних пределов возможности.
(обратно)




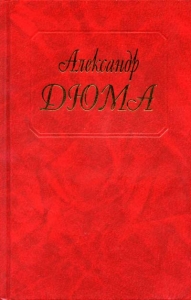

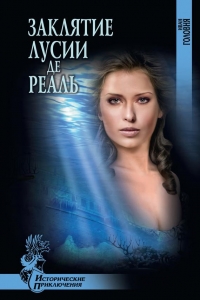

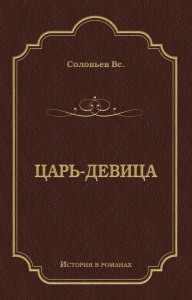
Комментарии к книге «Рауль, или Искатель приключений. Книга 1», Ксавье де Монтепен
Всего 0 комментариев