Вячеслав Каликинский Посол. Разорванный остров
Пролог
— Мишель, я хочу попросить вас кое о чём… Только пообещайте мне две вещи: во-первых, непременно выполнить мою просьбу…
— А во-вторых? — Михаил Берг, во все глаза, словно впервые открывая для себя, глядел на трогательные завитки пепельно-русых волос на тонкой девичьей шее, борясь с желанием протянуть руку и потрогать эти завитки. — Говорите, Настенька, не смущайтесь!
Михаил Карлович Берг, двадцатилетний прапорщик Сапёрного батальона, смотрел на свою невесту Настеньку с нешуточным обожанием. Он был готов исполнить любое её желание. Готовность осчастливить весь мир свойственна всем искренне влюблённым, в эту минуту сердце прапорщика захлестнула волна безудержной щедрости.
Настенька Белецкая искоса поглядела на жениха.
— Во-вторых, вы не должны надо мною смеяться, а самое главное, не думать обо мне скверно. Как о сумасбродке, которая совсем не помнит о приличиях, а только о нарядах.
— Обещаю, Настенька!
— Нет, я и вправду не такая! Честное слово! Но у вас, Мишель, такая оказия, что удержаться просто невозможно! Так обещаете?
— Клянусь!
— Мишель, если вы и вправду, как предполагаете, попадёте нынче весною в Париж, то… Не привезёте ли вы мне кое-что от мэтра Ворта?
— Мэтр Ворт? А кто это, Настенька? Ваш знакомый? Родственник?
Настенька рассмеялась:
— Глупенький… Впрочем, как и все мужчины… Хотела бы я быть родственницей этого Ворта — как и все дамы и девицы Европы, наверное. Нет, мы не родственники и, к сожалению, не знакомы. Мэтр Ворт — знаменитый французский портной английского происхождения. Кутюрье, как говорят в Париже. О нём много пишут в журналах, Мишель… У него в Париже ателье, так и называется — «От кутюр». А шьёт он, как пишут, не только на заказчиц, но и на манекенщиц. Ну, на девиц определённого сложения и телесной конституции, понимаете?
— Пока не очень, Настенька, — хмель от нескольких бокалов шампанского, выпитого Бергом на собственной помолвке, начал выветриваться из головы.
Невеста, мельком глянув на закрытые двери оранжереи, куда несколько минут назад специально утащила жениха, бросилась к нему на шею.
— Мишель, всего одно платье! Привезите мне только одно платье от Ворта, и у вас будет не только самая красивая, но и самая счастливая невеста во всём Санкт-Петербурге! Счастливая и благодарная, Мишель! Ну, пожалуйста! Обещайте мне!
— Ну, разумеется, разумеется — всё что угодно, Настенька! Вот только смогу ли я угодить? — чувствуя, что от запаха волос невесты голова у него снова начинает кружиться, Берг чуть отстранился, шутливо погрозил пальцем. — Помните, я как-то сопровождал вас в «экспедицию» по галантерейным лавкам? Вы тогда, Настенька, какие-то ленты искали или пуговицы… Право, теперь и не вспомнить!
— И что же?
Берг рассмеялся:
— Вы тогда, Настенька, какие-то дамские мелочи два часа искали, всех приказчиков в галантерейном ряду на ноги подняли, покуда нашли… А тут целое платье! Да разве я в дамских платьях хоть что-то понимаю, Настенька? Нет, я, конечно, пойду к этому вашему Ворту, и потребую самое лучшее, не сомневайтесь! Только вот угожу ли?
— Угодите, если постараетесь, Мишель! Во-первых, я дам вам нумер журнала «La mode» с изображением. И снабжу вас. Снабжу вас снятою с меня портновскою меркою — мы ведь уже помолвлены, — это вполне прилично, я думаю, когда жених знает пропорции своей будущей жены, не так ли?
Сохраняя на лице добрую улыбку, Берг представил себя в некоем «дамском царстве», выбирающим нужные фасоны платьев… под насмешливыми взглядами приказчиков и посетителей. Чёрт… Неужто Настенька, такая умная девица, не понимает, что есть вещи, делать которые русскому офицеру просто неприлично? Нет, наверное, не понимает. И не поймёт: услыхала только про Париж, и вся уже мысленно там. Отказывать и возражать, разумеется, нельзя, — возьмёт и вернёт кольцо, с неё станется! Характер-то у моей Настеньки отцовский, железный… Ладно, поглядим…
— Ладно, поглядим, Настенька, — повторил он вслух, снова зарываясь лицом в волосы невесты.
— Обещаете, Мишель? — чуть отстранившись, Настенька подняла голову, требовательно и очень по-детски глядя ему в глаза.
— Слово военного сапёра! — шутливо щёлкнул каблуками Берг.
Военная карьера прапорщика Михаила Берга началась пять лет назад, когда отец привёз юношу в Санкт-Петербург. Баллов при сдаче экзаменов в Инженерное училище для зачисления не хватило, и Карл Берг, недолго сомневаясь, решил: сыну будет только полезно начать познавать службу с самых азов, со школы вольноопределяющихся.
Мише Бергу, не возражавшего против решения семьи определить его, единственного сына, по военной линии, более всего хотелось стать гвардейским офицером. А ещё лучше — гвардейцем-кавалеристом — однако такие расходы для семейства Бергов оказались неподъёмными. И он по примеру деда согласился стать сначала военным инженером. А когда не получилось, то сапёрное дело оказалось самым близким к семейной задумке.
Через два года Михаил Берг закончил школу вольноопределяющихся. Подав рапорт, он добыл себе место командира взвода в 7-й сапёрной роте, направляемой в Туркестан. А ещё через три месяца получил первое ранение в ожесточённой скоротечной схватке под Хивой. За ранением последовала и первая награда, потом вторая.
По завершению Туркестанской кампании Берг некоторое время прослужил при штабе наместника государя, генерала Кауфмана. Однако мирная служба в далёком гарнизоне оказалась молодому подпоручику не по нутру. И он при первой возможности перевёлся в Петербург, а там дождался вакансии в Сапёрном лейб-гвардии батальоне, и в чине прапорщика был зачислен исполняющим должность батальонного казначея.
Мирная жизнь, хоть и в столичном гарнизоне, тяготила молодого офицера. Получив боевой опыт во время Туркестанской экспедиции Кауфмана, он и теперь был готов воевать где угодно и с кем угодно. Тем паче что жалование младшего офицера в мирное время было мизерным, и, даже не играя в карты и не пускаясь во все тяжкие, Берг часто честно делил с денщиком единственную булку с чаем и ложился спать полуголодным.
Большинство прочих младших офицеров из небогатых семей смотрели на такое положение дел философски, делали долги и рыскали по Петербургу в поисках всё новых заимодавцев. Берг долгов старался не делать и подавал рапорты всякий раз, как где-нибудь на окраине империи начиналась военная заварушка. Однако в короткую боевую командировку — снова в Туркестан — удалось вырваться только один раз, да и то на полгода. Вернувшись в батальон, Берг стал ждать новой военной оказии.
Однако новых войн у России пока не предвиделось, и 20-летний прапорщик начал подумывать о женитьбе и неизбежной, как следствие, отставке с военной службы. И тут сама судьба, кажется, пошла ему навстречу: на одном из рекомендованных господам офицерам благотворительных балов Берг был представлен единственной дочери главноуправляющего штабом Корпуса инженеров при министерстве путей сообщения, тайного советника Белецкого, Настеньки.
Отец Настеньки поначалу отнёсся к новому знакомому дочери с прохладной и малоскрываемой иронией и при первом же личном знакомстве затеял технический спор о туннельном строительстве. Однако попытка «срезать» молодого офицера-сапёра не удалась. Михаил Берг смело отстаивал свою точку зрения, а немного погодя по почте прислал Белецкому вырезки из журнальных статей, подкреплённые собственными расчётами. Приятно поражённый технической эрудицией молодого офицера, Белецкий стал всячески поощрять углубление знакомства своей единственной дочери, а позже, убедившись в серьёзности намерений молодого человека, твёрдо обещал будущему зятю, после его выхода в отставку с военной службы, достойное место в министерстве путей железнодорожного сообщения.
Словом, партия намечалась вполне достойная. Единственное, что смущало Берга — то, что его собственное семейство было отнюдь не богатым. И будущий брак с дочерью владельца огромных поместий и, как оказалось, крупного акционера в золоторудной промышленности, мог породить досужие сплетни о «женитьбе на деньгах». Но судьба и тут пошла ему навстречу: зимой отошедшая в мир иной тётушка Берга сделала его наследником вполне достаточного состояния.
И вот ранней весной 1874 года у Михаила Берга и Настеньки Белецкой состоялась помолвка. Свадьбу было решёно сыграть по старорусскому обычаю, в декабре. А пока у прапорщика Берга случилась неожиданная, но приятнейшая командировка: командир батальона князь Кильдишёв назначил его и ещё двух офицеров в сопровождение на лечебные воды в Швейцарию команды выздоравливающих раненых. Сопровождающим было неофициально разрешено использовать недельный отпуск для поездки в Париж. Узнав об этом, Настенька не смогла удержаться и немало озадачила жениха необычным своим поручением, от которого было никак невозможно отказаться!
Глава первая
Ранней весной 1874 года небольшой отряд всадников прибыл в Кагосиму, проделав длинный путь из новой столицы Японии, Токио. Пешие воины, сопровождавшие всадников, бежали впереди кавалькады и разгоняли с пути кланяющихся простолюдинов — ремесленников и торговцев.
У ворот огромного дома военного министра страны Сайго Такамори, год назад вышедшего из правительства, но сумевшего сохранить за собой пост главы военного ведомства, небольшой отряд задержался ненадолго: стража министра была заранее предупреждена об этом визите и получила приказ встретить гостей с почтением.
В покои военного министра, впрочем, вошли только двое из приезжих — министр финансов Окуба Тосимити и самый влиятельный член кабинета министров от клана Тосо, Сасаки Такаюки. Слуги отвели их в помещение для гостей, усадили за низкий столик, женщины-прислужницы начали угощать их чаем. По принятому обычаю, помещение было практически пустым. Кроме столика, в комнате было лишь китё[1]. Примерно через час, сочтя отдых приезжих достаточным, Сайго пригласил их на свою половину. Здесь после церемонии приветствий хозяин дома и его гости вновь очутились за низким столиком, возле которого тут же засуетилась молчаливая прислуга.
Дав гостям немного подкрепиться и выпив с ними несколько чашечек саке, Сайго наконец с еле уловимой долей иронии поинтересовался:
— Как здоровье Тэнно[2]?
— Император жив и здоров, Сайго-сан. Он по-прежнему проводит почти всё своё время в окружении своих фрейлин[3], неутомимо пишет весьма посредственные стихи, пьёт вино франкских варваров, а по утрам, мучаясь от последствий неумеренного винопития, пытается заниматься селекцией новых сортов японского ириса.
Хозяин скривил губы в лёгкой усмешке и кивнул: он услышал от гостей то, что и хотел услышать. Чего ещё было ожидать от этого полукровки, прижитого прежним императором Комэем не от законной супруги-императрицы, а от одной из своих наложниц[4]? Божественности происхождения молодого императора это, разумеется, не убавляло, но почти всегда давало повод позлословить.
— Что же нынче привело вас, уважаемые Окуба-сан и Сасаки-сан, в моё скромное жилище?
Гости переглянулись, помолчали, потом, согласно этикету, начал говорить более влиятельный и богатый выходец из клана Сацума, Окуба Тосимити:
— Как вы знаете, Сайго-сан, у нового правительства много дел и забот. Кровавые клановые распри, крестьянские бунты породили в стране голод. Нынче войска, по минованию в них надобностей и для экономии казённых средств, распущены по домам, а воины пополнили число голодающих. По всей Японии бродят шайки вчерашних солдат. Они убивают и грабят, что ещё больше возмущает население против нового правительства.
— Уважаемый друг, зачем вы мне всё это рассказываете? Неужели вы полагаете, что, сменив столицу на тихое сельское убежище, я живу здесь с плотно зажмуренными глазами и заткнутыми ушами? Генерал Курода Киётака ещё осенью прошлого года показывал мне меморандум, который собирался представить нашему юному императору. Генерал — смелый человек: он не побоялся указать императору на катастрофическое положение в стране. В своём меморандуме он прямо заявил, что нынешние реформы не способствуют созданию могущественного государства, перечислил имена десятков высших чиновников, живущих в непозволительной роскоши в то время, когда их крестьяне голодают. Мало того: чиновники нового правительства пренебрегают своими прямыми обязанностям, проводят время в праздности и развлечениях. Это вызывает ненависть к правительству и порождает разочарование в самом императоре, недоверие к его планам и новым реформам. Скажите, Окуба-сан, вы сами-то знаете, сколько насчитывается нынче бунтующих селений и целых провинций?
— На сегодняшний день мы имеем сведения о более чем восьмидесяти бунтах, вспыхнувших с весны прошлого года, Сайго-сан. Но и это ещё не все наши беды, высокородный господин! Англия, Франция и Голландия требуют незамедлительно возврата долгов, порождённых навязанными ими же кабальными торговыми договорами с нашей бедной страной. Миссия Ивакуры Томоми в Европе и Америке провалилась: их аргументы против неравноправных договоров не были даже услышаны! Ваш план военной экспедиции в Корею император и те, кто подобострастно заглядывает ему в рот, отверги. К тому же Россия, как вы помните, Сайго-сан, категорически отказалась пропустить наши войска к границам Кореи через свою территорию. Отказалась — хотя мы прямо заявили их посланнику, что только в этом случае вопрос о принадлежности Северного Эдзо может быть решён в их пользу. Именно по этому поводу мы и прибыли к вам нынче, Сайго-сан!
— Вот как? — усмехнулся министр. — Но я не любитель вести какие бы то ни было переговоры, неужели вы забыли об этом?
— Мы уверены в вашей прямоте и несгибаемости, высокородный! Однако переговоры по принадлежности Северного Эдзо позволят нам добыть одной стрелой сразу двух журавлей, Сайго-сан!
— Вот как? — снова усмехнулся хозяин дома.
— Да, именно так! — с жаром закивал Окубо Тосимити. — Как вы знаете, начало этих переговоров наше правительство оттягивает уже много лет. И откладывать их далее уже невозможно. В конце концов, неурегулированный территориальный вопрос начинает мешать и Японии!
— Тогда почему наш министр иностранных дел Соэдзима просто не купит этот остров по примеру Америки, купившей недавно у России Аляску? — захохотал Сайго. — Он не единожды предлагал это России, насколько я знаю!
Гости мимолётно переглянулись: министр явно начал резвиться.
— Россия никогда не принимала подобных предложений от него всерьёз, Сайго-сан! Там не хуже нас знают, что у Японии просто нет денег на подобную сделку! Какой остров — мы не можем нынче позволить себе заказать в Америке или Голландии даже пары пароходов! Откровенно говоря, Сайго-сан, — Окубо доверительно понизил голос. — Откровенно говоря, лично мне переговоры по этому острову кажутся излишними! Мы можем с помощью западных держав просто продолжить его колонизацию. Россия на своих восточных рубежах слишком слаба, чтобы противостоять нам в этом! Тем не менее переговоры скоро начнутся!
Сделав паузу, Окубо Тосимити многозначительно замолчал. И военный министр клюнул на эту наживку! Выпив ещё чашечку саке, Сайго деланно вздохнул:
— По-видимому, я и впрямь засиделся в провинции и перестал что-то понимать в политике. Вы утверждаете, что переговоры не нужны, но собираетесь их начать. Позвольте узнать — для чего?
— Для того чтобы использовать сам факт переговоров в нашу пользу, Сайго-сан! Решение уже принято, и теперь министру внешних связей надлежит представить императору на утверждение имя человека, который должен отправиться в столицу северных варваров, чтобы провести переговоры по принадлежности Северного Эдзо. Посланник оросов[5] в нашей стране нервничает и теряет терпение, — тонко улыбнулся Окубо Тосимити.
— Какое мне дело до нервов и терпения этого чужестранца? — Сайго пожал плечами и коротко глянул на прислужницу, замершую с кувшинчиком саке в ожидании знака. Женщина тут же грациозно опустилась на колени и с поклонами снова наполнила чашечки гостей тёплой японской водкой.
— Разумеется, Сайго-сан, вам нет и не может быть до этого дела. Я сказал вам, что сам факт переговоров, как путь решения давнего территориального спора может принести немалую пользу нашей партии. Я буду совершенно откровенен: как вы знаете, Сайго-сан, ситуация в стране пока не в нашу пользу, и любая попытка отстранить от власти императора Мацухито с помощью военной силы обречена на провал. По крайней мере, в ближайшее время, — поспешно поправился Окубо. — Но то же самое можно сделать и руками северных варваров, оросов, на будущих переговорах с ними.
— Вот как? До сих пор оросы, в отличие от американцев и французов, ведут с нашей страной весьма сдержанную, подчеркнуто уважительную политику. Они не посылают к нашим берегам свои военные корабли, не заставляют Японию под дулами своих пушек заключать унизительные для неё соглашения. Неужели этот остров, Северный Эдзо[6], имеет для них столь огромное значение? Я не раз видел карту Российской империи: их страна столь огромна, что небольшой остров в форме рыбы выглядит рядом с империей как маленький воробей, сидящий на ветвях векового дуба…
— Ценность и значение Северного Эдзо определяется для оросов не его размерами, достопочтимый Сайго-сан. Что же касается Японии, то одни только рыбные промыслы этого острова имеют огромное значение для японских крестьян. Оттуда, с севера, в нашу страну поступает почти треть рыбного тука, столь ценного для высоких урожаев риса. Кроме того, на Северном Эдзо есть огромные запасы угля. Но дело, повторяю, даже не в этом. И не в чисто военном, стратегическом значении острова.
— Тогда в чём же?
— Как вы знаете, Сайго-сан, наше правительство до сих пор не может определиться с кандидатурой посланника к оросам. Япония слишком бедна людьми, знакомыми с нравами и обычаями Европы, имеющими необходимые знания в области международного права. Мы слишком долго находились за бамбуковым занавесом, отделяющим нас от остального мира варваров, Сайго-сан!
— И что же в том было плохого, Окуба-сан?
— Разумеется, ничего! — поспешно согласился гость. — Самоизоляция нашей страны в прошлом может сыграть нам на руку и нынче, и в будущем!
— Выражайтесь яснее, Окуба-сан! — начал терять терпение военный министр.
— Слушаюсь, высокородный! — гости, синхронно привстав, глубоко поклонились. — Мы почтительнейше просим вас, Сайго-сан, рекомендовать императору назначить полномочным посланником к оросам хорошо знакомого вам Эномото Такэаки.
Если военный министр и удивился, услышав это имя, то виду не подал. Скорее наоборот: он меланхолично и чуть заметно кивнул, словно услышанное совпало с его ожиданиями, и взялся за хаси[7]. Подцепив ими сочный кусок жаренного на вертеле угря, хозяин положил его в рот, пожевал и откинулся на пятки, уперев чуть согнутые руки в бедра.
Эномото Такэаки, Эномото… Конечно, ему было знакомо это имя! Второй сын в семье хатамото — самураев, приближённых сёгунами дома Токугавы к себе за доблесть. Наличие в семье первенца, по древним законам, существенно ограничивало второго сына в правах наследования на титул и имущество, ему приходилось рассчитывать только на себя. И 17-летний Такэаки отправился из родного Эдо в Нагасаки, где поступил на учёбу в военно-морскую школу, открытую там голландцами. Едва закончив её, он тут же получил приглашение преподавать там же — уже в качестве сансея, учителя своих вчерашних сверстников. А вскоре Эномото в числе небольшой группы способных молодых мореплавателей был направлен в Голландию, где прежнее правительство Бакуфу заказало военный пароход, первый в Японии. Стажёрам вменялось не только наблюдать за ходом постройки и вникать в секреты голландских корабелов, но и постигать многие незнакомые в Японии европейские науки. Через шесть лет стажёры с триумфом вернулись в Японию на борту военного парохода, названного «Кайё мару», и Эномото тут же получил его под своё начало вместе с чином капитана первого ранга и постом заместителя министра военно-морского флота.
Карьера молодого самурая, казалось, стремительно пошла в гору, но вскоре столь же стремительно завершилась. Верный правительству Бакуфу и клану сёгуна Токугавы, Эномото при реставрации власти императора примкнул к его противникам, поднял мятеж и увёл «Кайё мару» и семь вспомогательных кораблей на Эдзо. Туда же начали стекаться сторонники сёгуната. Остров вполне реально мог стать не только мощным форпостом оппозиции императорской власти, но реальной угрозой этой власти…
Задумавшийся военный министр отправил в рот второй кусочек угря и, наконец, чуть приподнял тяжёлые веки в сторону гостей:
— Этот Эномото, захватив Эдзо, но проиграв битву при Горёкаку, должен был, как истинный самурай, с почётом уйти из жизни. Однако он предпочёл позор суда и тюремного заключения. Это выше моего понимания, Окуба-сан! Вернее, вне моего понятия о долге и чести самурая. Его лишили воинского чина и всех привилегий, полагающихся его сословию. И теперь вы, Окуба-сан, советуете мне рекомендовать императору его кандидатуру для назначения его полномочным послом? Воистину, император может подумать, что его военный министр, предлагая такое, просто сошёл с ума…
— Новые времена требуют новых решений, Сайго-сан! этот Эномото, что ни говори, один из самых образованнейших японцев и единственный в нашей стране человек, знакомый с международным правом европейских держав!
— Пусть так, Окуба-сан! Хотя, по моему убеждению, никакие знания и заслуги не оправдывают позора самурая, забывшего законы предков. Наверное, всему виной долгое проживание вне Японии, среди варваров. Пусть так — но ведь в глазах императора Эномото всё равно продолжает оставаться вчерашним мятежником, государственным преступником. Если бы не заступничество генерала Курода Киётака, он был бы давно казнён! Эномото, как мне помнится, отбыл в тюрьме три года, и вышел оттуда опять-таки благодаря заступничеству генерала! Тэнно, разумеется, молод и неопытен. И к тому же пьёт слишком много франкского вина, а напившись, только и делает, что гоняется с расстёгнутыми штанами за фрейлинами. Однако даже такой легкомысленный мальчишка вполне способен сообразить, что вчерашнего мятежника и государственного преступника лучше держать подальше от столицы — вот его и отправили на Эдзо, управляющим этой далёкой провинции. Нет, вряд ли у нашего императора достанет ума послать Эномото представлять интересы Японии у варваров!
Помолчав, Сайго бросил на гостей испытующий взгляд:
— Разумеется, я помню, Окуба-сан, что, уведя практически всю эскадру на Эдзо и захватив остров, Эномото, как и подобает преданному вассалу клана Токугавы, почтительно предложил ему и этот остров, и его семитысячный гарнизон. А Токугава, разумеется, отказался — но не из великого почтения к мальчишке-полукровке, как вы понимаете! Затея Эномото была изначально безнадёжной. У Эдзо, как независимой территории, просто не было будущего. Да, мне по душе такие люди, как Эномото — за его верность. Но как моя рекомендация будет расценена в Токио? Во дворце сразу начнут шушукаться о том, что Сайго сошёл с ума, раз просит за человека из враждебного клана! Или, наоборот: станут гадать — какие тайные замыслы у меня в голове? И откажут мне только потому, что почуют подвох! насколько мне известно, на должность посла в Россию намечено назначить советника Саву Набуеси…
Сасаки Такаюки бросил на министра финансов быстрый взгляд и подался вперёд, выражая готовность внести в трудный разговор и свою лепту. Окуба еле заметно кивнул, и Сасаки быстро и убеждённо заговорил:
— Инициатива назначить послом Эномото будет исходить от генерала Курода, и этому никто не удивится. Все знают, что именно Курода, разгромив гарнизон под предводительством Эномото, попросил императора помиловать бунтовщика. А позже, по ходатайству Курода, тот вышел из тюрьмы и получил пост управляющего на Эдзо. Никто не увидит ничего странного и в том, что старик, питающий к Эномото поистине отеческие чувства, попросит за него в третий раз. А вы, высокородный Сайго-сан, проявите государственную мудрость, поддержав своего старого друга генерала Курода: ведь этот Эномото, как уже было сказано, нынче один из самых образованных японцев! Что же касается Савы Набуеси, то он очень болен. И не сможет поехать в Россию.
Военный министр задумчиво кивнул, но вертикальная морщинка между его бровей пока не разгладилась. Едва удостоив Сасаки мимолётного взгляда, он обратился подчёркнуто к финансисту:
— А мы не забываем о самих оросах, Окуба-сан? Допустим, меня и генерала Курода услышат во дворце. Но ведь правительство оросов никогда не согласится вести переговоры государственного значения через посредство мятежника и государственного преступника, чудом сохранившего голову на плечах!
— Что касается оросов, то они, как и прочие иностранные варвары в нашей стране, ничего не знают о прошлом Эномото! Я специально наводил справки, Сайго-сан: нынче в Японии нет ни одного иностранного дипломата, который был бы свидетелем мятежа Эномото! А также последующих событий разгрома мятежников, императорского суда и заточения Эномото в тюрьму. И выпущен он был оттуда без всякого шума: в огласке помилования бунтовщика не был заинтересован ни император, ни генерал Курода, ни сам Эномото. Он тут же уехал на Эдзо, и в столице с тех пор не появлялся. Дипломатический представитель России Бюцов-сан прибыл в Японию через два года после событий, о которых вы упоминаете. В это время Эномото сидел в Токийской тюрьме.
— У нас в стране очень мало оросов! — задумчиво кивнул Сайго Такамори. — Во всяком случае, по сравнению с другими варварами — франками, англичанами и немцами. Насколько мне известно, почти никто из них не знает японского языка, наших обычаев и нравов. К тому же оросам запрещено посещать частные японские дома и водить знакомство с местным населением.
— Желание оросов как можно скорее решить пограничный вопрос с Японией столь велико, что вряд ли они будут копаться в прошлом назначенного императором посланника, Сайго-сан! Их царь и правительство будут готовы принять посланника Страны восходящего солнца с верительными грамотами и печатями нашего императора, кого бы наш император ни назвал!
— Но если прошлое Эномото всё-таки всплывёт, это будет позор для Японии!
— Не для Японии, Сайго-сан! — Окуба Тосимити наклонился вперёд и впился глазами в лицо военного министра. — Не для Японии! Это станет позором для императора Мэйдзи и страшным оскорблением для царя оросов! В этом и состоит наш план, Сайго-сан!
Щёточка густых усов военного министра дрогнула: он позволил себе чуть заметно усмехнуться:
— Ах вот как… Мы посылаем с важной миссией в Россию помилованного мятежника, а в разгар переговоров русский император узнаёт, что принял верительные грамоты с подписью Мацухито из рук государственного преступника. Забавно. И как же, по вашему, поступит в таком случае русский император?
— Он неминуемо сочтёт себя и весь царствующий дом оскорблённым, Сайго-сан. Посланник, скорее всего, попадёт в русскую тюрьму и, может быть, его даже казнят за оскорбление царствующего дома. Ну а сами переговоры по Северному Эдзо неминуемо будут сорваны, вопрос будет снят на много лет, а Япония тем временем продолжит колонизацию острова. Возможно, даже с помощью заклятых врагов оросов, англичан. Что же касается Мацухито, то…
— Понимаю. Наш глупый мальчишка-император в результате разразившегося международного скандала потеряет лицо и будет дискредитирован перед всеми европейскими правительствами. И мы можем воспользоваться этими событиями.
— Вы схватываете всё на лету, высокородный! — Окуба Тосимити снова привстал и поклонился.
— Что ж, замысел действительно неплох, — кивнул военный министр, глядя поверх голов своих гостей. — Остаётся убедить в необходимости такого назначения нашего императора. Он знает о тяжкой болезни советника Савы?
— Разумеется. Он очень скоро умрёт, если уже не умер. Мы не сомневаемся Сайго-сан, что император прислушается к вашему мнению. Эномото, повторю, действительно один из самых образованных японцев. И ваш голос в поддержку идеи генерала Курода Киётака непременно сыграет свою роль. Во всяком случае, всё будет выглядеть именно так!
— Курода посвящён в ваши планы?
— Разумеется, нет, высокородный! Ему осторожно подскажут эту идею. Он сочтёт, что новое высокое назначение вернёт Эномото окончательное доверие и благорасположение нашего императора.
— Что ж… Давайте завершим нашу трапезу, не отвлекаясь более ни на что. Потом вы отдохнёте, а вечером я вам дам свой окончательный ответ…
* * *
Русский консул и поверенный в делах Кирилл Васильевич Струве, сменивший в Японии в январе 1874 года прежнего посланника Бюцова, получил от министра иностранных дел Российской империи Горчакова самые недвусмысленные указания: ни в коем случае не вмешиваться во внутренние дела Японии и постараться как можно скорее добиться полного доверия японского правительства. В Токио действительный статский советник и гофмейстер прибыл с полномочиями возобновить переговоры по Сахалину и сразу же озвучил русскую позицию по этому вопросу. Разграничение острова и сухопутная граница «поперёк» Сахалина не сможет предотвратить участившиеся конфликты между японскими и русскими колонистами. Сразу отверг Струве и японскую идею морской границы по Татарскому проливу — как ущемляющую интересы России в плане выхода русского флота в Тихий океан и защиты русских дальневосточных окраин.
Консул был готов к новому витку затягивания, однако буквально на второй встрече с японским министром внешних связей был весьма ошарашен неожиданным заявлением о намерении Японии продолжить переговоры. Но не здесь, а в… Санкт-Петербурге.
— Соседство наших держав диктует необходимость установления дипломатических отношений на постоянной основе. Мы намерены предложить вашему правительству обменяться посольствами в самое ближайшее время. А вопрос по Северному Эдзо, или, по-вашему, Сахалину, пусть будет первым в дипломатическом диалоге наших стран.
Об этой японской инициативе был немедленно извещён Горчаков. Возразить против такого предложения было нечего, хотя многомудрый канцлер немедленно просчитал «подстрочный» текст этой новой инициативы.
— Желание направить в Россию Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии можно только приветствовать, ваше величество! — докладывал министр иностранных дел Александру Второму. — Однако, перенося переговоры по Сахалину в столь далёкий от них Петербург, японцы, без сомнения, рассчитывают на дальнейшее затягивание этого вопроса. Судите сами, ваше величество: вряд ли японские дипломаты согласятся обмениваться секретными телеграфными депешами со своим правительством по проводу, проложенному по российской территории. А письма с нарочными — два-три месяца в один конец…
— Твою озабоченность я понимаю, светлейший, — Александр поощрительно улыбнулся стареющему любимцу. — Да что тут ещё поделать? Не отказываться же от установления полноценных дипломатических отношений.
— Оно так, ваше величество…
— Не переживай, Александр Михайлович! Я не сомневаюсь: здесь, в Петербурге, ты сумеешь взять японского посла в такой оборот, что все пограничные вопросы на наших восточных рубежах будут решены к полному нашему удовлетворению. Вспомни русскую поговорку, светлейший: в своём доме и стены помогают! Кстати: Струве не сообщает о кандидатуре японского посланника?
— На сей счёт ничего не известно, ваше величество. Кирилл Васильевич Струве предполагает, что имя Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в России ему назовёт микадо. Высочайшая аудиенция уже назначена.
— Ну а как ты сам полагаешь, князь?
— Не знаю, что и сказать, ваше величество! Из прежних докладов и донесений наших агентов и посланников в Японии можно сделать вывод о том, что с дипломатическими кадрами у них скверно. Страна долго жила в условиях самоизоляции: сами никуда не ездили и чужестранцев не жаловали. Японцев с европейским образованием вообще по пальцам пересчитать можно — причём, ваше величество, на сие достаточно будет, полагаю, и одной руки. Да и тех, кто вообще бывал в Европе, немногим больше. Преимущественно моряки — этим, скрепя сердце, разрешали покидать страну.
— Значит, могут назначить к нам кого-то из европейских посольств, — задумчиво кивнул Александр. — Перевести, скажем, со вторых ролей на первую!
— У них и в европейских державах с посольствами и консульскими учреждениями негусто, ваше величество. Англия, Франция, Голландия, Пруссия, Португалия — вот, пожалуй, и всё!
— Не приведи господи, из лондонского посольства кого перебросят, — император тяжко вздохнул. — Уж там-то перед назначением англичане проинструктируют и обработают его так, что волками взвоем тут…
— Поживём — увидим, ваше величество! — Горчаков, по-старчески хрустнув коленными суставами, тяжело поднялся с кресла и поклонился. — А засим, государь, прошу отпустить душу на покаяние. И так вне вашего расписания к вам напросился.
— Не кокетничай, светлейший! — засмеялся Александр.
— Ты же знаешь, что я всегда рад тебя видеть!
* * *
Струве, как и предписывал этикет поведения перед лицом божественного императора Мэйдзи, не поднимал глаз на застывшую в неподвижности в кресле фигуру. Что не помешало ему, получив из рук государственного министра Главной палаты правительства Японии свиток с тяжёлыми печатями на витых шнурах, отрицательно покачать головой:
— Ваше императорское величество! От имени моего императора выражаю вам глубокую признательность за быстрое решение вопроса о кандидатуре Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в России. Однако, ни в коей мере не сомневаясь в выборе его императорского величества, всё же позволю себе заметить, что его императорское величество Александр Второй вряд ли сочтёт возможным для себя принять верительные грамоты посла из рук простого капитана первого ранга военно-морских сил Японии. Этикет царствующего дома Романовых требует более высокого чина для посланника.
Мацухито по-прежнему молчал, и вместо него вновь заговорил государственный министр:
— Господин посланник, я уже сообщил вам о том, что в Табеле о рангах военно-морских сил Японии чин капитана первого ранга является наивысшим!
— Весьма сожалею, господин государственный министр Главной палаты. Позволю себе высказать убеждение, что нынешняя очевидная недостаточность Табеля о рангах, упомянутого вами, наверняка продиктована молодым возрастом военно-морских сил Японии. До сей поры у вашей страны не было нужды в адмиралах и генералах. Однако поверьте, господин государственный министр, что Японии, уверенно входящей в новую эру своей истории, не сегодня-завтра потребуется пересмотр этого Табеля. Что же касается моего монарха, то я вынужден настаивать на соблюдении его чести, а также на требованиях этикета, принятого при дворе его императорского величества.
— Похоже, мы упёрлись в неразрешимую проблему, господин посланник! — государственный министр заметно побагровел от наглости этого северного варвара и, казалось, лишь усилием воли сдерживал гнев. — Ваша аудиенция закончена, господин посланник!
Отвесив поклон, посланник, не поворачиваясь к императору спиной, сделал несколько шагов назад, чтобы на краю невысокого помоста, ещё раз поклонившись, развернуться и уйти прочь.
В этот момент, пребывавшая в неподвижности фигура императора Мэйдзи шевельнулась, и государственный министр, уловив это движение, поспешно повернулся к микадо всем телом.
— Ну почему же неразрешимую, господин государственный министр? — голос императора, которому нынче исполнилось всего 22 года, был до сих пор по-юношески ломок, а тон несколько смущён. — Посланник великой России, мне кажется, прав. Рано или поздно нам придётся подумать о том, что Японии нужны и адмиралы, и генералы. Почему бы нам не решить эту проблему сейчас, в преддверии решения более важных и насущных проблем, стоящих перед страной?
— Но, Сумера Микото[8]…
Император встал, сделал несколько шагов вперёд, и, взявшись обеими руками за рукоять меча у пояса, слегка наклонил голову в сторону посланника.
— Сейчас вы можете идти, господин посланник! Однако заверяю вас, что мы подумаем над вашими словами. Вы получите исчерпывающий ответ не позднее завтрашнего дня!
В полдень следующего дня русский консул и поверенный в делах был вновь вызван во дворец, где ему, уже в отсутствии императора, было вручено именное повеление микадо о присвоении Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии Эномото Такэаки чина вице-адмирала военно-морских сил Японии.
Уже в коляске, отъезжая от дворца, Струве слегка дотронулся полученным от императора свитком пергамента до колена, сидящего напротив секретаря:
— А что, Иван Никодимыч, тебе так ничего и не удалось узнать об этой персоне? Как его — Эно-мо-то Та-кэа-ки, — по складам прочёл французский перевод императорского указа посланник. — При дворе его величества микадо такового вроде не значится…
— А чёрт бы этих япошек разбирал, ваше высокопревосходительство! — со злобинкой тут же отозвался секретарь. — Простите, конечно, на худом слове. Второй день бьюсь — да почти без толку! Происхождения Эномото, конечно, самого благородного, из здешних дворян — по-ихнему самураев. До нынешнего назначения был управляющим целого острова на севере Японии, Эдзо — они теперь называют его Хоккайдо. В молодости был первым в выпуске здешней Голландской школы мореходов, потом шесть лет изучал в Европе разные науки. В Японию вернулся дублёром голландского капитана на борту построенного там парохода, получил чин капитана первого ранга и должность товарища министра военно-морского флота в прежнем правительстве Бакуфу. А в новом правительстве — управляющий островом. Губернатор, ежели по-нашему, по-российски рассудить…
— Из товарищей министра да в губернаторы самого отдалённого острова? Хм… Это, Иван Никодимыч, больше похоже на почётную ссылку, — заметил консул и поверенный в делах, постукивая свитком по кончику своего носа. — Впрочем, при смене правительств такое чаще всего и происходит. А что говорят о нём наши друзья-голландцы?
— Те тоже ничего не знают, — вздохнул секретарь. — После падения правительства Бакуфу и реставрации императорской власти прежние голландцы из Японии съехали. Стали, как вы изволите выражаться, здесь «персонами нон грата» — поскольку помогали ихнему сёгуну. А которые вновь понаехали — те ничего не знают.
— Ну, да и бог с ним, с этим Эномото! — махнул рукой посланник. — Как-никак, вице-адмирал новоиспечённый… Авось теперь уж министр двора его императорского величества, граф Адлерберг не станет носом крутить! Но ты, Иван Никодимыч, всё ж поузнавай, поразнюхивай насчёт личности этого посланника!
* * *
Через четыре дня после объявления русскому посланнику имени будущего Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии правительственный гонец высадился на берег Хоккайдо и потребовал у смотрителя порта быструю лошадь и провожатого до резиденции правителя острова. Согнувшись пополам при виде короткого бронзового жезла с вензелем императора, смотритель немедленно выполнил распоряжение посланца.
Уполномоченному Эномото Такэаки гонец передал два свитка, один из которых был опечатан личной яшмовой печатью императора Мэйзди, а второй нёс на себе оттиск фамильного перстня члена кабинета министров правительства, генерала Куроды Киётака.
В императорском свитке сообщалось, что милостью императора Мэйдзи уполномоченному Эномото Такэаки возвращался воинский чин капитана первого ранга. Ему было приказано немедленно прибыть во дворец для получения нового назначения. Курода в своём послании столь же немедленно призывал Эномото явиться к нему для важного разговора — причём прежде, чем ко дворцу императора.
Не прошло и часа, как Эномото, наскоро оставив распоряжения своему ближайшему помощнику — он полагал, что его отсутствие продлится не более недели, максимум двух, — отправился в новую столицу Японии, Токио. Он ещё не знал, что Токио — лишь отправная точка его нового пути через полмира. И что его разлука с Японией продлится долгих четыре года, и что никогда более он не вернётся на поросшие травой холмы острова Эдзо-Хоккайдо.
Генерал Курода жил, что называется, на два дома — в столице и на Хоккайдо, вверенном его заботам и попечению. По линии кабинета министров он занимался заселением острова, освоением его природных богатств. Своего бывшего противника на поле боя, а впоследствии протеже и правую руку Курода Киётака принял в своей столичной резиденции, и тут же предложил Эномото прогуляться по аллеям обширного сада, обнесённого высоким каменным забором.
Мужчины не спеша шли по засыпанным белым ракушечником дорожкам, ещё хранящим сырость и холод минувшей зимы. Время цветения сакуры ещё не пришло — лишь набухшие почки на чёрных ветвях обещали скорое пышное торжество природы. Эномото в традиционном скромном наряде самураев — только без мечей у пояса — с ненавязчивым любопытством поглядывал на начальника, одетого в новом для Японии стиле — в партикулярную европейскую одежду.
Здесь, в саду Курода, и сообщил Эномото новость о великой милости императора — назначении его Чрезвычайным и Полномочным Послом в Российскую империю. Второй новостью было то, что вместе с назначением Эномото получал невиданный доселе в стране чин вице-адмирала военно-морских сил Японии.
— Знает ли император о том, что среди множества европейских наук, постигнутых мною в Голландии, не было искусства дипломатии, сансей? — почтительно осведомился у высокопоставленного собеседника Эномото.
— У вас светлая голова, Эномото-сан. Светлая голова и кровь ваших благородных предков в жилах — это сочетание поможет вам преодолеть все трудности на вашем новом пути.
— Я буду стараться оправдать ваше доверие, сансей! Ведь именно вы, полагаю, назвали императору моё имя?
Курода Киётака покачал головой:
— Ваше имя назвали императору другие люди. Я лишь присоединил к ним и свой голос.
— Могу ли я поинтересоваться, досточтимый Курода-сан, кто были эти другие люди?
— Предложение назначить вас послом исходило, я слышал, от военного министра Сайго Такамори, а также от Окубо Тосимити.
Ничем не выдав своего недоумения, новоиспечённый дипломат поклонился, благодаря старого воина за откровенность. Оба высокородных аристократа, названные Куродой, были злейшими врагами сёгуна Токугавы, ради которого он, Эномото, и поднял вооружённый мятеж против императора. С чего бы им оказывать великую честь и доверие тому, кто вполне мог сломать их собственные судьбы?
Словно прочитав мысли Эномото, Курода ободряюще улыбнулся:
— Весна приходит и после злых зимних морозов, Эномото-сан! Вы должны гордиться тем, что даже враги отдают должное знаниям, полученным вами в Европе. Да и я, по чести говоря, не знаю в Японии человека более образованного, чем вы. Образованного и готового отправиться с труднейшей миссией в Россию.
— Благодарю вас за оказанную мне честь, сансей!
— Теперь вам надлежит отправиться во Дворец императора, где государственный министр Главной палаты вручит вам верительные грамоты для передачи русскому царю. А после возвращайтесь, я сведу вас с министром внешних связей: он даст вам исчерпывающие инструкции для переговоров с русскими. Позже вы познакомитесь с переводчиком и ещё с одним человеком, который отправится вместе с вами в Россию.
— Этот переводчик, конечно, хорошо знает русский язык?
— Наверняка знает, — пожал плечами Курода. — Насколько мне известно, лейтенант флота Уратаро Сига изучал этот язык во время стажировки на русских кораблях, которые периодически наносят в наши воды визиты вежливости и обозначают здесь военное присутствие и интересы России.
— Если вы помните, сансей, я свободно изъясняюсь на немецком, фламандском и французском языках, — помолчав, осторожно заметил Эномото. — А в России, насколько мне известно, французский язык едва ли не второй государственный.
— Тем не менее это приказ, Эномото-сан! Вы отправляетесь с переводчиком Уратаро. А приказы, как вам известно, не обсуждаются, а выполняются.
— Можете не сомневаться в моей преданности, сансей! — Эномото глубоко поклонился собеседнику, и, помедлив, продолжил. — Особенно если это ваш приказ…
— Приказ о назначении лейтенанта Уратаро Сига тоже отдал не я, — покачал головой Курода. — Тоже самое могу сказать и о секретаре посольства, лейтенанте Асикага Томео. Вот он русского языка не знает, это я знаю доподлинно. Но высокому начальству, как говорится, виднее! Да и какая, в сущности, разница?
— Вы правы, сансей: никакой разницы! — ровным голосом, не выдавая волнения, ответил Эномото.
Ему было о чём поразмышлять. Нежданная милость императора, да ещё с подачи старого врага клана, Сайго Такамори. И неизвестно откуда взявшийся секретарь посольства, который толком не знает языка страны, куда они направляются — причём приказ о его назначении тоже, скорее всего, отдал Сайго Такамори либо его ближайшие приспешник в Европу…
* * *
Реакция японского правительства на решение императора о начале переговоров с Россией и назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла была довольно вялой. Гораздо большее оживление вызвала неожиданная проблема с мундиром первого в истории Японии вице-адмирала. Министры, словно сговорившись, сотворили из этой проблемы то, что более легкомысленная Европа назвала бы балаганом. Один за другим на заседаниях правительства представлялись эскизы обмундировки будущего посла — причём всякий раз большинством голосов представленные проекты благополучно проваливались. В столице возник необычайный спрос на художников и портных, от которых требовалось изобрести достойный Японии мундир её первого вице-адмирала.
Оживлённую дискуссию и перепалки по этому поводу прервало только категорического заявление капитана итальянского коммерческого судна, на котором посол должен был отправиться в Европу.
Это было последнее судно, отправившись на котором до сезона штормов посол мог попасть в Россию в оговорённый срок. Не слишком считаясь с традициями и обычаями Японии, капитан-итальянец заявил, что судно выходит из Иокогамы 10 марта — с послом или без него.
Против обыкновения, капитану не пригрозили последующим «отлучением» от стоянки в японских портах. Более того, с его доводами согласились и даже поблагодарили за «содействие» в решении вопроса, имеющего принципиальную позицию для Японии. 10 марта 1874 года Чрезвычайный и Полномочный Посол и двое его сопровождающих заняли предназначенные им каюты на коммерческом судне и отбыли из Японии. Правительство же, словно позабыв о каждодневно декларируемым им же принципе экономии, приняло решение о доработке эскизов мундира и последующей их посылке вслед за послом на самом быстром в стране военном клипе.
Глава вторая
Ветер с Неаполитанского залива беспрепятственно проникал в покои генерального консула, но тут же запутывался в тяжёлых шторах, пытался надувать их пузырём, прорывался в анфиладу комнат через неплотно прикрытые двери, окна, и по-над полом. Вместе с ветром с улицы в консульство проникал обычный уличный шум и пронзительные голоса бродячих торговцев, бесконечные перебранки местных обитателей, визг и громкий смех окрестной ребятни.
Эта шумная неаполитанская «симфония», ненадолго стихавшая на несколько часов лишь за полночь, за два года пребывания Спиридона Ивановича Дендрино на посту штатного генерального консула в Итальянском королевстве, стала ему привычной и ничуть не мешала ни работе, ни сну. Скорее уж наоборот: частенько Спиридон Иванович ловил себя на том, что тревожно просыпается от тишины, воцаряющейся в квартале обычно в предрассветные часы.
7 мая 1874 года он проснулся в обычное время — большие напольные часы в корпусе красного дерева прохрипели-отзвонили четверть восьмого утра.
Вставать нынче генеральному консулу не хотелось: накануне почти до часу пополуночи он провёл в голландском посольстве на приёме, устроенном в честь рождения очередного члена королевского дома. Спиридону Ивановичу до смерти надоела эта бесконечная череда приёмов — то чужих, то своих, устраиваемых по протоколу — однако деваться было некуда: служба такая! Слава те господи, что резиденция голландского посланника было совсем рядом, неспешным шагом минут десять ходу. Так что, улизнувши при первой возможности от голландцев, Дендрино быстренько добрался до консульства и добрую пару часов посвятил работе над вечерней почтой, прибывшей из России.
Почта была, как обычно, весьма обильной. Помимо циркуляров и указаний родного начальства, в том числе от Горчакова, в ней содержалась уйма бумаг из римской канцелярии русского посланника, а также требований, прошений и доношений от прочих департаментов, министерств, учреждений как итальянских, так и из далёкой России. Хватало хлопот и с местными делами: то русские моряки подерутся в порту с местными забулдыгами или полицией, то очередной купчина окажется после весёлой ночки без бумаг, удостоверяющих его личность. Более осторожные в дамском вопросе русские негоцианты часто попадали под завораживающее «пение» местных мошенников, и тогда бежали к консулу со слезливыми жалобами и просьбами дать хоть на обратную дорогу.
В общем, жизнь у консула скучной никак нельзя было назвать. Настолько нельзя, что иной раз Спиридон Иванович, сорокапятилетний мужчина, ощущал себя глубоким старцем, которому в жизни ничего, кроме покоя, да долгих неспешных размышлений о бренности всего на свете, не мило.
Вот и сегодня, проснувшись в привычное время, он вдруг ощутил непреодолимое желание опять зарыться в простыни и попытаться уснуть часика на два-три — с тем, чтобы проснувшись, более никогда не сыскать на обширном консульском столе неразобранных бумаг и ждущих немедленного ответа писем и требований.
Увы: чудес на свете не бывает — особенно таких, на казённой ниве. Никуда проклятые бумаги со стола не исчезнут, разве что число их увеличится.
А тут и за дверями спальни раздался привычный грохот, тут же сменившейся визгливой тараторью перебранки на два голоса — мужского и женского. Спиридон Иванович вздохнул, со злостью обшарил глазами тумбочку — чем бы швырнуть в дверь, а лучше в бедовую головёнку прислужника из местных? Кинул портсигар, но в дверь не попал, портсигар мягко ударился в тяжёлую штору и почти беззвучно скользнул на паркет.
Перебранка за дверью затихла, удаляясь. Потом снова что-то грохнуло, и в спальню просунулась лохматая шевелюра прислужника Серджио.
— Доброе утро, сеньор! — как ни в чём ни бывало улыбнулся во весь щербатый рот Серджио, показывая объёмистый кувшин. — Сеньору пора вставать и умываться, я принёс воды!
Прислужник был откуда-то с севера Италии, и его трескучий диалект консул понимал иногда с трудом.
— «Воды принёс!» — передразнил Спиридон Иванович, садясь в постели. — А я-то подумал, что в доме целый конский обоз стукотит… Тебе, сын своей итальянской мамы, сколько раз говорить, чтобы по утрам поаккуратнее был? Что там опять разбилось?
— Конский обоз? Что вы, сеньор! Откуда в приличном доме возьмутся кони? — захлопал глазами Серджио. — Это только южане держат в своих хижинах ослов, чтобы их не украли соседи. Да и то сказать — не в таком большом городе, как Неаполь, а в своих горных деревнях…
— Помолчи! Что там, за дверью, разбилось опять, спрашиваю?
— Ничего, сеньор! Почти ничего, клянусь! Просто Луиза, ваша горничная, начала уборку и порасставляла везде свои проклятые тазы! Одного я не заметил и наступил в него. И зачем вы держите эту пустоголовую Луизу, сеньор? От неё только шум и суета в приличном доме!
Неумолчно тараторя, слуга мыкался по спальне, пытаясь одновременно удержать в руках кувшин с водой, фаянсовую лохань для умывания и низкий пуфик.
Сейчас что-нибудь уронит. Спиридон Иванович, в ожидании неизбежного, втянул голову в плечи. Так и есть — фаянсовая лохань выскользнула из-под руки горе-прислужника и разлетелась тысячью мелких осколков. На шум из коридора тут же явилась горничная, и, уперев руки в бока, разразилась длинной язвительной тирадой в адрес всех северян-неумех вообще и дуралея Серджио в частности.
Консул потянул на себя простыню и со стоном зарылся лицом в подушку. Сколько раз говорить этой бестолочи, чтобы не смела заходить в спальню, пока сеньор не оденется и сам не позовёт её!
— Серджио! — глухо, через подушку, закричал консул. — Серджио, негодяй! Луиза! Порко мадонна! Если через пять минут в спальне не будет убрано, а я не смогу умыться, выгоню всех слуг к чёртовой матери! И замолчите, ради бога! Молча! Молча убирайте!
Несмотря на всю эту суету и шум, к девяти с половиной часам утра консулу удалось не только привести себя в порядок, но и разобрать всю вчерашнюю почту. Заложив в бювар последний циркуляр, Спиридон Иванович Дендрино откинулся на резную спинку неудобного деревянного кресла и от души расхохотался. Нет, что ни говори, а в его итальянской службе была какая-то изюминка! Некий перчик — да разве сравнить со службой где-нибудь в скучной российской канцелярии! Шумно, суетно — зато жизнь чувствуется!
Не удержавшись, он поделился этой мыслью с зашедшим в кабинет с докладом старшим письмоводителем консульства Пирожниковым.
Пётр Евсеич Пирожников служил в заграничном учреждении пятый год, и службою своей был премного доволен. Ежегодно, в день именинницы Евдокии, свояченицы, выхлопотавшей ему сие место, он не забывал заказывать о её здравии молебен в местном православном приходе.
Должность старшего письмоводителя при консульстве в Неаполе была хоть порой и суетливой, но не лишённой приятности во всех отношениях. Шестьсот рубликов годового жалования, треть которого выплачивалась швейцарскими франками и не подлежала обязательному налогообложению, пятнадцать дней оплачиваемого казною ежегодного отпуска с компенсацией проездных сумм до любого указанного в рапорте города в России, либо в Европе, выплата лечебных пособий. Кроме того, в ежемесячном табеле на выплаты было несколько приятных всякому рачительному человеку пунктов, вроде непредвиденных трат на писчебумажные и почтовые расходы, оплата извозчичьих и курьерских, и, конечно, самый приятный и весьма «гуттаперчевый» пункт «представительских» трат.
Не нахальничай, блюди разумную меру, не разевай алчно рот на всё подряд — и артельщик-кассир посольства, не слишком вдаваясь в детали, аккуратно выплатит пятого числа каждого календарного месяца всё, что подпишет к выплате генеральный консул Дендрино.
А уж про то, что служба в любом заграничном российском учреждении была гораздо либеральнее и проще для души, чем в чопорном и ревнивом к чинопочитанию Петербурге, и говорить не приходилось! По неписанной мидовской традиции, штат всякого заграничного учреждения почитался некоей семьёй — с главою, разумеется, — но главою непременно либеральной, просвещённой и далёкой от старорежимных деспотических замашек.
Нет, бывали, конечно, и исключения в виде своих доморощенных самодуров-«отцов», нервической атмосферы всеобщего подсиживания, доносительства и «семейных иуд-доносителей». Такие учреждения были на слуху, тамошние вакансии заполнялись трудно и долго, а коэффициент полезности нехороших мест столь низок, что высокое петербургское начальство, как правило, довольно быстро обращало на сие непотребство своё снисходительное внимание и принимало исчерпывающие меры к исправлению ситуации.
Хвала Господу, генеральное консульство в Неаполе никогда не отличалось по этой линии! Оттого и весь его невеликий штатный персонал прилагал все усилия к тому, чтобы так продолжалось как можно дольше.
Вот и нынче, выслушав не слишком новое и совсем не оригинальное высказывание «папы Дендрино», старший письмоводитель Пётр Евсеич Пирожников солидно, без панибратских понимающих ухмылок кивнул, и, помедлив самую малость, коротко взглянув на «папу», присел у приставного стола в кабинете консула. Вслед за этим он водрузил на полированную поверхность и аккуратно выровнял перед собой принесённые папки разных цветов.
— О чём речь, Спиридон Иваныч! Ежедневно молитвы кладу Господу нашему, что сподобил меня на службу за рубежами благословенной нашей Руси!..
Чиновный этикет непременно полагал бы после сего обязательную славословицу в адрес начальника самого учреждения. Типа: «…да, под вашим многомудрым и отеческим покровительством, ва-ше высокопревосходительство!» Однако такой моветон в адрес генерального консула был совершенно неуместным? и оттого остался неозвученным.
— Ну, что там у нас нынче, Пётр Евсеич?
— Все обычное, ничего сверхординарного, Спиридон Иваныч! — письмоводитель ловко разложил перед консулом десятка полтора перебеленных штатным писарем писем — русскому посланнику в Риме, начальникам департаментов МИДа в Санкт-Петербурге.
Пробежав глазами ровные строчки стандартных ответов, генеральный консул поставил на каждой бумаге размашистую подпись и выжидательно поглядел на Пирожникова:
— Всё, что ли?
— Никак нет, Спиридон Иванович! — письмоводитель достал из последней папки два листа, один пододвинул консулу, второй придержал перед собой. — Изволите ли видеть, Спиридон Иваныч, это последняя телеграфная депеша от русского консула из Порт-Саида. Насчёт прохода каналом итальянского коммерческого корабля «Сирена», на коем плывёт назначенный микадо Чрезвычайный и Полномочный японский посланник. Как вы должны помнить, его сиятельство светлейший князь Горчаков весьма обеспокоен сроком прибытия этого японца в Петербурге. И предвидит немалые хлопоты с возможным изменением августейшего расписания дел нашего государя. Министр Двора его императорского величества граф Адлерберг извещает, что государь, пребывающий нынче в Европе, намерен пробыть там до конца мая. Но японский посланник, скорее всего, прибудет в Петербург раньше…
— С чего ты взял, что непременно раньше, Пётр Евсеич? — консул пробежал глазами депешу. — Из Порт-Саида корабль вышел третьего дня, стало быть, к нам прибудет либо сегодня к вечеру, либо, скорее всего, завтра. Недельку положим на отдых посланника — почти два месяца в море, не шутка! И дён восемь-десять на сухопутное путешествие отсюда до Петербурга — через Австрию, Швейцарию, Берлин. Ну-ка, посчитай, Пётр Евсеич! Аккурат к концу мая и прибудет посланник в нашу столицу богоявленную!
— Не знаю, не знаю, Спиридон Иваныч! — в сомнении покрутил головой письмоводитель. — Вы на наш с вами аршин сего японца изволите мерить, на сухопутный. А ведь он вице-адмирал, к морю привычен, ему полтора-два месяца качки да болтанки на волнах — тьфу! Это я бы, Спиридон Иваныч, после такого плавания на четвереньках с корабля сполз, да с полмесяца в себя приходил.
Генеральный консул ещё раз проглядел депешу, слегка нахмурился:
— Что-то мне твоё настроение не нравится, Пётр Евсеич! Или не всё говоришь, или накручиваешь что-то в головушке своей бедовой, а? И чего ты, к примеру, молчишь о втором японском корабле, что за нашим посланником явно гонится? Только карандашом красным отчёркиваешь нужные места в депешах? Кайся, грешник!
Выговаривая письмоводителю с показушной суровостью, консул меж тем внутренне подобрался: Дендрино был дипломатом и никогда не забывал об этом. Дипломат — это, прежде всего, подозрительность. Подозрительность и недоверие. Доверчивый и доброжелательный дипломат — нонсенс! Таких не бывает — случаются, конечно — но очень ненадолго. Себя к таковым Спиридон Иванович не относил.
Подозрительность, недоверие, а ещё способность ничему и никогда не удивляться. И в первую очередь — неожиданным порой, как гром с ясного неба, маневрами и поворотами «главнокомандующих» дипломатического ведомства. Впрочем, какая уж тут неожиданность, ежели даже безусым и без всякого опыта новичкам в дипломатии известно, что самый важный элемент в международной политике — личные чувства, симпатии и антипатии монархов!
И ещё каждый дипломат должен быть актёром. Непременно актёром! Спиридон Иванович Дендрино не видел в этом ничего постыдного — более того, эту роль он исполнял с большим тщанием и даже некоторым удовольствием.
Роль добродушного и снисходительного «папы», главы консульского учреждения, давалась ему легко и без лишних угрызений совести. Ежемесячно подписывая табеля на выплату жалования служащим, он без особых усилий видел практически в каждом из них лёгкие, ненахальные хитрости, дописки, а то и откровенные приписки. Лукавым припискам в пределах разумного он порой дивился, и делал пометки в особой тетрадочке, но служебного хода этим записям не давал — зачем, ежели казною подобные выплаты и расходы предусмотрены? Почему бы им и не иметь места в житейском быту?
Спрашивается — а зачем тогда по каждому пустяку служебные проверки учинять, время и казённую бумагу переводить? Спроси кто у Спиридона Ивановича об этом, он бы, наверное, объяснился так: что до пометок — так ведь жизнь длинная. И судьбы людские непредсказуемы. Сегодня полтора рубля человек припишет, а завтра, уверовав в начальническую слепоту — и на полсотни рот раззявит. Правда, этаких алчных мздоимцев генконсулу за время его службы не попадалось — видимо, сказывался всё-таки строжайший кадровый отбор при заполнении служебных вакансий в заграничных учреждениях. Да и место этакое терять, разумеется, не хотелось никому.
Да что там финансовый пригляд!
Актёром приходилось быть практически во всех своих служебных ипостасях. Взять, к примеру, тот же итальянский период дипломатической стези Спиридона Ивановича. Казалось бы — повезло! Тихая такая (в смысле международных скандалов пока, тьфу-тьфу) страна, практическое отсутствие здесь вездесущих, разбежавшихся из России по всей Европе доморощенных отечественных революционеров и бомбистов. Не сравнишь с той же Францией, ставшей европейским гнездовьем русского вольнодумства и антиправительственной деятельности.
Да и сами итальянцы — ну, легкомысленный с виду народ! Бесхитростный, лёгкий — а поди-ка! Про то, что Россия не сразу, а только через год после объединения Италии в единое королевство эту державу признало, только ленивый здесь, как оказалось, не помнит! И при итальянском монаршем дворе частенько россиянам сей грех припоминают, и министерские чиновники ядовито щурятся всякий раз, как с законною просьбою посланник либо консул обратятся. Англичанам да германцам — тем сразу: prego! А как до России — непременно палец многозначительно поднимет, скажет: unna faccia, unna razza[9]. Нет, чтобы другую свою поговорку вспомнить, как её… Franza o Spagna, purché se magna[10].
Вот и приходится актёрствовать, балансируя, всей мимикой, паузами в разговоре подчёркивать: милый, bello mio, да нешто это я такой толстокожий? Служба обязывает, знаете ли! Государь мой повелел повременить, вот я и того… А лично я Италию всегда обожал! Обожал и преклонялся! Боже упаси — не вслух всё это, конечно! Мимика, жесты… Чтобы не оказаться для своих fessi, а для итальяшек furbo[11]. И ведь, скажи-ка на милость, не только одни высокие министерские чины про российское промедление помнят и поминают — дурень Серджио, слуга, и тот консулу как-то попенял этим. Вот и скажи после этого, что arrangiarsi[12] дуракам недоступно!
— Так что там с японцем нашим? — повторил свой вопрос консул.
— Да ничего пока! — развёл руками письмоводитель. — Я к тому клоню, что замыслы этого азията нам доселе не ведомы. А что до японского же клипера, который, по сообщению нашего консула в Японии, вполне очевидно за своим же посланником гонится, тут и вовсе ничего угадать заранее невозможно, Спиридон Иваныч! Вот, извольте поглядеть сами депеши: в Коломбо клипер зашёл через неделю после выхода оттуда «Сирены» с посланником. В Порт-Саиде клипер уже всего на сутки с коммерческим судном разминулся. Надо думать, здесь, в Средиземном море, он его непременно догнал. А зачем — один бог знает японский! Может, японский император решил сменить посланника ещё до его прибытия в Россию. Может, инструкции к будущим переговорам решили обновить — непременно узнаем всё, Спиридон Иваныч! Сами изволите говорить: не сегодня-завтра итальянское коммерческое судно ждут здесь, в Неаполитанском порту. Вот и всё сразу станет ясно…
— Ясно пока, что ничего неясно! — буркнул консул. — И вообще: до Японии ли какой-то нам нынче, когда с Европой да турками разобраться не можем. Впрочем, наше с тобой, Пётр Евсеич, дело петушиное: прокукарекал, а там хоть и не рассветай! Желает светлейший князь Горчаков отследить маршрут японца — отследим!
— Вот и я про то! — поддакнул письмоводитель.
— Только вот что, Пётр Евсеич: ты к себе когда возвращаться будешь, пригласи-ка ко мне вице-консула Назимова! Сергей Николаевич хоть в наших делах и новичок, а долгое время на Дальнем Востоке плавал, в Японии бывал неоднократно. Может, прояснит как-то ситуацию с этой погоней!
— Слушаюсь, Спиридон Иваныч! — поклонился письмоводитель, собирая свои папки и бумаги.
— Да, и вот ещё что, милейший, — голос Дендрино построжел. — Подай-ка сургуч, Пётр Евсеич! Занесёшь сию записку по известному тебе адресу…
Консул быстро набросал несколько строк, помахал бумагой, просушивая чернила, и запечатал в конверт, наложив на клапан личную печать.
— Лично занесёшь! — консул счёл нужным напомнить старшему письмоводителю. — В дверь не звони, всё одно никто не откроет — бросишь письмо в прорезь для почты.
— Понимаю-с! — поклонился Пирожников. Убедившись, что на конверте отсутствует адрес доставки, он счёл уместным уточнить. — Заштатному нашему консулу изволили написать?
— Ему, — коротко завершил разговор консул. — Ступай, не мешкай!
Выпроводив письмоводителя, Дендрино вышел на балкон, затенённый полосатыми маркизами, и закурил сигару. Настроение у него явно испортилось — и было от чего!
Заштатный русский консул в Неаполе звался Георгием Артуровичем Гартманом, и в формуляре консульского персонала числился негоциантом и представителем швейцарского торгового дома с труднопроизносимым названием.
Институт заштатных консулов при российских дипломатических представительствах зарубежом был делом обыденным. Не получая жалованья, заштатные консулы пользовались тем не менее дипломатическим иммунитетом за оказываемые ими российскому флагу «услуги торгового и представительского» свойства. Довольно часто услуги «заштатников» были весьма специфичными и отнюдь не торговыми и представительскими. Истинную сущность этой категории «заштатников» в дипломатических кругах знали лишь консул и посланник в стране пребывания, остальной персонал только догадывался, да держал язык за зубами.
Гартман был агентом Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии. Числился, как и прочие его коллеги-жандармы, по Военному министерству, но имел при этом прямое подчинение товарищу министра внутренних дел, ведающим политическим сыском в России и за рубежом. Главной задачей Заграничных отделений была, разумеется, политическая составляющая — всемерный пригляд за разбежавшимися по Европе откровенными революционерами и опасно мыслящими субъектами. Однако циркулярами за подписями двух министров — внутренних и иностранных дел — консульской службе и заграничным резидентам охранки предписывалось «взаимопонимание и тесное сотрудничество» по самому широкому кругу вопросов, имеющих для России жизненно важные интересы.
Дендрино знал, что в распоряжении неаполитанского агента, или, правильнее назвать, резидента заграничной охранки имеется несколько рядовых сотрудников наружного наблюдения — в основном из местных. Что Гартман имеет тесные связи с местными же частными сыскными агентствами и бюро. Догадывался консул и о том, что итальянская резидентура занимается не только наружным наблюдением, но и обязательно имеет нескольких специальных агентов для внедрения в интересующий Третье отделение круг лиц и тайных организаций.
Дипломат и резидент охранки близко не сходились, однако время от времени встречались, обменивались различными сведениями и услугами. Именно эти встречи более всего и раздражали Спиридона Ивановича совершенно бессмысленной, на его взгляд, конспиративностью. Вот и нынче, когда пришло время «негоцианту» оказать отечеству небольшую услугу, приходилось действовать в строгом соответствии с инструкциями и наставлениями Гартмана. Протелеграфировать нельзя, даже указать в посланной записке место встречи тоже никак невозможно… Добро бы шла речь о страшном заговоре, либо о визите инкогнито в Неаполь отечественных монарших особ. Тьфу, пустяк — а попробуй, отступись от установленных правил!
Время встречи надобно было указывать на два часа позднее истинного. С местом встречи и вовсе смех: указываешь любое, а идёшь в очередное по заранее согласованному с резидентом списку мест рандеву. Ну-ка, посмотрим, куда нынче нелёгкая понесёт?
Консул погасил сигару, вернулся в кабинет и достал из сейфа загодя присланный Гартманом список. Последний раз они встречались в здании Торговой биржи — значит, сегодня надо идти в кофейню на Королевской площади. Делать нечего, надо собираться! Консул вздохнул и позвонил в серебряный колокольчик, велел явившемуся Серджио почистить и привести в порядок лёгкий сюртук и к 10 часам сбегать за извозчиком.
— Buongorno, сеньор! Вы позволите? — Гартман явился в кофейню в заранее оговорённое время, минута в минуту. И, несколько помедлив, подошёл к столику на открытой веранде, где консул допивал уже вторую чашку превосходного кофе.
— Разумеется, присаживайтесь, господин Гартман! — с некоторым раздражением кивнул на соседний стул Дендрино. — Или вы допускаете мысль, что, пригласив вас на встречу, с соблюдением всех ваших правил конспирации, я заявлю, что столик занят?!
— Ну-ну, не сердитесь, добрейший Спиридон Иванович! В такой чудесный день грех сердиться! — резидент опустился на стул, уложил на колени лёгкую трость и щёлкнул пальцами топтавшемуся неподалёку официанту. — Portate una grande di caffe, un bicchiere d̓’acgua com ghiaccio![13] И стакан воды со льдом! — Люблю, знаете ли, Спиридон Иваныч, кофе по-гречески! Не пробовали?
— Зубы берегу, Георгий Артурович! Мы, по-моему, уже обсуждали сей вопрос — нешто запамятовали?
— Ну, не хотите просто, по-дружески поболтать, давайте к делу! — пожал плечами резидент.
Выслушав суть просьбы консула, Гартман снова чуть заметно пожал плечами:
— Проследить за японцем — и только-то? Разумеется, я помогу вам, хотя сия азиатская персона, насколько я понимаю, не политическая?
— Может, и не политическая, — легко согласился Дендрино. — Однако, учитывая настоятельное требование его сиятельства канцлера Горчакова и обеспокоенность министра двора Адлерберга относительно майского расписания государя, пустяковой сия просьба мне не представляется.
— Разумеется! — посерьёзнел жандарм. — Что ж, не будем терять времени. Разрешите откланяться — мне необходимо навести некоторые справки ещё до прибытия в порт корабля с японским посланником. Честь имею, Спиридон Иванович! Подробный отчёт вы получите обычным путём-с!
Проводил глазами удаляющегося лёгкой походкой Гартмана, Спиридон Иванович от досады аж сплюнул: ну скажите на милость, стоил ли минутный разговор всех предшествующих ухищрений?! Черкнул бы в утренней записке — так, мол, и так: возьмите японца под наблюдение. А Гартман ответ бы черкнул — и все дела! А теперь тащись обратно в консульство, доставай из несгораемого ящика секретный меморандум о способах передачи письменных сообщений «обычным путём»… Тьфу!
Однако обычным путём не получилось: события последующих двух дней приняли такой оборот, что консул схватился за голову, и, презрев все установленные правила конспирации, данной ему властью, собрал экстренное совещание. На нём присутствовали он сам, вице-консул Назимов и Гартман — последний был представлен Назимову как нагрянувший в Неаполь «ревизор МИДа», ответственный за некие «литерные мероприятия».
— С вашего позволения, господа, я начну наш «военный совет», — попробовал пошутить Дендрино. — Итак, три месяца назад, с соизволения государя и в соответствии с международной практикой, японское правительство от имени своего императора известило Петербург об утверждении кандидатуры Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии — некоего Эномото Такэаки. Были подтверждены обоюдные намерения сторон об открытии в Санкт-Петербурге постоянного дипломатического представительства Японии и безотлагательном начале переговоров по острову Сахалин. О посланнике известно: вице-адмирал военно-морских сил Японии, образование получил европейское, знает французский, немецкий и фламандский языки. Дипломатического опыта не имеет, до назначения послом служил на самом северном японском острове Хоккайдо. Кем служил — неясно. То ли управляющим, то ли помощником министра по развитию северных территорий. Наш консул в Японии господин Струве уверяет, что так и не смог выяснить это обстоятельство — ну, да ему простительно: он в Японии человек новый, а тамошние азиаты — народ, как известно, необычайно скрытный…
Дендрино при последних словах обернулся к вице-консулу Назимову, словно за поддержкой. Тот кивнул, шевельнул окладистой бородой, и консул продолжил:
— С означенным Эномото в Россию следуют переводчик посла, лейтенант японского флота Уратаро Сига и назначенный секретарём посольства в Петербурге Асикага Томео — тоже лейтенант, только уже не флотский. С переводчиком всё вроде ясно, а вот второй лейтенант, как утверждает господин действительный статский советник Струве — тёмная лошадка! Его формулярный список японское министерство внешних связей почему-то не предоставило, лишь сообщило, что господин Асикага до нынешнего назначения служил при штабе военного министра Сайго Такамори. Вчера утром итальянское судно «Сирена» с японскими дипломатами на борту прибыло в Неаполитанский порт, высокие японские гости сошли на берег. Багаж был отправлен в гостиницу «Везувий». Предполагалось, что после кратковременного отдыха японский посланник выедет в Санкт-Петербург через Австрию и Швейцарию.
Консул залпом выпил стакан воды со льдом, промокнул усы платком. Прочие участники «военного совета» хранили молчание.
— Имели ли вы, господин консул, какие-либо указания относительно японского посланника? — возникшую длинную паузу прервал, наконец, Гартман.
— Самые невнятные, если позволительно будет так высказаться! — признался консул. — Япония является совершенной terra inkognita на наших дипломатических горизонтах. Да что там дипломатических! Ни обычаев, ни языка никто почти не знает — страна буквально до последних дней была в некоей самоизоляции от всего мира. Из директивы его сиятельства министра Горчакова несомненно только одно: Россия весьма заинтересована в скорейшем открытии японского посольства в России. И, как следствие — в открытии переговоров по острову Сахалину. Мне сообщено также, что живейший и, осмелюсь предположить, личный интерес к визиту японцев проявляет сам государь. При этом его императорское величество соизволило повелеть, чтобы высокому гостю в трудном пути следования была оказана всемерная помощь и поддержка — возможно более деликатная, не могущая обидеть или оскорбить человека, мало знакомого с европейскими обычаями и нормами поведения.
— Близко не подходить, кланяться издали? — тонко улыбнулся Гартман.
— Почти что так, — вздохнул консул. — Приказано отследить прибытие посла в Неаполь и немедленно донести в Петербург о предполагаемой дате его прибытия в Россию. Ну, это уже для министра двора, его высокопревосходительства графа Адлерберга — для согласования с расписанием его величества. Японцу велено оказывать всемерную помощь только в случае его явного затруднительного положения и личного его обращения за содействием в русское дипломатическое представительство.
— Какие же могут быть затруднения у японского самурая-дворянина, который получил европейское образование и несколько лет жил в Европе? — откашлялся Назимов.
— Вот именно, Сергей Николаевич! — поддержал вице-консула Дендрино. — Но это ещё не все, господа! Через три недели после отплытия господина Эномото из Иокогамы вслед ему по решению японского правительства был спешно снаряжён и отправлен самый быстроходный клипер японского военно-морского флота. Сообщивший об этом консул Струве не смог выяснить причину таких действий. Что же касается нас, то известно, что третьего дня клипер настиг «Сирену» в Средиземном море, корабли легли в дрейф, Эномото перешёл на борт клипера, однако спустя час вернулся на «Сирену» и продолжил путь к итальянским берегам. А военный клипер на всех парусах помчался обратно в сторону Суэцкого канала. Надо полагать, обратно в Японию… Вот и растолкуйте мне, господа, что сие может означать? Хоть вы, Сергей Николаевич! Вы же неоднократно бывали в Японии, знаете о них побольше моего!
Назимов решительно помотал бородой:
— Увольте меня от таких предположений, Спиридон Иваныч! Тем более, применительно к дипломатическим делам! Да, я бывал в Японии, общался с тамошними чиновниками и народонаселением — но ведь я простой моряк! Одно могу сказать: японцы — чрезвычайно трудный в общении народ…
— Рискну предположить, что посланнику Эномото были переданы какие-то срочные и важные указания, — заявил Гартман. — Настолько срочные и важные, что потребовали этакой погони через полмира!
— Ну, насчёт указаний — это очевидно, — хмыкнул Дендрино. — Не кальсоны же запасные посланнику передали, которые тот впопыхах забыл. А посланник-то наш что выкинул, прибывши в Неаполь? Взял да и отправился вместо России во Францию! Может, это и было главной причиной погони? Во Францию, господа! Я, конечно, телеграфной депешею немедленно информировал об этом его сиятельство князя Горчакова. И уже получил сегодня строжайший разнос: как? почему? Из министерства требуют подробностей, объяснений…
— Да уж, действительно! — хмыкнул Гартман.
— Вот и гадай теперь — что сие означает, учитывая наши нынешние более чем прохладные отношения с Францией после откровенной поддержки Россией Пруссии в её войне с Наполеоном Третьим.
— И особенно после победоносного щелчка по носу французикам в виде пересмотра статьи Парижского трактата о нейтрализации Чёрного моря и возвращения России права иметь в нём военный флот! — подхватил, довольно огладив пушистую белоснежную бороду, Назимов.
— Выводы из этого неожиданного разворота японского посланника в Париж его сиятельство делает совершенно логические, — кивнул консул. — Либо Япония ещё до начала дипломатических контактов с Россией намерена ясно показать нам свои профранцузские ориентиры в международной политике, либо эти ориентиры существуют давно, а мы все их проглядели. Такие вот невесёлые наши дела, господа! Теперь ваша очередь, Сергей Николаевич! Вы, по счастью, до назначения вице-консулом в Неаполь, несколько лет крейсировали на своих кораблях в морях Дальнего Востока. И, судя по вашему послужному формуляру, неоднократно бывали в самой Японии. Вам и карты в руки, господин капитан первого ранга! Выручайте!
Назимов несколько смущённо поёрзал в кресле, тронул бороду:
— Господа, я ведь в вашей дипломатии и большой политике пока профан-с! Ну, бывал в Японии многократно — так и задача была поставлена нашему брату-моряку такая: демонстрировать своё военное присутствие в Дальневосточных морях. Что до вице-адмирала Эномото Такэаки, то хоть убейте, господа, не припомню! Бывал, разумеется, с визитами в их военно-морском ведомстве — и с официальными, и с товарищескими, так сказать. И ведь должен был ежели не знать, то слышать! Вот упомянутого вами переводчика по имени Уратаро Сига припоминаю: проходил такой лейтенант практику на моём корабле. Вместе с другими японскими младшими офицерами. Но побей меня Бог, если он отличался по части знания русского языка! Как и все они — с пятое на десятое. А про третьего азията и вовсе ничего знать не могу, коли он при штабе военного министра обретался.
— Хорошо, оставим это! — Дендрино вздохнул. — Но самих япошек-то вы лучше нашего знаете, Сергей Николаевич! Характеры, обычаи, традиции, так сказать… Может, хоть вы нам объясните — что сие может означать: едет японец в Россию с пальмовой ветвью, так сказать, и вдруг на полпути поворачивает, чтобы сделать визит в недружественную нам державу! Ну не сглупа же, прости мя, Господи! Не по скудоумию ведь из Италии не на восток поворачивает, а на запад!
— И тут не знаю, как истолковать сей парадокс, господа! Одно могу сказать твёрдо: у японской нации характер и нрав от европейских, а паче чаяния славянских, отличаются как небо от земли! Терпеливы, законопослушны поболее нашего, российского, — под тем подпишусь двумя руками. Вот поймайте нашего крестьянина с ружьишком в барской роще — он ведь и под плетью не признается в браконьерских своих умыслах! А японский простолюдин в такой же ситуации — боже упаси! Он поперву никогда на чужое либо законозапретное не позарится. А уж коли случился грех — так признается сразу, не хитря.
— Очень образно, — кашлянул Гартман. — Хотя как сей пример может нам помочь — ума не приложу!
— И я тоже! — развёл руками вице-консул. — Вы спросили про отличие, я вам и выложил. Военных инструкторов у них в Японии европейских много! Больше всего — голландцев, французов, немцев. Даже обитателей Северо-Американских Соединённых Штатов встречал там… Про тех могу сказать твёрдо: все гнут в Японии свою линию, Россию же всячески оттирают от японских дел. И при каждом удобном случае норовят нас дискредитировать. Вот тот же Сахалин взять, господа: у Европы, да и Америки неблагодарной свои виды на этот остров! Англичане не только пугают Японию усилением России вблизи их островов. Не только нашёптывают о коварных планах русских вслед за Сахалином захватить Хоккайдо. Они и корабли свои охотно предоставляют для переброски на Сахалин японских колонистов, воинских команд и даже преступников для расселения. Сам свидетелем был!
— Признаться, я тут, в Италии, нашими делами на Дальнем Востоке не слишком интересовался, — признался Дендрино. — Хотя, конечно, догадываюсь, отчего это вы Северо-Американские Штаты неблагодарностью попрекаете.
— Именно неблагодарностью! — загорячился Назимов. — Ну, про продажу Аляски Америке поминать не будем сейчас — это потомки оценят, по прошествии долгого времени — надо было продавать или нет. Я про другое: помните, как наш государь, рискуя втянуть Россию в новую войну, отправил к восточным и западным берегам Америки сразу две русские эскадры, наперегонки с британским флотом, направлявшемуся туда же с экспедиционными войсками? Ведь спасли же тогда, по сути, Америку. Нас там со слезами и встречали, и провожали. Кланялись, благодарили, обещали вечно помнить. И что же? Короткая память у американцев оказалась! Не только настоятельно рекомендуют японцам откупить у России Сахалин — деньги на это дело ссудить обещают! А России намекают прямо: Япония-де после визита «чёрных кораблей» Мэтью Перри и подписания договоров с Америкой всегда может рассчитывать на заокеанскую военную помощь в деле защиты своих территориальных интересов. Вот вам и «вечная память», господа!
— Ну, для дипломатов такие смены курсов — дело привычное, — усмехнулся консул. — Ничего удивительного: сие есть политика!
— А англичане? — всё ещё не мог успокоиться Назимов. — Всё ясно как божий день: если японцы застолбят свои права на Сахалин, то туда тут же ринется вся эта франко-британо-американская свора!
— М-да… — протянул разочаровано консул. — Спасибо, конечно, Сергей Николаевич — просветили нас, как говорится, насчёт коварных замыслов. Но всё это — большая, как говорится, политика! А нам бы нашу малую задачку порешать. Что вы скажете, Георгий Артурович? Какую лепту в наше совещание внесёте?
Гартман покосился на Назимова, словно взвешивая: как внести свою лепту и не выдать непосвящённому в государственный секрет человеку свой истинный статус «ока государева».
— Ну-у, что сказать, Спиридон Иваныч. Когда вы, памятуя о моей старой дружбе с главою местного сыскного бюро, попросили помочь приглядеть за японскими визитёрами, я сразу к приятелю моему и направился. Так и так, брат, выручай! А итальяшки что? Они, кроме как о любви, измене и рогоносцах, и говорить-то ни о чём не умеют! Вот и мой «Петрарка» сразу оживился: il tradimento?[14], спрашивает. Да, говорю, она самая — il tradimento! В общем, договорился я ним, «Сирену» встречала целая команда местных сыщиков. До гостиницы «проводили», как положено. Там — коридорного своего временно поставили. И уже к вечеру выяснили всё досконально! Японец, что постарше, вызвал хозяина гостиницы, спросил, как можно заказать билеты на поезд до Парижа? Тот ему объясняет: из Неаполя в Париж поезда пока не ходят. Японец удивляется: как же, мол, так? Он, дескать, долгое время жил в Центральной Европе и доподлинно знает, что железнодорожное строительство здесь очень быстро развивается. Ну, хозяин его и просветил: тысяча извинений, сеньор, но Италия стала единой страной не столь давно. Мол, железные дороги строились в отдельных областях Италии, в основном на севере — в Пьемонте, Ломбардии, Тоскане… И от Неаполя на север железнодорожная ветка только строится.
Консул осуждающе кашлянул: не отвлекайся, мол, друг любезный! Рисорджименто[15] и все проблемы, связанные с ним, обсудить можно и потом… Гартман кивнул:
— В общем, японцам втолковали, что на поезд прямого сообщения в Париж они могут сесть только в Турине. А туда быстрее всего можно добраться на почтовом дилижансе. Или морским путём, через Геную. В итоге японцы откупили почти все места в утреннем дилижансе, и нынче утром отправились на север.
— Но из Турина, насколько я понимаю, можно отправиться на поезде через Милан и Швейцарию, — возразил консул. — А там, через Берлин, и в Россию.
— Полагаете, что японцы путают следы? — хмыкнул Гартман. — А смысл? Путешествует посланник не то, чтобы инкогнито, но совершенно безо всякой помпы. Итальянские власти, по-моему, даже в известность не поставлены. Вот если бы наоборот, так сказать. Выспрашивали о дороге в Россию, а в Турине неожиданно сели бы на парижский поезд! Не-ет, Спиридон Иваныч!
— Значит, Париж… Но всё равно, господа, это пока только наше предположение! Вот и его сиятельство, Александр Михайлович Горчаков, в последней депеше допускает возможность какой-то путаницы, непонятности намерений посланника. В общем, он не собирается огорчать государя этим известием до тех пор, пока не будет известно о точном маршруте следования Эномото… Георгий Артурович, голубчик! На вас вся надежда! Может, есть у вас в Турине надёжные люди, которые могут взять посланника под наблюдение?
— Сделаем, Спиридон Иваныч! — кивнул Гартман. — Я ведь, знаете ли, не случайно обмолвился, что японцы откупили почти все места в почтовом дилижансе. Двое моих людей с ними в одной карете отправились… В смысле, не моих, а частного сыщика местного, — поправился он, быстро взглянув на Назимова. — И в Турине с японцев глаз не спустят, не сомневайтесь! И доложат мне, что и как. А я вам, соответственно!
— Спасибо, голубчик! Премного вам благодарен за ваше деятельное участие. Ну-с, господа, на этом наше совещание будем считать законченным. Теперь остаётся только ждать известий из Турина… Георгий Артурович, я вас провожу!
Закрыв за собой дверь поплотнее, консул взял Гартмана на пуговицу сюртука:
— Георгий Артурович, я, действительно, чрезвычайно вам признателен за содействие. И не премину отметить в ближайшем рапорте в Петербург ваше усердие и расторопность! Но… Нельзя ли устроить, чтобы и в Париже за японцами нашими пригляд был? Знаете, визиты-то разными бывают — и официальными, и частными. А у нас, дипломатов, каждая мелочь может решающей стать… Я не сомневаюсь, что Петербург и без нас догадается соответствующее распоряжение французскому бюро отдать, но… Пока депеши через всю Европу туда-сюда летать будут…
Гартман сдержанно улыбнулся, мягко освободил пуговицу из пальцев консула:
— Давайте-ка выйдем на улицу, Спиридон Иванович! Или, по крайней мере, на ваш балкон. Терпеть не могу обилия всяческих штор, занавесок, драпри… Можете считать меня сумасшедшим, но за каждой тряпкой так и чудится подслушивающий соглядатай.
На балконе жандарм облокотился на перила и серьёзно поглядел на собеседника.
— Прежде всего, многоуважаемый Спиридон Иваныч, благодарю за высокую оценку моих скромных усилий. Хотите отразить их в рапорте? Честно признаться, не хотелось бы. Но и запретить, увы, не могу-с! Однако прошу и заклинаю: непременно укажите, что я лишь выполнял вашу настоятельную просьбу! Можете добавить: с неохотой выполнял! Ваш рапорток-с ведь не только ваше, но и моё начальство читать станет, понимаете? И я ни в коей мере не желаю, чтобы у моего шефа сложилось подозрение, что мне в Неаполе, по своей линии, и делать-то нечего! Тем более что в своих рапортах и отчётах я, наоборот, всячески подчёркиваю чрезмерную загруженность делами своего департамента…
Помолчав, Гартман совсем серьёзно закончил:
— Я ведь жандарм, господин консул! Имею чин ротмистра. И в задачи нашей Заграничной службы вовсе не входит слежка за японскими и прочими дипломатами — если они, конечно, не лезут в политику, не злоумышляют на нашего государя, не мастерят бомбы и не занимаются агитацией и вербовкой противников русской монархии… Впрочем, вы и сами всё это знаете, Спиридон Иваныч! Я к чему всё это говорю: хоть обижайтесь, но по линии нашего департамента я своим коллегам во Франции никаких просьб и пожеланий выказывать просто не могу-с! Нету в Париже, извините, филиала нашего Третьего отделения!
— То есть как это нету? — взвился консул. — Простите за прямоту, Георгий Артурович, но я полагал, что у нас вполне доверительный, откровенный разговор. Я ведь не второй день служу, кое-что, извините, знаю-с! Париж — это самый центр революционной эмигрантской заразы! Уж там-то нигилятины и бомбистов хватает! И чтобы этакая публика, да без должного присмотра?!
— А вот представьте себе, дражайший Спиридон Иваныч! Понимаю, в этакое трудно верится, но так уж в Париже исторически сложилось! Граф Орлов[16], принявший бразды у своего предшественника, в своё время негативно охарактеризовал действующих в Париже агентов русской политической полиции и выступил инициатором так называемого берлинского варианта. А сие означает ненадобность создания во Франции русского заграничного охранного бюро. В нужных случаях, мол, можно привлечь и силы местной полиции. Идея была немедленно подхвачена состоящим при Верховной распорядительной комиссии[17] неким полковником Барановым — и понеслось!
Гартман вздохнул, переменил позу — теперь он опирался на поручни балкона спиной и локтями, что дало жандарму возможность время от времени бросать быстрые взгляды вверх и вниз.
— Знаете главную беду и тормоз нашей многострадальной России, Спиридон Иваныч? — продолжил он. И, не дожидаясь реакции собеседника, ответил сам. — Главная беда — это не кровавые бунты во все времена, не нынешний разгул вольнодумства и террористических идей! Всё перечисленное неизбежно в истории каждого государства. Зло — в непрофессионализме противостояния и кадровых ошибках власть предержащих! Беда в том, что весьма часто важное и требующее специальных знаний дело в России отдаётся в руки честного, но совершенно некомпетентного человека.
Дендрино, которому не терпелось заручиться конкретным согласием жандарма на помощь, вынужденно слушал давно знакомые ему философствования и кивал. Прерывать Гартмана было нельзя — пусть человек выскажется!
— Так и с Францией у нас получается, Спиридон Иваныч, — Гартман слегка понизил голос. — Ничего плохого не могу сказать о графе Орлове — боевой генерал, редкая умница, честный и прямой человек. Но не на месте граф, хоть режьте меня! На посольскую службу попал он после тяжких ранений, лишившись глаза и будучи неспособным по состоянию здоровья продолжать службу в армии. Киснул, хандрил генерал на долгом излечении — вот и пожалел его государь, дал живое дело. Прости меня, Господи, — о человеке подумал, а о деле нет. Или Баранов этот… Не смею судить о нужности и важности Верховной распорядительной комиссии как таковой, однако пример полковника Баранова, отвечающего за противодействие терроризму, весьма нагляден! Не знаю, каким уж он был артиллеристом, не ведаю путей, которыми попал в сию комиссию — но результат налицо! Один-единственный инспекционный вояж полковника в Румынию, Швейцарию и Францию отбросил все оперативные наработки Департамента полиции и его заграничных бюро на много лет назад!
Дендрино сочувственно покашлял, но прерывать собеседника опять не стал.
— В Париже полковник, ознакомившись с деятельностью сыскной агентуры, сумел договориться с префектом Парижа Луи Андрие о реорганизации Заграничной службы при непосредственном участии помощника префекта, некоего Мерсье, — продолжил Гартман. — Французы при этом поставили условие, чтобы в Париже не было других агентов нашего Третьего отделения. Вот вам и реорганизация, Спиридон Иванович! Баранов по завершению командировки спокойно отбыл в Петербург, а координацией действий французской агентуры вынужден заниматься сам посол! Неслыханное дело! Как вы можете догадаться, сами французские агенты в наших российских делах оказались, увы, несостоятельными! Иначе и быть не могло — по моим сведениям, нынешние и языка-то русского не знают!
Гартман вздохнул, вытянул за цепочку брегет, щёлкнул крышкой.
— А вы упрекаете меня в недоверительности разговора, Спиридон Иваныч! Все тайны наши, как есть, выдал вам… Понимаете теперь, что никак нельзя мне в Париж самому обращаться? Здесь, в Неаполе, у меня на редкость удачное прикрытие. Узнают обо мне французы — немедленно поделятся новостью с итальянскими коллегами, и конец моему прикрытию. И вы, Спиридон Иваныч, без верного помощника в тайных делах останетесь!
— Но ведь время потерять можем! — едва не простонал Дендрино.
— Не извольте беспокоиться на сей счёт, Спиридон Иваныч! — перебил Гартман. — Желаемого вами ускорения можно достигнуть совершенно иначе, уверяю вас! Вариант первый: вы лично можете обратиться к графу Орлову. Но, как понимаете, это вызовет на парижской улице Гренель лишь раздражение. Вам немедленно напомнят, что в Париже центральная резидентура в Европе. И про великую разницу в объёме работы там и тут, в Италии, напомнят! Чего греха таить — там действительно революционеров и социалистов с бомбами гораздо больше, чем здесь, слава Создателю! Признаться, я в Италии и четверти забот и усилий моих парижских соратников не имею!
— Чёрт, а ведь об этой стороне дела я даже как-то не подумал.
— И впредь не думайте, Спиридон Иваныч! — посоветовал жандарм. — Ни к чему вам нашими проблемами голову забивать. А посему сделаем так: дождёмся телеграфного подтверждения от моих людишек о прибытии почтового дилижанса в Чивитавеккью — и отобъём в Петербург свои рапорта. Вы в МИД, я — своему начальству. Оба выразим озабоченность нештатной ситуацией с японским посланником. А вы ещё и обратите светлейшее внимание канцлера Горчакова на целесообразность привлечения к делу парижской резидентуры! И всё закрутится как надо, уверяю вас, Спиридон Иваныч! Наши начальники-министры скорее договорятся, нежели мы, право слово! А о моём вкладе в вашу дипломатическую лепту пока помолчите, ладно? Успеется, поверьте.
Глава третья
Путешествие японцев из Неаполя в Турин вряд ли можно было назвать спокойным и безмятежным. Выкупив места в почтовой карете и явившись к назначенному часу на станцию отправления, Эномото и его спутники вдруг обнаружили, что будут не единственными пассажирами. На переднем сиденье внутри дилижанса расположились двое невозмутимых мужчин. Эномото на французском, немецком и фламандском языках попробовал указать незнакомцам на их явную ошибку — однако мужчины только разводили руками и отвечали трескучими фразами по-итальянски. Тогда Эномото отправился за разъяснениями в почтовую контору станции.
Однако и там служащий, ещё вчера сносно объяснявшийся по-французски, за ночь словно напрочь разучился говорить на этом языке и к тому же изрядно поглупел. Эномото перешёл на немецкий, потом на фламандский языки — результат был тем же. Японец в отчаянии попытался прибегнуть к интернациональному языку жестикуляции: подведя служащего к карете, он обвёл её широким жестом и потыкал в себя и спутников пальцем — мол, это всё моё! Не помогло даже предъявление квитанции оплаты, в коей были перечислены номера всех откупленных в карете мест, внутренних и наружных. Всё было без толку!
— Итальянец в форменной фуражке с кокардой из двух скрещенных почтовых рожков кивал, широко улыбался японцам и снова начинал тарахтеть по-своему. Ткнув рукой в японских путешественников, он загнул на левой руке три пальца, спрашивая взглядом подтверждения: верно ли, мол? Против этого возразить было трудно, и тогда итальянец начинал пересчитывать на пальцах свободные места в карете — шесть наружных и четыре свободных внутри кареты. Десять, синьор, верно? А вас трое — так что же вам ещё нужно, почтеннейшие? Неужели вам троим не хватит оставшихся мест? Эномото, стараясь сдерживаться, снова и снова пытался объяснить, что невесть откуда взявшиеся пассажиры, не принимающие участия в арифметических дебатах, занимают места в карете, оплаченные японскими путешественниками.
Служащий снова кивал, прижимал руки к сердцу и опять разражался длинной тирадой по-итальянски. Он пренебрежительно махал на посторонних пассажиров рукой: не обращайте, мол, внимания, сеньоры…
Кучер в алой грязноватой ливрее с гербом Турн-и-Таксис[18] и охранник со старым ружьём, сидевший на почтовом ящике, следили за спором пассажиров и служащего с живым интересом, громко обменивались репликами по этому поводу и поминутно покатывались со смеху. Эномото, привыкший за время учёбы в Европе к бесцеремонности европейцев, почти не обращал на это внимания. Однако Уратаро Сига и Асикага Томео, для которых непочтительность простолюдинов и их насмешки были оскорбительны, то бледнели до синевы, то багровели. Почувствовав, что его спутники могут вот-вот вспылить и устроить громкий скандал, Эномото счёл за благо прекратить бесполезный спор и повернулся к своим спутникам:
— Не стоит так волноваться по поводу бесцеремонности варваров! Это их обычная манера поведения, поверьте. В Европе, господа, вам придётся привыкать ко многому, в том числе и непочтительному вниманию со стороны совершенно незнакомых людей! Давайте-ка лучше займём места в экипаже. Возможно, что этот итальянский пройдоха просто не понял вчера, что я желал откупить все места в карете. А возможно, просто хитрит. В любом случае мы ничего сейчас не докажем.
— К подобному непотребству просто невозможно привыкнуть, — опомнился Уратаро, сломавшись в поклоне. — Я отдаю должное вашей выдержке, Эномото-сан! Вы, безусловно, правы: едем, пока в нашу карету не заполнили другие желающие прокатиться в Турин за счёт Японии!
Асикага Томео лишь молча поклонился, бросив неприязненный взгляд на пассажиров-европейцев в дилижансе и продолжавшего что-то говорить почтового служащего.
— Погода чудесная, господа! Может быть, мы займём наружные места? И тогда у нас будет великолепный обзор местности, почти как с капитанского мостика корабля! — предложил Эномото.
Дождавшись, пока их багаж разместят в объёмистом ящике за задними колёсами почтовой кареты, путешественники взобрались по лесенке на крышу и уселись. Эномото и Уратаро сели рядом, третий японец, помедлив, устроился напротив.
Тем временем почтовый служащий, переведя дух после длинных споров, со злобой накинулся на кучера, тыча ему в лицо часы: он явно бранил его за задержку отправления, в которой тот вовсе не был повинен. Возникла новая перепалка, в которую вмешался охранник кареты и даже пара случайных прохожих. Наконец, кучер поглубже нахлобучил на голову цилиндр, задудел в изогнутый кольцом рожок, заработал кнутом, и тяжёлая карета, набирая скорость, покатила по дороге, ведущей на север.
Уратаро достал карту Италии и попытался определить расстояние от Неаполя до Турина.
— Сколько, интересно, мы будем ехать? — пробормотал он.
— Расстояние до конечного пункта нашего путешествия составляет около 180 почтовых льё[19]. Почтовое льё — чуть меньше сухопутного географического и почти вдвое короче морского, лейтенант, — заметил Эномото. — А вот время путешествия может составлять от трёх до четырёх дней. Если не случится дорожных поломок, разумеется…
— Благодарю, Эномото-сан!
Дорога на север Италии, вырвавшись из узких улочек Неаполя, шла практически по-над берегом. Она цеплялась за горные склоны, вилась по серпантину между небом и морем. Порой дорога сужалась настолько, что четвёрка лошадей, хоть и предусмотрительно снабжённая шорами, невольно сбавляла размашистую рысь, прижималась к скалистой неровной стенке. Кони фыркали и высоко вскидывали головы, в то время как левые колёса почтовой кареты катились едва не по самому краю пропасти, столь глубокой, что откуда даже не доносился шум прибоя.
С крыши кареты зрелище было ещё более впечатляющим, буквально царапающим по нервам, и японцы, искоса поглядывая друг на друга, втайне жалели, каждый про себя, что едут снаружи, а не внутри.
Кучер между тем постоянно прихлёбывал вино из оплетённой соломой бутыли, горланил песни и усердно работал кнутом, бодря лошадей. Карета, благодаря его усилиям, катилась довольно быстро. И всякий раз, когда экипаж приближался к очередному крутому повороту, Эномото старался не думать о том, что навстречу может вылететь встречная повозка с таким же полупьяным возницей…
Но, несмотря на вполне реальные опасения, японские путники не могли не отмечать величественной красоты, разворачивающейся вокруг мчащейся почтовой кареты. Пронзительная синева морской поверхности, переходящая у горизонта в более бледные тона, чёткие белые пятнышки парусов — всё это составляло впечатляющий контраст с горной местностью. Бледно-зелёные краски скалистого склона впереди густели, ощутимо синели и словно врезались чётким контуром вершин в небесный купол.
Через три часа безостановочной скачки карета вырвалась в долину. Горы справа немного отступили, а вдоль дороги то и дело возникали и уплывали назад древние захоронения римлян. Кучер заработал кнутом ещё усерднее, задудел в рожок, и карета на полном ходу влетела в распахнутые настежь ворота первой почтовой станции на пути следования. Во все стороны шумно брызнули куры, гуси и козы. Кучер, отбросив кнут, теперь что есть силы вцепился в вожжи, и тяжёлый экипаж, сделав полукруг, наконец остановился, едва не снеся обложенное диким камнем навершие колодца посредине двора.
Выскочивший на шум и грохот хозяин постоялого двора немедленно принялся ожесточённо ругаться с явным виновником переполоха — кучером. Всласть наругавшись, словно исполнив положенный ритуал общения, кучер и хозяин обнялись, похлопали друг друга по спине и исчезли в помещении. Конюхи тем временем выпрягали тяжело дышащих лошадей и заводили в упряжку свежих — уже не четвёрку, а шестёрку.
Японские путники спустились со своей верхотуры, разминая затёкшие ноги. И тут же оказались в окружении стайки босоногих мальчишек, бесцеремонно разглядывающих необычных пассажиров. Сорванцы тянули японцев за рукава, клянчили мелочь, показывали раковины и какие-то нехитрые поделки из дерева — пока выбравшаяся из кареты пара незваных попутчиков не прикрикнула на них. Сделав приглашающий жест, попутчики на ломаном французском позвали японцев в дом: там можно было, судя по всему, перекусить, выпить молодого вина или воды.
От еды и вина японцы отказались — лишь выпили удивительно вкусной, ломящей зубы холодной воды, и с помощью служанки смыли дорожную пыль с лиц и рук.
Через четверть часа конюх, выбравшись на крыльцо заезжего дома, вновь задудел в рожок, приглашая пассажиров кареты занять свои места. Повернувшись к Уратаро, Эномото кивнул на форейтора, оседлавшего коренника из запряжённой шестёрки:
— По всей вероятности, лейтенант, сейчас дорога пойдёт на подъем…
Уратаро кивнул.
Вновь замелькали по обеим сторонам дороги деревья, редкие каменные ритуальные постройки. Солнце стояло почти в зените, жара усилилась. Карета и впрямь шла медленнее, кучер примолк, и лишь изредка, словно для порядка, взмахивал кнутом. Эномото обнаружил, что подлокотники наружных сидений выдвигаются, их можно было закрепить в таком положении и, таким образом, верхние пассажиры могли обезопасить себя от нечаянного падения при резком повороте или во время сна. Теперь можно и подремать.
…Он родился в августе 1836 года, и был вторым сыном в семье министра сёгуната Токугавы Эномото Марухэйей. Военное дело Такэаки начал постигать с 12 лет, а к 18 годам его приняли на обучение слушателем голландской мореходной школы. Закончив её, Эномото вернулся в Эдо.
Сёгунат Токугавы доживал свои последние дни и цеплялся за любую возможность сохранить в стране своё влияние. Трёхсотлетняя самоизоляция Японии явно изжила себя. В портах страны стало тесно от иностранных современных кораблей. Настала пора и Японии сделать свой военно-морской рывок! И вот в 1861 году правительство Бакуфу принимает решение о заказе в Северо-Американских Соединённых Штатах сразу трёх военных паровых судов. Наблюдать за их постройкой и учиться морскому делу были назначены лучшие выпускники и преподаватели морского колледжа в Нагасаки. И среди них Эномото Такэаки.
Но с поездкой в Америку не получилась: там вспыхнула война Севера и Юга. Когда она закончится — никто не знал. А время шло, и сёгунат переиграл заказ, выбрав для этого спокойную и даже меланхоличную Голландию. Стажёрами в Европу должны ехать те же 15 японских молодых мореходов.
Их долгий путь начался на небольшом голландском торговом паруснике «Калипсо», который должен был перебросить стажёров в Батавию[20].
Путешествие, начавшее 11 сентября 1862 года, не заладилось. В Яванском море судно попало в сильный шторм и получило пробоину. Команда «Калипсо», уверенная в том, что судёнышко вот-вот пойдёт ко дну, тайком от японцев погрузилась в шлюпки и отчалила, бросив пассажиров на произвол судьбы. Трое суток судёнышко швыряло волнами, ветер сорвал все паруса и обломал мачты — однако «Калипсо» каким-то чудом держалось на плаву. Когда море успокоилось, японские стажёры обнаружили, что на судне нет ни продуктов, ни воды: все припасы, сложенные на верхней палубе, смыло волнами…
На третий день к полузатопленному «Калипсо» подошёл торговый парусник под британским флагом. Однако радость японцев была преждевременной: убедившись, что среди терпящих бедствие нет европейцев, а в трюмах нечем поживиться, англичане попросту бросили их и отошли.
Следующая встреча терпящих бедствие японцев состоялась с… малайскими пиратами. Заметив неуправляемое судно с обрывками парусов, пираты на нескольких лодках окружили «Калипсо», вскарабкались на борт в расчёте на скудную, но безопасную поживу. Но на корабле были не просто стажёры — самураи! Обезоружив пиратов, японцы заставили отвезти их до ближайшего островка.
Остров оказался необитаемым, но его иногда посещали рыбаки с соседних островов. Они-то и вызволили в конце концов японских путешественников. Вскоре с Явы за ними пришёл военный корабль, и путников доставили в порт Батавия.
И только в начале ноября японские стажёры разместились на небольшом фрегате с паровой машиной мощностью 30 лошадиных сил, приводящей в движение колесо с лопастями. Для страховки фрегат «Торренто» был, разумеется, оснащён и парусом.
Суэцкий канал к тому времени ещё не был открыт, и путешественникам предстоял длинный путь через Индийский океан, вокруг Африки в Атлантику и далее на север. 8 февраля 1863 года «Торренто» бросил якорь в порту Джеймстаун на острове Святой Елены. Это была уже Европа!
Эномото пошевелился на сиденье, оказавшемся не столь удобным, как в начала пути. Приоткрыл глаза, глядя на своих нынешних попутчиков. Как ему хотелось проникнуть в мысли этого Асикага Томео, узнать, что за человек носит имя, означающее «осторожность». Увы: это покажет только время! Эномото снова прикрыл глаза, стараясь направить мысли на что-то более возвышенное, нежели размышления о крайне неприятном для него человеке. Стихи? Да, тогда, на рейде Джеймстауна, он написал стихи, которые не стыдно занести в скрижали памяти:
В длинной роще стоит одинокое дерево под дождём. Мы идём к нему, плутая по дороге мужества. Мы пришли сюда как незнакомцы — И под сенью дерева услышали пение птиц[21].В середине апреля «Торренто» бросил якорь в голландском порту Провельс Хакен. Отсюда до места назначения, по каналам, судно могли идти только на буксире лоцманского корабля. 18 апреля 1863 года, в порту Роттердам, плавание закончилось.
Толпы людей собрались в порту и по пути следования японской группы стажёров, дивясь экзотическому виду путешественников. Перед отправкой из Японии они получили категоричный приказ правительства: не переходить в другую религию и… не носить европейской одежды! Осторожно высказанные молодыми людьми соображения насчёт того, что люди в непривычных для европейцев нарядах будут привлекать всеобщее внимание, правительственные чиновники не услышали. И вот извольте видеть! Пятнадцать человек в кимоно с чёрными гербами, мечи у пояса. На головах длинные волосы, завязанные в хвост, на ногах сандалии необычного вида… Полюбоваться таким зрелищем люди сбегались не только на перекрёстки — зеваки висели на уличных фонарях, гроздьями облепили окна и двери домов.
В доке судовой верфи Гибса, что в городке Дордрехт, уже начал формироваться остов будущего парохода, ещё в Японии названного «Кайё-мару» — «Свернувшийся Дракон». Пока это был только киль, вытянувшийся вдоль всего дока. Однако, разглядывая чертежи будущего корабля, Эномото уже видел плавные обводы высоких бортов, надстройки, дымящуюся трубу… Такого корабля в Японии ещё не видели! Трёхмачтовое судно со вспомогательной паровой машиной. В современных измерениях длина судна с бушпритом составляла 81 метр, ширина 13 метров, мощность машины — 400 лошадиных сил! Неужели он, второй сын простого самурая, войдёт в японский порт на мостике этого корабля?
Чтобы быстро освоить европейские науки, прежде надо было выучить язык, на котором говорили голландские корабелы. Эномото, хотя и умел к тому времени худо-бедно объясниться на фламандском языке, нанял сразу двух учителей, занимавшихся с ним в две смены, по 8-10 часов в день. Поражаясь упорству необычного ученика, голландцы за полгода вымотались сами, однако их ученик, проявив недюжинные природные способности, сделал ощутимые успехи. Через полгода, рассчитав одного из учителей, Эномото счёл себя достаточно подготовленным, чтобы поступить в Роттердамскую мореходную школу.
Эномото выполнил все наказы могущественного сёгуна. Помимо военно-морских наук и корабельного дела, он освоил физику, химию, баллистику и даже международное морское право.
В декабре 1865 года судно было спущено на воду и было поставлено уже в плавучий док для окончательной доводки и оснащения. К тому времени в Голландию прибыли ещё восемь моряков-стажёров из Японии. Миновал ещё год. За это время орудийная палуба «Кайё-мару» была оснащена 26 пушками Круппа, заказанными на немецких оружейных заводах. Дополнительные 12 пушек малого калибра были установлены на баке и юте судна. Японские моряки за это время учились работать с парусами, такелажем, участвовали в ходовых испытаниях судна.
И вот в декабре следующего, 1866 года корабль «Кайё-мару» с экипажем из сотни голландцев и японцев-стажёров под командованием капитана военно-морского флота Нидерландов Дино покинул европейские берега и двинулся к американским, на юго-восток. Немногим меньше, чем через два месяца, диковинный флаг судна встречали уже в Рио-де-Жанейро.
У бразильских берегов судно задержалось ненадолго. Забункеровав корабельные угольные ямы под завязку, Дино повёл корабль к берегам Японии, вокруг южной оконечности материка. Жестокие штормы, нехватка пресной воды для охлаждения паровой машины — пришлось добывать её из морской — испытание для японцев-стажёров вышло полномасштабным. На 109-й день плавания они увидели наконец вершину священной для каждого японца горы Фудзи.
В Японии с корабелами и голландским экипажем судна был произведён окончательный расчёт, и на капитанский мостик заступил новый командир «Кайё-мару» — новоиспечённый капитан первого ранга военно-морских сил Японии Эномото Такэаки. Он же принялся набирать полностью японский экипаж. Обучение моряков происходило под командованием тех стажёров, что пришли на судне из далёкой Европы. Учёба шла одновременно с патрулированием Осакского залива.
Военное правительство Бакуфу не скупилось на чины и должности для самого образованного человека Страны восходящего солнца. Вскоре Эномото становится заместителем командующего всеми военно-морскими силами Японии.
Однако не прошло и года, как блестящая карьера Эномото прервалась. В стране произошла реставрация власти императора, а прежний всесильный военный правитель Японии, сёгун Токугава, был лишён властных полномочий. В стране вспыхнула гражданская война. Верный клятве, данной клану Токугавы, Эномото встал, разумеется, на его сторону. Он вывез на своём корабле проигравших битву при Фусими лидеров Бакуфу в Токио, а через четыре месяца отдал своей эскадре[22] приказ идти на север…
— Сансей! Ваше превосходительство! Извините, что прерываю ваши размышления…
Эномото при звуках резкого гортанного голоса Уратаро Сига очнулся от полудрёмы и отрывочных воспоминаний, неторопливо прокручивающихся в голове. Карета по-прежнему катилась на север, вот только величественная гора, синевшая утром на горизонте, стала гораздо ближе и заслоняла, казалось, полнеба.
— Да, лейтенант?
— Я не любопытен, Эномото-сан, я офицер и выполняю приказы. И до сих пор я не интересовался главной целью, поставленной перед нашей дипломатической миссией в России. Но… Скоро мы всё равно будем там, и я хотел бы спросить у вас — какая задача стоит перед нами?
Эномото покосился на спутника: неужели Уратаро действительно ничего не знает?
— Вы получили назначение быть при мне переводчиком, лейтенант. Неужели вам и вправду не сообщили о главной задаче?
— Клянусь, ваше превосходительство!
— Гм… А вы, лейтенант Асикага, тоже ничего не знаете?
— Я служил при штабе военного министра Сайго Такамори, ваше превосходительство, — привстав, Асикага поклонился. — Вы, несомненно, знаете об этом, Эномото-сан! Меня направили в ваше распоряжение, мои прежние обязанности не предполагали занятий дипломатией.
— Так же, как и мои, — скупо улыбнулся Эномото. — Что ж, не вижу причин скрывать от вас главную цель будущих переговоров. Между Японией и Россией существует серьёзная территориальная проблема — принадлежность Северного Эдзо, который они называют Сахалином. У русских на этом острове каторга и небольшое число крестьян-колонистов. У Японии — многочисленные рыбные промыслы на юге острова. Кроме того, Сахалин имеет большое стратегическое значение, особенно если отношения между нашими странами обострятся до враждебных.
— Неужели мы когда-нибудь осмелимся бросить вызов такой огромной и мощной державе, как Россия? — Уратаро подался вперёд, напряжённо глядя в лицо Эномото.
— Вы моряк, господин Уратаро. И не могли не видеть, что русских военных кораблей в дальневосточных морях гораздо меньше, чем британских или американских. На своих восточных окраинах Россия слаба, у неё нет там ни мощного флота, ни баз для него. Один из вариантов пограничного разграничения, который мы предложим в Петербурге, предусматривает раздел самого Сахалина и сухопутную границу на нём. Однако русские вряд ли пойдут на это: они прекрасно понимают, что в этом случае Япония не только приобретёт богатые месторождения угля на юге Сахалина, но и получит мощный форпост, перекрывающий Татарский пролив и устье Амура.
— Но вы сами говорите, что Россия слаба, ваше превосходительство! — глаза Уратаро заблестели хорошо знакомым Эномото блеском рвущегося в бой самурая. — И если наша позиция на переговорах будет достаточно твёрдой…
— Не всё так просто, лейтенант! — усмехнулся Эномото. — Нынче и Япония весьма слаба. У нас нет достаточно кораблей даже для военной экспедиции в Корею. Кроме того, у нашего правительства просто нет денег для обустройства на юге Сахалина мощных береговых укреплений! Если мы будем проявлять глупое упрямство, то уже через два-три месяца вполне можем увидеть возле своих берегов русские эскадры, переброшенные с Балтийского и Чёрного морей! Это сразу изменит баланс сил, лейтенант!
— Понятно, Эномото-сан! — Уратаро заметно сник.
— Есть и ещё один момент, господин Уратаро! Выторговав у России юг Сахалина и не имея в казне денег на его освоение, мы вынужденно откроем двери острова для англичан и американцев. Им только того и надо! А уж выжить их отсюда будет гораздо труднее, чем заключить с Россией справедливое соглашение. Не так ли, господин Асикага? — Эномото в упор взглянул на второго лейтенанта, до сих пор не принимавшего участия в разговоре. — Что об этом думают в штабе военного министра Сайго Такамори?
— Армия Японии выполнит любой приказ своих военачальников и любое повеление божественного микадо, ваше высокопревосходительство!
— Не сомневаюсь, лейтенант! Не сомневаюсь. А скажите-ка мне, лейтенант Асикага, какими вопросами занималось при штабе военного министра подразделение, которым вы командовали? Вы — лейтенант, значит, у вас под началом была команда, верно?
— Я не имею права говорить об этом, господин посол!
— Какой вздор, лейтенант! Вы назначены под моё начало. Чин вице-адмирала военно-морского флота Японии равен генеральскому, рангу министра. В конце концов, раз уж вы попали в мою команду, я должен использовать ваши знания и прежний опыт наиболее эффективно, как говорят европейцы! А для этого мне необходимо знать, что вы умеете делать лучше прочего!
— Я не имею права, ваше высокопревосходительство! — взгляд Асикага полыхал злобой, однако тон оставался почтительным. — Я получил приказ!
— В армиях всего мира приоритет имеет последний приказ или распоряжение вышестоящего начальства, лейтенант! Жаль, что, проходя службу при штабе самого военного министра, вы не знаете об этом! Ещё более жалею о том, что наша беседа на эту тему состоялась только сейчас. Состоись она хотя бы двумя днями раньше, сейчас вы уже возвращались бы в Японию на том клипере, что догнал нас в Средиземном море. По прибытию в Петербург, к новому месту службы, вы, лейтенант Асикага, будете подвергнуты домашнему аресту до принятия решения министерством внешних связей, которое моим рапортом будет немедленно извещено о вашем отказе выполнить мой приказ!
— Слушаюсь, господин вице-адмирал!
В голосе Асикага послу послышалась скрытая издёвка, но придраться было не к чему.
— На ближайшей станции извольте сменить место, чтобы я как можно реже видел вашу физиономию, лейтенант Асикага!
— Слушаюсь, господин вице-адмирал!
Эномото подчёркнуто повернулся к Уратаро Сига:
— На чём мы прервались, лейтенант? Ах да, на американцах и англичанах. Вы, наверное, знаете, лейтенант, что, провозгласив ликвидацию «бамбукового занавеса», наша страна стала открывать в Европе свои постоянные дипломатические представительства. Ну а Россия — наш ближайший северный сосед. Через эту страну в Европу ведут самые короткие дороги. Правда, самих дорог ещё нет, — усмехнулся Эномото. — Вся восточная часть России, так называемая Сибирь, представляет собой огромное необжитое пространство, покрытое густыми лесами и реками, ширину которых нам с вами просто трудно представить, лейтенант! Но дороги и обжитость — это вопрос времени. А дипломатические мосты надо строить раньше деревянных, железных и каменных! Вот мы и направляемся в Россию, чтобы начать строить первый такой мост! Кроме того, есть ещё одна дипломатическая проблема. Вы должны помнить, лейтенант, международный скандал с перуанским кораблём «Мари Рус» — судно зашло тогда на ремонт в Иокогаму. Там с корабля сбежал один из невольников-китайцев. И Япония, в соответствии с международной конвенцией о запрете рабства, освободила более 200 невольников-китайцев, перевозимых в Перу. Перуанцев в том споре, к сожалению, поддержали немцы, англичане и французы. Спор до сих пор не решён, и нам крайне необходима авторитетная поддержка в этом вопросе. Мы здесь рассчитываем на Россию!
— Мне всё понятно, ваше высокопревосходительство. И как вы полагаете — с этими северными варварами удастся договориться насчёт Северного Эдзо так, чтобы интересы Японии не пострадали?
— Не знаю, лейтенант! — откровенно признался Эномото. — У меня, как вы, вероятно, знаете, нет опыта дипломатических переговоров. К тому же во время службы на флоте и… и позже тоже, я почти не имел дел с русскими. В отличие от вас, лейтенант! В Голландии, во время моей учёбы, я был знаком с двумя русскими штурманами — но это знакомство было столь давним и мимолётным. А вот вы, кажется, проходили морскую практику на русских кораблях во время их захода в японские порты?
Уратаро замялся:
— Да, это так, ваше высокопревосходительство! Но мне трудно судить, Эномото-сан: вы же знаете, что начальство строго следило за тем, чтобы отношения японцев и иностранцев не выходили за рамки официальных. Русские показались мне более… простыми, что ли, по сравнению с теми же голландцами, немцами и французами. Более искренними и более уважительными к нашим обычаям и традициям. Но я, возможно, ошибаюсь: я ведь простой моряк!
— «Простой моряк», — повторил Эномото. Он развернулся к Уратаро всем телом и внимательно стал смотреть собеседнику в глаза. — У меня к вам, лейтенант, тоже есть вопрос, который мучает меня с самого начала нашей миссии. Скажите мне, насколько хорошо вы знаете русский язык? Достаточно ли свободно вы им владеете, чтобы разделить вместе со мной большую ответственность за судьбу будущих переговоров?
Уратаро Сига некоторое время старался удерживать глазами пристальный взгляд собеседника, потом потупился.
— Раз вы задаёте мне такой вопрос — значит, скорее всего, знаете и ответ, Эномото-сан! — пробормотал он. — Да, я в достаточной мере знаю язык северных варваров. В бытовом плане. А вот в вашем деле… Трудно сказать, насколько я окажусь полезным!
— Спасибо за искренность, лейтенант, — Эномото отвернулся, вглядываясь в сверкающую синеву моря.
Дилижанс продолжал катить на север. Навстречу несколько раз попадались конные повозки. Их возницы уважительно притормаживали, весело приветствовали экипаж почтовой кареты. Солнце продолжало слепить глаза и жечь тело даже через одежду, и Эномото, вновь погружаясь в дрёму, подумал о том, что до вечера надо бы перебраться на внутренние места в карете.
Убаюкивающее покачивание почтовой кареты внезапно сменилось шумом, треском, лошадиным ржанием и многоголосой итальянской руганью. Дремавший пассажиры-японцы мгновенно пробудились, покрепче ухватились за поручни и заозирались по сторонам, пытаясь понять — что случилось?
Вплотную к их остановившейся карете стоял другой, встречный почтовый дилижанс. То ли кучера обоих карет задремали, то ли не пожелали оставить для встречного экипажа побольше места на узкой горной дороге — кареты не смоли разъехаться и встали, сцепившись осями задних колёс.
Встречный дилижанс был в худшем положении: его правые колёса почти повисли над пропастью, а рывки возбуждённых лошадей мало-помалу сдвигали его в сторону бездны. Кучера, не сходя со своих мест, были всецело увлечены взаимными обвинениями и не замечали этого — лишь перепуганный форейтор встречного дилижанса сполз со своего коренника и убежал подальше, к скале. Лошадей успокоить было некому.
Первым опасность в полной мере оценил Уратаро Сига. Он спрыгнул со своего сиденья, ухватил под уздцы переднюю пару лошадей встречного дилижанса и принялся успокаивать их — поглаживать и похлопывать по взмыленным шеям, что-то тихонько говорить по-японски.
Постепенно лошади успокаивались, перестали рваться вперёд. Затих и зловещий шорох песчано-каменного «ручейка», сыпавшегося в бездну из-под колёс экипажа. Спрыгнувшие следом Эномото и Асикага, не сговариваясь, ухватились за задние колёса своего дилижанса, пытаясь сдвинуть его ближе к скале, — однако карета была слишком тяжела.
Тут спохватились и другие пассажиры. На помощь из кареты выскочили двое мужчин, ехавшие на откупленных японцами местах, стражники обоих экипажей. Совместными усилиями задние колёса кареты, наконец, удалось немного сдвинуть, и тогда Эномото дал знак Уратаро. Тот осторожно потянул лошадей, оси экипажей расцепились, и дилижансы разъехались.
Опомнившиеся кучера, осторожно заглянув в пропасть там, где на краю дороги остались следы колёс, поспешно отступили подальше и дружно закрестились. А потом наперебой принялись предлагать японцам вином из своих бутылей, дружески хлопать их по спинам, обнимать за плечи.
Эномото, уже знакомый с этим бесцеремонным обычаем европейцев, терпел панибратские объятия и похлопывания с лёгкой улыбкой. Однако, наблюдая за своими соплеменниками, он пришёл к выводу, что те в любой момент могут отбросить руки простолюдинов, сделать какие-то угрожающие движения. Особенно это касалось побледневшего от гнева Асикага, никогда близко не сталкивавшегося с европейцами и их обычаями.
Сохраняя на лице улыбку, он громко по-японски предупредил спутников:
— Господа, не обращайте внимание на проявление панибратства! Это ни в коей мере не проявление неуважения к вам! Так в Европе благодарят людей за помощь. Прошу вас, улыбайтесь и не отталкивайте этих тёмных людей, не знакомых с правилами японской вежливости!
Это распоряжение прозвучало вовремя: итальянцы, простодушно и от всей души благодарившие иностранцев за помощь, уже начали обращать внимание на то, что невесть откуда взявшиеся чужестранцы с трудом переносят их вполне дружеские прикосновения. И даже отталкивают их от себя… Самурайская дисциплина и привычка повиноваться старшим заставила молодых японцев хоть и через силу, но вполне дружески поулыбаться в ответ.
Наконец инцидент был исчерпан, пассажиры обоих дилижансов разошлись по своим местам, кучера поднесли к губам свои рожки — и кареты разъехались. Асикага, поджав губы, перебрался внутрь кареты.
Эномото, устаиваясь на своём прежнем «мостике» поудобнее, на этот раз прихватил с собой из чемодана мощный швейцарский бинокль, и теперь через его линзы с удовольствием рассматривал развернувшуюся слева по ходу движения морскую акваторию. Не исключено, что вон тот далёкий белый клочок, почти исчезнувший за линией горизонта, и есть парус уходящего в обратное далёкое плавание японского клипера, догнавшего их корабль позавчера.
Стоило ли, подумал Эномото, на мгновение отводя от лица окуляры бинокля и смаргивая. Стоило ли высокочтимому правительству допускать столь высокие траты, чтобы передать направляющему в Россию послу утверждённые правительством эскизы парадного мундира вице-адмирала? И не мелочная ли сие опека — сопроводить эскизы приказом непременно заказать мундир в Париже?
Мундир Эномото собирался шить где-нибудь по дороге в Россию — в той же Швейцарии, либо в Берлине. Зачем делать такой крюк? Но приказы не обсуждаются — тем более что возможность побывать в Париже чрезвычайно его обрадовала. Как говорят в Европе, нет худа без добра: визит в столицу Франции даст ему возможность увидеться с Жюлем Брюне — если непоседливого солдата удачи не сманили, конечно, в какую-нибудь новую заграничную авантюру.
Эномото и предполагать не мог, что приказ шить мундир именно в Париже и преследовал именно эту цель: подтолкнуть его к встрече с Жюлем Брюне. А если бы он забыл о существовании француза, либо посчитал встречу с ним в своём новом дипломатическом качестве неуместной, то лейтенанту Асикага Томео было приказано, насколько возможно, способствовать этой встрече…
Тем временем почтовая карета всё мчалась и мчалась на север итальянского «сапога». Ещё трижды менялись на станциях лошади, и когда уже ночь раскрыла над Апеннинами свой чёрный бархатный купол, кучер сжалился над утомлёнными пассажирами. Остановив взмыленных коней во дворе пятого по счёту заезжего дома, кучер выкрикнул слово, понятое и без перевода:
— Баста!
На этой станции путников ждал ужин и ночлег.
Эномото сверился с картой, удовлетворённо кивнул головой:
— Как я и предполагал, за сегодняшний день мы преодолели ровно треть пути до Турина. Ещё два дня — и мы в бывшей столице Италии! Там мы пересядем на поезд и далее поедем в гораздо больше комфортных условиях!
Через два дня на третий, прибыв на почтовую станцию Турина, японцы оказались столь вымотанными путешествием, что решили задержаться в местной гостинице, чтобы выспаться и отдохнуть. Правда, предусмотрительный Эномото счёл нужным оставить хозяину распоряжение послать прислугу за билетами на послезавтра — в спальный вагон до Парижа.
Убедившись, что заказанные билеты куплены и доставлены в гостиницу, сопровождавшие японцев сыщики немедленно отбили подтверждающую депешу в Неаполь, и поспешили на заслуженный ими отдых в другую гостиницу.
Электрические сигналы в проводах, прежде чем превратиться в неровные строчки букв, проделали большой путь — сначала в Неаполь, потом, несколько изменившись, в Женеву. Там смысл телеграфного сообщения из Италии, прежде чем оно отправилось в Берлин и Варшаву, изменился уже довольно сильно. И некий мелкий варшавский чиновник, упрятав полученную депешу в особую папочку, отправил в русский Кронштадт совсем другую телеграмму. Эта депеша донельзя огорчила сначала курьера местной телеграфной конторы Осипа Петренко, а следом и… главу Министерства иностранный дел Российской империи, светлейшего князя Горчакова.
— Кондратий Степанович, побойся Бога! — скулил курьер, которому до смерти не хотелось выходить в глухую заполночь на улицу, где свирепый ветер с Финского залива рвал крыши с домов и выл в трубах совсем не по-весеннему. — Какая ж тут срочность у депеши ентой? Ну, ребятёнок бы народился или, скажем, наследствие агромадное кому-то подвалило — ну, тут понятно! Надо идтить — и побежишь. А тут? Купчина пьяный резвится, не иначе! Пишуть про какого-то племянника, ни дна ему не покрышки. Не желает тот племянник ехать туды, а желает сюды… Ну и пусть его — нешто до утра получатель не дотерпит? Кондратий Степанович!
— Осип! Ты меня удивляешь! Депеша под литером «внеочередная», в рупь слово — отправитель деньги уплатил, и нам дела нет, что там писано! А ты ведь экзамен, Осип, в прошлом годе держал на младшего телеграфиста — провалил, правда, но ведь стремился! Как же ты с таким пониманием своего долга должность телеграфиста исполнять бы стал, а? Видно, Бог шельму-то и вправду метит! Бери депешу и ступай, говорю! Доставляй!
Осип, поняв, что никакой отсрочки до утра не выплакать и не вымолить, принялся укутывать тощую шею в поднятом воротнике шинелишки башлыком.
— Полтора часа, как полночь пробило, — бормотал он. — Гляди-ка, срочная кака депеша! Ну, срезал меня почмейстер на екзаменте том — так что же? Всё одно лучше меня географию расейскую никто не отбарабанил, все признали! А тут? Не желает, видите ли, ехать племяш беспутный в Полоцк, а едет в Таганрог. Где на карте Полоцк, а где Таганрог? То-то, пьяный в зюзю купчина тешился, а люди тут страдай!
— Шагай живее, страдалец, — начал не на шутку сердиться телеграфист. — Я вот утром-то начальству доложу, что ты на цельную половину часа доставку «внеочередной» задержал! Погляжу тогда на тебя, географ хренов!
Добравшись до места проживания адресата в каких-то четверть часа — слава богу, Кронштадт невелик! — Осип приготовился долго колотить в парадную двухэтажного особняка, а потом терпеливо убеждать прислугу отпереть двери в глухую ночь. Однако ночного курьера будто бы ждали: после первых же ударов по двери из-за неё послышалось ворчливое: «Кого нелёгкая носит?»
— Телеграмма господину Крапивину, из Варшавы…
Загремели замки и запоры, и лишь в последний момент, перед тем как распахнуть дверь, прислуга посветила в смотровое окошко фонарём: точно ли телеграфный курьер? Фуражка с кокардой, на которой были выбиты две скрещенные молнии, убедила. И дверь распахнулась.
— Давай свою книгу, болезный! Распишусь сам, а барина будить не стану.
Повеселевший Осип охотно протянул открывшему дверь слуге разносную книгу, вручил конверт со сложенным особым манером телеграфным сообщением, и, не удержавшись, по-извозчичьи попросил строго запретное в почтовом ведомстве:
— На чаишко бы с вашей милости. Погоды-то эвон какие: ветрище просто с ног сдувает!
— Получи двухгривенный, страдалец! — слуга сунул Осипу монету и недвусмысленно распахнул входную дверь: выметайся, мол!
А Осип, которому неохота было снова выходить на стылую улицу, медлил:
— Слышь, мил-человек, а барин-то твой кто будет? Из купцов али как?
— Из купцов, из купцов, — скривил губы «мил-человек». — Ты давай, шагай, не студи фатеру-то! Дай двери закрыть…
Поправив башлык, Осип, поджавшись, мелкими шашками побежал обратно в телеграфную контору, с горечью и грустью размышляя о том, что не привёл вот Господь его родиться в купеческой семье. Или, скажем, в семействе большого почтового начальника — нешто он бегал бы вот этак-то, ночами, разнося дурацкие телеграфные депеши?!
Между тем «дурацкая» депеша из Варшавы дала основание прислуге разбудить барина «из купцов»:
— Ваш-бродь, депеша из Варшавы! — бережно потряс барина за плечо прислужник. — И заканчивается словами: «Хвала господу нашему». Ваш-бродь…
— Да встаю уже, встаю, — застонал, заворочался барин — не из купцов, конечно, а из секретных чиновников одного из департаментов МИДа. — Точно там — «Хвала Господу нашему»? Или просто — «Хвала Господу?»
— Нашему, ваш-бродь!
— А-а, ну сейчас!
Очень сильно удивился бы курьер Кронштадтской телеграфной конторы Осип, если бы увидел дальнейшие действия получателя срочной телеграфной депеши. Прочитав и перечитав текст, «барин» накинул тяжёлый халат и проследовал в особую комнату особняка, где был установлен… новейший приёмо-передающий телеграфный аппарат. Включив и настроив его, «барин» отбил положенный на нынешнее число пароль, и, поминутно сверяясь с текстом телеграммы из Варшавы, отправил свою депешу единственному адресату на другом конце провода — светлейшему князю Горчакову.
Таким образом, по прошествии следующего часа, депеша со срочным сообщением из Неаполя была доставлена получателю.
Разбуженный под утро камердинером, принёсшим на подносике сложенный в четверть лист писчей бумаги, светлейший легко поднялся, надел заботливо протянутые очки, развернул бумагу. Камердинер поднёс поближе шандал со свечами: в своём доме новомодного электрического освещения канцлер пока не признавал.
Прочитав и перечитав депешу, Горчаков приказал подать одеваться. Камердинер тихонько вздохнул, понимая, что обращать внимание светлейшего на то, что нонесь только четверть пятого утра, бесполезно. Слава богу, что карету не приказывает заложить — стало быть, домашним телеграфом обойдётся…
В своём кабинете Горчаков, брызгая пером, написал половину странички убористого текста, позвонил в колокольчик:
— Значит, всё-таки Париж, — расстроено бормотал канцлер себе под нос. — И зачем он вам сдался, японские господа самураи? Что вы хотите показать нам, убогим?
В дверях возник помощник министра. Горчаков глазами указал ему на только что подписанную бумагу:
— Это отдайте в первое отделение нашего шифровального департамента, барону Таубе. Пусть самым срочным образом отправят в Париж, графу Орлову. А в Кронштадт для Неаполя по прямому проводу отправьте, голубчик, только имя.
— Будет исполнено, ваше сиятельство…
При канцелярии министра иностранных дел существовал шифровальный департамент, структурно поделённый на два отделения. В первом обрабатывались письма и директивы министерства, адресованные послам и консулам за границу. Второе отделение, руководимое тайным советником Долматовым, занималось более деликатными делами: здесь разбирались копии шифротелеграмм, которые удавалось добыть из дипломатической почты иностранцев. «Добыча» производилась двумя путями: перлюстрацией корреспонденции и методом прямого подкупа курьеров, перевозящих почту иностранных послов и консулов, аккредитованных в России.
Читая чужую переписку, и канцлер, и все чиновники МИДа от мала до велика, отдавали себе отчёт в том, что и российскую засекреченную почту заинтересованные в том иностранцы читают не менее старательно. Системы шифровки, коды и ключи к ним периодически менялись, но это вызывало лишь временные затруднения. Проходила неделя-другая, и добывались новые коды и ключи к ним. Причём добывать их в Европе труда не составляло: во второй половине XIX века в Берлине, Женеве, Брюсселе и Амстердаме сложился настоящий рынок шпионской атрибутики со своими расценками, со стабильными спросом и предложениями.
Именно по этой причине совсем недавно Горчаков, по совету барона Таубе, и завёл несколько неизвестных большинству сотрудников МИДа секретных телеграфных контор, одна из которых и переслала ему нынче шифровку из Неаполя. Из тайного фонда министерства были выделены деньги на покупку домов в непосредственной близости от Петербурга. Купчие, естественно, были оформлены на подставных лиц. Инженеры военного министерства протянули из «контор» прямой провод в МИД. В самих же «конторах» поселились самые обычные люди — где отставной офицер, где скромный рантье, где торговый представитель зарубежной фирмы.
Об установленных в «конторах» новейших телеграфных аппаратах знала только доверенная прислуга, тоже, впрочем, числящаяся по штату внешнеполитического ведомства.
Время от времени по этим адресам приносили депеши из настоящих телеграфных контор — как правило, вполне с виду безобидные и бесхитростные. На самом деле эти телеграммы были своего рода мидовскими молниями. Обработанные депеши по прямому проводу уходили в министерство, а там, как правило, незамедлительно докладывались высшему руководству.
Так случилось и на сей раз. Получив подтверждение о необъяснимом пока повороте японского посланника во Францию, Горчаков немедленно отправил в Париж шифровку о приоритетной необходимости установить самое тщательное наблюдение за персонами, имена которых графу Орлову будут сообщены дополнительно из другого источника. Имя персоны было надёжно зашифровано в другой депеше, совсем короткой, которая начала свой долгий обратный путь из Кронштадта во французскую столицу через Варшаву и Берлин.
Не сомневаясь, что официальная директива на имя графа Орлова уже сегодня будет расшифрована и ляжет на столы европейских коллег, Горчаков надеялся, что к истинному объекту его интереса «дорожки» у них пока нет.
Глава четвертая
Хозяин кабинета впёр в посетителя тяжёлое пламя единственного глаза, и тот, испытывая большие неудобства, тихонечко заёрзал на стуле, однако свой взгляд, удерживаемый на уровне коротких бачков высокопоставленного собеседника, отводить поостерёгся. Граф Николай Алексеевич Орлов, хоть и слыл, в отличие от своего отца, либералом, однако с преклонным возрастом старые раны и постоянное дурное самочувствие стали давать о себе знать. Более всего же граф не любил, когда собеседники в разговоре с ним отводили глаза в сторону. Николай Алексеевич в таком случае мог резко вспылить, наговорить кучу обидных предположений, а то и просто выгнать. Не поглядит, не вспомнит, что Александр Александрович Мельников — не губернский секретаришка, а чиновник 5-го класса, статский советник…
Чрезвычайным посланником в Париж генерал-лейтенант граф Орлов был назначен три года назад, в декабре 1871 года, ранее исполняя такие же должности в Австрии и Великобритании. Мельников прекрасно знал послужной список посланника и глубоко уважал этого человека за былые заслуги на полях сражений. В турецкой кампании 1854 года, будучи ещё в чине полковника, Орлов руководил штурмом форта, и в одну ночь получил девять тяжёлых ран и лишился левого глаза. Обласканный за личную храбрость императором, граф не пожелал доживать дни где-нибудь на покое и уже через самое малое время попросил у государя «живое дело». Чтобы не обидеть старого вояку, государь и направил его на дипломатическое поприще.
Но и тут генерал предпочитал действовать по-кавалерийски, не желая порой даже слышать об азах дипломатического искусства, чем приводил в отчаяние и начальство МИДа и коллег. Со временем граф стал прислушиваться к отеческим увещеваниям государя, осторожным подсказкам коллег из внешнеполитического ведомства. И хотя в узком кругу семьи либо друзей по-прежнему говорил о глубочайшем отвращении к обычным в дипломатической среде увёрткам, недоговоркам и хитростям, на службе он стал использовать во благо дела даже свой имидж прямого, бесхитростного служаки-генерала.
Но вот к чему Николай Алексеевич Орлов за всё время службы посланником так и не смог привыкнуть, так это к насущной необходимости чтения чужой почты, добывания шифров и кодов, тайного наблюдения за иностранными коллегами, а паче чаяния — использование попавшего в руки компромата к вящей пользе отечества.
Вот и сейчас он касался принесённой Мельниковым папки с материалами оперативного наблюдения кончиками пальцев, с явным отвращением. Когда речь шла о тайных операциях, даже густая щётка усов над верхней губой графа шевелилась как-то осуждающе.
— Скверно, милостивый государь! Скверно! Шестой день изволите азиатов под наблюдением держать, а результатов нет! Нету, Александр Александрович! Что прикажете канцлеру в Петербург докладывать?
— Помилуйте, ваше сиятельство! — Мельников позволил себе чуть улыбнуться. — Чего ж тут скверного, если наблюдение не выявило никаких нежелательных контактов? Это ж хорошо! И начальство наше в Петербурге наверняка довольно будет…
— «Не выявило»! — перебил Орлов, по-птичьи чуть склонив голову и недобро щуря глаз на собеседника. — Вот именно: не выявило! Может, просто плохо выявляли-с? А? Вам не приходило в голову, милостивый государь, что у нашего петербургского начальства были все основания подозревать японцев в неких злоумышлениях? Начальству, я вам доложу, всегда чуточку виднее, нежели нижестоящим чинам! Никакой полковник, даже семи пядей во лбу, просто не может представлять себе общей диспозиции войск на поле боя так, как генерал, а тем паче фельдмаршал. Что, не согласны, сударь мой?
— Совершенно с вами согласен, ваше сиятельство! Но у нас-то случай совершено иной! Японский посланник, направляющийся в Россию, в Италии вдруг неожиданно меняет маршрут следования и поворачивает в Париж. Учитывая наши непростые нынче отношения с Францией, это чревато всякими неожиданностями в дальнейшем. И нет ничего удивительного в том, что Петербург, обеспокоенный этим неожиданным поворотом, настоятельно просит нас понаблюдать тут за парижским времяпрепровождением японского посланника! Вот мы и стараемся! И ничего, слава богу, пока не выявили. Вот отправился японец третьего дня к известному французскому мэтру мундир заказывать — может, он и вправду только ради этого в Париж завернул!
— Не знаю, не знаю, Александр Александрович! А встреча с неким французским военным, о котором в сегодняшнем отчёте говорится? Как его там…
— Жюль Брюне, — подсказал Мельников.
— Да, Жюль Брюне, милостивый государь! Разве это не официальное лицо? Не представитель военного министерства?
— Первые сведения о полковнике Жюле Брюне для нас вполне утешающие. Некоторое время тому назад он в составе французской военной миссии пробыл в Японии, в городе Иокогама несколько лет. Там же служил на флоте в чине капитана первого ранга и наш японец, Эномото Такэаки. Так что, скорее всего, это обычная встреча старых друзей, ваше сиятельство! Впрочем, помощник префекта Парижа, известный вашему сиятельству господин Мерсье, обещал в самое ближайшее время предоставить нам по полковнику Брюне подробнейшую справку.
— Не знаю, не знаю, — Орлов забарабанил пальцами по столу. — Я не слишком доверяю французам — легкомысленная какая-то нация! И этот Мерсье — да он просто щёголь светский, да и всё тут! Говоришь с ним о серьёзных вещах, а он всё пылинки с сюртука сдувает, складочки разглаживает… Ногти, извините, подпиливает!
— Напрасно вы этак, ваше сиятельство! Французская тайная полиция едва ли не первая в Европе среди прочих держав! А господин Мерсье, глава её парижского департамента, при всём внешнем лоске имеет высочайшую результативность в своём деле! Вот и за японцами нашими наблюдение организовал — любо-дорого! Я, грешник, подстраховался ведь — параллельно с французами частное розыскное бюро «Бинт и Самбен»[23] на японцев напустил!
— Ну и правильно, — буркнул Орлов, однако при упоминании о розыскном бюро с отвращением пошевелил усами. — Нечего им тут даром хлеб есть, под нашей «крышей» на адюльтере «лягушатников» серебреники свои зарабатывать… Ну, так что они?
— И Генрих Бинт, и Альберт Самбен — из бывших агентов наружнего наблюдения, ежели помните, ваше сиятельство. То есть люди суть многоопытные. И в отечестве нашем поработали, и тут изрядно уже. Так вот, они докладывают, что французские сыскные настолько японцев плотно опекают, что, как говорят, «пальца не сунуть». Пока те в гостинице жили, только раз и удалось нашим «наружнякам» незаметно в их номер пробраться. С пользой, правда: тогда наши агенты вперёд французских обратили внимание на переполненные газетами мусорные корзины в номерах, занимаемых самураями. И унесли тот мусор для подробного и детального осмотра и анализа.
— Оставьте ваши мусорные малопривлекательные подробности, милостивый государь! — крылья горбатого породистого графского носа затрепетали, будто бы при обонянии мусорных корзин.
— Виноват-с… В общем, по многочисленным отчёркиваниям в газетных объявлениях и по сделанным на полях газет пометкам удалось определить, что японцы озабочены поиском достойного мастера по пошиву военного мундира. Что и получило полное подтверждение при дальнейшем наблюдении. Найдя мэтра Ворта, японцы вскорости съехали из гостиницы на меблированную квартиру — либо в видах экономии, либо не желая, чтобы им лишний раз докучала назойливая гостиничная прислуга. Французская полиция, кстати говоря, и там очень оперативно сработала: по докладам наших агентов, прислуга в снятой квартире была моментально заменена агентом полиции. Напротив квартиры японцев, в зеленной лавке, под видом приказчиков также постоянно находятся полицейские агенты наружнего наблюдения. В непосредственной близости от дома дежурит фиакр, извозчик также заменён агентом. Как только японцы выходят из дома, в улице появляется сей экипаж…
— Ловко! — фыркнул Орлов, не маскируя всё ту же брезгливую гримасу. — И во сколько же, позвольте полюбопытствовать, нашей казне обходится такое усердие французских полицейских? Впрочем, не желаю знать! Слава богу, что никаким боком ко всей этой возне не причастен. Вы мне лучше скажите с полной ответственностью, Александр Александрович: могу я со спокойной душой рапортовать в Петербург об отсутствии подозрительных контактов японского посланника?
— Пока да, ваше сиятельство! Зафиксирован лишь визит посланника в военное министерство, к упомянутому мсье Брюне, да к мэтру Ворту, у коего заказан пошив мундира вице-адмирала. Всё остальное время господин Эномото тратит на пешие и конные прогулки по Парижу. Никаких встреч, никаких визитов в официальные учреждения. Что же касается спутников посла, то один из них и вовсе на улицу носа не кажет. Второй ограничивается короткими прогулками в районе проживания.
— Хорошо. Ступайте, милостивый государь!
Покинув личные апартаменты Чрезвычайного посланника во Франции графа Орлова, Мельников спустился на первый этаж особняка на улице Гренель, где размещалась канцелярия и присутствие посольства. Неприметная дверь, завешенная к тому же тяжёлой драпировкой, сообщала посольство со смежным помещением, где и располагалось Заграничное розыскное бюро Департамента полиции. Его ещё называли Парижским — по месту дислокации.
Статский советник Мельников, заведывающий всей Заграничной агентурой, в служебной переписке именовался «командированным министерством внутренних дел империи для сношения с местными властями, а также русскими посольствами и консульствами». В подчинении Мельникова находились также агенты, охраняющие за пределами отечества высокопоставленных лиц и монарших особ.
Главным объектом интереса Заграничного бюро была, разумеется, укрывшаяся в Европе неблагонадёжная русская эмиграция, революционеры всех мастей и калибров, а также прочая, по выражению тогдашнего министра внутренних дел Александра Егоровича Тимашева, «нигилятина». Необходимость отслеживания инакомыслия за пределами России проявилась тогда, когда в Европу переместились революционные лидеры, когда стала очевидным то, что именно тут зреет всё то, что потом «взрывается» в родном отечестве.
Однако очевидность меняющейся диспозиции с революционными и террористическими элементами не способствовала решению проблемы как таковой. Присмотр за инакомыслием, а тем паче проникновение внутрь законспирированных организаций и революционных ячеек за рубежом оказались делом гораздо более трудным, нежели в родном отечестве. Причём трудности начинались уже на границе: ни одна из европейских держав не приветствовала легального появления у себя чужих агентов тайной политической полиции. К тому же многие весьма небесталанные у себя на родине агенты просто не могли работать за рубежом из-за языковых проблем.
Во Франции проблему попытались решить за счёт привлечения местных, как принято говорить, кадров. По согласованию с префектом Парижа Луи Андрие, главой русской резидентуры здесь стал его первый помощник Мерсье — шеф секретно-наблюдательной части парижской полиции. С русской революционной спецификой у него, конечно, было немало проблем. Но когда возникла необходимость плотного оперативного наблюдения за прибывшими в Париж японцами, тут французская тайная полиция проявила себя в полном блеске!
Сегодня, кстати, у Мельникова была назначена встреча с префектом, и он ожидал от этой встречи окончательного разъяснения роли полковника-артиллериста Брюне. Поглядев на часы, статский советник решил по пути в префектуру заглянуть в «Бинт и Самбен».
* * *
В это же самое время из небольшой гостиницы папаши Трибо по другую сторону Сены на парижскую улочку вышел молодой человек в тёмно-синем статском сюртуке, таких же брюках со штрипками и в венском котелке. Глянув в обе стороны узкой кривой улицы с рядами мрачных двух-трёхэтажных домов, он вопросительно обернулся к провожающему его хозяину:
— Ну, чистый Петербург, милейший! Такая же теснотища! Разве что потеплее тут у вас… В какую же сторону мне идти?
— Налево, налево, мсье Берг! Не более десяти минут лёгким шагом, и вы увидите купол Гранд-опера, а сразу за ней — бульвар Капуцинок, являющийся частью Больших бульваров, мсье! Там — истинный Париж! Так вам точно не нужен провожатый, мсье Берг? Вы уверены?
— Разберусь и сам с вашим Парижем, мсье Трибо!
Прикоснувшись двумя пальцами к полям котелка, Берг легко зашагал в указанном направлении, стараясь держаться середины скверно мощённой улицы, где грязи было поменьше.
Подумать только — он в Париже! ещё позавчера, передав сопровождаемую им команду офицеров своего батальона попечению русской военной миссии в Женеве и, тепло простившись с товарищами, он поспешил в билетные кассы железнодорожного вокзала и взял место в спальном вагоне до французской столицы. Поезд прибыл в Париж вечером, и, добравшись до гостиницы, Берг сдержал нетерпение и не отправился тут же на первую «вылазку», решив прежде как следует отдохнуть.
По зрелому размышлению, он ещё в Петербурге решил отказаться на время заграничного вояжа от военного мундира гвардейского батальона — тем паче что устав гвардейских частей требовал неукоснительного ношения мундира только в своём отечестве. Сменив в Париже мундир на статское платье, Берг почувствовал себя в нём хоть и свободней, но несколько неуютно. Более всего он опасался привлечь к себе насмешливое внимание истинных парижан своим провинциальным видом и заранее решил потратить первый день во французской столице на свою модную экипировку.
О Париже Берг много слышал от армейских товарищей, которым посчастливилось здесь побывать, собираясь в «европейскую экспедицию», молодой прапорщик-сапёр не поленился разыскать несколько новых и старых путеводителей. И тайком, опасаясь насмешек товарищей, несколько вечеров подряд штудировал их. Расставшись с командой офицеров в Женеве, он перестал маскировать брошюрки, и к прибытию во французскую столицу считал себя основательно подкованным по части её географии.
Когда минут через десять неспешной ходьбы по улочкам старого Парижа впереди замаячил над крышами серый купол Гранд-опера[24], Берг невольно ускорил шаги, и скоро оказался на широченном бульваре, уже носящем имя барона Османа, великого «переделывателя» облика Парижа. Строительные работы здесь ещё тоже не были закончены, однако яркая зелень и ровные ряды цветущих в эту пору каштанов придавали бульвару праздничный вид. Яркие витрины множества магазинов и полосатые маркизы бесчисленных кофеен дополняли этот вид. В отличие от пустынных и почти безлюдных улочек, по которым Берг пробирался сюда, бульвар был заполнен людьми. Дав себе слово, что непременно вернётся сюда попозже, Берг устремился дальше.
Из пространных объяснений владельца гостиницы папаши Трибо Берг уяснил, что быстро и по последней моде можно экипироваться в одном из многочисленных пассажей — крытых галерей, обжитых торговцами и мастерами.
— Разумеется, истинный парижский облик мсье может приобрести лишь у известных мастеров швейного дела, — живописал француз. — Однако кутюрье шьют одежду несколько дней, а то и недель. Да и стоят их услуги недёшево, гм… Но в уличных салонах и магазинах мсье без труда и потерь времени сможет найти готовое платье, которое подгонят по его фигуре за час-другой. А пассажи, мсье Берг, тем и хороши, что вы без труда сможете скоротать время ожидания в других лавочках и магазинах, художественных салонах и даже в великолепных банях, мсье! Это же Париж!
Всё оказалось так, как и предсказывал папаша Трибо. Свернув в первую же встреченную торговую галерею, Берг без труда нашёл салон-магазин модной мужской одежды с расторопными приказчиками и до приторности вежливым хозяином. Пока портновские помощники спереди и сзади обмеривали фигуру Берга, а череда других демонстрировала клиенту образцы тканей и готовой одежды, хозяин салона перелистывал перед глазами Берга модные журналы, обращая внимание на детали и жужжа в ухо про последние выверты парижской моды.
— Вы из России, мсье? О-о, я мог бы догадаться — нет-нет, отнюдь не по выговору! Ваш французский безупречен, мсье — по одному лишь способу втачки рукавов… Я рекомендовал бы мсье вот этот кремовый сюртук — в Париже уже весна и не горами лето. Этот цвет очень моден в нынешнем сезоне! А в России нынче, позволю осведомиться, пока ещё холодно? О-о, это чувствуется, мсье, по цвету вашего платья, да! Пока Антуан — это мой лучший мастер — будет трудиться над подгонкой вашего сюртука, я мог бы проводить вас, мсье, в магазин по соседству! Трость и цилиндр — без этих деталей мсье не обретёт должного шарма. И конечно же, булавка в галстук, мсье! Извольте повернуть голову направо — видите вывеску с красной окантовкой? Это магазин моего доброго знакомого, мэтра Фрике, ювелира. Моим лучшим клиентам старый пройдоха Фрике обязательно делает большие скидки! Булавка в галстук — и, конечно же, вам следовало бы сменить цепочку для ваших великолепных часов, мсье!
Слегка обалдевший от обилия внимания к своей персоне, Берг изо всех сил старался придать своему лицу безучастное выражение человека, которому подобное обращение не в новинку. Чтобы отвязаться, он согласился и на шляпника, и на ювелира, и на белошвейку мадам Робер, у которой ему было рекомендовано купить не менее дюжины сорочек с модными в новом сезоне высокими воротничками.
Вырвался Берг из галереи лишь часа через два — в новом, совершенно парижском, как уверял мэтр, обличье. Старое платье, как и дюжина приобретённых сорочек, были отправлены с посыльным в его гостиницу.
Назойливость первого встреченного офицером парижского торговца была при всем том весьма почтительного свойства, и Берг, опомнившись от первого ошеломительного натиска, сумел между стрекотанием и комплиментами хозяина получить в его салоне массу полезных сведений.
Мсье ищет салон мэтра Ворта? О-о, это очень известный в Париже кутюрье! Да, у него одевается весь парижский свет, он шьёт и для дам, разумеется. Дорого, конечно — но дело того стоит, мсье! Платье для невесты? О-о, поздравляю, поздравляю, мсье! Ваша невеста будет счастлива получить от вас последний крик парижской моды! Но мсье ещё так молод для брака — вы, ведь, кажется, военный, мсье? Офицер? О-о, никакой мистики! Ваша осанка, походка, а ещё привычка держать левую руку чуть полусогнутой, словно придерживая шпагу или саблю. Я угадал? Позволю себе заметить, мсье, что за мундиром вам не стоило ехать во Францию — в России есть прекрасные мастера. Статское платье — совсем иное дело, мсье!
Вы надолго в Париж? Всего неделя? Не огорчайтесь, мсье! Для первого знакомства с Парижем этого вполне достаточно. Позволю себе порекомендовать вам, кроме пеших прогулок, посетить сады Тюильри, обязательно прокатиться по Сене на лодке — на любой из набережных мсье без труда найдёт лодочников. Булонский лес? Мсье собирается жениться, и я не чувствую себя вправе давать вам советы подобного свойства… Но мы же мужчины, не правда ли, мсье? И у нас должны быть свои маленькие мужские тайны и слабости. В Париже много салонов, где можно без труда свести знакомство с прекрасными женщинами. Разумеется, куртизанками. Ни к чему не обязывающая лёгкая связь, мсье. Рассматривайте сие как собственный каприз. Но вы смущены — умолкаю. Умолкаю, мсье! Как вам будет угодно. Посетите Офицерский клуб ветеранов, сходите в Латинский квартал, на Монмартр.
Окликнув фиакр, Берг велел ехать на Большие бульвары, ещё одно детище неуёмного барона Османа. Префект безжалостно сносил средневековые здания французской столицы, застраивая её одинаковыми доходными домами и пробивая радиальные проспекты для «проветривания» Парижа.
Глазея по сторонам и жадно вдыхая напоённый весенними ароматами цветущих деревьев и роскошных клумб воздух, Берг припоминал строки из путеводителей. Большие бульвары ничем не напоминали бывший на их месте оборонительный пояс города, начало возведения которого положил ещё Карл V. Теперь бульвары Мадлен, Капуцинок превратились в роскошные променады, наполненные толпами прохожих, стуком колёс бесчисленных экипажей, музыкой, смехом.
Ну, катание на лодках и в экипажах, пешие прогулки — это само собой, размышлял Берг. Офицерский клуб? Любопытно, надо только узнать — удобно ли идти туда в статском платье. Салоны, о которых упоминал хозяин салона? Можно, конечно, и сходить, любопытства ради. Входной билет в 30–50 франков — не так уж и накладно за удовольствие поглядеть на высший свет и его досуг. На тех же знаменитых французских куртизанок — будет о чём рассказать в тесной компании товарищей-офицеров. Никаких сомнительных знакомств, разумеется — просто поглядеть. Ну, может, поговорить, перекинуться парой фраз. А может, и не только поговорить. В конце концов, Париж — неофициальная европейская столица любви!
Берг смущённо кашлянул, словно, забывшись, заговорил вслух. Нет, разумеется, в салонах, о которых говорил владелец магазина, не встретишь знаменитостей, о похождениях которых взахлёб писали все бульварные газеты — Баруччи, Коры Перл, Терезы Ла Пайва[25]. Эти жрицы любви имеют собственные дворцы и замки, а если и удостаивают своим вниманием салоны, то будьте уверены: не заведения для широкой публики и безвестных иностранцев, и не за 30–50 франков!
Чёрт, а у меня даже нет приличных визитных карточек, вспомнил офицер. Надо бы заказать — тем более что владелец магазина упоминал об этом. Не то что в великосветский салон — к мэтру Ворту идти неудобно. Кстати же, можно и заказать десяток визиток на вымышленное имя — кто знает, где и когда такая предосторожность может пригодиться!
Берг дотронулся серебряным набалдашником трости до плеча извозчика. Попросил:
— Любезный, мне нужно завернуть в какую-нибудь мастерскую, где срочно делают визитные карточки. Знаете такую? Ну и отлично, поехали!
* * *
Посланцы далёкой Японии понемногу привыкали к суматошной европейской жизни. По утрам, вместо того чтобы подкрепиться традиционной чашкой риса с кусочками рыбы и овощами, они порознь направлялись в ближайшую кофейню за углом. Съедали по два рогалика — правда, чрезвычайно свежих и аппетитных — через силу выпивали по большой чашке кофе со сливками. Потом Эномото и Уратаро отправлялись на прогулку — шли обычно на набережную, где часа полтора неподвижно сидели на скамейке, глядя на яркие блики солнца в волнах реки со странным названием Сена и почти при этом не разговаривали. Слушали крики чаек. Асикага Томео после памятной размолвки с Эномото в дороге старался как можно реже попадаться посланнику на глаза и почти не выходил из своей комнаты, не общаясь даже с Уратаро.
После прогулки японцы расходились по своим комнатам, а после полудня шли обедать в китайский ресторанчик, до которого приходилось добираться на фиакре едва ли не час. Пообедав, японцы обычно расставались — каждый шёл по своим делам. Эномото один раз посетил старого приятеля Жюля Брюне, потом нашёл салон знаменитого французского мастера-портного мсье Ворта, заказал у него мундир по присланным из Японии эскизам и ежедневно ходил к мэтру на чрезвычайно раздражающие его примерки.
После посещения салона Ворта Эномото нанимал фиакр и ехал кататься в один из многочисленных парков Парижа, и к вечеру возвращался домой. Чем в это время занимались лейтенанты — он не знал. По вечерам, велев прислуге вскипятить воду, Уратаро самолично заваривал традиционный японский чай и церемонно приглашал в общую гостиную сансея Эномото.
Когда японская дипломатическая делегация сменила гостиницу на съёмную квартиру, Уратаро сумел втолковать туповатому слуге, что ему нужен низенький столик. Такового в окрестных мебельных лавках, по уверениям слуги, не нашлось — пришлось покупать обыкновенный, европейский и укорачивать его ножки. Слуга отпилил их не слишком ровно, и под них всё время приходилось что-то подкладывать, чтобы чай не расплёскивался.
Пятый день в Париже начался для японцев как обычно. Только после кофейни, уже у порога дома, где путешественники снимали меблированную квартиру, Уратаро Сига придержал дверь, которую традиционно распахивал с поклоном перед Эномото.
— Сансей, вы не впервые в Европе, и, должно быть, уже научились различать одинаковые для нас лица варваров?
— Что вы хотите этим сказать, лейтенант?
— Я прошу вас, Эномото-сан, не торопясь повернуться ко мне. И, не привлекая внимания, поглядеть на человека в дверях лавки напротив…
Помедлив, Эномото повернулся к Уратаро, скользнул взглядом по зеленной лавке напротив. Как и всегда, приказчик раскладывал и перекладывал на лотках и ящиках выставленную перед лавочкой зелень и овощи, взбрызгивал свой нежный товар водой из кувшина.
Уратаро поднял трость, и, указывая её концом на конёк крыши дома, быстро заговорил:
— А теперь незаметно поглядите назад, ваше высокопревосходительство. Туда, откуда мы с вами только что пришли. Видите человека в коричневой одежде и с газетой в руке?
Эномото фыркнул:
— Только мне и забот, что разглядывать простолюдинов, лейтенант! Конечно, вижу — ну и что?
— Не глядите на него так пристально, сансей, прошу вас, — попросил Уратаро, делая вид, что по-прежнему разглядывает крыши домов напротив. — Это человек был в той же кофейне, что и мы, сидел неподалёку и старательно читал газету. Только верхняя часть одежды — я никак не запомню её европейское название — у него была не коричневой, а серой. Он вышел из кофейни вслед за нами, прошёл квартал, а потом, заскочив на мгновение в переулок, вышел оттуда уже в коричневой одежде…
— Сюртуке, — машинально отметил Эномото.
— Да, в сюртуке, спасибо. Я совершенно уверен, ваше высокопревосходительство, что именно этот человек вчера изображал приказчика в лавке напротив нашего дома, а в кофейню за нами ходил тот, что сейчас перекладывает овощи. Это шпионы, сансей! Они следят за нами с первого дня нашего приезда в Париж…
— Вы не слишком подозрительны, лейтенант? Может быть, решили поиграть в «невидимых»[26]? Даже если так — вспомните, у нас в Японии за иностранцами тоже всегда наблюдали — кто из любопытства, кто из политических соображений. Разве не так?
— Вы правы, ваше высокопревосходительство! — поклонился Уратаро. — Однако за нами шпионят отнюдь не любопытствующие бездельники. Это совершенно очевидно, сансей! И ещё фиакр! Каждый раз, как мы с вами едем куда-то, к дому подъезжает один и тот же фиакр! У возницы на пальце правой руки очень приметное кольцо, ваше высокопревосходительство…
— Не стану спорить — насчёт уличных соглядатаев вы, может быть, и правы. А вот с фиакром — не знаю, не знаю! Возможно, он действительно один и тот же — но разве не может так случиться, что возница просто имеет неподалёку постоянное место ожидания седоков? Пойдёмте в дом, лейтенант!
Проводив японцев взглядом, человек в коричневом сюртуке неторопливо подошёл к зеленной лавке, с рассеянным видом подержал в руках пучки тепличного шпината и скрылся в глубине помещения. «Приказчик», помедлив, зашёл в лавку вслед за ним.
— Все как обычно? — вполголоса поинтересовался он. — Никаких отклонений?
Коричневый сюртук кивнул:
— Да, кофе и по паре рогаликов. Потом набережная и обратно сюда. Только нынче, мне кажется, японцы заметили наблюдение. Тот, что помоложе, необычно часто оглядывался, неожиданно останавливался. И вот сейчас — ты обратил внимание, Жан? Он задержал спутника, показывал ему что-то на крышах — но второй азиат оглядывался при этом либо на меня, либо на тебя!
— Надо отметить в донесении, что в лавке нужны новые лица, — кивнул собеседник. — И нашим сменщикам надо бы поменьше мелькать у входа, чтобы азиаты из окон не запомнили лиц… Ну, что — я пошёл с докладом к шефу? Если всё будет по обычному расписанию, они отправятся на обед не раньше, чем через полтора-два часа.
* * *
Первый день в Париже складывался для Берга как нельзя удачно. Обзаведясь соответствующей столичной моде статской одеждой, молодой офицер довольно скоро нашёл типографскую мастерскую, где чумазый наборщик и владелец в едином лице за час изготовил для него две дюжины визитных карточек на имя Берга и с упоминанием его истинного воинского чина. Ещё дюжину, смущаясь и стараясь не краснеть, Берг заказал якобы для своего товарища — на другое имя. Мастеровой, как истинный француз, принимая заказ, и бровью не шевельнул — разве что не преминул взять за второй комплект карточек вдвое, нежели за первые две дюжины.
В ожидании исполнения своего заказа Берг наскоро пообедал в ресторанчике неподалёку, а потом, наняв новый фиакр, велел ехать в салон мэтра Ворта.
Салон внушал почтение ещё на подходах к нему. У трёхэтажного особняка фиакр Берга был встречен расторопным помощником швейцара. Ему тут же вручили тяжёлую бляху с выгравированным номером «28», и пока Берг соображал, к чему бы эта бляха, помощник уже вскочил на подножку экипажа и велел вознице ехать на стоянку извозчиков за углом. Швейцар в форменной одежде, обильно украшенной галунами и позументами, распахнул перед посетителем тяжёлую дверь и с достоинством поклонился.
Вестибюль первого этажа особняка представлял собой огромную приёмную с бесчисленными креслами, козетками и диванами, где сидели и неторопливо прохаживались с полдюжины важных господ. Ноги Берга едва не утонули в гигантском ковре восточной работы. Стены приёмной, обитые светло-серым шёлком, были увешаны картинами. Там, где кончался ковёр, наверх вела широкая лестница белого мрамора, раздваивающаяся после первого марша.
А к Бергу уже спешил здешний служитель. Поклонившись, он предложил посетителю следовать за ним. На первом марше лестницы слуга повернул направо, и только тут Берг заметил позолоченную табличку с надписью «Для дам», украшавшую левую лестницу. Поднявшись наверх, Берг очутился в ещё одной приёмной, поменьше. Здесь также присутствовали картины, статуи, кресла и козетки — и зеркала, зеркала во всех простенках между окнами! Именно эти зеркала сыграли поначалу с Бергом шутку: ему показалось, что здесь, как и в нижней приёмной, много народа. Однако посетитель тут был всего один. Когда он повернулся к Бергу, тот с некоторым удивлением обнаружил, что у него ярко выраженный азиатский тип лица. Сдержанно поклонившись вошедшему, азиат продолжил свою неторопливую прогулку вдоль диванов и козеток.
Служитель повернул к новому посетителю породистую физиономию и вопросительно поднял брови. Спохватившись, молодой офицер вручил ему свою новенькую визитную карточку и выразил пожелание видеть господина Ворта. И тут же получил решительный отказ: мэтр удостаивает личной встречей только по предварительной договорённости. Мсье не располагает такой договорённостью? Тогда его немедленно примет помощник и ученик мэтра Ворта.
Берг, промокнув платком лоб, невольно помянул про себя нехорошими словами невесту Настеньку, втравившую его в этакое предприятие. Туда ли он вообще попал? Может, следовало идти по левой лестнице, в дамское отделение салона?
Шевелились в голове молодого офицера и невесёлые мыслишки насчёт собственных материальных возможностей: в этаком салоне, где буквально всё кричало о богатстве и непомерной роскоши, и гонорары за пошив платья наверняка соответствующие…
Размышления Берга прервали распахнувшиеся двери в противоположных концах помещения. Из ближней к офицеру направился человек с львиной гривой, в просторной белоснежной блузе, подхваченной на талии узеньким алым ремнём, в малороссийских шароварах и с сантиметром на шее. Из второй двери пожилой человек в клетчатой паре почтительно поманил к себе посетителя-азиата.
Торопясь, Берг изложил помощнику мэтра цель своего визита. И, не закончив, вытянул из кармана лист бумаги, на которой были запечатлены портновские параметры невесты. Помощник внимательно поглядел на бумагу, сделал шаг назад и, не глядя, дёрнул за сонетку. Появившемуся тут же слуге было велено пригласить сюда мсье Шарля.
— Удивительно! — бормотал помощник, всё ещё глядя на бумагу. — Удивительно, сударь! Фигура вашей невесты является точной копией фигуры мадмуазель Кло, любимой манекенщицы мэтра Ворта! Вы говорите, что специально приехали за платьем для невесты из самой России? О-о, я непременно должен сказать об этом мэтру! Прошу вас, присядьте, мсье офицер! Присядьте и соблаговолите подождать несколько минут… Кстати, а что наш дом моды может предложить вам, мсье?
Берг замялся: для него! Дай-то бог, чтобы наличности хватило на платье для Настеньки!
— Я… Я должен прежде подумать, мсье, — выдавил он из себя.
Испытующе глянув на посетителя, помощник, не выпуская из рук бумаги, исчез за ближней дверью, и Берг остался один. Впрочем, ненадолго: вскоре дальняя дверь опять распахнулась, и в проёме показался давешний азиат в необычном военном мундире. Вышедший вслед за ним помощник мэтра сделал приглашающий жест:
— Прошу, мсье Эномото! Походите по этой комнате, обживите, как говорят у нас, мундир!
Азиат, искоса поглядывая на Берга, помедлил, но всё же дошёл до ближайшего зеркала, постоял перед ним, несколько раз согнул и разогнул в локтях руки, и, повернувшись к служителю, коротко поклонился:
— Мне нравится, мсье! — несколько глуховатым голосом по-французски объявил он. — И если вы считаете, что работа выполнена, я готов забрать мундир!
— Что ж, тогда прошу снова в примерочную комнату, — важно кивнул помощник мэтра Ворта.
Берг снова остался один, однако на сей раз ненадолго. Появившийся служитель объявил ему, что мэтр просил оказать ему честь и принять одно из платьев своей новой коллекции в подарок для невесты мсье. Берг начал было отказываться, но помощник мэтра решительно покачал головой:
— С мэтром Вортом в Париже не спорят, мсье! Или в подарок, или никак! Не упрямьтесь, мсье! мэтр надеется, что в знак благодарности вы осчастливите нас заказом модного платья для себя! Негоже, если рядом с очаровательной невестой в платье от мэтра Ворта будет стоять видный жених в невнятном, пардон, одеянии…
Ну что тут скажешь! Берг шутливо поднял в знак капитуляции обе руки, и тут же был уведён в примерочную, для снятия мерки.
Процедура оказалась не слишком долгой, и по её завершению молодого офицера попросили подождать в приёмной: платье невесты нужно было как следует упаковать.
В приёмной Берг опять оказался вдвоём с тем самым азиатом, который ждал, пока ему вынесут упакованный мундир.
Некоторое время мужчины молчали, бросая друг на друга короткие взгляды. Оба чувствовали некоторое смущение от необычности обстановки. Наконец Берг решился: подойдя к азиату, он по-военному щёлкнул каблуками, наклонил голову и протянул свою карточку:
— Вы, я вижу, как и я, военный, сударь! Позвольте рекомендоваться: лейб-гвардии Сапёрного полка из Санкт-Петербурга прапорщик Михаил Берг! — И на всякий случай добавил: — Петербург — это столица России, сударь…
Азиат принял карточку Берга обеими руками, с достоинством поклонился, сделал неуловимое движение рукой, и в свою очередь протянул собеседнику свою карточку на плотной бумаге цвета слоновой кости.
— Рад знакомству, господин гвардейский прапорщик! Имею честь рекомендоваться: вице-адмирал военно-морских сил Японии Эномото Такэаки!
Услыхав высокий чин нового знакомого, соответствующий, по российской Табели о рангах, чиновнику 3-го класса (к коему он обратился без должного почтения!), Берг вытянулся в струнку:
— Прошу простить за дерзость, ваше высокопревосходительство! Не будучи знатоком знаков отличия вице-адмиральского мундира японской армии и движимый единственно доброжелательным любопытством, я позволил себе…
— Полноте, господин прапорщик! — приятно рассмеялся японец. — Не смущайтесь, ибо я и сам чувствую себя несколько смущённым. Я пожалован своим чином совсем недавно…
Повисла неловкая пауза. Когда она стала затягиваться, Берг снова заговорил:
— Ваше французское произношение безупречно, ваше высокопревосходительство! Осмелюсь осведомиться — давно ли изволите жить в Париже?
— Вторую неделю, господин офицер, — снова рассмеялся японец. — Однако должен вам признаться, что некоторое время назад я прожил в Европе целых шесть лет. И за это время выучился говорить и по-французски, и по-фламандски, и по-немецки. Сожалею, что пока не знаю русского языка, ибо Париж для меня — лишь короткая остановка на пути в Россию.
— Вот как? — удивился Берг. — Сие очень приятно, ваше высокопревосходительство! Вы, смею предположить, едете в Россию в составе военной миссии вашей страны?
— Нет, — отчего-то вздохнул Эномото. — Мой император оказал мне честь, назначив Чрезвычайным и Полномочным Посланником в вашу страну…
— О-о! — только и смог выдавить из себя Берг. — Простите ещё раз, ваше высокопревосходительство!
— Перестаньте тянуться, господин прапорщик! Его величество Александр II ещё не принял из моих рук верительных грамот. Только в этом случае я обрету статус посланника и останусь в России на продолжительное время. И надеюсь, тогда мы с вами продолжим наше приятное знакомство. Знакомство, начавшееся в столь необычном для военных людей месте — в модном салоне известного парижского мэтра!
Мужчины дружно рассмеялись — к удивлению приказчиков, одновременно вынесших из разных дверей объёмистые коробки с упакованными в них обновками.
На улице мужчины обменялись прощальными церемонными поклонами.
— Рад был познакомиться, господин Берг! Из французских газет я знаю, что его величество император Александр II нынче завершает свой визит в Англию. И мой мундир готов, так что я отбываю в вашу столицу в самое ближайшее время. Рад буду встретиться с вами в Петербурге, господин прапорщик! — японец снова поклонился. — Правда, я ещё не знаю, где буду жить и работать в русской столице. Тем не менее прошу вас навестить меня при первой возможности!
— Знакомство с вами — большая честь для меня, ваше высокопревосходительство! Однако боюсь, что ваш статус посланника, множество важных дел, кои вам предстоят в России, могут не предоставить мне такой возможности…
— Тем не менее прошу без лишних церемоний, господин Берг!
Глава пятая
Зима и весна наступившего 1874 года стали для монаршего семейства Романовых хлопотными и весьма насыщенными событиями. Особенно богатым этот год для царской династии оказался на свадьбы.
Если браки и заключаются на небесах, то к брачным союзам монархов это утверждение никак не подходит. Тут всё определяет политика, в том числе и просчитанная на перспективу. Женятся не люди — в брак вступают малые и большие державы. Предтечей первой брака Романовых 1874 года в Европе стала Германия, ровно за три года до этого объединившаяся вокруг Пруссии под властью короля Вильгельма I. Став сильнейшим в военном смысле государством мира, объединённая Германия обеспокоила всю Европу, и в первую очередь — Россию и Англию. Что касается Франции, разгромленной немцами и пережившей в довершение ко всему весенний взрыв Парижской коммуны, то слово «уныние» было, пожалуй, самым мягким из всех определений, отражающих настрой во французском обществе.
Немцам нужно было срочно что-то противопоставить! Эта необходимость была для Александра тем более насущной, что накачивающая мускулы Германия была весьма недовольна русской антитурецкой политикой и симпатиями русского императора к порабощённой Болгарии. Таким противопоставлением могло и должно было стать глобальное улучшение отношений России и Англии.
Понимая необходимость этого, Александр отдавал себе отчёт и в том, что «склеить давно разбитое» будет чрезвычайно сложно. Главным препятствием были чрезвычайно сильные антирусские настроения британских государственных деятелей, и прежде всего — самой королевы Виктории. Красивая девятнадцатилетняя англичанка когда-то сводила с ума наследника русского престола, и сама мечтала увидеть его принцем-консортом туманного Альбиона.
Теперь красавица превратилась в тучную, вздорную по характеру вдову с тремя подбородками. Она редко кому улыбалась, а при слове «русский» или «Россия» лицо Виктории и вовсе каменело.
Если не принимать во внимание патологическую ненависть протестантки Виктории к русскому православию, которое она считала «византийским пережитком» и религией, оправдывающей деспотизм, то в отношениях Англии и России были две занозы. В политике — победоносные русские военные экспедиции генерала Кауфмана, всё ближе, к тревоге англичан, подбирающегося к Индии — главной жемчужине британской короны. Второй занозой была возмутительная, и при этом совершенно не маскируемая Александром его связь с Екатериной Долгорукой.
Первая причина недовольства и опасения британцев вызывала у Александра саркастическую улыбку — русский самодержец знал о смехотворности подозрений относительно продвижения России на юг, но язвительные комментарии и прозрачные намёки английских газет на скандальные факты из его личной жизни вызывали у него сильнейшее раздражение. Получая из рук князя Горчакова очередную кипу английских газет с отчёркнутыми статьями о «русском адюльтере под сенью трона Романовых», Александр не раз в гневе швырял газеты на пол и запальчиво поминал канцлеру дедушку Крылова и его басню относительно соринки в чужом глазу и бревна в собственном.
— Как эта старая дура смеет упрекать меня в порочащих связях и разврате, ежели сама делит своё королевское ложе то с писателишкой Дизраэли, а то и вовсе с плебеем, собственным камердинером Брауном! Не иначе как перед тем, как затащить их в постель, она вешает вечером своё пуританское целомудрие в шкаф, вместе с париками и юбками!
И не было, пожалуй, ничего удивительного в том, что, получив в 1872 году письмо Виктории, в котором она от имени младшего сына Альфреда просила для него руки великой княжны Марии, Александр обрадовался возможности отыграться. Под его диктовку великая княжна тут же написала принцу вежливый отказ — полив, отметим справедливости ради, его слезами разочарования. Надо ли говорить, что унизительный для английского королевского дома отказ «русских варваров» привёл Викторию в настоящее бешенство!
Между тем со своим будущим женихом единственная и любимая дочь Александра II Великая княжна Мария познакомилась за два года до этого в Дармштадте, столице герцогства Гессен и Рейн. Венценосный жених именовался принцем Альфредом Эрнстом Альбертом фон Саксен-Кобург и Гота, герцогом Эдинбургским, графом Ульстера и Кента.
Дав «старой английской дуре» злорадный щелчок по её заносчивому носу, Александр, впрочем, скоро пожалел о своей опрометчивости. Во-первых, он любил единственную дочь Марию едва ли не больше других своих детей и не мог не видеть, что своей политикой разбил её влюблённое в Альфреда сердечко. Очень ценил Александр и то, что младшая дочь не осуждала, в отличие от прочих домочадцев, его связи с Долгорукой. Мария беззаветно любила отца и считала его выше всякой критики.
Ну и отношения с Англией надо было, разумеется, как-то восстанавливать. Но как теперь их восстановишь?
Положение спасла императрица Мария Александровна. Она сумела убедить супруга — который, кстати говоря, только и ждал, что его переубедят, — в необходимости английской партии для их дочери. Альфред был единственным принцем, который искренне нравился юной Марии. Она настаивала на том, что ни герцогу Вюртембергскому, ни прочим принцам никогда не завоевать сердце их единственной дочери. Любящему отцу ничего не оставалось, как капитулировать. И в июне 1873 года, уже от имени императрицы Марии Александровны, королеве Англии была послана телеграмма, приглашающая принца Альфреда и его мать прибыть в Югенгейм, куда была намерена подъехать и великая княжна Мария. Матерью жениха, как легко догадаться, была королева Великобритании и Ирландии, императрица Индии Виктория I, Александрина фон Ганновер.
Теперь пришла пора заартачиться «старой дуре» Виктории! Для смотрин невесты сына она назначила не континентальную Европу, а Лондон, и направила Александру приглашение прибыть туда. Русский император счёл такое путешествие для славянской гордости неприёмлемым. Обстановку не разрядило даже компромиссное предложение императрицы Марии Александровны о встрече царствующих особ и их детей в Кёльне, на полпути между столицами. Виктория ни в какую не соглашалась, и в Петербурге несколько приуныли: неужели все свадебные приготовлениями зашли в тупик?
Возможно, так бы и произошло, если бы не упорство и здравомыслие самого принца Эдинбургского Альфреда.
В то время, когда в Европе снова запахло скандалом, Альфред со своим старшим братом, герцогом Уэльским, прихватив с собой ещё одного члена английского королевского дома, герцога Коннаутского, прибыл в Санкт-Петербург прямо на свадебную церемонию, против воли Виктории.
«Старой дуре» только и оставалось, что «мелко напакостить» дому Романовых: глава британского королевского дома, щедро раздаривающая индийские сапфиры и изумруды своим горничным, презентовала Великой русской княжне в качестве свадебного подарка лишь… веточку мирта и молитвенник с картинками. Презрительно посмеявшись над глупой выходкой, Александр устроил в Зимнем дворце грандиозную свадебную церемонию, превосходящую по пышности самые смелые предположения и собравшую в русскую столицу представителей почти всех королевских династий Европы.
Коврами были усланы не только подъезды к царским резиденциям, но и столичные вокзалы. Шитые золотом ливреи слуг соперничали на улицах русской столицы с парадными мундирами дипломатического корпуса и иностранных вельмож, прибывших на торжество.
Необыкновенно торжественным было православное венчание в придворной церкви Зимнего дворца. Последующий за венчанием англиканский обряд бракосочетания в Александровском зале выглядел, по мнению гостей, «свадьбой малоимущих». Не успели английские гости переварить сие «коварство северного деспота», как гостей пригласили «перекусить чем Бог послал», и тут началось такое.
За накрытыми обеденными столами в Торжественной зале Зимнего дворца уселись свыше 700 гостей, для которых во время обеда пели примы итальянской оперы. Ещё большее количество приглашений — в четыре раза больше — было роздано участникам последующего бала.
Разумеется, свадебные торжества не исключали множество официальных и неофициальных встреч Александра с главами правительственных делегаций и королевскими особами, прибывшими в русскую столицу. Расписание этих встреч было столь плотным, что они растянулись практически до конца января.
Это было временем напряжённой работы и постоянного бдительного внимания внешнеполитического ведомства Российской империи, и в первую очередь канцлера, светлейшего князя Горчакова.
Вызывающее отсутствие на свадебной церемонии Бисмарка было правильно расценено как проявление недовольство сближением России с Англией. Озабоченность германской коалиции была столь велика, что потребовала немедленного визита в Санкт-Петербург австрийского императора Франца-Иосифа. Ковры с дебаркадера Варшавского вокзала едва успели наскоро почистить перед прибытием монаршей делегации Австро-Венгрии.
Встретив и проводив её, внешнеполитическое ведомство Российской империи смогло ненадолго перевести дух перед началом подготовки ответного визита Александра II в Штутгарт. Самому же императору отдыхать было некогда: окончание зимы и первые весенние месяцы были ознаменованы в России беспрецедентным «походом в народ» революционно настроенной молодёжи. Глава Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии и одновременно шеф Жандармского корпуса ежедневно возил в Зимний пуды бумаг, свидетельствующих о внушающем нешуточные опасения брожении умов. На недалёких горизонтах маячили призраки будущих громких политических процессов и скандалов. Всё это, конечно, будет — но пока надо было думать о другом.
И вот уже в начале мая капитан императорской яхты «Штандарт» получил приказ сняться с якоря и следовать в Гамбург — там после окончания штутгартского визита на его борт должен был подняться Александр II со свитой. Сам император днём позже двинулся в Штутгарт в салон-вагоне своего личного поезда: в Вюртембергском Королевстве ему предстояло почтить своим присутствием ещё одну свадьбу — своей племянницы, Великой княжны Веры Константиновны с герцогом Вильгельмом. После этой второй свадьбы в доме Романовых император планировал посетить свою дочь, герцогиню Эдинбургскую, двумя месяцами раньше увезённую супругом в туманный Альбион — для этого ему и требовалась яхта «Штандарт»!
Была у русского императора ещё одна цель, не менее важная, нежели свидание с дочерью: Александр, как уже поминалось, намеревался сделать очередную попытку излечить традиционную английскую русофобию. Повлиять на британский королевский двор в плане смены презрительного недоверии — если не на горячую симпатию, то хотя бы на понимание и терпимость к российской политике на Балканах.
Склонный по характеру к философствованиям, Александр много размышлял о природе британской русофобии и не видел для её возникновения никаких причин. Вторичную волну недоумения государя вызывало полное отсутствие англофобии у своих подданных. Скорее уж наоборот: в подавляющей своей массе образованная часть русского общества весьма приязненно относилась к англичанам и благоволила к их природному душевному равновесию и умению с наивысшим комфортом устраивать свою внутреннюю жизнь.
Александр с горечью осознавал и пропасть, существующую между русским и английским характерами. Император хорошо понимал, что импульсивные, чувствительные и сентиментальные русские никогда не смогут превратиться в степенных, волевых англичан, господствующих над своими чувствами, умеющих скрывать свои страсти и следовать во всём материальным интересам. Всё это не могло привести императора к выводу о том, что столь глубокие различия между русским и англичанином устранить просто невозможно!
Но если их невозможно устранить — неужели он не в силах хотя бы удержать существующую пропасть в её нынешних границах?
Был у Александра и ещё один повод для этого трансъевропейского «блицкрига» — цель, о которой не подозревал до поры до времени даже канцлер Горчаков, неизменно сопровождавший Александра в его зарубежных вояжах и от которого у государя, по его утверждениям, не было тайн.
Проект протокола визита Александра II в Англию, заблаговременно отправленный британской королеве по официальным каналам, вернулся к Горчакову несколько неожиданным путём. Он был доставлен в Гамбург на королевской яхте «Black Eagle», вырвавшейся из метрополии по личному и срочному приказу королевы Виктории. Адмирал Пейн, командир «Чёрного орла» сразу после выхода в пролив приказал поднять давление в котлах паровых машин яхты до возможного предела. У форштевня яхты вскипел пенный бурун, а два британских миноносца почётного сопровождения, отчаянно дымя трубами, едва поспевали за королевским посланцем.
Утвердив и согласовав все предложения Российского МИДа, Виктория даже дополнила протокол военным парадом в честь русского царя, который Александр должен был принимать лично. Но главным сюрпризом было пожелание королевы о том, что на английскую землю русский император должен был ступить непременно с борта её яхты[27]. Её «Чёрного орла»!
Пока Горчаков хмурил брови над британским посланием, припоминая подходящие к случаю международные прецеденты, император, успевший пробежать утверждённый Викторией протокол визита, пожал плечами:
— А что? Это будет даже интересно. Я согласен — если мой «Штандарт» будет идти рядом!
Визит Александра II в Англию получился удачным. Пребывание в Британии русского императора произвело на англичан благоприятное впечатление. Ярлык «азиатского деспота», угнетающего не только своих подданных, но и европейскую культур[28], прочно прилепившийся Александру с лёгкой руки английских газетчиков ещё во время Крымской войны, был подвергнут значительному сомнению среднего сословия. «Если русские настолько дики, невежественны, грубы и коварны, если они не заслуживают ни малейшего доверия со стороны цивилизованного мира — тогда почему наша королева позволила своему сыну сочетаться браком с дочерью русского царя?»
Толпы народа запрудили улицы британской столицы, когда русский император в открытой коляске проследовал из порта в королевский дворец. Толпы англичан сопровождали его и во время многочисленных парадных выездов. Виктория лично встретила императора у входа в Виндзорский дворец и сопровождала его во всех поездках. Александр по приглашению лорда-мэра Лондона посетил знаменитый Хрустальный дворец английской столицы, где слушал исполнявшуюся в его честь известную британскую кантату «Дом, милый дом».
Военный парад в его честь 19 мая русский император принимал верхом на лошади — к восторгу многотысячной толпы. На следующий день «Штандарт» должен был увезти Александра II в Россию.
Прощаясь поздно вечером того же дня с дочерью, он вдруг припомнил, что практически не видел на лондонских улицах вооружённой охраны. И что местные полицейские, экипированные только дубинками, легко сдерживали весьма деликатный натиск тысяч людей, желавших посмотреть на русского царя поближе. По донесениям заграничной службы Охранного отделения Департамента полиции, Александр знал, что в Лондоне есть немало личных его врагов, в том числе и здешних польских эмигрантов, отнюдь не питающих к нему тёплых чувств. Знал, был внутренне готов — и вот теперь констатировал, что за всё время визита не было ни одной попытки покушения…
Дочь Александра, герцогиня Эдинбургская, выслушав высказанные отцом слова удивления по этому поводу, вздохнула:
— Милый papa, англичане, насколько я успела понять, слишком любят свою королеву, чтобы, причинив зло её гостю, огорчить и обидеть её…
Александр, в свою очередь, тоже вздохнул:
— Из этого я делаю вывод, дочь моя, что мои подданные любят своего государя несравнимо меньше, чем чопорные британцы свою королеву. Да, Россией управлять не сложно, однако совершенно бесполезно![29]
Программа визита была выполнена. Александр даже сумел, не привлекая к этому особого внимания, открыть в «Bank of England» некий счёт на солидную сумму. Это и было тайной дополнительной целью нынешнего визита — подстраховаться на случай острых политических ситуаций в России, частенько заставляющих его менять курс либеральных реформ на политику «закручивания гаек». К тому же по возвращению в Россию, император планировал подписать крайне непопулярный для него документ — указ об официальном своём признании детей, прижитых им от княгини Долгорукой, о даровании им титула светлейших князей Юрьевских. Александр в полной мере отдавал себе отчёт: случись что с ним — его возлюбленная и их дети буквально пойдут по миру. Этого он допустить не мог!
Отдав последние распоряжения насчёт завтрашнего отплытия и сердечно попрощавшись с дочерью, император вернулся в кабинет своей резиденции, где Горчаков, предельно уставший за последние месяцы, успел мирно задремать в своём кресле. При звуке шагов императора канцлер встрепенулся, открыл не по-старчески ясные голубовато-серые глаза, сделал попытку подняться. Александр удержал его за плечи, уселся напротив, ласково улыбнулся:
— Вижу, вижу, что ты изрядно устал, светлейший! Я тоже, признаться, устал. Погоди, мой старый друг! Вот вернёмся домой, закатимся в нашу Ливадию.
— Некогда отдыхать, государь! — тут же возразил Горчаков, недовольно дёргая шеей в высоком жёстком воротнике парадного мундира. — Да и вам, полагаю, раньше середины следующего месяца с Ливадией погодить следовало бы, ваше величество…
— Отчего же? — удивлённо замигал император. — Отчего мне-то годить, Александр Михайлович? Тебе по рангу положено без устали трудиться, пока ты неустанно, в поре лица всей российской дипломатией управляешь. А я, дорогой мой канцлер, нынче весной за всю Европу, кажется, потрудился!
— Совершенно верно, государь! Но кое-что и несделанным осталось. Изволите ли помнить, ваше величество, что я в Лондоне с графом Орловым, нарочно сюда приехавшим из Парижа, несколько приватных бесед имел? Так вот, дело касалось японского посланника, едущего в Россию и во Франции неожиданно зажившегося.
— Ах да, да! Теперь припоминаю — ты говорил мне о нём… Ещё в начале года, если не ошибаюсь?
— Совершенно верно, государь, в марте-с. Я имел честь докладывать вам, что японским микадо кандидатура посланника одобрена, с нашим протоколом согласована. А также то, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии отправился в Россию морским путём. В апреле из Неаполя мне донесли, что японец наконец прибыл, однако неожиданно для всех поехал не в Россию, а во Францию.
— Ты ничего не говорил мне об этом, господин канцлер! — нахмурился Александр. — Что означает сей японский демарш?
— А вы вспомните, государь: планируя расписание ваших встреч на ближайшие месяцы, я докладывал вашему величеству, что конец апреля — начало мая сего года представляется мне неудобным для вашего визита и в Штутгарт, и в Лондон. Ожидая прибытия японского посланника господина Эномото в Петербург в это время, я имел в виду требования международного протокола о сроках приёма вашим величеством от него верительных грамот. Когда выяснилось, что сей господин направился в Париж, потребовалось доподлинно выяснить причины задержки его прибытия. Возникла некоторая неафишируемая дипломатическая пауза, во время которой требовалось определить: либо перенести процедуру аккредитации на более поздние сроки, либо направить японскому императору ноту о неприемлемости и оскорбительности задержки как таковой. Поэтому я и не докладывал вашему величеству о господине Эномото.
— И что же этот господин поделывает всё это время в Париже, ставшем с некоторых пор гнездовьем всего антирусского? Ставшим неиссякаемым источником пасквилей в адрес дома Романовых? В приюте врагов нашего престола?
— Точно так же рассуждал и я, государь! И признаться, уже подготовил соответствующую ноту императору Мэйдзи. Однако полученные из Парижа сведения, лично подтверждённые нашим посланником во Франции, графом Орловым, рассеивают все подозрения относительно возможной тайной подоплёки неожиданной задержки японского посланника. Сей ларчик открылся просто, государь, — Горчаков хихикнул, покрутил головой. — Чин вице-адмирала господину Эномото присвоен в самом спешном порядке, для чего потребовалось вносить на утверждение японского правительства изменения в Табель о рангах. Изменения внести там успели, а вот придумать и пошить мундир — увы! И отбыл посланник из Японии без мундира вице-адмирала. Между тем протокол вручения верительных грамот в этом отношении весьма строг…
— Ты хочешь сказать, Александр Михайлович, что он заехал в Париж построить себе мундир? И только-то?
— Точно так, государь!
— И это единственная причина его задержки?
— Во Франции мои люди с господина Эномото глаз не спускали, ваше величество! Могу сказать с уверенностью: да, это единственная причина! Никаких контактов японца с врагами России и нашего престола не замечено!
— Ну, тогда простим ему это маленькое нарушение протокола визита, господин канцлер! — улыбнулся Александр. — Надеюсь, французские портные не слишком задержат японца, и я увижу его в первой половине июня. Признаться, и он сам, и его страна мне весьма интересны. Европа и напыщенность здешних королевских дворов меня давно уже изрядно утомили. Надеюсь, хоть японский посланник внесёт в нашу дипломатию какую-то свежую азиатскую струю…
— Я тоже на это рассчитываю, государь. Хотя, по правде сказать, Восток всегда внушал цивилизованной Европе недоверие. Люди разных рас, ваше величество, шли по стезе общего развития человечества разными путями.
— Однако ты сам, Александр Михайлович, только что упомянул про общую стезю развития.
— Я имел в виду направление движения. Путь прогресса, государь. Способы его достижения весьма разнятся, смею заметить! Взять ту же Японию, ваше величество. Триста лет эта страна была за «бамбуковым занавесом». Жили себе люди на уединённых островах где-то на краю света, чужих у себя в стране не привечали — скорее уж наоборот. И вот в стране шесть лет назад произошёл настоящий переворот — не только в правительстве, но и в сознании тех, кто веками жил по привычным законам. Новые нормы отношений между людьми, новая цивилизация для японцев воистину чуждые, непонятные. Они способны вызвать если не отторжение, то уж недоверие наверняка!
— Тем не менее, Александр Михайлович, они сами вышли из своего уединения и идут в Европу. И уже одно это, как мне представляется, внушает оптимизм.
— Ваши слова да Богу в уши, государь, — вздохнул Горчаков. — Однако представьте себе сознание людей, которые ещё 30–50 лет назад без тени сомнения в правильности своих деяний могли сжечь у себя иностранцев-миссионеров. Сознание этих людей — тёмный лес, ваше величество! Вспомните при этом нашу совсем недавнюю историю, государь! Играя одну из первых скрипок в европейской политике, Россия не имела до середины нынешнего века официально признанных границ на Дальнем Востоке!
— Что не умаляло, светлейший, нашего авторитета в Европе — ты сам об этом только что сказал!
— Давайте пока оставим Европу в покое, государь, — не слишком вежливо, на правах царского любимца, перебил Горчаков. — Я говорю сейчас о восточных рубежах нашей отчизны! Земли по Амуру и его притоку реке Уссури были до 50-х годов практически неисследованными. И оттого заселены всяким случайным народом — весьма при этом редко. Только Невельской поднял в 1850 году русский флаг в устье Амура!
— Так честь ему и хвала, князь! Я не совсем пока понимаю, куда ты клонишь…
— Сей момент, ваше величество! Сей момент! Вспомните, государь: когда русское правительство получило в результате экспедиций Невельского уточнённые карты огромных территорий по Амуру и Уссури, сразу встал вопрос о разграничении этих земель с Китаем. Переговоры с Поднебесной империй заняли около десятка лет, однако дело того стоило: в результате Айгунского и Пекинского договоров Россия получила выход к Тихому океану. По Айгунскому договору Россия получила земли по левому берегу Амура, а по Пекинскому за Россией был закреплён весь Уссурийский край!
— Я весьма ценю твои уроки географии, но не очень понимаю, отчего я должен заниматься сим предметом нынче, сразу после весьма утомительного английского анабасиса!
— Воля ваша, государь, — вздохнул Горчаков. — Воля ваша: если ваше величество чувствует себя нынче утомлённым, сей «урок» можно и отложить. Но отнюдь не в долгий, по русскому обыкновению, ящик, государь! Изволите ли помнить, хоть и приблизительно, географическую карту наших восточных рубежей, ваше величество?
— Разумеется! — фыркнул Александр, вставая с кресла и делая энергичные наклоны в поясе вправо и влево, — таковое он позволял себя лишь в присутствии самых близких людей. — И что?
— А то, государь, что нам реально грозит потеря южной половины острова Сахалин! Сей остров, принадлежность которого было весьма туманно определена на прежних переговорах с японским правительством, уже без малого практически разорван! Пользуясь этой неопределённостью, японцы давно предпринимают практические шаги по освоению юга Сахалина, его угольных, прежде всего, запасов. А за их спиной нетерпеливо топчутся алчные американцы, англичане, голландцы. Им всем до зубной боли нужна эта «угольная яма» для эскадр на Дальнем Востоке! Слава богу, что пока Япония слишком слаба, чтобы открыто заявить свои права на спорный Сахалин. И слишком осторожна — пока осторожна! — чтобы не отдать природные богатства острова в концессию тем же американцам или голландцам! Мало того: согласившись с возможным разрывом острова, мы тут же потеряем все преимущества владения огромными территориями тихоокеанского побережья! Ибо, став японским, Сахалин и особенно его южная часть станет непреодолимой преградой для нашего будущего Тихоокеанского флота, государь!
— Ты слишком мрачно нынче настроен, светлейший! — хмыкнул Александр. — Ты первый, наперегонки с генерал-фельдмаршалом Дмитрием Алексеевичем Милютиным[30], уверяешь меня, что нынешняя Япония слаба, утомлена внутренними войнами и беспорядками, сменой правительства и экономическими проблемами. Это и не Британия с её непомерными амбициями, Александр Михайлович! К чему Японии нынче этот остров и все новые проблемы, с ним связанные?
— Вы правы, ваше величество! У Японии, слава богу, хватает проблем и без Сахалина. Но не забывайте о той же Британии, государь! Об Америке, о Франции и прочих европейских державах! Угольные месторождения Сахалина весьма велики, между тем в портах Тихоокеанского побережья дефицит этой «корабельной крови» настолько велик, что там едва не дерутся за очередь к бункеровке! Я лично нисколько не сомневаюсь в том, что за спиной Японии, претендующей на юг острова, выстроились в очередь многие державы! Они только и ждут момента ослабления российского влияния и авторитета, чтобы перекупить у Японии права на освоение природных богатств острова Сахалин и попутно запереть Россию в Татарском проливе. Нам никак нельзя терять сей остров, государь!
— Так и не будем терять, Александр Михайлович! Примем посла, его верительные грамоты, с Божией и твоей помощью начнём интенсивные переговоры с японским микадо… Дома и стены помогают, вспомни, светлейший!
— Не знаю, государь! — проворчал Горчаков. — Не знаю! Вернее, не уверен насчёт родных стен: совершенно очевидно, на мой взгляд, что предложение японского правительства возобновить переговоры по Сахалину именно в Петербурге, столь далёком от Токио, не есть ошибка или дружеская уступка микадо. Я почти уверен, что столь великая отдалённость места переговоров от предмета территориального спора явится ещё одной, на сей раз существенной причиной затягивания переговорного процесса!
— Ну, полно, полно, князь! Ты находишь общий язык с такими упрямцами, как Бисмарк — неужели не сумеешь «переговорить» азиатов, только-только вышедших на международную дипломатическую арену?
— Вы мне льстите, ваше величество! Или вот ещё, вспомнил, кстати! Накануне визита нашего гостя я освежил в памяти впечатления от посещения Японии разных людей, в том числе и наших. Японцы, к примеру, очень не любят говорить слово «нет». Отказать человеку, который что-то просит у японца, для последнего всё равно, что расписаться в своём бессилии — так, по-моему. И в ответ на просьбу, которая совершенно не затруднит европейца ответить решительным отказом, японец начнёт вилять, уходить от прямого «нет». Или пообещает выполнить — но не сделает. Это и в быту, государь, создаёт немалые трудности. Порождает проблемы, ежели не конфликты. А уж в дипломатии, коль скоро такой способ поведения будет туда привнесён, и вовсе трудно будет с ними общий язык найти…
Александр рассмеялся:
— Полно, полно, господин канцлер! Чтобы ты со своим 50-летним опытом в европейской дипломатии да не обошёл азиатских варваров! Не прибедняйся, Александр Михайлович!
— Поглядим, государь… Покойной ночи, ваше величество!
* * *
Пока Александр, готовясь ко сну в последнюю ночь пребывания во владениях королевы Виктории, завершал беседу с Горчаковым, русские миноносцы почётного эскорта, не утруждая себя получением позволения Английского адмиралтейства, вошли под Андреевскими флагами в устье Темзы и заняли там стратегические позиции, преградив торговым и прочим судам, спешащим в уютные порты, путь к одинокой яхте «Штандарт», дожидающейся своего императора. Тяжёлые русские броненосцы, держащиеся в нейтральных водах, также держали корабельные паровые машины под предельным давлением, готовые по первому признаку недружественных действий британского флота внести свои «аргументы» в давнее противостояние…
Слава богу, этого ничего не потребовалось. Ранним утром следующего дня «Штандарт» с невыспавшимся императором Александром на борту, возглавил конвой миноносцев сопровождения, утюжа серые волны на пути в Россию.
Эномото Такэаки, ничем более во Франции не задерживаемый, тоже засобирался в русскую столицу. Купив железнодорожные билеты до Антверпена, Эномото, не подозревая о том, что его персона стала причиной бессонницы русского императора, совершил последнюю свою лодочную прогулку по Сене вокруг острова Ситэ. Затем, решив обновить новенький мундир вице-адмирала, а более того опасаясь совершить по прибытии в Санкт-Петербург какую-нибудь дипломатическую ошибку, он нанёс визит русскому посланнику в Париже графу Орлову.
Граф, торжествующе шевеля усами и стараясь по мере возможностей сделать взор единственного глаза доброжелательным, посвятил новоиспечённого дипломата в подробности протокола первого визита в державу пребывания.
Глава шестая
Александр просыпался всегда сам, к помощи будильника он прибегал крайне редко. Одеваться он также предпочитал самостоятельно и терпел в своей опочивальне лишь старого камердинера Осипа, неизменно подававшего ему по утрам мундир.
Где бы ни ночевал император, в смежной с его спальней комнате, на небольшом круглом столике у самых дверей, все последние годы его неизменно ждал бювар сиреневой кожи с перечнем наиболее значительных дел на сегодняшний день и списком лиц для назначенных аудиенций. В этот бювар Александр тоже заглядывал крайне редко, предпочитая полагаться на свою великолепную память.
Внизу у лестницы императора поджидали один из дежурных адъютантов с плащом в руках, а также традиционный с недавних пор спутник Александра в его утренних прогулках, лейб-медик Сергей Петрович Боткин.
— Доброго утра, ваше величество! Опять дождит-с, — баритоном с извиняющими нотками, словно бы чувствуя свою вину за ненастье, поздоровался адъютант.
Александр кивнул, подставил плечи под плащ и скупо улыбнулся лейб-медику:
— Здравствуйте, Сергей Петрович! Ну, что императрица?
Лейб-медик обеими руками поправил круглые очки, сделал попытку ускорить шаги, чтобы распахнуть перед государем двери на улицу, и опять не успел: это сделал проворный адъютант.
— Здоровье её величества заметно улучшается с каждый днём, ваше величество. Петербургская весна, слава богу, миновала для неё благополучно, хрипов при дыхании слышно гораздо менее. Вчера вечером императрица несколько раз изволила вслух рассмеяться над забавными историями, рассказываемыми ей дамами, — не платя за смех, как это водилось раньше, кашлем…
Александр снова кивнул. Спускаясь со ступеней и поворачивая, как всегда, направо, он не удержался бросить взгляд вокруг, словно ожидая увидеть охранных агентов, сопровождающих его в прогулках после покушения Каракозова. Агентов не было видно, и лёгкая морщинка на лбу императора сразу разгладилась. Разумеется, распоряжения об охране царской персоны никто и не отменял — однако, зная о стойкой неприязни этой персоны к «соглядатайству», агенты старались держаться как можно незаметнее и всегда поодаль. Это тоже вызывало раздражение Александра, и в частых спорах с супругой по поводу необходимости охраны как таковой, он неизменно задавал вопрос: зачем нужна эта охрана, ежели её и не видать? Что она успеет сделать, буде из кустов или из-за угла появится настоящий злодей?
— Охрана — это крест монарших персон. Это необходимость, Саша. Её надо просто терпеть, — неизменно отвечала Мария Александровна.
А начальник дворцовой охраны всякий раз при этих спорах деликатно покашливал, прикрывая перчаткой тонкую улыбку: государю было просто неведомо, что дальняя линия охраны загодя очищала окрестности Зимнего и прочих мест пребывания Александра от всех прохожих. Окрестным городовым было строго-настрого приказано с 8 до 9 с половиной часов утра не покидать своих полосатых будок.
Сегодняшняя прогулка, в видах противного моросящего дождя, не доставила императору удовольствия. Невольное раздражение вызывало у Александра и присутствие лейб-медика. С прежним придворным доктором Енохиным отношения у государя складывались тоже не лучшим образом — но тот, по крайней мере, не навязывал своей компании во время прогулок. Как и нынешний доктор, Енохин главным объектом своего внимания избрал крайне болезненную императрицу, и почти всё время проводил в её покоях. Это тоже приносило свои неудобства: чтобы расспросить медика о состоянии супруги, Александру приходилось всякий раз изобретать поводы, чтобы выманить того из излюбленного кресла у камина.
Когда престарелый Енохин несколько лет назад умер, и встал вопрос о восполнении вакансии придворного лейб-медика, выбор министра двора графа Адлерберга пал на самую яркую звезду отечественного медицинского небосклона, профессора Боткина. В юношестве Сергей Петрович мечтал стать математиком, однако перед самым поступлением в Московский университет вышло ограничительное постановление Николая I о свободном поступлении лиц недворянского происхождения лишь на медицинские факультеты. Пришлось купеческому сыну пойти по медицинской линии. История не знает сослагательного наклонения, и никому не дано знать — каким математиком стал бы Боткин. Однако в лице доктора Боткина Россия и все мировое врачебное сообщество получило великолепный образец служения медицине и людям.
Предложение Адлерберга Боткин поначалу вежливо отклонил, и завистники немедленно отнесли это на счёт давней обиды купеческого сына за несбывшуюся мечту о Московском университете. На самом же деле никакой обиды у Боткина не было. Просто предложение стать царским доктором для Сергея Петровича было равносильно переходу в «камерную придворную» медицину, которая всерьёз оторвёт его от обширнейшей интересной практики и теоретических фундаментальных исследований. В качестве компенсации своего отказа профессор Боткин принял участие в консилиуме по поводу состояния здоровья императрицы Марии Александровны. И, чисто по-человечески проникшись сочувствием к несчастной женщине, страдающей главным образом от последствий серьёзной врачебной ошибки, Боткин вскоре изменил своё решение и изъявил согласие стать лейб-медиком супруги Александра II.
Что же касается совместных прогулок с императором по утрам, то здесь новый лейб-медик стал невольным заложником собственной деликатности. Как-то, в пору обострения заболевания своей супруги, Александр многозначительно предложил Боткину прогуляться вместе, чтобы без помех и лишних ушей поговорить о здоровье Марии Александровны. Разговор тогда получился хорошим и полезным, император искренне поблагодарил лейб-медика за откровенность и выразил пожелание и в дальнейшем регулярно получать от него самые верные сведения. Вот Сергей Петрович, по простоте души, и посчитал своим долгом ежеутренне сопровождать Александра и быть всегда готовым сообщать ему о здоровье супруги.
Завершая круговой обход дворца, Александр несколько ускорил шаги, так что лейб-медик Боткин, поспешая за монаршим спутником, даже пару раз поскользнулся: зрение у Сергея Петровича было совсем неважным.
Взбежав на крыльцо и скинув плащ на руки того же вездесущего адъютанта, Александр поднялся в покои императрицы: наступило время утреннего кофе. Император невольно вздохнул: до самого ужина он был хоть и монаршим, но всё же рабом традиций. После утреннего кофе наступало время работы с документами, а с 11 до 13 часов — время аудиенций. Потом следовало дневное чаепитие с семьёй. После этого по четвергам император ездил в Совет министров, в другие дни — на разводы гвардейских частей, расквартированных в столице. Далее следовала вереница визитов членам своей фамилии, прогулка в экипаже или пешком.
Время обеда Александр, в отличие от своего отца, сдвинул на более позднее время — на 6 часов пополудни. После этого следовал небольшой отдых, беседы или карточная игра с императрицей. Двумя часами позднее Мария Александровна уходила с детьми в свои покои, а государь ехал в театр, после которого до часу ночи опять работал с бумагами и документами. Этих ежедневных бумаг было великое множество, от имеющих чрезвычайную государственную важность до совсем пустяковых, вроде жалоб сановников на взаимные обиды.
А ему всё время так хотелось увидеть Катеньку Долгорукую, своих детей от неё… Однако время для своей второй семьи, которую по значимости Александр упорно почитал первой, приходилось выкраивать с великим трудом.
Своих министров государь также принимал по давно сложившейся при дворе традиции. Ежедневно с докладом был обязан быть военный министр Милютин. Министр иностранных дел светлейший князь Горчаков «отмечался» у императора по определённым дням, дважды в неделю. Великому князю Константину Николаевичу было делегировано право самому избирать частоту царских аудиенций, а остальные министры для визита с докладом должны были испрашивать специальное соизволение императора.
Нынче, со вздохом поглядев на не разобранную кипу бумаг на своём столе, а после этого на часы, Александр прикоснулся рукой к кнопке звонка и вопросительно поднял брови навстречу появившемуся в дверях адъютанту.
— Его высокопревосходительство военный министр Милютин и светлейший князь Горчаков в приёмной, — доложил тот. — Прикажете, как всегда, пригласить первым господина военного министра, государь?
— А давай-ка, братец, сегодня господина канцлера первого потревожим! — шутливо-заговорщицким тоном предложил офицеру Александр.
Щёлкнув каблуками, адъютант исчез за дверью, чтобы тут же, с первым ударом часов, распахнуть её перед канцлером Горчаковым. Без оглядки на свой преклонный возраст, канцлер бодро прошагал до середины кабинета, без усилий поклонился и заговорил, в отличие от своих сановных коллег, не дожидаясь обращения к нему императора:
— Добрый день, ваше величество! Надеюсь, нарушение очерёдности аудиенций не означает, что вы получили из Европы неприятные известия прежде меня?
— Не волнуйся, князь! Ни из Европы, ни откуда-либо ещё, я не получал нынче известий прежде своего канцлера! Просто хотел услышать твоё мнение относительно недавней процедуры вручения японским посланником верительных грамот.
— Всё прошло в соответствии с установленным протоколом, ваше величество. Единственное, что могу сказать — замечательно, что сия процедура не была объединена с вручением верительных грамот прочим аккредитованным в Петербурге дипломатам! В противном случае, доброжелательная теплота вашего величества относительно Эномото Такэаки могла бы возбудить нешуточную ревность и подозрения в дипломатических кругах!
— Сказать по правде, Александр Михайлович, меня позабавил мундир японца. И я сразу вспомнил историю, которую ты мне рассказывал по этому поводу в Лондоне — относительно переполоха в твоём ведомстве от нежданной-негаданной смены маршрута японского посланника. Как он тебе, Александр Михайлович?
— Пока трудно сказать что-то определённое, государь. Вчера состоялся первый раунд наших переговоров по Сахалину с участием директора Азиатского департамента МИДа Стремоухова и вашего покорного слуги, государь. Раунд носил чисто ознакомительный характер — стороны изложили своё видение предмета переговоров, а также уточнили давно сформулированную позицию своих правительств. Ничего нового, государь. И никаких неожиданностей. Господин Эномото привёл аргументы японской стороны относительно первенства открытия и начало освоения Северного Эдзо — так они именуют Сахалин. Господин Стремоухов привёл исторические сведения о русском присутствии на острове. Стороны согласовали также график предстоящих переговоров.
— Все ли вопросы постоянного пребывания Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в нашей столице решены?
— Полагаю, что да. Хочу напомнить, государь, что в соответствии с протоколом аккредитации, господина Эномото и сопровождающих его лиц на Варшавском вокзале 10 июня встречал секретарь МИДа Горшечников. Местом временного пребывания японской делегации на первое время была определена гостиница «Соболев». Резиденция для японской миссии на Дворцовой набережной, 12 послу понравилась, в течение недели там были завершены работы по приведению здания в должный порядок. В настоящее время посольство размещено уже там. Ввиду отсутствия в штате японской миссии собственной прислуги, нами подготовлен и передан на рассмотрение господина Эномото список рекомендованных лиц.
— Мне кажется, светлейший, что японцы нуждаются в особом внимании в русской столице, — помолчав, высказался Александр. — Помнишь, мы говорили с тобой об этом в Лондоне, Александр Михайлович? Другая раса, совершенно отличный от европейского образ жизни… Долгий период самоизоляции страны может иметь следствием инстинктивное недоверие ко всему новому, непривычному — не так ли?
— Истинно так, государь. Однако хочу обратить внимание вашего величества на то, что чрезмерная ласковая опека официальных лиц может вызвать у человека, выполняющего дипломатическое поручение своего императора, невольное подозрение. Подозрение и убеждённость в том, что противная сторона, оказывая подчёркнутое внимание, желает добиться преимуществ в предмете переговоров. Либо уверенность в том, что сей предмет представляет для партнёров в переговорном процессе особую важность, и использование подобного рычага вполне допустимо.
Александр с любопытством взглянул на своего министра иностранных дел. Особое расположение к Горчакову и искренняя к нему симпатия не мешала императору с грустью сознавать, что время канцлера неумолимо уходит. Старческая болтливость вкупе с уверенностью в непогрешимости своих мнений и суждений переставали становиться забавными пустяками.
Император легко поднялся из-за своего рабочего стола, украшенного многочисленными фотографиями и акварелями. Походя легко похлопал Горчакова по плечу, разрешая тому сидеть. Прошёлся по кабинету, немного задержавшись у полушкафа, на котором стоял бюст умершего старшего сына, Великого князя Николая Александровича. Провёл пальцами по сухой и шершавой гипсовой щеке Ники, перевёл взгляд на портрет своего отца, Николая I, занимающего центральное место на стене за рабочим столом, между двумя портретами супруги, императрицы Марии Александровны.
Очень многое в рабочем кабинете Александра говорило о неизбежном течении жизни и смерти, напоминало о бренности всего сущего — даже пистолет Каракозова под стеклянным колпаком на краю стола. Один из стволов этого пистолета, купленного преступником, согласно дознанию полиции, на Толкучем рынке за 15 рублей, после выстрела 4 апреля 1866 года[31] так и пребывал с патроном в одном стволе — несмотря на неоднократные напоминания чинов дворцовой охраны о необходимости разрядить оружие.
Вздохнув, Александр присел напротив канцлера, за круглый приставной столик, сцепил в замок пальцы рук.
— Ты слишком много работаешь, Александр Михайлович! — ободряющая улыбка императора нивелировала серьёзность его тона. — В дипломатии ты являешься непревзойдённым мастером, однако не следует забывать, что, как и всякий прочий род человеческой деятельности, дипломатия является инструментом общения с людьми! А им импонирует искренность и доброе участие — особенно в положении этого японца, оказавшегося вдали от своей родины и привычного ему уклада вещей… Я вот что придумал, князь: ежели тебе не по чину и статусу общаться с японским дипломатом накоротке, то это будет вполне прилично твоему государю. Тем паче что я не являюсь непосредственным участником переговоров. И у меня есть искренний интерес к его стране, её обычаям и традициям. Приглашу-ка я нынче господина Эномото на вечернее чаепитие к императрице — полагаю, это поможет и составить верное впечатление об этом азиатском субъекте.
— Ваша воля, государь! — Горчаков, привстав, поклонился и тут же принялся протирать стекла круглых очков куском тонкой замши, что служило у него признаком усиленной работы мысли. — Прикажете известить посла об этом мероприятии по официальным каналам?
— Ни к чему придавать обычному дружескому приглашению статус протокольного мероприятия, — улыбнулся Александр. — Думаю, вполне достаточно будет моей личной записки. Ну а если господин Эномото кинется за разъяснениями в твоё ведомство, светлейший, постарайся убедить его в отсутствие у меня замыслов как-то повлиять на ход переговоров! И — никаких парадных мундиров и прочих атрибутов дипломатии, князь! Ну а я прежде предупрежу Марию Александровну о некотором разнообразии, которое привнесёт сегодняшний гость в наше скучное ежевечернее времяпровождение!
* * *
— Как тебе наш гость, Мария, душа моя?
— Я очень рада, Александр, что мне пришлось приятно разочароваться в своих ожиданиях! — императрица по привычке поднесла к лицу флакон с ароматической солью, несколько раз вдохнула. — Он вовсе не показался мне этаким дикарём с загадочного Востока… Весьма умён и тактичен, прекрасно знает европейские языки. Вот только японские стихи, которые господин Эномото по моей просьбе прочёл во французском переводе, показались мне какими-то странными. И даже вовсе не стихами, если уж совсем честно!
— Ну-у, душа моя, ты слишком пристрастна! Ты же знаешь, стихи вообще являются субстанцией чрезвычайно деликатной, к переводу на чужой язык весьма чувствительной! Вспомни, когда я попросил нашего гостя прочесть их на языке оригинала, в них зазвучала некая тонкая мелодия!
— Не знаю, Саша, я как-то не уловила этой мелодии…
Произнося это извинительным тоном, Мария Александровна закашлялась, поспешно поднесла к лицу платок, а вслед за ним и флакон с ароматической солью.
— А мне показался чрезвычайно интересным японский обычай усыновления детей в семьях, которым бог не дал своих деток. Насколько это удобно, душа моя: вспомни, сколько знатных родов в Европе и на Руси прервалось из-за отсутствия наследников династии! А нынешний император Японии, Мацухито! Господин Эномото весьма обыденным тоном, как само собой разумеющееся, сообщил нам о том, что мать императора — простая наложница. И тем не менее в положенный срок император Комэй и его венценосная супруга признали рождённого от наложницы сына официальным наследником престола!
Мария Александровна при последних словах супруга прикусила нижнюю губу и нахмурилась — и тут же сам Александр, поняв, что зашёл на запретную территорию[32], смутился и поспешил переменить тему:
— Я полагаю, Мария, что нелишне было бы устроить в честь нашего высокого японского гостя официальный приём и бал. Оказанное, таким образом, внимание посланнику микадо должно произвести на японский императорский двор самое благоприятное впечатление. К тому же мы задержались нынче с выездом из Петербурга в Царское Село, и столичное общество явно скучает. Что ты думаешь по этому поводу, душа моя?
— Твоя идея мне нравится, Александр, — только я боюсь, что наш японский гость не слишком готов к таким сложным для него церемониям, как бал. Хотя бы даже и не Николаевский, а «концертный», либо «эрмитажный»[33]. Официальный приём — дело другое. Но бал… Я хорошо помню, что твой вопрос относительно балов при дворе японского императора смутил посланника. Ты уверен, Александр, что господин Эномото умеет танцевать? Что ему знаком полонез[34]? Он, как я поняла, несколько лет прожил в Европе — но вряд ли имеет опыт общения с королевскими особами. А тонкости придворного этикета иной раз ставят в тупик и более искушённых людей.
— Не беспокойся, мон шер! Было бы желание — а выучить танцам и этикету можно и медведя, — рассмеялся Александр. — Приглашу господина Эномото в пятницу на наш вечерний чай и театральную премьеру, заодно и поговорю с ним об этом. Дадим поручение — ну-у, хотя бы нашему церемониймейстеру Герарди, и с его помощью найдём пару отличных танцоров среди конногвардейцев, которые отличаются по бальной части. Глядишь, и недельки через две можно назначать бал!
* * *
Приказание срочно явиться к командиру батальона князю Кильдишёву едва не застало прапорщика Михаила Берга врасплох. Ординарец князя догнал его уже на самом краю строевого плаца: мурлыкая под нос что-то из модной оперетки, Мишель в самом радужном настроении направлялся из казарм Сапёрного лейб-гвардии батальона к себе на квартиру.
— Эй, Берг! Вернитесь! — запыхавшийся ординарец тронул прапорщика за локоть. — Усатый Монстр призывает вас пред свои очи! Срочно! — с сожалением рассматривая тонкий слой пыли на начищенных до зеркального блеска сапогах, молодой офицер подосадовал. — Экая жалость. И откуда в Петербурге пыль только берется — полплаца только и пересёк, а ровно как Хивы пробежал!
— А что случилось, Никитин? — не особо расстроившись, поинтересовался Берг. — Я ведь до завтрашнего утра свободен, нешто господин полковник забыл?
— Прислали разнарядку на придворный бал, — доверительным полутоном, словно военную тайну, поведал порученец. — А вы, прапорщик, у нас по части танцев в первой десятке умельцев-удальцов! Так что готовьтесь, Мишель!
— Господа офицер-ры! — голос у полковника Кильдишева, за глаза любовно называемого офицерами Усатым Монстром, был таков, что его хорошо было слышно и во время грозы с громами и молниями, а уж в ограниченном стенами пространстве и вовсе был способен оглушить. — Господа офицеры, нашему батальону снова оказана великая честь: прислана р-р-разнарядка на двенадцать пер-рсон. Три приглашения пер-рсональные — Бергу, Воронцову и Цыплакову. Остальных кандидатов моя кузина, гофмейстерина Наталья Семёновна Брызгалова, оставляет на моё усмотр-рение! Ну, вот я вас и собрал, господа! Напоминаю, что вы едете во двор-рец вовсе не для того, чтобы р-развлекаться! Забудьте об удовольствиях! Вы отправляетесь на службу, поэтому извольте вести себя соответственно! За портьерами не прятаться, у окон не гр-р-рустить! Танцевать с дамами и всячески их р-развлекать! Строжайше запрещаю стоять отдельной группой! Р-рассыпаться по залу и р-работать! Замечу уклоняющихся — не обессудьте, господа! У меня всё! Кр-ругом — мар-рш!
Полуоглушённые офицеры, посмеиваясь, выбрались из командирского присутствия. Невесёл был один Берг: опять его невеста Настенька расстроится! Её батюшка был чиновником V класса, производство его в IV класс отчего-то задерживалось, и, стало быть, приглашение на этот бал его семейство вряд ли не получит… Ну что тут поделаешь!
* * *
…Гости поднимались по огромным лестницам белого мрамора, застеленными малиновыми бархатными коврами. Преобладали три цвета — глянцевая чернота сапог, белые и алые мундиры с золотым шитьём, шлемы с орлами из золота и серебра. Бесчисленные эполеты сверкали на пёстром фоне национальных костюмов зарубежных дипломатов и их жён.
Берг не впервые посещал рекомендованные балы их величеств, однако к их пышности и блеску было трудно привыкнуть. На дамах — придворные платья с большим декольте и длинным шлейфом. Фрейлины, в соответствии со своим рангом, на левой стороне корсажа носили свои отличительные знаки — императорские вензеля, усыпанные бриллиантами — так называемые шифры. Попадались и «портретные дамы», которым вместо шифра у корсажа дозволялось закреплять императорские портреты в бриллиантовом обрамлении — высшие знаки придворного отличия, предоставляемые за особые заслуги.
Берг с почтением обошёл чуть задержавшегося на лестничном марше свитского генерала с молодящейся супругой, усыпанной бриллиантами с ног до верхушки замысловатой причёски. С этой дамой Берг танцевал на предыдущем балу, и та явно его узнала: в ответ на почтительный поклон молодого офицера веер в левой руке дамы с готовностью открыл один лепесток[35].
Проходя в зал, гости проходили меж рядов казачьей гвардии в алых мундирах, шли мимо «арапов» в огромных белоснежных тюрбанах — так по традиции называли находящихся на нетрудной государственной службе эфиопов-христиан. Берг издали почтительно раскланялся с сурового вида гофмейстериной, кузиной своего батальонного командира, собравшей вокруг себя стайку робких молодых дам, ещё не удостоенных чести быть представленными императрице. Несколько раз ему пришлось уступать дорогу церемониймейстерам, расхаживающим по залу со своими длинными тростями-жезлами, увенчанными андреевскими ярко-голубыми бантами с видом великих полководцев.
Но вот церемониймейстеры, словно по команде, дробно застучали своими жезлами по паркету, призывая гостей к вниманию, и в медленно распахнувшихся дверях Малахитового зала появился государь с императрицей Марией Александровной, чью неестественную болезненную бледность не мог скрыть даже толстый слой румян. Улыбка у государыни была вымученной, однако она, не желая подводить супруга, держалась стойко.
Дирижёр на балконе взмахнул по сигналу обеими руками, и на зал мягко обрушились звуки полонеза. Тут-то и начиналась «работа» приглашённых для развлечения дам господ гвардейских офицеров!
Поменяв третью партнёршу, Берг вдруг заметил в калейдоскопе меняющихся вокруг мундиров и лиц приметный восточный профиль и знакомый мундир весьма сложного построения. Этот мундир ему и окончательно подсказал: с его обладателем он около месяца назад познакомился в Париже, в студии знаменитого мэтра Ворта!
Его высокопревосходительство вице-адмирал военно-морских сил императорского флота Японии танцевал с непринуждённой лёгкостью, двигался плавно и даже как-то по-восточному вкрадчиво. Берг решил в перерыве между танцами непременно разыскать своего парижского знакомца. Однако до этого ему и прочим гвардейцам-танцорам предстояло изрядно потрудиться!
Полонез сменился вальсом, и множество гостей, сделав несколько па, перестали танцевать, пытаясь разглядеть кружащегося в центре зала Александра. Круг вокруг императора неумолимо суживался, и Берг, уловив настойчивые знаки гофмейстерины Брызгаловой, лихо щёлкнул каблуками перед ближайшей фрейлиной с «шифром» и повёл весьма дородную партнёршу широким кругом, заставляя гостей отступать к стенам и освобождать место для императора. Неподалёку таким же образом освобождали центр зала его однополчанин поручик Воронцов и любимец высшего света, конногвардеец барон Мейнсдорф со своими «портретными дамами».
Звуки вальса, наконец, затихли, и император, милостиво кивнув в сторону балкона с музыкантами, повёл супругу в боковой зал, где были накрыты столы для ужина. Берг учтиво отвёл партнёршу на место, удостоившись томного взгляда и полураскрытого веера, однако задерживаться рядом с фрейлиной не стал, памятуя о необычайно глазастой мадам Брызгаловой. Тем более, ему хотелось попасть в зал, где ужинал император и его свита, до того, как сановные гости рассядутся за круглыми столами — чтобы перехватить японца.
Берг и сам не знал, отчего его тянет непременно поболтать с этим парижским знакомцем, он даже не был уверен, что тот, обретя официальный статус обласканного государем посланника, его узнает.
Пробираясь сквозь толпу в трапезный зал, Берг был остановлен вездесущей гофмейстериной Брызгаловой.
— Нынче я довольна вами, Мишель! — та, прикоснувшись веером к его плечу, заставила Берга развернуться к серому шёлковому платью с водопадом бриллиантов. — Вы нынче славно потрудились, и я непременно скажу об этом вашему командиру, своему кузену!
— Благодарю! — Берг лихо щёлкнул каблуками, рывком склонил в поклоне набриолиненный пробор.
— Однако, Мишель, вы напрасно торопитесь в трапезную его величества! — прищурилась мадам Брызгалова. — Вы изрядный танцор, молодой человек, однако вряд ли найдёте за столами в этом зале карточку со своим именем[36]!
— О-о, я и не претендую! — смутился Берг. — Просто я заметил среди гостей старого знакомого и непременно хочу сказать ему пару слов до того, как он сядет за стол!
Наполовину укрывшись за тяжёлой портьерой, Берг внимательно оглядел трапезную. Стол императора располагался на небольшом возвышении, у дальней стены. Там уже заняли места императрица, старшина дипломатического корпуса русской столицы, наследник престола, великие князья и сановники — обладатели андреевской ленты. Берг знал, что государь за ужин обычно не садится, и вскоре начнёт обходить столы своих приближенных. Кроме двенадцати «расписанных» стульев, у каждого из столов был приготовлен тринадцатый — для императора. Эти стулья было легко отличить благодаря замершим рядом лакеям в ливреях скороходов.
Посланника Эномото в этом зале Берг, к величайшему своему сожалению, не заметил, и собрался было отправиться поискать его где-нибудь ещё…
— Господин Берг, если не ошибаюсь? — услышал он за спиной характерный голос своего парижского знакомца. — Я очень рад вас видеть, господин прапорщик!
Берг обернулся — рядом стоял Эномото Такэаки, а чуть сбоку — церемониймейстер со своим жезлом.
— Желаю здравствовать, ваше высокопревосходительство! Вы запомнили меня, и это большая честь!
— О-о, вы единственный мой старый знакомый в Петербурге — что же тут удивительного, господин Берг! Вы ужинаете в этом зале?
— Нет, ваше высокопревосходительство, — я желал засвидетельствовать вам своё почтение!
— Я хотел бы ужинать вместе с моим другом, — Эномото обернулся к церемониймейстеру. — Если для него не сыщется место за моим столом, мы пройдём в другой зал!
— Это невозможно, ваше высокопревосходительство, — начал было объяснять тонкости этикета церемониймейстер, однако, тут же, припомнив особое расположение императора к «восточному гостю», отыграл назад. — Соблаговолите минуту подождать, ваше высокопревосходительство! Сейчас что-нибудь придумаем… Ваше имя, господин офицер?
Величественным шагом церемониймейстер направился к ближнему от императорского столу, отдал короткое распоряжение и сделал Эномото и Бергу приглашающий жест.
Берг пытался протестовать, но Эномото мягко увлёк его за собой. Пока Берг, смущённо поглядывая по сторонам, усаживался, рядом с его прибором, словно по волшебству, появилась карточка с его именем. Сидящие за столом сановники при виде младшего офицера, свободно усевшегося рядом с ними, примолкли — кто откровенно, кто исподтишка разглядывая Берга.
— Позвольте спросить, вы уже начали осуществлять свою миссию посланника, ваше высокопревосходительство? — поинтересовался Берг.
— Вот именно, только-только начал! — серьёзно кивнул Эномото. — Признаться, я не слишком сведущ в дипломатическом искусстве, однако «правила игры» уже понял. Никто и никогда не решал территориальную проблему с наскока, за один раз, господин Берг! Я привёз в Россию свой вариант решения этой проблемы, у вашего правительства свой… Пока идёт то, что на войне именуется «пристрелкой позиций противника».
— Неужели всё так серьёзно, ваше высокопревосходительство? Эти военные аналогии…
— Нет, до войны, господин Берг, дело не дойдёт! — усмехнулся Эномото. — Во всяком случае, я искренне надеюсь на это. Лучше подскажите-ка, мой друг, как следует есть это блюдо? Его принесли несколько минут назад, и никто из наших сотрапезников, как я вижу, пока не приступил к нему…
— Это блюдо французской кухни, ваше превосходительство. Называется фуа-гра, или паштет из гусиной печени. Этот кусок следует нарезать ломтиками, и…
— Господа, внимание! Сюда идёт его величество государь, — прошипел углом рта скороход, дежурящий за пустым стулом. — Не вставать, господа!
За столом все умолкли, повернули головы. Александр, покинув своё место на возвышении, приближался с бокалом шампанского в руках.
Александр остановился возле японского посланника, и тотчас же «дежурный» стул очутился рядом, за его спиной. Эномото и Берг всё же сделали попытку встать, однако император коснулся рукой плеча офицера и отрицательно качнул головой японцу:
— Сидите, сидите, господа! Я к вам, увы, ненадолго! Как вам русская столица, господин Чрезвычайный и Полномочный Посол? Оставляет ли светлейший князь Горчаков время для знакомства с нею? Или, работая, по своему обыкновению днём и ночью, требует того же и от наших гостей?
— Господин канцлер чрезвычайно внимателен, ваше величество, — Эномото коротко наклонил голову. — Ни он, ни господин директор Азиатского департамента Стремоухов ни в коей мере не пытаются меня подгонять. А их доскональное знание предмета переговоров делает эти переговоры не столько работой, сколько поучительными беседами, ваше величество! И у меня достаточно времени для знакомства с Санкт-Петербургом — он поистине прекрасен, ваше величество!
— Ну, что ж, я рад, господин посол! По крайней мере, тому, что вы не покинете нас в ближайшее время, — Александр прикоснулся краем своего бокала к бокалу Эномото и перевёл взгляд на мундир Берга, отметил чуть выпуклыми глазами знаки орденов Святого Станислава и Святой Анны. — А вы, молодой человек, тоже имеете отношение к дипломатии?
— Никак нет, ваше величество! Будучи причислен к Сапёрному лейб-гвардии батальону, прохожу службу в оном, ваше величество!
— И уже успели повоевать, господин э… Сколько же вам лет?
— Барон фон Берг, ваше величество! Наградами отмечен за участие в Туркестанском походе под водительством генерала Кауфмана. Дело под Хивой, ваше величество! — и, словно извиняясь, Берг добавил; — Двадцать лет, ваше величество!
— Похвально, весьма похвально! Я запомню ваше имя, барон, — Александр покивал, лукаво прищурился. — К тому же, как я погляжу, вы способны не только в танцах, господин прапорщик! Давно изволите быть знакомым с нашим гостем из Японии?
— О-о, мы случайно познакомились месяц назад в Париже, ваше величество!
— Весьма похвально, господин Берг! Послу наверняка не хватает в нашей столице добрых знакомств и хороших друзей! Желаю вам приятно провести у нас время! — Александр, прикоснувшись бокалом к бокалу Берга, встал и направился в сопровождении скорохода к соседнему стол.
Глава седьмая
— Ну, вот, совсем другое дело! — Берг склонил к плечу голову и несколько озорно, по-птичьи, поглядел на стоящего перед зеркалом человека. — Так вы, господин Эномото, покатили в Париж мундир заказывать! Верите ли теперь, что лучшую мужскую одежду «строят» всё-таки у нас, в России?
— Моя ошибка была простительной, господин Берг! Париж — центр мировой моды, об этом знают даже в далёкой Японии, — Эномото пошевелил плечами, повернулся к зеркалу боком. — Прожив в Голландии и Швейцарии шесть лет, я много раз слышал именно об этом. Но насчёт военных мундиров — совершенно с вами согласен!
— Да и этот статский сюртучок очень даже неплохо на вас сидит, уверяю вас! Конечно, записной щёголь моментально укажет вам разницу между парижским и петербургским кроем — но вы-то, господин Эномото, не из таковских! Сами говорите: не хотите выделяться в толпе!
— Вы правы…
Японец расстегнул сюртук, скинул его на кресло и сел напротив гостя, задумчиво барабаня по колену сильными, чуть сплющенными на концах пальцами.
Молчание затягивалось, но Берг уже почти привык к этой странной особенности своего азиатского друга — внезапно замолкать посреди разговора и глядеть куда-то вдаль, словно сквозь стены и даже сквозь время. «Отмолчавшись», Эномото обычно встряхивал головой, словно просыпаясь или стряхивая с глаз пелену и, как ни в чём ни бывало, продолжал беседу с того места, на котором умолк перед этим.
Однако сегодня у японца вид был особо рассеянным. Берг был готов поклясться — не столько рассеянным, сколько мрачным или подавленным. Спрашивать о причинах расстройства собеседника — обычная история в российском обиходе — японца не следовало. Берг за несколько месяцев этой странной дружбы уже успел уяснить, что подобные расспросы являются своего рода вторжением в личное пространство Эномото. К этому японцы относятся весьма щепетильно. Так же, как к физическому прикосновению — как однажды рассказал ему сам Эномото, даже вполне дружеский хлопок по плечу или обычное в русской офицерской среде обнимание давно не видевшихся друзей для японца было бы весьма болезненным «вторжением».
Помолчав несколько минут, Эномото, как всегда, слегка встряхнул головой, перевёл глаза на собеседника:
— Вы знаете, господин Берг, что очень долго моя страна была закрытой для всего иноземного. Но сейчас мы привыкли носить европейскую одежду не только в путешествии, но и у себя дома. И всё же признаюсь вам, друг мой: и военному мундиру, и статской одежде европейца я предпочитаю традиционный японский наряд воина.
— Даже при том, что у нас, в Петербурге, гораздо прохладнее, чем на вашей родине? Кимоно, кажется? Друг мой, хотел бы я поглядеть на вас в этом «халатике» на петербургских улицах зимой, в метель и под ужасным ветром с залива! Вернее, никак не хотел бы! — рассмеявшись, поправился Берг. — Под это ваше кимоно и летом-то, наверное, изрядно поддувает…
Берг открыл было рот, чтобы проиллюстрировать своё предположение обычной в армейской среде присказкой насчёт необходимости беречь в холод «нижний мужской этаж», однако вовремя прикусил язык. Как-то отреагирует на грубый солдатский фольклор щепетильный японец…
— Для холодного времени года у японцев есть не только кимоно, господин Берг! Под него надевается нижнее белье примерно такого же покроя, набедренная повязка — она именуется фундоси. Мы можем дополнить облачение широкими штанами-хакама. Их же надевают для верховой езды… Кстати, в стародавние времена хакама было принято обязательно надевать перед визитом к сёгуну — причём такой длинны, чтобы штанины волочились по полу! Угадайте-ка, для чего это было нужно, господин Берг? Я немного подскажу вам: это было нужно, прежде всего, сёгуну…
— Ничего себе подсказка! Целая головоломка! Я представить себе не могу, что за дело было вашему сёгуну до чьих-то длинных штанов, волочащихся по полу.
— Не буду вас мучить: считалось, что в таких штанах труднее внезапно наброситься на сёгуна, чтобы убить его. И во всяком случае, труднее убежать после покушения, буде таковое произойдёт! — рассмеялся Эномото.
Берг посмеялся вместе с ним, отметив, однако, что и смех-то сегодня у японца был каким-то невесёлым.
Чёрт бы побрал этот проклятый азиатский менталитет, ругнулся про себя Берг. Чёрт бы его побрал — у человека явные неприятности, а спросить его об этом, чтобы помочь, плечо подставить другу — не моги! Вслух же он решил продолжить лёгкую дискуссию на тему национальной одежды:
— И все равно, господин Эномото, вы меня не переубедите: традиционное японское одеяние не слишком удобно и в быту, и в бою, как мне кажется! Рукава одеяния широкие, штаны-хакама и широкие, и длинные — запутаться ведь можно в критическую минуту!
Японец поглядел на собеседника долгим пристальным взглядом. Потом снова рассмеялся:
— Как-нибудь я продемонстрирую вам, друг мой, одежду воина не на картинке, а на себе! И вы убедитесь, как можно в считанные мгновения приготовиться к бою. Хакама одним движением подтягиваются и затыкаются изнутри за пояс. Рукава при помощи тасуки[37], протянутого через них, моментально укорачиваются и тоже подтягиваются. Дайсё[38] мы носим, если вы обратили внимание, режущей стороной кверху — так что молниеносный удар можно нанести прямо из ножен.
— Да-да, я помню, вы как-то упоминали об этом, мой друг.
— Вы приятный слушатель и, позвольте вас так назвать, ученик, господин Берг! Вы с таким явным удовольствием впитываете всё, что я вам рассказываю о Японии, её обычаях и традициях, что не только не утомляете меня своими расспросами, но и внушаете гордость за мою страну!
— Вы мне льстите, друг мой! А как же другой ваш заинтересованный слушатель? Его величество государь? Он весьма часто приглашает вас — и в Зимний, и в Петергоф, и в Царское Село. Имейте в виду, господин Эномото, столь явно выражаемая симпатия императора возбуждает в его окружении нездоровую ревность!
— Вы же знаете, Берг, я никому не навязываю своё общество. В том числе и его величеству, императору Александру. Но ему, как и вам, тоже интересна моя страна, её культура. И он часами, бывает, расспрашивает меня о самых разных вещах. А вот государыня императрица, напротив, — Эномото понизил голос. — Вот ей наши долгие беседы с её венценосным супругом явно в тягость. Она кусает губы, часто хмурится, задумывается о чём-то… Сначала я относил такие знаки на свой счёт, предполагая, что государыне неприятно видеть за одним столом с собой человека другой расы. Я даже дерзнул как-то обратить на это высочайшее внимание и высказал намерение пореже бывать при дворе…
— И что же государь?
— Государь успокоил меня. Он сказал, что его супруга тяжко больна, и только этим объясняется её хмурость и невнимание к общему разговору за столом… Впрочем, Берг, не будем обсуждать это… О чём мы беседовали ранее? Так вот, друг мой, если мне будет позволено сравнить вас и его величество как слушателей, то я предпочитаю вас!
Берг привстал и поклонился:
— Благодарю вас, Эномото!
— Да-да, Берг, именно вас! Мы с вами офицеры, я не намного старше вас по возрасту, и общение с вами не стесняет меня, как смущает нахождение в обществе царских особ. С вами я говорю совершенно свободно, — Эномото лукаво прищурился и встал с места. — Не только рассказываю, но могу и показать кое-что!
— Спасибо, мой друг! Поверьте, я чрезвычайно ценю ваше расположение. Признаться, больше всего мне нравятся ваши рассказы о самурайских обычаях. Особенно если вы говорите о японских мечах — говорите и сопровождаете это наглядной демонстрацией. Кстати, Эномото, не будет ли дерзостью попросить вас показать мне ещё раз ваши мечи?
— Извольте! — Эномото пружинисто поднялся с кресла, вышел в соседнюю комнату и вернулся с катаной. Он держал её обеими руками, на куске белой шёлковой ткани. — Обратите внимание, Берг, как я держу меч и как подаю его вам! Протянуть меч рукояткой, как это принято в Европе и у вас — в Японии, считается смертельным оскорблением для самурая! И уже само по себе является поводом для поединка, Берг!
Берг только тихо охнул, припомнив, как в прошлый раз, с восхищением осмотрев самурайский меч, он почтительно вернул его хозяину рукояткой вперёд. И как того отчего-то буквально передёрнуло…
Эномото рассмеялся:
— Вспомнили? Но я не стал вызывать вас в прошлый раз на поединок, друг мой! Ваша неловкость проистекала не из желания оскорбить, а из простительного незнания японских обычаев. Заметьте, Берг: сие простительно только для друзей!
— Ценю, господин Эномото! — церемонно склонил голову Берг. — А этот платок, в котором вы держите катану, — он тоже что-то означает?
— В Японии каждый предмет имеет своё значение и свой смысл, друг мой! Вот вы сейчас обратили внимание на ткань, через которую я прикасаюсь к клинку меча. Запомните, Берг, на тот случай, ежели когда-нибудь попадёте в мою страну: только хозяин меча имеет право держать его голыми руками, даже в ножнах! Слугам позволено дотрагиваться до катаны только через ткань либо бумагу. С гостем и другом немного сложнее: он принимает меч из рук хозяина тоже через ткань, а обнажить клинок может только с его позволения! Причём считается дурным, тоном обнажать сразу всю катану — нужно делать это постепенно. Сначала наполовину, потом ещё немного — так выражается уважение и к хозяину меча, и к мастеру, который создал его! Кстати, Берг, я не говорил вам, что каждый самурайский меч изготовляется по несколько месяцев?
— Признаться, не упоминали! — покачал головой Берг. — Это тоже связано с какими-то японскими обычаями и ритуалами?
— И с ними тоже, — улыбнулся Эномото. — Но и техника изготовления, закалки и последующей обработки клинков достаточно трудоёмки. — Мы поговорим с вами об этом отдельно — думаю, это будет вам интересно! Ну а пока… Взгляните внимательно на клинок, Берг! Видите тонкую линию, проходящую по всей длине катаны? В Европе её называют линией закалки, по-японски — хамон. Видите? Дымчатое лезвие — у нас его называют «кожей» — после этой линии становится блестящим, как зеркало. Может показаться, что катана состоит из двух дополняющих друг друга половин — закалённого лезвия и мягкой, даже вязкой тыльной его части. Но это впечатление обманчиво, мой друг!
Эномото мягко взял из рук Берга меч, и, не дотрагиваясь до стали, показал собеседнику линию закалки.
— Катана выковывается из одного куска стали, а хамон появляется там, где при обтачивании и шлифовке клинка твёрдая сердцевина лезвия выступает из более мягких стальных «обкладок», — голос у Эномото был монотонным и вместе с тем в нём чувствовалась какая-то мелодичность. — Такое сложное строение меча сообщает ему чрезвычайную прочность. Катаной, к примеру, легко разрубить от макушки до пяток противника в доспехах. Или каретное колесо с железным ободом — причём клинок не только не сломается — на нём практически не останется и следа! А по линии хамон можно угадать даже имя мастера, выковавшего меч!
Берг снова бережно принял в руки боевой японский меч, взвесил его на вытянутых руках. Спросив взглядом разрешения, в несколько приёмов вытянул из ножен сверкающее лезвие, оценил весьма грозный и даже хищный вид.
— Не шевелитесь! — Эномото набросил на лезвие лёгкий платок. — А теперь чуть наклоните катану.
Начавший скользить по острию лёгкий платок тут же распался на две неровные половины. Хотя Берг уже не раз видел этот «фокус», он неизменно производил на него сильное впечатление.
— М-да! — протянул Берг, возвращая меч в ножны и протягивая хозяину. — Это ваша фамильная ценность, господин Эномото?
— На ваш вопрос, как это ни покажется странным, трудно ответить однозначно, Берг! Самая старая в роду катана по праву досталась старшему сыну моего отца, — Эномото несколько раз в задумчивости наполовину вытянул клинок из ножен. — Мечи для самураев нашего рода были изготовлены учениками великих древних мастеров. Великих, но при том исповедывающих разные жизненные философии. Моему старшему брату отец передал в своё время «разящий» клинок учеников школы великого Муромасы. Мне, как второму сыну, достался меч «философии Масамунэ» — «защищающий жизнь». Может быть, это знак судьбы: своего боевого меча я лишился после поражения в бою при форте Горёкаку[39]. Он достался победителю — военачальнику Куроде. Много позже, провожая меня в нынешнюю миссию в Россию, генерал Курода вспомнил об этом, но вручил мне меч философии Муромасы… Простите, друг мой, но не слишком ли всё это сложно для вашего европейского понимания?
— Пока понятно, — пробормотал Берг, едва не вспотев в попытках удержать нить рассказа о различных философиях школы японских мечей. — Ваша «защищающая» катана в качестве трофея досталась в бою генералу Куроде. Вы, очевидно, сохранили с победителем добрые отношения, и, провожая вас в Россию, он посчитал, что без меча вы у нас никак не обойдётесь. Причём «философия защиты», по его убеждению, в России будет неэффективна — вот он и подарил вам «разящий» клинок! Я прав в своих рассуждениях?
Эномото искренне рассмеялся:
— Вы день ото дня поражаете меня всё больше и больше, Берг! Вы смогли выхватить суть моих рассуждений и в выводах оказались почти правы. Да, так оно и есть на самом деле! Вот только ваш посыл о том, что для России пригодна лишь агрессивная, «разящая» сталь — слишком прямолинеен. Вручая мне клинок школы Муромасы, генерал имел в виду мою жизненную философию, прежде всего желая помочь не только мне, но и всей моей миссии в России. Понимаете?
— Теперь нет, — чистосердечно признался Берг. — Скажите, друг мой, а бой при форте Горёкаку, про который вы упоминали, как-то изменил вашу судьбу?
— Да, — кивнул Эномото. — Впрочем, это слишком давняя, печальная и длинная история, не будем пока об этом.
— Вы никогда прежде не упоминали о том, что воевали, господин Эномото…
— Каждый мужчина, родившийся и живущий на этом свете, непременно с кем-то и когда-то воюет, друг мой! Хоть раз в жизни.
— И однажды вы не выиграли своего сражения, — осторожно закинул удочку Берг.
Однако Эномото трудно было застать врасплох:
— Кроме победителя, в каждой битве есть и проигравшая сторона, господин Берг. Разве не так?
— Разумеется. Помнится, вы рассказывали, что в недавнем прошлом Японию сотрясали внутренние войны…
— Это происходит в каждой стране, — пожал плечами Эномото.
— А на чьей стороне воевали вы, мой друг?
Эномото поглядел на собеседника долгим взглядом, и Берг подумал было, что японец опять уйдёт в своё прошлое, замолчит. Однако пауза не затянулась:
— Наш мир состоит из условностей, господин Берг. В Японии есть такая поговорка: если войско побеждает, его называют правительственным, если проигрывает — то мятежным.
— Вы настоящий дипломат даже с друзьями, господин Эномото, — рассмеялся Берт, чуточку раздосадованный ловким уходом собеседника от прямого ответа.
— Моя война, как я уже говорил вам, слишком давняя и печальная история. Но мы с вами отвлеклись, друг мой! Вы проявили себя великолепным и внимательным слушателем, Берг! И заслужили сегодня большего, чем пустых разговоров! Хотите воочию увидеть некоторые необычайные для всякого европейца возможности боевого японского меча?
— В поединке с вами? Не сочтите за трусость — но нет! Уж увольте, Эномото!
Собеседники дружно рассмеялись.
— Признаться, Берг, я давно хотел это сделать. И вот сегодня, отправляя слугу на рынок за припасами, велел ему купить кое-что специально для нынешней демонстрации.
Эномото дважды хлопнул в ладоши, и минуту спустя в дверь просунулся нескладный мужичок в ливрее и явно крестьянского происхождения.
— Степан, принеси арбуз и два яблока! — распорядился Эномото и с улыбкой повернулся к Бергу. — Должен признаться, друг мой, что моя нынешняя демонстрация не для слабонервных. Разумеется, я имею в виду не вас, а русского слугу, с которым мне пришлось изрядно повозиться. С другой стороны, его волнение и даже боязнь легко объяснимы: чтобы хладнокровно и безбоязненно довериться своему господину, надо родиться в Японии!
Отдав вернувшемуся слуге распоряжение, Эномотто передвинул на рукавах сорочки каучуковые колечки, взял в руки меч и кивнул Степану. Тот посторонился, дав барину возможность подойти к яблоку, только что подвешенному им на нитке к люстре.
— Итак, друг мой, вы как-то говорили мне, что катана показалась вам довольно тяжёлым и неуклюжим оружием. Вас смутила длинная двуручная рукоять катаны, и вы даже как-то сравнили её с мечом крестоносцев, которым было трудно обороняться от проворного противника, вооружённого более лёгким оружием. Действительно двуручный меч предполагает использование воином инерции удара с замахом. Однако самурай, взявшись обеими руками за рукоять особым способом, ведёт катану — а не наоборот, как в Европе! обратили ли вы внимание, что центр тяжести клинка катаны смещён и находится ближе к острию, чем к рукояти? Существует целая система тренировок, позволяющая самураю наносить точно намеченный удар, останавливая клинок там, где намечено. А нерастраченная сила удара используется воином для следующего! Возможности смещённого центра тяжести клинка дополняются долгими и весьма изнурительными тренировками всего тела воина. Смотрите, Берг! Обратите внимание на румяный бочок яблока!
Эномото застыл как изваяние, сосредоточившись, казалось, только на кончике своего меча, вытянутого перед собой. Внезапно он издал гортанный крик, от которого Берг невольно вздрогнул. В воздухе дважды басовито прожужжал рассекаемый клинком воздух. Движений меча Берг не заметил — только от подвешенного яблока отвалилась сначала нижняя половинка, а потом, сбоку — та, румяная. А Эномото снова застыл в неподвижности, держа катану вытянутой вперёд, двумя руками.
Пауза затягивалась. Берг, проигрывая в памяти только что увиденное, констатировал, что японец, непостижимо быстро нанеся два удара, одновременно сделал вперёд и вбок тоже пару шагов.
— Я потрясён, господин Эномото! — только и нашёлся сказать он.
— Очень хорошо! — эту короткую фразу японец отрывисто произнёс по-русски и тут же обратился к слуге: — Степан!
— Понял, барин! — слуга перекрестился, скинул ливрею и со вздохом стал стягивать просторную рубаху.
Освободившись от рубахи, он с кряхтением лёг на ковёр, накрыл грудь расшитым в русском стиле полотенцем, а сверху на груди утвердил арбуз. Снова вздохнув, Степан мелко перекрестил пупок и закрыл глаза.
— Погодите, друг мой, что вы собрались демонстрировать? — Берг был обеспокоен необычайными приготовлениями. — Стоит ли, господин Эномото? Поверьте, я совершенно…
Берг осёкся, увидев повелительный жест японца, призывающий его молчать и оставаться на месте.
— Смотрите на мои ноги, Берг! — снова перешёл на немецкий язык Эномото. — Если сможете, то обратите внимание на то, что удар катаной наносится не с шага вперёд, а с приставного! Это — один из главных «секретов» техники японского меча, Берг! Степан, не бойся и не шевелись! Тогда я не причиню тебе вреда.
Берг хотел было снова запротестовать, но, взглянув на ставшее вдруг чужим лицо друга, замер на месте.
— Перед поединком воин должен сосредоточиться, ощутить меч продолжением своих рук, — продолжал глухо бормотать Эномото. — Только так он может победить врага.
В помещении повисло тягостное молчание. Берг почувствовал, что его начинает мелко трясти. В момент, когда он, рискуя рассориться со своим странным другом, окончательно решил положить конец опасной забаве, Эномото с гортанным криком начал стремительно двигаться. Короткий «танец» около слуги закончился тремя молниеносными ударами. А арбуз на груди Степана, словно сам по себе, развалился на шесть почти равных долей.
— Обратите внимание, Берг, на коже слуги нет ни царапины! Спасибо, Степан, сегодня ты был почти идеален! Принеси мне гвоздичное масло и специальную ткань для протирки, — Эномото бережно протёр клинок катаны шёлковой тканью, вложил её в ножны и, словно ни в чём ни бывало, повернулся к Бергу. — На клинке остались следы от яблока и арбуза. Извините, Берг, но я сейчас ненадолго отвлекусь, чтобы протереть лезвие катаны маслом. Это не займёт много времени. А мы с вами, друг мой, кажется, собирались нынче продолжить знакомство с Петербургом?
— Разумеется, господин Эномото, — Берг откашлялся. — Будь я в цирке, я бы непременно зааплодировал. Но я просто не знаю, что делать и что говорить, чтобы невзначай не обидеть вас… Это было… просто потрясающе, Эномото!
— Я рад, что вы воочию смогли убедиться в удивительных возможностях японского оружия и силы духа воина-самурая. Поговорим об этом позже, хорошо?
— Как скажете, дружище! Как скажете. Что бы вы желали посмотреть сегодня? Да вот, кстати — вы же ещё не были, мне кажется, в театре «Буфф»? Это и недалеко, рядом с Александринским театром, на Невском.
Эномото с сомнением покачал головой:
— Я был в подобных заведениях вашей столицы, дружище. Я не очень хорошо, как вы знаете, знаком с русской и европейской театральной культурой. А в таких театрах показывают какие-то отрывки из водевилей, которых я не знаю. Это трудно для моего восприятия, Берг, простите…
— Так в том-то и дело, дружище! Владелец «Буффа» сумел договориться с властями Петербурга, и теперь ему разрешено показывать лёгкие спектакли целиком[40]!
— Звучит соблазнительно, — заявил японец. — Где, вы сказали, этот театр? На Невском? Надо посмотреть, нет ли его на присланной недавно карте вашей столицы.
— Зачем вам карта, Эномото, если у вас есть я? — Берг сделал вид, что обиделся. — Или я вас не устраиваю как спутник и гид?
— Отнюдь, мой друг! Отнюдь! Чтобы я делал в Петербурге без вас, Берг! Но карта, о которой я упомянул — особенная.
Один из циркуляров МИД России, направленного в посольство Японии в Петербурге, сразу после аккредитации, регламентировал некоторые правила поведения иностранцев в Северной столице, введённые для их собственной безопасности. На прилагаемой к циркуляру карте русской столицы были отмечены районы и кварталы Петербурга, небезопасные для посещения и пребывания в вечернее и ночное время. Иным цветом на той же карте были зловеще отмечены кварталы и улицы, где полицейские власти Санкт-Петербурга не гарантировали безопасность иностранных подданных в любое время суток.
Разглядывая в своё время эту карту, японский дипломат с удивлением обнаружил заштрихованные опасные участки не только на окраинах русской столицы, но и в самом её центре, причём один из них был расположен буквально в квартале от здания министерства внутренних дел и резиденции обер-полицмейстера Петербурга!
Заинтригованный, Эномото показал карту своему другу Михаилу Бергу и попросил разъяснить этот «русский парадокс».
— А-а, это место называют «вяземской лаврой», мой друг. Справедливости ради, скажу вам, что эта клоака небезопасна не только для чистой публики и иностранцев, но и для самой полиции, — пояснил Берг, с любопытством рассматривая карту.
— Но почему вы назвали эту клоаку «лаврой»? — допытывался Эномото. — Это слово у русских, по-моему, означает некое святое место, населённое монахами. Что-то вроде монастыря.
— Нет, Эномото, в данном случае слово «лавра» означает прямо противоположное святости. Когда-то тут были построены доходные дома, потом дома «обросли» клетушками, флигелями. Скученность народонаселения в таких домах ужасная, поэтому и даёт возможность легко укрыться там всяческим отбросам общества. Кстати, такие «лавры» есть, я уверен, не только в России. А вяземской сия местность прозывается по имени прежнего владельца участков.
— Хорошо! — не сдавался Эномото. — А почему тогда на карте заштрихованы большие участки берегов вашей главной реки, Невы? Кстати, Берг, по утрам я часто гуляю по набережной вдоль одного из таких участков. И обратил внимание, что у реки нет ни лачуг бездомных, ни брошенных барж, как в Амстердаме, — там тоже ютится всякое отребье. В чём опасность на Неве?
— Эномото, друг мой! Я же не полицейский офицер! — рассмеялся Берг. — И не могу знать, по каким признакам эти господа сочли берега Невы опасными для иностранцев. Могу только предполагать, что главную опасность этих мест составляют любители «невской ухи». Так у нас называют ночных гуляк, которые до рассвета проводят время в ресторациях, клубах и прочих увеселительных заведениях. А когда те закрываются, гуляки компаниями едут на Неву, нанимают рыбаков и покупают у них рыбный улов. Из этой рыбы на кострах там же, на берегу, варится рыбная похлёбка, по-русски — уха. Господа гуляки съедают её под французское шампанское и разъезжаются до вечера спать.
— Я всё же не понимаю, — признался японец. — Какую опасность могут представлять эти безобидные прожигатели жизни?
— Да не все они безобидные, дружище! — вздохнул Берг. — Бывает, что и очень-очень серьёзные люди сделки завершают на невском бережке. Ну, хотя бы с железнодорожными подрядами — очень прибыльное, говорят, дело. Сотни тысяч из рук в руки переходят, а для таких денег и охрана серьёзная надобна. Вот и нанимают коммерсанты громил. А на бережку, в уединении, бывает, что и не сойдутся в цене. Либо один коммерсант другого в нечестности заподозрит… В полицию с жалобой не пойдёшь: там же все подробности сделки рассказывать надобно — а подробности-то, чаще всего, и незаконные. Вот тогда громилы в дело и вступают… Мне будущий тестюшка — он по железнодорожному ведомству служит — рассказывал как-то, что два или три случая перестрелки только этим летом было… Так что берегут вас, господин Эномото, от всяких неприятных русских происшествий…
— Совсем как в Америке, — помолчав, пробормотал Эномото. — Мой друг, капитан Жюль Брюне много рассказывал про вспыльчивость потомков колонистов в Северо-Американских Штатах. Чуть что — люди за револьверы хватаются — дома ли, на улице, или в банке.
— Жюль Брюне? — переспросил тогда Берг. — Это, кажется, французское имя. Вы, видимо, познакомились с ним нынешней весной в Париже? Он бывал в Америке?
— Он много где побывал, друг мой, — ушёл от разговора японец. — И в Америке, и в Японии… Нет, это давний друг, Берг. Впрочем, мы говорили о русских обыкновениях…
Поняв, что о случайно упомянутом французе японец говорить просто не желает, Берг, привыкший к этой привычке своего друга, с лёгкостью переключился на прежнюю тему:
— А от чего ещё предостерегают дорогих японских гостей наши славные правоохранители? — поинтересовался он, возвращая карту Петербурга.
— Остальное мне понятно, друг мой: не носить с собой крупные суммы денег, остерегаться сомнительных предложений от незнакомых лиц, сулящих большую денежную выгоду при минимальных вложениях. Даже относительно женщин лёгкого поведения есть пожелание! — улыбнулся Эномото. — Ни в коем случае не знакомиться с ними без рекомендаций лиц, заслуживающих доверия. Даже список приложен нескольких петербургских домов терпимости, где персонал проверен и ни за что не допустит вольности или грубости с порядочными господами.
— Ха-ха! Эномото, дружище, а почему вы мне этот списочек не показываете? — оживился Берг. — Знаете, было бы любопытственно…
— Потому что у вас есть невеста, — отшутился японец. — Впрочем, если серьёзно, то вас в этих домах вряд ли примут, Берг: вы им неинтересны. Персонал этих домов, скорее всего, состоит на жалованье вашего МИДа. И их интересуют не плотские утехи, и даже не доходы от таковых, а дипломатические секреты. Значит, вы предлагаете «Буфф», Берг?
— Да. Кстати, там вторую неделю выступает неподражаемая Гортензия Шнайдер, звезда парижской оперетты[41]! На её премьерные спектакля, наверное, смогли бы попасть только вы, в вашем дипломатическом статусе. Да и насчёт сегодня я не уверен, друг мой…
Японец немного подумал и предложил:
— Давайте сегодня просто покатаемся по городу, без какой-либо определённой цели.
— Не желаете на оперетку? Как вам будет угодно! К вашим услугам! Верхом? В вашем экипаже?
— Пожалуй, что в экипаже. В мундире вид у меня слишком официальный, а в традиционной японской одежде с двумя мечами — слишком экзотический. Всякий раз, когда я выбираю японское платье, получается, что не я обозреваю вашу прекрасную столицу, а она меня, — улыбнулся Эномото. — И вы сегодня в статском, как я вижу!
Он хлопнул в ладоши, вызывая слугу: к колокольчику, обычно употребляемому для этих целей, он за несколько месяцев пребывания в русской столице не привык или не желал привыкать. Отдав распоряжение об экипаже, Эномото извинился перед гостем и отлучился переодеться.
Поджидая друга, Берг подумал о своей статской одежде и внутренне поёжился, представляя себе командирский разнос в том случае, если князю Кильдишеву кто-то скажет о том, что офицер его батальона грубо нарушает строжайшее предписание об обязательном ношении мундира. В статском гвардейские офицеры могли появляться на улицах и в присутственных местах только при наличии отпускного билета, либо за границей.
Уже на крыльце особняка, занимаемого Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России на Дворцовой набережной, Берг мельком глянул на тёмные, наглухо зашторенные окна угловых комнат, поинтересовался:
— Как поживают ваш помощник? Господин Уратаро — здоров ли? А господина лейтенанта Асикага я вообще что-то не вижу в последнее время…
— Благодарю за беспокойство, господин Берг! Лейтенант Уратаро Сига здоров, он делает большие успехи в русском языке и очень помогает мне в текущих переговорах. Лейтенант Асикага Томео не принимает в переговорах непосредственного участия, у него… другие задачи. Признаться, я и сам его неделями порой не вижу! — криво улыбнулся Эномото. — Видимо, в ближайшие дни он ненадолго покинет Петербург и выедет в служебную поездку в Европу.
— «Видимо»? — удивился офицер. — Ваш сотрудник и подчинённый покидает посольство и страну пребывания, а глава дипломатической миссии ничего не знает об этом?
— Господин Асикага через несколько дней ненадолго отбывает из Петербурга. Вот и всё, что мне положено знать, друг мой! — снова вымученно улыбнулся посол. — Вы же офицер, Берг, и должны понимать: полученные приказы не обсуждаются!
— Как раз это я вполне способен понять, — вежливо кивнул Берг. — Моё удивление, если позволите, вызвано другим. Ваше посольство, как, впрочем, и всякое другое, проходит по линии министерства иностранных дел. Не так ли?
— У нас оно называется министерство внешних связей, — мягко поправил Эномото. — Впрочем, суть одна, вы правы. Вас удивляет то, что один из сотрудников дипломатической миссии занимается делами, о которых не ведает её глава? Но ведь дипломатия многогранна, мой друг! Её можно уподобить сплаву стали, из которого выковывают японский меч: металл, по сути, один, а вот способы ковки, закалки, обработки и шлифовки придают одному клинку разные свойства…
— Очень образно и весьма поэтично, — похвалил Берг. — Однако, согласитесь: оружейный мастер, создавая катану, должен иметь представление о каждой мелочи процесса созидания! Что за меч получится, если помощник…
Подыскивая образное сравнение, Берг замолчал, морща лоб и шевеля пальцами. Эномото рассмеялся, увлекая друга к подъехавшей карете посланника.
— А вы тоже поэт, мой друг! И очень умный, и наблюдательный человек к тому же. Прошу в экипаж, Берг! По дороге мы закончим этот разговор, — последнюю фразу Эномото, почти не запинаясь, произнёс по-русски.
— За четыре месяца пребывания в России вы сделали большие успехи в освоении русского языка, — не удержавшись, похвалил друга офицер. — Не сочтите за лесть, но вы почти сравнялись со своим переводчиком, господин Эномото!
— Вы правы, господин Берг! В России я действительно успел освоить очень многое. Но вот чего я никак не могу освоить, так это умения отвечать сразу на несколько вопросов, — улыбнулся углами рта японец.
— Простите великодушно.
— Вы, господин Берг, не будучи русским по крови, тоже имеете это обыкновение — впрочем, совершенно простительное: задавать сразу несколько вопросов. Так вот, насчёт господина Асикага. Видите ли, Берг, клановость общества в Японии — его основа. То, что лейтенант Асикага по своему происхождению принадлежит к отнюдь не дружественному мне клану — ерунда! Это в полной мере могло быть нивелировано другим японским обыкновением — чинопочитанием и законопослушанием. Гораздо хуже другое: то, что непосредственный начальник лейтенанта Асикага — предводитель враждебного мне клана. Тем не менее именно этот предводитель рекомендовал императору Мэйдзи назначить меня посланником в Россию! Он не мог, не должен был этого делать — но сделал! Почему? Этот вопрос мучит меня с самого первого дня моего назначения! Лейтенант Асикага — глаза и уши своего господина, министра Сайго Такамори. Иногда лейтенант представляется мне змеёй, внимательно и хладнокровно наблюдающей за своей жертвой перед тем, как сделать смертельный бросок. Но я не понимаю — чего он ждёт?
— Может быть, ваши враги ждут вашей ошибки на переговорах? Или подозревают вас в том, что вы можете намеренно предать интересы своей родины?
— Если бы меня подозревали в этом, вряд ли я вообще получил бы это назначение, друг мой! Нет, тут что-то иное… Но что именно?
— Но, Эномото, если дело обстоит так с самого начала, для чего вы вообще согласились ехать в Россию?
— Не сочтите за обиду, господин Берг, но, чтобы понять японца, нужно быть им. Я заметил, что старшие начальники в Европе, отдавая приказания или распоряжения, всегда мотивируют их. В нашей стране делается не так! Мы получаем приказы и выполняем их. Что же касается мотивации, то мы сами должны догадываться о конечной цели сильных мира сего. Но ни в коем случае нельзя спрашивать их об этом!
— Хм… А если японский вельможа велит слуге спрыгнуть в пропасть, на верную смерть? У господина тоже нельзя поинтересоваться причиной такого распоряжения?
— Верный слуга спрыгнет без вопросов. Если господин мудр, он не отдаст такой приказ просто так.
Офицер немного подумал и покачал головой:
— Получается, что повиновение и исполнение приказов у вас на родине всё же не слепое. Слуга должен быть предан, господин мудр…
— Наш мир, в котором мы живём, всегда гармоничен. Но эта гармония может быть скрытой, её нужно уметь разглядеть… Но давайте завершим наш разговор на эту тему, Берг! Простите меня за то, что сделал вас поверенным в своих мрачных размышлениях. Обещаю вам, что этого не повторится!
— Может быть, я когда-нибудь и проникнусь вашей философией, господин Эномото. Но прошу вас, не давайте мне подобных обещаний! В России истинные друзья всегда готовы прийти на помощь! И кому, если не другу, можно рассказать о своих сомнениях, поделиться как тяжёлой ношей, так и горем! Знаете, есть даже поговорка: истинный друг познаётся в беде! Вы всегда можете рассчитывать на меня, Эномото!
— Благодарю вас, Берг! Не обещаю, что сразу смогу привыкнуть к этому вашему обыкновению — но очень его ценю, поверьте! Но… наш кучер уже проявляет признаки нетерпения, друг мой! Позвольте отдать ему распоряжение о цели нашей поездки?
— Разумеется! Куда вы желаете поехать нынче?
— Не поехать ли нам в Петропавловскую крепость?
— Да ради бога! Вы гость нашей страны, гость высокопоставленный, обласканный нашим государем — поезжайте куда хотите!
Подняв набалдашником трости верхнее окошко, Эномото бросил кучеру короткое распоряжение и повернулся к собеседнику:
— Едем в главную русскую тюрьму, Берг!
— Как прикажете… Газеты, кстати, писали, что вы уже посещали Петропавловскую крепость с государем. И опять туда собрались.
— Мы с его величеством послушали в крепости фортепианный концерт — я и не думал, что там такая великолепная акустика! Полюбовались ботиком вашего великого царя Петра, которого в России считают отцом русского флота. Мне посчастливилось побывать и на Монетном дворе — говорят, что постороннему попасть в эту сокровищницу России невозможно! Государь даже подарил мне золотую монету, только что отчеканенную, ещё горячую, — Эномото вытянул из-под ворота одежды висящую на цепочке монету, показал собеседнику. — По правде говоря, в тот раз я больше хотел посмотреть самую страшную, как говорят, тюрьму России…
— Брр, от одного её названия мороз по коже, — покрутил головой Берг. — Это тюрьма для политических, государственных преступников. Зачем она вам? Впрочем, — махнул рукой Берг. — Если уж вы себе в головушку свою японскую втемяшили… Да, и что государь? В газетах ничего о посещении Равелина не писали.
— А мы туда в тот раз так и не попали. Его величество объяснил это нехваткой своего времени. Правда, мне показалось, что русскому императору просто неприлично посещать такие заведения. Однако министр двора, господин Адлерберг, тогда заверил меня, что отдаст специальное приказание, чтобы меня допустили в тюрьму Трубецкого бастиона в любое время, когда я пожелаю…
— Что ж, проверим, — с сомнением покачал головой офицер.
По дороге Берг продолжал размышлять о японском этикете и с досадой думал о том, что с любым соотечественником, да и с европейцем, пожалуй, он давно бы перешёл на «ты» и предложил бы обращаться друг к другу дружески, по имени. Но с японцем всё было иначе: явно выделяя Берга среди прочих своих новых знакомых в России, Эномото продолжал «держать дистанцию» даже на дружеских пирушках, куда Берг неоднократно приглашал своего иноземного друга.
Вскоре ободья кареты посланника загрохотали по булыжникам Петровского моста[42], и перед аркой ворот Иоанновского равелина лошади встали.
Берг, опустив окно кареты со своей стороны, крикнул караульному:
— Его высокопревосходительство Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии к коменданту крепости!
Тяжёлые ворота медленно, словно нехотя, распахнулись, на подножку вскочил караульный офицер, показывая дорогу. Карета проехала мимо артиллерийского цейхгауза, Петропавловского собора и остановилась у подъезда комендантского дома. Караульный офицер соскочил с подножки, откозырял поджидающему на крыльце адъютанту коменданта крепости Корсакова.
— Прошу, ваше высокопревосходительство! — адъютант распахнул обе половинки дверей, покосился на Берга. — А вы, господин. Не имею чести быть знакомым — очевидно, вы по министерству иностранных дел? Его высокоблагородие генерал от кавалерии Корсаков, комендант крепости, не будучи заранее предупреждён о времени вашего визита, сейчас будет. Прошу пока в приёмную его высокоблагородия!
Ждать коменданта долго не пришлось. За дверью вскоре послышалось мелодичное перезвякивание шпор, и появился Николай Андреевич Корсаков. Услыхав просьбу посла, радости генерал не высказал и даже чуть сдвинул кустистые брови. Однако полученное им от министра двора распоряжение насчёт разрешения на посещение тюрьмы для государственных преступников было, по всей видимости, однозначным, и возразить комендант не решился. Берг, также не испытывающий радости от столь необычной экскурсии, чувствовал удовольствие хотя бы в том, что догадался сегодня отправиться на прогулку в статском платье. Генерал, как и его адъютант, был уверен, что с послом может быть только какой-то чин из МИДа: вряд ли младший офицер гвардейского сапёрного батальона удостоился бы генеральского внимания и разрешения на посещение тюрьмы.
— Да, конечно… Просьба, конечно, необычная — но не смею, как говорится, возражать, господа. Я провожу вас непосредственно к смотрителю тюрьмы, а по дороге коротко познакомлю с нашей, так сказать, узилищной историей-с.
Генерал повёл гостей вдоль Екатерининской куртины.
— Раньше, собственно, арестанты содержались в этих куртинах, опоясывающих крепость, да в одноэтажном здании цехов Монетного двора у стен Трубецкого бастиона, — отрывисто, словно выученный урок, рассказывал Корсаков. — Это было весьма неудобно для распределения охраны, и в конце 60-х годов я вошёл в главное инженерное управление с предложением приспособить под тюремные нужды казематы этого бастиона. В результате моего обращения внутренние стены Трубецкого бастиона разобрали, и в этом месте по проекту двух военных инженеров было построено пятиугольное здание новой тюрьмы. Официально она называется Арестантскими помещениями Санкт-Петербургской крепости.
— Здание, как вы изволите видеть, двухэтажное, — продолжал генерал, остановившись у входной арки с полосатой деревянной будкой часового. — Внутренний двор предназначен для прогулок заключённых. Там же имеется баня, кою арестанты посещают дважды в месяц. В здании, кроме камер, имеются караульные помещения. Там же расположена и квартира смотрителя. Имеете намерение заглянуть в камеры, ваше высокопревосходительство? — неожиданно Корсаков в упор поглядел на Эномото.
— Если это возможно, — поклонился тот.
— Что ж, в настоящее время несколько камер пустует, и в них вас, безусловно, допустят, — кивнул генерал. — В обитаемые камеры можно заглянуть сквозь специальные дверные проёмы для наблюдения за арестантами. Общение с заключёнными разрешено только специально уполномоченным на то лицам, так что тут прошу простить: никак нельзя-с! Прошу также не задавать надзирателям и караульным вопросов относительно имён и прежнего рода занятий арестованных, совершенных ими преступлениях и сроках тюремного заключения. Ответов на эти вопросы вы не получите, ваше высокопревосходительство. Простите уж…
Корсаков сделал знак часовому, охранявшему проход во внутренний двор тюрьмы, и тот распахнул дверь.
— Прошу, господа! — комендант посторонился, пропуская вперёд посетителей. — Сейчас я представлю вас смотрителю тюрьмы, и он покажет вам всё, что возможно. А я, к сожалению, с вами распрощаюсь: дел, простите, много!
Во внутреннем дворе гостей уже поджидал смотритель в мундире тюремного ведомства, извещённый о визите высоких гостей. Не представляясь, он коротко поклонился и сделал приглашающий жест.
— На первом этаже у нас, кроме камер, имеются цейхгауз, кордегардия[43], приёмное отделение для арестантов, кухня, различные хозяйственные помещения. С чего желаете начать осмотр, господа?
Осмотр начали со служебных помещений. Эномото шагал за смотрителем пружинистым шагом, быстро и цепко смотря вокруг щёлками глаз и почти не задавая вопросов. Бергу, нехотя согласившемуся на неожиданно предложенную экскурсию, в тюрьме и вовсе стало не по себе. И в библиотеке, где завершился осмотр первого этажа, он с официальным видом заявил:
— Если не возражаете, ваше высокопревосходительство, я на второй этаж не пойду и подожду вас здесь.
Эномото, чуть усмехнувшись, не возразил. Не возражал и смотритель — лишь сделал неприметный знак одному из караульных офицеров, и тот остался с Бергом, тихонько опустившись на стул у двери.
Берг прошёлся вдоль полок. Вытащил наудачу несколько книг, полистал, подивившись про себя отсутствию всякого рода пометок, в том числе и библиотечных. Словно прочитав его мысли, караульный офицер подал голос:
— Арестантам запрещается делать какие-либо пометки в книгах, оставлять там какие-то знаки, отчёркивания даже ногтём. При обнаружении таковых пометок арестант лишается права пользования библиотекой на полгода, а помеченная книга, согласно инструкции, сжигается…
Минут через двадцать Эномото и сопровождающий его смотритель вернулись в библиотеку.
— Прошу извинить меня, если я злоупотребил временем вашего ожидания, — Эномото обратился к другу так же официально, как и тот к нему. — Благодарю вас, господин смотритель, за предоставленную мне возможность воочию познакомиться с тюремным русским заведением!
— Я всего лишь выполнял приказание его высокоблагородия! — поклонился тот. — Если у вас, господа, нет других объектов интереса на территории Крепости, караульный офицер проводит вас до экипажа. Прощайте, господа!
Когда карета, прогремев колёсами по брусчатке Петровского моста, выехала в город, Берг, не выдержав, опустил стекло со своей стороны и от избытка чувств даже высунул голову наружу.
— У-ух, какой же тут вольный и свободный воздух, господин Эномото! Вы не почувствовали — даже на нас, свободных людей — тюремные стены и сама атмосфера оказывали какое-то гнетущее действие! Не знаю, за каким чёртом вам понадобилась сия мрачная экскурсия, право! Уверяю вас, в Петербурге есть множество более весёлых и более интересных мест, которые вы ещё не видели!
Эномото, положивший подбородок на скрещенные на трости ладони, повернул к собеседнику голову, и Берг в очередной раз поразился — насколько выразительным может быть типично азиатское малоподвижное лицо. Сейчас в этом лице была собрана — Берг готов был в этом поклясться — вся грусть Японских островов.
— У меня на родине есть старая поговорка, которую я не рискну перевести дословно. Но смысл передать попытаюсь, — Эномото помолчал, словно собираясь с мыслями. — Когда пируешь с друзьями и слушаешь весёлые звуки голосов, не забывай, что на свете есть и Песни Мёртвых, которые надо уметь слышать. Забывающий об этом обречён слушать эти песни всю оставшуюся жизнь… Вы помните, господин Берг, такая тишина была в тюремных коридорах Крепости?
— Да уж… Просто уши закладывало от такой тишины! Даже шаги надзирателей глохли на расстеленных повсюду верёвочных циновках. А вы обратили внимание, что и надзиратели ходили по коридорам от камеры к камере парами?
— Конечно. И даже спросил об этом у смотрителя. Оказывается, один из парных унтер-офицеров строевой, а второй жандарм. Следят и за узниками, и друг за другом… Жаль, что вы не захотели пойти со мной на второй этаж, господин Берг! Уверяю вас, там тишина ещё более осязаема. А ещё я попросил, чтобы меня оставили на несколько минут одного в пустой камере — мне хотелось представить себя на месте узника… Посидев в камере несколько минут, я просто не вынес этой давящей тишины и, честно признаться, бросился к двери. И представьте мои чувства, когда она оказалась запертой! Я тянул её, толкал — клянусь, господин Берг, в те мгновения я забыл, в какую сторону открываются тюремные двери — я стучал по ней кулаками, а мне отвечала только тишина… Через минуту дверь распахнулась, а смотритель, увидев моё лицо, извинился: оказывается, надзиратели в это время услыхали что-то подозрительное из-за соседней двери, за которой сидел настоящий арестант. Но эта минута, друг мой, показалась мне целым веком!
— Ну, вот, я же говорю — за каким чёртом вам эта нервотрёпка? Эти переживания? Может, к цыганам поедем, господин Эномото? Развеемся?
— Извините, господин Берг, но сегодня у меня не то настроение.
— А откуда же ему хорошему быть, ежели по тюрьмам с утра ходить? — рассудил Берг. — Нет, в самом деле: может, к цыганам? Проверенное русское средство от тоски, господин Эномото! Вот погодите, дружище, я вас в декабре на свадьбу свою приглашу! — вот где вся широта русской души проверяется! Шампанское рекой, скачки на тройках… С невестой познакомлю непременно! Помните нашу первую встречу в Париже, дружище? У мэтра Ворта? Вы у него мундир заказали, а я, выполняя наказ наречённой Настеньки, французские модные новинки искал. Будь они неладны, все эти кисеи и турнюры… А что поделаешь — как узнала моя Настенька после нашей помолвки, что в Европу меня командируют, так прямо с ножом к горлу. «Ах, Париж!», «Ах, моды-шляпки!» Пытался ей втолковать было, что не пристало русскому офицеру в дамской кисее копаться — да куда там! Впрочем, нет худа без добра — с вами тогда знакомство свёл, господин Эномото!
— Знаете, а ведь мне, случись что, будет сильно не хватать вас, господин Берг, — словно не слыша собеседника, вдруг произнёс Эномото. — Мы знакомы всего четыре или пять месяцев, а у меня такое ощущение, будто знаю вас очень давно…
— Ну-у, дожили! — хлопнул в досаде себя по коленям офицер. — Теперь уже и похоронное настроение! Ну, что со мной может случиться? Войны, слава Создателю, пока не предвидится. И потом — государь относится к вам очень приязненно. И вы, уверен, сможете вытащить меня из любой переделки. Стоит только попросить!
— Но ваш государь любезен ко мне, а вас он, по-моему, вовсе не знает, — вздохнул Эномото. — И, говоря о возможных неприятностях, я имел в виду себя!
Берг помолчал, осмысливая услышанное. И наконец решился:
— Послушайте, дружище, вы вот только что признались, что весьма ко мне привязаны. А между тем никак не подпускаете к себе близко, чёрт побери! Не знаю, как у вас, в Японии, а у нас, в России, друзья всегда приходят друг к другу на помощь — я же говорил вам об этом! На то они и друзья! К тому же мы оба офицеры, служим хоть и разным императорам, но принадлежим к одной касте! Я же вижу, Эномото, что вас что-то гнетёт последнее время! Расскажите, поделитесь с другом. Может быть, я смогу вам помочь — если не делом, то советом. Ваше дурное настроение и мрачные предчувствия как-то связаны с внезапным отъездом господина Асикага? — внезапно осенило Берга.
— Вы очень проницательны, друг мой, — Эномото повернулся к Бергу и даже поднял руку, словно собираясь с благодарностью тронуть его за плечо — но сдержался, лишь стряхнул с лацкана своего сюртука невидимую пылинку. — Благодарю вас за искреннее желание помочь мне — в Японии говорят, что благородный человек и жизни не пожалеет ради друга. Увы: я не могу, не имею права впутывать вас в наши внутренние японские дела. Простите, Берг! А что до вашей свадьбы — заранее благодарю вас за приглашение. И если обстоятельства позволят, непременно приду! Однако позвольте дать совет, мой друг. И познакомить вас с очередной японской поговоркой. У нас говорят: когда строишь планы на будущее, на чердаке мыши смеются!
— Мыши? При чём тут мыши?
Как ни бился в тот день Берг, пытаясь вызвать своего японского друга на откровенность, все было втуне. Почувствовав, что его настойчивые расспросы становятся неприятными Эномото, офицер нехотя отступился. Дав себе при этом слово, что найдёт способ дознаться о неприятностях японского дипломата и непременно помочь ему.
Распрощавшись с Эномото во второй половине дня у подъезда особняка посольства, Берг окликнул извозчика и покатил на казённую квартиру, занимаемую им вблизи казарм своего батальона в Сапёрном переулке.
Глава восьмая
Канцлер Горчаков и директор Азиатского департамента Стремоухов шагали длинными коридорами к залу для переговоров. До начала очередного раунда с японским посланником оставалось около четверти часа, и особо спешить было некуда. Тем не менее министр, верный своей многолетней привычке ходить быстро, то и дело нетерпеливо оглядывался на спутника, следующего рядом с высоким начальством «по уставу» — слева и на шаг позади — словно попрекая за неторопливость.
Злые языки давно уже запустили по этому поводу в министерские коридоры анекдот: оттого и бегает, дескать, всё время, Лицеист[44], что хочет доказать, что годы над ним не властны.
Годы тем не менее брали своё, и старческая рассеянность и запальчивость канцлера на важных международный встречах иной раз обходилась российской политике весьма дорого. Однако искренняя приязнь и неизменно доброжелательное отношение к «обломку империи» Александра II сводили на нет все попытки завистников и злопыхателей столкнуть Горчакова с российского внешнеполитического олимпа. Да и ум светлейшего князя был по-прежнему остёр, а тренированная десятилетиями память редко его подводила.
Вот и нынче Пётр Николаевич Стремоухов — тоже, кстати, закончивший Царскосельский лицей, как и канцлер — ничуть не опасался, что торопливая походка шефа позволит нарушить одно из незыблемых правил дипломатического протокола и явиться на очередную встречу с послом Японии раньше назначенного времени. Свой торопливый «бег» по коридорам канцлер нивелировал частыми остановками с начальниками отделов и департаментов министерства, заглядыванием в кабинеты. Тем не менее к «переговорной» Горчаков и Стремоухов подошли за десять минут до начала раунда, и канцлер, прозвенев брегетом, увлёк директора Азиатского департамента в смежную с залом комнату отдыха.
— Ну-с, Пётр Николаевич, значит, мы с тобой всё обговорили, всё прикинули. С нашими предъявлениями господину Эномото определился?
— Точно так, ваше сиятельство! — Стремоухов с готовностью раскрыл бювар, наполненный вырезками из иностранных газет с многочисленными пометками на полях.
— Верю, верю, не усердствуй! — кивнул Горчаков. — В шифровальный департамент заходил? К Долматову?
— С самого утра, Александр Михайлович! Жалуется господин тайный советник на нашего японского друга, — Стремоухов позволил себе коротко усмехнуться. — Только шесть депеш и отправил в Японию господин Эномото за всё время пребывания в Петербурге. И все шесть — открытым текстом, без шифровки: доложил о прибытии, сообщил согласованный с нами график переговоров и результаты по каждому раунду, очень лаконично. Довожу, мол, до вашего сведения, что предложенный нами вариант решения не вызвал интереса у российской стороны. Одна депеша была посвящена весьма дружескому приёму, оказанному Эномото нашим государем. Рапортовал о внимании к его персоне, доложил о приглашении государя императора посетить Кронштадт. Две недели назад посол отправил со специальным курьером в Японское министерство внешних связей пакет с письменным, надо полагать, отчётом о ходе переговоров. Но это дело весьма обычное…
— Значит, ничего особенного…
— Если не считать весьма любопытной депеши, отправленной недавно из Парижа секретарём японского посольства, господином Асикага. Я уже докладывал, ваше сиятельство, что неделю назад господин Асикага выехал временно из России в деловую поездку в Антверпен. Как было заявлено — в голландские корабельные доки, для решения текущих вопросов строительства там броненосца для нужд Японии. Однако наблюдение показало, что Асикага, не задерживаясь в Голландии, проследовал в Париж и провёл там несколько дней, откуда и отправил странную депешу — но в не Токио, а в Кагосиму, какому-то торговцу тканями.
— Так-так-так… И что же там?
— С виду самый обычный отчёт торгового агента — что-то там закуплено. Долматов, кстати, на всякий случай попросил наше консульство в Японии навести об этом торговце из Кагосимы осторожные справки. Ответа пока нет — но вот из Парижа сообщили любопытные вещи, Александр Михайлович! При установлении там наблюдения за господином Асикага французские сыщики обнаружили, что наблюдение за ним уже было установлено и велось!
— Что за чертовщина? Кем установлено?
— Сие выяснить не удалось, Александр Михайлович! — развёл руками Стремоухов. — Французы, установив факт наблюдения, вообразили, что наше Заграничное охранное отделение, не доверяя в полной мере им, просто страхуется. И наблюдали за Асикага не плотно, как говорят профессионалы. Для проформы, видимо.
— Поездку этого господина в Париж надо до конца разъяснить, Пётр Николаевич! — приказал Горчаков, снова доставая брегет и прозванивая время. — Может, там и вправду ерунда — вроде той суеты с пошивом мундира, которая нас весной, ежели помнишь, сна лишила. А может, и что посерьёзнее — разобраться надо! А сейчас ступай, без двух минут полдень уже!
— Сильно на японца давить не надо, как мы и говорили, — придерживая директора под руку, на ходу заканчивал поучения Горчаков. — Но и кота за хвост тянуть не позволяй! Вишь ты, хитрецы какие: предложили нам переговоры по Сахалину в Петербурге проводить. Как будто нам непонятно — что сие есть только ещё один способ затягивания процесса! Ты, Пётр Николаевич, так при случае этому Эномото и дай понять: знаем, мол, отчего не вблизи спорной территории дебаты вокруг неё разводить задумали, господа! Ну, с Богом!
Служитель распахнул перед Стремоуховым обе половинки высоких дверей в переговорную залу. Проходя мимо, директор Азиатского департамента отметил, что практически одновременно через двери на противоположном конце зала туда неспешным шагом заходит Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии вице-адмирал Эномото Такэаки.
Стороны обменялись церемонными приветствиями, и директор Азиатского департамента пригласил посла занять место за обширным столом напротив себя. Рядом с Эномото сел переводчик Уратаро Сига, слева от Стремоухова занял место секретарь департамента Мартов. Министерский протоколист со своей кипой бумаг неслышно занял столик в углу зала, под развесистыми пальмами в кадках.
Предваряя официальное начало раунда, Стремоухов с дружеской улыбкой поинтересовался у японцев условиями их пребывания в Северной столице России, самочувствием его высокопревосходительства посла. Получив исчерпывающие ответы с благодарностью за создание для японской миссии всех необходимых условий для работы и отдыха, Стремоухов чуть уменьшил градус широкой улыбки и, взявшись уже за свою папку, спросил:
— Не получал ли господин вице-адмирал за время, истекшее с предыдущего раунда переговоров, каких-либо сведений и указаний от правительства Японии относительно позиции японской стороны по вопросу территориального размежевания острова Сахалин?
Вопрос, что называется, был «на засыпку». Установленный в японском посольстве телеграфный аппарат для оперативной связи с Японией был под негласным контролем инженеров-связистов русского МИДа. И, получи японцы какую-либо депешу, её копия тотчас очутилась бы на столе у начальника секретного департамента министерства Долматова. Могли министерские телеграфисты и перехватывать отправляемые депеши. Единственным посланием из японского посольства на родину после предыдущего раунда был подробный отчёт вице-адмирала Эномото о визите в Кронштадт, совершенном по приглашению русского императора и в его же присутствии.
За неимением прочего, дешифровальщики Долматова изучили телеграфный отчёт японского посла вдоль и поперёк, дотошно сравнив изложенную в депеше программу поездки с протоколом визита государя императора. Однако никаких расхождений и несоответствий, могущих в иных случаях быть источником для сокрытия в текстах тайных сведений и знаков, обнаружено не было.
Скудость дипломатической переписки вице-адмирала Эномото доводила секретчиков российского МИДа едва не до исступления. Все прочие дипломатические миссии, аккредитованные в Петербурге, вели себя как люди: ежедневно принимали и отправляли до десятка и более телеграфных депеш, вели интенсивный обмен почтовыми посланиями, отправляли и принимали специальных курьеров. Почти вся масса этих посланий была зашифрована — но это, как говаривал шеф шифровального департамента, «только перчику в пресную жизнь добавляло». Перехватывалась и перлюстрировалась дипломатическая почта, с голубых конвертов коей не спускали глаз матёрые дипкурьеры. Обычной международной практикой во второй половине XIX стали подкупы курьеров, продажа и перепродажа секретных кодов к самым мудрёным шифрам.
А тут ничего! Ну просто благородное семейство на скучном курортном отдыхе…
Исходя из минимума телеграфных и почтовых отправлений, японцев заподозрили в «переписке под крышей» — когда иностранное посольство получало сверхсекретную почту из чужого почтового ящика. Это обычно происходило через дружественное посольство, либо посредством частных лиц, заранее внедрённых в страну и никому не подозрительных резидентов. Вскрыть такую «крышу» могло только тотальное наблюдение за всеми без исключения сотрудниками посольства и всеми вхожими туда лицами — включая сюда вольнонаёмных истопников и прачек.
Подозрение сие было снято через два месяца тщательнейших наблюдений в Петербурге, косвенно подтверждённых и российскими дипломатами в Токио: те не смогли зафиксировать в правительственных кругах Японии появления каких-либо русских новостей из незнакомого источника.
Получив от вице-адмирала прогнозируемое подтверждение об отсутствии каких-либо новостей из Японии, Стремоухов внутренне поморщился: раз позиция не изменилась, стало быть, толчение воды в ступе продолжится! Вслух же он бодро выразил надежду на сближение позиции сторон по сахалинскому вопросу уже в самое ближайшее время.
— Итак, ваше высокопревосходительство, следуя протоколу нашего последнего заседания, мы остановились на неизменности позиции японской стороны о сухопутном разграничении спорной территории, — приспустив очки на кончик носа, Стремоухов поочерёдно строго глянул на мидовского протоколиста и на японского переводчика, словно проверяя их бдительность.
Оба меланхолично кивнули, подтверждая сказанное, и директор Азиатского департамента продолжил:
— Российская сторона, в свою очередь, вновь вынуждена указать, ваше высокопревосходительство на совершенную неприемлемость такого подхода! Вы, господин вице-адмирал, ссылаетесь на действующее между нашими странами соглашение о разграничении от 1867 года, подписанное с японской стороны ещё прежним правителем страны, сёгуном Токугавой.
Эномото кивнул и уже открыл было рот для подтверждения постулата, однако Стремоухов поспешил продолжить:
— Но не ваше ли нынешнее правительство, господин посол, всячески открещивается от международных актов прежнего правительства? Освоение русскими Южного Сахалина постоянно наталкивается на противодействие японских чиновников! Хочу напомнить вам, ваше высокопревосходительство, что член кабинета министров господин Окамото Кэнсукэ ещё в июне 1869 года категорически заявлял о том, что правительство микадо считает все соглашения сёгуна Токугавы незаконными и не имеющими юридической силы! Обращаю ваше внимание, господин вице-адмирал, что международное право не признает отмены договоров в связи с изменениями в составе правительств.
— Вряд ли господин Окамото имел в виду конкретное соглашение по Сахалину, — успокаивающе поднял ладони японский посланник. — У меня нет никакого сомнения, что вся практика последних лет свидетельствует о том, что японцы и русские вполне могут вместе осваивать один остров!
— Я был бы рад целиком разделить ваши убеждения, но давайте глядеть правде в глаза, господин посол: всё это — не более, чем благие пожелания! Практика же, увы, показывает на шаткость этих надежд! И потом, ваше высокопревосходительство: давайте не будем сбрасывать со счетов нынешних больших друзей вашего правительства — американцев и англичан! Извольте — я приготовил вашему вниманию вырезки из газет последних месяцев, посвящённые обсуждаемой нами проблеме острова Сахалин. Обратите внимание: это не русские газеты — а японские, а также британские и американские!
Стремоухов ловко, наподобие карточного пасьянса, разложил на столе перед японским посланником вырезки.
— Все эти публикации содержат ссылки на высокопоставленные источники информации в японском и прочих правительствах, называют конкретные имена, свидетельствуют о продолжающихся попытках Японии утвердить свои позиции на Южном Сахалине с помощью британцев и американцев. Торговые и военные корабли этих стран не только перебрасывают на Сахалин из Японии колонистов, переселяемых туда преступников и воинские команды. Извольте: вам, очевидно, знакомо название английского судна «Корморант»? А знаете ли вы, господин посол, что, выйдя из Хакодате ещё в сентябре, судно «Корморант» под командованием капитана Денисона пробыло у берегов Сахалина почти три месяца? Его экипаж там отнюдь не охотился, не предавался отдыху, а производил рекогносцировку побережья, промеры глубин в заливах, собирал данные об угольных месторождениях юга Сахалина. И это, господин посол, не досужие выдумки русских газетчиков, а данные, почерпнутые из ваших и английских газет!
— Господин Стремоухов, газетчики всех стран и народов мало отличаются один от другого, — улыбнулся Эномото. — Все они падки на сенсации и непроверенные слухи!
— А сведения о том, что английские суда «Шейлс», «Осака», «Нимфа», «Акиндо» и прочие перебросили в Хакодате и в Аниву несколько сотен японских колонистов, солдат, провиант и оружие? А американское торговое судно «Яндзы», доставившее на исконно русскую территорию не только воинский контингент и колонистов из Японии, но и два артиллерийских орудия? Уж не для охоты ли, господин посол? И эти сведения тоже можно считать газетными утками, господин Эномото? Тогда извольте ознакомиться: это отчёт Колониального бюро Японии о расходах, понесённых правительством в целях колонизации Сахалина! — Стремоухов ловко выудил из своей бездонной папки документ, украшенный подписями и печатями, и передвинул его к собеседнику.
Едва глянув на документ, Эномото тут же недоверчиво воззрился на бювар перед директором Азиатского департамента:
— У вас опасная папка, ваше высокопревосходительство! — без тени иронии констатировал он. — И много там подобных… свидетельств?
— Для обоснования вполне законных притязаний России на весь остров — вполне достаточно! — не менее серьёзно подтвердил Стремоухов.
— Позвольте вопрос, господин Стремоухов, — вице-адмирал подался вперёд, стараясь удержать зрачками глаза собеседника. — Возможно, он выпадет из дипломатических рамок, тогда единственным моим извинением может послужить малый опыт в международной политике…
— Что ж, задавайте! — усмехнулся директор. — Для того мы тут и собираемся, чтобы вопросы друг другу задавать, господин Эномото!
— Если этот остров столь важен для России, ваше высокопревосходительство, то отчего же вы проигнорировали вполне приемлемое, на мой взгляд, предложение в виде отказа моей страны от претензий на юг Сахалина в обмен на обязательства России соблюдать нейтралитет в случае войны с Кореей? От вас всего-навсего требовалось разрешить высадку японских войск на русской территории… Никаких компенсаций, никаких взаимных территориальных уступок.
Стремоухов откинулся на спинку кресла и, в свою очередь, испытующе воззрился на вице-адмирала. И наконец, тяжело задвигался, отторгая кресло подальше от стола:
— Искренний ответ желаете получить? Не под протокол? Есипов, отдохни-ка, голубчик!
Протоколист, бледно улыбнувшись, уложил ручку с пером в подставку и откинулся на своём стуле назад, сложил руки перед собой.
— Ну, ежели без протокола, ваше высокопревосходительство… Так я вам скажу… Вернее, повторю русскую пословицу — они очень верные, пословицы-то, господин Эномото! На чужом горе счастия не построишь, вице-адмирал! Вот и все наши резоны! Вспомните всемирную историю, господин Эномото! Ни один поработитель не обрёл счастия среди порабощённых народов! Хоть великого Александра Македонского вспомните, хоть персидского царя Дария. И России, допусти она такое, глаза бы от Кореи стыдливо много лет пришлось бы прятать, и Япония ваша только головную боль получила бы… Ну а ежели официально. Есипов, пиши! Ежели официально, то нарушение нейтралитета в пользу Японии не послужило бы на пользу будущему России. И на долгие годы дало бы Корее и Китаю поводы к политическим усложнениям.
— Благодарю за откровенность, господин директор! Продолжим, с вашего позволения! Допустим, ваше высокопревосходительство, что моё правительство с пониманием приняло бы ваши аргументы насчёт значения Южного Сахалина. Допустим! — со значением поднял указательный палец Эномото. — И моё правительство, допустим, согласилось бы уступить права на остров — в обмен, скажем, на старые корабли деревянной постройки, которые Россия и без того выводит в резерв в связи с постройкой новых броненосцев! Что бы вы сказали, господин Стремоухов? Согласитесь, это ничтожная плата и за территорию, и за его рыбные промыслы, и за строения и здания, построенные японцами на юге острова в течение многих десятилетий!
— Шутить изволите, господин Эномото? — недобро усмехнулся Стремоухов. — Отдать вам корабли, из-за неимения которых Япония до сих пор и сдерживает свои экспансионистские порывы в сторону Кореи? Это же равнозначно разрешению японским войскам сконцентрировать удар по Корее на русской земле! Воистину, господин Эномото, вы, очевидно, полагаете своих партнёров по переговорам совсем глупыми! Отдать Японии корабли — с тем, чтобы через малое время вы начали разглядывать Юг Сахалина через прицелы корабельных орудий?… Полно, господин вице-адмирал! Наше обсуждение, кажется, снова заходит в тупик — не прерваться ли нам нынче?
Однако Эномото, прежде с явным удовлетворением использовавший каждую возможность прервать тягостные переговоры, неожиданно не согласился:
— Наоборот, господин Стремоухов! Лично мне кажется, что нынче мы поняли друг друга в гораздо большей, нежели прежде, степени! Я не возражаю против короткого перерыва, но заявляю, что с радостью и удовольствием нынче же готов продолжить наши переговоры!
— Воля ваша! — развёл руками Стремоухов. — Давайте прервёмся. Двух часов, вы полагаете, будет достаточно для перерыва?
— Полагаю, будет достаточно и часа! — весело отозвался вице-адмирал. — И если вы, ваше высокопревосходительство, соблаговолите угостить меня чашкой кофе, я с удовольствием приму ваше приглашение!
Стремоухов, в который уж раз за сегодня, с подозрением уставился на японского дипломата: самый опасный противник — тот, кто на всё согласен!
— Желание гостя — в России без малого закон! — с готовностью кивнул Стремоухов. — В этаком разе не согласитесь ли, вы, ваше высокопревосходительство, принять моё приглашение на чашку чая? Разумеется, моё приглашение относится и к господину Уратаро! Согласны? Ну, тогда прошу за мной, в буфетную…
В небольшой министерской буфетной для чинов 1–4 классов было пусто, и к гостям тут же вышел метрдотель Фёдор Степаниди, высокий и тощий до изумления мужчина самого неопределённого возраста. В молодости Фёдор лет двадцать отплавал стюардом на царских яхтах, побывал во множестве стран и славился тем, что держал в памяти не только многие сотни рецептов блюд, но и целые перечни меню торжественных обедов, завтраков и ужинов, данных царствующими особами в честь своих высокопоставленных гостей.
— Здравствуй, Фёдор, — приветливо поздоровался Стремоухов. — А мы, видишь ли, к тебе с утра пораньше. Чем угощать станешь?
Степаниди бросил мгновенный оценивающий взгляд на японцев, склонился над плечом директора Азиатского департамента:
— Кабы раньше упредили меня, ваше высокопревосходительство… Врасплох прямо застали меня — да и то сказать, для обеда-то рановато-с… Не обессудьте, ваше высокопревосходительство — разве что раковый супчик с расстегаями предложить осмелюсь. Селянку стерляжью могу порекомендовать. Ежели временем располагаете, то минут через пятнадцать могу молодых пулярдов с бекасами по-французски организовать-с! Наши гости, извините, не из Японии будут?
— Оттуда, оттуда, Фёдор, — усмехнулся Стремоухов.
— Тогда, исходя из традиционных пристрастий японского народонаселения, сей момент могу предложить отварной рис с овощами «фантази» — с редькой, каперсами и спаржей-с…
— Вот видите, господин вице-адмирал, какие у нас в министерстве молодцы работают? — Стремоухов повернулся к Эномото. — Кого к нашему Фёдору ни приведи — враз определит, и про национальные кухонные особенности вспомнит! Давай, Фёдор, неси на своё усмотрение! Как насчёт адмиральской чарки, господин посол? Не побрезгуете для разогревания аппетита?
Эномото покачал головой:
— Русские вина и наливки слишком крепки, ваше высокопревосходительство! Боюсь обидеть вас отказом, но ещё более опасаюсь, что после русской чарки наш перерыв может продлиться слишком долго!
— Предпочитаете саке, господин посол? — тут же встрял метрдотель, услужливо поворачивая длинный породистый нос к японцу, а затем к Стремоухову. — Сие есть национальная японская слабая водка с дымком-с, господин директор. К столу подают в несколько подогретом виде-с. Ежели желаете, могу поискать-с.
— Давай, ищи! — рассмеялся Стремоухов.
— Сей момент! — и Степаниди исчез за портьерой.
К немалому изумлению Эномото, в буфетной действительно нашлась небольшая глиняная склянка с японской водкой. Разливать её, правда, пришлось не в керамические специальные чашечки, а в хрустальные рюмки. Попробовав саке, Эномото долго разглядывал глиняный, сплюснутый на манер фляжки кувшинчик, пытаясь по латинской надписи определить сорт напитка. Выпив вторую рюмку, вице-адмирал признался, что ничего подобного до сих пор не пробовал.
— Старинный рецепт! — не моргнул глазом, отрапортовал Степаниди.
Стремоухов, заметив неподдельный интерес высокого гостя к напитку, тут же распорядился:
— Заверни-ка нам вторую фляжечку, с собой, Фёдор! Чтобы господин вице-адмирал подольше помнил русское гостеприимство! — и, заметив мучительные сомнения на лице метрдотеля, повторил: — Давай-давай, Фёдор! И третью поищи, чтобы нам и господина Уратаро не обидеть!
— Слушаюсь…
Завершая лёгкий импровизированный ланч кофе и сигарой, Стремоухов мельком глянул на часы и из вежливости всё же поинтересовался у Эномото:
— Так что, господин вице-адмирал? Есть настроение продолжить сегодняшний раунд? Не передумали? Ну, тогда милости прошу в переговорную…
Пропуская вперёд японцев, директор Азиатского департамента краем глаза уловил из-за портьеры отчаянную жестикуляцию метрдотеля Степаниди.
— Прошу прощения, господа! Я на минуточку, распоряжение отдам. А вы идите пока прямо по коридору, у лестницы я вас непременно догоню, — Стремоухов, проводив японцев, повернулся к Фёдору. — Ну, что у тебя тут стряслось?
— Не погубите, ваше-ство! — с отчаянием зашептал Фёдор, просунувшись к самому уху директора и поминутно оглядываясь на неспешно удаляющихся японцев. — Я ведь из самых лучших побуждений! Фитиль азиятам хотел, как у нас говорится, вставить! Показать, что и русские не лыком шиты! А подлец Ермоленко под монастырь подвёл! Никак не можно им фляжки эти глиняные, будь они трижды прокляты, дать! Скандал ведь, международный скандал, не меньше!
Потеряв терпение, Стремоухов запихнул метрдотеля поглубже за портьеру и велел излагать всё в темпе allegro, но не частить. Говорить внятно! Что за скандал? Какой фитиль и кому было намерение вставить?
Слегка успокоившись, Степаниди уныло начал каяться. Решив удивить японцев наличием в буфетной МИДа их национального напитка саке, он, будучи наслышан о его рецептуре, немедленно и самолично изготовил японскую рисовую водку, разведя до соответствующих «плепорций» малороссийскую горилку-первач. Получилось, как с гордостью отрапортовал Фёдор, совсем недурственно, что и было подтверждено поварскими, проходившими вместе со Степаниди корабельную службу на императорской яхте «Штандарт».
И всё было бы хорошо, не вмешайся младший стюард Ермоленко с того самого «Штандарта», заявивший, что японскую водку положено подавать и разливать из глиняных склянок. В них же, как ему доподлинно известно, эту самую саке и подогревают. Этот же Ермоленко добыл где-то и самую фляжку, на которой оказалась выбитой некая надпись по-латыни. Не придавая ей значения, поварские залили во фляжку «пожененный вдвое» самогон, и Степаниди с торжеством подал «саке» высоким гостям.
— А тут ещё и ваше высокопревосходительство распорядились с собой энти фляжки гостям на гостинец дать, — уныло шептал Степаниди. — А мне что, жалко ещё одну бутылку «первачка обженить»? Спрашиваю у Ермоленко: где, признавайся фляжки глиняные добыть? А у аптекаря, говорит, их там много! Послали к аптекарю — а тот возьми да и поинтересуйся: для чего, мол, господам из МИДа дамская интимного свойства посуда вдруг понадобилась? Я так прямо и сел, ваше высокопревосходительство! Как дамская? Какая такая интимная? Ну, аптекарь меня и вразумил относительно надписи на фляжках, кои вовсе не фляжками оказались…
Всунув нос в самое ухо директора Азиатского департамента, Фёдор прошептал несколько слов и тут же отпрянул, покорно ожидая любой выволочки за самодеятельность.
Не выдержав, Стремоухов густо захохотал. Чтобы остановившиеся неподалёку японские гости не услыхали, хохотать пришлось, уткнувшись в весьма пыльную портьеру.
Отсмеявшись, Стремоухов сделался сразу серьёзным. Взял метрдотеля за среднюю пуговицу фрака, нешутейно тряхнул:
— Эх, Фёдор, мало тебя в детстве батюшка сёк! Старый уже, а всё никак не оставишь привычек великокняжеским фамилиям пыль в глаза пускать! А о том ты, бедовая головушка подумал, что японцы латынь вполне и знать могли?!
— Дык ведь покаялся…
— Ладно… Японцам скажу, что поварские наши, пакуя гостинец поизящнее, фляжки на каменном полу разбили. Извинюсь, объяснюсь. Но с тебя, Фёдор, штраф: где хочешь, хоть в Японию ихнюю отправляйся, а им к следующему четвергу настоящую японскую водку добудь! Понял? И не в клистире каком, а самую что ни есть натуральную! Понял?
— Сделаем, ваше-ство, господин директор! Я уж знаю, где саке это проклятое добыть! Сделаем-с, не извольте беспокоиться!
Догнав японцев, Стремоухов стал свидетелем любопытного спора, который Эномото и Уратаро, из уважения к хозяину переговоров, сразу перевели на немецкий язык. Спорили они о качестве и ингредиентах замечательного саке. Уратаро Сига утверждал, что ржаной оттенок вкуса присущ только водке с самого севера Японских островов. Эномото Такэаки, прожив на севере много лет, не соглашался с переводчиком и доказывал, что и сама водка, и форма глиняного сосуда говорят о южном происхождении саке.
Чтобы скрыть невольную змеиную улыбку, Стремоухову по дороге в переговорную залу пришлось несколько раз останавливаться и подолгу откашливаться в обширный платок…
Заняв прежние места в зале для переговоров, Стремоухов вновь разложил вырезки и бумаги из бювара и, стерев с лица последние остатки благодушия после ленча, продолжил:
— Итак, господа, мы говорили о невозможности для российской стороны компенсировать понесённые Японией затраты путём передачи хоть и старых, но вполне боеспособных кораблей. Несколько ранее нами также была отвергнута предлагаемая возможность отказа от нейтралитета России в опасном развитии конфликта между Японией и Кореей. Считая озвученные предложения и ответы на них исчерпывающими, предлагаю вам, ваше высокопревосходительство, совместно поискать иные пути решения весьма затянувшегося вопроса о размежевании острова Сахалин. Исходя при этом из вполне логического требования России иметь границу с сопредельной Японией по Лаперузову проливу!
Эномото кивнул в знак согласия, однако попытался удержать переговоры на прежних половинчатых позициях:
— Насколько мне известно, господин Стремоухов, в русских правительственных кругах существует и совершенно противоположная точка зрения на остров Сахалин. Я имею в виду влиятельных сторонников передачи Сахалина Японии — для окончательного прекращения конфликтов на острове и упрочения русско-японских отношений.
— Полноте, господин вице-адмирал! — покачал головой Стремоухов. — Полноте! Вы, несомненно, имеете в виду измышления французского поверенного в делах господина Жореса? Отчего бы вам в таком случае не подкрепить сии измышления вполне бредовыми заявлениями американского посланника в Японии Бингэма? Этот господин, не вылезающий из японского министерства внешних связей, уверяет ваше правительство, что Россия только и ждёт уступок по Сахалину с тем, чтобы немедленно покуситься на Хоккайдо[45].
— Значит, мы исключаем этот вариант решения территориальной проблемы? — уточнил Эномото.
— Самым решительным образом! — подтвердил собеседник, коротко глянул на помощника и протоколиста. — Со своей стороны, я уполномочен предложить вашему высокопревосходительству рассмотреть вопрос о передаче России острова Сахалин с выплатой компенсации за здания и сооружения, возведённые на юге острова японскими колонистами. В качестве компенсации моё правительство готово также рассмотреть вопрос об уступке Японии четырёх южных островов Курильской гряды.
Озвучивая последнее предложение, Стремоухов не сводил внимательного взгляда с японского посланника. По поступившим в Азиатский департамент МИДа данным, именно на такой вариант решения территориального спора и был нацелен своим правительством накануне отъезда в Россию вице-адмирал Эномото. Правда, речь в данном случае могла идти обо всех Курильских островах.
Однако маловыразительное лицо японца даже не дрогнуло — лишь брови вице-адмирала чуть приподнялись, как будто констатируя вежливое удивление при неожиданном повороте разговора.
— Значит, российская сторона, настаивая на полной передаче ей Сахалина, готова в качестве компенсации предложить Японии четыре острова Курильской гряды и денежный эквивалент понесённых моей страной затрат на здания и сооружения? — уточнил Эномото.
— Совершенно верно, ваше высокопревосходительство.
— Я непременно доведу ваше предложение до моего правительства, — заявил вице-адмирал. — Однако потребуется какое-то время для того, чтобы был составлен точный реестр зданий и сооружений на Сахалине.
— А разве ваше высокопревосходительство не располагает таким реестром? — вежливо удивился Стремоухов. — Насколько мне известно, недавно созданное в Японии Колониальное бюро, ведающее освоением северных островов, только тем и занималось в последние годы, что ревизовало южное побережье Сахалина. Вот, кстати, и недавнее донесение из Японии нашего поверенного в делах господина Струве — он пишет, что предлагал вашему правительству свои услуги в комиссионной оценке понесённых вашей страной затрат. Однако его предложение было отклонено…
— Я доведу до моего правительства и это ваше пожелание, господин Стремоухов, — кивнул Эномото. — Лично мне оно представляет логичным и разумным. И коль скоро у нас зашла речь о логике, то позволю себе высказать своё личное мнение о предложении обмена Сахалина на острова Курильской гряды. Мне кажется, господин директор Азиатского департамента, что моё правительство с большей заинтересованностью восприняло бы предложение, включающее в себя все острова гряды, а не только четыре самых южных. Видите ли, господин Стремоухов, Японии нужно жизненное пространство. А острова, о которых идёт речь, настолько малы, что вряд ли «уравновесят» в плане обмена южную часть Сахалина.
— Не сомневаюсь в этом, — улыбнулся Стремоухов. — Однако согласитесь, господин вице-адмирал, что, передав Японии все Курилы, Россия потеряет возможность выхода для своих кораблей в Тихий океан. Чисто с военной точки зрения такой вариант кажется мне неподходящим. Кстати, а что думает по этому вопросу ваш помощник, господин Асикага Томео? Насколько мне известно, он представляет в вашей дипломатической миссии военное министерство — однако на переговорах мы его, к сожалению, почему-то не видим…
— У господина Асикага свои задачи и свой круг вопросов, — сухо ответил Эномото. — К тому же в настоящее время он выехал в служебную поездку в Голландию, ваше высокопревосходительство!
— В Голландию? — вежливо удивился Стремоухов. — Простите за банальность, господин вице-адмирал: наш мир, несмотря на его необъятность, всё же тесен! Не далее как вчера я получил отчёт нашего поверенного во Франции, господина Веклера. Представьте себе, он видел на днях в Париже господина Асикага, с коим познакомился на одном из протокольных мероприятий здесь, в Петербурге! Причём, насколько я понимаю, встреча была совершенно случайной, в почтово-телеграфной конторе.
— Вот как? Случайной? — понимающе улыбнулся Эномото. — Что ж, тогда мне, действительно, остаётся только согласиться с вами, ваше высокопревосходительство: мир действительно тесен! Ну а что касается господина Асикага, то у него, как я уже имел удовольствие сообщить вам, свой круг вопросов. И полная служебная автономия.
Встретившись взглядом со Стремоуховым, Эномото вдруг совершил неожиданное: показав глазами на сидящего рядом переводчика Уратаро Сига, одновременно приложил палец к губам и чуть заметно покачал головой.
— Понятно, — протянул Стремоухов и начал собирать разложенные на столе перед ним вырезки и документы. — Если я правильно понимаю вас, господин вице-адмирал, то японская сторона, получив от нас новое предложение относительно территориального размежевание, желает получить тайм-аут. То бишь время, необходимое для доведения нашего предложения до правительства Японии. Плюс время, потребное для составления полного реестра зданий и сооружений на юге Сахалина — чтобы сделать разговор о возможной компенсации более предметным.
— Так и занесём в наш протокол! — поклонился Эномото. — Полагаю, что трёх месяцев для нашей вынужденной дипломатической паузы будет вполне достаточно.
Все поднялись из-за стола, обменялись церемонными рукопожатиями и поклонами. Провожая японскую делегацию, Стремоухов затеял с вице-адмиралом Эномото непринуждённую беседу о достопримечательностях Северной столицы России. Поняв, что главы делегаций желают побеседовать с глазу на глаз, сопровождающие их помощники откланялись и удалились.
Решив, что приглашение японца в свой кабинет придаст дальнейшему разговору ненужную официальность, Стремоухов увлёк собеседника к ближайшему эркеру[46], наполовину задрапированному тяжёлыми портьерами.
— Итак, господин Эномото? Вы что-то имели мне сообщить с глазу на глаз?
— Ну, скорее, я не желал продолжать разговор о господине Асикага Томео при свидетелях, — поклонился японец. — Вы позволите мне несколько уточняющих вопросов, господин директор?
— Разумеется! И с удовольствием отвечу на них, если смогу, — тонко улыбнулся Стремоухов.
— Господин Асикага в нашем посольстве действительно имеет полную служебную автономию. И не отчитывается мне в своих действиях — лишь ставит меня о некоторых из них в известность, — начал Эномото, тщательно подбирая слова. — И, упомянув о его служебной командировке в Голландию, я вовсе не желал ввести вас в заблуждение, господин Стремоухов. Я лишь повторил то, что господин Асикага счёл возможным мне сообщить… Его действительно видели в Париже?
— Совершенно верно, господин вице-адмирал! Ошибка исключена: сотрудник министерства Веклер хорошо знает в лицо всех аккредитованных в Петербурге иностранных дипломатов.
— А насколько случайной была упомянутая вами встреча в Париже, ваше высокопревосходительство? Вы, разумеется, можете не отвечать на сей не совсем тактичный вопрос, но мне очень желательно знать правду. Вы не пожалеете о своей искренности, уверяю вас, господин Стремоухов!
— Гм… Вы вынуждаете меня признаться в том, что за вашим коллегой осуществляется негласный присмотр? Если бы дело обстояло так, моя откровенность могла бы мне дорого стоить, господин Эномото! Особенно если учесть большую личную приязнь к вашей персоне со стороны государя императора, — тон у директора департамента был вполне шутливым, улыбка широкой, но глаза оставались серыми и колючими. — Поэтому давайте будем рассматривать ту парижскую встречу как случайную!
— Хорошо, пусть так. В любом случае я намерен сейчас кое-что сообщить вам, господин Стремоухов. Вы можете использовать то, что я скажу вам, — но без ссылки на источник получения информации. Во всяком случае, я везде и всегда в дальнейшем буду отрицать сам факт нашего нынешнего разговора.
— Понимаю вас, и заверяю, что буду максимально корректен. Итак, господин Эномото?
— Начну с вполне очевидного: вас явно не устраивает на начавшихся переговорах их темп. Я прав?
— Не могу с вами не согласиться: учитывая давность решаемого по Сахалину вопроса, российская сторона желала бы иметь больший прогресс в переговорах.
— Поверьте, господин Стремоухов: я такой же патриот моей страны, как и вы — своей. И так же, как и вы, имею перед своим правительством весьма жёсткие обязательства. Иначе говоря, мы с вами играем по правилам, которые придумали, к сожалению, не мы. И не мы в силах изменить эти правила. Скажу вам больше: я имею полномочия сделать российской стороне вполне конкретные предложения по Сахалину. Предложения, которые, смею надеяться, вполне могут устроить Россию. Но я связан временными рамками, господин Стремоухов: эти предложения я имею право вынести на обсуждение лишь по прошествии определённого времени. Или по прямому указанию своего правительства.
— Понимаю вас, господин вице-адмирал. И скажу больше: я с пониманием отношусь к вашей роли в нынешних переговорах.
— Благодарю вас. Что же касается господина Асикага, то его роль в нынешних переговорах не ясна и мне самому. Пожалуйста, поверьте! Многого, как я уже вам сказал, я и сам не знаю. А о том, что знаю наверняка — к сожалению, не могу говорить. Скажу одно как его непосредственный прямой начальник, господин Асикага — враг России. И противник переговоров, которые мы сейчас с вами ведём.
Помолчав, Эномото посмотрел Стремоухову прямо в глаза:
— Вы можете сказать мне, чем занимается в Париже господин Асикага?
— Не всё, господин Эномото: прошу вас также понять меня правильно. Достаточно ли будет того, что господин Веклер, наш сотрудник, зафиксировал факт отправки Асикага телеграфной депеши необычного содержания? причём не в Токио, как можно было бы предположить, а в город Кагосиму.
— А вашему сотруднику не удалось — совершенно случайно, разумеется, — ознакомиться с текстом этой депеши? Либо узнать имя адресата?
— Хм… Наш сотрудник, насколько я знаю, стоял у окошка, где производится приём международных телеграмм. А у господина Асикага проблемы с французским языком. Поэтому телеграфный служащий, желая записать текст депеши как можно точнее, вслух повторил её содержание. Депеша была адресована некоему торговцу тканями в Кагосиме. И речь шла о закупках каких-то тканей — вот всё, что я знаю, господин вице-адмирал! Веклеру показалось необычным то, что лейтенант японской армии и сотрудник дипломатической миссии занимается в Париже предметом, столь далёким от выполнения своих непосредственных обязанностей.
— Кагосима, если вы не знали этого до сих пор, господин Стремоухов, является штаб-квартирой военного министра Японии. Асикага — его человек. Поэтому я не сомневаюсь в том, что на самом деле телеграфное сообщение было отправлено именно ему. Не сомневаюсь также и в том, что депеша содержала зашифрованное сообщение. Причём настолько важное, что господин Асикага не рискнул отправлять его из Петербурга…
— Тут возможен и другой вариант, — живо перебил Стремоухов. — Вполне возможно, что именно в Париже господин Асикага узнал нечто для него важное. Либо только во Франции мог выполнить тайное поручение своего шефа и доложить ему об этом.
— Да, такое тоже возможно… Благодарю за откровенность, господин Стремоухов! Обещаю, что сохраню наш разговор в тайне. Знаете, господин директор, ведь меня тоже пока нельзя назвать другом России. Я — подданный Японии, её полномочный представитель в вашей стране. И вынужден, как уже говорил вам, поступать так, как велит мне долг. Но поверьте, господин директор департамента: я очень хотел бы быть другом России. И стараюсь вести с вами честную, насколько это возможно, игру!
— Благодарю за откровенный разговор, господин вице-адмирал! Позвольте проводить вас?
— Да, конечно! Надеюсь, что мы с вами всё-таки выполним возложенную на нас миссию и доведём наши переговоры до взаимоприемлемого итога. Честь имею, господин директор!
Глава девятая
Долгожданная депеша, совершив непостижимое для сознания Сайго Такамори путешествие через полсвета, была получена им шестого дня девятого лунного месяца седьмого года Мэйдзи[47].
Было утро. Сайго, как обычно, посетил открытую им в Кагосиме школу самураев, принял доклад управляющего поместьем, позавтракал. За раздвижной стенкой, в смежном помещении, уже собрались младшие военачальники, ждущие его распоряжений и указаний на сегодняшний день. Сайго не торопился их принять — он вообще никогда не торопился, считая, что поспешность приемлема лишь в скоротечных боевых схватках. Откинувшись на пятки и уперев ладони в колени, военный министр замер в неторопливых размышлениях, прикрыв глаза тяжёлыми веками.
Услыхав шелест кимоно, он в удивлении приоткрыл глаза: вышколенные слуги не смели мешать ему в минуты размышлений. Лишь событие чрезвычайной важности могло заставить их нарушить священное уединение господина.
Согнувшись в глубоком поклоне, слуга легко опустился на колени, откинулся на пятки и, продолжая оставаться в позе почтительного поклона, протянул ему обеими руками широкую плоскую шкатулку палисандрового дерева.
— Простите, высокородный! Но вы сами велели без промедления доставлять вам известия, приходящие на телеграфную станцию Кагосимы на указанное в депеше имя…
Увидев, что военный министр чуть шевельнул толстыми пальцами, слуга поспешно откинул крышку шкатулки и приблизил её к коленям Сайго. Однако тот лишь бросил на шкатулку короткий взгляд и тут же перекатил желтоватые, в красных прожилках глаза на затылок слуги, так и пребывающего в глубоком поклоне.
Сверху в шкатулке лежал телеграфный бланк депеши европейского образца на немецком языке, из-под него был виден лист желтоватой рисовой бумаги с двумя столбиками иероглифов — перевод.
Сайго Такамори терпеть не мог ничего европейского, хотя, дав в своё время согласие занять должность военного министра в новом правительстве Мэйдзи, должен был относиться к провозглашённой императором политике открытости более терпимо. Но кто посмеет указать ему?
— Оставь шкатулку, — наконец глухим басом распорядился министр. — И позови ко мне инженера из телеграфной конторы.
У него не было и тени сомнения в том, что депешу из Европы ему принёс не рядовой служащий телеграфной конторы, а её начальник. И что этот начальник непременно ждёт — ведь могущественному министру могли понадобиться какие-то пояснения. А их не подобало принимать от мелких служащих.
Появившемуся человеку в синей форме европейского образца Сайго кивнул на шкатулку:
— Прочтите…
Человек в форменной одежде еле сдерживал дрожь: он знал об отвращении военного министра ко всему иноземному. Но даже всесильный министр ничего не мог поделать, если Токио обнародовало категорическое распоряжение об обязательном ношении на службе мундиров европейского образца! Взяв в руки лист бумаги с переводом, инженер прочёл:
— «Потребное количество сукна жёлтого цвета для его превосходительства закуплено. Товар будет отправлен из Гамбурга в ближайшее время. С почтением ожидаю указаний на этот счёт». Подпись: «Аритомо».
Сайго, кивнув, перевёл глаза на замершего в отдалении слугу:
— Принеси мне шкатулку под моей печатью из малого сундука.
В той шкатулке лежала бумага с ключом к шифру — всего два столбика иероглифов. Ключевых слов было мало, и Сайго не составило труда запомнить их все. Но дело было важным, и министр всё же решил подстраховаться. Он положил рядом два листа бумаги — с переводом депеши и с ключом — и склонился над ними.
Да, так и есть. Дурацкий и вполне безобидный текст депеши теперь превращён в важное донесение, которое призвано вскоре изменить судьбу Японии. Его следовало читать так: необходимые документы посланцем добыты, и он готов пустить их в дело. Если бы в депеше речь шла о сукне коричневого цвета, это означало бы, что нужной встречи в Париже, не произошло. Упоминание о шёлковой ткани рассказало бы о временных затруднениях, а белая[48] ткань сказала бы о провале миссии посланца. Имел значение и упомянутый в депеше порт отправки товара, и подпись, поставленная внизу.
Пока же всё шло хорошо. Однако Сайго не спешил разглаживать две глубокие вертикальные морщинки меж густых бровей. Он отложил бумаги в сторону и кивнул инженеру:
— Расскажите мне, каким путём пришло это крылатое сообщение в Японию.
Телеграфная связь, начав своё победное шествие по миру ещё в тридцатые годы девятнадцатого столетия, через четыре десятилетия усилиями Великой северной компании из Дании добралась и до Японии. Датчане проложили подводный кабель из Копенгагена до Либавы, а оттуда уже наземные провода пошли на запад и на восток. Одна линия через Варшаву и Берлин дотянулась до Парижа, а там, через море, до Англии и Америки. Другая соединила русскую столицу Петербург и далее Москву, Омск, Иркутск и Владивосток. Здесь, у края евроазиатского материка, датчане снова использовали кабель в гуттаперчевой оболочке, и в 1872 году дотянули его по морскому дну до Нагасаки. Через год по всей Японии уже были поставлены столбы с рядами чёрных проводов.
Сайго не мог не оценить важности нового вида связи, особенно в военном деле: с появлением телеграфного сообщения между Токио и его резиденцией в Кагосиме он мог получать депеши из императорского дворца не через два дня, которые потребовались бы посыльному на быстрой лошади, а буквально через несколько минут после его отправки.
Однако он всё ещё относился к телеграфу с презрительным неодобрением. Одно дело — телеграф тут, в Японии. И совсем другое — тысячи ри[49] проводов по чужим землям, десятки рук, через которые проходят важные известия. Именно по этой причине и был придуман шифр, с помощью которого посланец в Европе мог передать на родину нужное сообщение.
Выслушав сбивчивое пояснение телеграфного инженера, Сайго Такамори поинтересовался — известно ли, когда было отправлено это «крылатое письмо»?
Инженер, взяв в руки бланк депеши, проглядел служебные отметки и тут же ответил: сообщение было отправлено из Парижа вчера, в два часа по европейскому времени.
— Я задам вам ещё один вопрос. Скажите, есть ли у моих врагов в Токио возможность узнать, что это «крылатое письмо» на самом деле адресовано мне? Могут ли они разгадать его тайный смысл?
— Это невозможно, высокородный господин! Телеграфная депеша адресована местному купцу, имеющему жительство в Кагосиме. Он на самом деле торгует тканями, в том числе и из Европы. Разумеется, он удивился, получив эту депешу — ибо никогда и никого не посылал за тканями так далеко от Японии. А для меня, доверенного лица господина Цунаёси, главным ориентиром была лишь подпись под этой депешей. Увидев её, я понял истинное назначение депеши и тут же принёс её копию вам, ваше высокопревосходительство…
Министр медленно кивнул и отвернулся, подчёркнуто пристально глядя через раздвинутые панели на сад с южной стороны поместья. Аудиенция была закончена — инженер, пятясь, выскользнул вместе со слугой из помещения.
Сайго легко поднялся на ноги и вышел в сад, всей грудью вдохнул горячий влажный ветер, дувший со стороны моря. Почувствовав, что ладонь его левой руки овевает жаркое дыхание, Сайго опустил голову и впервые за нынешнее утро улыбнулся: его верный пёс Хито породы матаги кен[50], как всегда неслышно, появился откуда-то и сел у левой ноги своего хозяина, ожидая внимания и готовый исполнить любой приказ своего повелителя. Сайго, чуть склонившись, ласково провёл рукой по морде пса, потрепал его короткие упругие уши…
Да, вот уже восемь месяцев миновало с тех пор, как он дал своё неохотное согласие присоединиться к заговору, сразу став при этом его главой и вдохновителем. И сейчас, сегодня ему предстояло принять нелёгкое решение, могущее изменить судьбу Японии.
Сайго Такамори искренне полагал, что возглавляемый им заговор против императора Мэйдзи пойдёт в конечном итоге на благо Японии. Он любил свою страну — любил ревниво, видя во всех прочих министрах её нового правительства лишь суетливое желание возвыситься, сохранять высокое положение и немалые доходы.
Министр хорошо помнил то секретное совещание, состоявшееся семь лет назад, в ноябре 1867 года в Киото. Вместе с Окубо и Комацу он представлял на этом совещании княжество Сацума, от Тесю и Аки были Хиродзава, Синагава и Цудзи. Тогда совещание согласилось с Сайго: сёгунат можно свергнуть лишь вооружённым путём, время долгих закулисных интриг и переговоров прошло.
В начале января следующего года от имени императора был издан указ, согласно которому воины родственных правителю княжеств Кувана и Айдзу были отстранены от охраны императорского дворца. У главных ворот императорской резиденции встали самураи Сайго. Выполняя приказ своего военачальника, караульные Сайго в день обнародования указа пропустили во дворец трёх членов императорской фамилии и тех, кто вошёл в заранее сформированное правительство.
В малом зале дворца Когосё состоялось совещание, на котором Ивакура[51] зачитал основные императорские рескрипты — о реставрации власти императора, об упразднении в стране сёгуната и об утверждении нового правительства.
Сёгун Токугава Ёсинобу, полагая сопротивление бесполезным, добровольно подал в отставку, продолжая оставаться при этом собственником четверти всех земель в Японии. Сайго возглавил войска антисёгунской коалиции и разгромил противника на юге страны.
Однако Токугава мудро и предусмотрительно держался в стороне и по-прежнему какое-то время оставался одной из ключевых фигур при юном императоре, взяв на себя решение неотложных политических дел. Такое положение не устраивало победителей! И его, Сайго Такамори, тоже не устраивало! Тем более что на севере неожиданно открылся новый опасный очаг сопротивления! Эномото Такэаки!
Ещё только планируя увод своей эскадры на север, Эномото, разумеется, играл на стороне сёгуна. Там, на Эдзо, по его убеждению, можно было сконцентрировать большие силы и со временем создать новый оплот для клана Токугавы. Так, во всяком случае, планировал Эномото. Тогда он просто не знал, что последний сёгун дома Токугава, Ёсинобу, играл по одному ему ведомым правилам. Хитрил, лавировал, принимал половинчатые решения, стараясь удовлетворить сторонников и не раздразнить противников из других кланов. Нынче, когда самурайские кланы разделились в смертельном противостоянии, Токугава не желал для себя войны до победного конца. Он снова выжидал.
Ведя корабли на Север и попав в жестокий шторм, капитан первого ранга и вице-министр военно-морского флота Эномото потерял по дороге два судна. Потратив несколько месяцев на ремонт остальных, потрёпанных жестоким морем, Эномото взял на борт кораблей почти трёхтысячный контингент из разгромленной армии Бакуфу и пошёл на Эдзо, обороняемый верным императору губернатором. Бомбардировка столицы острова Хакодате с моря огнём артиллерии «Кайё-мару» и высаженный на берег десант быстро подавили сопротивление защитников форта Горёкаку. Плацдарм для сёгуна был готов!
Однако посланный к Токугаве гонец привёз вежливый, но категорический отказ Токугавы возглавить на Эдзо оппозиционное императору правительство. Последний сёгун Японии знал политический расклад в стране и уже просчитал, что дни его былого величия и могущества принадлежат прошлому. Что былые запреты на всё иностранное, ориентиры на полную самоизоляцию Японии более не отвечают реалиям сегодняшнего дня. И Токугава лишь вежливо поблагодарил верного Эномото за предложение и уклонился от поста верховного военачальника острова, предпочтя сомнительной и авантюрной перспективе возврата к власти переговоры с силами императорской коалиции.
Не поспешили под знамёна Эномото и многие приверженцы клана Токугавы. Более того: начали потихоньку разбегаться с острова и штурмовавшие Хакодате воины прежнего правительства. И в конце концов Эномото остался на самом северном острове Японии лишь с французскими военными инструкторами, да с небольшим, менее тысячи, контингентом верных ему самураев.
Сайго Такамори внимательно следил за ситуацией на Эдзо. И втайне жалел, что такой верный вассал, как Эномото, служит не ему. Уж он бы не отказался от предложенного ему поста «повелителя Эдзо»! Но увы: этот пост ему никто не предложил. Да и политический расклад в стране очень скоро стал таков, что согласиться стать во главе «северного мятежа» было бы просто безумием! Сайго оставалось только наблюдать за событиями на Эдзо.
Тем временем глава миссии французских военных советников, капитан Жюль Брюне, посоветовал Эномото. установить на Хоккайдо законный порядок, провозгласив здесь «республику самураев» по американскому образцу.
— Ты сделал неверный ход, Буё! Тебя просто подставили, мой друг! Сделали тебя пешкой в чужой игре. Другого пути у тебя просто нет, — откровенно говорил француз. — Раз твой сёгун отказывается занять место, добытое тобой с боем и приготовленное для него, займи его сам! А там поглядим — ведь далеко не все силы в Японии приветствуют передачу власти сёгуна императору. Чем чёрт не шутит — глядишь, и соберёшь под свои знамёна мощную армию…
Эномото и сам понимал, что иного выхода у него просто нет. И решился на это авантюрное предложение французского «солдата удачи». Он оповестил страну о намерениях создать на острове «дворянскую республику» и призвал к себе всех недовольных новым правительством.
Гонцы с Эдзо разъезжались по Японии почти каждый день. Некоторые сразу были схвачены правительственными агентами. Были и такие, кто вызывался стать «послом северного мятежа» только ради того, чтобы потихоньку, без шума исчезнуть с острова. Эти люди мечтали добраться до своих жалких домишек и наделов и затеряться в глуши.
Честные посланцы Эномото искренне пытались склонить колеблющихся на сторону «старой вольницы». Но время шло, а на Эдзо стекались лишь горстки недовольных.
Тогда Эномото, по совету Жюля Брюне, всё же провёл на острове прямые выборы самопровозглашённой республики. И разумеется, стал её первым президентом. Республику поспешили признать послы Франции и Голландии. Под их нажимом готовили соответствующие признания и некоторые другие посланцы европейских стран, но к весне следующего, 1869 года терпение у императора Японии и верных ему сил кончилось. На Эдзо была направлена мощная военная экспедиция, вдесятеро превосходящая силы республиканцев. И первая самурайская республика в Азии пала…
Войска президента Эномото Такэаки, обороняющие остров Эдзо, проиграли решающую битву при форте Горёкаку. Президент был вынужден капитулировать и, как мятежник, был предан императорскому суду, а с мятежниками в Японии никогда особо не церемонились…
Сайго Такамори не любил быть в стороне от важных событий. По политическим соображениям он не счёл для себя возможным лично проследить за финалом «сёгунской республики». Он послал на Эдзо верного ему человека, чтобы тот был его глазами и ушами. Зачем? Да, наверное, затем, чтобы не дать ненавидимому им мальчишке-императору возможность без последствий совершить какую-либо серьёзную ошибку.
Соглядатай Сайго педантично доносил своему господину о страшном для проигравших «республиканском финале». Каждый день стражники вытаскивали из клеток по несколько осуждённых и на глазах других пленных обезглавливали. Головы казнённых насаживали на жерди и оставляли тут же, в назидание оставшимся пока в живых мятежникам. Среди ожидающих смерти был и Эномото Такэаки.
Приговор для свергнутого президента был весьма прогнозируемым. Его не казнили пока лишь потому, чтобы главный бунтовщик ежедневно видел смерть своих соратников. Пленных бунтовщиков оставалось всё меньше, и всё ближе был, как нетрудно догадаться, и день казни Эномото.
А вот проклятым «красноголовым варварам», французским военным советникам, оставшимся в «самурайской республике» практически до конца, повезло. После разгрома мятежников их, разумеется, тоже похватали и тоже посадили в бамбуковые клетки. Однако главы военных миссий Франции и Голландии в Иокогаме подняли шум. Новое правительство Мэйдзи, стараясь быть в русле европейской толерантности, со всей присущей ему вежливостью напомнило французам, что пятеро офицеров военной миссии накануне мятежа подали рапорта об увольнении из армии. И следовательно, никак не могут рассчитывать на защиту Франции. Что в качестве вольных «солдат удачи» они совершили на территории Японии тяжкое государственное преступление.
Но у европейских «варваров» всегда была своя логика! Сайго хорошо помнил, как французский посланник, заручившись поддержкой других европейских коллег, нахально заявил: увольнение из армии не означает для французов лишения гражданства великой Франции. И Франция не даст в обиду своих сыновей! Правительству Японии был дан прямой намёк на возможность, в случае его упорства, новой военной интервенции.
Призраки «чёрных кораблей» адмирала Перри[52] были слишком свежи в памяти японцев, и иностранцев начали понемногу выпускать из тюрем, настоятельно рекомендуя им не задерживаться в Японии. Последний французский наёмник был выпущен через два месяца после падения форта Горёкаку.
Жюлю Брюне удалось избежать пленения: накануне штурма Эдзо он сумел сбежать с острова на рыбачьей лодке и укрыться в здании Французской военной миссии в Иокогаме. На его счёт в правительстве Мэйдзи никогда не обольщались: подстрекательская роль Брюне в создании «сёгунской республики» на Хоккайдо была слишком очевидной. Да и после президентских выборов на острове Брюне не отошёл в сторону и фактически стал главным советником мятежного правительства Эномото — причём советником с большими возможностями и полномочиями. Вот уж кого новое правительство в 1869 году после подавления мятежа постаралось бы нипочём не выпустить! Вот уж чья голова должна была покатиться в первую очередь! Словно чувствуя угрозу, Брюне тогда поспешил уехать…
А потом Сайго получил от своего соглядатая совсем неожиданное известие. Он сообщил, что главнокомандующий императорской военной экспедицией генерал Курода Киётаки, неожиданно для многих и самого Эномото, заступился за него. И испросил у императора снисходительный приговор для «мятежного президента». Военачальникам-победителям, по стародавнему японскому обычаю, император не мог отказать ни в чём, и Эномото вместо карающего меча получил пожизненный срок в тюрьме.
Для него потянулись дни заключения в тесной клетке из высушенных толстых бамбуковых стволов, где нельзя было даже встать в полный рост. В клетке не было ничего — ни циновки, ни тряпки, чтобы прикрыть голову от палящего солнца в летнюю жару и укрыться от зимней стужи. Дважды в день стражники длинным железным крючком вытаскивали из клетки Эномото его бэнто[53], клали туда горсть риса с кусочком редьки и тем же крючком запихивали коробку обратно.
От вынужденного безделья и постоянных насмешек стражников Эномото чувствовал, что начинает потихоньку сходить с ума. Интересно, сколько раз он пожалел, что не покончил с собой, с усмешкой спрашивал приближённых министр Сайго…
Миновал год, и Эномото перевели в главную Токийскую тюрьму. Там была та же одиночка — только в каменном здании, с толстыми стенами и железными решётками.
Прошло ещё два года, Сайго Такамори начал уже забывать о мятеже на Эдзо. И тут узнал, что генерал Курода Киётаки вторично обратился к императору Мэйдзи — теперь уже за полным прощением для Эномото.
Эта просьба была воспринята при императорском дворе и в новом правительстве с большим неудовольствием и могла бы стоить Куроде благосклонности и монарха, и правительства. Однако расчётливый и хитрый генерал не зря выжидал время.
Отказавшись от трёхсотлетнего «бамбукового занавеса», страна к тому времени испытывала сильнейший кадровый дефицит образованных людей, способных применить на благо Японии достижения мировой цивилизации. Эномото, изучив за шесть лет пребывания в Голландии целый ряд наук и знающий три европейских языка, был одним из самых образованных японцев того времени. Таким образом, время для ходатайства генерала было выбрано очень точно. Обстоятельства благоволили к бывшему мятежнику и его покровителю: голландцы, обнаружив к тому времени на Хоккайдо залежи каменного угля, настоятельно требовали от Японии отдать месторождения «чёрного золота» им в концессию. Их мотивация была проста: у Японии нет ни собственных знатоков рудного дела, ни опыта разработки угольных карьеров. Правители Японии, не впервой сталкиваясь с умением чужеземных «варваров» настоять на своём, догадывались, что вскоре «аргументами» в споре за недра земли вполне могут стать корабельные пушки.
Генерал Курода сделал ставку именно на то, что Эномото Такэаки был единственным японцем, знавшим рудное дело. И у императора не было выбора: чтобы не отдавать добычу угля в руки чужеземцев, он помиловал Эномото. Ему было предписано заняться освоением богатств Эдзо, к тому времени уже переименованного в Хоккайдо. Это, кстати, позволяло правительству держать опального мятежника на малоосвоенной в то время окраине Японии. Получив должность помощника управляющего ведомством по развитию Хоккайдо, Эномото оставался там до весны 1874 года, когда в его жизни случился новый неожиданный поворот в дипломатическую часть…
Что ж, подумал Сайго Такамори, проиграв битву при Горёкаку, Эномото забыл про заветы предков и не совершил достойное воина-самурая харакири. Тем хуже для него. Вкусив от «прелестей» тюрьмы микадо и снова возвысившись, он на своей ладье полным ходом летит к страшному водовороту, где спасения уже не будет. Асикага Томео сумел подготовить полноценный удар, который и будет нанесён по его возвращению из Парижа: Эномото ждёт на сей раз русская тюрьма! А падение посла, в свою очередь, нанесёт удар по этому мальчишке-императору. «Хризантемный» трон пошатнётся — ну а он, Сайго Такамори, сумеет качнуть его ещё сильнее! Он заставит своих врагов сполна заплатить за все свои унижения… За всё — с того самого дня, как новое правительство императора начало выстраивать новые вертикали власти, мало прислушиваясь к его мнению и его советам.
Всё новое — это хорошо забытое старое. Исполнительную вертикаль власти в 1868 году создали в соответствии со структурой японского правительства VIII века. И уже через год с небольшим новое правительство было окончательно сформировано.
Оно делилось на три палаты — Главную, Левую и Правую. Главная была кабинетом министров, куда входили, кроме главного государственного министра, Левый и Правый министры с советниками. Левая палата стала законодательным и совещательным органом, в состав Правой палаты вошли восемь министерств.
Сайго Такамори, разумеется, вошёл в состав правительства Мэйдзи, хотя во многом не был согласен с провозглашённой императором политикой. Сайго терпеть не мог переговоров всяческого толка и уровней и полагал, что всего нужного для процветания страны можно достичь с помощью силы и несгибаемого духа самураев. Он был против модернизации Японии, свободной торговли с западными странами, выступал за скорейшую аннексию Кореи.
Во время длительной поездки правительственной делегации Японии по Европе и Америке Сайго, оставшись у штурвала страны, в течение 1871-73 годов провёл в Японии ряд реформ, идущих вразрез с политикой правительства. Действуя по принципу «победителей не судят», главный военачальник Японии действовал решительно и без оглядки. Однако после возвращения делегации был подвергнут резкой критике и понял, что остался в одиночестве.
Обозлённый этим, Сайго вышел из нового правительства и отбыл на свою родину, в Кагосиму. Однако его авторитет в армии был столь велик, что правительство просто побоялось сместить его с поста главы военного ведомства. Министры решили, что время само расставит всё по своим местам, что Сайго поймёт свою ошибку и вернётся в Токио. Курьёзно — но точно так же думал и оставшийся в одиночестве Сайго Такамори. Свою ненависть, до поры тщательно скрываемую, он обратил на юного императора. Именно в нём он видел корень зла и источник пагубной для Японии мирной «политики просвещения». Именно против него был запланирован удар в Европе, в России.
Всего месяц назад из столицы северных варваров, Санкт-Петербурга, пришло с нарочным первое официальное послание Эномото Такэаки с отчётом о начале переговоров по Северному Эдзо. Чтобы доставить этот отчёт, специальный курьер преодолел полмира, затратил на путь почти два месяца. Конечно, короткое сообщение было передано и по телеграфным проводам, но о закулисных подробностях дипломатии рассказывать по телеграфу было бы безумием. Тем более что почти весь телеграфный провод из Петербурга в Нагасаки был проложен по территории России. О сколько-нибудь подробном отчёте по телеграфу не могло быть и речи — даже если бы посол в России воспользовался южной «веткой» телеграфных коммуникаций, проложенной английской Великой восточной компанией из Европы через Мальту, Аден и Бомбей в Гонконг.
Теперь у Эномото остаётся только два курьера для отправки экстренных сообщений, подумал Сайго. Он покачал головой: если всё пойдёт так, как должно пойти, у Эномото не будет случая воспользоваться их услугами…
Министр не спеша двинулся по дорожкам сада, уже тронутым первыми осенними заморозками. Хито неслышно следовал за хозяином, лишь едва различимый шорох дроблённого ракушечника под лапами выдавал его присутствие. Настоящий хитокири[54], в который раз с удовольствием отметил министр. Правда, до сих пор пёс вступал в схватки только с чёрными медведями, но Сайго не сомневался: Хито справится с любым двуногим противником.
Кстати, о двуногих… будь он, Сайго Такамори, на месте генерала Курода в битве при форте Горёкаку, он бы поступил с мятежным Эномото иначе. Да, он просто отпустил бы его. И Эномото, отказавшись от почётного самоубийства, стал бы ронином[55]. Да ещё каким!
Сайго знал: Япония нынче буквально наводнена ронинами! Ими стали и богатые вассалы, добровольно оставившие свои посты, и рядовые самураи, уволенные своими хозяевами за мелкие проступки — чаще всего хозяевами и выдуманным. Ряды ронинов пополняли и те, кто был изгнан из кланов за серьёзные проступки и жадность.
Были среди них и те, кого красноголовые франки называли странствующими рыцарями. Желая покарать обидчика своего хозяина, самурай не мог на это пойти, будучи тесно связан с кланом — иначе, по древним японским законам, он сделал бы соучастниками своего преступления весь клан. Тогда «рыцарь» публично порывал с кланом, совершал задуманное и возвращался к хозяину. А если прежний господин отказывался его принимать, то ронин предлагал свои услуги другому сюзерену.
Да, именно так глупому Курода и следовало разыграть «карту» с Эномото! Став ронином, «человеком-волной», он бы недолго скитался в одиночестве. Он, Сайго Такамори, нашёл бы его и приблизил к себе. А приблизив, можно было бы использовать Эномото напрямую, без участия в грязных заговорах. Без вынужденного доверия глупым пешкам вроде Асикага Томео!
Но что же теперь делать — прошлое нельзя повернуть вспять, с гневом и грустью размышлял Сайго. А жаль… Он много слышал о боевом искусстве владения мечом этого Эномото. Да и меч у него был знаменитый, выкованный одним из лучших учеников мастера Масамунэ. Конечно, для всякого сюзерена меч школы мастеров клинка Мурамаса[56] был бы гораздо предпочтительнее.
Несколько месяцев назад, совершая утреннюю прогулку в окрестностях Кагосимы, Сайго Такамори стал свидетелем скоротечного поединка бродячего ронина с тремя молодыми и самоуверенными самураями. Повод для ссоры был ничтожным: на узкой дорожке ронин в поношенной одежде нечаянно задел ножнами своей катаны ножны встречного.
Кавалькада Сайго проезжала мимо по верхней тропинке, и стражники военного министра уже бросились было разнимать противников. Однако Сайго остановил их и придержал коня, желая досмотреть поединок до конца.
Тем временем противники, согласно древним обычаям, назвали свои имена и обнажили мечи. Военному министру сверху была всё хорошо видно, понял он и коварную тактику трёх самураев. Один из них нарочито отступал, заманивая ронина в узкий «коридор» между двумя приятелями, до поры до времени не проявлявших желания нападать. И когда ронин оказался между двумя самураями, один из них внезапно бросился в атаку. Однако ронин был начеку: отбив выпад, он мгновенно нанёс противнику смертельный удар, и тут же повернулся к другому, уже бросившемуся в атаку. Весь поединок не продлился и трёх мгновений: двое самураев замертво упали на землю, а третий бросился наутёк.
Сайго Такамори вторично остановил своих стражников, хотевших арестовать ронина. И окликнул того сверху, спросив: что он намеревается теперь делать? Бережно вытирая меч, ронин поклонился знатному господину и спокойно признался, что намерен идти в ближайшее селение, чтобы донести на себя в полицейском участке, как этого требовал закон.
Возвращаясь с прогулки, министр нарочно заехал в участок. И полицейские подтвердили, что арестовали бродячего ронина, заявившего о своём преступлении…
В тот день Сайго Такамори вернулся в своё имение в глубочайшей задумчивости.
Это было давно, конечно. А нынче Сайго Такамори предстояло принять ответственное решение. Тетива лука была натянута, оставалось пустить стрелу. Или не стрелять вовсе… Для того чтобы «не стрелять», и делать-то ничего не нужно — просто забыть о полученном «крылатом письме», заняться своими будничными делами.
Сайго хмыкнул: написал же он по возвращении в Кагосиму эти стихи, в искренность которых мало кто поверил:
Я отряс со своих ног прах мира, Я ушёл от чинов и славы. И теперь могу весь предаться радостям на лоне природы Радостям Великого Творца[57].И правильно, что не поверили! Внезапный приступ обычной для него ярости охватил Сайго, кровь толчками побежала по жилам, застелила глаза мутной пеленой. Он до хруста в суставах сжал кулаки, сдерживая тяжёлое дыхание. Встревоженный пёс, которому передалось беспокойство хозяина, неотрывно глядел на него, готовый по первому слову или жесту броситься на неведомую опасность или угрозу…
Постепенно военный министр успокоился, ласково потрепал пса по лобастой морде.
Да, он сделает это! Он предпримет ещё одну попытку показать всем, что новая политика императора и его прихвостней пагубна для Японии. Международный дипломатический скандал — это вам не отмена сословной причёски самурая[58]!
Сайго остановился и легонько хлопнул в ладоши. Он знал, что, несмотря на кажущееся уединение в саду, верные слуги неслышно, как Хито, идут следом по боковым дорожкам, готовые, как пёс, по первому зову склонить голову перед всесильным военным министром и выполнить его приказ.
Так оно и произошло. Не успело короткое эхо негромкого хлопка в ладоши стихнуть, как из кустов появились две фигуры с мечами наготове. Их головы были украшены привычными самурайскими хвостатыми причёсками — Сайго Такамори не признавал новшеств в своём имении!
— Повелеваю немедленно отправить в Токио курьера, — распорядился военный министр. — В столице ему надлежит явиться к господину Окуба Тосимити и передать моё послание. Вот оно: опавшие цветы не возвращаются на ветки деревьев, а осколки разбитого зеркала ничего не отражают[59]. Пусть посланец передаст господину Окубе: через пять дней я надеюсь увидеть его в своём доме!
Глава десятая
Открывший Бергу дверь денщик доложил:
— Так что гости вас дожидаются, ваш-бродь…
Впрочем, присутствие гостей чувствовалось и без предупреждения: в прихожей витал аромат дорогого табака, из залы доносился смех, голоса и звяканье стаканов.
— О-о, вот и Мишель… Где тебя черти носят?
— Совсем статская штафирка с виду… В статском по Петербургу дефилируешь — что, Монстра Усатого не боишься? Мишель, что с тобой?
— Здравствуйте, господа! — Берг был искренне рад, что ему не придётся коротать вечер одному. — Однако вы не слишком скучали тут без хозяина, как я погляжу!
Пожав руки офицерам своего батальона — поручику Солодовникову и штабс-капитану Миличу, — Берг проворно скинул сюртук, сдёрнул галстух, уселся меж друзьями и взял в руки наполненный стакан:
— Что пьёте нынче, господа офицеры? — он понюхал вино. — О-о, это не «астраханский квасок», это Франция, сразу чувствуется! По какому случаю шикуем?
— Случай самый неординарный, Мишель! — Солодовников залпом опорожнил свой стакан и кивнул на Милича. — Милич наш получил приказ в Швейцарию ехать! Везёт же людям!
— В Швейцарию? А что там стряслось? — удивился Берг.
— Что может стрястись в тихой и патриархальной Швейцарии, Мишель! Наш батальонный командир князь Кильдишев, дай ему Бог всего, назначил меня для сопровождения следующих для излечения на воды офицеров батальона, — счастливо засмеялся Милич. — Помнишь Братыненко и Якобса? Ну, которые после кавказской заварушки из госпиталей, бедолаги, всё никак не выберутся?
— Смутно припоминаю, господа, — Берг пожал плечами. — Я ведь и сам в батальоне недавно, в Туркестанской кампании почти год оттрубил.
— Однако в подобную поездочку на воды весной успел-таки прокатиться, а?
При упоминании весенней своей поездки в Европу Берг слегка нахмурился, словно пытаясь поймать ускользающую мысль или воспоминание. Но друзья теребили, тянули к нему стаканы, наперебой рассказывали последние батальонные сплетни, расспрашивали о Настеньке, и Берг махнул рукой. Если это что-то важное, то вспомнится само. А не вспомнится — стало быть, ерунда.
Беглая ревизия стола показала, что пора посылать денщика за «подкреплением» в ближайшую ресторацию. Разлив по стаканам последнюю бутылку, офицеры уговорились не спешить, потянуть время, чтобы ожидание посланца не показалось слишком долгим.
— Ну, что там твой японский друг, Мишель? — Солодовников раскурил сигару, выпустил несколько ровных колечек сизого дыма. — Всё такой же бука, сух и официален, аки кредитор? Не понимаю, как вы с ним вообще можете находить общий язык? Ну, поначалу чистая экзотика, это понятно. Заполучить в приятели единственного японца в столице, да ещё и дипломата! Наш свет завидовал тебе жуткой завистью, Мишель! Но японец же оказался сух, как прошлогодняя вобла, — разве не так?
— Серж, ты не прав, — заступился за японского друга Берг. — Да, общение с господином Эномото весьма своеобразно, а порой, честно признаться, и утомляет, и раздражает. Но японцы такие по натуре, понимаешь? Его суждения весьма оригинальны, ум остёр. Вот сами подумайте, господа: жили мы, жили — и знать не знали, что существует на свете совершенно иной мир, иные понятия. После его рассказов о Японии я просто мечтаю когда-нибудь побывать там, посмотреть на мир Эномото своими глазами. Сравнить то, что услышал о Японии, с увиденным.
— Воля твоя, Мишель! — пожал плечами Милич. — Езжай в свою Азиатчину, коли есть такое желание. А вот я через недельку уже на женевских барышень глазеть стану. А там, глядишь, и в Париж на недельку вырвусь как-нибудь! Это ж Европа, всё рядом!
— Да, рядом, — Берг хмурился, барабанил пальцами по столу, всё ещё пытаясь поймать какую-то ускользающую мысль.
— Ты на свадьбу-то свою японца думаешь звать? — Солодовников от нечего делать крошил острейшим сапёрным ножом кружок ананаса. — Или иностранным посланникам по статусу не положено столь близко с простыми смертными сходиться?
— Пригласить-то приглашал, да что-то настроение господина Эномото мне в последнее время не нравится, господа, — пожаловался Берг. — Прямо скажу: похоронное настроение у моего японского друга какое-то! Словно болезнь какая его настигла. Или беду чует… Вот сегодня, вообразите, господа! Вздумал в Трубецкой бастион Петропавловской крепости съездить, тюрьму осмотреть! Тут от одного названия мороз по коже — а он рвался туда прямо!
— В арестантский дом? Ну, действительно, — Милич покрутил пальцем у лба. — И что, пустили его?
— Ха, попробуй не пусти государева любимца! — хохотнул Солодовников, продолжая забавляться с ножом. — Я слыхал, японца этого день через день в Зимний приглашают — то на чаепитие с августейшим семейством, то на прогулку с их величествами. Фаворит-с! Вот разве что приревнует государь японца этого к Мишелю нашему, рассердится… Вот тогда, действительно, может и в Петропавловку определить! Так уж, скорее, Мишеля нашего, чем иностранного подданного!
— Серж, не говори глупостей! — вздохнул Берг. — Даже если государь и недоволен времяпрепровождением японского посланника, сие не есть государственное преступление. И вообще: был бы недоволен — мне бы уж как-нибудь давно бы дали понять про неуместность моей привязанности и интереса… Серьёзно, господа: Эномото чём-то явно подавлен в последнее время!
— Наплюй, Мишель! Особый народец, у них не разберёшь — что в голове делается. Иная нация, иное мышление — сам же говорил!
— Погодите, господа! — попросил Берг, теребя локон волос за ухом. — Что-то в голове вертится, совсем близко… Подавленность посланника… Неожиданный отъезд его помощника, Асикага, в Европу… Тут есть какая-то связь!
— Господи, он уже и второго японца приплёл, — рассмеялся Милич. — Как это ты, Мишель, их имена дикие в голове держать способен? И зачем этот второй японец в Европу собрался-то?
— В том-то и дело, что неизвестно! — Берг вскочил, быстрыми шагами прошёлся по комнате. — Эномото не знает причины, Асикага получил приказ через его голову, прямо из Токио — тем и расстроен посол чрезвычайно! Это что-то очень важное для него, поверьте, господа!
Хлопнула дверь в прихожей, и офицеры оживились:
— Ну, вот и твой пропащий денщик, наконец, явился! Господа, мы что-то совсем о стаканах своих забыли — выпьем, друзья!
— Да-да, конечно, выпьем! — Берг остановился посреди комнаты: ускользающая доселе мысль прояснилась, сформировалась. — Слушайте, Милич, а что, если я напрошусь к вам в компанию, а? Поеду с вами? И прослежу в Европе за японцем этим…
— Ну-у, брат, это не у Милича спрашивать надо! — Солодовников опрокинул в рот стакан вина, кинул вслед кусочек ананаса. — Это уже к милости полковника Кильдишева обращаться надобно! Как Усатый Монстр решит! И потом, Мишель: вы с полгода назад в подобную поездку уже отправлялись! Совесть иметь надобно — другие офицеры, знаете ли, тоже не отказались бы от подобной командировки! И что за сыщицкие умонастроения, Мишель! «Проследить!» Ты, русский офицер, какую-то игру в казаки-разбойники затеял! Выдумываешь, право! Просто завидуешь Миличу, и всё тут!
— Нет, господа, я не выдумываю! Господин Эномото в беде, я печёнкою чую! Ему важно знать про Асикага — а обязанности держат его здесь, в Петербурге! Князю Кильдишеву я объясню как-нибудь свою потребность. В конце концов, он с тестем моим будущим близко знаком — прибегну к родственной протекции, ежели что! Настеньке намекну про европейские обновки… Дело надо делать, господа! А дело-то, чую, нешуточное!
* * *
Командир Сапёрного батальона полковник Кильдишев, поворчав для порядка, наложил на рапорт Берга с просьбой включить его в состав сопровождающих команды раненых офицеров разрешающую резолюцию. Несколько больших хлопот потребовало устроить так, чтобы уехать из Санкт-Петербурга в один день с отбытием японца. Узы офицерского братства, впрочем, оказались сильнее указаний и распоряжений начальства. Узнав, что прапорщику Бергу позарез надо ехать на два дня позже намеченного, офицеры, без расспросов и ворчания, передали командование группой в его руки. Истинную цель поездки Берга в Европу знал только Милич.
До Берлина группа офицеров добралась без приключений. Здесь им предстояло расстаться. Следующие на воды раненые офицеры под присмотром одного Милича покатили на извозчиках в гостиницу, где им предстояло дожидаться завтрашнего поезда в Женеву. А Берг, убедившись, что японец купил билет в вагон второго класса на вечерний поезд в Амстердам через Ганновер, решил лишний раз не мозолить тому глаза и остался ждать вечера в вокзальной ресторации.
По случаю тёплой погоды основная масса посетителей ресторации выбрала столики на улице, в садике под чахлыми, уже пожелтевшими липами. Здесь играл оркестр местной пожарной команды, и сияние надраенных до зеркального блеска касок с гребнями состязалось со сверкающей медью духовых инструментов.
Расторопный кельнер принёс Бергу тяжёлую запотевшую кружку тёмного пива и сосиски. Увидев объёмистую тарелку, Берг чуть не вернул кельнера: этаким количеством можно было накормить не одного, а трёх-четырёх человек. Однако, против ожидания, сосиски «ушли» как-то незаметно, и, приканчивая вторую кружку, Берг уже подумывал о том, не заказать ли ещё?
Прихлёбывая остатки пива, Берг с удовольствием поглядывал на снующих между столиками голубей и воробьёв, лениво щурился от солнечных бликов, в изобилии пускаемых касками оркестрантов и их инструментами, и размышлял о дальнейшем способе действий. Постараться не попадаться Асикага Томео на глаза или, наоборот, разыграть «нечаянную» встречу и набиться в попутчики?
У этих двух решений были серьёзные минусы. Частенько бывая в петербургском особняке японского посольства, Берг, разумеется, был знаком со всем персоналом посольства, и при встрече с Асикага был бы неминуемо японцем узнан. К тому же у Берга были сомнения в собственных сыщицких способностях: вряд ли при отсутствии опыта в подобных делах он сможет держаться незаметно вблизи от объекта наблюдения. Чепуху с переодеванием, фальшивыми усами, бородой и париками офицер отбросил сразу: для такой маскировки тоже нужны определённые навыки.
Разыграть «нечаянную» встречу? Однако Асикага, не сообщив своему посольскому начальству о цели отъезда и, зная о тесной дружбе Берга и Эномото, скорее всего, насторожится. Насторожится и даст понять, что присутствие рядом такого «попутчика» нежелательно для него.
После полутора часов мучительных размышлений Берга наконец-то осенило. Торопливо рассчитавшись, он окликнул извозчика, и попросил отвезти его в солидное частное сыскное агентство.
Если извозчик и удивился, то виду не попал. Он меланхолично кивнул, пробормотал: «Разумеется, мой господин!» — и шлёпнул вожжами по бокам такого же меланхоличного мерина. Уже через полчаса неторопливой езды по берлинским улицам коляска остановилась у дверей со скромной вывеской: «Отто Шнитке. Деликатные услуги для состоятельных господ».
Гостя из России принял сам хозяин сыскного бюро. Изложенной просьбе он тоже ничуть не удивился, с сожалением отметив лишь отсутствие необходимости наблюдения за японцем в Берлине.
Да, мой господин, у меня есть, разумеется, хорошие коллеги и в Голландии, и в Амстердаме. Да, можно немедленно телеграфировать моим коллегам, порекомендовать им господина из России и заручиться содействием в данном им поручении. Сегодняшний экспресс из Берлина прибудет в Амстердам завтра днём, и господина из России там встретит мой голландский партнёр. А чтобы господин не сомневался в неукоснительном исполнении поручения, я немедленно телеграфирую в Амстердам, и через три часа, ко времени отправления берлинского поезда, надеюсь привезти на вокзал подтверждение голландского коллеги о содействии. Мои комиссионные? О-о, вряд ли они разорят уважаемого господина!
Шнитке черкнул на листе бумаги несколько цифр и пододвинул бумагу Бергу.
Мысленно крякнув, тот не стал возражать и достал бумажник.
Немец сдержал слово, и за полчаса до отхода поезда в Амстердам посыльный в форменной фуражке с невнятной кокардой нашёл Берга на вокзальном дебаркадере и передал ему конверт без надписи.
В конверте оказалась короткая записка сыщика Шнитке, в которой тот подтверждал свою договорённость с клиентом. К записке был приложен телеграфный ответ голландского коллеги герра Шнитке.
К этому времени Берг уже успел «нечаянно» встретить на вокзале Асикага Томео. Он дружески с ним раскланялся, выразил приятное удивление от встречи и сообщил, что едет в Париж.
Париж был экспромтом, неожиданным для самого Берга. Однако, упомянув про Париж, он обратил внимание на мимолётное выражение досады, мелькнувшее на смуглом лице японца.
— Поздравляю вас, господин Берг! — коротко поклонился Асикага. — Я вижу, что в русской армии, в отличие от японской, заграничные командировки младших офицеров отнюдь не являются редкостью! Его высокопревосходительство, господин посол Эномото, если не ошибаюсь, имел честь познакомиться с вами в Париже, куда вы также были командированы нынешней весной. Ведь вы, кажется, служите в сапёрном полку?
— В батальоне, — машинально поправил Берг. — Мне просто повезло, господин Асикага: весной я неплохо справился с поручением по сопровождению на лечебные воды раненых офицеров, среди которых был сын весьма высокопоставленного сановника. Этот генерал выразил благодарность моему командиру в высочайшем присутствии, и великий князь, патронирующий благотворительное попечительство о раненых воинах, запомнил моё имя. Но ведь и вы, господин Асикага, вовсе не обижены приятными вояжами, как я погляжу! Хотя также являетесь младшим чином в дипломатической миссии…
— О-о, мой случай вряд ли можно назвать везением, господин Берг! — японец снова сломался в коротком поклоне. — В Европе у моего императора пока, к сожалению, слишком мало доверенных офицеров, работающих здесь на постоянной основе. А посылать со срочным поручением специального человека из Японии — означает большую потерю времени.
— Так ваше нынешнее поручение имеет дипломатическое свойство? — словно невзначай поинтересовался Берг.
— Я штабной офицер, и в дипломатическую миссию попал волею случая, — уклончиво ответил Асикага. — Простите, господин Берг, но я не вижу своего носильщика и должен, к сожалению, покинуть вас. Вы тоже едете во втором вагоне?
— Нет, в третьем, господин Асикага. Надеюсь, мы ещё свидимся в Амстердаме! — Берг церемонно раскланялся и отошёл.
Найдя глазами посыльного от сыщика, офицер кивнул на японца и поднял два пальца. Тот коротко кивнул и затерялся в толпе пассажиров.
Вагоны, в которых ехали из Берлина в Амстердам Берг и Асикага, были второго класса. И, несмотря на то что пассажирские диваны были мягкими, а спинки можно было немного опустить, Берг провёл весьма скверную ночь и успел несколько раз пожалеть, что не купил билет в спальный вагон.
На вокзале в Амстердаме прибывших пассажиров поджидали многочисленные посыльные из разных гостиниц. Соскочив с подножки вагона одним из первых, Берг рассеянно кивал на посулы гостиничных агентов, поджидая голландского сыщика и поглядывая в сторону второго вагона, где ехал японец. Голландского языка он не знал, и это внушало Бергу некоторые опасения.
Наконец на дебаркадере появился и японец, сразу же атакованный гостиничными агентами. Заметив Берга, Асикага сразу направился к нему, церемонно раскланялся, поинтересовался — как тот доехал, и скоро ли намерен отправляться дальше. Берг не стал кокетничать: доехал скверно, и поэтому намерен на день-другой задержаться в Амстердаме — выспаться на нормальной кровати и хоть немного прийти в себя.
Едва японец отошёл, как один из гостиничных агентов, давно дёргавших Берга за рукав, на приличном немецком языке вполголоса поинтересовался:
— Изволите быть господином Бергом? — и когда офицер резко обернулся, отступил на полшага и покачал головой. — Тише, прошу вас! Я здешний партнёр господина Шнитке из Берлина. Могу вас поздравить, господин Берг! Субъекта, который вас интересует, узнать в здешней толпе и выследить труда не составит, а потерять достаточно трудно. Спокойно идите отдыхать в гостиницу — кстати, рекомендую «Две короны» — мои люди возьмут вашего азиата под наблюдение. Когда вам угодно получить первый отчёт, мой господин?
— Не позже, чем нынче вечером, господин э…
— Это совершенно неважно. Значит, нынче вечером, господин Берг! Позвольте проводить вас до извозчика…
Однако японец спутал все карты.
Не успел Берг, заказав плотный обед на шесть часов пополудни, рухнуть в мягкую постель и с наслаждением прикрыть глаза, как в дверь номера забарабанили. Проклиная голландскую бесцеремонность и бормоча ругательства, Берг накинул халат и отпёр дверь, намереваясь отчитать гостиничную обслугу за беспокойство. За дверью, однако, стоял не гостиничный коридорный, а давешний сыщик с вокзала. Проскользнув мимо Берга в номер, он без приглашения сел.
— Тысяча извинений, мой господин! Однако события приняли неожиданный оборот, и я счёл своим долгом поставить вас об этом в известность, не дожидаясь назначенного вами времени рандеву. Интересующий вас субъект с вокзала никуда не пошёл. Он издали наблюдал за вами, и когда вы уехали на извозчике, сразу же проследовал в железнодорожную кассу и купил билет в спальный вагон на ближайший поезд в Париж через Роттердам — Брюссель — Лилль. Поезд отправляется, — сыщик вытянул из жилетного кармана часы, щёлкнул крышкой. — Да, поезд, согласно расписанию, отправляется с Амстердамского вокзала менее чем через час. Какие будут указания, мой господин?
Сдирая с плеч халат, Берг кинулся к шкапу одеваться. Сыщик кашлянул:
— Вы, очевидно, хотите успеть на тот же поезд? Извольте прежде выслушать соображения профессионала, мой господин!
Берг, спохватившись, укрылся в своих «невыразимых»[60] за дверцей шкапа и высунул оттуда голову, напряжённо глядя на собеседника.
— Вам не следует спешить на вокзал, господин Берг! — уверенно продолжил сыщик. — Судя по всему, Париж был целью этого азиатского господина изначально, а Амстердам был назван для маскировки его намерений. Он не случайно поинтересовался вашими планами, и когда услышал про Париж, также названный вами для маскировки, запаниковал. Запаниковал и решил убраться отсюда побыстрее, чтобы вы потеряли его след.
— И что же вы предлагаете?
— Не торопиться! — повторил сыщик. — Тем более что спальный вагон в пассажирском составе Амстердам — Париж единственный. И там вы неизбежно встретитесь с вашим азиатом и возбудите у него самые серьёзные подозрения. Пока он, видимо, считает вашу встречу досадной случайностью — но если вы, сообщили ему о том, что остаётесь в Голландии на два-три дня и отправились отдыхать в гостиницу, а сами тут же окажетесь в одном вагоне с ним…
— Да-да, я понимаю, — забормотал Берг. — Однако что же теперь делать?
— Успокоиться, мой господин! С вашего позволения, я взял на себя смелость заказать для вас билет в Париж на завтра. Отдыхайте и доверьтесь профессионалам! С вашим азиатом в Париж поедут два наших лучших агента. Они «проводят» его до выбранного им логова и гарантирую, что наш подопечный не сделает и шага без того, чтобы об этом не стало известно. А вас в Париже, на вокзале Gare du Nord[61], встретят и предоставят подробнейший отчёт о времяпрепровождении нашего подопечного. Далее вы примите решение сами: если желаете, то мои агенты продолжат незаметно опекать азиата во время его пребывания во французской столице. Либо, если захотите, наблюдение продолжат французы — по нашей рекомендации, либо по вашему собственному выбору. Решайте, мой господин. Лично я, хотя это и не в интересах моей фирмы, рекомендовал бы вам прибегнуть всё же к услугам французских детективов. Выйдет дешевле, знаете ли.
— У вас такой многозначительный вид, что я просто вынужден просить вас объясниться, герр.
— О-о, ничего особенного. Просто вся Европа знает, что заместитель префекта Парижа, сотрудник секретно-наблюдательной части мсье Мерсье, давно работает на русскую политическую полицию. И коль скоро эта полиция в вашем лице вынуждена, по-видимому, действовать столь неприкрыто.
— Я попросил бы вас, господин сыщик, не смешивать меня с господами из охранки! — налился свекольным цветом Берг. — Я гвардеец, русский офицер, и не могу позволить… Я выполняю частное поручение, никоим образом не имеющее отношения к революционерам и нигилистам!
Забыв о том, что не одет, он даже сделал шаг из-за дверцы, однако, вспомнив о светло-сиреневых «невыразимых», отнюдь не соответствующих моменту, поспешно отступил в сень шкапа.
— Боже, простите, простите, мой господин! Я вовсе не желал вас обидеть! А если и допустил вольное предположение, так только единственно исходящее из способа ваших, простите, действий… Ну, не хотите, как хотите, дело ваше, в конце концов! Французы, работающие на русскую политическую полицию, либо не работающие на неё — всё равно чувствуют себя в Париже и во Франции свободнее, нежели приезжие э-э… специалисты. Вот и всё, что я хотел вам сказать, мой господин!.. Так что вы решайтесь — мой план принимается? Или вы желаете непременно ехать в Париж нынче же?
Берг погрузился в невесёлые размышления. Прежняя задумка самостоятельно проследить в Голландии за Асикага Томео, подкреплённая с финансовых позиций лишь собственными сбережениями, скопленными на свадьбу за время боевой экспедиции в Туркестане, уже нынче стала представляться ему по меньшей мере малопродуманной. И этот займ, сделанным перед самой поездкой в Европу у ростовщика, — чёрт, почему же он не внял увещеваниям друзей и не попросил вдвое от того, что так легко ссудил ему кредитор?
Нет, Берга вовсе не снедал приступ экономии. И денег, потраченных на спасение друга — что-то внутри подсказывало, что речь идёт именно о спасении! — ему не было жалко. Всё было гораздо проще: не имея опыта в столь своеобразной сфере, как тайное наблюдение за объектом, да ещё в чужой стране, он и представить себе не мог степени затратности подобных мероприятий. Авантюрное путешествие в Европу только началось, а треть суммы, предназначенной для выполнения миссии, уже как корова языком слизала! А ежели Асикага задержится в Париже не на несколько дней, а недель? Что тогда — объявлять нанятым сыщикам о своей несостоятельности и бросать задумку на полпути?
Более всего сейчас Бергу хотелось схватить бумажник и тщательно пересчитать то, что нам наличествовало на данный момент. И конечно, повыспросить у этого голландского господинчика — планируют ли его двое коллег также совершить путешествие в Париж первым классом?
А-а, где наша не пропадала! Мысленно махнув рукой на возможные проблемы ближайшего будущего, Берг вновь выглянул из-за дверцы шкапа и строго поглядел на посетителя:
— Ваше предложение кажется мне разумным. Что же касается вояжа в Париж ваших помощников, то не надо меня уверять, что им потребуется два места в спальном вагоне! Достаточно будет и второго — ехал же я в Амстердам вторым классом!
* * *
Через два дня, сев в коляску под сенью величественного фасада нового здания вокзала Gare du Nord, выполненного в форме триумфальной арки[62], Берг и вовсе забыл о заботящих его денежных проблемах. Прозрачный осенний воздух парижской столицы, неяркие и в то же время чрезвычайно гармоничные краски улицы Лафайет, на которую сразу же свернул фиакр, заставили его позабыть обо всём и жадно впитывать впечатления мировой столицы. А женщины, парижские женщины! Берг готов был поклясться, что парижанку можно узнать в любой толпе — не столько по одежде, сколько по походке, манере держаться…
Место в гостинице неподалёку от Северного вокзала ему зарезервировали голландское сыщики. Один из них, встретивший Берга на вокзале, передал ему и конверт с первым отчётом о пребывании японца во французской столице. Отчёт, предусмотрительно составленный на немецком языке, оказался довольно объёмистым, и Берг, сдерживая нетерпение, оставил чтение до гостиницы.
Переодевшись, он не стал тратить время на отдых и, захватив бумаги, спустился вниз, вышел на улицу и устроился за столиком первого попавшегося уличного кафе.
Как и весной, Париж сразу же погружал приезжих в свою непередаваемую атмосферу лёгкой грусти и ожидания перемен в жизни — во всяком случае, Берг определил свои парижские ощущения именно так. По улице двигался почти непрерывный поток колясок и фиакров, прохожие громко переговаривались и улыбались, то и дело приподнимая цилиндры и щёгольски помахивая лёгкими тросточками. Молодые француженки беззастенчиво поглядывали на мужчин — с лёгким, как показалось Бергу, вызовом.
Он заказал большую чашку кофе и вскрыл конверт с отчётом сыщика.
Перемещение японца по французской столице и его контакты показались Бергу странными. Первым делом японец разыскал некоего отставного полковника Жюля Брюне, занимавшего скромную должность при военном министерстве. Странным было то, что японец, прежде прочего, кинулся разыскивать того самого Брюне, которого Эномото почитал своим старым другом и знакомцем. Зачем Асикага понадобился французский полковник? Вряд ли тут, учитывая натянутые отношения между японским посланником и секретарём посольства, речь могла идти о каком-то поручении Эномото.
Пробыл Асикага у полковника недолго: через четверть часа, как отметили дотошные сыщики, оба вышли из здания министерства, остановили фиакр (был записан номер извозчика!) и доехали до Монмартра. Там спутники заняли столик на летней веранде маленького кафе. Наблюдатель отметил оживлённый диалог между Брюне и Асикага и написал, что встреча, по всей вероятности, закончилась ссорой собеседников.
Как отметил в своём отчёте сыщик, он не имел возможности быть на дистанции слухового контакта. И услыхал только окончание диалога, заняв в кафе соседний столик. Речь шла о сумме вознаграждения за некую услугу, о которой просил японец. Сначала он предлагал 500 франков, потом повысил ставку до 700. Получив решительный отказ, Асикага откланялся и покинул кафе.
Окликнув фиакр, японец назвал вознице адрес, и тот повёз его через весь Париж в Сен-Жермен. Сыщик, разумеется, отправился следом. Фиакр довёз японца до нужного ему дома, там вознице было приказано ждать, а Асикага поднялся в мансарду. Воспользовавшись его отсутствием, сыщик предъявил вознице фальшивый полицейский жетон и выяснил, что японец разыскивает здесь некоего Франсуа Буффье, бывшего пехотного сержанта французской армии. Его имя и адрес были записаны на клочке бумаги, которую японец показывал вознице фиакра. На той же бумаге было записано ещё одно имя, однако — тысяча сожалений! — возница его не запомнил.
Японец довольно скоро вышел из дома в сопровождении человека, которого искал. Оба уселись в фиакр, и вознице было велено ехать к ресторанчику папаши Годара — адрес назвал ему на сей раз француз.
Сыщик на своём фиакре обогнал экипаж преследуемых, и успел занять в ресторанчике Годара столик. Однако японец и Буффье, видимо, успели о чём-то договориться ещё по дороге и за столиком говорили только о сумме вознаграждения. Согласие было достигнуто довольно быстро, и Асикага, оплатив заказанный французом обед и целую батарею бутылок вина, откланялся. Следующая встреча, как отметил сыщик, была назначена через два дня, в этом же ресторанчике.
Несмотря на скоротечность встречи японца с французом, сыщик успел нанять уличного оборванца — карманного воришку. И тот сумел ловко вытащить из кармана Асикага выглядывающий оттуда клочок бумаги. На бумаге, кроме имени и адреса Буффье, были записаны ещё два имени — Жана Мерлина и Фредерика Валетта[63]. Как предположил голландский сыщик, они тоже были военными.
Отчёт сыщика содержал и короткую справку по Жюлю Брюне. Ему 48 лет, профессиональный военный, не женат. Родился в Восточной Франции, в Эльзасе. Обучался военному ремеслу в Политехнической школе по артиллерийской специальности. В 1862 году оставил службу в полку, завербовавшись в команду военных инструкторов, направлявшихся в Мексику. Пробыл там пять лет, вернулся во Францию в чине капитана, и сразу же в составе французской военной миссии под командой атташе Шарля Сюльписа Жюля Шануана был направлен в Японию, где пробыл два года.
Вернувшись на родину, Жюль Брюне сразу же попал на театр военных действий — Франция вела войну с Пруссией. Воевал недолго, был пленён. После поражения Франции был отпущен. Во время Парижской коммуны участвовал в её подавлении. Сейчас, благодаря протекции бывшего командира французской миссии в Японии, получил скромную должность в военном министерстве.
Буффье живёт на съёмной квартире один, получает небольшую военную пенсию и доходы от какой-то небольшой недвижимости в провинции. Раз-другой в месяц встречается с полковыми друзьями, по этому поводу закатываются шумные пирушки далеко за полночь. Друзьям жалуется на маленькую пенсию и мизерные доходы.
Что же касается двух французов, чьи имена были записаны на выкраденной у японца бумажке, то сведения о них сыщики обещали собрать в ближайшее время. Исходя из возраста и упоминания военного прошлого этих людей, речь, скорее всего, также идёт о наёмниках, которые вполне могли быть в составе французской миссии в Японии.
И здесь японский след, отметил Берг. Асикага разыскивает в Париже бывших наёмников и что-то у них просит. Что же именно?
Как могли вообще пересечься в Японии несколько лет назад интересы моряка Эномото с интересами французских пехотинцев и артиллеристов? Стоп!
Пытаясь восстановить в памяти давний разговор с Эномото, Берг с силой потёр обеими руками лицо. Стоп — было что-то ещё в том разговоре!
Да, японец произнёс тогда фразу, которая показалась Бергу любопытной и необычной. Эномото тогда сказал, что французы оказались специалистами не только в военном ремесле, но и в идеях парламентаризма. Удивлённый Берг даже переспросил: в каком смысле? Какая могла быть связь у самурайской Японии с европейским парламентаризмом? Эномото тогда не ответил — лишь погрузился в своё отрешённое молчание, а потом, после паузы, заговорил о чём-то другом.
Берг вздохнул: досадуй не досадуй — теперь ничего не попишешь. Эномото сейчас в Петербурге, а он здесь, в Париже. Не спросишь! Даже и была б возможность спросить — упрямый японец вполне может и не ответить. И он принялся дочитывать отчёт.
Расставшись с Буффье, японец вернулся в свою гостиницу, предупредив тамошнюю обслугу, что ожидает гостя. Этого посетителя велено было сразу же проводить в занимаемый номер.
Гость вскоре явился, и был препровождён к японцу. Посетитель пробыл у Асикага недолго и уже через десять минут покинул гостиницу. Один из сыщиков остался в гостинице продолжать наблюдение за японцем, второй поехал за посетителем.
Остальной «улов» первого был невелик: Асикага из номера не выходил, лишь один раз вызывал звонком коридорного — справиться, как и где можно заказать железнодорожный билет до Амстердама. Сыщик проявил смекалку: слегка изменив внешность, он нанёс визит японцу под видом агента билетных касс и выяснил, когда тот намерен покинуть Париж. Оказалось, что японца интересует третий день — следующий после условленной встречи с Буффье.
Слежка за вечерним посетителем Асикага позволила выяснить, что тот служит в довольно скандальной французской газете «Журналь де Деба э дэ декре»[64]. В настоящее время голландцы с помощью местных контактов пытаются выяснить — кто был инициатором встречи и по какому поводу она вообще состоялась.
Отчёт заканчивался деликатным предложением по дальнейшему выяснению целей визита Асикага в Париж. Сыщики предлагали пойти по самому простому пути: встретиться с Буффье и репортеёром и прямо спросить их про японца. С учётом явной нужды Буффье в деньгах и принимая во внимание репутацию газетчика, сыщики полагали, что за предложенную мзду те вряд ли станут скрывать от кого-либо цель японца. Тем не менее встречу с ними предлагалось устроить после отъезда Асикага из Парижа.
К отчёту прилагался счёт за два дня наблюдения за японцем и его контактами. Берг в очередной раз крякнул, увидев итоговую цифру, и одновременно мысленно признав, что запрашиваемые деньги сыщики отработали сполна. В постскриптуме автор отчёта, словно читая мысли клиента, снова предлагал господину из России прибегнуть к услугам местных сыщиков, упомянув соображения экономии.
Относительно смены сыщиков Берг уже решил: за два-три дня пребывания Асикага в Париже менять голландцев на французов наверняка не стоило. Больше времени уйдёт на вникание новых сыщиков в тему. Надо рискнуть и встретиться с Буффье до назначенного рандеву с японцем, решил Берг. Правда, могут потребоваться деньги, которых осталось совсем мало. Глянув на часы — прикидывая оставшееся время до назначенного визита сыщиков с новым отчётом, — он вдруг подумал: а ведь часы-то у меня дорогие! Интересно, сколько дадут за них здесь, в Париже?
Да сколько бы ни дали! С часами, судя по всему, придётся расстаться. Берг махнул рукой и дёрнул за сонетку, вызывая коридорного — чтобы дать распоряжение насчёт обеда.
Глава одиннадцатая
— Мсье Буффье? Сержант Буффье?
В последнем отчёте сыщиков содержалось подробное расписание времяпрепровождения отставного сержанта. Разнообразием оно не отличалось: вставал бывший солдат удачи часов в 10, в 11 всегда завтракал в кондитерской лавке напротив дома. Полчаса читал газеты, совершал небольшую прогулку — обычно до набережной Сены. Потом возвращался к себе домой, часок отдыхал, а после направлялся обедать в ресторанчик мсье Годара — тоже недалеко от снимаемой им квартиры.
Услыхав своё имя, француз развернулся к Бергу всем корпусом, смерил его взглядом и чуть приподнялся со стула.
— Да, это я, мсье. Франсуа Буффье, с вашего позволения, или без такового. А что до сержанта — это дело прошлое, мсье! Мы знакомы?
— Пока нет, сержант. Но я много слышал о вас, и, будучи в Париже, не мог отказать себе в удовольствии познакомиться с таким выдающимся человеком. Моё имя Берг, я из России. И в некотором роде ваш собрат: я тоже военный. Имею честь рекомендоваться: гвардейского Сапёрного батальона штабс-капитан Берг из Санкт-Петербурга!
Повысив свой воинский чин сразу на несколько ступеней, Берг понял, что рассчитал всё правильно: настороженное выражение лица француза сразу смягчилось. Широким жестом он указал на соседний стул:
— Прошу садиться, штабс-капитан! Так вы из России? Неужели? Я всегда хотел побывать в России, но как-то не сложилось. Объехал, не поверите ли, полмира, бывал в Америке, Японии, а вот до России так и не добрался… Как насчёт стаканчика вина перед обедом, мсье? Я, знаете ли, привык садиться в это время за стол.
— Я надеюсь, вы позволите сегодня угостить вас обедом, сержант? Для меня большая честь встретиться с вами!
— Ну что вы! — нарочито запротестовал Буффье. — Вы гость Франции, это мой долг! Впрочем, я отставной сержант, как вы знаете. А военное министерство Франции не слишком щедро к тем, кто проливал кровь за её честь и знамя! Так что, если вы настаиваете — извольте! Я с благодарностью принимаю ваше предложение. Но тогда, может быть, мы пойдём в другой ресторан, поприличнее?
Едва Берг успел ответить согласием, как француз засуетился, бросил на столик монету и повлёк свалившегося ему на голову гостя за угол, болтая по пути без умолку.
— Старик Годар совсем не умеет по-настоящему готовить баранину на рёбрышках, а ведь это одно из основных блюд нашей французской кухни! Здесь, буквально за углом, есть очень приличное ресторанное заведение, и там дивно готовят барашка! А вино, вино, господин Берг! У шурина хозяина заведения есть виноградник где-то в Шампани — знаете, на знаменитых известняках. Только это сочетание — благословенная земля и солнце Шампани — дают неповторимый букет тамошнему вину! Что скажете, штабс-капитан?
— Я весь в предвкушении блаженства, — в тон французу ответил Берг. Накануне он весьма удачно отдал в заклад парижскому ростовщику свои золотые часы и в будущее глядел пока с оптимизмом.
В ресторанчике отставной сержант Буффье произвёл небольшой переполох. Потребовал заменить скатерть, на которой углядел еле заметное пятнышко, с пренебрежением охарактеризовал отлично вычищенные столовые приборы, попробовал и с негодованием отверг два сорта вина, поданные к столу лично хозяином. Лишь третья бутылка произвела на старого сержанта впечатление, и он, словно нехотя, кивнул головой.
Хозяин ресторана прислуживал привередливым гостям с почтением, однако от Берга не укрылась лёгкая саркастическая улыбка, с которой он поглядывал на суету Франсуа Буффье.
Принесли закуски, и француз первым накинулся на угощение, не прекращая трещать без умолку. И только после второго стакана вина, словно спохватившись, он подозрительно уставился на Берга:
— Простите, штабс-капитан, но я так и не расслышал… Кто, вы говорили, вам рекомендовал меня?
Берг про рекомендателей пока и не упоминал, но к такому вопросу был готов. Руководствуясь логическими умопостроениями, дедукцией, а более всего интуицией, он предположил, что Франсуа Буффье, обретаясь в Японии в составе французской военной миссии, вполне мог быть знаком с Эномото Такэаки. Да и Асикага явно искал в Париже людей, знавших Эномото. Его имя, конечно, было не более чем «выстрелом наудачу»: французский наёмник мог и не знать морского офицера Эномото. Тогда у Берга был запасной вариант — мифический шурин-моряк, якобы служивший на русском корабле и часто бывавший в Японии.
— Господин Буффье, не говорит ли вам о чём-либо имя Эномото Такэаки? — с многозначительной улыбкой закинул удочку Берг.
— Боже мой… Эномото… Разумеется, я знаю его! И даже можно сказать — был близко знаком с ним. Другом он мне, разумеется, не был — понятие дружбы японцам, по-видимому, вообще не ведомо — во всяком случае, в отношении с иностранцами, которых они даже в глаза называли не иначе как красноголовыми варварами, ха-ха! Да, я хорошо помню Эномото. Многие в те годы называли его иначе, Буё.
— Буё? — переспросил озадаченный Берг. За несколько месяцев знакомства с Эномото он ни разу не слышал этого имени.
— Да, Буё[65]. Откровенно говоря, я даже не знаю, что это — второе имя, прозвище, или ещё какая-нибудь японская причуда, — Буффье покачал головой, налил себе полный стакан вина, и, не обращая внимания на гостя, без церемоний выпил. — В последний раз мы виделись с ним, по правде сказать, при весьма грустных обстоятельствах. Гм… В японской тюрьме, признаться… Но откуда, позволю себе спросить, вы-то его знаете, господин штабс-капитан? Вы, кажется, не упоминали, что бывали в Японии? И вообще — я не думал, что Буё жив.
Берг, услыхав про тюрьму, едва удержался от изумлённого возгласа. Выстраивая дальнейшую беседу, он нарочито медленно разлил вино, отсалютовал своим стаканом собеседнику и начал смаковать солнечный напиток.
— Ну, с Эномото-то всё понятно, — неопределённо заметил он. — А как вы-то, сержант, очутились в японской тюрьме? Всё-таки иностранный подданный, служили там по контракту, я полагаю…
— Иностранный подданный? Да кто из власть имущих в Японии обращал на это внимание? Тем более когда в стране творился такой кавардак! Я до сих пор не знаю, кого из святых благодарить за то, что мне тогда удалось унести от этих самураев ноги, штабс-капитан!
Залпом выпив ещё стакан вина, Буффье рассказал Бергу короткую историю своей японской авантюры.
Французская военная миссия в Японию была сформирована в 1868 году: сёгунат попросил Наполеона III оказать техническую помощь в строительстве в Иокосуке артиллерийских арсеналов. Попутно французов попросили организовать обучение японской армии европейским приёмам военных действий.
Кроме командира, в состав миссии вошло 16 человек. Это были четверо экспертов-офицеров из пехоты, кавалерии и артиллерии, десять унтер-офицеров и два нижних солдатских чина. Французы отбыли из Марселя 19 ноября 1868 года и 13 января сошли на берег в Иокогаме. Миссия, кроме руководства инженерными и строительными работами, активно обучала элитное подразделение сёгуна Токугавы Ёсинобу европейским приёмам ведения сражений.
— Уже в то время в Японии было неспокойно, — вспоминал Буффье. — Я, штабс-капитан, не очень-то вникал во всю эту азиатскую политику. Но даже нам, иностранцам, было ясно: стычки между разными кланами сёгунов вот-вот приведут к открытой войне. Токугаве, на которого мы работали, противостояла мощная коалиция сторонников японского императора. Чтобы вы знали, штабс-капитан, своего императора-то почитали все японцы, однако до начала военных действий этот самый император был не более чем знаковой фигурой без реальной власти. Вроде некоего идола, задвинутого на дальнюю полку. А сёгуны, поделившие всю Японию на свои земельные наделы, не очень-то жаждали объединения страны и лишения, таким образом, привычных привилегий и богатства. И между собой эти самураи всё время грызлись, как вы понимаете.
— Когда между кланами сёгунов началась настоящая война, французские, немецкие и английские военные специалисты официально провозгласили свой нейтралитет, — продолжал свои воспоминания Буффье. — Однако Жюль Брюне и четверо его унтер-офицеров — я, Фортан, Марлин и Казеню — получили тайное распоряжение командира французской миссии присоединиться к мятежной эскадре под предводительством Эномото Такэаки для оказания практической военной помощи в борьбе с императорскими войсками. Чтобы замести следы, нам было велено написать рапорта об увольнении из армии. Таким образом, к мятежникам присоединились не чины французской делегации, а вольные «солдаты удачи». Эскадра Эномото, взяв на свои корабли около семи сотен воинов и пятерых французов, включая меня, ушла к берегам Эдзо, самого северного японского острова.
— Буё был настоящим стратегом, господин штабс-капитан, — продолжил француз. — На Эдзо в то время существовало всего несколько маленьких поселений рыбаков и была единственная крепость… Я не помню её японского названия — мы называли её Пятибашенной[66]. Так вот, высадившись на этом острове, Буё за пару месяцев превратил его в мощный оборонительный форпост, отделённый от остальной Японии естественной морской преградой. У императора после ухода эскадры оставалось всего два или три небольших корабля — так что первое время нападения с моря можно было не опасаться. К тому же Буё сразу после завладения островом направил императору петицию, в которой он, признавая власть своего микадо, просил его дать согласие на самостоятельное развитие Эдзо. Одновременно он направил делегацию к Токугаве с приглашением возглавить сёгунскую автономию на острове. И если бы тот согласился, то под его знамёна со всей Японии неминуемо потянулись бы тысячи сторонников древней сёгунской коалиции.
Помолчав, Буффье продолжил рассказ:
— Однако Токугава ответил отказом, и мятежный Буё остался на Эдзо один. Японский император, как вы можете догадаться, не желал никакой автономии и ответил Эномото предложением сдаться. Пути назад у Буё не было, и он решил провозгласить на острове независимую республику самураев — по примеру Северо-Американских Штатов. Признаться, эту идею ему подсказал тогда наш командир, капитан Жюль Брюне. Он же стал главным консультантом нового правителя острова в проведении выборов президента республики Эдзо. Как вы полагаете, господин штабс-капитан, кого население острова и воинский гарнизон выбрали президентом? — Буффье хохотнул, в очередной раз салютуя гостю из России стаканом вина.
Из дальнейшего рассказа отставного сержанта выяснилось, что в канун решающей битвы с императорскими войсками президент Эномото, спасая своих французских советников и единомышленников, приказал им бежать с Эдзо. Захватив несколько рыбачьих лодок, французы переправились на соседний остров, однако избежать плена удалось лишь Жюлю Брюне. Остальные были схвачены правительственными войсками. Генерал Курода Киётаки, командовавший военной экспедицией, по старым японским обычаям, предложил Эномото с честью уйти из жизни — однако тот отказался.
— А с чего ему было вспарывать себе брюхо, господин штабс-капитан? — продолжал посмеиваться Буффье. — Буё имел, конечно, самурайское происхождение, однако слишком долго прожил в Европе для того, чтобы вот так бездарно, с кишками наружу, уйти из жизни. Он, конечно, попал в тюрьму — там же, на Эдзо. И императорский суд, разумеется, приговорил его, в числе прочих мятежников, к смертной казни. Нас, французов, новое японское правительство тоже поначалу пересажало — кого в тюрьму, кого под домашний арест. И, честно признаться, мы — ну, те четверо, что ушли к мятежникам — уже не ожидали для себя ничего хорошего. Мы ведь даже к своему посланнику в Японии не могли обратиться за помощью и защитой: тот, оказывается, уже имел неприятные объяснения с новым японским правительством по поводу французских граждан, активно помогавшим мятежникам. Так что наше дело было швах! Но всё-таки через месяц-другой нас выпустили.
— А Эномото? — начал догадываться Берг.
— Он был приговорён к смертной казни за мятеж и государственную измену. В последний раз я видел его, когда меня выволокли из подземелья и потащили на последний допрос к его азиатскому превосходительству, генералу Куроде. Буё окликнул меня из бамбуковой клетки, где держали схваченных главарей мятежников. Пожелал мне удачи, бедняга… Неужели ему удалось спастись? Сие удивительно, штабс-капитан: нравы в той Японии были самые дикие. А жизнь человека и вовсе ломаного гроша не стоила…
— Да, Эномото выжил, — уклончиво ответил Берг. — Сейчас он, кстати говоря, в России.
— Неужели? Слушайте, я чертовски рад за него! Значит, он остался жив! Да, поистине сие удивительно! Конечно, их величество микадо мог и помиловать мятежников. Но выпустить из тюрьмы?! Главарей? Дать им уехать из страны?! Слушайте, Буё, видимо, удалось бежать из Японии?
— Насколько я знаю, нет, сержант. Но, согласитесь, что в нашем мире происходят и более удивительные вещи, — заметил Берг, не решив пока — сказать Буффье о нынешнем посольском статусе его старого знакомого или нет?
— Согласен! Давайте выпьем за удачу и здоровье этого пройдохи Буё! — предложил француз, наполняя стаканы. — И ещё замечу вам, мсье, что мир всё же удивительно тесен! Не далее как несколько дней тому назад меня посетил японец, который также отрекомендовался знакомым Буё. Правда, он ничего не знал, по его словам, о его судьбе.
— Вот как?
— Да, не знал. Он попросил меня записать воспоминания о событиях тех лет — осветить смутное время Японии глазами иностранца, так сказать. И удостоверить записи свидетельствами тех французов, которые были с президентом «короткой республики» на Эдзо до конца.
— Вот как? — ещё раз, теперь уже искренне, удивился Берг. — Японец не сказал вам о судьбе своего соплеменника?
Отставной сержант к этому времени уже заметно опьянел. Он ссутулился за столом, обхватив пустой стакан двумя руками и тяжело глядя перед собой мутными глазами.
— Полноте, сударь! — он махнул рукой, уронив стакан. — Какое мне, в конце концов, дело до всех этих жёлтых азиатов? Они не очень-то беспокоились обо мне — как, впрочем, и мои соотечественники, французы. Когда мы четверо, чудом вырвавшись из плена, явились в Иокогаме в дом на набережной, который занимала французская миссия, нас и пускать-то поначалу не велели! Хотя командир Шануан прекрасно знал, что наше увольнение из армии было фиктивным! И Брюне за своих унтер-офицеров не заступился, представляете, господин штабс-капитан? Нам швырнули сущие гроши на пропитание и дали бумагу к капитану немецкого торгового судна, отплывавшего из Иокогамы в Испанию. Хотя, признаться, тогда мы и этому до смерти были рады! И поверьте, мсье, не задержались в этой проклятой Японии ни одного лишнего дня!
— А зачем ваши воспоминания понадобились этому японцу нынче, сержант? — поинтересовался Берг. — Кто он, собственно, таков? Что делает в Париже?
— А чёрт бы его разбирал, азиата! Назвал имя, которое я, разумеется, тут же забыл. Сказал, что по поручению своего правительства разыскивает очевидцев той давней истории на Эдзо. Что японцы воссоздают для своих потомков историю сложного и противоречивого периода страны. И им очень важны документальные свидетельства очевидцев той истории с «короткой республикой» на Эдзо. Предложил, кстати, хорошие деньги — 300 франков за подробный отчёт, плюс по 100 франков за каждое дополнительное свидетельство.
— Ну что ж… Как говорят у нас в России — с паршивой овцы хоть шерсти клок! — рассмеялся Берг. — Надеюсь, вы не стали отказываться, сержант?
— Неужели я похож на дурака, штабс-капитан? Разумеется, я согласился — предварительно как следует поторговавшись с этим жёлтеньким мсье! Я оценил свои мемуары в 500 франков! — похвастался Буффье.
— Поздравляю!
— Плохо, что других очевидцев не осталось, — пожаловался француз, вытряхивая в свой стакан из бутылки последние капли. — Марлина два года назад зарезали в портовой драке в Марселе, а остальные двое моих товарищей унтер-офицеров сразу после возвращения из Японии подались за солдатской удачей в Мексику.
— А ваш капитан? Ну, тот, кому посчастливилось сбежать с Эдзо от правительственных войск японского императора?
— Ну, на нём я лишнюю сотню франков не заработаю! — уныло махнул рукой Буффье. — Брюне нынче стал большой шишкой, получил полковничий чин, служит в военном министерстве, под началом того же Шануана. Года три назад, когда мне было совсем не на что жить, я попробовал обратиться к Брюне — так представьте себе, штабс-капитан, он даже не принял старого однополчанина! Выслал с ординарцем двадцать франков и передал, чтобы и духу моего в министерстве больше не было!
— Обидно! — согласился Берг. — Но ведь всех денег на этом свете не заработаешь, не так ли, сержант?
— Ваша правда, мсье! Признаться, я не великий мастак по части сочинения, но уж очень хорошие деньги японец посулил за мои воспоминания. Пуркуа па? Почему бы нет? Мой пенсион, как я уже упоминал, весьма скуден. И потом — раз за это так хорошо платят, может, мне попробовать сталь литератором? Как вы считаете, штабс-капитан? Мне есть что рассказать и про Японию, и про американскую войну за независимость, и про нашу мексиканскую кампанию — вы уж поверьте!
— Действительно, почему бы нет? — с нарочитым энтузиазмом поддержал идею француза Берг. — Кстати, через несколько дней я возвращаюсь в Россию. И обязательно увижусь там с вашим старым другом Эномото Такэаки. Разумеется, я передам ему от вас горячий привет…
— Непременно, непременно, штабс-капитан! Мне бы тоже хотелось повидать старика Буё…
— Слушайте, сержант! — Берг сделал вид, что эта мысль пришла ему в голову только что. — Слушайте, мсье Буффье, а что с вашими воспоминаниями? Я мог бы передать копию вашему другу Буё — уверен, что ему будет очень приятно!
— Я почти закончил писать, но… Видите ли, — замялся француз. — Мои литературные труды уже обещаны другому человеку, японцу. Я не уверен, что ему понравится копирование моей рукописи.
— С вашего позволения, дружище, я попрошу хозяина доставить нам ещё бутылочку этого вина. Или сразу две — чтобы не гонять его в погреб лишний раз! А мы с вами выпьем и порассуждаем, как люди военные, конкретные…
— Разумеется, разумеется, мой друг! А-а вот, кстати, и наши рёбрышки подоспели! — Буффье едва не выхватил блюдо из рук гарсона, с наслаждением принюхался и без лишних церемоний переложил в свою тарелку большую часть дымящегося аппетитного мяса.
Через четверть часа, когда от аппетитных рёбрышек на столе осталась лишь куча обглоданных костей, а одна из принесённых бутылок почти опустела, француз откинулся на спинку стула, закурил толстую вонючую сигару и благожелательно поглядел на Берга.
— Так что вы хотели обсудить со мной, мой друг? Надеюсь, вы позволите старому ветерану называть вас другом?
— Разумеется, дружище! Я хочу спросить у вас: а за каким чёртом, извините, вы стараетесь для этого япошки? Неужели за те несчастные 500 франков?
— Н-ну, мой друг, для меня и 500 франков — серьёзная сумма, если уж говорить о деньгах!
— Я полагаю, что вы достаточно натерпелись от японцев за годы службы военным советником, сержант! Кстати, а когда вам пришлось спешно уезжать из Японии, вы успели получить расчёт?
— Не до расчётов было — голова бы уцелела!
— Слушайте, сержант, у меня к вам предложение: пошлите этого японца к дьяволу! Пусть командует своими самураями, а не бравыми французскими ветеранами!
— Вы правы, чёрт возьми! К чёрту! — француз стукнул кулаком по столу, но тут же спохватился. — Но как же тогда быть с обещанным гонораром?
— Пошлите япошку к чёрту! — посоветовал Берг. — Эти японские деньги вряд ли принесут вам удачу — ну их к дьяволу! Ну, хотите, я сам заплачу вам за ваши мемуары? И не 500, а, скажем, 700 франков? Безо всяких дополнительных свидетельств, а? Сержант, вы вставите большой фитиль азиатам, а я подарю ваши мемуары моему другу Эномото! Это будет прекрасный подарок! Кстати, и от вас тоже!
— Ну, прямо не знаю… Я ведь обещал, в конце концов. Хоть и азиат, но всё равно как-то неудобно. Извините, штабс-капитан, но вы уверены, что мы говорим об одном и том же человеке? О Буё?
Берг, сыграв возмущение, соскочил со стула:
— Вы, кажется, сомневаетесь в слове русского офицера, сударь? Уж не полагаете ли вы меня мошенником?!
— Помилуйте, как можно! Я не сомневаюсь в вашей искренности, штабс-капитан! Но ведь прошло столько лет… И последний раз я видел этого человека в тюрьме, приговорённого к смертной казни за бунт и вооружённый мятеж. Ни один император не милует за такое своих подданных, штабс-капитан! А уж японцы! Как он мог оказаться в России? Он бежал из тюрьмы?
— Удостоверьтесь, господин полковник! — Берг вынул бумажник, достал фотографию кабинетного формата и положил её на стол. — Узнаете Эномото? А человека рядом с ним?
— Да это он, несомненно. Постарел, конечно, и причёска другая… И мундир какой-то незнакомый… Раньше он, как истый самурай, выбривал волосы на лбу, вот здесь, — Буффье показал рукой. — А рядом с ним — вы, конечно! Простите моё невольное сомнение, сударь, я не желал вас обидеть! Так он жив, здоров и имеет какой-то высокий чин… А что он делает в России, штабс-капитан?
— Выполняет некое поручение своего начальства, по-видимому, — схитрил Берг, снова садясь. — Меня с ним связывают только дружеские узы.
— Удивительно, — пробормотал Буффье. — В Японии я видел своими глазами, и не один раз, отрубленные головы бедолаг, провинившихся в гораздо меньшей степени. Что ж, коль вам угодно, я напишу мемуары и для старого Буё…
— «И для старого Буё»? — Бергу не понравился оборот речи собеседника. — По всей вероятности, вы желаете продать один товар два раза, сержант?
— Вы меня не совсем так поняли, штабс-капитан, — запротестовал было француз. — Впрочем, какая будет беда, если этот азиат получит копию того, что я сделаю для вас? Ему же вовсе не обязательно знать об этом!
Бергу алчность француза не понравилась, но настаивать на эксклюзивности своей покупки он пока не решился.
— Поступайте, как вам подсказывает ваша совесть, мсье! — холодно заявил он, вновь вставая и подзывая гарсона, чтобы расплатиться. — Я буду настаивать только на одном условии: свою копию мемуаров я должен получить раньше вашего азиата.
— Как вам будет угодно, — пробормотал Буффье. — Свои записки я закончу, самое позднее, завтра к обеду. Чтобы перебелить их, потребуется ещё пара дней… Либо мне придётся приглашать канцеляриста-переписчика. А их услуги недёшевы, сударь!
— Свои 700 франков вы получите только в том случае, если я получу ваши мемуары не позднее чем завтра утром, сержант! — Берг из отчёта сыщиков знал, что встреча Буффье с японцем назначена на послезавтра и не желал рисковать. — Услуги переписчиков я оплачу отдельно, сержант! Соблаговолите принять аванс — 300 франков. И расписку в получении, позвольте… Честь имею!
Глава двенадцатая
— Берг украдкой вытянул из жилетного кармашка часы, досадливо поморщился: это раньше он с небрежной гордостью демонстрировал окружающим свой золотой брегет. Увы: брегет остался в Париже, у одного из бесчисленных ростовщиков, а для собственных надобностей молодой офицер купил в лавке пузатую и тяжёлую, как гиря, «луковицу» невнятного происхождения, которую порядочному человеку на людях и доставать-то было неловко.
До отправления поезда на Берлин, если верить «луковице» и железнодорожному расписанию, оставалось чуть больше часа. Франкфурт-на-Одере — последняя станция на немецкой территории, дальше Берлинский экспресс застучит колёсами по Российской империи. И оттягивать разговор с японцем было дальше некуда, пора было решаться.
…Чуть более суток назад в Амстердаме он весьма правдоподобно разыграл удивление, встретив японца возле спального вагона, отправлявшегося в Берлин.
— О-о, как тесен всё-таки мир, господин Асикага! Вы отправляетесь обратно в Россию тем же поездом, что и я? Моё почтение!
По невыразительному лицу японца пробежала лёгкая гримаса неудовольствия. Он сдержанно поклонился в ответ, улыбнулся углами рта:
— Здравствуйте, господин Берг! Да, я завершил свои дела в Голландии и возвращаюсь в Россию. А вы, очевидно, нынче прибыли из Швейцарии?
— Значит, поедем в одном вагоне, — словно не расслышав вопроса, с энтузиазмом воскликнул Берг. — А из Берлина место до Петербурга изволили уже заказать? Нет? Если желаете, мы можем прямо сейчас же пойти к железнодорожному агенту, я покажу дорогу! Прошу!
Японцу ничего не оставалось, как с помощью свалившегося как снег на голову попутчика заказать у агента место в Берлинском экспрессе. Вернувшись на дебаркадер вокзала, Асикага Томео всё же отверг приглашение Берга скоротать время за картишками или беседой в одном купе. Сославшись на лёгкое недомогание, он поспешил откланяться и юркнул к себе в купе первого класса, хотя до отхода поезда было ещё не менее получаса.
Ничего, бормотал себе под нос Берг, терпеливо прогуливаясь по дебаркадеру в ожидании сигнала отправления. Ничего, азият мой ненаглядный! Не сбежишь никуда, покуда гвардейский сапёр «пути отхода неприятеля» прикрывает!
Бежать японец, видимо, никуда не собирался, однако избрал иную тактику «уклонения от неприятеля». Он так и просидел до тройного удара колокола в вагоне. Не выходил он и на трёх небольших станциях по дороге в Берлин, хотя на каждой из них поезд стоял по часу и более. В Берлине, где пассажирам предстояла пересадка на экспресс, деваться ему было некуда, пришлось выйти — чтобы тут же попасть под «опёку» того же Берга, нарочно позвавшего к вагону лишнего носильщика.
Здесь «нездоровье» японца продолжилось. Уклонившись от предложения вместе поужинать в привокзальной ресторации, он вновь уединился в своём купе. Свет в его окне тоже вскоре погас. Справившись у вагонного кондуктора относительно станций по маршруту следования, Берг узнал, что ночью их поезд делает только три короткие остановки, а во Франкфурт прибывает утром. Там предстояла длительная стоянка и пересадка пассажиров в другие вагоны с колёсными парами под русскую рельсовую колею.
На франкфуртском вокзале попутчики, как и предполагал офицер, вновь встретились. Асикага с неохотой, но согласился составить Бергу компанию за завтраком.
От мяса Асикага решительно отказался и заказал у кельнера рыбу. Берг с любопытством наблюдал, как японец долго и неуклюже тыкал трёхзубой вилкой в тарелку, а потом, извинившись, всё же достал из саквояжа завёрнутые в салфетку палочки для еды. Ими он орудовал столь ловко, что Берг, неоднократно обедавший ранее со своим другом Эномото и знакомый с хаси, всё же не мог не восхититься…
Отказавшись по завершению завтрака от вина и кофе, Асикага лишь спросил у кельнера стакан холодной воды и, судя по всему, вновь намеревался сослаться на спасительное «недомогание» и отделаться от назойливого русского спутника. Тут Берг и решился объявить:
— Господин Асикага, у меня к вам есть весьма серьёзный разговор. До отправления нашего поезда примерно полчаса — не желаете ли прогуляться по саду? Там, я полагаю, нам никто не помешает.
Если Асикага и хотел возразить, то не нашёлся. Помедлив, он аккуратно завернул в салфетку свои хаси, уложил в саквояж, щёлкнул замком и поднялся.
В аллее чахлого садика листья осин уже были тронуты холодной рукой осени и, казалось, ждали только первого порыва ветра, чтобы с готовностью слететь с ветвей и упасть на землю. Берг вздохнул:
— Не буду ходить вокруг да около, господин Асикага. Я знаю, что вы испытываете к его высокопревосходительству господину Эномото враждебные чувства. И более того, намереваетесь погубить своего соотечественника… Молчите, я ещё не закончил, извольте дослушать, господин Асикага! Так вот, вы не можете не сознавать, что, погубив Эномото, вы одновременно ставите крест и на переговорах, ради которых вы с ним проехали через полмира и уже в Санкт-Петербурге потратили пять месяцев времени. Поскольку я, как вы знаете, являюсь личным другом господина Эномото, то имею право знать причину такой ярой враждебности.
Японец повернулся к Бергу всем корпусом в самом начале его монолога, а дослушав, чуть поднял в удивлении брови:
— Вы сошли с ума, любезнейший? Что вы несёте, господин Берг?
— Не отрицайте! Мне всё известно! Расставшись со мной в Амстердаме, вы поехали дальше, в Париж. Там вы встречались с полковником Жюлем Брюне из военного министерства, а когда он ответил отказом на предложение, показавшееся ему сомнительным, то вам пришлось искать отставного сержанта Буффье. Тот, к сожалению, оказался более покладистым, более глупым или более жадным. Потом у вас была встреча с газетчиком из враждебного России скандального еженедельника. Назвать вам гостиницу, в которой вы останавливались в Париже? Сумму, которую вы заплатили Буффье за его японские мемуары? Рассказать, какие фотографии вы храните в стальной шкатулке, которая запирается ключом, висящим на вашей шее?
Поражённый, Асикага сделал шаг назад и схватился за грудь, словно проверяя, здесь ли драгоценный ключ. Берг, заложив руки на спину и раскачиваясь с носка на пятку, ждал.
Асикага всё же быстро пришёл в себя от неожиданной атаки и презрительно улыбнулся:
— Вы считаете приемлемым для дворянина и русского офицера устраивать эту буффонаду со слежкой, подглядыванием в замочную скважину, подслушиванием? Да ещё по отношению к иностранному подданному, находящемуся под защитой дипломатического иммунитета и Российской короны? Фи, господин Берг! Я непременно доведу эти возмутительные инсинуации до Министерства двора Его Императорского Величества и Министерства иностранных дел России, любезнейший! Не думаю, что там вас похвалят за ваше «усердие»! Скорее уж наоборот: мне кажется, вы будете иметь большие неприятности!
— Да хоть до господа Бога доводите! Или кому вы там у себя молитесь в Японии? Не отвлекайтесь, господин Асикага! Я обвиняю вас в злоумышлении на моего друга и вашего непосредственного начальника, его высокопревосходительство Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии Эномото Такэаки! И жду ваших объяснений по сути выдвинутых весьма серьёзных обвинений! Отчего вы готовы провалить переговоры, начатые в Санкт-Петербурге по инициативе японской же стороны? Отчего вы так ненавидите господина Эномото, моего друга? Если вы чувствуете себя обиженным или оскобленным им, я готов дать за своего друга немедленное удовлетворение!
— Вот как? — недобро усмехнулся Асикага. — Вот как? Такая щепетильность в вопросах дружбы делает вам честь, господин Берг! Хотя, с моей точки зрения, вся эта поднятая вами суета оскорбительна сама по себе. Вы бесцеремонно лезете не в свои дела. И я готов наказать вас за эту бесцеремонность — но позже, позже, господин Берг! Всему своё время — так, кажется, говорят в Европе? Что же касается моих отношений с господином Эномото и мотивов моих поступков, то снова повторю вам: это не ваше дело! И я не обязан давать вам каких бы то ни было отчётов в своих действиях!
— Почему позже? — в бешенстве крикнул Берг, делая шаг вперёд. — А я должен ждать, пока вы не сделаете своего грязного дела?! Да, мне нет забот до вашей маленькой Японии и её жалких потуг выторговать никчёмный остров у края материка. Провались вы вместе с этим островом — слёз лить не стану! Зато мне есть дело до чести и благополучия моего друга — и я не позволю вам погубить его! Я требую удовлетворения немедленно, любезный!
Асикага сдерживался из последних сил. Он смертельно побледнел — от крыльев носа до костяшек сжатых в кулаки пальцев. Дыхание со свистом вырывалось через узкую щель стиснутых губ.
Бежали мгновения, к японцу начало возвращаться спокойствие. Он перевёл дыхание, разжал кулаки и чуть пошевеливал пальцами, возвращая в них нормальное кровообращение.
— Вы просто мальчишка, Берг! — наконец заговорил он. — Глупый великовозрастный мальчишка, который лезет в драку, не отдавая себе отчёта в том, чему и кому он хочет помешать. Я уже сказал вам: я непременно накажу вас — дам вам удовлетворение. Но не раньше, чем выполню свою миссию! До той поры я себе не принадлежу, господин Берг! Прощайте — и не трудитесь более искать моего общества. Я сам найду вас в Петербурге, глупый и нахальный щенок!
Асикага сделал движение, чтобы уйти, однако Берг не дал ему. Расхохотавшись и поигрывая щёгольской тростью, он слегка стукнул её концом по плечу японца.
— Может, я и мальчишка, господин азиат! Но мужчине гораздо приличнее выглядеть мальчишкою, нежели трусливой кривоногой шкодливой обезьяной! Да-да, мартышкой, напакостившей и торопящейся скрыться высоко на дереве, уверяя всех, что у неё там неотложные — ха-ха-ха! — дела! Передавайте привет этой мартышке, когда вернётесь в вагон и увидите её в большом зеркале над диваном! Не сомневаюсь, что обезьяна в зеркале будет строить своему отражению гнусные рожи!
Лицо Асикага налилось свинцовой бледностью. Отбросив пальцами кончик трости, которым Берг продолжал постукивать его по плечу, японец через силу коротко поклонился:
— Довольно, господин Берг! Довольно — вы добились своего! Где и как вы собираетесь дать мне удовлетворение, господин прапорщик? Я готов получить его немедленно!
— Извольте! — Берг с иронией отвесил глубокий поклон. — Ваш револьвер при вас? Тогда прошу погодить минуту — я сбегаю, возьму свой из багажа! Через платок? Дуло в дуло[67]?
— Мальчишка! — снова презрительно выплюнул Уратаро. — Даже я, «кривоногий азиат из Японии», как вы изволите выражаться, знаю европейские дуэльные правила! При нанесении тяжкого оскорбления выбор оружия и условий поединка принадлежит оскорблённому! А таковым, в нашем случае, являюсь я!
— Безусловно, безусловно, — согласился Берг. — Прошу прощения: я просто предложил данный вариант, исходя из обстоятельств нашей ссоры, места и большого количества людей вокруг. Сомневаюсь, что немцы позволят нам провести полноценный поединок на мечах и даже на саблях — непременно вызовут полицию! Или вы на это и рассчитываете, господин Асикага? Что нам непременно помешают, и вы под шумок скроетесь в своей норе?
— Не кривляйтесь, Берг! Я согласился бы с вами на поединок на пистолетах, но у меня, во-первых, нет револьвера. Во-вторых, честь самурая предполагает поединок на холодном оружии. И если вы оставляете право выбора оружия за мной, то я предпочитаю свою катану. Ваша сабля, надеюсь, в багаже, прапорщик?
— Да, разумеется. Воля ваша — но что же мы станем делать с досужей публикой? Нам ведь и вправду могут помешать — эва, сколько зевак кругом!
— Пойдёмте к дебаркадеру, Берг! Я покажу вам укромное местечко, где нам, при известном старании, никто не помешает…
Ровным шагом, тщательно соблюдая дистанцию между собой, враги направились к поезду. Пассажиры уже занимали места в вагонах, ибо дежурный по вокзалу только что дал первый сигнал колоколом.
— Посмотрите на вагоны, Берг! Каждый из вагонов 1–2 классов заканчивается открытой площадкой, предназначенной для поездного кондуктора? И на каждой площадке, как видите, имеется лестница, ведущая на крышу вагона. Если вы сумеете договориться с нашим кондуктором, дав ему мзду, то мы займём эту площадку, а после отхода поезда легко переберёмся на крышу вагона. Там нам никто не помешает, Берг! Согласны?
Берг кончиком трости сдвинул котелок на затылок, пригляделся к ближайшему вагону, кивнул.
— Вам пришла в голову неплохая идея, господин Асикага! Только вот что: немецкий железнодорожный персонал вряд ли освободит для нас вагонную тормозную площадку. А при кондукторе на крышу не залезешь. Тот непременно поднимет шум, чего доброго, тормоз Вестингауза рванёт, поезд остановит… Давайте немного подождём: на следующей станции, насколько я помню, немецкие кондуктора сменятся нашими, русскими. Россиюшка начнётся со следующей остановки, господин Асикага! Там-то уж я договорюсь! А не договорюсь, так попросимся постоять на площадке, а после станции спихнём упрямца и сделаем своё дело. Ну, как?
— Пусть будет по-вашему, — согласился японец.
— Только вот что, господин Асикага: моя сабля на вершок, пожалуй, длиннее вашей катаны будет. Вас это не смущает?
— Это не имеет для меня никакого значения, Берг. Я смог бы биться с вами и убить вас не только катаной, но и вакидзаси[68].
— Вы излишне самонадеянны, господин самурай! — хмыкнул Берг. — Поглядим ещё. И вот что: поскольку мы будем биться без секундантов, предлагаю заготовить письма, снимающие с противника ответственность за преднамеренное убийство. А перед поединком обменяться ими.
— Согласен.
— Прошу также не забывать, господин Асикага, что главный повод нашей ссоры — ваше намерение скомпрометировать моего друга. Компрометирующие его документы хранятся у вас в стальной шкатулке, я знаю это. Если победителем в нашем поединке окажусь я, то единственное моё требование — уничтожить эти документы. Или передать их мне. В этом случае, согласитесь, мне как-то невместно будет рыться в вашем багаже… Так что захватите, будьте любезны, шкатулочку с собой!
— Вы всерьёз рассчитываете на победу? — усмехнулся Асикага. — Что ж, извольте: для вашего спокойствия я захвачу шкатулку на место нашего боя. И, уверяю, сам же унесу её оттуда! До скорой встречи, господин прапорщик!
Запершись в своём купе, Берг достал саблю, вынул клинок из ножен, позвенел по нему ногтём, оттопырил в задумчивости нижнюю губу.
Так себе клиночек, принялся размышлять Берг, фабричный, самый обыкновенный. И отчего это на Востоке вояки так носятся со своим «холодняком»?
В Туркестане, где Берг воевал, ему приходилось держать в руках трофейные сабли, захваченные в бою или подобранные на полях сражений — в большинстве своём фамильные, персидского происхождения. Клинки таких сабель порой имели довольно причудливую форму для наиболее полного использования всех режуще-колющих возможностей этой разновидности холодного оружия. Неизменным в сабле была более или менее изогнутая форма клинки, односторонняя его заточка, лишь на последних двух вершках острия переходящая в двухстороннюю…
Станционный колокол звякнул три раза, и почти сразу после короткой суеты на вокзальном дебаркадере вагон дёрнулся и покатился.
В сторону России, с радостным предвкушением встречи подумал было Берг — и тут же вспомнил про дуэль, вздохнул. До России ещё доехать нужно — живым-здоровым… А прежде письма написать — «индульгенцию» для противника. И Настеньке, конечно. Мало ли что!
Берг достал из саквояжа письменные принадлежности, наполнил дорожную чернильницу, поправил перо и снова задумался. Двумя письмами, пожалуй, перед таким серьёзным делом, как дуэль, не обойдёшься. Князю Кильдишеву, командиру батальона, непременно надо письменное объяснение представить на крайний, как говорится, случай. И Эномото, разумеется, надо написать — на тот же случай, если лично объясниться возможности не представится. Задачка-с!
О своей возможной смерти Берг, как и всякий понюхавший пороху солдат, рассуждал спокойно, без лишнего пафоса и красивых рассуждений, более подходящих для тыловых шаркунов-трепачей. Ну, отвернётся фортуна от него — значит, судьба у Мишеньки Берга именно такая. Свои шансы на победу в поединке он оценивал, как ему представлялось, весьма объективно, оделяя свою персону меньшей половиной удачи.
Была бы дуэль на револьверах — тут Берг мог и фору противнику дать, стрелял он изрядно. Согласись японец на стрельбу через платок — и то шансы были бы поровну. Как и в том случае, если бы противником был такой же офицер, и у него в руке была бы так ая же сабля, как и у него. Фехтовальщиком Берг был весьма посредственным, и по опыту знал, что настоящих мастеров клинка в русской армейской среде считанные единицы. А тут — катана, оружие хоть и внешне схожее с саблей, но гораздо серьёзнее. Плюс почти незнакомая ему техника боя.
И японская катана двуручная, поставил сам себе ещё одну «запятую» Берг. Японцы держат катану в одной руке, как рассказывал ему Эномото, только в конном сражении. В пешем бою мечом орудуют, держа его двумя руками — стало быть, удар получается более мощным!
Берг без особого труда припомнил основное из рассказов Эномото относительно приёмов владения катаной, одновременно мимоходом пожалев, что интересовался японской школой фехтования поверхностно, наряду, скажем, с чайной церемонией, своеобразной национальной поэзией или культом цветущей сакуры.
Собственно, и фехтованием-то японский поединок на мечах назвать можно было весьма условно. Никаких изящных поз на публику, никаких вольтов и красивых перемещений. Техника катаны, как понял Берг, была максимально практичной и подчинена была одной — единственной цели: как можно скорее лишить противника головы или вообще разрубить пополам. Один, может два удара — вот и весь японский поединок. Стало быть, и Асикага не поступится самурайскими традициями.
Насколько мастерски он владеет своим мечом? Этого Берг не знал. Эномото никогда не говорил о своём соплеменнике и вообще уходил от расспросов на эту тему — то ли это было выражением неприязненной деликатности дипломата, то ли каким-то нравственным табу японца, Берг так и не понял. Однако сейчас солдатский опыт подсказывал ему, что недооценка противника и расчёт на «авось» может сослужить ему плохую, если не пагубную службу. Значит, будем исходить из того, что Асикага — настоящий кэндока[69], решил для себя Берг. И значит, моя главнейшая задача — попытаться уйти от первой серии страшных ударов. И конечно, следить за ногами противника, не забывать того, что японский мастер клинка наносит удар не с шага вперёд, а с приставного. И что отступает не «по-русски» — не назад, а, как ни странно, вперёд и в сторону.
Вздохнув, Берг принялся за письма. Первым адресатом был, разумеется, командир батальона князь Кильдишев. Берг уже решил, что послание Настеньке, прощальную записку для Эномото и предназначенный ему же пакет из Парижа с «мемуарами» сержанта Буффье он вложит в конверт для невесты.
С письмами он успел покончить как раз к прибытию Берлинского экспресса на пограничный полустанок, где сменившая немецкую российская железнодорожная команда пригласила господ пассажиров выйти на дебаркадер. Тяжело сопящий мощный локомотив остался на путях, а маневровая паровая машина укатила короткую сцепку вагонов куда-то в депо, для замены колёсных пар для русской колеи.
К японцу Берг больше не подходил. Противники порознь сделали отметки в своих паспортах у пограничной стражи и прогуливались по скрипучим доскам дебаркадера, прислушиваясь к ставшей привычной железнодорожной суете — гудкам невидимых паровых машин, звяканью сцепных механизмов, коротким трелям свистков кондукторов и поездной обслуги.
По прошествии полутора часов господ пассажиров пригласили занять свои места в вагонах. И Берг сразу же отправился к своему кондуктору — договариваться.
Как и ожидалось, трехрублёвая ассигнация оказалась для мужичка в шинели и с огромными усами а-ля машинист прекрасным убедительным аргументом. Не заподозрив ничего дурного в желании приличного господина прокатиться один-два перегона на свежем воздухе, он легко согласился временно перебраться на тормозную площадку соседнего вагона. Лишь заботливо предупредив, что копоть из паровозной трубы может попортить господскую одёжку, и в первую голову — его белоснежную манишку.
— Вы, господин хороший, прямо чичас, на станции на площадку ко мне забирайтесь, — наставлял усач. — А как поезд тронется, и вокзальное начальство видеть не будет, я сейчас соскочу на тую сторону, и к Прохору, на площадку следующего вагона запрыгну. Только вы уж, ваша милость, не подведите! Колесо это тормозное не трогайте! Перегон невелик, часа полного до следующей станции не проедём. Полного хода машинист тут никогда не даёт, так что и экстренного торможения, Бог даст, не понадобится. А потребуется, так мы с Прохором вдвоём на евонное колесо наляжем! Ничо, не впервой!
— Только я с товарищем прокатиться хочу, милейший! — предупредил Берг. — Сейчас вот шампанского захватим, да кой-чего ещё — и подойдём.
— Да хоть с двумя товарищами! — благодушно махнул рукой усач. — Порожних бутылок только, господа хорошие, не запуливайте по обходчикам да переездным сторожам. А то случается, знаете ли. Неприятность из этого может произойти, Богом прошу!
Уверив кондуктора, что честь офицера никак не совместима с пьяным дебошем на тормозной площадке, Берг направился к своему купе за саблей, попутно кивнув японцу: всё, мол, в порядке!
Благодушия у железнодорожного усача чуть поубавилось, когда через несколько минут на его тормозную площадку забрался давешний пассажир в статском, а с ним — явный китаец. Причём одет был азиат в чудную одежду бабского толка — что-то вроде длинной серой пижамной куртки с широченными рукавами. Штанов на китайце не было — ниже подола «пижамы» белели лишь не менее чудные носки, каких и бабы-то не носят — с отдельно вывязанным большим пальцем. Обут азиат был в какие-то невнятные шлёпанцы с раздвоенным ремешком. Не заметил усач и шампанского — вместо погребца либо характерно позвякивающего саквояжа у мужчин были какие-то длинные свёртки, обёрнутые тканью. Кроме этого, у китаёзы в руках был ещё небольшой ящичек, также обёрнутый тканью. «Набитый» взгляд русского человека тут же позволил кондуктору сделать вывод о том, что бутылка шампанского в такой ящичек нипочём не поместится. Разве что фляжка какая… Впрочем, какое ему дело до господских предпочтений?
— Прощения просим, конечно, — забормотал железнодорожный усач, обшаривая глазами то подозрительные свёртки, то китайца. — А из какой посуды господа хорошие шампанское пить станут? Может, в буфетную сбегать, там бокалы спросить?
— Я и сам хотел попросить об этом, любезный! — Берг ловко сунул кондуктору ещё рублёвку. — Сбегай-ка в вокзал, спроси!
Проводив глазами усача, Берг повернулся к японцу:
— И надо же вам внимание к себе привлекать, господин Асикага! Чем вас европейский костюм не устраивал? Сейчас сюда полвокзала сбежится вашим экзотическим кимоно полюбоваться, да голыми ногами… Да и прохладно вам в кимоно на ветру будет, полагаю…
— Не надо обо мне беспокоиться, прапорщик! — процедил Асикага. — Лучше скажите, зачем вы за бокалами этого мужлана послали? Что мы с ними делать будет?
— Важен не бокал, а повод всучить мужичку лишнюю денежку, — возразил Берг. — А-а, вот и наш благодетель! Как тебя зовут-то, благодетель?
— Трофимом мать с отцом нарекли, — усач подал Бергу небольшую звякнувшую корзинку, накрытую чистой салфеткой. — Я извиняюсь, конечно, за любопытство — а что у господ в тряпки замотано? Потому как железная дорога и забота о подвижном составе…
— А-а, это клюшки для гольфа, любезный! — пренебрежительно махнул рукой Берг. — Игра такая, вроде лапты, неужели не знаешь?
— Ага, для лапты, — кондуктор ещё раз обшарил глазами свёртки, потоптался на дебаркадере и полез на площадку. — Три раза звякнули, счас отправимся. Значить, как до конца дебаркадера проедем, я соскочу, да и к Прохору. С посудой поаккуратнее, честью прошу, господа!
Состав дёрнулся, лязгнул сцепкой. Усач Трофим, стоя на подножке, выставил разрешающий сигнальный флажок. Когда вагон проплыл мимо дежурного по вокзалу, Трофим спрыгнул, козырнул чудным пассажирам и крикнул:
— Так что счастливо оставаться, господа хорошие! Бутылок не кидайте только в сторожей на путях!
Когда последние станционные постройки остались позади, Берг, свесившись на поручнях, глянул в обе стороны и, удовлетворённый, с силой пошатал рукой металлическую лестницу, ведущую на крышу, повернулся к японцу:
— Ну-с, господин Асикага, вот вам моё письмо властям — на случай крайнего для меня исхода, как говорится. Позвольте ваше — чтобы тела, ежели что, не обшаривать. Ага, есть. Ну, я тогда вперёд, с вашего позволения, полезу. Оружие наше подадите потом, не сочтите уж за труд!
Берг легко вскарабкался на крышу, принял из рук японца свою саблю и его катану, отошёл подальше от края и осторожно распрямился в полный рост. Железная крыша вагона, вся в кругляшках заклёпок, была покатой в гораздо большей степени, нежели казалось снизу. И к тому же довольно скользкой после недавней помывки в депо. Вдоль всего вагона, в два ряда, крыша была оснащена выходами коротких труб, прикрытыми сверху грибовидными колпачками. На дальнем конце крыши виднелись две трубы подлиннее — из одной курился лёгкий дымок. Относительно ровная «дорожка» по центру крыши была во множестве усеяна крышками лючков — очевидно, для доступа железнодорожной обслуги и ремонтников.
Вагон на ходу основательно пошатывало, и Берг тут же сделал ещё одно весьма неприятное открытие: это было далеко не то мягкое покачивание, едва ощутимое в купе первого класса. К тому же там, внизу, от толчков и силы инерции на поворотах рельсового пути можно было легко предохраниться, опершись на мягкую обшивку стенок или ухватившись за многочисленные поручни, нарочно предусмотренные для удобства господ пассажиров. Здесь, наверху, хвататься при резком толчке на стрелке или при торможении состава, было просто не за что…
Нет чтобы мне, дураку, туфли для лаунт-тенниса на каучуке надеть, подосадовал Берг, шоркая ногой по железному скату. Впрочем, япончик мой и вовсе на каких-то деревяшках стоит… М-да, вот ведь канцелярия какая нарисовалась — нарочно и не придумать! Единственная ровная площадка узкая вдоль вагона — и та вся в лючках! С дурацкими ручками в виде скоб. Забудешь вниз глянуть — и споткнёшься непременно, рухнешь на одну из этих вентиляционных труб. Не башку расшибёшь, так рёбра поломаешь…
— Позвольте! — японец, чуть задев Берга, проскользнул мимо него, на ходу взяв у противника свою обёрнутую шёлковой тканью катану.
Тяжёлую шкатулку, с которой он так и не расстался даже при подъёме на крышу, Асикага бережно уложил на железную крышу. А чтобы та не соскользнула вниз при толчке или при неловком движении, прикрепил её к скобе лючка концом ткани. Освобождённый таким же манером меч Асикага привычно засунул за пояс кимоно, дёрнул за неприметную ленточку у ворота, отчего полоскавшие на ветру широкие рукава подтянулись к плечам и стали гораздо уже.
— Ключик не забудьте снять, господин дуэлянт! — напомнил Берг. — Не приведи господи, свалитесь с крыши — что мне тогда делать?
— Я готов, господин прапорщик! — Асикага сдернул с шеи цепочку с ключом, набросил её на ближайшую вентиляционную трубу, с достоинством поклонился и выпрямился, непринуждённо стоя на чуть расставленных ногах и словно не замечая раскачивания набирающего ход поезда.
Поморщившись от клуба дыма, вдруг нанесённого ветром от паровоза, Берг кивнул, расстегнул и бросил в сторону сюртук, следом за ним ножны сабли, натянул тонкие кожаные перчатки. Не удержавшись, он коротко отсалютовал противнику поднятым клинком и встал в позу фехтовальщика: правая нога с вывернутой наружу ступней впереди, левая чуть согнута в колене.
— Какой сигнал выберем? — крикнул он, переждав длинный гудок локомотива.
Асикага чуть пожал плечами, крикнул в ответ:
— Следующий гудок!
* * *
Титулярный советник Павел Родионович Павлишин, занимавший вместе с супругой купе второго класса в вагоне № 2, осторожно покосился на свою благоверную и, словно нечаянно, откинул крышку дорожного погребца. Предупреждая готовую сорваться с уст супруги резкую реплику, кивнул на окно:
— А ты не видела, мамочка моя, не возвращался к себе в купе этот молодой господин с офицерской выправкой? Я, сколько смотрел, не видал! С китаёзой этим, из первого купе, перед самым отправлением как прошли по дебаркадеру куда-то назад, так и всё! Неужели отстали? Как ты полагаешь, мамочка?
Супруга мельком взглянула на толстое стекло, словно ожидая увидеть там спешащего в своё купе симпатичного офицера, и скептически уставилась на бокал в руке мужа, уже наполненный живительной влагой.
— Я другое вижу, Павел: ты никогда не остановишься! И к чему, спрашивается, назюкиваться опять? Ты же в вокзале две рюмки выпил — вот и довольно! Поставь настойку обратно, слышишь?!
— Как же я поставлю, мамочка, ежели оно непременно разольётся? — резонно возразил супруг, поднося бокал к губам. — И обратно в графин не сольёшь, вишь, как качает! Обивка погребца потратится, мамочка!
— Бережливый какой! — фыркнула супруга. — Ты бы лучше утробу свою ненасытную поберёг — льёшь и льёшь в неё кажную минуту. И как она лезет в тебя только… Закуси хоть, осоловеешь ведь! Баранку хоть возьми, горе моё! Опять башку свою расшибёшь, как третьего дня!
Павлишин опрокинул бокал в себя, отдышался, покрутил головой:
— Тебя послушать, мамочка моя, так ни за что не поверишь, что в Смоленском заканчивала курсы! Какие выражения я от тебя слышу — «утроба», «башка»… Нешто таким словам на благородных ваших курсах барышень учили, мамочка?
— Ты поговори ещё мне, пьяница несчастный! Поживи с тобой, так не такому выучишься! Закрой погребец, иди сюда! Сядь у окна и прижми седалище своё! И до самой Варшавы чтобы и глядеть в ту сторону не смел, понял?
— Понял, мамочка! — Павел Родионович по тону супруги понял, что сейчас раздражать её не стоит. Пусть посидит, успокоится — глядишь, и задремлет…
Супруги молча глядели в окно, за которым мелькали обычные железнодорожные картины. Деревья, луга, далёкие белые хутора с пасущимися неподалёку пёстрыми коровами. Мягко поскрипывали рессоры вагона, колёса пели свою монотонную стукотливую песню: так-таки-таки-таки-так!
Настороженно поглядывая на супругу — не уснула ли наконец? — Павлишин и сам чуть было не погрузился в дрёму. Однако громкий необычный металлический стук над головой быстро вывел его из объятий Морфея. Недоуменно покосившись на потолок — и кто там мог топотать на полном ходу поезда? — чиновник снова было прижал затылок к подушечке-думке, прикрыл глаза… Ан нет — наверху опять что-то основательно громыхнуло, будто мешок картошки в пустой ящик кто-то с размаху ссадил. И крик послышался — явный, человеческий крик.
— Мамочка моя! Софочка — ты слыхала? — Павлишин испуганно затормошил дремавшую супругу. — Там, наверху, кто-то есть! Может, разбойники дорожные забрались? Помнишь, Ольга Николаевна рассказывала про страшное приключение в Италии?
Софочка свирепо глянула на мужа:
— Какие разбойники? Господи, покоя от этого пропойцы нету нигде! Пить меньше надобно, горе моё! Только ведь задремала — будит!
— Но я ведь явственно слышал! — настаивал Павлишин, вскочив и напряжённо прислушиваясь. — Там, наверху!
Однако шума больше не было. Погодя несколько мгновений, супруга снова с остервенением накинулась на Павла Родионовича. Свой монолог она закончила тем, что схватила дорожный погребец с запасами спиртного и торжествующе заткнула его под подушки, за свою широкую спину.
Приунывший супруг — делать-то нечего! — опять уткнулся в опостылевшее за время путешествия окно, прикидывая так и эдак. Нешто и вправду померещилось?
Глаза Павлишина сонно глядели на мелькающие деревья, как вдруг что-то тёмное капнуло и размазалось по стеклу короткой дорожкой. Потом рядом с первой каплей появилась вторая, с тонким выгнутым хвостиком… И наконец, стекло перечеркнула рваная струйка — чиновник теперь явственно видел! — крови…
Совсем по-дамски визжал титулярный советник Павлишин, тыча негнущимся пальцем в оконное стекло вагона, постепенно заливаемоё кровью. Не дожидаясь согласия супруги, дёрнул за сонетку вызова проводника так, что шнур где-то оборвался. А когда в коридорную дверь просунулась настороженная физиономия, увенчанная форменной фуражкой, только и показал молча рукой. Приглядевшись, физиономия раскрыла глаза до неестественных пределов, исчезла, и тут же одновременно с ужасающим скрипом металла о металл вагон резко качнуло вперёд. Поезд экстренно останавливался.
…Время для противников словно остановилось, оба напряжённо ждали условного сигнала к началу боя. Асикага по-прежнему не вынимал катану из-за пояса, лишь положил на рукоятку обе ладони. Берг, стоящий лицом по ходу поезда и щуря глаза от налетавших временами клубов дыма, тоже взялся за саблю обеими руками. Только иначе — в нарушение всех фехтовальных традиций, обхватив левой рукой клинок у его вершины.
А локомотив, до сей поры гудевший едва ли не ежеминутно, всё молчал. Углядев, что блестящая нитка рельсового пути впереди паровой машины плавно поворачивает, Берг предупредил противника:
— Осторожнее, сейчас будет поворот!
И тут же заметил упругую белую струю пара, вырвавшуюся из чёрной паровозной трубы. Он увидел гудок мгновением прежде, чем услыхал его — возможно, именно это спасло Берга.
Гудок словно переключил время с тяжкого ожидания на непостижимую воображением быстроту. С первым его аккордом Асикага молниеносно вырвал свой меч из-за пояса и из ножен одновременно и без замаха нанёс Бергу слева рубящий удар в горизонтальной плоскости. Катана ударила по основанию сабли, которую Берг держал обеими руками, со страшной силой, едва не выбив оружие. Удар был настолько мощным, что острие меча коснулось шеи офицера.
Не успев сообразить, ранен он или нет, Берг уже видел, как тяжёлый клинок противника, словно вопреки физическим законам, остановился у его лица и тут же стал возноситься вверх, для завершающего удара. Какой-то первобытный инстинкт бросил молодого офицера не назад, не вбок — а под ноги противника, в то самое мгновение, когда сердито жужжащий меч распорол воздух за его спиной.
Перекатившись вперёд и вбок, Берг спешно поднимался на ноги, с отчаянием констатируя, что противник намного быстрее его. Что он просто не успеет отразить третий удар. Асикага, по-кошачьи извернувшись, уже почти нанёс этот удар. Клинок летел к левому боку поднимающегося на ноги противника…
Берг одной рукой попытался защититься от удара саблей — с таким же успехом он мог подставить под тяжёлый меч лёгкую тросточку. Катана легко отбросила сабельный клинок и ударила по левой руке Берга — и одновременно сам Асикага получил страшный и неожиданный для него удар крылом семафора[70], мимо которого в тот момент промчался поезд.
На глазах Берга тело японца с наполовину оторванной головой с сучащими ногами было отброшено на самый край крыши вагона, перекатилось пару раз по инерции и свалилось вниз.
Всё было кончено. А поезд продолжал мчаться вперёд…
Последний удар бросил почти поднявшегося на ноги Берга на железную поверхность. Он потряс головой, пытаясь прогнать звон в ушах, и вновь попытался подняться, опираясь на здоровую руку с обломком сабли. В раненую левую руку боль вошла только сейчас — жгучая, тянущая, застилающая глаза кровавой пеленой. Берг попытался поднять её, чтобы осмотреть рану, — а рука ниже локтя вдруг повисла, согнувшись в неестественном положении. Она была практически отрублена, и держалась лишь на клочке кожи, да на ткани сорочки.
Плохо дело, успел подумать Берг. Вполголоса подвывая от боли, он высвободил кисть правой руки из петли темляка[71], отрезал обломком сабли кусок ремня и попытался перетянуть руку выше страшной раны. Ухватив один конец ремня зубами, он тут же ощутил горячую струйку, вылетавшую у него из глубокой раны на шее. Зажав её рукой, Берг совсем близко увидел шкатулку японца. Потянулся к ней, отчего кровь снова рванула из шейной раны тугой струёй.
Он подтащил к себе шкатулку, поискал глазами ключ — ага, вот он, в двух шагах! Берг попытался ползти, однако зацепился за что-то полуотрубленной левой рукой — и от вспышки боли потерял сознание.
Сила инерции от начавшего тормозить через несколько минут поезда не сбросила Берга с крыши только потому, что тело его лежало пластом, чуть наискосок, зацепившись за вентиляционные трубы. Он не почувствовал этого. Не услышал немного погодя перебранку железнодорожного персонала, как его окликали… Не почувствовал, как усатый тормозной кондуктор Трофим, распекаемый старшим, подобрался к нему на четвереньках, попытался повернуть на спину. И тут, увидя обрубок руки, упал в обморок рядом с ним.
Очнулся Берг тоже, как ни странно, от боли — его пытались переложить на появившиеся рядом носилки. Пытаясь сморгнуть застилавшую глаза пелену, офицер слепо зашарил вокруг здоровой рукой, ища шкатулку.
— Шевелится! Живой, стало быть! — донеслось до него откуда-то издали, словно через вату.
— Тю-ю, «живой»! — скептически отозвался другой голос. — Ты погляди, сколь кровишши, полкрыши залито! Не жилец, нет!
— Шкатулку дайте! — прошептал Берг, продолжая шарить рукой. — Иначе… Иначе всё было напрасно… Шкатулку!
— Чего он бормочет?
— Шкатулку какую-то требывает… Эту, должно! Господи, одной ногой на тот свет снарядился, а туда же, за цацки свои цепляется…
— Дайте мне… дайте шкатулку, в руку…
— Да вот она, вот она, господин хороший! Держи! Не мешай тока, для Бога! Потерпи, дай тя на носилки определить! Ну, народ!
Вцепившись в шкатулку, Берг снова потерял сознание. И уже не слышал, как случившийся в соседнем вагоне доктор из Варшавы сердито распекал железнодорожный персонал за медлительность. Бегло осмотрев раненого, он потребовал немедленной доставки его в больничный стационар. Властный тон доктора оказал на старшего кондуктора магическое действие: он распорядился перенести носилки с раненым в угольный тендер локомотива. Туда же забрался со своим саквояжем и доктор, а кондуктор, приказав машинисту отцепить вагоны, поместился с зажжённым красным фонарём на крохотной площадке над передней решёткою паровоза.
Высыпавшие из вагонов пассажиры с живостью обсуждали происшествие, высказывая различные догадки насчёт того, что же всё-таки произошло на крыше вагона. Если пьяная офицерская дуэль — то где же, позвольте, второй участник? Его не было ни на крыше, ни на железнодорожном полотне позади состава, куда уже успели пробежаться кондуктора. И почему тогда на крыше обнаружен только один сброшенный сюртук? Попытка самоубийства? Тогда откуда, позвольте, взялась вторая сабля столь необычного вида и практически без эфеса?
Ответ на эти вопросы знали, пожалуй, только двое — усатый тормозной кондуктор Трофим, да пассажир того же вагона, титулярный советник Павлишин, видевший, как офицер ещё на станции шёл с чуднó одетым пассажиром китайского обличья. Однако первый благоразумно помалкивал, а второй, увидавши обрубок руки и посиневшую кисть, висевшую как тряпка, живо и без малейших возражений со стороны супруги выдул, не прибегая к бокалу, все наличные запасы спиртного из погребца и спал тяжёлым пьяным сном.
Опоясавшись тучей пара, локомотив тронулся с места и, набирая скорость, ринулся вперёд. Кондуктор знал, что они на «зелёной улице», однако из предосторожности всё время размахивал красным фонарём и поминутно, перегнувшись, грозил машинисту кулаком: сигнал, сигнал подавай! Вот локомотив и ревел почти беспрерывно, на предельной скорости мчась к Варшаве.
Доктор только морщился от непрерывных гудков, дополняемых на тендере рёвом пламени из топки и матерными понуканиями, которые машинист в изобилии адресовал изнемогающему кочегару. Потом, много времени спустя, этот доктор рискнёт написать в «Ланцет» научно обоснованную статью о пользе шума. В ней будет утверждаться, что только непрерывное общение, равно как и постоянный громкий шум, способны удержать находящегося в шоковом состоянии пациента в сознании и, стало быть, по эту сторону жизни…
Глава тринадцатая
— Тысяча извинений, ваше сиятельство, — возникший в дверях кабинета министра порученец-делопроизводитель всем своим видом выражал раскаяние оттого, что помешал канцлеру Горчакову в часы его работы над документами.
Горчаков, оторвавшись от бумаг, резко вскинул голову, готовясь распечь нерадивого. Однако порученец, углядев за сверкнувшими линзами круглых очков недобрый прищур, успел выпалить:
— Только что прибыл генерал-адъютант Потапов. Его высокопревосходительство уверяет, что имеет к вам срочнейшее и деликатнейшее дело. Я пытался внушить его высокопревосходительству, что в эти часы вас совершенно невозможно беспокоить, однако он настаивает. Прикажете… отказать? Или принять?
Нахмуренные было брови Горчакова в изумлении поднялись домиком.
— Потапов? Александр Львович? Собственной персоной?
Генерал от кавалерии Потапов, исполнявший должности шефа корпуса жандармов и главного начальника Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, был широко известен в Петербурге того времени как человек со странностями. После смерти жены он был подвержен резким перепадам настроения, быстрым переходам от глубочайшей меланхолии к безудержному веселью. Злые языки утверждали, что генерал-адъютант Потапов уже в ту пору страдал разжижением мозга[72]. Утверждалось также, что товарищи[73] шефа жандармов граф Левашов и генерал-лейтенант Селиверстов были им подобраны по своему же образу и подобию. Как и их начальник, оба отличались малообъяснимым порой самодурством и невоздержанностью характеров.
Неожиданный визит мог означать что угодно — от объявления об аресте сотрудника внешнеполитического ведомства до прошения посредничества в деле о разводе польской графини Тышкевич[74]. Отказывать в аудиенции всесильному генералу от кавалерии, только что пожалованному Александром II званием генерал-адъютанта, не следовало. С сожалением глянув на неразобранные папки с документами, Горчаков кивнул порученцу, проворно выкатился из-за массивного стола и встретил необычного посетителя посреди своего рабочего кабинета.
— Вот уж кого нынче не ожидал, так это вас, Александр Львович! Сюрприз, сюрприз, ничего не скажешь! Не угодно ли вот сюда, к окну? Многие уверяют, что здешние кресла самые покойные во всём моём министерстве!
— Желаю здравствовать, ваше сиятельство! Благодарствую, покой — это то, чего нам с вами постоянно не хватает, не так ли, Александр Михайлович? Впрочем, не буду долго витийствовать и философствовать — поберегу ваше и своё время, ваше сиятельство.
Усевшись в глубокое кресло, шеф жандармов немедленно пристроил на столике под рукой толстую папку чёрной кожи, и даже раскрыл её, однако заговорил, не заглядывая в бумаги и уперев в собеседника пристальный взгляд белёсых маловыразительных глаз:
— Позвольте, ваше сиятельство, осведомиться для начала о ходе переговоров подведомственного МИДу Азиатского департамента с японским посланником…
Брови Горчакова, успевшие было благодушно опуститься, снова поползли вверх, однако теперь между ними обозначилась вертикальная морщинка, означавшее недоумение и даже некоторое раздражение светлейшего князя. Настойчивое стремление генерала от кавалерии Потапова постоянно быть в курсе всех государственных дел переходило порой всякие границы.
— Помилосердствуйте, господин генерал! Неужто в вашем ведомстве мало своих забот и печалей?
— Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство: на ваши прерогативы я покушаться не намерен! И лишь хотел поставить вас в известность о деле, могущем иметь к упомянутым переговорам с японским посланником прямое отношение, — Потапов пошуршал бумагами в чёрной раскрытой папке и одну из них отложил в сторонку. — Третьего дня в полосе отчуждения железнодорожной колеи между западной границей Российской империи и Варшавой, было обнаружено тело человека без признаков жизни. Дознание, проведённое чинами Жандармско-полицейского управления Варшавской железной дороги, позволило установить личность погибшего. Им оказался секретарь японского посольства в Санкт-Петербурге господин Асикага.
— Асикага Томео? Мне знакомо это имя… Хотя непосредственного участия в переговорах господин Асикага не принимал… А отчего же он помер, господин генерал?
— Непосредственной причиной смерти, по мнению производившего посмертное вскрытие тела доктора, послужил сильнейший удар, полученный бедолагой в область шеи и затылка. Японец был сброшен с поезда опущенным крылом семафора. Ну и при падении за землю получил множественные повреждения в виде ушибов и переломов.
— Позвольте, Александр Львович! Какой семафор? — Горчаков позволил себе криво улыбнуться. — Даже если высунуться из окна железнодорожного вагона насколько возможно, вряд ли дотянешься до семафора!
— С вашего позволения, я закончу, ваше сиятельство! Японский дипломат был сброшен с крыши поезда крылом семафора во время дуэльного поединка с русским офицером-сапёром, неким Бергом. Видимо, противники увлеклись схваткой и не заметили, что мчащийся вагон проезжает под семафором. И вот результат!
— Берг, вы говорите? Час от часу не легче! Уж не близкий ли родственник наместника государя в Привислинском крае фон Берга[75]?
— К счастью, не родственник. Просто однофамилец, хоть и тоже фон, я навёл справки, ваше сиятельство.
— Ваша уверенность меня пугает, господин генерал! Отчего вы убеждены, что на крыше поезда имел место дуэльный поединок?
— Это выводы дознания, ваше сиятельство! Выводы, подкреплённые найденными доказательствами. На теле этого вашего японца, например, было найдено письмо прапорщика фон Берга с обычными для дуэлянтов объяснениями и просьбою не винить противника. Подобными записками обмениваются дуэлянты, лишённые по каким-то обстоятельствам секундантов. А в багаже офицера-сапёра, оставшемся в вагоне, обнаружены также письма, адресованные командиру Сапёрного лейб-гвардии батальона князю Кильдишеву и некоей девице. По всей вероятности, невесте Берга.
— Значит, у дознания сомнений в дуэльном поединке нет?
— Какие же могут быть сомнения, ваше сиятельство!
— Хм… Скандал! Это будет настоящий международный скандал, господин генерал! Какое мальчишество! Забраться на крышу поезда и устроить там дуэль, да ещё с дипломатом, находящимся под защитой иммунитета! Этот Берг, надеюсь, арестован?
— Нет, ваше сиятельство. Он исчез.
— В каком смысле — исчез? От ваших жандармов? Извините, генерал, не верю!
— Позвольте, ваше сиятельство, ещё немного злоупотребить толикой вашего времени и изложить вам последовательность сих печальных событий! По меньшей мере, это избавит нас с вами от вполне очевидных вопросов, Александр Михайлович!
Наклонив голову, Горчаков впился в лицо собеседника пристальным взглядом.
— Простите великодушно, господин генерал. Разумеется, не имея перед глазами целостной картины происходящего, я задаю вам глупейшие вопросы. Итак, я вас внимательно слушаю!
— Благодарю, ваше сиятельство! Итак, ежели восстанавливать хронологию сих печальных событий, то начать следует, видимо, с экстренной остановки железнодорожного экспресса Берлин — Петербург. Эта остановка была произведена по причине тревоги, поднятой господами пассажирами вагона номер два. Поначалу их насторожили грохот и крики, доносящиеся сверху, с крыши вагона. А затем вагонное окно было буквально залито кровью. Один из пассажиров сообщил явившемуся главному кондуктору о каком-то происшествии, имеющем быть на крыше. Железнодорожные чины, отправившись туда после остановки поезда, обнаружили на крыше вагона № 2 истекающего кровью молодого человека с наполовину отрубленной рукой, а также иные следы имевшей место схватки. Посланные по колее дороги нижние железнодорожные чины поначалу не обнаружили никаких признаков второго тела. Однако, спустя некоторое время, сопоставив время поднятия тревоги и путь экспресса до начала торможения, зона поиска была увеличена. И тело вашего, как его… Да, Асикага, спасибо — тело господина Асикага было обнаружено.
— Каким же образом смог исчезнуть тяжелораненый Берг, господин генерал?
— Среди пассажиров Берлинского экспресса, на счастье раненого, оказался некий доктор медицины. Увидев, что Берг истекает кровью, он потребовал экстренной доставки его в больницу. Для чего и был использован паровоз. В сопровождении доктора раненый был перенесён туда и отправлен в Варшаву. Оттуда к месту происшествия вскоре выехали чины железнодорожной полиции, поставленные в известность о происшествии главным кондуктором поезда. После опроса пассажиров, а также ввиду выражаемого ими недовольства непредвиденной задержкой, экспресс был отправлен по дальнейшему маршруту.
— А что же с Бергом?
— В суматохе никто не удосужился узнать имя доктора, сопровождавшего раненого. И таким образом, его следы были потеряны. Поставленный в известность с большим опозданием, обер-полицмейстер Варшавы дал распоряжение о проверке всех больниц этого города. Также были опрошены все частнопрактикующие врачи, однако и Берг, и этот доктор, подававший ему первую помощь, как сквозь землю провалились, ваше сиятельство!
— Скверная история, — Горчаков снял очки и принялся полировать овальные стёклышки кусочком замши. — Весьма скверная! Полагаю, что нужно поставить в известность о случившемся Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии, господина Эномото. А там и нота протеста непременно последует. Дойдёт до государя… Кстати, господин генерал, наш государь чрезвычайно расположен к господину Эномото… И я не сомневаюсь, что он потребует скорейшего и тщательнейшего расследования этого международного скандала.
— Теперь вы понимаете, ваше сиятельство, почему я в начале нашего разговора поинтересовался ходом переговоров с японцами?
— Да-да, конечно, — канцлер обеими руками надел очки, бросил взгляд на Потапова и развёл руками. — Трудно судить, насколько сей скандал повлияет на суть переговоров с японской стороной. Во всяком случае, поводов для затягивания переговорного процесса у господина Эномото теперь прибавится… Скажите, господин генерал, вот вы упомянули письма, оставленные Бергом своему командиру и некоей девице. Эти письма доставлены по назначению? Не могут ли они пролить свет на причины этого дурацкого поединка? Какова была природа ссоры? Кто был зачинщиком, по крайней мере?
— Ваша деликатность делает вам честь, ваше сиятельство! К жандармскому дознавателю попало лишь короткое письмо, адресованное командиру Сапёрного батальона князю Кильдишеву. В нём сообщалось о задетой чести офицера-гвардейца, и что он, Берг, не мог поступить иначе. Что же касается письма, адресованного девице, то дознаватель узнал о нём лишь со слов свидетелей-пассажиров. Они утверждают, что перед отправкой раненого в Варшаву тот очнулся и умолял доктора непременно захватить пакет для дамы и некую шкатулку. Чтобы успокоить раненого, доктор захватил с собой и пакет для дамы, и шкатулку.
— Скверная история! — повторил Горчаков. — Господин генерал, никоим образом не покушаясь на ваши прерогативы, позволю всё ж высказать одну мыслишку. Написав перед дуэлью даме своего сердца, господин гвардеец, по логике бытия, непременно даст ей о себе знать и после ранения. И тут мы можем узнать все подробности.
— Вам бы в жандармы, ваше сиятельство! — похвалил Потапов, улыбнувшись углом тонкогубого рта. — Здраво мыслите! На опережение, как у нас говорят. Да вот незадача, светлейший: согласно показаниям свидетелей, раны господина Берга столь тяжёлы, что вряд ли дама его сердца дождётся его следующего письмеца! Я, кажется, упоминал про наполовину отрубленную руку? К тому же по свидетельству очевидцев, крыша вагона после поединка была настолько залита кровью, что её количества хватило бы на несколько человек!
— Так, может, стоит поискать Берга среди мёртвых, господин генерал?
— Такие способы вполне в компетенции жандармской железнодорожной полиции, ваша светлость, — сухо перебил собеседника Потапов. — Варшавская полиция ищет Берга не только среди живых, но и средь мёртвых!
— Понятно. Благодарю вас, генерал! А что князь Кильдишев? Он поставлен в известность?
— Разумеется, ваша светлость. Полковник Кильдишев обещал провести по данному печальному факту собственное строжайшее расследование, а о его результатах сообщить полицейским властям. Однако, — «лошадиный генерал» замялся. — Однако, в силу давней неприязни господ армейских офицеров к жандармам, вряд ли можно рассчитывать в полной мере на сотрудничество полковника Кильдишева. Полицейских дознавателей, к примеру, просто не допустили в казармы батальона, где они намеревались допросить друзей прапорщика Берга. Обращение за содействием к командиру батальона результатов не принесло: Кильдишев в резкой форме заявил мне, что полицейским ищейкам в казармах делать нечего, а всё, что он посчитает нужным сообщить, будет со временем сообщено…
— Много на себя берут эти господа гвардейцы элитных полков! — не выдержав, сорвался Горчаков, вскакивая из кресла и начав кружить по кабинету. Его гнев, растерянность и беспокойство нашли, казалось, единственный на сию минуту выход. — Надо же! Р-распустили своих офицеров донельзя! Раскатываются по заграницам, позволяют себе дикие мальчишеские выходки, устраивают дуэли с аккредитованными в России дипломатами… И это в то время, когда Россия ведёт сложнейшие и архиважные переговоры с японской стороной по территориальным вопросам, имеющим первостепенное значение! А потом господа командиры ещё и пыжатся, надувают щёки и отказываются от сотрудничества с полицейскими властями, пытаются прикрыть грязные делишки своих офицеров!
Сделав несколько кругов по кабинету, канцлер внезапно остановился перед Потаповым:
— Господин генерал! Я немедленно отправляюсь к государю, чтобы поставить его в известность об этом случае, который, скорее всего, осложнит надлежащее исполнение нашей политики на Дальнем Востоке. Я надеюсь… Я прошу вас, Александр Львович, ехать вместе со мной: государю могут понадобиться подробности розыска — а кто лучше вас нынче сможет ответить на эти вопросы? И эти возмутительные подробности про полковника Кильдишева! Словом, я просто прошу вас!
— Извольте, князь, — Потапов начал собирать в бювар бумаги. — Извольте, я готов!
— Благодарю, генерал! — Горчаков бешено затряс колокольчиком. — Мой экипаж к подъезду, духом! Нет, каковы эти господа гвардейцы! Ну, погодите, погодите! Прошу вас следовать за мной, Александр Львович!
Умащиваясь в карете рядом с продолжающим кипятиться министром иностранных дел, осторожный шеф жандармов всё же счёл нужным предупредить:
— Хочу предостеречь вас, ваше сиятельство, относительно князя Кильдишева. Целиком и полностью разделяя ваше возмущение, всё же должен заметить… Вы, как человек партикулярный…
— Какого чёрта, генерал! При чём тут партикулярность?
— Вот-вот, ваше сиятельство! А между тем Сапёрный лейб-гвардии батальон, коим нынче командует полковник Кильдишев, на особом счёту-с у государя императора! Сапёры — предмет особого расположения и приязни его величества! И чрезмерный накал страстей, овладевший вами, вполне может быть понят государем превратно-с!
— О чём вы, господин генерал? Его величество чрезвычайно расположен и к японскому посланнику, господину Эномото! Государь изволит по меньшей мере дважды в неделю приглашать посланника на дружеские, семейные чаепития в кругу монаршего семейства — а вот теперь извольте объясняться по поводу нелепой кончины его ближайшего помощника!
— Вот как? Не знал, не знал, — подивился «лошадиный генерал». — Но тем не менее позвольте закончить, ваше сиятельство. Относительно сапёров. У его величества самые тёплые воспоминания относительно солдат этого батальона. Вспомните ту давнюю и страшную историю, ваше сиятельство: Сенатская площадь, восставшие полки. Покойный монарх, Николай Первый, будучи тогда чрезвычайно озабочен судьбой наследника, в то злосчастное утро передал юного Александра Николаевича на попечение солдат именно этого, Сапёрного лейб-гвардии батальона, оставшегося верным присяге[76]. Такое не забывается, Александр Николаевич! Так что прошу и умоляю: не увлекитесь чрезмерно в своих обличениях господ гвардейцев!
* * *
— Ваше сиятельство, господин канцлер! — адъютант, чтобы не унижать кипятящегося перед ним Горчакова своим ростом, даже чуть подогнул ноги в блестящих сапогах-бутылках. — При всём уважении к вашей персоне, аудиенция у его величества нынче никак не возможна!
— Срочнейшее дело государственной важности, милейший! У меня и у генерал-адъютанта Потапова! Доложите государю! Не вынуждайте меня применить силу, наконец!
Применение силы к гренадёрского роста адъютанту в приёмной Александра со стороны тщедушного канцлера, едва достающего собеседнику до локтя, могло выглядеть забавно, однако никому в ту минуту и в голову не пришло веселиться.
— Ваше сиятельство, у меня самые прямые и не допускающие двоякого понимания указания его величества! — прижав для убедительности обе руки к груди, объяснялся адъютант. — В настоящее время у его величества великий князь Константин Александрович. Причём его величество предупредил всех, что сразу после данной аудиенции он с Константином Александровичем отправляется делать визиты прибывшим из Европы родственникам…
— Что ж… Тогда я буду ждать в приёмной до тех пор, пока его величество меня не примет! — заявил Горчаков, тут же демонстративно усаживаясь в кресло и не без усилий закидывая ногу на ногу. Обернувшись к шефу жандармов, он пригласил. — Присаживайтесь и вы, Александр Львович! Будем сидеть и ожидать!
Адъютант впервые позволил себе слегка улыбнуться:
— И совершенно напрасно, ваше сиятельство! Его величество, скорее всего, выйдет из кабинета другим входом-с!
Секунду подумав, Горчаков опять подскочил к адъютанту:
— Но записку! Записку государю — два слова! — вы можете передать? — и, не дожидаясь согласия, канцлер подскочил к столу дежурного офицера, черкнул на бумаге несколько слов и вручил адъютанту. — Прошу вас! Незамедлительно!
Всё ещё сохраняя на лице вежливо-скептическое выражение, офицер исчез за массивными дверями кабинета Александра.
Потапов поглядывал на эти двери с откровенной опаской.
— Может, напрасно вы этак-то, Александр Николаевич… С таким напором к государю… В конце концов, что за дело-то «великое»? Ну, нашли мёртвого азиата в полосе отчуждения. И что? Второй предполагаемый противник исчез яко дым. Кто инициатор ссоры — бог весть. Да и была ли ссора вообще?
В это самое мгновение двери кабинета стремительно распахнулись, и на пороге возник Александр — как обычно, в короткой курточке венгерского образца, единственным украшением которой была скромная меховая оторочка, да обшитые золотой тесьмой петли от пуговиц. Опытный царедворец Горчаков, бросив на Александра короткий взгляд, тут же определил, что явился в недобрый для себя час. Мгновенно мелькнула у канцлера и мысль о том, что, может, и прав осторожный шеф жандармов — не преждевременны ли поднятый им шум и суета? Что не ко времени — это уж точно: государь был явно чём-то расстроен и даже разгневан — скорее всего, беседой с братом, Константином Николаевичем. Однако у сильных мира сего шишки достаются в таких случаях тем, кто поближе.
Как ни скоро просчитывал министр иностранных дел ситуацию, реакция Александра была не менее скоротечной:
— Что сие означает, светлейший? — Александр тряхнул запиской Горчакова и перевёл взгляд выпуклых глаз на шефа жандармов. — «Убит секретарь японского посольства Асикага…» Генерал, ты тоже по этому делу? Ну, что сие означает?
Потапов, стараясь быть как можно более лаконичным, изложил суть дела. Пока он рассказывал, в дверном проёме за Александром возникла фигура Великого князя Константина Николаевича.
— Господин Эномото поставлен о случившемся в известность — едва дослушав Потапова, император перевёл гневный взгляд на Горчакова.
— Пока нет, государь, — развёл руками канцлер. — Узнав эту новость не более чем 30 минут тому назад, я не имел возможности продумать ни форму сообщения, ни возможные политические последствия данного трагического происшествия.
— «Политические последствия»! — перебил Александр. — Почему вы всегда говорите и думаете исключительно о политике, господа? А чувства, а разум людской — входят ли вообще эти категории в круг вашего понимания? Его высокопревосходительство вице-адмирал Эномото Такэаки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России, является, прежде прочего, моим личным другом! Вдали от своей родины, в чужой для него стране он понёс тяжкую утрату: погиб его ближайший друг и коллега. Погиб из-за мальчишества русского офицера. Причём офицера, имеющего честь быть причисленным к батальону, заслуженно пользующемуся моим особым покровительством! Это двойное преступление, господа! Фон Берг — я запомнил это имя — недавно имел дерзость явиться на приём в честь японского посланника под личиной его друга. А нынче, доподлинно зная о моём благоволении к Эномото, дерзнул поднять руку на его ближайшего помощника. Он втоптал в грязь не только доброе имя батальона, но и оскорбил меня, своего государя! Более того: своим мальчишеством Берг поставил всю Россию в крайне сложное положение, подверг опасности её будущее!
Слушая гневную филиппику Александра, Горчаков про себя дивился непостижимости логики сильных мира сего: обвинив его, канцлера, в нежелании или неумении выйти за рамки политических соображений, государь тут же перевёл преступление фон Берга в разряд политических! Однако ни возражать, ни оправдываться не следовало. И Горчаков, всем своим видом изображая позднее раскаяние, лишь вздыхал и сокрушённо качал головой.
— Исходя из обстоятельств сего злодеяния, повелеваю: принять все меры для самого быстрого розыска упомянутого фон Берга, — устало закончил Александр. — Господин генерал, вам даются самые обширные полномочия для объявления в розыск Берга. Константин!
— Слушаю, ваше величество! — немедленно и с готовностью отозвался великий князь.
— Отмени, пожалуйста, все наши сегодняшние визиты. Не до них нынче, право…
— Князь Кильдишев, — вполголоса рискнул напомнить Горчаков. — Без его полного содействия установить друзей и мотивы преступления Берга представляется маловероятным.
— Да, верно… Симеонов, — Александр повернулся к адъютанту. — Соблаговоли послать в Сапёрный лейб-гвардии батальон нарочного. Я ожидаю видеть у себя князя Кильдишева не позднее чем через два часа. Потапов, подробный доклад по делу ты сделаешь мне завтра утром. Привлечь к чрезвычайному розыску обер-полицмейстера Варшавы, полицейские силы и жандармерию всего Привисленского края и Санкт-Петербурга. Надеюсь услышать о том, что Берг схвачен и помещён в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Симеонов, не забудь подготовить высочайший указ об увольнении прапорщика фон Берга из списков личного состава батальона. Князь! А также ты, Потапов: соблаговолите принять меры к тому, чтобы японский посол господин Эномото не узнал о сем трагическом происшествии раньше, чем об этом сообщу ему я! Это мой долг, мой удел, господа… У меня всё!
* * *
Меры чрезвычайного розыска по поводу гибели секретаря японского посольства Асикага, предпринятые уже через час после высочайшего распоряжения Александра, охватили весь Северо-Запад России, губернии царства Польского, Северную столицу России и даже Москву. Спустя два с половиной часа после телеграфного уведомления министра внутренних дел Макова полторы тысячи сыщиков, вздыхая и матерясь, отложили все текущие дела и сосредоточились на этом новом.
— Хлопотнее всего работалось варшавским «наружнякам»: именно там, на вокзале, предстояло найти следы раненого Берга. Ну и конечно, неизвестного доктора медицины, который привёз пациента на тендере паровоза и тут же бесследно исчез вместе с ним.
— Допросили более тридцати извозчиков из числа тех, кто был зарегистрирован на Бирже у Центрального вокзала Варшавы, а также носильщиков и прочий железнодорожный персонал, дежуривший в злополучный день прибытия экстренного паровоза с раненым. Установить здесь удалось немного: как выяснилось, все извозчики, узрев умирающего пассажира, перепачканного кровью с ног до головы, игнорировали призывы не менее окровавленного доктора, и умчались с вокзала, нахлёстывая своих лошадёнок. Носильщики показали, что доктору удалось подрядить для перевозки раненого какого-то сельского возчика — тот либо из милосердия, либо по глупости не успел вовремя исчезнуть с вокзала.
Пришёл черёд вторичного обхода всех больниц Варшавы и её пригородов, а также всех частнопрактикующих докторов. Поляки клялись и божились, что в глаза не видели ни пациента с полуотрубленной рукой, ни неизвестного доктора, его сопровождающего. Сыщики обошли даже нелицензированных повивальных бабок и лишённых практики эскулапов, втайне производящих аборты, — следы раненого пациента, равно как и сельского возчика, увёзшего его с вокзала, так и не были обнаружены.
Полковник Кильдишев, экстренно вызванный к Александру, по прошествии получаса вышел от государя с лицом, покрытым неровными багровыми пятнами. Вернувшись в казармы батальона, князь незамедлительно собрал всех офицеров, раскаты и переливы княжеского баса были на сей раз не столь громогласными, как это бывало обычно. Все отпуска и даже служебные командировки офицеров батальона были отменены до особого распоряжения. С полицейскими властями категорически велено было сотрудничать, и не скрывать ничего, что имело отношение к исчезнувшему прапорщику фон Бергу.
Впрочем, и в армейской среде, среди сослуживцев и друзей прапорщика, розыскной улов был невеликим. Более того, сведения о дружеских узах, связывающих Берга и японского посланника Эномото, окончательно запутали ситуацию. Удалось выяснить, что прапорщика в последнее время беспокоило подавленное настроение его японского друга. По словам сослуживцев Берга, это настроение было каким-то образом связано с секретарём посольства господином Асикага. И именно это вынудило Берга напроситься в команду батальона, выезжавшую в Швейцарию для сопровождения следующих туда на воды офицеров: желая помочь своему японскому другу, он решил проследить за Асикага в Европе.
Пролить свет на ситуацию, без сомнения, мог бы сам вице-адмирал Эномото, однако царский запрет на общение с ним был категорическим и однозначным.
Через армейских друзей Берга полицейское дознание вышло и на его невесту, Настеньку Белецкую. Но и тут сыщиков ждало разочарование: последнего письма она не получала, Берг лишь сообщил наречённой невесте о своей поездке в Швейцарию. О дружбе жениха и японского посланника девица Белецкая тоже знала в самых общих чертах.
Круг замкнулся.
Генерал Потапов, призванный идти на доклад к государю на следующее после высочайшего разноса утро, по сути дела, с пустыми руками, едва не с рассвета помчался к Горчакову.
— Помилуйте, Александр Львович! — искренне изумился тот. — У меня-то, в моей «епархии», какие могут быть новости?!
— А бог его знает, ваше сиятельство! — откровенно признался Потапов. — Тут чему угодно рад будешь, не токмо новостям! Вот, к примеру, доходят до меня слухи, что господин директор Азиатского департамента Стремоухов после последнего раунда переговоров имел с японцем некий секретный разговор. И что главным предметом сего разговора был именно господин Асикага!
— Милостивый государь! — Горчаков пулей вылетел из-за стола и подскочил к посетителю. — Что я слышу?! Должен ли я делать вывод из сказанного вами, что ваше жандармское ведомство протянуло свои щупальца и сюда, в министерство иностранных дел?
— Земля, знаете ли, слухами полнился! — уклончиво заметил Потапов. — Право, не стоит обижаться, ваше сиятельство! Общее дело нынче делаем-с! Каждый кирпичик стену пополнить может… Ведь, не приведи господь, узнает государь какую-то мелочь, от него сокрытую — всем несладко придётся!
— Ну, во-первых, последний раунд переговоров с японцами завершился около недели назад, — остывая, буркнул канцлер. — Проводил его, с нашей стороны, действительно господин Стремоухов. Однако в видах объявленного в переговорах тайм-аута, в подробностях мне доложено не было. К тому же господин Стремоухов сразу по завершению раунда срочно выехал по служебным надобностям в Данциг, на рабочую встречу с китайским посланником в Европе. Нынче к вечеру Пётр Николаевич должен возвратиться, и если вам угодно, господин генерал…
— Ещё как угодно! — с жаром подхватил Потапов. — Буду буквально счастлив составить вам с господином Стремоуховым компанию! Да вот, не угодно ли — может, поужинаем все вместе, в приличной ресторации? Введём господина директора Азиатского департамента в курс дел, вынужденно им пропущенных. А заодно и его соображения послушаем-с! Печёнкою чую, ваше сиятельство, что нынешний разговор с государем добром никак не закончится! Подробности потребуются, а их и нету!
Первым побуждением Горчаков было отказать настырному генералу в немедленной встрече со Стремоуховым. Прежде бы следовало самому вызнать все возможные подробности последней его встречи с Эномото. Однако категорический отказ мог вызвать подозрения шефа жандармов, что в свете последней явной холодности со стороны Александра мог быть чреват малопредсказуемыми последствиями. Приходилось соглашаться, уповая при этом на опыт и чутьё директора Азиатского департамента.
— Что ж, не возражаю, Александр Львович! Называйте ресторацию, занимайте там отдельный кабинет, а мы с Пётром Николаевичем и подъедем туда прямо с вокзала. Не возражаете? Ну вот и славно! Вот и славно… Ну а насчёт сегодняшней аудиенции с государем не кручиньтесь: меня-то тоже пригласили. И спрос, надо полагать, учинят не меньше вашего-с! Так что правы вы, Александр Львович! Одной верёвочкой повязаны нынче!
* * *
— Плохо, милостивые государи! Весьма плохо! — нынче Александр, как и ожидалось, был на редкость холоден и с Горчаковым, и с Потаповым. — Из услышанного мной я делаю вполне очевидный вывод: преступник не найден, следы его потеряны… Господин генерал, приходилось ли тебе слышать в последнее время ядовитые пасквили, гуляющие по столице, о бездельниках и дармоедах в голубых мундирах?
— Приходилось, ваше величество…
— Я начинаю думать, генерал, что дыма без огня, действительно, не бывает. Плохо работаете, плохо! Вполне рассчитывая на твой исчерпывающий доклад, я пригласил сегодня на три часа пополудни господина Эномото. Располагая при этом не только сообщить японскому посланнику о случившемся, принести положенные в подобных случаях официальные извинения, но и сообщить ему вполне ожидаемые новости об аресте преступника! Что же прикажете объяснить господину Эномото? Что русская полицейская власть бессильна не только оградить иностранных граждан от преступных посягательств, но и не в состоянии покарать преступников?
— Ваше величество, поверьте, делается всё возможное! Однако обстоятельства дела настолько сложны, что данный вами срок для полицейского расследования совершенно недостаточен! Если уж на то пошло, у нас нет даже прямых доказательств имевшего места поединка господина Асикага с прапорщиком Бергом! — заторопился Потапов. — Письмо Берга с просьбой считать поединок честной дуэлью, найденное на теле японца? Помилуйте, государь! Вполне возможно допустить, что между ними возникла ссора, и для решения её противники поднялись на крышу вагона. Я вполне допускаю, что намерения у противников были — но были ли эти намерения осуществлены? Осмелюсь напомнить, что на теле господина Асикага нет ни единой царапины — кроме следов удара об опущенное крыло семафора! Хочу напомнить, государь, что не найдено также и оружие господина Асикага — да было ли оно вообще? А если его не было — о каком поединке вообще может идти речь?
— Оставь свои измышления, господин генерал! — кисло поморщился Александр. — Всё это не более как игра словесами! Описанные в рапортах раны прапорщика Берга позволяют сделать вывод о том, что они были нанесены либо саблей, либо японским мечом. Отсутствие же подобных ранений у японца, скорее всего, является следствием его мастерства владения холодным оружием! Вы утверждаете, что Берг выехал в Европу вслед за японцем с намерением проследить за его действиями — но какими доказательствами, кроме слов приятелей этого самого Берга, располагает полицейское дознание?
— Нами изъяты вполне официальные показания на сей счёт, ваше величество!
— «Вполне официальные»! — не удержавшись, передразнил Александр. — А если я вам скажу, что молодой повеса пожелал прокатиться в Европу, пользуясь попустительством со стороны своих командиров, и просто выдумал причину? Чем вы можете опровергнуть мои слова? Ну, говорите!
— Мне нечего сказать, ваше величество…
Глава четырнадцатая
— Так что, господин хороший, барин велел передать, что дохтур у нас свой имеется и что в ваших услугах он не нуждаются, — слуга неуклюже поклонился, сунул ожидающему в наёмном экипаже посетителю его визитную карточку и повернулся, чтобы поскорее спрятаться от моросящего дождика под навесом обширного крыльца.
— Погоди, дурень! Эй, слышь, погоди! — седок неуклюже выбрался из экипажа и успел поймать слугу за широкий рукав крылатки, явно с барского плеча. — Я тебе, вахлаку, что передать велел? Что мне барыня молодая надобна, Анастасия Петровна! Что для неё у меня письмецо и посылочка имеется. А ты, дурень, только и запомнил, что я доктор? Я — доктор патологоанатомии, нездешний! Доктор мёртвых, чтобы тебе понятно было… У меня для барыни молодой письмецо — вот я и взял на себя труд доставить!
— Оно и видать, что вы приезжий, петербухских обычаев не знаете! — угрюмо попытался отстраниться слуга. — Где ж это видано, чтобы молодая барыня со столичным воспитанием к кому ни попадя на улицу выскакивала? Да ещё и к потрошителю мертвяков, прости, мя, душу грешную! Идите себе подобру-поздорову, сударь, пока я дворника не кликнул, а ён городового не высвистел! Сказано вам: свой дохтур есть — и ступайте себе!
— Хорошо. Ох, ты и дурак, братец! Барина позови тогда, — посетитель с выработанной годами ловкостью всунул-таки слуге свою визитную карточку. — Или проводи к нему, убогий…
— Обедать барин с барыней сели. Никак не возможно позвать ихнюю милость. Ждите, коли охота…
Вырвав рукав из рук докучливого посетителя, слуга поспешно скрылся за дверью парадного особняка Белецких. Плюнув с досады, посетитель несколько минут постоял под дождём, решая для себя — ждать или отказаться от выполнения не столь уж завидного поручения и уехать? И когда уже, решившись, полез в экипаж, с крыльца его окликнули:
— Сударь, могу я узнать — в чём тут дело, собственно говоря?
На крыльце стоял господин в чёрной визитке и при аккуратной бородке. В руках хозяин — судя по властному тону, это был именно хозяин — комкал салфетку.
Посетитель прикоснулся двумя пальцами к венскому котелку и шаркнул ногой:
— Позвольте рекомендоваться: доктор Шлейзер из Варшавы! Предупреждая ненужные вопросы, я сразу и категорически заявляю вам, сударь, что не ищу практики или пациентов.
— Тогда что вам угодно?
— Говорит ли вам что-либо имя Михаила фон Берга, сударь?
— Мишеля? — хозяин невольно поглядел по сторонам, шагнул к посетителю. — Да, разумеется — это жених моей дочери, сударь… Но могу ли я узнать…
— Можете, сударь! Вы всё можете, если соизволите, в отличие от вашего глупого слуги, пригласить меня хотя бы в переднюю! Проехав чёрт знает сколько вёрст и сделав для вас же немалый круг — в Петербурге у меня совершенно иные дела! — поневоле, сударь, рассчитываю хотя бы на минимум внимания! Тем более, привезя вашей дочери известие от её жениха!
— О-о, прошу прощения сударь! Дурак Ероня, действительно, ничего не понял! Прошу вас, проходите, доктор э-э.
— Шлейзер, сударь. Это, в конце концов, не так и важно! Благодарю вас…
В передней доктор Шлейзер только и позволил себе скинуть насквозь мокрый дорожный плащ и немедленно начал излагать порученное ему дело:
— Вы есть господин Белецкий, отец Настеньки Белецкой, настолько я понимаю? Слушайте меня внимательно, сударь! Господин фон Берг, которого вы уже завтра, возможно, откажетесь признавать женихом вашей дочери, попал в большие неприятности. Я имел несчастье ехать с господином Бергом в одном вагоне Берлинского экспресса, когда он и какой-то господин азиатской наружности соизволили устроить на крыше вагона глупую дуэль на саблях. Подробностей я, к счастью, не знаю — после того как поезд остановился, я был призван для оказания медицинской помощи вашему Бергу. Его ранения были столь глубоки и обширны, что для спасения жизни я потребовал немедленно предоставить для транспортировки раненого паровоз. И довёз господина Берга до Варшавы — признаться, совсем не надеясь на это! В Варшаве я надеялся передать истекающего кровью молодого человека в ближайшую больницу. Однако вокзальные извозчики, дежурившие на тамошнем вокзале в неурочный для прибытия поездов час, тотчас разбежались, заметив окровавленные носилки. И я смог нанять лишь какого-то селянина, который привёз нас в монастырь сестёр-бенедиктинок. Слава Иисусу — при монастыре был приют для престарелых и убогих! А там — вполне компетентный персонал сестёр милосердия и даже два доктора, ушедшие от мира. Там я произвёл единственно возможное, на мой взгляд, медицинское действие — ампутировал молодому человеку и без того почти что отрубленную руку. И по прошествии двух дней оставил господина Берга на попечение этих самых бенедиктинок.
— Весьма вам признателен, сударь, за сообщённые известия. Однако…
— Погодите благодарить, сударь! Возможно, я привёз в ваш дом вместе с письмецом и посылкою большие неприятности! Дело в том, что вся полиция в Варшаве нынче поднята на ноги и ищет того самого раненого молодого офицера. Думаю, что он имел неосторожность скрестить шпаги — или как там это у вас, дворян, называется — не с тем противником. Короче говоря, полиция ищет и раненого, и доктора, подавшего ему помощь и доставившего его в Варшаву. То есть меня, сударь! Доложен вам заметить, что нам, евреям, интерес полиции вовсе ни к чему. И я возблагодарил Господа нашего, что он сподобил уехать с вокзала всех извозчиков. Иначе я бы привёз раненого в первую же ближайшую больницу. И полиция нашла бы и его, и меня!
— Сударь, сюда в любой момент может явиться моя дочь. Она, как вы можете себе представить, весьма опечалена исчезновением жениха, ей вовсе ни к чему знать, что его ищет варшавская полиция. Изложите, прошу, ваше поручение как можно скорее. И если я могу чем-то отблагодарить вас…
— Я вас, как отца, прекрасно понимаю. Итак, молодой офицер взял с меня слово, что я доставлю девице Белецкой письмо, а также шкатулку, которой он весьма дорожил. Не думаю, что совершаю большой грех, отдавая всё это не вашей дочери, а её отцу. Ваша благодарность мне не нужна, сударь! Я лишь выполнил свой долг по отношению к умирающему, и единственное, о чём попрошу вас — не сообщайте полиции обо мне!
— Вы сказали — умирающему? Состояние Берга внушает серьёзные опасения?
— Вы шутите, господин Белецкий? «Серьёзные опасения»! Чтоб вы знали — я доктор патологоанатомии! Жених вашей дочери потерял столько крови, что хватило бы на троих! К тому же на операционный стол он попал через пять часов после ранения… Скажу вам откровенно, мсье Белецкий: я и ампутацию его руки произвёл скорее для очистки совести. Чтобы попытаться сделать для молодого человека хоть что-то… Думаю, что вашей дочери стоит поискать другого жениха!
Доктор достал из своего саквояжа запечатанный конверт, а следом — тяжело брякнувшую стальную шкатулку.
— Не смею более обременять своим присутствием, мсье Белецкий! Свой долг я исполнил, хотя уже потерял надежду это сделать из-за упрямства вашего слуги. Нет, я, конечно, попытался бы ещё раз, перед отъездом. Я, знаете ли, на три дня только в Петербург вырвался, за химическими реактивами для своих покойников. Впрочем, вам это и вовсе ни к чему. Прощайте, сударь! От души надеюсь, что в знак благодарности вы не сообщите в полицию о моей роли в этом прискорбном деле. Не провожайте меня, сударь!
Избавившись от посетителя, Белецкий унёс письмо и шкатулку к себе в кабинет, предупредив горничную о том, что к столу он не вернётся. Заперев дверь на ключ, он долго рассматривал конверт и шкатулку. И наконец, решившись, вскрыл письмо, адресованное его дочери.
«Милая Настенька, любовь моя! Ты получишь это письмо в том случае, если Судьбе будет угодно отвернуться от меня. Долг дружбы вынудил меня вызвать на поединок очень нехорошего человека, который имел намерения погубить моего друга, о котором я тебе много рассказывал и которого даже пригласил на нашу с тобой свадьбу. Поверь, я не мог поступить иначе — в противном случае мой друг, японский подданный господин Эномото, неминуемо попал бы в немилость к нашему государю, и, как следствие — в Петропавловскую крепость. Поверь, Настенька, ты знаешь, я не принадлежу к любителям громких слов — но если бы я не принял меры к тому, чтобы остановить злого человека, скорее всего, серьёзно пострадали бы и интересы России.
То, что ты получила это письмо — скорее всего, наилучший выход из ситуации, в которую я поставлен силою дружеских уз, связывающих меня с господином Эномото. Ибо в случае, если мне удастся победить Асикага в честном поединке, меня самого ждала бы каторга — поскольку этот господин пользуется дипломатической неприкосновенностью.
Прощай, милая Настенька! Прощай и помни, что я любил тебя более всех на свете.
К моему письму приложен запечатанный конверт без надписи. Это из предосторожности: никто, кроме господина Эномото, не должен узнать сию тайну. Конверт, равно как и шкатулку, следует передать господину Эномото, японскому посланнику, на Дворцовую набережную, дом 12-й, в собственные его руки. Я прошу и умоляю тебя сделать это — ибо, в противном случае, напрасной будет и моя смерть, и наше погубленное счастье.
Многократно целую твои тонкие нежные пальчики, любовь моя!
Твой навечно Мишель фон Берг»
Перечитавши письмо дважды, тайный советник Пётр Романович Белецкий крепко задумался. Он ничуть не жалел о том, что, презрев приличия, вскрыл письмо, адресованное дочери. И узнал прежде неё, таким образом, по меньшей мере два известия, имеющие к его семейству самое прямое отношение. Одно из этих известий на днях, правда, обозначилось — самым неприятнейшим для него образом.
Не далее как третьего дня к нему в Штаб корпуса инженеров МПС с утра пораньше заявился некий субъект. Субъект был одет в партикулярное платье, однако при этом отличался военной выправкой и настолько, что делопроизводитель присутствия главноуправляющего Корпусом, докладывая Белецкому о незваном посетителе, не удержался:
— Жандарм к вашему превосходительству. Имеет бумаги от Земельного комитета, однако физиономия, Пётр Романович, самая что ни есть жандармская… Прикажете передать, что заняты?
— Жандарм, говоришь, Елистратов? Ха, ну и дела! Поскольку мы перед их ведомством вины не имеем, надо бы принять. Проси, чёрт с ним!
Посетитель и впрямь оказался жандармским ротмистром, порученцем самого Потапова. Не ходя вокруг да около, ротмистр сразу обозначил суть дела, по которому явился. С его слов, наречённый жених единственной дочери главноуправляющего Корпусом инженеров Белецкого, прапорщик Сапёрного лейб-гвардии батальона Берг совершил тяжкое преступление, оскорбляющее честь царствующего дома и затрагивающее государственные интересы державы. Подробности ротмистр сообщать категорически отказался — лишь заявил, что гвардейский офицер Берг, пренебрегая присягой, в настоящее время скрывается от розыска. А посему для розыскных действий крайне важны любые сведения, могущие пролить свет на местопребывание упомянутого Берга. Не позволит ли господин Белецкий, в свете важности проводимых розыскных действий, поговорить с невестою упомянутого преступника? То бишь с его дочерью, Анастасией? Разумеется, в присутствии отца, тайного советника Белецкого.
Всё существо тайного советника Белецкого, разумеется, поначалу восстало против впутывания его Настеньки в какие-то грязные игры с розыском, следствием и государственным преступником Бергом. Встав с кресла и опершись костяшками пальцев на служебный стол, Белецкий так и заявил жандармскому ротмистру: ни в коем случае! Он не может позволить впутывать невинную дочь в какие-то там полицейские истории! Что же касается упомянутого Берга, то последний раз его дочь виделась с ним дней этак десять назад, и с тех пор никаких известий от него не получала.
Ротмистр, ухмыльнувшись, напомнил: не судите, мол, опрометчиво, господин Белецкий! Нынешняя молодёжь, что б вы знали, господин тайный советник, знает множество тайных способов общения, недоступных пониманию достопочтенных отцов. Нет, боже упаси, он ни в чём не подозревает дочь тайного советника. Однако, выполняя поручение самого высокого начальства, должен лично убедиться — понимаете, лично, господин Белецкий! — что ваша дочь не имеет даже самого косвенного отношения к данному делу.
Белецкий продолжал протестовать против беседы его Настеньки с жандармскими дознавателями. Тогда ротмистр, не тратя времени на дальнейшие уговоры, встал, откланялся и направился к выходу. Лишь на пороге, чуть задержавшись, он заявил, что прямо отсюда направляется к самому министру путей сообщения Посьету. И что реакцию министра на сообщение о том, что господин Белецкий препятствует проведению розыска, санкционированного самим государем императором, предсказать никак не возможно…
Пришлось соглашаться — а что оставалось делать?
Не откладывая дел в долгий ящик, к дочери поехали прямо со службы. По дороге ротмистр мягко порекомендовал не открывать Настеньке жандармского источника интереса к её жениху.
— Кем же вас представить прикажете? — сумрачно поинтересовался Белецкий. — Моим сослуживцем? Невесть откуда появившимся кузеном?
— Лучше всего — военным ревизором. Скажите дочери, что проводится внезапная инспекция всех расквартированных в Санкт-Петербурге гвардейских частей и что в Сапёрном батальоне, к коему приписан Берг, обнаружена крупная недостача финансовых средств. Он ведь, если мне не изменяет память, исполнял должность финансиста батальона?
— Вам бы да ещё память изменяла! — невесело хмыкнул Берг. — Неужто хотите объявить моей дочери, что её жених казнокрад? А ежели впоследствии выяснится, что Мишель вообще не при чём? Насколько я понимаю, его «злоумышление на государеву честь и достоинство» пока вообще, как говорится, по воде вилами писано?
— Ну, не совсем вилами. И не совсем по воде. Однако не скрывайся он от розыска, положение стало бы гораздо яснее, — уклончиво ответствовал жандарм.
Как и следовало ожидать, дочь Настенька на известие о том, что её Мишеля, как подозреваемого в воинском преступлении, ищет полиция, отреагировала очень бурно. Были и слёзы, и клятвенные заверения в том, что она не скажет ничего, что может повредить жениху — потому как уверена, что Мишель просто не мог сотворить ничего «такого»!
Ротмистр, как оказалось, был не только весьма терпелив, но и умудрён немалым житейским опытом. Охотно согласившись с Настенькой в том, что обвинение «чудовищно и что здесь наличествует некая фатальная ошибка», он тем не менее сумел добиться от неё некоторых подробностей, ранее, к немалой досаде Пётра Романовича, ему не известных. Выяснилось, к примеру, что Настенька дважды получала от жениха телеграфные депеши, посланные на Главную почтово-телеграфную контору Северной столицы до востребования. Уступая настоятельному требованию жандарма, Настенька принесла полученные из Берлина и Парижа депеши. Морщась от стыда, Пётр Романович прочёл их первым. Ничего, кроме признаний в любви, строчки телеграмм не содержали. Мысленно перекрестившись, Белецкий передал бланки депеш Мишеля Берга ротмистру.
Жандарм глянул на телеграммы мельком — не преминув извиниться за вынужденное вторжение в личную жизнь. Было видно, что он и не ожидал найти в переписке каких-либо откровений. Он немедленно откланялся и лишь на прощанье, со значением поглядев на воспрявшего духом Белецкого, настоятельно порекомендовал ему немедленно сообщить ему, ежели пропавший прапорщик Берг даст о себе каким-либо образом знать…
Теперь же Пётру Романовичу Белецкому, после визита доктора Шлейзера, предстояло решить сразу две проблемы: сообщать ли Настеньке о том, что её жених смертельно ранен, и, вполне возможно, уже не пребывает в живых? А во-вторых, следует ли уведомлять полицейские власти и в первую голову крайне неприятного ему жандармского ротмистра, о местонахождении Мишеля Берга?
С известием о ранении Берга Белецкий, почти не размышляя, решил повременить. Довольно быстро была им решена и вторая дилемма: содержащиеся в его письме сведения об угрозе интересам России были весьма серьёзны. Тайный советник Белецкий давно уже составил своё мнение о женихе дочери, и считал его думающим человеком, не способным на «вертопрашество».
К тому же странный посетитель и не сообщил ему о точном местонахождении Мишеля — лишь упомянув некий монастырь сестёр-бенедиктинок близ Варшавы. Ну а раз не сообщил — значит, и жандармам сообщать нечего! Конечно, жандармы, попади им в руки визитная карточка этого Шлейзера, мигом сыскали бы и его, и монастырь. Погодите-ка, а где сия визитка?
Похлопав себя рассеянно по карманам, Белецкий тут же обнаружил чуть подмокшую и смятую визитку на столе, рядом с таинственной шкатулкой.
Походя решив две наиважнейшие проблемы, Пётр Романович Белецкий принялся решать и третью: передавать ли полученную шкатулку дочери, а потом и адресату? А если доставлять её в резиденцию японского посланника, то как прикажете это сделать, чтобы не привлечь внимания жандармов?
Шуму в Петербурге прибытие сюда японского посланника в своё время наделало изрядного. Свет столичного общества, заинтригованный таинственной Японией и весьма экзотической личностью самого Чрезвычайного и Полномочного Посла, прилагал множество усилий, чтобы попасть на балы и приёмы, где можно было воочию лицезреть его. Интерес к японскому посланнику подогревался и явным благоволением к нему самого государя. В столичных салонах только и было разговоров о том, что японский дипломат по меньшей мере дважды в неделю, по личному приглашению Александра, навещает монаршее семейство в его дворцах, участвует в чаепитиях, составляет государю и императрице партию в «домашних» карточных играх. А раз в неделю его высокопревосходительство вице-адмирала Эномото непременно видели в императорских театральных ложах.
Разумеется, наслышан был Белецкий и о дружбе Мишеля с японским вице-адмиралом, чем втайне немало гордился. О ней в свете тоже немало судачили. Об истоках этой дружбы высказывались самые различные, порой просто невероятные предположения. Белецкий, к примеру, своими ушами слышал утверждение о том, что и в Париж-де прапорщик Сапёрного лейб-гвардии батальона Михаил Берг был послан весною на встречу с японцем нарочно. Якобы для того, чтобы предупредить международный скандал и сближение японского посланника в Париже с коварными британцами, коих весьма возмущала активная политика России на её восточных рубежах.
Услыхав в первый раз сию нелепицу от супруги товарища министра путей сообщения Якобса на журфиксе, дважды в месяц устраиваемом в его особняке, Белецкий про себя усмехнулся. И, сохраняя на лице серьёзное выражение, не преминул поинтересоваться: а кем, собственно говоря, младший офицер Берг мог быть послан в Париж?
— Н-ну, Пётр Романович! — протянула дамочка. — Этот вопрос следовало бы адресовать скорее вам! Либо вашей очаровательной дочери, от которой у Мишеля просто не должно быть тайн!
— Мне интересно ваше мнение, драгоценнейшая Софья Эммануиловна! Кем всё-таки, по-вашему, могла быть доверена столь ответственная миссия? Министерством иностранных дел? Лично канцлером? И почему подобная миссия была доверена сапёру? И к тому же младшему офицеру? Согласитесь, Софья Эммануиловна, тут какая-то натяжка: с одной стороны — вице-адмирал японского флота, а с другой — прапорщик! Как вы сами-то полагаете? А может, — Белецкий страшно округлил глаза. — А может, это было личное поручение государя императора?
Почувствовав издёвку, Софья Эммануиловна вспыхнула, пробормотала что-то про тайны, совсем ей не интересные и поспешно отошла к другим дамам.
Вертя перед глазами стальную шкатулку, Белецкий продолжал размышлять о предстоящей ему нелёгкой задаче. В свете гибели секретаря японского посольства и усиленного розыска человека, причастного к ней, тайный советник нисколько не сомневался, что его визит в резиденцию посла не останется незамеченным. Вряд ли, конечно, жандармы выставили вокруг особняка на Дворцовой набережной часовых либо соглядатаев, однако в самом доме наверняка есть глаза и уши «голубых мундиров». К тому же неизвестно, как отреагирует сам господин Эномото, когда ему сообщат о визите будущего родственника человека, причастного к смерти секретаря посольства. Пожалуй, что и не примет — кто их, дипломатов, знает!
Да и стоит ли эта шкатулка того, чтобы он, главноуправляющий Корпусом железнодорожных инженеров и без пяти минут товарищ министра путей сообщения, рисковал своим положением, репутацией, а паче того, своим будущим? Вспоминая значительное выражение лица жандармского ротмистра, Белецкий не сомневался: если такой субъект пронюхает, что его ведомство попытались обойти на повороте, неприятности гарантированы!
Может, стоит заглянуть в шкатулку? Один грех на его душе уже имеется: письмо-то Настеньке он вскрыл и прочёл!
Белецкий, воровато оглянувшись на запертую дверь кабинета, вставил найденный в конверте ключ в скважину и покрутил его. Звонко щёлкнув, крышка шкатулки слегка приподнялась. Нагнувшись и не притрагиваясь к шкатулке, Белецкий попробовал заглянуть внутрь: внутри лежала толстая пачка исписанных бумаг, а под ними виднелись краешки нескольких фотографий.
Тут же устыдившись своего порыва, Белецкий поспешно запер шкатулку и спрятал ключ обратно в конверт с письмом Настеньке. Плюнуть на всё, заклеить конверт и отдать дочери?
Настенька непременно постарается выполнить поручение жениха. Помчится в посольство, наговорит, чего доброго, дерзостей, попадёт на заметку жандармам. А перво-наперво, узнает о том, что жених, скорее всего, уже погиб. Такую боль причинять любимой дочери Белецкий никак не мог! Значит, надо всё делать самому.
Отперев дверь кабинета, Белецкий позвонил колокольцем и велел появившемуся слуге попросить подняться к нему молодую барыню. Надо как-то порасспрашивать дочь. Может, Настенька наслышана от Мишеля о каких-то привычках его японского друга? О местах прогулок, например… Надо бы как можно осторожнее повыведать об этом! Иного способа повидаться с посланником Белецкий, как ни старался, выдумать не мог.
* * *
— Господин вице-адмирал! Я пригласил вас сегодня в неурочный для наших дружеских, как я полагал, встреч — для того, что сообщить вам тяжкую новость и выразить вам искренние соболезнования…
Обычно Александр принимал своих визитёров посреди своего рабочего кабинета стоя, вынуждая, тем самым, стоять во время аудиенции и их. Нынче, пригласив японского дипломата, он нарушил давнюю традицию: извещённый дежурным адъютантом о прибытии Эномото Такэаки, Александр встретил его почти у самых дверей. Произнося первую фразу, он, прикоснувшись к локтю японца, второй рукой сделал приглашающий жест в сторону дивана между двумя альковами, несколько поодаль от своего рабочего стола. Усадив японца, Александр присел и сам.
— Третьего дня, при невыясненных пока обстоятельствах, погиб секретарь вашего посольства господин Асикага Томео. Его тело было найдено на железнодорожном перегоне близ Варшавы. Примите, господин посол, мои личные и самые искренние соболезнования по поводу этой трагедии.
Если сообщённое известие и поразило Эномото, то по его невозмутимому лицу этого никак не было заметно. Вице-адмирал лишь наклонил голову, выражая тем самым благодарность за личные соболезнования русского царя.
— Моя телеграмма его величеству японскому микадо приготовлена и подписана — как и официальное уведомление министерства иностранных дел в адрес министерства внешних связей японского правительства, — продолжил Александр. — Я попросил лишь отложить отправку этих депеш до моей встречи с вами, чтобы уточнить: надо ли извещать о смерти господина Асикага Томео военное министерство Японии? Как меня информировали, покойный секретарь числился по военному министерству. Вероятно, исполнял должность военного атташе?
— Не думаю, ваше величество, что о смерти господина Асикага следует особым образом уведомлять наше военное министерство, — покачал головой посол. — Он не был военным атташе и лишь выполнял отдельные поручения военного министра господина Сайго Такамори. Могу ли я осведомиться, ваше величество об обстоятельствах гибели моего соотечественника?
— Это самый трудный вопрос, господин Эномото! Признаться, узнав о гибели господина Асикага ещё вчера, я отдал строжайшее распоряжение о проведении самого полного дознания — рассчитывая на усердие и расторопность полицейских властей с тем, чтобы, встретившись с вами, изложить все подробности. Увы, ваше высокопревосходительство: мои подданные меня подвели! Могу лишь сообщить, что к смерти вашего соотечественника, скорее всего, имеет какое-то отношение ваш знакомый по Петербургу, гвардейский прапорщик Берг…
Услышав имя Берга, японец впервые за всё время беседы проявил эмоции: удивлённо вскинул брови, нахмурился и уже открыл было рот для какого-то вопроса, однако, видя, что монарший собеседник явно не закончил своего высказывания, сдержался.
— Его роль в этом деле полностью не прояснена — ввиду того, что он исчез, и полицейскими и военными властями пока не найден. Пока не найден! — со значением подчеркнул Александр. — Однако, по свидетельству очевидцев, Берг получил серьёзные раны и нуждается в медицинской помощи. Не извольте беспокоиться, господин вице-адмирал! Преступник, имеющий отношение к смерти дипломата, находящегося под особой защитой государства и самого государя, будет найден и понесёт заслуженное наказание! А до той поры мною издан высочайший указ об исключении Берга из списков Сапёрного лейб-гвардии батальона, находящегося под моим личным покровительством и патронажем. Вот, пожалуй, и всё, что я имею сказать вам, господин посол. Ещё раз прошу принять мои соболезнования. Выражаю надежду, что сей трагический случай не омрачит весьма обнадёживающие горизонты дипломатического сотрудничества между нашими державами. Хотя без ноты протеста со стороны Японии, полагаю, нам не обойтись…
— Благодарю ваше величество за ваши соболезнования. Могу ли я задать вам несколько вопросов, ваше величество?
— Сколько угодно! И если я в состоянии буду дать на них ответ…
— Прапорщик фон Берг, чтобы было известно вашему величеству, является моим давним и добрым другом. Простите, ваше величество, но я не верю в его злой умысел и намерения нанести ущерб отношениям между нашими державами! Прошу простить мою настойчивость — но вы уверены, ваше величество, в причастности господина фон Берга к смерти секретаря нашего посольства?
— Судите сами, господин посол! Судя по фактам предпринятого полицейского дознания, Берг и Асикага возвращались в Россию из Берлина. Ехали в одном вагоне. Между ними произошла ссора, и Берг, видимо, вызвал господина Асикага на поединок — либо оскорбил его до такой степени, что господин Асикага потребовал у него удовлетворения. Я говорю об том с уверенностью потому, что на теле господина Асикага нашли письмо за подписью фон Берга. Знаете ли, обычное письмо, коими обмениваются перед поединком дуэлянты, лишённые секундантов. Надо полагать, что такое же письмо за подписью господина Асикага было и при Берге…
— Вы упомянули о том, что фон Берг получил серьёзные ранения, ваше величество. А господин Асикага?
Александр поморщился:
— Этот нелепый поединок происходил на крыше вагона мчащегося поезда. И, судя по документам дознания, господин Асикага был сброшен с крыши вагона крылом семафора. Иных ран, за исключение полученных в результате удара и падения, на его теле не обнаружено. Но это никоим образом не умаляет вины бывшего прапорщика фон Берга, господин вице-адмирал!
— А каким образом раненый фон Берг смог исчезнуть?
Сдерживая раздражение, Александр объяснил.
— Я уже выразил обер-полицмейстеру Варшавы своё недовольство и недоумение, и меня заверили, что все полицейские силы Привисленского края брошены на поиски преступника и его укрывателя, господин посол! — заявил он напоследок.
Почувствовав растущее недовольство Александра, проистекающее из невозможности дать послу ответы на все интересующие его вопросы, Эномото встал и глубоко поклонился монаршему собеседнику.
— Ещё раз благодарю ваше величество за соболезнования и проявленное ко мне участие. Я немедленно уведомлю своё правительство о данном трагическом происшествии и официально отреагирую — в соответствии с общепринятыми международными нормами. Вероятно, это будет нота протеста, хотя…
— Договаривайте, господин вице-адмирал! Хотя что?
— Всё моё существо протестует против того, что вы называете моего единственного русского друга преступником, ваше величество! Конечно, я знаю господина фон Берга всего лишь несколько месяцев, однако уверяю, что твёрдо составил о нём впечатление как о порядочном человеке, не способном на низкие и бесчестные поступки!
— Но факты, факты, господин посол! Куда от них деваться? Простите, господин вице-адмирал, если я задеваю ваши чувства, но, по-видимому, вы ошибались в этом человеке!
— Как знать, как знать, ваше величество!..
* * *
Рассветы Эномото Такэаки давно взял за правило встречать у воды. Лучше, конечно, у моря: там шум волн и шорох мокрого песка под ногами навевали возвышенные мысли о бренности всего сущего. Но и в русской столице воды было предостаточно: одна Нева, плескавшая волной под самыми окнами посольского особняка, была гораздо шире самого большого пролива близ родного города Эдо.
Не ставя в известность полицейские власти о местах своих постоянных прогулок в Петербурге, как это было предписано мидовским циркуляром, Эномото свои утренние променады предпочитал совершать на восходе дня, вдоль одетого в камень правого берега Невы. В такие минуты хорошо думалось, мысли в голову приходили светлые.
Иногда, правда, прогулкам мешали разные люди. То казачий конный патруль, приметив одинокого путника близ Невы, в непосредственной близости от Зимнего дворца, решительно заявит о невозможности праздного пребывания здесь господина азиатской внешности в сугубо охраняемой зоне. То маявшийся с утреннего недосыпу дворник бдительность проявит, высвистит городового — на всякий случай, как бы не совершил прилично одетый господин утопления в реке. А то и компания развесёлых любителей «невской ухи», о которых ему когда-то рассказывал Берг, принимала прилично одетого господина нерусской наружности за своего. И едва не силком тащила вице-адмирала на топкий вонючий берег. На миску ухи в простонародных деревянных плошках и бокал «Вдовы Клико» десятилетней выдержки…
Впрочем, Эномото не сомневался и в том, что негласная полицейская охрана иностранных дипломатов давно уже «вычислила» его привычки, и агенты в статском, не маяча из деликатности перед глазами, частенько сопровождали его в этих утренних прогулках. Агенты держались поодаль — но как только японскому дипломату кто-либо пытался помешать, либо навязать свою компанию, столь же деликатно и почти незаметно вмешивались. Эномото подозревал, что и казачьи конные разъезды, и невесть откуда берущиеся дворники, а то и городовые тоже были частью системы охраны иностранного подданного.
А нынче и совсем неожиданный субъект утреннему променаду Эномото и его полумистическому «общению с водой» помешал.
Щёгольский экипаж, стоящий на набережной под присмотром застывшего на козлах кучера, Эномото приметил, разумеется, издали. Приметил и постарался обойти подальше. Однако не получилось: видать, издали заприметивший его из экипажа прилично одетый господин с холёной бородкой а-ля император, вышел навстречу, учтиво поклонился и спросил — не уделит ли господин посланник Эномото несколько минут человеку, имеющему известия от Михаила Карлова фон Берга.
Это было совершенно неожиданно, и дипломат, враз позабывший и об инструкциях из министерского циркуляра, и об опасности нежелательных встреч с незнакомцами в пустынных местах, сделал шаг навстречу незнакомцу:
— С кем, простите, имею честь?
Незнакомец коротко поклонился:
— Позвольте отрекомендоваться, господин вице-адмирал: Белецкий, тайный советник и главноуправляющий Корпуса инженеров. Служу по линии министерства железнодорожных сообщений — однако позволил себе побеспокоить вас по причине личного свойства. Миша Берг — жених моей дочери, Анастасии.
— Он упоминал и о вас, и главным образом о вашей очаровательной дочери, господин Белецкий, — улыбнулся Эномото, отвечая поклоном на поклон.
— Благодарю, ваше высокопревосходительство. Однако повод дня нашей встречи весьма серьёзен, а судьба Мишеля внушает мне большие опасения.
Эномото, враз став серьёзным, кивнул, и, прежде чем заговорить, оглянулся по сторонам, окинув пустынную в эти часы набережную Невы внимательным взглядом.
— Полагаю, господин Белецкий, что место и время нашей встречи выбрано вами не случайно. Ваше положение в обществе легко позволяло нанести мне визит в моей резиденции, однако вы выбрали этот час и пустынную набережную. О моей привычке гулять здесь вам сообщил Мишель?
— Вы правы, господин вице-адмирал. Молодого человека усиленно ищут полицейские и военные власти всей России — и вы, несомненно, знаете причину этого. Я сужу по ноте протеста Японии за вашей подписью, опубликованной во вчерашних «Ведомостях» и по газетным комментариям по этому поводу, где упоминается прапорщик фон Берг. Вернее, уже не прапорщик…
— Увы, знаю, — кивнул японец. — Его величество государь император, лично выражая мне соболезнования по поводу гибели сотрудника посольства, упоминал о высочайшем указе, подписанном им. К сожалению, его величество повелел исключить фон Берга из списков офицеров гвардейского батальона.
— «К сожалению»? — недоверчиво переспросил Белецкий. — Как же тогда соотносить ваше сожаление с нотой протеста?
— Я официальный представитель своей страны, и многие мои действия диктуются рамками дипломатического протокола. Посланник его величества микадо не мог не выразить протест властям страны, допустившей на своей территории гибель дипломата, — как бы он сам лично не относился к самому дипломату и обстоятельствам его смерти.
— Прошу простить эти мои расспросы, господин посол. Их настойчивость диктуется не только моей озабоченностью за судьбу молодого человека. Речь идёт о репутации моей дочери, и, если на то пошло, моей собственной репутации и даже карьеры. Я официально предупреждён, что любое сокрытие сведений о месте пребывания Берга будет оценивать, возможно, лично государь. С некоторых пор и я, и моя дочь находимся под негласным пристальным наблюдением… Вы понимаете, господин посол?
Эномото кивнул и ещё раз оглянулся, отметив про себя, что далёкая фигурка его собственного соглядатая заметно приблизилась.
— Вы правы, господин Белецкий: ваш официальный визит ко мне в нынешней ситуации вполне мог иметь для вас печальные последствия. То же самое касается и нынешней встречи: что бы вы знали, дипломаты тоже находятся под наблюдением особой службы русской полиции, хотя это и не связано с Бергом. Так что подробно поговорить нам здесь, увы, не удастся. Скажите только: вы имеете какие-то сведения о его пребывании? Поверьте, мне очень не хватает Мишеля, и я не менее вашего обеспокоен его судьбой.
Теперь и Белецкий обратил внимание на приближающуюся к собеседникам фигуру.
— Господин вице-адмирал, на каменном парапете возле моего экипажа для вас в саквояже оставлена посылка от Мишеля Берга. Там же — письмо, адресованное вам. Я сейчас уеду, но нам непременно нужно поговорить — без свидетелей, как вы понимаете. И я ума не приложу — где и как…
— Возьмите, господин Белецкий! — загородившись от соглядатая спиной, Эномото передал собеседнику узкий конверт. — В конверте вы найдёте билеты на спектакль в театр «Буфф» на завтрашний вечер. Когда-то Мишель усиленно советовал мне посетить спектакль парижской примы мадмуазель Шнейдер, и я, ещё до случившегося, хотел сделать ему приятный сюрприз. Посетите спектакль, пожалуйста, а я сам найду вас в первом же антракте! И поторопитесь, господин Белецкий, пока мой соглядатай ещё достаточно далеко. Прощайте!
Белецкий поспешил к своему экипажу, а Эномото, небрежно помахивая тросточкой, продолжил свою прогулку вдоль набережной. Шаги он рассчитал точно: рядом с небольшим саквояжем на парапете он очутился как раз в тот момент, когда разворачивающийся экипаж Белецкого закрыл его от наблюдателя. Подхватив саквояж, японец тем же небрежным шагом продолжил свою прогулку. Конечно, внимательный наблюдатель непременно обратит внимание на сей предмет, которого раньше у дипломата не было, — но кто посмеет его остановить?
Глава пятнадцатая
Вернувшийся из блицпоездки в Данциг директор Азиатского департамента МИДа Стремоухов на вокзале Северной столице был встречен, к его немалому удивлению, не своим делопроизводителем, а личным порученцем канцлера Горчакова. Когда же порученец проводил Стремоухова к экипажу, в котором томился ожиданием сам канцлер, директор по-настоящему встревожился.
— Что стряслось, ваше сиятельство?
— Стряслось, стряслось, Пётр Николаевич! А выкручиваться тебе придётся…
Стремоухов внутренне усмехнулся: начальство всегда найдёт повод и причину заставить выкручиваться своих подчинённых. Ладно, спасибо, что упредил хоть…
— Не с японцами часом?
— С ними, Пётр Николаевич, с ними! На следующий день, как ты по причине наступившего тайм-аута в японских переговорах, уехал в Данциг, всё и стряслось! Мы с тобой подробно поговорить о последнем раунде не сподобились — недосуг мне было, признаю… Помню, ты что-то говорил о странном разговоре с господином послом — уже за рамками переговоров, так сказать. Ну, думаю, успеется. И вот на тебе! Найден убитым секретарь посольства Асикага Томео…
— Так-так-так… Асикага, значит, Богу душу отдал… Любопытно, весьма любопытно, ваше сиятельство!
— Странные у тебя оценки, господин, директор! — насупился Горчаков, сдёргивая по привычке с носа очки и принимаясь яростно полировать стёклышки салфеткой. — Ну да ладно. Следствие полагает, что он убит в результате дуэли с каким-то гвардейским офицером. Естественно, доложили государю. И естественно, тот пришёл в бешенство. Теперь Потапов ищет исчезнувшего дуэлянта — и пока безрезультатно. Тот дуэлянт, как оказалось, единственный русский друг господина японского посланника — и в этом-то вся закавыка, Пётр Николаевич! Нутром чую: неспроста эта самая дуэль, неспроста знакомец Эномото в одном вагоне с Асикага оказался!
— Совершенно с вами согласен, ваше сиятельство — неспроста! А фактики у меня, думаю, имеются. Вот доедем до министерства — я вам всё в подробностях, ваше сиятельство, и изложу!
— Сей же час излагай, Пётр Николаевич! Не в МИД мы нынче едем — к Потапову. Ждёт, голубая его душа, в ресторации, жаждет с тобою поговорить. Насилу уговорил, чтобы на вокзал тебя не поехал встречать — сам прежде узнать хотел, что и как. Обсудить стратегию, так сказать! Так что излагай!
— Вот оно, значит, как всё складывается! — протянул Стремоухов, рассеянно поглядывая в окошко кареты и припоминая детали последнего разговора с японским посланником. — Дела-а! Ну что сказать, ваше сиятельство, состоялся у меня довольно откровенный разговор с господином Эномото. В переговорных рамках-то я, признаться, не совсем ваши пожелания исполнил: резок был порой! В общем, упрекнул я японца в нарочитом затягивании переговоров. В непорядочности, можно сказать. Может, сия импровизация и на пользу пошла — судите сами, Александр Николаевич!
— Ну не тяни ты кота за хвост! — едва не простонал Горчаков. — Говори уже! Времени у нас почти что и нету! Что за разговор?
— Когда был озвучен вариант уступки Японией южной части Сахалина в обмен на четыре острова Курильской гряды и с учётом компенсации выплат за здания и сооружения японских промыслов, я по физиономии этого Эномото понял: с тем-то ты, друг любезный, и приехал к нам! Ошеломительная была его реакция, ваше сиятельство! Полагаю, что тем самым подтвердились донесения поверенного в российских делах Струве: он ведь сообщал про этот окончательный вариант, принятый японским правительством после отставки прежнего министра внешних связей, Соэдзима. Ежели помните, ваше сиятельство, новый министр иностранных дел Японии после провала миссии Ивакуры[77] в Европе и в Америке занял весьма гибкую позицию по отношению к России! Тэрадзима Мунэнори[78], по самым достоверным сведениям, предложил в качестве окончательного именно этот вариант! Обмен плюс компенсация!
— Да я всё это знаю, душа моя! Ты про Эномото говори — что он? Как?
— Я к тому и веду, Александр Николаевич! По всей логике мышления он — даже «придерживая» сей вариант до поры до времени — должен был владеть точной суммой компенсации! Ну, хоть примерную сумму назвать — ведь сколько раз япошки свои комиссии на Южный Сахалин посылали-то? Каждую доску, поди, в реестры свои записали. А Эномото сделал вид, что впервые о сём слышит. И потребовал тайм-аут для снесения с правительством и точного определения суммы компенсации. А вот потом…
— Что — потом, Пётр Николаевич? Что?
— А потом он мне сообщил, что хотел бы стать другом России. И назвал того, кто таким другом никогда не станет — Асикага Томео!
— Конкретнее, Пётр Николаевич! Конкретнее!
— А конкретнее в нашей дипломатии и не бывает, ваше сиятельство! — невесело усмехнулся Стремоухов. — Есть только ощущения — стоит доверять собеседнику или не стоит! Я, например, Эномото поверил. Честный он человек — но ведь дипломат же, чёрт его побери! А раз ты дипломат — значит, должен играть в утверждённые правила игры! Велено ему тянуть «каучук» — вот он и тянет! А в душе-то против!
— Понятно, господин директор. Резюмирую: есть большая вероятность того, что посол Эномото, предупредив тебя об истинном противнике переговоров, а также желая доказать свои дружеские чувства к России, каким-то образом оказался причастен к устранению врага. То бишь Асикага. Возможно, он воспользовался дружескими отношениями с этим гвардейским офицером и подтолкнул его к… К крайним действиям. Верно ли я тебя понял?
Стремоухов, наклонившись, внимательно всмотрелся в лицо собеседника, пытаясь определить, насколько он искренен. И насколько он, директор Азиатского департамента, может на закате своей карьеры рисковать ею и доверять своему непосредственному начальнику. Будь она проклята, эта всепроникающая дипломатия! Основа жизни, заставляющая лгать друзьям и подозревать в недобрых умыслах человека, которого знаешь много лет!
— Я знаю, ваше сиятельство, что посол Эномото весьма дружен с гвардейским офицером фон Бергом, — заговорил, наконец, он. — Не стану скрывать: эта дружба поначалу мне показалась несколько странной. Дипломатический посланник, вице-адмирал — и младший офицер, сапёр. Можно ли подозревать, что японец заранее, на много ходов вперёд, просчитал ситуацию и поддерживал дружбу с тем, чтобы однажды воспользоваться наивностью и пылкостью, свойственному молодому человеку? Думаю, что в принципе такое развитие ситуации совершенно исключить было бы неверным. Однако сама история знакомства прапорщика Берга и вице-адмирала Эномото в Париже совершенно, на мой взгляд, исключает многоходовую операцию со стороны японцев. И если вас интересует моя точка зрения, ваше сиятельство…
— Ещё как интересует, Пётр Николаевич! — канцлер, в свою очередь, впился в глаза собеседника колючим взором немигающих голубовато-серых глаз. — Итак…
— Резюмируем, по вашему собственному выражению! — вежливо усмехнулся Стремоухов. — Итак, первое: господин Асикага был введён в состав японского посольства по личному настоянию военного министра правительства Японии, господина Сайго Такамори. Причём это было сделано в самый последний момент. Учитывая оппозиционные настроения господина Сайго относительно императора и нового правительства вообще, можно с большой долей уверенности предполагать, что военный министр, предпочитая во внешней политике откровенно авантюристические идеи, пожелал контролировать ход переговорного процесса с Россией. И именно для этого добился включения в состав миссии своего человека.
— Асикага, насколько мне известно, не принимал непосредственного участия в переговорах по Сахалину…
— Извините, ваше сиятельство — вынужден повторяться, чтобы не потерять нить рассуждений… Второе: по донесениям наших людей из Токио, посланник Эномото был официально уполномочен решить сахалинскую проблему через обмен на всю Курильскую гряду, в крайнем случае — на острова до четвёртого пролива. Плюс попытаться выбить с нас компенсацию за их хибары на юге Сахалина. Поверенный Струве, ежели помните, выкупил у некоего мелкого чиновника из министерства внешних связей черновик указания на сей счёт… Теперь следите внимательно, ваше сиятельство: Эномото, приехавши в Петербург, начинает переговоры по Сахалину с самого давнего постулата, обсуждаемого ещё до Бюцова. И вид у него при этом порой архивиноватый, будто против души что-то делает. Плюс наш с ним последний разговор. Какой вывод напрашивается, ваше сиятельство?
— И какой же?
Хитромудрый старец Горчаков вывод для себя уже сделал, а теперь проверяет верность суждений на нём, на Стремоухове. Вот ведь работа собачья, посетовал Пётр Николаевич. Не гавкнешь — дураком прослывёшь. Гавкнешь — ненужным можешь стать…
— На поверхности вывод, Александр Николаевич! — вздохнул Стремоухов. — Не со своего голоса поёт наш посол. Не микадо, и не министерство внешних связей им дирижируют-с! Тут другая игра. А в той игре Асикага, боюсь, стал разменною пешкою! А с ним заодно и нашим офицером пожертвовать пришлось, так-то, ваше сиятельство!
— Ход твоих мыслей, Пётр Николаевич, понятен. И мною целиком разделяем. Теперь давай решать, только быстренько, про Потапова. Доводить до него твои умопостроения? Ты ведь этих жандармов знаешь, Пётр Николаевич! На чистом листе кляксу сотворят, да потом же и обвинят в создании тайного знака.
Стремоухов про себя опять, в который уж раз за сегодня, ухмыльнулся: подсказывает ведь ответ старец! Однако его автором быть не желает. Как будто здесь, в карете, кто-то третий под скамейкой, да с грифельной доскою, прячется. Записывает! Впрочем, кто его знает — вдруг и есть кто. Не под лавкой, так за стенкою…
— Полагаю, ваше сиятельство, что про наши внутренние дела, а паче чаяния — про праздные наши «размышлизмы» «голубым мундирам» знать совершенно не обязательно, — решился Стремоухов. — Есть, к конце концов, протоколы наших переговоров. Получит Потапов высочайшее соизволение — что ж, предоставим. А так — чего голову-то под топор самим класть?
— А про возможность ответственность разделить, ежели что не так пойдёт, не подумал, господин директор? — вздохнул с облегчением канцлер. — Впрочем, переговоры твои, тебе и решать. Будь по-твоему, Пётр Николаевич! Дозволят Потапову с господином послом поговорить — пусть говорит. А мы на своём стоять станем, верно?
— Совершенно верно, ваше сиятельство.
* * *
Несмотря на то что петербургские гастроли Гортензии Шнейдер продолжались в российской столице третий год, интерес публики к парижской диве не ослабевал. Оттого и круглое здание театра «Буфф», появившееся на «обломках» бывшего Новосильцевского театра-цирка на Невском проспекте, по вечерам становилось местом паломничества столичного бомонда. Несмотря на своё «цирковое прошлое», здание имело прекрасные акустические характеристики, а деловое чутьё предпринимателя Егарева, перекупившего «Буфф» и не жалеющего баснословных гонораров для талантливых актрис, делало частный театр центром притяжения всего сановного Петербурга, местом паломничества аристократических фамилий и новорусских богатеев, чьи фамилии были не столь громкими, зато содержимое кошельков позволяло уплачивать за возможность попасть в модный театр не только десяти, но и стократные суммы и без того немалой стоимости входа.
Получив от японского посланника два билета в центральную ложу, Белецкий поначалу решил взять с собой в театр Настеньку. Однако по зрелому размышлению от идеи побаловать дочь редкой возможностью попасть на спектакль Гортензии Шнейдер и одновременно дать ей возможность блеснуть в свете, пришлось отказаться. Белецкий так и не решился сказать ей о серьёзном ранении жениха, а паче чаяния о его возможной смерти. Знакомство же дочери с Эномото неминуемо открыло бы ей правду. И Белецкий отправился в «Буфф» в одиночестве — предположив для себя, что после первого антракта японский дипломат сможет сесть на свободное место рядом с ним и без помех закончить беседу, которая обещала быть весьма трудной.
Несмотря на полный аншлаг, до первого антракта круглый зал театра был полупустым: бомонд снисходительно игнорировал цирковые номера, малоизвестных шансонеток и пантомиму, составляющих программу первого отделения. Не заметил в театре Белецкий и японского дипломата.
В антракте зрители отправились на дефиле по круглой галерее, опоясывающий зрительный зал. В этой же галерее были устроены буфетные комнаты, в одной из которых рюмка коньяка, спрошенная Белецким, обошлась ему в двухдневное жалование.
Выходя из буфетной, он едва не столкнулся с Эномото и поспешно уступил дорогу, соображая — стоит ли ему афишировать своё знакомство с японским посланником и приветствовать его. Однако Эномото сам решил эту проблему: широко улыбнувшись, он протянул тайному советнику руку и засыпал его градом вопросов, обычных для давно знакомых людей. Спрошено было и о Настеньке — и тут же выражено сожаление о том, что её отсутствие лишает Эномото возможности познакомиться с очаровательной барышней, о которой он столь много слышал.
— Надеюсь, вы окажете мне честь, господин Белецкий, разделить со мной ложу, в которой мне совсем не хочется смотреть спектакль в одиночестве, — церемонно пригласил его японец. — Это ложа номер три. Как меня уверяли, оттуда панорама сцены видится совершенно полной.
— Почту за честь, — пробормотал Белецкий, ловя на себе завистливые взгляды публики и соображая — сколько его знакомых завтра же найдёт повод сделать визит и выразить своё восхищение столь лестным знакомством.
Собеседники церемонно раскланялись, и Эномото тут же вступил в разговор с обладателем чудовищных бакенбард и многочисленных звёзд орденов на алом мундире с золотым шитьём. А Белецкий, погуляв под многочисленными пальмами и лианами, украшающими галерею, дождался третьего звонка и направился к ложе посланника.
Служитель с внешностью сенатора, застывший навытяжку у дверей в ложу, был, очевидно, предупреждён о визите, и с почтительным поклоном распахнул перед Белецким дверь, назвав его «сиятельством».
В полумраке ложи Белецкого ожидал уже совсем иной Эномото — торжественно-серьёзный, без тени прежней широкой улыбки на лице.
— Прошу прощения, господин Белецкий, за то небольшое представление, устроенное мной возле буфетной, — с поклоном приветствовал он визитёра. — Дипломатам не привыкать всё время играть на публике какие-то роли. А я подумал, что только впечатление о давнем и тесном знакомстве сможет оградить нас от излишне назойливого внимания публики. Садитесь, прошу вас!
Усевшись на кресло рядом, Эномото без промедления приступил к делу:
— Я искренне благодарен вам, господин Белецкий, за то, что вы доставили мне ту шкатулку и письмо от моего друга Мишеля Берга. Я не сомневался в его порядочности и раньше, однако только теперь понимаю, что он оказал мне услугу, которую трудно переоценить!
— Да и я, собственно, всегда полагал Мишеля умным и порядочным человеком, — пожал плечами Белецкий. — Иначе вряд ли позволил ему встречаться с моей дочерью и иметь с нею совместные планы на будущее…
— Дело слишком серьёзно, господин Белецкий. И только это обстоятельство заставляет меня задать вам несколько вопросов, часть из которых может показаться вам нескромными. И я заранее прошу у вас прощения за них. Скажите, как эта шкатулка к вам попала?
Этот вопрос Белецкому нескромным ни с какой стороны не показался, и он пересказал историю появления в его доме доктора Шлейзера и его рассказ.
— А этот доктор… Не мог ли он, по вашему мнению, заглянуть в шкатулку?
— Вряд ли, ваше высокопревосходительство. Дело в том, что ключ от неё был в конверте с письмом, адресованным моей дочери. Чего греха таить, с учётом рассказа доктора о ранении бедного Мишеля, я вскрыл адресованное ей письмо. И видимо, правильно сделал — иначе она узнала бы о том, что жених ранен…
— А сами вы, господин Белецкий, в шкатулку не заглядывали? Извините, но для меня этой крайне важно!
— Был такой соблазн, господин вице-адмирал! — признался Белецкий, краснея и радуясь тому, что в полутьме ложи его смущение не будет заметно. — Поймите меня правильно: я же отец! К тому же мне небезразличен и бедный Мишель. Я открыл эту шкатулку, увидел, что там бумаги — и не стал смотреть, снова запер. Позже, когда в «Ведомостях» появилась ваша нота протеста, а в других газетах фон Берга называли убийцей и виновником возможного срыва переговоров с Японией, я засомневался: стоит ли доставлять вам это послание от Мишеля. Не осложнит ли это ещё больше его нелёгкого положения? Я не спал всю ночь, господин вице-адмирал. Мишель Берг всегда очень тепло о вас отзывался, да и в нашей семье он уже почти был своим. И тогда, вспомнив рассказы Миши о ваших утренних прогулках, я решил встретиться с вами и поглядеть на вашу реакцию. Составить, так сказать, своё впечатление. А потом уже решать — передавать вам шкатулку или нет?
— Благодарю за откровенность, господин Белецкий. Вы честный и благородный человек, — Эномото помолчал и попросил. — Мне надо обдумать сложившуюся ситуацию. Кстати, на сцене уже появилась знаменитая прима — давайте немного помолчим и посмотрим за действом!
— Как вам будет угодно…
Эномото замолчал, уставясь на сцену невидящими глазами. Бравурные звуки оркестра, задорный голос знаменитой Гортензии и её песенки, прерываемые шквалом аплодисментов и криками «бис!» и «браво!», постепенно заворожили Белецкого. Он перестал в нетерпении поглядывать на замершего как изваяние японца, и даже вздрогнул, когда тот неожиданно повернулся к нему и спросил:
— Доктор не упоминал — в каком именно монастыре он оставил Мишеля?
— Нет, ваше высокопревосходительство. И я как-то поздно сообразил спросить, он уже ушёл, — Белецкий виновато поёрзал в кресле и принялся вслух рассуждать. — Монастырь не в самой Варшаве, а где-то в её пригородах. И видимо, не слишком далеко — иначе доктор не рискнул бы везти туда больного с огромной кровопотерей. Да и жгут на ране нельзя держать более двух часов, мне кажется. Он ещё упомянул, что при этом монастыре сестёр-бенедиктинок как приют для убогих и престарелых. И наверняка какая-то больничка — смог же он произвести там ампутацию руки бедного Мишеля. Да и медицинский персонал наверняка имеется — чтобы выхаживать пациента с такими страшными ранами…
— Очень здравые и логичные размышления, господин Белецкий, — скупо похвалил Эномото. — Теперь попробую порассуждать, с вашего позволения, я сам! Итак, трагедия произошла восемь дней назад — мой друг поставил дату под своим письмом мне. Его величеству доложили о гибели дипломата Асикага спустя три дня — до этого времени, смею предполагать, поиски раненого в поединке шли… Как бы это поточнее сказать?
— Ни шатко и валко, — подсказал Белецкий. — Полицейская машина империи «раскрутилась» в полную силу только после высочайшего повеления!
— Браво, господин Белецкий! Итак, раненого и доктора активно ищут уже пять дней. Ищут, я думаю, очень старательно — государь лично заверил меня в этом! Третьего дня, когда я вручал канцлеру Горчакову ноту протеста, их ещё не нашли. И пообещали поставить меня в известность о результатах поиска безотлагательно! Но до сих пор не поставили! Почему, господин Белецкий?
— Потому что не нашли, — пожал тот плечами.
— Правильно! А почему не нашли? Неужели потому, что в списках Варшавской полиции так много докторов? Или потому, что никому не пришло в голову проверить лечебные заведения при монастырях? — японец в упор поглядел на собеседника.
— Насчёт умения искать ничего сказать не могу, господин вице-адмирал: увы, слишком далёк от полицейской области. А вот насчёт монастырей есть одно соображение! Вы человек в России, так сказать, новый. Всего не знаете…
— Какое соображение? Чего я не знаю?
— Царство Польское, или Привислинский край — это часть Российской империи. Откровенно говоря, я бы назвал эти области занозой в теле нашего государства. Знаете, другая вера, множество проблем в отношениях… Да и история российская, откровенно говоря, весьма богата памятью на обиды, причинённые поляками. Словом, и у русских, и у поляков нет больших оснований любить друг друга без памяти! В Польше давно уже грезят отделением от России, господин вице-адмирал. К тому же чуть больше десяти лет назад в царстве Польском вспыхнуло восстание за независимость от России, которое было подавлено — многие, даже в России, считают, что излишне жестоко подавлено.
— И вы полагаете, господин Белецкий, что тамошняя полиция не слишком… усердна в поисках?
— Ваше предположение имело бы право на существование, если бы речь шла о розыске поляка, убившего русского офицера, — криво усмехнулся Белецкий. — Но это не так. К тому же ключевых постов в управлении Привисленским краем поляки не занимают, насколько я знаю. А вот католическая церковь — это уже, как говорят у нас, «теплее»! Это непримиримый враг всего русского, православного! Церковные конфессии вообще неохотно сотрудничают с властями, а уж если речь идёт о католиках и их отношении к «православным угнетателям, гонителям веры и поработителям» — тут о сотрудничестве не может быть и речи! Да и русские власти после осложнения отношений и варшавского восстания стараются не давать поводов обвинять их в каком-либо притеснении католиков.
— Понятно. Значит, ключ к поиску Берга — тот самый доктор! Он поляк, господин Белецкий?
— Скорее, польский еврей. Погодите, да ведь у меня осталась его визитная карточка! — спохватился Белецкий, нащупывая в кармане смокинга бумажник и лихорадочно роясь там. — Экий я простофиля! Правда, там нет адреса — но фамилия и наименование заведения указаны. Вот она!
ПОХОРОННОЕ И РИТУАЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ № 1 В ВАРШАВЕ!
доктор медицины и патологоанатомии Яков Шлейзер
и мастер обрядовых услуг Тадеуш Заболоцкий
ОБРАТИТЕСЬ К НАМ — и ВАШИ ПЕЧАЛИ СТАНУТ НАШИМИ!
Наши усопшие выглядят живее тех, кто следует за их гробом!
Эномото взял протянутую визитку, прочитал написанное, перевернул на обороте карточки был аналогичный текст на немецком языке — и тоже без адреса.
— Вот и ответ на мой вопрос, господин Белецкий — почему полиция не смогла до сих пор найти доктора. Его искали в больницах, среди частнопрактикующих медиков с патентами. А доктор Шлейзер — совладелец похоронного заведения. Патологоанатом, судебный врач, устанавливающий причины смерти людей.
— Пожалуй, вы правы, — согласился Белецкий. — Но их всё равно найдут — это всего лишь вопрос времени. Наш государь — очень настойчивый человек. К тому же «нерадивость» тех, кому монарх доверил ответственные посты, ставит его в неловкое положение и перед вами, и перед Японией, и перед Европой. Ещё день два — и государь начнёт гневаться. Как говорят у нас, головы полетят. Усилия в поисках будут удвоены или утроены, кому-нибудь придёт в голову светлая мысль. А то и наш еврейский доктор, убоявшись ответственности за «укрывательство», придёт к властям с покаянием.
Эномото кивнул, в задумчивости постукивая ребром визитки по перилам балкона.
— Вы имеете право знать подоплёку этой истории с погибшим японцем, господин Белецкий. Я был послан в Россию моим императором, а Асикага — враг микадо и всего нового, что происходит сейчас в Японии. Говоря образно, Асикага был бомбой в багаже моего посольства — бомбой, которая должна была взорваться в нужный момент. Я подозревал нечто подобное ещё до отъезда в Россию. Я догадывался, что поездка Асикага в Европу после получения тайного приказа из Японии — тоже неспроста. Мой друг Мишель Берг чувствовал моё подавленное настроение и несколько раз пытался вызвать меня на откровенность, предлагал помощь. Но я не считал себя вправе перекладывать собственные проблемы на него — и молчал. Тогда Мишель решил действовать сам: он поехал за Асикага в Париж, выследил его и убедился, что документы в шкатулке погубят меня. Единственной возможностью отнять эти документы и спасти меня был поединок с Асикага… И Мишель решился на этот самоубийственный поступок, господин Белецкий!
— Почему же самоубийственный? — решил возразить Белецкий. — Мишель был храбрый офицер! И уже имел опыт боевых сражений в Туркестане, дважды награждён за отвагу.
— Армейская сабля против японского меча? К тому же Асикага был признанным мастером клинка у нас на родине. У Мишеля не было ни единого шанса победить, господин Белецкий! — вздохнул Эномото. — Даже если бы случилось такое чудо — за причинение смерти иностранному дипломату Мишель попал бы под следствие и в тюрьму! Меня, правда, он бы спас в любом случае… Это поступок истинного самурая, господин Белецкий! Поступок настоящего друга…
— Я понимаю ваши чувства, господин посол, — Белецкий был потрясён.
— И это ещё не всё! — усталым жестом остановил собеседника Эномото. — Обнародование документов из шкатулки не только дискредитировало бы меня, но и нанесло бы оскорбление вашему императору — особенно после того, как он приблизил меня к себе. У его величества Александра II не было бы другого выхода, кроме как минимум выслать меня из России. Переговоры с Японией были бы сорваны, отношения между нашими странами надолго испорчены…
— Но зачем всё это нужно было вашим врагам, ваше высокопревосходительство?
— Главной целью их удара был не я. И даже не престиж Александра II. Всё перечисленное нанесло бы непоправимый ущерб его величеству микадо. Скомпрометировало бы его и в Японии, и в Европе. И наверняка позволило бы главному заговорщику прийти к власти в стране, развязало бы императорской оппозиции руки в проведении той политики, которую они навязывали нашему народу. Теперь вы понимаете цену поступка моего друга, Мишеля фон Берга? Понимаете, почему мне так важно найти его?
— Понимаю, господин вице-адмирал. Но доктор… Доктор Шлейзер со всей определённостью заявил мне при встрече, что Миша Берг, скорее всего, не жилец на этом свете…
— После услуги, оказанной мне русским офицером фон Бергом, я должен до конца своих дней опекать тех, кто был дорог моему другу! Я должен разыскать его могилу и отдать ему посмертные почести. У меня нет права на жизнь, если я не сделаю это. Понимаете ли вы, господин Белецкий?
Ручка театрального бинокля, который Эномото всё время машинально вертел в руках, глухо треснула и сломалась. Японец невидящим взглядом смотрел на кровь, капающую из пораненной острым краем металлической оправы ладони. Белецкий выхватил из кармана платок, протянул собеседнику.
— Благодарю… Господин Белецкий, вернув мне шкатулку с документами, вы поступили как благородный человек. Не передав её полицейским властям, а вы были, насколько я понял, предупреждены, что речь идёт о преступлении из разряда государственных, — вы рисковали положением в обществе и своей карьерой. Таким образом, я в долгу и перед вами…
— Право, не стоит об этом, господин посол…
— Стоит, стоит. Но я не закончил: несмотря на сказанное, я вынужден просить вас и о дальнейшей помощи. Мне просто не к кому обратиться более в вашей стране, господин Белецкий!
— Ну, если я окажусь в силах…
— Мы с вами должны непременно разыскать этого варшавского доктора, а через него Мишеля. Если он умер, то достойно похоронить его и воздать положенные почести. Если он ещё жив — то сделать всё для спасения его жизни, обеспечить медицинский уход и укрыть от преследования властей и гнева вашего государя. Время, господин Белецкий! Вы сами упомянули о том, что у нас на всё это очень мало времени!
— Что я должен сделать, господин посол? Говорите, прошу вас, не забывайте о том, что речь идёт не только о вас, но и о моей дочери и её женихе. Это несколько уменьшает ваш личный долг, — невесело усмехнулся Белецкий.
— К сожалению, сам не могу выехать в Варшаву. То есть потребуется официально уведомить о моей отлучке и маршруте МИД России. Для русских властей это будет равносильно признанию того, что я нащупал некий след в «деле Берга». Меня немедленно возьмут под наблюдение, и я выведу власти на доктора и Мишеля. К тому же доктор Шлейзер может вообразить, что японец ищет Мишеля с тем, чтобы отомстить ему за убитого соотечественника! И откажется сообщить о его местонахождении — если мой друг ещё жив, конечно…
— То есть ехать надо мне, — понимающе кивнул Белецкий. — В принципе, это возможно. К тому же у Корпуса инженеров, который я возглавляю, есть неотложные дела на Варшавской железной дороге… Да и доктор, зная меня в лицо, не станет скрывать место пребывания раненого. Но не будем забывать о том, что моё семейство тоже находится под пристальным вниманием полиции и жандармерии — ожидая возможных известий от Мишеля! Ко мне хвост приставят ещё быстрее, нежели к вам, господин посол!
— Логично, — тут же согласился Эномото. — И всё же иного выхода я не вижу! К тому же я могу в это время испросить высочайшую аудиенцию и умолить государя прекратить розыск фон Берга. Конечно, что-то придётся придумать, либо сказать часть правды. Например, что Мишель, выехав за Асикага в Европу, выполнял мою дружескую просьбу. Учитывая приязненное отношение ко мне его величества, о котором он сам неоднократно мне говорил.
— Извините, что вынужденно перебиваю вас, господин посол! Я, конечно, не вхожу в число приближённых государя. И не могу похвастать, в отличие от вас, личным знакомством с Александром. Однако скажу наперёд: государь никогда не путает личные дела с государственными! Смерть иностранного дипломата от руки гвардейского офицера, принимавшего присягу на верность царю, для его величества была и останется нарушением долга и преступлением. А ваша просьба будет расценена как вмешательство в дела государя и наверняка испортит ваши дружеские отношения. Отдав личный и категорический приказ о розыске Берга, запустив для этого всю мощную государственную машину, Александр не может, не имеет права отменить своё распоряжение! Дело, конечно, ваше — попробуйте, господин посол! Может, я и ошибаюсь…
— В ваших словах есть резон. Я подумаю. Ну а что с поездкой?
— Надо ехать! — вздохнул Белецкий. — Впрочем, доктора можно попытаться найти и здесь. В нашем разговоре он упоминал, что приехал в Петербург на три дня, за какими-то химическими препаратами для своего заведения. Пошлю завтра на Варшавский вокзал слугу, пусть там подежурит. Увидит — передаст записку от меня. Не встретит — послезавтра выезжаю: раньше всё равно никак не получится!
Эномото кивнул и протянул Белецкому руку в знак согласия. Рукопожатие затянулось, словно собеседники боялись потерять друг друга в этом мире. Обширный зал «Буфф» в эти самые минуты, словно обезумев, вовсю работал руками, от бешеных аплодисментов божественной Гортензии Шнейдер начала чуть покачиваться на позолоченных цепях гигантская люстра. На сцену полетели кошельки и букеты цветов, в глубине которых таились привязанные к стеблям кольца с драгоценными камнями и золотые цепочки-браслеты.
Раскрасневшаяся, так и не сумевшая остаться равнодушной к восторгам толпы, Гортензия кивнула музыкантам, и те снова взмахнули смычками, вздыбили вверх сверкающие жерла труб. И Гортензия вновь полетела по сцене, задорно подбрасывая в канкане изящными ножками в сетчатых чулочках бело-багровый ворох юбок…
Потом, уже в своей уборной, окружённая почтительной стаей бело-чёрных фрачников, Гортензия Шнейдер утомлённо отставит второй бокал пузырящегося шампанского и вспомнит:
— Ах да, господа! Я совсем забыла спросить: а что за невежи занимали третью ложу? Представьте себе: ни одного букета оттуда! Даже не аплодировали, нахалы, по-моему! Никто не знает — кто это был?
Поклонники тут же злорадно припомнили: японский посланник нынче был в ложе номер три. И кто-то с ним ещё, а кто — бог весть! Не обращайте внимания, божественная Гортензия: ну что эти азиаты могут понимать в канкане и в очаровательных француженках?!
Глава шестнадцатая
Его Величество Император Всероссийский и Его Величество Император Японии, желая положить конец многочисленным неудобствам, проистекающим от совместного владения островом Сахалином, и упрочить существующее между ними доброе согласие, постановили заключить Трактат о взаимной уступке, со стороны Его Величества Императора Всероссийского — группы Курильских островов, а со стороны Его Величества Императора Японии — его прав на остров Сахалин…
Хотя протокол заключительного этапа завершения переговоров дозволял высоким договаривающим сторонам зачитывать и слушать согласованный текст, не вставая с места, канцлер Горчаков не утерпел, и уже на второй фразе внушительно поднялся из кресла. Торжествующе поблёскивая стёклышками очков, отражающих свет многочисленных свечей, он медленно зачитывал текст, привычно делая между фразами паузы и прислушиваясь всякий раз к бормотанию переводчика Уратаро Сига, повторяющего положения договора главе японской делегации, Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в России Эномото Такэаки.
Сам посол тоже сохранял приличествующее торжеству момента выражение значительности на лице, несколько обрусевшему за год пребывания в России. Директора Азиатского департамента МИДа Петра Николаевича Стремоухова, сидящего через стол напротив Эномото и пытающегося от скуки определить эти приметы обрусения, вдруг осенило: да всё из-за густых бакенбард, заботливо отращённых послом за последние несколько месяцев! Сбрей-ка этакие пушистые украшения лица, убери добродушно-величественные брыли со щёк, да небольшой хохолок со лба — и снова из-под «русской маски» выглянет невозмутимый и загадочный азиат…
От фривольности неподобающих моменту мыслей Петра Николаевича вдруг повело на улыбку — и тут же он поймал на себе острый цепкий взгляд посла. Словно прочитав его мысли, Эномото, до сего момента сидящий неподвижно, вдруг, словно невзначай, рассеянным жестом поднял левую руку ко лбу. А далее, в упор глядя на Стремоухова, резко прижал и несколько оттянул назад хохолок волос на голове, прищурил глаза до щелочек и даже несколько оскалился, растянув тонкие губы. А при виде невольного изумления на лице директора мгновенно убрал и руку, и улыбку-оскал. И чуть заметно подмигнул: знаю, мол, о чём думаешь!
Более широкую невольную улыбку от мальчишеской выходки посланника Петру Николаевичу пришлось старательно прятать в платок.
А Горчаков, не замечая этой мимической сценки, продолжал торжественно вещать:
— Статья шестая. В уважение выгод, проистекающих от уступки острова Сахалина, Его Величество Император Всероссийский предоставляет: первое — японским судам право посещать порт Корсаков без платежа всяких портовых и пограничных пошлин, в продолжении десятилетнего срока. Второе: японским судам и купцам, для судоходства и торговли в портах Охотского моря и Камчатки, а также рыбной ловли в этих водах и вдоль берегов, те же права и преимущества, которыми пользуются в Российской империи суда и купцы наиболее благоприятствуемых наций…
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии, доказав мимоходом русскому коллеге-дипломату Стремоухову свою внимательность и способность к физиономистике, продолжал делать вид, что внимательно слушает русского канцлера и перевод положений Трактата на японский язык. Мыслями же он витал далеко и от переговорной залы МИДа, и от Петербурга вообще.
Нет, посол не был легкомысленным человеком. И нынешняя его рассеянность проистекала отнюдь не из пренебрежения интересами своей далёкой родины, которые в принципе могли бы пострадать от малейшей неточности или двусмысленности в тексте Трактата, под которым он через несколько минут от имени Японии поставит свою подпись. Эномото был уверен: неточностей и двойного смысла в международном документе нет. И никто и никогда не упрекнёт его за это.
…Долго, без малого год, он обсуждал с русскими различные варианты решения Сахалинского вопроса. Гораздо больших усилий потребовала напряжённая работа по согласованию нюансов, а паче чаяния — древняя, как сама история мировой цивилизации, дипломатическая игра взрослых и умудрённый опытом людей. Надо было озабоченно хмуриться при озвучивании самых выгодных и приемлемых для своей страны предложениях русских — чтобы тут же, в соответствии с правилами «игры», попытаться получить ещё более значимые преимущества. Зная при этом, что партнёры по переговорам никогда не поступятся большим. Зная, что русские играют по тем же правилам, что и японцы.
Эномото очень устал за этот год. Устал не только душевно — со временем постоянное мыслительное напряжение перетекло в физическую усталость. Он никогда ранее не постигал дипломатию как науку и искусство, однако способность учиться новому сохранилась у него ещё со времён шестилетнего голландского «университета». Анализируя причины своей усталости, вице-адмирал пришёл к выводу, что её истоки в другом — в постоянном напряжении и необходимости быть готовым к любой неожиданности.
С самого дня своего назначения в Россию он ждал этих неожиданностей. Странная и неожиданная протекция военного министра Сайго Такамори. Включение в состав дипломатической миссии лейтенанта Асикага Томео — не сразу определив его роль в своей судьбе, Эномото всё же постоянно чувствовал нешуточную угрозу от этого человека. Своё собственное прошлое: посол понимал, что русский царь, узнай он о мятеже Эномото, его приговоре и трёхлетнем пребывании в тюрьме, неминуемо сочтёт это оскорблением своего монаршего достоинства. Чем больше выделял Александр посла Японии, чем больше царственной и человеческой приязни дарил ему, тем болезненнее стал бы для русского царя удар по его самолюбию. Тем сильнее была бы досада оттого, что его «обманули», выставили на посмешище перед всем миром.
Тогда — что? Русская тюрьма? Объявление персоной нон грата и высылка из России, это в лучшем случае! Но даже в этом «лучшем» случае его возвращение в Японии отнюдь не было бы триумфальным. Эномото не сомневался: его неминуемо сделали бы виноватым и в провале дипломатической миссии, и в подрыве престижа Японии на международной арене. И тогда была бы снова тюрьма. Не русская, так японская…
Появление в его жизни искреннего и доброжелательного двадцатилетнего русского офицера фон Берга скрасило несколько месяцев вынужденного одиночества Эномото и даже несколько снизило градус напряжения его жизни. С Мишелем Бергом ему было легко и просто. Он искренне потянулся к молодому жизнерадостному человеку, единственному, кому от него, от Эномото, не было нужно ничего, кроме радости общения и познания незнакомых ранее сведений, обычаев, нравов…
Фон Берг искренне хотел стать другом для Эномото — не из тщеславия, не из желания похвастать в кругу армейских приятелей знакомством с высокопоставленным иностранным дипломатом, любимцем царя. Берг хотел быть полезным, и, видя холодную отстранённость японца, постоянно подчёркиваемую им официальность в отношениях, даже обижался. Винил в этой холодной отстранённости себя, своё неумение доказать дружбу и готовность прийти на помощь в любую минуту. Он просто не знал и не понимал древних японских обычаев, густо замешанных, к тому же, на очень долгой самоизоляции Страны восходящего солнца, на традиционном недоверии японцев ко всему, что привнесено извне… Этот наивный, но верный друг просто не знал, что для самурая внешнее проявление любых тёплых и добрых чувств равносильно признанию собственной слабости духа…
Берг, почуяв в Асикага врага своего друга, ринулся за ним в Европу. И без колебаний поставил на кон ради Эномото свою жизнь и будущее. Когда Эномото получил шкатулку со страшными для него документами, он в полной мере оценил то, что Берг сделал для него. Асикага, выполняя приказ своего прямого начальника из далёкой японской Кагосимы, был готов не только раскрыть русскому царю «преступное» прошлое японского посла. Разоблачительные для Эномото факты, подкреплённые фотографическими карточками и язвительными комментариями, должны были появиться в скандальной французской газете. Франция, обиженная «предательством» русского самодержца и политикой России, переориентированной в то время на Пруссию, не упустила бы возможность выставить виновника своих унижений на посмешище!
Подумав об этом сейчас, посол невольно хмыкнул: на гребне этой антирусской истерии Александр вряд ли обошёлся бы только высылкой из России виновника скандала!
Когда Берг метался в бреду от ран в маленькой монастырской келье, оскорблённый его «дерзостью» русский царь одним росчерком пера лишил его военного чина и повелел продолжать поиски, чтобы наказать ещё более.
Эномото сумел с помощью отца невесты Берга найти его, ещё живого, в больничке для убогих и престарелых при женском монастыре близ Варшавы.
Японский посол, собираясь в Варшаву, поставил в известность главу русского внешнеполитического ведомства Горчакова о необходимости временно покинуть пределы России. Из предосторожности конечным пунктом поездки был назван Берлин. К тому же Эномото, сыграв крайнее недовольство, заявил канцлеру дипломатический протест по поводу установленного за ним, японским послом, полицейского наблюдения. Ход был верным: если такового наблюдения и не было, то заграничная русская охранка не преминула бы присмотреть за послом в его поездке. Горчаков обратился к Александру, предупредив его о возможных осложнениях в переговорах по Сахалину в случае, если Эномото заметит наблюдение за собой.
— Но ведь мы уже потеряли одного японского дипломата! — нахмурился тогда Александр. — Причём потеряли, ежели помнишь, Александр Михайлович, именно на берлинском маршруте! Нельзя ли внушить господину послу, что охрана его персоны проистекают лишь от нашего стремления обеспечить его безопасность?
— Пробовал уже! — развёл руками Горчаков. — Господин Эномото заявляет, что в состоянии сам обеспечить собственную безопасность. А замеченных им в будущей поездке агентов охраны он будет расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела Японии! Во всеми вытекающими последствиями, ваше величество!
— Быстро он оперился у нас, однако! — пробормотал Александр, начиная гневаться. — Вот, господин канцлер, следствие того, что наши правоохранительные силы не в состоянии найти убийцу секретаря японского посольства!
— Думаю, что нынче дело совсем не в неудовольствии господина Эномото состоянием розыска преступника! — попробовал возразить Горчаков.
— Оставь, светлейший! — махнул рукой Александр. — Вам бы с генералом Потаповым только щёки надувать, да умопостроения вместо дела производить! Что ж… Не желает господин посол охрану — просьбу уважить! Передай генералу: никакой самодеятельности! Ежели Эномото пожалуется на пригляд — мне придётся виновными Восточную Сибирь «усиливать»!
— Слушаюсь, государь! — хотя Горчаков никакого отношения к полиции и жандармерии и не имел, однако понял: недовольство Александра, случись какой казус с охраной, в первую очередь падёт на его голову.
…Канцлер Горчаков меж тем продолжал торжественно зачитывать статьи положений Трактата:
— Статья седьмая. Принимая во внимание, что хотя полномочие вице-адмирала Эномото Такэаки ещё не дошло к месту своего назначения, но телеграммою удостоверено, что оное уже отправлено из Японии, то стороны условились не откладывать более подписание настоящего Трактата. В оном постановлено, что обряд обмена полномочий последует немедленно по получению японским уполномоченным своих письменных полномочий и что для удостоверения исполнения этого обряда будет составлен особый протокол…
Словно сомневаясь в том, что полномочия микадо адресованы именно Эномото, Горчаков поверх очков испытующе воззрился на вице-адмирала. А тот, погружённый в прошлое, не сразу заметил обращённых на него взглядов и мгновенно установившейся тишины. И лишь лёгкое покашливание Стремоухова вернуло посла в настоящее. Вскинув голову, он торжественно наклонил голову:
— Рескрипт Его Императорского Величества выслан сюда специальным курьером, господа!
Присутствующие в зале переговоров слегка задвигались, закивали.
А это минимум два месяца, подумал Эномото. Два месяца на то время, чтобы специальный посланник императора Японии обогнул с юга Азиатский материк на корабле, после Суэца и Чёрного моря пересел на железную дорогу и с запада прибыл в Россию. А что посланец привезёт ещё?
Год назад в Токио министр внешних связей уже вручал посланнику полномочия правительства Японии, где были обозначены предельно допустимые уступки по Сахалину и достигнутые нынче условия соглашения были бы свидетельством победы дипломата Эномото. Какие ветры дуют нынче в правительственных коридорах Страны восходящего солнца? Об этом Эномото мог только догадываться.
Чего стоят догадки и предположения человека, лишённого подробной информации о событиях, происходящих на далёкой родине? Такую информацию Эномото в течение последнего года черпал только из телеграмм и комментариев, публикуемых в европейских и американских газетах. Составить по этим материалам, чаще всего противоречивым, верную картину происходящего было просто невозможно. Правительственные депеши из Японии, адресованные лично Эномото, приходили в Петербург не чаще одного-двух раз в месяц.
Он не знал, например, истинной реакции военного министра Сайго Такамори на известие о смерти его посланца Асикага Томео. Да и как он мог, собственно говоря, отреагировать на краткий рапорт о том, что секретарь посольства найден мёртвым близ границы Российской империи, и что смерть его наступила при невыясненных пока обстоятельствах? Чуть позднее Эномото отправил на родину более подробный отчёт, приложив к нему извещение МИДа России, официально выраженное соболезнование Александра II, материалы полицейского расследования смерти японского дипломата и несколько вырезок из русских газет. Имя фон Берга там упоминалось, но никаких сведений о том, что предполагаемый виновник гибели Асикага был весьма дружен с послом Японии, нигде не содержалось. Умолчал об этом в своём отчёте и сам вице-адмирал. Правда, об этом вполне мог верноподданнически сообщить правительству Японии переводчик посольства, Уратару Сига.
Вице-адмирал скосил глаза на замершего рядом Уратару: всегда почтителен, уважителен, исполнителен — а что ещё он знает о своём переводчике? О русском друге Мишеле Берге он знал гораздо больше…
…Когда высокие договаривающиеся стороны согласились, что русский и японский тексты Петербургского трактата идентичны, за спинами Горчакова и Эномото бесшумно засуетились помощники. Министру и послу подали тяжёлые бювары красного сафьяна, содержащие Трактат на двух языках. Подписи Горчакова и Эномото немедленно были просушены специальными подушечками с вензелями МИДа. Встав, стороны обменялись бюварами, а следом и рукопожатиями. Вице-адмирал уже сделал движение, чтобы выйти из-за стола, однако Стремоухов, поймав взгляд Эномото, чуть заметно покачал головой: ещё не время уходить!
А канцлер Горчаков уже торопливо шёл к нему вокруг стола в сопровождении секретаря с тяжёлой шкатулкой в руках.
— Ваше высокопревосходительство, господин Чрезвычайный и Полномочный Посол! — заговорил Горчаков. — Сегодня мне выпала великая честь выполнить повеление государя и вручить вам, господин вице-адмирал, орден Святого Станислава I степени. Знаками этого ордена Его Величество Александр II отмечает те большие заслуги и тот длительный труд, коими была примечательна ваша работа, имеющая сегодня, 25 мая 1875 года, столь значительный финал, как подписание Трактата…
В шкатулке блеснула большая многолучевая звезда, вся усыпанная бриллиантами.
Первым побуждением Эномото было немедленно отказаться от русской награды: он прекрасно понимал, что орден могут счесть подачкой, ради которой он «малодушно предал интересы великой Японии». Отказываться было, разумеется, нельзя: русские необычайно щепетильны в таких вещах. И публичное отвержение награды императора Александра II будет расценён как недружественный акт, идущий вразрез только что продемонстрированному миролюбивому настрою в отношениях с Россией.
Были у японского посла и другие мотивы. Вице-адмирал просто не знал, что именно будет содержать дипломатическая почта, отправленной нынче из Токио. Только ли официальное подтверждение полномочий посла относительно подписания Трактата? Не сочтёт ли правительство Японии и император завершение работы над Трактатом окончанием его миссии в России? Эномото вполне допускал, что пакет с личными печатями императора может привезти в Санкт-Петербург его преемник, новый Чрезвычайный и Полномочный Посол, назначенный вместо него. Тогда ему придётся паковать чемоданы и уезжать, бросив здесь Берга. Тогда два месяца — это всё, что у него остаётся… На это время ему нужна максимальная свобода действий, максимальный карт-бланш доверия русских. И ни о каком доверии уже не может быть и речи, откажись он от русской награды…
Здесь же Горчаков вручил Эномото торжественное приглашение на приём, даваемый МИДом по случаю завершения русско-японских переговоров и подписанию Трактата, который войдёт в историю как Петербургский. Вице-адмиралу оставалось только поблагодарить, хотя идти на этот приём у него не было ни малейшего желания.
На этот приём в министерство иностранных дел были приглашены, разумеется, не только высший свет Санкт-Петербурга, но и все дипломаты, аккредитованные в Северной столице России.
За минувший год Эномото общался с коллегами из дипломатического корпуса эпизодически, исходя из принципа минимальной достаточности. Коллеги платили ему той же монетой: были холодно-вежливы на протокольных встречах, никогда не приглашали его в свой круг неофициального общения.
Эномото знал, что за этой холодностью скрывается не только плохо маскируемое презрение дипломатов «английского круга» к «выскочке» из какой-то далёкой и малозначимой в международной большой политике Японии. Холодностью ему мстили за явное благоволение к японскому посланнику Александра, за их частые семейные чаепития в кругу царской семьи и домашние «посиделки» с карточными «баталиями».
Исключением в этом смысле был французский посланник Адольф Ле Фло — «военная косточка», как он сам себя называл и в шутку, и всерьёз. В России дивизионный генерал Ле Фло «отбывал» уже второй посольский срок, что позволяло ему иронично подтрунивать над «надменными выскочками», уже через месяц после прибытия в Петербург считающими себя великими специалистами в славянских вопросах. Встречаясь с Эномото, француз никогда не навязывал ему своего мнения и всегда старался приободрить, если чувствовал, что коллеге-дипломату, не имеющему опыта в международной политике, приходится нелегко.
— Поздравляю, господин вице-адмирал! — первым атаку на Эномото, приблизившись к нему с бокалом шампанского, начал английский посланник лорд Лофтус. — Ваша дипломатическая победа на столь долгих переговорах с русскими войдёт в историю, не сомневаюсь! Выторговать кучу скал в Тихом океане в обмен на жалкий кусок острова, который и не на всех картах-то обозначен! Вам этот «обмен века» ничего не напоминает, господин вице-адмирал? Какую-нибудь русскую поговорку?
— Обмен шила на мыло? — улыбнулся в ответ Эномото. — Поздравляю и вас, лорд Лофтус: ваше увлечение русским фольклором доминирует над озабоченностью вашего коллеги, британского посланника в Японии Паркса! Он, если не ошибаюсь, только и делает, что оплакивает потерю Японией Южного Сахалина. А сам факт переговоров неоднократно расценивал как угрозу экономическим интересам Англии. Не подскажете ли, лорд, чего больше опасался потерять господин Паркс — шило или мыло? А может, богатейшие месторождения угля на этом острове преткновения?
Сэр Огастус Лофтус чуть заметно прищурился: такой отповеди от дипломата-«новичка» он не ожидал. Однако, не желая сдавать позиции представителя сильнейшей державы мира, тут же предпринял заход с другой стороны:
— О-о, господин вице-адмирал, моя неосведомлённость относительно природных богатств острова Сахалин простительна! Ну а как же тогда прикажете расценивать вашу осведомлённость? — лорд легонько прикоснулся краем бокала к сияющей звезде Станислава на алой ленте, пересекающей наискосок мундир вице-адмирала. — Посчитает ли правительство Японии эту награду достойной платой за потерянный сахалинский уголь? Простит ли оно вас, господин Эномото?
Английский посланник явно нарывался на скандал. Словно почувствовав сгущающуюся обстановку, рядом тут же возник Горчаков — сразу же затмив сиянием многочисленных знаков орденов единственную награду Эномото.
— Ну-те, господа дипломаты! А не освежить ли нам бокалы? — канцлер сделал еле заметный жест, и рядом тут же возник официант с серебряным подносом. — Прошу, господа! Но не помешал ли я вашей беседе, сэр Лофтус? Господин вице-адмирал?
— О, ничего особенного, ваше сиятельство! — поторопился опередить оппонента Эномото. — Мы говорили о поразительном сходстве природы каменного угля и сверкающего алмаза.
Лофтус посмотрел на Эномото с вялым интересом:
— А вы сильны и в химии, ваше высокопревосходительство?
— Чуть хуже, чем в поэзии, лорд Лофтус, — слегка поклонился Эномото. — Помните ли вы давний поэтический спор между Алмазом и Углём? Позвольте напомнить:
— Браво, браво, господин вице-адмирал! — сэр Лофтус, не выпуская бокала из левой руки, изобразил аплодисменты. — Вы опасный противник в споре, и мне пора отступать!
— Британцы отступают? — шутливо ужаснулся американский посланник Джордж Боукер, подходя к спорщикам со своим бокалом, очевидно, далеко не первым. — Сэр Лофтус, верить ли мне своим ушам?
— В России приходится верить всему, — усмехнулся Лофтус.
— Моё почтение, ваше сиятельство, господин канцлер! — Боукер с поворота поклонился Горчакову, тряхнул кудряшками редеющих волос, обрамляющих сверкающую лысину. — Моё почтение, господин вице-адмирал Эномото! Хотел бы поздравить вас с дипломатической победой — однако всё моё естество против! Почему ваши парни из правительства просто не купили этот остров, как мы в своё время Аляску, сэр? Наши русские друзья не слишком дорожат своими обширными территориями!
Теперь настал черёд багроветь Горчакову. Ткнув своим бокалом в подоконник и едва не разбив его, канцлер схватился за спасительные очки и приготовился дать американцу отпор. Однако Эномото сделал шаг вперёд, извиняющее кивнул канцлеру и ответил за него:
— Мне не стыдно признать, господин посланник, что нынче Япония слишком бедна, чтобы заплатить России за Сахалин достойную цену.
— О-о, какие пустяки! Америка готова была помочь вам в этом, разве вы не слышали об этом, господин вице-адмирал?
— Слышал, разумеется! Я даже знаю условия, на которых ваша страна готова была предоставить моей кредит — что-то вроде сыра в мышеловке, если мне будет позволено в разговоре с поэтом[79] использовать басенный образ!
— Ха-ха-ха! Имеете в виду Лафонтена, сэр?
— Вообще-то я имел в виду басню русского поэта Ивана Крылова, — невозмутимо поправил Эномото. — К сожалению, он не дожил до нынешних дней — иначе, уверен, непременно написал бы басню о неблагодарной памяти людей, чья земля была спасена далёким другом, приславшим им на выручку сразу две флотилии кораблей. Тогда эскадра захватчика, по-моему, отступила[80] — вы не помните финала этой истории, сэр Лофтус.
Что-то пробормотав, американец и англичанин обменялись отнюдь не дружелюбными взглядами и ретировались в разные стороны.
— Браво, господин вице-адмирал! — руки у Горчакова были свободными, и он зааплодировал дипломату. — Не совсем дипломатически, конечно, но… Ловко, ловко вы их и лбами столкнули, и напомнили про прежние взаимные обиды! И вообще: с вами было приятно работать, господин посол! Надеюсь, что его величество микадо письменно засвидетельствует не только ваши полномочия относительно Трактата, но и продлит ваши полномочия как посла в нашей стране! Ваше здоровье, господин Эномото!
— Благодарю вас, господин канцлер! Мне тоже хотелось бы надеяться на это! Но… Вы позволите задать вам непротокольный вопрос, господин министр?
— Непротокольный? Спрашивайте, господин посол! Правда, не могу обещать, что отвечу на него — ваши вопросы иной раз ставят в тупик. Вон, поглядите на наших друзей из Англии и Америки — хе-хе-хе! Не разлей вода ведь парочка была, вместе всё стрекотали, а после ваших вопросов по углам разбежались и не глядят друг на друга! Впрочем, спрашивайте, господин Эномото!
— Месяца два-три назад мне показалось, что темпы наших переговоров по Сахалину изменились. И господин Стремоухов — а, значит, и вы, господин канцлер — словно заторопились закончить сахалинский вопрос любой ценой. И это произошло как раз тогда, когда моё правительство санкционировало мне несколько снизить свои требования по обмену. Неужели вы не почувствовали, что ещё пара-тройка месяцев упорства — и цену за юг Сахалина Россия могла бы снизить? Или я ошибаюсь, ваше сиятельство?
Горчаков вздохнул: как он и предчувствовал, непротокольный вопрос был не из лёгких. Умеет этот азиат загонять в угол, ничего не скажешь!
— Дело уже прошлое, господин Эномото: Трактат подписан! Могу лишь признать — ваши ощущения верны! Да, мы торопились! Торопились, несмотря на то что наши дипломаты в Японии доносили нам о «смене ветров» в правительственных кругах относительно твёрдости позиций в сахалинском вопросе. И вполне реальными были предпосылки добиться ваших уступок. Тем более что речь-то шла об обмене одной русской территории на другие! Признайтесь, господин Эномото, — вы же тоже так считаете? И не только вы, но и ваше начальство в Токио! Не для протокола, а?
— Насчёт Токио сказать ничего не могу, господин канцлер. У японцев есть поговорка: был молодым — не знал, стал старым — забыл! — отшутился Эномото. — А что касаемо лично меня, то скажу так: мне весьма близка ваша позиция. Но вы не ответили на мой вопрос, господин канцлер! Почему вы заторопились?
— Экий вы неугомонный… Хорошо, попробую объяснить — хотя бы для обогащения вашего опыта, господин посол! Старики любят поучать молодёжь, не так ли? Так вот: во-первых «смена ветров» в любом правительстве — вещь непостоянная, как и на море. И доверяться сиюминутным настроениям в политике — вещь чрезвычайно опасная! К тому же донося в Петербург о смягчении позиции вашего кабинета министров, наш поверенный в делах, господин Струве, вместе с тем тревожился и о постоянном давлении, которое ваше правительство испытывает в сахалинском вопросе со стороны ряда западных держав. Вы знаете, о ком я, не так ли?
— Это совершенно очевидно, господин Канцлер! Но эти державы подталкивают Японию к конфронтации с Россией уже давно. И сие давление, портя погоду между нашими странами, всё же не настолько велико, чтобы служить руководством к действиям! В нашем правительстве достаточно много умных и дальновидных людей, которые прекрасно видят истинные цели Франции, Америки, а в первую очередь, конечно, Англии! Видят и не желают быть послушными глупыми марионетками в руках западных «кукловодов»!
— Но политика вещь многогранная, друг мой! — Горчаков вздохнул, принялся полировать стёклышки своих очков. — И Россия не может позволить себе «заиграться» решением своих восточных вопросов настолько, чтобы выпустить из виду Европу!
— Балканы?
— Совершенно верно, господин посол! Балканский гнойник — не без попустительства «доброй старой» Англии, как любит говаривать лорд Лофтус — созрел настолько, что его прорыв — вопрос если не недель, то месяцев! Как вы наверняка понимаете, господин посол, Россия не оставит своих славянских братьев под усиливающимся турецким игом! Война там неизбежна. И, принимая эту неизбежность во внимание, Россия вынуждена торопиться закрывать вопросы безопасности своих границ повсюду. Даже ценой территориальных уступок! Будучи спокойными за свои восточные рубежи, мы больше сосредоточимся на главной беде!
— Спасибо на искренность, господин министр! Спасибо — хотя ваш ответ, признаюсь, может поставить под сомнение ваше же утверждение о нынешней победе японской дипломатии! — Эномото широко улыбнулся, нивелируя тем горький смысл сказанного.
— Победа есть победа, господин вице-адмирал! — Горчаков поискал свой бокал, сунутый на подоконник за штору, не нашёл, махнул рукой, подзывая официанта. — И вообще, друг мой: не хватит ли на сегодня политики, турецкого чванства и английского коварства? Давайте побеседуем о более приятных вещах! Например, о вашем отпуске, заслуженном целым годом борьбы с русскими дипломатами. Или в Японии понятия отпусков не существует?
— Мы — вполне цивилизованная страна, господин Канцлер!
— Итак? Ну, в свою Японию до получения полномочий микадо вам съездить, разумеется, не удастся. Но я слышал, что государь располагает пригласить вас с собой на отдых в Ливадию! Это верно?
— Его величество как-то упоминал о Ливадии, но приглашения я ещё не получал, — покачал головой Эномото. — Боюсь, что я вынужден буду отказаться.
— Отчего же? Там такое же тёплое море, как и в Японии. Тамошний климат настолько разительно отличается от сырого и вечно простуженного петербургского, что кажется, будто попал в благословенную Италию!
— Не соблазняйте меня, господин министр! Я уже в отчаянии оттого, что вынужден буду отказаться от очередной милости его величества. Но тем не менее свой месячный отпуск уже спланировал!
Горчаков, склонив голову к плечу, испытующе глянул на этого странного азиата, пренебрегающего царским приглашением.
— Вы посоветовались с кем-либо, господин Эномото? Вам рекомендовали более приятные места, нежели Ливадия?
Эномото немного подумал, и решился сказать часть правды. Улыбнулся:
— К советам любого рода я отношусь несколько предвзято, как и всякий дипломат. Но вот на обратном пути из Берлина — ежели помните, господин министр, осенью я ездил по делам в Берлин — я познакомился с одним человеком, который так поэтично рассказывал о своих родных местах, что мне захотелось там побывать.
— Так-так-так! — лукаво прищурился Горчаков. — Не сомневаюсь, что этим человеком была женщина! Ну, тогда всё понятно, господин посол! И его величество, несмотря на всё его очевидное огорчение вашим отказом, тоже поймёт, не сомневаюсь!
— Вообще-то я не женат, господин министр, — заметил Эномото. Он вовсе не хотел отрицать версии некоего романтического приключения, которую сам же не так давно и запустил. — Но я не сказал, что это женщина! Кстати, хотел посоветоваться с вами, господин канцлер: моя… мой знакомый просто обожает фрукты, которых в это время в Петербурге, наверное, не так просто найти. Может, вы посоветуете мне — к кому я мог бы обратиться? Какие-нибудь частные теплицы, зимние сады. Деньги значения не имеют, ваше сиятельство!
— Ну, ещё бы! Когда хочешь угодить женщине, ничего не жалко! И не пытайтесь надуть старика! — рассмеялся канцлер. — Впрочем, храните вашу тайну сколько вам будет угодно! А вот насчёт фруктов в майском Петербурге — это проблема, мой дорогой посол! Боюсь, что их можно раздобыть только в оранжереях его величества…
— Тогда я снимаю свой вопрос, ваше сиятельство!
— Ладно, я попробую поузнавать, господин Эномото. Не обещаю, но попытаюсь. Скажите только, когда точно вы собираетесь уезжать? И где живёт этот ваш человек, дорожный знакомый? Помнится, зимой, выправляя подорожный лист на двухнедельную отлучку, вы проставили там конечным пунктом какой-то городишко на юге Привисленского края? Не туда ли снова засобирались, господин вице-адмирал?
Старый хитрый лис Горчаков, задавая этот вопрос, знал на него ответ. Знал и то, что уже после осенней берлинской поездки японский посланник стал получать из Петроковской губернии[81] письма в надушенных конвертах с маленькой графской короной в углу. А через несколько месяцев, зимой, на период очередного тайм-аута в переговорах, Эномото поставил российский МИД в известность о необходимости кратковременного выезда в город Ченстохов одноименного уезда означенной губернии.
Общеизвестно, что личной жизни у дипломатов, аккредитованных в чужой стране, практически не бывает. Не было ничего удивительного и в том, что соответствующий департамент МИДа взял на заметку новый контакт японского посланника. Осторожно, памятуя о резком демарше Эномото относительно присмотра за ним, адресата проверили. Им, вернее, ею, оказалась младшая компаньонка графини Порезович, некая Эмилия Бартю.
Не понаслышке зная о том, что вся почта дипломатов проходит через «чёрный кабинет» почт-директора Главного Петербургского почтамта господина Шора, Горчаков обратился к Александру с просьбой быть личным цензором переписки японского посланника. Сам он, по положению, доступа к этому секрету империи не имел, и, адресуя просьбу государю, рассчитал всё наперёд. Канцлер не желал никаких осложнений с японским дипломатом и опасался непредсказуемой реакции Эномото в случае, если тот узнает о перлюстрации его писем.
Его расчёт полностью оправдался: лично просмотрев два-три письма из Ченстохова, Александр распорядился вычеркнуть японского посланника из цензорского «алфавита»[82] — поскольку «оное действо совершенно неприменимо к Эномото Такэаки по соображениям деликатности». На самом же деле и Горчаков, и Александр испытывали к японцу неловкость — по причине того, что виновник гибели секретаря посольства Асикага так и не был найден.
Эномото усмехнулся:
— Да, господин канцлер, именно туда! Хотя вишнёвые сады города Ченстохова мало напоминают цветение сакуры в моей Японии, всё же хочется на них поглядеть.
— Так, может, снабдить вас рекомендательным письмом к генерал-лейтенанту Каханову[83]? — озаботился Горчаков.
— Спасибо, ваша светлость! — отказался Эномото. — Мой визит в Ченстохов — совершенно частный вопрос, и я не желаю, чтобы губернатор ежедневно присылал ко мне порученцев в заботе о состоянии моего здоровья или для скрашивания моего досуга.
— Ну, как знаете, как знаете, господин вице-адмирал! В таком случае, давайте-ка подойдём к другим гостям!
* * *
Ровно через неделю после завершения переговоров и торжественного приёма в его честь Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Эномото Такэаки сошёл с поезда на станции Ченстохов и всей грудью вдохнул необычайно чистый воздух, совершенно не похожий на столичный. Непохожим на столичные железнодорожные экспрессы, правда, был и местный поезд, состоящий исключительно из вагонов 3-го класса. В вагонах отчаянно дуло и сквозило, в буфетных заведениях на станциях можно было купить лишь местную водку и ядовито-чесночную колбасу. За кипятком Чрезвычайный и Полномочный Посол бегал, как и прочие непритязательные пассажиры этого поезда, в станционные кубовые. При этом он отчаянно боялся, что за время его отсутствия багаж могут «попереть». Больше всего Эномото не хотелось потерять корзинку, содержимое которой он заботливо замотал в башлык от зимней шинели.
Стометровая колокольня Ясногорского монастыря, который к тому же построен был на внушительном холме, господствующим над Ченстоховом, стала мелькать в окне поезда ещё за десяток вёрст до станции. Поезд петлял между холмами, и колокольня появлялась то справа, то слева. Она неумолимо приближалась, и Эномото не мог сдержать улыбки: каждая верста приближала его к другу! Несколько извозчиков-поляков на станции отчаянно торговались с пассажирами, увешанными котомками, мешками, корзинами и тюками. При виде пассажира иностранного обличья все они ринулись к нему.
— Pan udal sie do kasztoru? Proshu pana laskava![84]
По-польски Эномото не понимал, а русского языка здесь либо не знали, либо не желали обнаруживать знакомство с ним. Поэтому он больше ориентировался на жесты и мимику. Возница показывает рукой на колокольню монастыря — отлично, ему туда и надо! Он кивнул, и возчики тут же едва не затеяли драку, решая — кому везти богатого пассажира. Когда Эномотто надоело слушать их перебранку, он гортанно прикрикнул на скандалистов по-японски и, пользуясь их замешательством, уселся в самый чистый с виду тарантас.
Монастырь был совсем близко, но Эномото знал, что ехать до него не менее часа: дорога, избегая крутых подъёмов, делала вокруг холма два оборота. Прикрыв глаза, Эномото стал думать о том, каким он увидит своего друга, Мишеля Берга.
Наконец тарантас встал. Возница, стягивая шапку, спрыгнул на землю, перекрестился на тяжёлые, окованные железом главные монастырские ворота. Получив положенную мзду, он снова перекрестился, залез в тарантас и хлестнул лошадь вожжами по бокам.
Эномото прошёл по старинному гулкому подъёмному мосту, переброшенному через полузасыпанный, поросший травой и кустарником ров. Брякнул кольцом калитки, показал выглянувшему в окошко-бойницу монаху перстень предстоятеля и немедленно был запущен внутрь.
Глава семнадцатая
Личный салон-вагон министра путей сообщения Российской империи был подан на первый путь Московского вокзала Северной столицы России ровно в 7 часов пополудни. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии покидал Россию со смешанными чувствами лёгкой грусти от расставания со страной, которой он отдал пять лет своей жизни, и радостного ожидания возвращения на родину. Всё это было разбавлено некоторой тревогой и досадой: вице-адмирала, несмотря на высочайшее соизволение Александра и письмо министерства иностранных дел о зелёном коридоре для покидающего страну дипломата, всё же его беспокоило предстоящее ему двухмесячное сухопутное путешествие. Через всю Россию, через Сибирь до Владивостока.
Досадовал же Эномото на совершенно ненужную помпу, в которую превратились его проводы. На дебаркадере была выстроена полурота почётного военного караула, в круглый павильон вокзала, закрытого нынче для всех прочих пассажиров и предоставленного в распоряжение посла, беспрерывной чередой подъезжали прощаться министры, едва знакомые Эномото члены Государственного совета, какие-то и вовсе незнакомые представители высшего света Санкт-Петербурга. Министр путей сообщения, Константин Николаевич Посьет, заранее уговорившись с его высокопревосходительством Эномото Такэаки, прибыл на вокзал за полчаса до отправления.
Константин Николаевич приятно удивил посла. В первую голову — великолепным знанием японского языка. Акцент, правда, чувствовался, однако обороты речи были правильными. Как оказалось, Посьет вместе с контр-адмиралом Путятиным ещё в 1852–1854 годах, в чине офицера по особым поручениям, побывал в Японии. По отзывам сослуживцев, он внёс немалую лепту в работу дипломатической миссии, и даже был удостоен высшего ордена Японии — Священного Сокровища I степени. В чине капитана первого ранга Посьет был назначен воспитателем великого князя Алексея, сына Александра II, а относительно недавно, в чине адмирала, был императором отозван с военной службы и возглавил министерство путей сообщения.
Сколько ни старался Эномото, он так и не смог припомнить, чтобы адмирал Посьет был хоть на одном высокоторжественном приёме: обладатель всех высших наград Российской империи, включая орден Андрея Первозванного, был необычайно скромным человеком. И единственным знаком на его мундире был знак Морского корпуса, который Константин Николаевич в своё время блестяще закончил. Да и нынче попрощаться с высоким гостем Посьет прибыл не из желания блеснуть в свете, а по служебной необходимости: как-никак, а убывал посол из Северной столицы России по вверенной попечению адмирала железной дороге, в его личном салон-вагоне.
Через четверть часа непринуждённой беседы адмирал Посьет, извинившись, покинул круглый павильон Московского вокзала — сославшись при этом на неотложные дела. За себя он оставил товарища министра Белецкого, хорошо знакомого японскому посланнику. Белецкого Эномото не видел давненько, года два — с того краткого, но тяжёлого разговора, который состоялся у них уже после выздоровления фон Берга. Засвидетельствовав своё почтение, товарищ министра заверил: ежели что — он будет в соседней зале, и собрался ретироваться.
— Погодите, господин тайный советник, — остановил его посол. — Мне кажется, нам необходимо поговорить…
— К вашим услугам, — кивнул с невесёлой улыбкой Белецкий. — С двумя поправками, если позволите: товарищу министра классный чин повышен, я теперь действительный тайный советник. И разговора тет-а-тет у нас вряд ли получится — вы только поглядите на этакую прорву народа, а до отправления вашего литерного — чуть больше десяти минут. Разве, что…
— Что, господин Белецкий?
— Разве что вы попросите меня сопровождать ваше превосходительство до Москвы. Все ваши просьбы обычно выполняются, — с лёгкой иронией поклонился Белецкий. — И в салон-вагоне места предостаточно — вы ведь изволите путешествовать вдвоём?
— Да, меня сопровождает господин Ооти, мой соотечественник, изучающий в России металлургию. Что ж, если это не затруднит вас, я приглашаю вас стать моим гидом до Москвы.
— Прекрасно. Тогда я пока оставлю вас, чтобы отдать необходимые распоряжения. Встретимся в салон-вагоне, господин посол!
Белецкий с озабоченным видом торопливо ушёл согласовывать свою поездку, а вице-адмирала тут же обступила толпа высокопоставленных провожатых.
Когда короткий состав тронулся и резво покатил на юго-восток, Эномото постучал в дверь купе, обыкновенно предназначенного для помощника министра.
— Не выпить ли нам на дорожку, как говорят в России? — в руках посла был небольшой глиняный кувшинчик и такие же чашечки. — Могу предложить традиционный японский напиток — саке. Правда, подогреть саке в походных условиях возможным не представляется, прошу простить!
Выпив по чашечке, мужчины какое-то время помолчали. Эномото, заметив невольную гримасу Белецкого после пробы саке, внутренне забавлялся. А тот, покрутив миниатюрную чашечку в руках и даже понюхав её, недоверчиво поинтересовался:
— Неужели эту гадость ещё и подогревают перед употреблением? Её и так-то пить не слишком приятно. Простите, конечно, за непротокольную откровенность, господин посол! У нас вот водочку, наоборот — стараются охладить перед употреблением. Чтоб легче «проскакивала»…
— У каждого народа свои традиции, — усмехнулся Эномото.
Обмениваться банальными замечаниями не хотелось, и поэтому Белецкий сразу спросил:
— Как он, ваше высокопревосходительство? По-прежнему в монастыре?
Эномото кивнул:
— Да, Мишель совершенно оправился. И мог бы, если бы захотел, покинуть монастырь и переселиться в частный дом — розыск его персоны, как вы понимаете, за эти годы совершенно сошёл на нет.
— Но как вам удалось, ваше высокопревосходительство? В чужой стране, не зная, как говорится, брода, укрыть разыскиваемого полицией человека в монастыре? Да ещё у поляков — которые, как вы заметили, очевидно, — русских совсем не обожают!
— С великодушной помощью господина Шлейзера из Варшавы это было не так сложно, господин Белецкий! Гораздо труднее было получить «гарантию свободы» от высшего начальства, чтобы русская полиция не устроила за мной слежку. Не то чтобы меня в чём-то подозревали — просто после гибели господина Асикага за мою персону беспокоились.
Но даже с полученной «гарантией свободы» от Горчакова в Варшаве Эномото был крайне острожен. Железнодорожный экспресс из Петербурга делал там полуторачасовую остановку, и посол, выйдя в числе прочих пассажиров на вокзальный дебаркадер, ничем не выказал своего намерения остаться здесь. Вместе с попутчиками он выпил отличного пива в станционной ресторации, послушал оркестр, услаждающий публику в привокзальном сквере, по-осеннему времени пустом и прозрачном. И лишь по двойному сигналу колокола вернулся к своему вагону. Поднявшись в купе, Эномото обнаружил в нём железнодорожного проводника: получив немалую мзду за «небольшой маскарад», тот, не теряя времени, надел проворно скинутое вице-адмиралом длинное чёрное пальто и его шляпу. Эномото же облачился в спрятанное в чемодан пальто серого цвета.
По третьему сигналу колокола, перед самым отправлением, проводник распахнул дверь купе и снова спустился на дебаркадер, стараясь держаться к вокзальному железнодорожному персоналу спиной. Эномото, без багажа, выскользнул следом и, подняв воротник, торопливо направился вдоль состава в конец дебаркадера. Там он укрылся за водокачкой как раз в тот момент, когда экспресс, рявкнув паровой машиной, тронулся. Фигура проводника в чёрном пальто Эномото, подталкиваемая в спину вокзальным кондуктором, исчезла в купе.
Никто не суетился, не бегал, не искал отставшего от поезда пассажира. Убедившись в том, что маскарад вполне удался, Эномото обошёл дебаркадер стороной и торопливо направился в сторону извозчичьей биржи. Через час он уже крутил ручку звонка у входа в «Похоронное заведение № 1», где его поджидал предупреждённый заранее Белецким доктор Шлейзер.
— Вам бы в русские подпольщики-нигилисты податься, — хмыкнул Белецкий. — Действовали по всем правилам конспирации! Ну а что было дальше…
Эномото бросил на собеседника внимательный взгляд. Бодрится, бравирует, пытается шутить — а ведь на самом деле сильно переживает за Мишеля. Посол, вспоминая те далёкие дни, несколько секунд бездумно смотрел за окно с убегающими назад русскими пейзажами.
Да, бедняга Берг. Тогда, во время первого тайного блицвизита японского посланника в Варшаву, доктор Шлейзер отвёз его в монастырь бенедиктинок, где не столь давно произвёл молодому офицеру ампутацию руки.
Берг был жив!
Жив — но и только. Его койка была задвинута в дальний угол больничной палаты монастырского приюта, населённого двумя десятками немощных стариков. Ещё по дороге сюда Шлейзер коротко просветил визитёра о том, что монахини-бенедиктинки согласились приютить раненого в приюте только из уважения к нему, Шлейзеру. Но главным образом потому, что тот давно уже бальзамирует и хоронит усопших обитателей монастыря с большими скидками.
Монастырская сестра милосердия, проводившая посетителей к Бергу, откровенно призналась им, что сама не понимает, почему раненый ещё жив. Он очень слаб, почти не приходит в себя.
Без сознания был Берг и нынче. Стараясь не выдавать волнения, Эномото, постояв немного рядом с кроватью друга, кивком позвал Шлейзера к выходу, прямо спросил о прогнозах относительно раненого.
— О каких прогнозах вы говорите, сударь? — удивился доктор. — Я не меньше той сестры милосердия удивлён, что он ещё жив! Больному нужен квалифицированный медицинский уход и присмотр, нужны лекарства, которых в монастырской аптеке просто нет! Хотите честно, сударь? Я немедленно отправил бы его в порядочный госпиталь, если бы не был уверен в том, что там он попадёт в лапы полиции! Я не могу пригласить знающего доктора и сюда — потому что никто не захочет связываться с полицией и не станет молчать о пациенте, которого ищут по всей Варшаве вторую неделю! Совет? Если вы хотите помочь своему другу, сударь, привезите ему доктора оттуда, где не боятся русской полиции! И из монастыря его нужно увозить! Во-первых, Варшава слишком близко. А во-вторых, к некоторым старикам иногда приезжают родственники. Они могут донести. Куда увезти? Мой бог, откуда же я знаю! Наверное, туда, где не боятся неприятностей от русской полиции!
Увидев Берга, мечущегося в бреду на койке в приюте под Варшавой, Эномото растерялся — пожалуй, впервые в своей жизни. Растерялся от острого сознания собственного бессилия. Но довольно быстро пришёл в себя от конкретных, хоть и несколько завуалированных советов мудрого доктора Шлейзера. Если к местным врачам обращаться бесполезно или рискованно — надо поискать доктора в Берлине. Заплатить за выездную консультацию, оплатить при необходимости командировочные расходы — и проблема решена! Но как вывезти Берга в Германию, через границу?
Шлейзер, посопев, тут же нашёл решение и этой проблемы:
— Привезите немецкого доктора сюда, сударь. А ещё лучше с сестрой милосердия — доктору наверняка потребуется толковая помощница. С настоятельницей я договорюсь: им предоставят комнаты для приезжих паломников. Думая, месяца им хватит: за это время ваш друг или помрёт — простите уж за прямоту — или окрепнет настолько, чтобы перенести переезд. За границу его везти не обязательно: это опасно, а фальшивые паспорта я добыть не сумею. Вы, мне почему-то кажется, тоже. Надо отправить раненого просто подальше от Варшавы — ищут-то его в основном здесь и в окрестностях. Если хотите, я могу договориться с предстоятелем ордена паулинов[85] — у них есть монастырь в Ченстохове, это на юге Польши. Там вашего друга никто не найдёт.
— А чем тот монастырь лучше этого? Не считая того, что он подальше? Вряд ли немецкий доктор согласится поселиться там надолго, пока фон Берг поправится.
— Орден паулинов — очень богатый. В Ясногорском монастыре, про который я толкую, сударь, есть огромная библиотека, свой музей, королевские покои и даже госпиталь со своим великолепным медицинским персоналом. Там трудятся не только доктора монашеского звания — при необходимости они приглашают на консультации членов ордена из многих городов Польши, Венгрии, Словакии и Италии. Монахи-паулины не сотрудничают со светскими властями, орден имеет много привилегий и даже выведен из-под епископальной юрисдикции! Там ваш друг будет в полной безопасности!
— Но согласятся ли паулины принять на себя заботу о раненом иной веры? — засомневался Эномото. — Вы говорите, что орден богат, значит, и деньгами соблазнить монахов будет трудно. Во всяком случае, теми средствами, которыми я располагаю.
— Я уже думал над этим, — кивнул Шлейзер. — Однако если помните, я упоминал, что при Ясногорском монастыре есть музей древностей и редкостей. А предстоятель ордена — большой любитель этих редкостей. Вы из Японии, сударь — эту страну в Европе почти не знают. Неужели у вас не найдётся какой-нибудь диковинной исторической вещицы, которую вы можете предложить в дар монастырскому музею?
Такая вещица у Эномото нашлась…
Минувшей зимой он с рекомендательным письмом доктора Шлейзера впервые попал в Ясногорский монастырь и сразу получил аудиенцию предстоятеля. Тот был польщён интересом к ордену жителя далёкой страны Японии — да не просто жителя, а высокопоставленного представителя самого японского императора! Предстоятель стал личным гидом Эномото и по самому монастырю, его бастионам и, конечно же, по залам музея. Выразив своё восхищение увиденным, японский дипломат заявил, что просит оказать ему честь: приобщить к собранию редкостей древний меч японского мастера-оружейника Муромасы, жившего в XVI веке по европейскому летоисчислению. Выслушав легенду о мечах Муромасы и Масамунэ, предстоятель пришёл в восторг и пожелал немедленно взглянуть на эту редкость.
— Есть ли у вас какие-либо проблемы, сын мой? — поинтересовался предстоятель, бережно заворачивая клинок в шёлковую ткань.
— Есть, святой отец! — без обиняков признался Эномото. И рассказал всё.
— Поляки, русские, евреи, японцы — какая, в сущности, разница! — выслушав посетителя, предстоятель пожал плечами. — Бог не делит своих детей по национальностям. Позволяет ли нынче состояние вашего друга вынести тяготы переезда сюда?
— Да, святой отец. Пока он ещё очень слаб, но переезд он перенесёт.
— Очень хорошо. Я сегодня же напишу письмо в Варшаву, и вы захватите его с собой, сын мой. Наши братья-паулины возьмут хлопоты по перевозке раненого в Ясную Гору на себя. В дороге ему будет обеспечен покой и медицинское наблюдение. Вам не стоит волноваться более, сын мой! В нашем госпитале его никто не будет беспокоить, обещаю вам! Примите, прошу вас, этот серебряный перстень с моей монограммой — он будет вашим пропуском не только в наш монастырь, но и в любую монашескую обитель паулинов. А вам, сын мой, надо подумать над тем, чтобы ваши приезды в Ясную Гору не вызывали ни у кого вопросов. Хотите, я черкну записку графине Порезович, моей доброй знакомой? Переписку о состоянии здоровья вашего друга, кстати говоря, можно будет также вести через неё…
— И вы отдали монаху свой боевой меч? — не веря своим ушам, подался вперёд Белецкий. — Мишель много рассказывал о вас, ваше высокопревосходительство. С восторгом! Я хорошо помню его рассказы о том, с каким пиететом японский самурай относится к своему мечу, считая его частью самого себя, частью своей души… И вы отдали меч?!
— Да, я нарушил древние законы своей страны — то, что в Европе называют кодексом чести. Но что мне оставалось делать, когда друг, без колебания рискнувший ради меня жизнью, умирал? Вы осуждаете меня за это, господин Белецкий?
— Боже меня упаси! Просто я подумал, что расставаться с фамильным мечом ради чужестранца.
— Он не чужестранец! Он стал мне больше, чем родным братом, господин Белецкий! Кроме того, не забывайте — я отдал катану не какому-то монаху — я передал меч в монастырский музей!
— Не сердитесь, господин посол! — миролюбиво попросил собеседник. — Лучше угостите ещё чашечкой вашего саке! А как Мишель выглядит сейчас?
— Разительно изменился внешне — похудел, чуть поседел, отпустил небольшую бородку. Думаю, его не признали бы нынче и многие его прежние знакомые. Он свыкся с простой и размеренной жизнью, полюбил тишину и одиночество, перечитал, как уверяет, почти всю монастырскую библиотеку — у паулинов огромное количество книг!
— Понятно… Вы часто виделись с Мишелем?
— В монастыре на Ясной Горе мы виделись с ним четыре раза: я опасался приезжать чаще, чтобы не вызвать подозрений в МИДе и у полиции. Мишель… Знаете, господин Белецкий, я впервые смог назвать его по имени только там, в монастыре. По имени и на «ты», как это принято у русских. Как он обрадовался этому. Вы в России придаёте очень большое значение фамильярности — мы так не можем, господин Белецкий! Вот я недавно в порыве хорошего настроения назвал по имени своего переводчика — видимо, сказалось моё долгое житьё-бытьё в Европе — сначала в Голландии, потом здесь. Так он подпрыгнул на месте, и глаза у лейтенанта округлились как у кота! Я вынужден был извиниться за фамильярность…
— Значит, Мишель, поселившись у монахов-отшельников, и сам потихоньку становится отшельником. Книжным червём.
— Не только книжным, — усмехнулся Эномото. — Знаете, он пристрастился работать в монастырском саду: ухаживает за розами, подстригает деревья, ровняет дорожки…
— Но ведь.
— Да, у него только одна рука. Но у паулинов в Ясной Горе прекрасные мастерские. Ему сделали несколько великолепных культяшек с различными приспособлениями. С их помощью он научился даже вскапывать землю, господин Белецкий! Да так ловко! Но не это мне показалось главным! Берг хочет вернуться к людям — но не беспомощным инвалидом, которого всё жалеют! Он хочет вернуться к людям мастером своего дела…
— Своего дела? Какого же?
— Четыре года он, как губка, впитывал в себя мудрость человечества. Он многое постиг. Он стал философом — но не теоретическим мыслителем, а философом практическим. И рассуждает примерно так: я не могу, как прежде, быть солдатом, ибо однорукий солдат способен вызвать у противника только насмешку и жалость. Зато я могу воевать с врагами моего отечества другим оружием, которое обрёл в библиотеке! Способностью дедукции!
— Дедукции? — с оттенком недоумения переспросил Белецкий. — Насколько я помню, сие понятие означает в философии логический переход от общего к частному…
— Я задал ему тот же вопрос, господин Белецкий. И получил, признаться, не очень внятный ответ. Он сказал примерно так: у любого общества есть враги, которые мешают людям жить и гармонично развиваться. Враги внешние и внутренние. Борясь с захватчиками и внутренними преступными элементами, люди зачастую борются не с причиной, а уже со следствием. Для того чтобы жить спокойно и счастливо, нужно устранить именно причину. И Мишель уверен, что знает — как. Ему необходимо пополнить свой багаж знаний, на это потребуются ещё годы упорного труда. Но рано или поздно он покинет стены библиотеки и вернётся с этими знаниями к людям!
— И нынче, оставляя Россию, вы оставляете здесь и своего друга, — раздумчиво протянул Белецкий.
— А что прикажете делать? Не скрою: я бы очень хотел, чтобы он нынче уехал со мной в Японию. Монахи, кстати, раздобыли для него новый паспорт, у них огромные связи со своими братьями по вере во всей Европе. Он вольный, по сути, человек. Я предлагал ему отправиться в Японию морем, через Италию либо Францию. Мы могли бы встретиться либо там, либо во Владивостоке.
— И что же?
— А что говорят русские, когда не хотят огорчать собеседника отказом? — усмехнулся Эномото. — Они говорят: я подумаю… А как ваша дочь, господин Белецкий? Надеюсь, она забыла о своём женихе? В её возрасте примириться с потерей близкого человека гораздо легче, чем в нашем, не так ли?
— Увы, не забыла, — Белецкий заметно помрачнел. — Слушайте, ваше высокопревосходительство, в буфетном шкапчике салон-вагона, насколько я знаю, есть целый арсенал крепких напитков. Вы позволите? Саке — это традиция, это символ, наверное. Это прекрасно, но… Но русскому человеку, когда он хочет на время забыть обо всём, нужно что-то покрепче! Простите, конечно…
— Я в России только гость, — поклонился Эномото. — Как вам будет угодно. Знаете, если вы выберете коньяк, я, пожалуй, присоединюсь к вам! Прожив в России пять лет, я перенял многие русские обыкновения. И нахожу, что в русском «шандарахнуть» — так, кажется, говорят у вас? — есть своя прелесть. Так что прошу, командуйте!
Отлучившись, Белецкий вернулся с бутылкой «Шустовского», двумя пузатыми бокалами и лимоном. Выпили собеседники не чокаясь, лишь отсалютовали друг другу бокалами.
— Да, с Настенькой всё плохо, господин посол! — признался, словно и не было паузы в разговоре, Белецкий. — Наверное, правильнее было бы сказать ей, что Мишель умер. Согрешить, обмануть — но не повернулся язык. Исчез человек из её жизни — и всё! Ни мёртвого Мишеля, ни живого. Мёртвых можно оплакать — и жить дальше. А что прикажете делать девице, которой сказали, что её жених исчез после совершения некоего воинского преступления и доселе в розыске? Она ждёт от него весточки каждый день! Она себя винит в том, что они так… расстались!
— Я понимаю вас, господин Белецкий! Понимаю и не снимаю с себя вины за всё, что случилось с Бергом… Мы с вами уже говорили об этом!
— Вы тут и вовсе не при чём, ваше высокопревосходительство. Не вы же послали Мишеля в ту безумную поездку! Не вы столкнули его с этим, как его… С секретарём, в общем, — махнул рукой Белецкий. Взяв в руки бутылку, он вопросительно поглядел на собеседника и после разрешающего кивка наполнил бокалы. — Судьба, рок! Иначе, наверное, и не скажешь!
— Неужели вы искренне полагаете, что моей вины в случившемся нет? — медленно, словно размышляя вслух, произнёс Эномото. — Поставьте себя на моё место, господин Белецкий: вас гнетёт ощущение надвигающейся беды, ваш друг видит это. Но вы держите его на расстоянии, не доверяете ему своих секретов. Не просите о помощи — и друг решает действовать сам! И попадает из-за своей молодости и горячности в чудовищную ситуацию. Едва не умирает, лишается руки — это из области физических страданий. Но есть ещё и нравственная сторона дела — офицер, совершив государственное преступление, попадает в немилость своего монарха. Его ищут, чтобы отдать под трибунал и посадить в тюрьму. Он геройски воевал, а его вычёркивают из списков батальона. Он теряет вашу Настеньку, наконец. А его родители? Он не может нынче «выйти на сцену», потому что не желает, чтобы близкие ему люди получили ещё один удар — суд, тюрьму, позор… И вы продолжаете утверждать, что я тут не при чём?! Вы на моём месте чувствовали бы себя не при чём?
— Я не прав, Эномото… Беру свои слова назад. Наверное, это одна из граней русского менталитета — мы всегда жалеем тех, кому больно, кто страдает. Жалеем и пытаемся поддержать хотя бы сочувствием. Простите…
— Как мне жить, господин Белецкий? Доверь я Мишелю в то время хоть часть своей тайны — и всё могло быть иначе! Мы, наверное, посоветовались, возможно, нашли бы какое-то решение проблемы… Во всяком случае, я не позволил бы ему мчаться за Асикага и вызывать его на поединок!
Мужчины замолчали, избегая глядеть друг на друга. Оба смотрели в большое чистое окно, за которым мелькали клочки полей, рощицы, бедные деревеньки с покосившимися лачугами крестьян. Отчего-то совсем безлюдно было за окнами литерного экспресса — словно все обитатели здешних мест, сговорившись, попрятались от проезжих свидетелей своей безысходности и нищеты.
Затянувшееся молчание прервал Белецкий:
— Ну а он, ваше высокопревосходительство? Он вспоминает Настеньку? Свою прошлую жизнь?
— Знаете, Белецкий, как-то в такую же примерно минуту откровенности, как и у нас с вами, с «Шустовским» на столе, Мишель показал мне целую пачку писем, которые он едва ли не ежедневно пишет своей невесте. Пишет — и складывает в шкап. Пишет — и складывает…
— Будь оно всё проклято! — Белецкий хватил кулаком по столику, подхватил качнувшуюся бутылку. — Слушайте, Эномото! Дайте мне знать, когда покинете пределы России — и я добьюсь высочайшей аудиенции! Расскажу его величеству об истинных мотивах безумного поступка Мишеля. Раскрою ему ту часть вашей тайны, которую вы позволите раскрыть. Я умолю государя простить Берга! Говорят, что после Турецкой кампании[86] он стал сентиментален и ещё больше привязан к своей фактической жене, Екатерине Долгорукой! Я упаду на колени перед ней! Я заставлю дрогнуть его сердце! А вы будете уже в Японии, в безопасности…
— Неужели вы полагаете, Белецкий, что меня волнует собственная безопасность? Да если бы дело было только в ней — я давно бы покаялся перед Александром! Три дня назад я был приглашён на прощальный завтрак с государем, в его резиденцию в Царском Селе. Хотите, расскажу?
* * *
— …Ну-с, господин посол, это наш последний завтрак в России, — Александр самолично предложил своему гостю вазочку с печеньями. — Не желаете ли? Так вот, я уже так часто повторял вам, господин Эномото, что мне не хочется расставаться с вами и терять такого интересного собеседника и доброго друга, что, наверное, надоел с этими признаниями!
— Что вы, ваше величество! Поверьте, я высоко ценю ваше расположение ко мне, ваше внимание и интерес к японским обычаям и культуре. Позвольте, в свою очередь, заверить вас, что и мне чрезвычайно жаль расставаться с вами! Если у меня когда-нибудь будут дети, ваше величество, поверьте: они будут гордиться отцом, которого подарил своей дружбой русский царь!
— Похвально, господин посол, что вы в столь зрелом возрасте думаете о своём будущем, о детях. Простите за нескромность — почему вы не были женаты до сих пор?
— Истинный самурай, по нашим обычаям, сперва должен написать историю своего служения Японии и своему господину катаной. И лишь потом приступить к написанию своей «семейной книги»…
— И уже не катаной? — залился смехом Александр, который не чурался грубоватых солдатских шуток и усмотрел в откровениях собеседника скабрёзный намёк. — Простите, простите мой бивуачный юмор, господин Эномото! Как вы знаете, я много времени провёл в лагерях наших войск, под Плевной. С кем поведёшься, как говорят… А избранница у вас уже есть? Уж не та ли это прекрасная полячка, к которой, как мне докладывали, вы последние годы зачастили в какой-то южный польский городишко?
Эномото, не желая врать, счёл благоразумным лишь потупить взор.
— Кажется, я угадал! — довольно кивнул Александр. — Только имейте в виду, господин посол, что прекрасных полячек часто характеризует и некоторая ветреность! Это такая же национальная особенность полячек, как оперение диковинных птиц: вот есть это оперение, и всё тут! Нужно или заранее смиряться с яркими пёрышками, или искать себе птах попроще, господин посол!
— Я учту совет вашего величества!
— Да, вы скоро уезжаете… Что бы вам подарить этакое, оригинальное — в память о часах наших бесед и общения, господин посол? — принялся размышлять вслух Александр. — Впрочем, может быть, у вас есть какое-то пожелание? Говорите смело! Если это только в моих силах, я исполню вашу просьбу!
— Вряд ли вы исполните моё самое сокровенное желание, ваше величество. Хотя оно, безусловно, в ваших силах! — решился Эномото.
Забавляясь с любимым сеттером, бесцеремонно пытавшимся залезть на колени монарха, Александр не обратил внимания на серьёзность тона собеседника.
— Ну, смелее, господин самурай! Говорите! Хотите получить обратно остров Сахалин? Не выйдет, господин посол! А всё остальное — милости прошу!
— А если я снова попрошу у вашего величества проявить великодушие и простить моего единственного друга, русского офицера фон Берга?
Рука Александра, ласково трепавшая шёлковую красновато-коричневую шерсть на холке сеттера, на мгновение замерла. Потом снова стала двигаться — но уже какими-то неверными, прерывистыми движениями — словно надломленная. Улыбка всё ещё блуждала по лицу императора, но его глаза потухли.
— «Снова попрошу», — после паузы повторил Александр. — Я не люблю, когда со мной играют в тёмную, господин посол! Даже если это друзья… Вы не желаете раскрыть мне подоплёку вашей в высшей степени странной неприличной просьбы, и вместе с тем понуждаете меня совершить деяние, противоречащее моим представлениям о чести дома Романовых.
— Простите, ваше величество. Но я полагал, что, коль скоро речь идёт о судьбе несчастного молодого человека, отмеченного наградами за храбрость в сражениях, о разбитом счастье двух любящих сердец.
— Погодите! — в голосе Александра зазвенела сталь. — При дворе Российского императора не принято перебивать монарха, господин посол! Погодите!
Оттолкнув сеттера, Александр протянул руку и потряс серебряным колокольчиком. Распорядился мгновенно заскочившему дежурному адъютанту:
— Агафонов, бланк указа и перо! Ну-с, господин посол, я вас слушаю!
— Н-не понимаю, ваше величество, — смутился Эномото.
— Чего ж тут непонятного? — неприятно, углом рта, усмехнулся Александр. — Вы сейчас дадите мне честное слово, что сами руководили действиями Берга. Что наущали и подстрекали его к нападению на секретаря посольства Асикага — я правильно запомнил имя несчастного дипломата, господин посол? — и я немедленно подписываю указ о прекращении всяческого преследования фон Берга. Ему вернут чин, должность в батальоне. У него даже не спросят — где он прятался эти четыре года! Ну-с, господин посол?!
— …Понимаете, Белецкий, я не мог сказать такого! Я не мог сказать правду императору и не мог солгать ему! Разлейте бокалы, Белецкий! Давайте «шандарахнем» и попробуем забыть обо всём! В этом русском «рецепте», право, есть рациональное зерно!
* * *
Литерный прибыл в Москву днём следующего дня. Больше Белецкий и Эномото не говорили, однако их молчание не было враждебным. И расстались в древней столице мужчины весьма сдержанно — словно боясь разрушить тонкую хрустальную грань понимания своего бессилия изменить что-либо в своих и чужих судьбах.
В ту самую минуту, когда Эномото и Белецкий пожимали друг другу руки перед вагоном, Александр принимал в Царском Селе неурочно вызванного им министра внутренних дел Макова.
— Я вызвал тебя, Лев Саввич, по поводу уехавшего вчера из Петербурга японского посланника, — Александр замолчал, раздражённо перебирая бумаги.
— Целиком разделяю вашу озабоченность, государь! — попробовал сориентироваться Маков. — Откровенно говоря, ваше величество, мне тоже не нравится, что японский посланник избрал путь возвращения через всю Сибирь…
— Прекратите! Я не ребёнок и не хуже вас понимаю, что каждый дипломат ещё и разведчик своей страны! — не сдержался император. — Что ты мне толкуешь про государственные секреты, господин министр? По железной дороге он доедет только до Нижнего Новгорода, оттуда до Перми поплывёт на пароходе — а дальше только почтовые тракты! Какие государственные секреты японец увидит из тарантаса?! Перепишет названия почтовых станций? Что с того, что он выразил желание побывать на нескольких золотоносных приисках? Да мне давно уже доложили, что возвращение в Японию через Сибирь рекомендовано ему военным министерством Японии! Или на его пути действительно есть какие-то страшные секреты, о которых даже я не знаю?
— Простите, ваше величество, — смешался министр.
— Я имел в виду совершенно другое, — внезапно успокоился Александр. — Три дня назад, при прощальной аудиенции, господин Эномото высказал — и не в первый раз! — весьма странную просьбу. Просьбу, которую я удовлетворить не мог, но которая не даёт мне покоя. Маков, есть ли среди твоих подчинённых по-настоящему смышлёные умные люди для выполнения весьма ответственного и деликатного поручения?
— Вы имеете в виду оперативный состав, ваше величество? Найдутся!
— «Найдутся»! — передразнил Александр. — А Берга, убийцу японского дипломата, ваши «смышлёные умные люди» за четыре года так и не сыскали!
Оправдываться не следовало, и Маков молчал, всем своим видом демонстрируя готовность искупить вину своих подчинённых.
— Так вот, господин министр внутренних дел! По моим сведениям, за время пребывания в России господин вице-адмирал Эномото четыре или пять раз выезжал в Привислинский край и проводил в городе Ченстохове от одной до трёх недель. Считалось, что там у него живёт возлюбленная — что в положении зрелого мужчины, не обременённого, семьёй, является совершенно нормальным явлением. Так вот, нынче у меня появились сомнения на сей счёт! И я желаю, чтобы ваши люди эти сомнения либо подтвердили, либо опровергли.
— Не будет ли от вашего величества каких-либо дополнительных указаний? Либо сведений конкретизирующего свойства?
— Нет, не будет, — состорожничал Александр. — Твой агент должен крайне деликатно навести в Ченстохове справки — действительно ли у господина Эномото есть там возлюбленная и к ней ли он ездил? Я подчёркиваю, господин министр: крайне деликатно! Если сведения о женщине в Ченстохове подтвердятся, и его возлюбленная сообщит господину Эномото о полицейском интересе к её персоне, однажды я могу получить от господина Эномото письмо с ехидными намёками на монаршую бдительность! Я возлагаю лично на тебя, господин министр, высочайшую ответственность! И заявляю, что не потерплю более промахов, не приму никаких оправданий!
— Будет исполнено, ваше величество! Не извольте сомневаться!
* * *
Летучая команда лучших агентов наружного наблюдения под началом капитана Шитикова из Петербургского окружного сыскного управления, усиленная польской агентурой, провела в Ченстохове почти неделю. Прибывали туда сыщики порознь, каждый со своей «легендой» и прикрытием. Вместе не сходились, соблюдали конспирацию. Шитиков раз в два дня обходил квартиры и постоянные дворы, где расселилась его команда, и собирал воедино добытую агентами информацию.
14 августа 1878 года, учитывая завтрашний праздник Успения Богородицы — в этот день в Ясногорский монастырь стекается большое число паломников — капитан Шитиков вместе с поляком-поручиком Крайски из Варшавского губернского полицейского ведомства решил побывать в монастыре паулинов.
Шитиков и Крайски спешно выехали в городишко Мстов, через который проходили пешим ходом толпы католиков, желающих поклониться иконе Ченстоховской Божьей Матери, присоединились к одной из групп и после ночёвки отправились на Ясную Гору.
Паломникам в Ясной Горе после торжественной службы полагалась монастырская трапеза в огромном Рыцарском зале, обычно используемом для заседаний епископата, теологических и философских конференций.
С искренним восторгом полюбовавшись богатыми росписями стен зала, расположенного вдоль южного фасада, позади капеллы Девы Марии, сыщики вместе с другими паломниками начали бродить по обширной территории монастыря, заглянули в знаменитый музей редкостей. Здесь Шитиков получил первое подтверждение пребывания в монастыре японского посланника: в одном из залов музея в застеклённом шкафу был выставлен самурайский меч-катана. Надпись на табличке перевёл с польского поручик: «Сей меч японского мастера-оружейника Масамунэ (XIV век) принесён в дар музею Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Эномото Такэаки».
Забрели сыщики и в знаменитый фруктовый сад монахов-паулинов. Вдоль дорожек стояли корзины с отборными яблоками, монахи не только угощали гостей, но и рекомендовали им взять яблоки для гостинцев своим родным и знакомым.
Бродя по дорожкам сада, сыщики наткнулись на калеку-садовника. Полы его монашеского одеяния были заткнуты за верёвочный пояс, рукава сутаны высоко подкатаны. Садовник, к удивлению сыщиков, оказался одноруким: из подкатанного левого рукава выглядывала деревянная культяшка с изогнутым крючком на конце. Вставив в полукружие крючка верхнюю часть черенка лопаты, калека ловко и без видимых усилий окапывал ствол яблони.
Заметив рядом с собой посторонних, монах разогнулся и приветливо поздоровался:
— Дзень добжий, панове!
Намётанный глаз Шитикова сразу отметил ещё одну странность в облике калеки: в отличие от прочих монахов, бривших лица, у этого была небольшая опрятная борода с усами — светское, прямо-таки украшение, как подумал сыщик.
— Не в тягость? — спросил он, кивая на культяшку калеки. — Как тебя зовут?
— Не, панове, я привычен. А зовут меня брат Тадеуш.
— Хорошо говоришь по-русски, — снова насторожился Шитиков, зная нелюбовь поляков ко всему российскому.
— То так, панове! — улыбнулся калека.
Почувствовав профессиональный интерес коллеги, поручик Крайски тут же задал садовнику вопрос по-польски. Помедлив, тот ответил по-русски:
— Не, панове, я при монастыре давно. С детства — рука попала в молотилку…
— Он понимает по-польски, но говорить на нашем языке не может, — Крайски повернулся к Шитикову. — Подозрительный тип! Я бы не удивился, если бы он оказался причастен к бунту 63-го года! Тогда многие из участников варшавского восстания нашли укрытия в монастырях!
— Оставьте, поручик! — поморщился капитан Шитиков. — Позвольте вам напомнить, что мы приехали сюда не за бунтовщиками. У нас вполне конкретное поручение! — он повернулся к калеке. — Ты ведь не поляк, парень? И не монах — монахи не носят усов и бород. Кто ты, парень?
— Ваша правда, панове. Я не монах — пока послушник. И не поляк — родители у меня немцы. Я сирота, и, после того как стал калекой, стал им ненужным. Меня приютили монахи, и дали мне новое польское имя — Тадеуш. У вас есть ещё вопросы?
— Да нет, пожалуй, — Шитиков перешёл на немецкий язык. — Впрочем, погляди-ка на эту фотокарточку! Ты не видел здесь этого азиатского господина?
Калека шагнул вперёд, вытер руку о сутану и бережно взял фотографию.
— Да, я видел его здесь несколько раз, панове. Это японец, какой-то важный господин из посольства. Он приезжал к предстоятелю нашей обители. У него в нашем городе кохана. Ну, близкая женщина из дома графини… прощения прошу, панове, я забыл её имя!
— Неважно, — махнул рукой Шитиков. — Будь счастлив, парень!
* * *
СЕКРЕТНО!
«Его высокопревосходительству действительному тайному советнику министру внутренних дел Макову
Милостивый государь Лев Савич!
Во исполнение поручения, данного Вашим Высокопревосходительством, покорнейше доношу следующее.
Японский посланник вице-адмирал Эномото Такэаки в период 1875–1878 годов действительно несколько раз приезжал в г. Ченстохов одноимённого уезда Петроковской губернии Привисленского края, где навещал свою знакомую графиню Порезович и её компаньонку, Эмилию Бартю, дворянского происхождения. В местном дворянском обществе убеждены, что означенная Бартю состоит в морганатической связи с вице-адмиралом Эномото.
Удалось выяснить, что японский посланник по приезду в Ченстохов всякий раз останавливался не в доме графини, а в Ясногорском католическом монастыре (очевидно, не желая афишировать свою связь с Бартю). С предстоятелем этого монастыря, принадлежащего ордену монахов-паулинов, г-н Эномото поддерживал дружеские отношения, и даже преподнёс тамошнему музею при монастыре ценный дар — старинный японский меч XIV века.
Никаких прочих связей и контактов г-на Эномото в Привисленском крае летучей командой лучших сыщиков и агентов Петербургского окружного полицейского управления не выявлено.
Поимённый список команды — в случае представления их к награде — прилагается.
С отличным почтением и совершенною преданностью имею честь быть Вашего Высокопревосходительства покорнейшим слугою
Иван Путилин»
Получив соответствующий доклад министра Макова, Александр несколько раз перечитал его. Император не мог избавиться от ощущения некоей недосказанности, разочарования от обмана в своих догадках. Эномото проявил поразительное равнодушие к гибели своего соотечественника, ограничившись одной-единственной формальной нотой протеста. В противовес этому он дважды просил за русского офицера-сапёра. И эти странные поездки вице-адмирала в Южную Польшу… Его роман с некоей полячкой, который по всем внешним признакам не был похож на роман. Нет, что ни говори, а тут была какая-то недосказанность! Какое-то белое пятно — подобное неизведанным территориям на географических картах.
Вздохнув, Александр совсем было решил потребовать от полицейских чинов более подробных деталей произведённого ими расследования. Однако, уже взяв в руки перо, махнул рукой и размашисто начертал резолюцию: «Быть по сему. Александр».
Эпилог
30 сентября 1878 года, почти через два месяца после отъезда из Санкт-Петербурга, экс-посол Эномото Такэаки добрался до Владивостока. Несмотря на то что последнюю часть пути он сделал по реке, без изнуряющей тряски почтовых тарантасов, Эномото чувствовал себя вымотанным.
В гостинице «Европейская» его ждал специально прибывший из Японии для встречи чиновник внешнеполитического ведомства. Он предоставил Эномото список пароходов, отправляющихся в ближайшее время в японские порты, а также несколько визитных карточек русских чиновников, желающих засвидетельствовать своё почтение.
— Завтра. Я желаю уехать завтра же, — коротко распорядился Эномото, бросив взгляд на список пароходов.
— Но, ваше высокопревосходительство, это невозможно! — запротестовал было японский дипломат. — 2 сентября городской голова Владивостока даёт приём в честь вашего прибытия!
— Завтра! — повторил вице-адмирал. — А сейчас, простите, я хотел бы отдохнуть. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы мне доставили сюда почту, которая, возможно, пришла на моё имя из Петербурга…
Никакой почты Эномото, разумеется, не ожидал: его путешествие из Северной столицы России происходило со скоростью почтовых отправлений. А несколько телеграфных сообщений из Петербурга догнали его на почтовых станциях в пути следования. Вице-адмирал просто хотел побыстрее остаться один. Но без протокольных вопросов, будь они неладны, никак не обойтись. И вице-адмирал жестом попросил пятившегося чиновника задержаться.
— Каково здоровье императора?
— Благодарю, — чиновник просиял, будто именно он только что вылечил пациента от тяжкого недуга. — Господин вице-адмирал, его величество пребывает во здравии.
— Как давно я не был на родине, — вздохнул Эномото. — Наверное, там многое изменилось… Что нового в правительстве? Министр Тэрадзима? Курода Киётаки?
— Они с нетерпением ждут вашего возвращения, ваше высокопревосходительство, — снова поклонился чиновник. — Не сомневаюсь, что они оценят ваше стремление как можно скорее вернуться в Японию!
— А военный министр, господин Сайго Такамори? — Эномото заставил себя произнести это имя непринуждённо, не меняя почтительного выражения лица. — Он по-прежнему в Кагосиме? Не пожелал вернуться в Токио?
Чиновник опешил:
— Сайго Такамори? В Кагосиме? Разве вы не знаете, господин вице-адмирал? Впрочем, в японских газетах про это не писали. И от иностранных газетных репортёров эту позорную новость, кажется, удалось скрыть.
— О чём вы говорите? — в свою очередь, удивился Эномото.
— Неужели вас не информировали по линии министерства внешних связей даже о Сацумском мятеже? — недоверчиво спросил чиновник. — О мятежнике и государственном преступнике Сайго Такамори, имевшем дерзость возглавить восстание против императора Мэйдзи?
Эномото горько усмехнулся: всё повторяется! Когда-то и он был назван мятежником, когда-то и он, в противовес императорской власти, создал и возглавил на Эдзо «Самурайскую республику».
— Видимо, не сочли нужным, — произнёс он вслух. — Прошу вас, сядьте и расскажите мне всё!
— Но вы желали отдохнуть с дороги, ваше высокопревосходительство, — попытался увильнуть чиновник.
Его поразило то, что никто не счёл нужным проинформировать столь высокопоставленного сотрудника дипломатического ведомства о событии, едва не перевернувшем историю страны. И он, для страховки, хотел бы проконсультироваться по этому поводу с вышестоящим начальством.
— Отдых подождёт! Садитесь! — распорядился Эномото. — Я слушаю вас!
— С чего начать, господин вице-адмирал?
— То, что происходило в стране до марта 1874 года, я знаю. Правительственные реформы были всеохватны и далеко не всем пришлись по вкусу. Сайго вышел из правительства, сохранив пост военного министра. Самурайская школа, созданная им в Кагосиме, ещё в то время притягивала к себе недовольных лишением пенсий и привилегий самураев. Очевидно, эта школа и стала ядром восстания?
— Да, но произошло это лишь в прошлом году, господин вице-адмирал! Сегодня многие удивляются: почему никто не видел в этой школе источника бунтарской заразы? Ведь это было очевидно, ваше высокопревосходительство! Императорским указом повсеместно в Японии самураям запретили ношение оружия, в школе Сайго мечи были непременным атрибутом! Он словно бросал императору вызов! Он ненавидел императора и не скрывал этого!
— Насколько я знаю, Сайго никогда не был противником императорской власти как таковой, — заметил Эномото. — Если он кого и ненавидел, так это был конкретный человек, занявший трон, как считал Сайго, не по праву. Впрочем, это его вину как бунтовшика не умаляет, не так ли? Продолжайте, прошу вас!
— Итак, Сайго со своими сторонниками в феврале прошлого года вышел из Кагосимы и направился на штурм главного города острова Кюсю, Кумамото. По пути к восставшим присоединялись самураи из других уголков острова. Правительственные войска сражались под началом принца Арисугавы и генерала Ямагата. Кровопролитные стычки продолжались около семи месяцев, господин вице-адмирал. Сайго потерял большую часть своих сторонников и всех учеников своей школы. С горсткой сторонников ему удалось пробиться обратно в Кагосиму, но правительственные войска взяли город в осаду и через две недели вынудили Сайго отступить в горы. Пять дней Сайго и его ближайшие сторонники провели в пещере и готовились к смерти. Во время штурма Сайго был ранен, не мог идти. Его нёс преданный соратник Бэппу Синскэ. Сайго велел ему остановиться и сказал последние слова в своей жизни: «Я думаю, это место вполне подойдёт!»
— Для харакири? — кивнул Эномото.
— Совершенно верно. Говорят, предводитель мятежников, прежде чем взрезать себе живот, поклонился в сторону дворца императора. Бэппу был наготове и тут же, по древним обычаям, помог Сайго уйти из жизни — отсёк ему голову. Так закончился Сацумский мятеж, ваше высокопревосходительство! Говорят, — чиновник понизил голос и даже оглянулся на запертую дверь гостиничного номера. — Говорят, все пять дней в пещере Сайго провёл за игрой в го, в легкомысленных беседах со своими сторонниками. И даже обменивался с ними множеством тут же сочиняемых поэм!
— Смерть на пороге, а он играет в го и пишет стихи! Вместо того чтобы посыпать голову пеплом и пылью и писать императору слёзные просьбы о прощении, — Эномото с отвращением глядел на чиновника. — Понятно… Теперь всё понятно. Благодарю вас. Вы можете быть свободным. И забудьте про почту! Я заберу её сам!
Проводив посетителя, Эномото долго стоял у окна, глядя на море, серая сверкающая масса которого виднелась у самого горизонта, над крышами домов. Его размышления подводили итог долгим раздумьям последних лет.
Сайго Такамори… Он был движущей силой заговора, поставив на кон не только жизнь японского посла в далёкой стране, но и важные для этой страны переговоры. Но был ли он инициатором этого заговора? Вряд ли — он был воином, но не змеёй, таившейся под балдахином трона. И доказал это! Узнав о гибели лейтенанта Асикага, он не стал доводить замысел до конца, хотя имел такую возможность! В Париж, по его повелению, мог быть направлен другой посланец — время у Сайго ещё было! Но, видимо, он рассудил так: раз компрометация посла не удалась — это знак судьбы! И он не стал искушать её снова. В своей Кагосиме он дождался своего часа — часа воина! И отправился на безнадёжную, по всем признакам, военную авантюру. Этот слизняк-чиновник из дипломатического ведомства говорит о Сайго с негодованием, но вряд ли другие японцы разделяют это мнение!
Время, думал Эномото. Время всё и всех расставит по своим местам. Пройдёт совсем немного лет, и память о Сайго Такамори оживёт в сердцах людей[87]. Он наверняка ещё увидит это.
За окном было ещё совсем светло, но Эномото, решив для себя одну из проблем, решительно разделся и бросился в постель. Завтра он покинет эту страну. К сожалению, одновременно он навсегда покинет и друга… Может, завтра, при отплытии, бросить в море монету? Уверяют ведь, что это верная примета того, что когда-нибудь обязательно вернёшься…
Эномото крепко зажмурился и стал дышать ровно и методично, призывая к усталому разуму спасительный сон. Он не бросит в русское море монету! Он не хочет сюда возвращаться!
* * *
«Дорогой мой друг Буё!
Я никогда не осмеливался называть тебя так, но теперь решил, что имею на это право. Надеюсь, что ты успеешь получить это письмо — ведь я написал его сразу после нашей последней встречи, за месяц до того, как ты покинул Россию.
Дорогой Буё, я ничуть не жалею о том, что сделал. И, как неоднократно заверял, не виню тебя ни в чём! Ну, попробуй, представь моё будущее, не повстречай я тебя! Осенью или зимой 1874 года женился бы на Настеньке, вышел бы в отставку. Сделался бы рантье или сельским помещиком, играл бы в карты с соседями, вёл бы с ним скучные разговоры — за всеми этими занятиями и состарился бы!
А какими восхитительными мне представляются нынче те несколько минут на крыше вагона мчащегося поезда! Ветер в лицо, сухость в горле, блеск клинка в руках опасно замершего противника. Я знал, что проиграю тот бой. И молился лишь об одном: проиграть его так, чтобы проиграл и твой враг! И Бог меня услышал, Буё!
А теперь о главном. Я видел в монастырском музее твой меч, который ты подарил монахам. И сразу понял, что ты расстался с этим оружием ради меня. А ведь самураи, я не раз это слышал от тебя, считают катану не только одушевлённой, но и частью своей души.
Не жалей об этом, мой друг Буё! Твоя катана нашла себе за музейным стеклом самое достойное, мирное пристанище! Вспомни, Буё, легенду о клинках мастеров Муромаса и Масамунэ! Ты говорил, что автор “разящего” меча признался, что проиграл в том состязании на берегу ручья. Проиграл потому, что истинное предназначение катаны — не разить, а побуждать к миру!
Вспомни о своих переговорах, Буё! Ты приехал в Россию с “разящим” клинком Муромаса, чтобы рассечь им остров Сахалин на русскую и японскую половинки. Твоими руками хотели на долгие годы посеять многолетнюю вражду — ибо такое “соседство” на маленьком, но богатом острове чревато пробуждением в людях зла, зависти, подозрений. И этого не случилось! Ты оставил разящий клинок в монастыре, а через несколько месяцев наши державы мирно поделили острова в Тихом океане. И не уверяй меня, что это совпадение!
А чьей школы, интересно мне, был клинок Асикага, нашедший своё пристанище в моей плоти? Ведь он тоже изменил мою судьбу: лишив меня руки, он заодно лишил меня и скучного прозябания. И подарил мне целый мир, который остался бы неведомым для меня. Днями я работаю в саду, а долгими вечерами в монастырской библиотеке благоговейно открываю для себя этот мир.
И последнее, друг мой Буё! Я не поехал с тобой по одной-единственной причине: негоже мужчине быть в глазах его друга постоянным напоминанием о прошлом.
Прощай, мой друг! Быть может, я не прав, и когда-нибудь пойму это. Но в таком случае обещаю: мы с тобой ещё встретимся! Остаюсь при сём
Михаилом фон Бергом»
Пароход сипло рявкнул, и капитан с мостика прокричал в блестящий рупор команду матросам. Дамы на палубе и на причале махали друг другу платками, мужчины салютовали расставанию более сдержанно — притрагивались пальцами к своим шляпам, приподнимали их, покашливали, прогоняя из горла невесть откуда взявшиеся комки.
В растущую щель между корпусом судна и причалом полетели монеты. Почти все отъезжающие пассажиры непременно желали сюда вернуться!
Эномото стоял по левому борту, крепко держась руками за леер. Он точно знал, что в карманах его мундира вице-адмирала не было ни одной монеты: накануне он отдавал мундир гостиничной обслуге в чистку. Ну не занимать же у кого-нибудь монету, в конце концов! Да и вряд ли занятая монета «сработает».
И вдруг он вспомнил!
— Мамочка, погляди, что тот дяденька военный делает! — громко зашептал мальчишка на палубе по соседству.
А Эномото торопливо рвал крючки и пуговицы мундира. Справившись с ними, он рванул с шеи цепочку, на которой висела золотая монета, подаренная ему русским царём Александром на Монетном дворе Петропавловской крепости. Миг — и монета вместе с цепочкой, блеснув на солнце, полетела в серые волны залива Петра Великого.
— Тише, Павлик! Не так громко! — урезонивала мальчишку мать. — Просто дядя хочет когда-нибудь вернуться сюда.
Москва — Берлин — Париж — Токио — Южно-Сахалинск
2010–2012
Примечания
1
Предмет убранства традиционной японской комнаты в богатых домах – сооружение из двух столбиков с перекладиной, на которую вешались разноцветные шёлковые ленты. – Здесь и далее примеч. автора.
(обратно)2
Почтительное именование японского императора.
(обратно)3
Фрейлин, дочерей видных японских аристократов, при дворе императора Японии было около трёхсот. Все они пользовались огромным влиянием – как и их отцы, сумевшие «пристроить» дочерей. Фрейлины Мэйдзи обладали большой властью при императоре, и вполне могли не допустить ко двору неугодного им человека.
(обратно)4
Мать его действительно была наложницей императора Комэя. Сразу после рождения младенца окунули в Родник Божественной помощи и всё время окружали почтительным вниманием. Новорождённого нарекли Ситино Мийя. По достижению восьми лет он был официально усыновлён императрицей и провозглашён Наследным принцем с именем Мацухито Синно. Позже он получил коронационное имя Мэйдзи (просвещение).
(обратно)5
Так в Японии того времени называли русских.
(обратно)6
Японское название Сахалина.
(обратно)7
Палочки для еды.
(обратно)8
Божественный ветер – одно из почтительных обращений к японскому императору.
(обратно)9
Одно лицо, одна порода.
(обратно)10
Хоть испанцы, хоть французы – дали б только жрать от пуза (итальянская пословица).
(обратно)11
Fessi – недалёкий человек, дурак. Furbo – ловкач, умеющий обделывать свои делишки при любом раскладе (итал., жарг.)
(обратно)12
Искусство, умение устраиваться.
(обратно)13
Большую чашку, любезнейший!
(обратно)14
Любовная, супружеская измена?
(обратно)15
Так называли период борьбы за политическое объединение всех областей Италии в единую страну.
(обратно)16
Русский посол в Париже Н. А. Орлов.
(обратно)17
Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия – чрезвычайный государственный орган Российской империи, который объединил действия всех властей в борьбе с терроризмом. Учреждена именным указом императора Александра II шесть лет спустя после описываемых в романе событий. Предтечей Верховной распорядительной комиссии были разовые инспекционные поездки высших чиновников по именным повелениям императора и постановлениям Сената. Принимаемые Главным начальником комиссии распоряжения и меры подлежали безусловному исполнению и могли быть отменены только особым Высочайшим повелением.
(обратно)18
Первый опыт организации почтовой службы в Европе, предусматривающий перевозку корреспонденции и пассажиров, был предпринят членами рода Таксис из Бергамо ещё в 1516 году, и с тех пор стал семейным занятием их потомков.
(обратно)19
Французское почтовое льё в современных мерках составляет 3,89 км. Таким образом, путь от Неаполя до Турина равен примерно 720 километрам.
(обратно)20
Старое название столицы Индонезии Джакарты. Батавией – в честь предков голландцев, батавов – был назван военный форт, на месте которого позднее и возник город.
(обратно)21
Подлинные стихи Эномото Такэаки. «Длинная роща» – дословный перевод английского названия Лонгвуд – деревеньки, связанной с именем сосланного на остров Святой Елены Наполеона I.
(обратно)22
Кроме «Кайё-мару» в соединение входило ещё семь кораблей.
(обратно)23
Реальное розыскное бюро, созданное в Париже на средства Департамента полиции и подчинённое по линии секретного политического розыска МВД России за границами империи. Автор позволил себе лишь некоторую хронологическую вольность: бюро «Бинт и Самбен» было создано позже описываемых событий.
(обратно)24
Гранд-оперá своим появлением обязана прихоти Наполеона III, который после покушения на него в старой опере на улице Лё Пёлетье отказался её посещать и потребовал новое здание. Строилась Гранд-опера 15 лет, и к весне 1874 года приобрела законченный вид. Открылась опера в следующем году, а позолоту на статуях на крыше и куполе обрела ещё позже.
(обратно)25
Знаменитые парижские куртизанки – итальянского, английского и российского происхождения.
(обратно)26
«Теми, кто прячется» в Японии издавна называли лазутчиков, соглядатаев и наёмных убийц – ниндзя. Эти люди умели незаметно наблюдать, тихо подкрадываться, владели техникой убийства как голыми руками, так и самыми необычными порой предметами.
(обратно)27
Эти данные бесполезно искать в архивных и дипломатических источниках
(обратно)28
Английская пресса имела в виду католическую Польшу, восстание в которой было жёстко подавлено по повелению Александра II.
(обратно)29
Хрестоматийное высказывание Александра II, которое он часто любил повторять.
(обратно)30
Военный министр Российской империи в царствование Александра II.
(обратно)31
В этот день бывший студент Д. Каракозов у ворот Летнего сада в Петербурге выстрелил в Александра II, когда тот после обеденной прогулки садился в коляску. По официальной версии, точности выстрела помешал крестьянин Костромской губернии Осип Комиссаров, а его внимание к целящемуся в царя злоумышленнику привлёк крик сторожа Летнего сада. Пистолет был двуствольный, и второй ствол Каракозов разрядить не успел. За своё спасение Александр пожаловал Комиссарову 50 тысяч рублей и потомственное дворянство, а оставшийся в истории безымянным сторож получил лишь 20 копеек на чай.
(обратно)32
Потеряв старшего сына Николая Александровича, умершего от туберкулёза, Александр II был весьма озабочен династическими вопросами и весьма скептичен в отношении другого своего сына, Александра Александровича, как наследника престола. Есть основания полагать, что император не исключал возможности передачи престола Романовых сыну Георгию, прижитому им от своей морганатической жены Екатерины Долгорукой. Тема второй семьи Александра и его побочных детей была, таким образом, очень болезненной – несмотря на всю свою очевидность.
(обратно)33
Первый бал сезона давался, как правило, в Николаевском зале Зимнего дворца, вмещающего 3 тысячи человек. Несколькими неделями позже наступал черёд «концертных» и «эрмитажных» балов, получивших своё наименование по названиям залов, где они проводились. На эти балы приглашались, соответственно, 700 и 200 приглашённых, а церемониальные тонкости их проведения не отличались строгостью.
(обратно)34
Придворный полонез был государственной церемонией. Царь подавал руку супруге старшины дипломатического корпуса, великие князья приглашали жён дипломатов, а послы танцевали с великими княгинями. Гофмаршал в окружении церемониймейстерами с жезлами в руках шёл впереди государя, словно расчищая ему дорогу. Обойдя зал один раз, танцующие менялись партнёршами, строго соблюдая иерархию и положение в обществе. Зал обходили столько раз, сколько его величество полагал необходимым менять партнёрш.
(обратно)35
На балах в высшем свете был весьма распространён «язык веера». Если веер развёрнут и дама обмахивается – «я замужем». Веер закрывается – «вы мне безразличны!». Полностью раскрытый при приближении мужчины веер означал: «Ты мой кумир!», а один раскрытый лепесток с намёком увещевал: «Будьте пока довольны моей дружбой!»
(обратно)36
В зале, где ужинал государь, располагалось несколько круглых столов, за которые усаживалось по двенадцать особо отмеченных императором гостей. Место каждого из них было обозначено карточкой с именем гостя. В прочих залах гости сами находили себе места за столами.
(обратно)37
Тасуки – узкий пояс-кушак, спереди протягиваемый через оба рукава кимоно и завязывающийся сзади.
(обратно)38
Дайсё – два меча, непременный атрибут самурая. Набор состоит из стандартного боевого меча-катаны, который часто является фамильной драгоценностью и передаётся по наследству, а также из укороченного меча-вакидзаси.
(обратно)39
При форте Горёкаку на северном острове Японии Хоккайдо, построенного под руководством того же Эномото, войска правительства Мэйдзи разбили мятежников и поставили крест на провозглашённой там «Сёгунской республике».
(обратно)40
До 1882 года в России существовала монополия государственных театров, и оттого репертуар театров частных ограничивался дивертисментными программами, пантомимами, отрывками из опер, оперетт и драматических спектаклей. Театральный деятель А. Фёдоров, в чьи руки перешёл «Буфф» в 1873 году, сумел выхлопотать разрешение на постановку целых спектаклей.
(обратно)41
Одарённая от природы звезда оффенбаховского «Буффа» на гастроли в Россию ехала в зените мировой славы. Запасы цветов в столице были раскуплены за две недели до её приезда, ювелиры выполняли заказы по изготовлению для Шнайдер брошей, браслетов и даже золотого скипетра, украшенного бриллиантами. На Варшавском вокзале столицы приму встречала особая делегация театралов, готовая впрячься в её карету вместо лошадей.
(обратно)42
Мост носил наименование Петровский до 1887 года, потом был переименован в Иоанновский.
(обратно)43
Цейхгауз – служебное помещение для хранения одежды заключённых и отдыха тюремных надзирателей. В цейхгаузе на первом этаже тюрьмы Крепости была размещена также библиотека для нужд арестантов. Кордегардия – помещение для военного караула и отдыха солдат наружной охраны.
(обратно)44
Министр иностранных дел светлейший князь Горчаков был одним из самых возрастных высших чиновников при Александре II и очень гордился тем, что закончил Царскосельский лицей вместе с А. С. Пушкиным. Лицеист было одним из многих прозвищ главы внешнеполитического ведомства Российской империи.
(обратно)45
Имеются в виду подлинные заявление дипломатических посланников Франции и Северо-Американских Штатов, заинтересованных в затягивании конфликта между Японией и Российской империй по Сахалину.
(обратно)46
Выступающая из плоскости стены закрытая часть здания, как правило – остеклённая. Позволяет увеличить внутреннее пространство помещений.
(обратно)47
октября 1874 года по европейскому летоисчислению.
(обратно)48
Белый цвет в Японии – траурный.
(обратно)49
Единица длины в Японии. Одна ри равна 3,927 км.
(обратно)50
Дословно: собака охотника. Впоследствии порода получила название акита. Японская порода собак, выведенная в провинции Акита на острове Хонсю. Использовалась как бойцовская порода, а также для охоты на медведя.
(обратно)51
Ивакура Томоми – японский политик, сыгравший большую роль в реставрации императорской власти Мэйдзи.
(обратно)52
Так в Японии называли эскадру американских военных кораблей под водительством коммодора Мэтью Перри. Под дулами их орудий сёгун Токугава был вынужден открыть японские порты для иностранных кораблей и установить «принудительные» дипломатические отношения с рядом стран Америки и Европы.
(обратно)53
Бэнто – традиционный деревянный ящичек для еды, распространённый в Японии.
(обратно)54
Хитокири – дословно: «тот, кто режет людей». Так в Японии эпохи позднего Эдо называли четвёрку знаменитых политических убийц, владевших уникальными фехтовальными приёмами.
(обратно)55
Ронин – дословно: «человек-волна». Деклассированный элемент, потерявший покровительство своего господина. Не получая постоянных доходов от своего господина, что было необходимым жизненным статусом своего существования, ронин был не менее свободным в своих мыслях и поступках.
(обратно)56
Муромаса Сэндзи – знаменитый кузнец и мастер клинков Японии XVI века. Масамунэ – представитель другой династии оружейников, живший двумя веками раньше. Философия этих мастеров сильно различалась: если клинки Муромаса были разящими, то мечи Масамунэ – защищающими. По одной из легенд, клинки этих мастеров, опущенные рядом в ручей, вели себя по-разному. Плывущие листья лотоса огибали острие Масамунэ без повреждений, тогда как клинки Муромасы рассекали их.
(обратно)57
Подлинные стихи Сайго Такамори.
(обратно)58
Вскоре после реставрации императорской власти правительство Японии предприняло ряд крайне непопулярных среди самураев реформ. Была создана, в частности, регулярная армия, сделавшая ненужными боевые искусства профессионалов. Было резко сокращено содержание самураев, а их исключительному сословному положению был положен конец. Самураям запретили ношение мечей, отменили самурайские суды, запретили сословные причёски и т. д.
(обратно)59
Старая японская пословица.
(обратно)60
Эвфемистическое обозначение кальсон. Вошло в русский язык примерно в середине XIX века.
(обратно)61
Гар-дю-Нор – Северный вокзал французской столицы, один из старейших в Париже. Был построен одновременно с завершением строительства железнодорожной линии Париж – Амьен – Лилль.
(обратно)62
Первое здание Северного вокзала Парижа было слишком маленьким и в 1860 году было разобрано и перенесено по камням в Лилль. Там здание служит вокзалом Lille-Frandes и по сей день.
(обратно)63
Имена участников французской военной миссии, направленной по указу Наполеона III в Японию, подлинные. Миссия была направлена в Страну восходящего солнца по просьбе европейского эмиссара сёгуната Шибата Такэнака.
(обратно)64
Сокращённое название – «Журналь дэ Деба». Ежедневная французская газета консервативного направления. Специализировалась на громких скандалах, в том числе и международных.
(обратно)65
Эномото Такэаки в молодости действительно часто называли Буё – по второму чтению иероглифов, составляющих его имя.
(обратно)66
Имеется в виду крепость Горёкаку.
(обратно)67
Дуэль русского происхождения, была распространена в офицерской среде в середине XIX века. Противники брались за углы большого платка, отодвигались друг от друга на максимальное расстояние и по команде стреляли. Пистолеты в этом виде дуэли выбирались по жребию, заряжен был только один. Дуэль «дуло в дуло» отличалась от описываемой только тем, что заряжены были оба пистолета. Поединок был, безусловно, смертельным, во втором случае нередко гибли оба дуэлянта.
(обратно)68
Тандем оружия самурая именовался дайсё и состоял из длинного меча-катаны и короткого – вакидзаси. Длинный использовался в бою, короткий носил вспомогательные функции – для самоубийства (сэппуку) или «контрольного» обезглавливания противника в случае его ранения.
(обратно)69
Кэндока – так в Японии называют человека, мастерски владеющего катаной. Кэндока способен, в частности, нанести два-три мощных разрубающих удара мечом за одну секунду.
(обратно)70
Семафор – средство сигнализации для подвижного состава железных дорог, представлявшее собой в конце XIX – начале XX века металлическую мачту, несущую одно или несколько подвижных перекладин-крыльев. При разрешающем зелёном сигнале семафора крыло находилось в поднятом положении. Как только локомотив проходил мимо мачты, специальный механизм переводил крыло в горизонтальное положение, а поворачивающийся светофильтр менял цвет сигнала на красный, не разрешающий следующему поезду начать движение по занятому участку.
(обратно)71
Темляк – ремень или шнур на эфесе длинноклинкового оружия. Мог быть обязательной частью военной формы или же знаком отличия на наградном оружии в русской армии. Петля из темляка, надетая на кисть руки, служила для предотвращения потери оружия.
(обратно)72
Имеются в виду психические отклонения (как слабоумие и маразм), в полной мере проявившиеся у А. Л Потапова в более поздние годы.
(обратно)73
«Товарищами» в органах власти и управления Российской империи XIX именовались нынешние заместители.
(обратно)74
После смерти жены в 1871 году А. Л. Потаповым овладело неотступное желание жениться на польской аристократке католичке Тышкевич. Однако папа Пий IX не давал согласие на развод графини с мужем, и это давало основание генерал-адъютанту «бомбардировать» Ватикан прошениями, а также подключать к решению сей проблемы всех, кто мог повлиять на папу Римского.
(обратно)75
Имеется в виду наместник российского императора в царстве Польском, Фёдор Фёдорович фон Берг. В описываемый период времени большая часть современной территории Польши была частью Российской империи.
(обратно)76
Имеется в виду попытка государственного переворота в Санкт-Петербурге в декабре 1825 года. Восставшие декабристы пытались не допустить вступления на трон Николая I – используя сложную юридическую ситуацию вокруг права на престол после смерти Александра I. Были обнародованы отказы от права на престол двух братьев – Константина Павловича и Николая Павловича, подписанные в разное время. В ноябре 1825 года население было приведено к присяге императору Константину – однако тот, не принял престола, но и не отказывался от трона. Николай решился объявить себя императором, и на Сенатскую площадь Петербурга вышли полки. Ожидая самого худшего, Николай I приготовился к бегству, а наследника престола, малолетнего Александра, передал на попечение солдат Сапёрного лейб-гвардии батальона. Став со временем императором, Александр II на всю жизнь сохранил особое отношение к сапёрам.
(обратно)77
Миссия правительственной делегации под водительством Ивакуры Томоми, в которую входили члены правительства Ито Хирабуми, Кидо Такаёси, Окубо Тосимити не смогла добиться отмены «неравноправных», с точки зрения Японии, межправительственных соглашений. После её возвращения в Японию, делегация была подвергнута резкой критике. А на Ивакуру было даже совершено покушение.
(обратно)78
Министр внешних связей Японии, сменивший на этом посту прежнего министра Соэдзиму.
(обратно)79
Посол Северо-Американских Штатов Джордж Боукер, не слишком успешный дипломат, был известен также как драматург и поэт – правда, также не слишком успешный.
(обратно)80
Имеется в виду смелый демарш России, направивший в июле 1863 года сразу две эскадры военных кораблей к Атлантическому и Тихоокеанскому побережьям США. Эта демонстрация поддержки американского народа сорвала агрессивные намерения Англии, и её флот, направляющийся к американским берегам, вернулся на свои базы.
(обратно)81
Входила в царство Польское, или Привисленский край.
(обратно)82
«Чёрный кабинет» – перлюстративная служба Министерства внутренних дел Российской империи. Это тщательно засекреченное подразделение, имевшее, кроме центральной конторы при Главном Петербургском почтамте, всего несколько филиалов, тайно и незаметно для ведущих переписку людей знакомилось с их корреспонденцией. Главным объектом интересов «чёрного кабинета» было, разумеется, инакомыслие всяческого рода. «Алфавитом» на профессиональном сленге цензоров именовался список лиц, чья почта подлежит обязательной перлюстрации. Дипломатическая переписка также входила в этот список.
(обратно)83
Генерал Иван Семёнович Каханов в то время исполнял должность губернатора Петроковской губернии.
(обратно)84
Пан едет в монастырь? Со всем почтением, пан!(польск.)
(обратно)85
Католический монашеский орден, основанный в XIII веке, носит имя первого христианского монаха-отшельника Павла Фивейского, святого IV века. В 1308 году Святой престол утвердил создание ордена. Духовным центром ордена и его цитаделью является Ясногорский монастырь, известный также и тем, что в нём хранится величайшая христианская святыня – Ченстоховская икона Божьей Матери. В монастырь ежегодно приходят тысячи паломников со всего мира.
(обратно)86
Имеется в виду Русско-турецкая война 1877-78 годов.
(обратно)87
Эномото окажется прав. Уже в 1889 году правительство Японии объявит о полном прощении Сайго Такамори, посмертно ему будет присвоен один из самых высоких придворных рангов. А в токийском парке Уэно появится бронзовая скульптура Сайго – одного из самых выдающихся государственных деятелей Реставрации Мэйдзи.
(обратно)
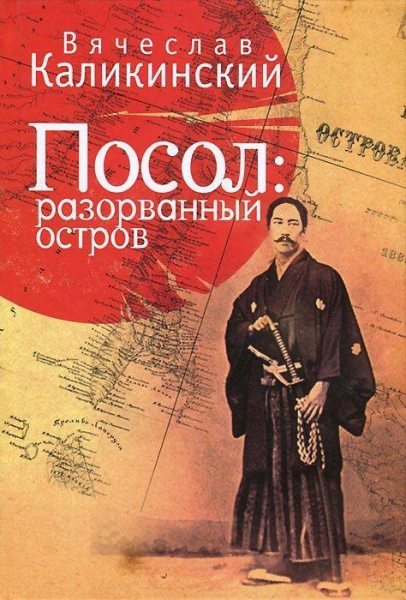


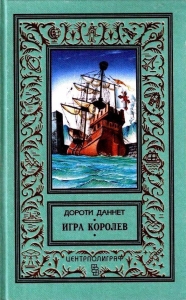
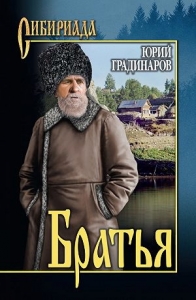


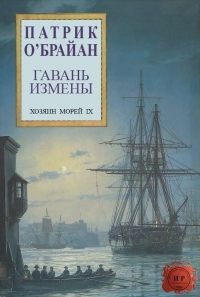
Комментарии к книге «Посол. Разорванный остров», Вячеслав Александрович Каликинский
Всего 0 комментариев