Ландскнехт шагает к океану
Смолкину Олегу —
лучшему другу и отличному человеку
Война есть прежде всего акт человеческого
общения, хотя и весьма своеобразного.
К. КлаузевицБУЙС «НОЙ»
I
Оловянная миска с глухим стуком влипла всем своим содержимым в переборку и медленно сползла вниз, оставляя след. Бряканье ложек о другие семь мисок-близнецов как по команде смолкло, семь пар глаз над враз переставшими жевать челюстями упёрлись в наглеца, дерзнувшего прервать священнодействие — поглощение пищи. Томас даже проворно вытащил обратно изо рта приличную сельдь, которую только что намеревался сладко схрупать, по голландскому обычаю с головой и хвостом, отправив прямиком в трюм желудка, в компанию к ещё по меньшей мере полудюжины товарок. Тишину нарушал лишь скребущий шорох мелких льдин за бортом.
— Ну чего вылупились? — вызывающе прошипел Михель. — Не могу я больше жрать вашу селёдку, не могу.
Захрустела просмолённая парусина — над столом нависла гигантская фигура гарпунёра Йоста. Поспешно последовавший его примеру Михель в очередной раз чертыхнулся про себя. По всем правилам китобойного флота, гарпунёр, как особа привилегированная, должен обретаться на полуюте, вместе с господами шкипером и спексиндером[1], но простецкий парень Йост предпочитал тесноту и вонь матросского кубрика. А ведь кабы не было здесь громилы-гарпунёра — кубрик давно бы уже ловил каждый звук, исходящий от Михеля. И не только изо рта, усмехнулся, опять же про себя, Михель.
Рука Михеля зашарила по поясу в поисках оружия. Но он уже давно не ландскнехт, одет, как и все, в рыбацкое, и на поясе у него только большой разделочный нож. Пальцы коснулись пустых ножен. А ведь нож-то на столе, лежит себе между краюхой и кружкой, куда ты его и положил, садясь обедать. Михель, как бы невзначай, переступил с ноги на ногу, и правая рука его легла на стол.
Йост, не сводя невозмутимых глаз с Михеля, поднял свою кружку — Михель едва не сделал инстинктивного движения, закрывая голову, — и спровадил непрожёванный кусок в своё объёмистое нутро с помощью доброго глотка гретого пива с пряностями. Со стуком поставил кружку обратно на стол, словно показывая Михелю, что руки его пусты.
Сидящие за столом закаменели лицами, спины выпрямились, мышцы ног напряглись. По единому сигналу, намёку или признаку опасности готовы вскочить, так, чтобы не быть сбитым служащей столом широкой доской, подвешенной на цепях, и броситься — спасаться, разнимать или убивать.
— Что, солдатик, ветчинки возжелал? — вместе со словами изо рта Йоста вырвался клуб пара.
Михель открыл было рот, но крупная холодная капля, шлёпнувшись с подволока точно за шиворот, скомкала готовую выскочить ответную фразу, смыла её, так и не родившуюся, обратно, в напрягшуюся перед схваткой тёплую глубину. Чего глотки зря драть — и так всё ясно. Главное — свалить этого здоровяка, что крепостным бастионом нависает над тобой, готовый обрушиться и погрести под своим обвалом всех и вся. Остальные, хоть и пытаются корчить зверские рожи, в сущности, только подпевалы гарпунёра. Лишившись его, примкнут к новой опоре. Вон тот молокосос — Ян, кажется, его кличут, вообще ни жив ни мёртв — рявкни на него погромче — и обделается от страха.
Михель сделал ещё одно неуловимое движение к оставленному ножу — всё равно взгляды всех устремлены на их лица.
— Разве тебе не объясняли, что это китобой, а не плавучая харчевня? Ты куда нанимался? Разве в солдатчине ты ни разу не видел селёдок? — Йост не повышал голоса, и вообще никак не выказывал своего гнева.
Слова падали в тишине весомо и грубо, словно камни в воду.
— Да уж, самые крупные подряды и на сельдь, и на треску в армию идут. Который уж год вояки всё подчистую выметают, до последнего хвостика, — в разговор неожиданно для всех встрял высохший под свирепыми полярными ветрами Гильом. У старика мелко тряслась голова, он часто говорил много и невпопад, однако руки сохранили большую часть былой силы, а уж драк-то — портовых, корабельных, трактирных и прочих — переломал больше, чем все остальные, вместе взятые.
— Да, гарпунщик, мне не раз приходилось рубиться из-за пары протухших селёдок, — глазами и голосом Михель завораживал, отвлекал противника. Главное — рука. Вслепую схватить свой нож со стола и в одно касание вонзить его в горло гарпунщика. О промахе было страшно подумать...
Время! Рука Михеля отправилась в рискованный полёт, и тут же Йост, тоже вслепую, ахнул кулаком по столу, словно кузнечным молотом саданул. Как по команде, все соскочили с мест, а в серёдке людского круга приплясывал от боли Михель, держась одной рукой за другую, и ни в одной из них не было ножа. Всё произошло так стремительно, что многие и не поняли суть произошедших перемен.
Лишь постепенно до китобоев доходило, что Йост приложил силу отнюдь не к столу. Видя полную беспомощность ещё недавно столь грозного Михеля, один за другим китобои впали в безудержное веселье — реакция на пережитой ужас. Скоро хохотали все кроме прямых виновников веселья: злобно сверкающего глазами Михеля, да с невозмутимым видом потирающего кулак Йоста.
Но веселье как отрезало, едва Йост начал говорить:
— Ты, ландскнехт, будешь жрать то, что дают, а именно селёдку. Не желаешь — грызи сухари. Не будешь жрать — ослабнешь, не сможешь работать. По работе и пай, сколь наробишь, столь и получишь. Без денег не сможешь экипироваться и вернуться к столь почитаемым тобой военным забавам. Значит, опять будешь ошиваться в порту, но тут уж я, да и все остальные крепко постараемся, чтобы тебя ни на один борт не взяли — ни на рыбацкий трешкоут, ни на китобойный буйс, ни на торговый флейт[2], понимаешь, — никуда. И уж тем более ноги твоей не будет на нашем «Ное». Так и сдохнешь перед закрытыми воротами потому, что нечем будет оплатить еду и ночлег.
И без всякого перехода:
— Ну, поели и даже повеселились, теперь за дело, шкипер, верно, заждался.
Примирительно улыбнувшись, Йост толкнул нож Михеля по столу:
— С первого кита можешь накромсать себе кусков, каких пожелаешь, если считаешь, что большие рыбы вкусней.
Унижения бедного Михеля на этом не закончились, ибо он тут же оказался в цепких объятьях старого Гильома, наконец-то обретшего благодарного слушателя:
— Только не с языка, не с языка, языки мы все сдаём во Францию чуть не к королевскому столу, да за хорошие денежки. Иной язык тянет дороже, чем ворвань[3] да китовый ус вместе взятые. Лишь бы у господ за Рейном мода на китятину не прошла. Она ведь шибко в любовных делах пособляет.
— Самому бы тебе язычок-то подрезать, старый хрыч, — едва вслух не зашипел Михель.
— До войны-то мы жили гораздо жирней, — не замечая неприязни, шлёпал старческими выцветшими губами Гильом, — тут тебе, понимаешь, и фрисландская, тающая во рту свининка, сыр — не чета нынешнему, всё больше тексельский да лейденский. И можжевеловкой согревались так, что едва за борт не падали. Завернёшь, бывалочи, перед походом в Схидам[4] — душа радуется. Винокурни дымят. Запах, что в сосновом бору очутился. Тут же ост-индские суда — запасаются той водицей, что почище святой. Говорят, здорово от тропических хворей бережёт[5] — малярии там, лихорадки и прочего. Тут шкиперу надо в оба доглядывать — а то можно подкоманды лишиться, загуляет братия — не остановишь. Опять же глаз да глаз нужен, когда начнут бочки с причала в трюм катать. Команда, что мухи на мёд, — кто с ножом, кто с буравом, кто с ведёрком — всяк старается урвать, да отхлебнуть сверх положенного. А что теперь?.. Сам посуди. Снабжаем, понимаешь, своей жратвой все армии, вплоть до испанцев. Слыхал историю о том, как наши уважаемые негоцианты, в том числе и господин амстердамский бургомистр Пуав[6], снабжали головорезов Спинолы[7] маслом и сыром, наверное, чтобы они живее резали наших детей.
Гильом прополоскал пересохшее горло пивом и продолжил:
— Да и мы бы могли снарядиться получше, кабы у компании не пропало в море уже три буйса. Сколько моих дружков пошли за китами и ушли к китам... Посему хозяева вынуждены экономить на всём, в том числе и на матросских сухарях. А ещё говорят, со следующего рейса до Гренландии будем ходить конвоем. Сельдяные бюзе, — Гильом назвал буйс на французский манер, что изрядно покоробило и без того злого Михеля, — тресколовные трешкоуты давно уже забрасывают сети под присмотром военных флитботов. И французские купцы носа не высовывают из Бреста или Гавра без наших «опекунов» с большими пушками[8]. Пора и нам, китобоям, желаем мы того или нет, обращаться к услугам адмиралов. Христиан[9] Датский, дьявол его забери, запретил всем голландцам и на пушечный выстрел приближаться к его Гренландии. Сам желает ворвань топить.
— Христианишко, само собой, своим покровительствует, а мы, голландцы, для него ровно кость в горле. Вот и зундские пошлины[10] опять же до небес задрал. А кто его проходами шляется — опять же мы, голландцы. Как у нас говорят: балтийская торговля — мать всех коммерций.
Болтунишка Гильом разошёлся не на шутку:
— А вообще у них в Зунде пошлины смешно берут.
— Смешно-то, смешно, только многим нашим почтенным негоциантам почему-то не до смеха, — мрачно бросил пришедший на китобой с торгового флота Якоб.
— Это как так смешно? — заинтересовался молоденький Томас, пододвигаясь поближе.
— А вот послушай. Дай ещё спрошу — кто сейчас кому доверяет? То-то сморщился, что никто. А вот в Зунде шкипер сам объявляет стоимость своего груза. По его словам и пошлину высчитывают. Скажешь сто гульденов — возьмут с сотни, скажешь миллион — с миллиона слупят.
— Так этот Христианишко без панталон окажется при таком раскладе дел, — развеселился Томас, заговорщицки оглядываясь на остальных: мол, травит старик, спасу нет, думает, на дурачков напал.
Но Гильом и бровью не повёл:
— А на коварство выжиг-шкиперов есть особая датская хитрость. Ежели зачуют тамошние мытари, что стоимость содержимого трюмов безбожно занижена, применяют статью договорную, коя гласит, что казна датская имеет первоочередное и безоговорочное право купить по объявленной стоимости полный груз любой следующей через пролив посудины. Сколь уж шкиперов попались на эту приманку и прогорели в пух и прах, получив горстку серебра вместо ожидаемой бочки золота.
— Походит более на игру «веришь — не веришь», — скривил тонкие губы Михель.
— Вот-вот, — чересчур жарко выкрикнул Томас, явно захваченный рассказом.
— Один фламандский шкипер, — Якобу тоже явно было о чём рассказать, — уж и не знаю, как он там проскрёбся сквозь нашу брандвахту[11], и разорённый таким вот образом датчанами, от отчаяния подпалил свой флейт и сам закрылся в каюте, напоследок лакая ром и костеря датского короля на чём свет стоит.
— Говорят, что призрак горящего корабля каждый раз перед бурей появляется в проливах, разгоняя по портам встречные суда и воспрещая им соваться в узость.
— Прям «Летучий Датчанин» какой-то объявился. Этак и по нашу душу какой-нибудь летун прямо с небес рухнет, — Томас от восторга перешёл к сарказму.
— Не кощунствуй, парень, да Бога зазря не гневи. Не с небес, но из ада нечисть подобная выползает смущать души людские, — Михель не ожидал от скромника Питера менторски-поучающего тона, хотя поставить на место зарвавшегося юнца, без стыда перебивающего старших, было, разумеется, надо.
— Пожалеть надо человека, павшего жертвой данов коварства, — благодарно кивнул Питеру Якоб.
— А чего плакаться по какому-то бродяге-обманщику? К тому же выкормышу из Испанских Нидерландов[12]. — Томасу все увещевания как с гуся вода.
— Что ж ты хотел, чтоб в торговле, да без обмана. Сами-то сколько вёдер ворвани в каждую бочку спермацета льём[13].
— Конкуренция называется, — под общий смех попытался завершить тему Йост.
Но Гильома не так-то просто было вышибить из седла:
— Да, конкуренция. И ничего смешного здесь нет.
Он почему-то опять сосредоточил внимание на Михеле и обращался прямо к нему:
— Раньше в море только наших китобоев и можно было встретить. Ну, изредка англичашек. А сейчас и датчане, и фрисландцы, и вольный Гамбург, говорят, у себя китобойную кампанию ладит. Да кабы киты плескались у Фризских островов[14], разве ж мы попёрлись бы в такую даль. Дожились, нечего сказать. Может, скоро вояки и китов колотить за нас примутся. А что — из пушек-то оно куда как сподручнее будет. Так вот, вооружённый эскорт тоже весьма недёшев. Но иного выхода, пожалуй, что и нет. Пираты — испанцы, французы, датчане те же... Кого только нет на нашу грешну голову. Ежегодно в море исчезают десятки крупных флейтов, а о сельдяной или китобойной мелочи вроде нас и говорить-то нечего. Это на суше все друзья да союзнички, а в море — без свидетелей. Ты же знаешь, в трюме мы тоже держим пушку, правда, небольшую, вертлюжную[15], но в случае нужды, думаю, отобьёмся. Ежели, не дай бог, конечно, дойдёт дело до абордажной свалки, тогда и ты сможешь проявить свою свирепость и неукротимость. Или на китах поупражняйся. Но, — старик назидательно поднял жёлтый прокуренный палец, — не в кубрике, добрый молодец, не в кубрике.
Из пасти Гильома воняло, как из разверстой могилы, но Михель, всё ещё чувствуя на себе настороженные взгляды, вынужден был терпеливо выслушивать старческую трепотню, да ещё и согласно кивать головой, поддакивая. Лишь бы рука не начала сохнуть, а там мы ещё поглядим. И всё же, несмотря на огромную ненависть ко всем, Михель вынужден был признать определённую логику и правоту в рассуждениях старика.
«Тут я согласен с тобой, гнилой пень, не стоит боле так опрометчиво переть на рожон. Тут надо похитрее, обходом, манёвром. Первая проба сил, скажем так, провалилась. Союзнички нужны, хотя бы одного на свой край перетащить. И, разумеется, очень ценно упоминание о грядущих конвоях. Значит, или этот рейс, или никакой».
Словно уловив блеск недовольства в глазах Михеля, в разговор вступил ещё один старый истребитель китов — Виллем:
— Дай людьми оскудел наш промысел, — жёстко бросил он. — Ведь и по три, и по четыре вельбота, бывало, спускали на охоту с этого борта. Армия забирает лучших людей, высыпая на нас свой хлам: хворых, убогих, сумасшедших. Скоро сумасшедшие будут вести корабли, сидеть на банках вельботов, гарпунить и разделывать китов. Если, конечно, — тут голос его повысился, — мы, честные люди, не дадим укорот всеобщему сумасшествию!
— Беда наша в том, что война у слишком многих угнездилась в сердце, — как всегда веско подвёл черту гарпунёр.
И опять промолчал Михель. Лишь вздувшиеся желваки могли показать внимательному наблюдателю, что Михель жизнь положит, но воздаст сторицей всем и за все.
Китобои, как по команде, заторопились, словно показывая, что всем хочется поскорее покончить с этой неприятностью и забыть о ней.
Приступы корабельного, или, как его в этих широтах называли, полярного «бешенства» — нередки. Месяцами видеть одни и те же лица, одно и тоже море, льды. Люди внезапно бросались за борт или из-за сущей безделицы поднимали оружие на своих товарищей, сходили с ума или пытались уничтожить свой же корабль... Всяко бывало... Терпение, прощение и работа — вот снадобья от этой хвори. Потому никто даже не заикнулся, что надо бы доложить господину шкиперу Адриану. Дело кубрика в кубрике же и останется.
II
Он опять вернулся. Словно айсберг, проломив хрупкую переборку времени, властно вломился этот день. Самый страшный день семнадцатилетнего Яна и семисотлетнего Магдебурга. Этот день они прожили вместе и, к исходу его, было уже неясно, кто более мёртв.
Как журавль, высоко поднимая ноги, бредёт Ян внутри выпотрошенного, остывающего трупа города и, несмотря на тщетные потуги, осознает и чувствует, как всё больше и больше пропитывается кровью. Потому, что её много и она везде.
Ужасно хочется спать, вернее, просто отрешиться от всего, закрыв глаза, заткнув уши, защемив нос. Но и тогда он будет ощущать эти миазмы каждой порой... Вот если только содрать ему кожу. Тем более что желающих это сделать хватает. Следы их работы — повсюду. Весь город — один большой результат коллективной деятельности. Шедевр пустоты, над которым упорно, не покладая мечей, трудится озверевшая солдатня уже который день...
Куча тряпья и грязи на залитой мостовой оказалась огромным валлоном и его жертвой. Вот вояка взвыл, тело его выгнулось в пароксизме экстаза, затем мелко затряслось. Подняв закрытые глаза к небу, он рычал уже что-то зверино-сатанинское, не переставая давить и мять тело под собой, и блики ближайшего пожара бросали причудливые светотени на его перекошенное лицо. С уголка губ стекала, блестя, на небритый подбородок то ли слюна удовольствия, то ли пена бешенства. «Закончив дело», валлон отвалился в сторону и, лёжа на спине, затянул вдруг какую-то полубезумную песню на своём варварском наречии.
Когда-то совсем недавно, до штурма, наверное, счастливая женщина, а сейчас комок боли, ужаса и отчаяния, попыталась спасти хотя бы жизнь. Не заботясь о том, что единственным «украшением» её являлись обильные синяки и ссадины, несчастная вскочила на ноги и попыталась скрыться. Пробуждение зверя было столь же кошмарным, как и его забытье. Молниеносно схватив свою жертву за щиколотку, он рывком повергнул её на землю. Ткнув пару раз не глядя кулачищем, для порядка, валлон задумался. Сколько безвинных, верно, предал он лютой смерти, и трудно было придумать что-либо свежее. Наконец лицо его прояснилось, он, кажется, придумал забаву. Одной рукой схватил за волосы, заломив голову несчастной назад, другой выхватил острый кинжал и с силой полоснул по горлу. Не глядя бросил орудие убийства обратно в ножны, поднял с мостовой какую-то плошку, подставил под толчками льющуюся струю. Посчитав посудину достаточно наполненной, он отшвырнул обмякшее тело, как обглоданную кость, и, взяв сосуд обеими руками, словно святыню, поднял над головой. Ян мог поклясться, что видел у него на глазах слёзы. Это существо уже не знало, как ему ещё выразить свою абсолютную власть над чужой жизнью и смертью.
Оборвав вдруг свой непонятный обряд, валлон поднёс дымящуюся жидкость к устам и одним глотком осушил половину... Ян почувствовал, что все его внутренности стремительно рванулись вверх. Но прежде чем Яна вывернуло наизнанку, валлон обнаружил его присутствие и протянул чашу со своим питьём. Не в силах произнести ни слова, Ян только энергично затряс головой, но валлон, также без слов, настаивал. Отступая задом, Ян запнулся обо что-то на мостовой, едва не потеряв равновесия, развернулся и побежал что есть духу по озарённой пожарами, заваленной трупами, военным мусором, обломками зданий, залитой кровью улице.
Сзади раздался, даже уже не сумасшедший, а какой-то адский хохот. В спину Яна что-то с силой ударило, едва не свалив. Спине и волосам на затылке стало мокро и липко. Ян с ужасом отвращения догадался, чем в него запустили.
Как ни старался Ян в своём стремительном бегстве не наступать на тела несчастных магдебуржцев, это ему плохо удавалось — так много их было навалено там и сям.
Перепрыгивая через очередную искромсанную кровавую груду, он неожиданно приземлился прямо на грудь навзничь лежащего тела. То ли в несчастном ещё теплились остатки жизни, то ли руки его взметнулись от резкого толчка Яна, но тому с перепугу показалось, что труп пытается схватить его за ногу. Едва совсем не лишившись рассудка от ужаса, Ян кубарем полетел под горку — в этом месте улица резко обрывалась вниз.
Раньше на этот пустырь стекались, вероятно, городские нечистоты. Сейчас это место послужило сбором жидкости другого сорта.
Не успел Ян опомниться, как барахтался в огромной луже уже начавшей сворачиваться и подсыхать крови. Он едва не захлебнулся, затем всё же сумел подняться посреди плавающих раздутых трупов. Ян с ужасом рассматривал свои руки и одежду, чувствовал, что голова и лицо также залеплены, что и с волос, и с ресниц тоже капает густая чёрно-красная жидкость. И тут его наконец-то вырвало и долго немилосердно полоскало — на кровь, на тела замученных, на мёртвый город, на всю ставшую разверзшимся адом землю. Стоя тут же, в луже, Ян пытался обтереть лицо и руки полами одежды, затем принялся срывать с себя насквозь промокшее облачение, но вовремя одумался.
— К реке, к реке надо. Только там можно очиститься.
По дороге его пару раз окликали, но то ли на сегодня наконец-то солдаты пресытились кровью, то ли не с руки им было бросать награбленное, то ли пороху жаль, но дело обошлось без стрельбы и без погони.
Один раз Яна едва не погребло под обломками рассыпавшегося в прах, дотла выгоревшего дома, обдав жаром и такой вонью горелой плоти, что пустой желудок снова принялся содрогаться в судорожных конвульсиях, и прошло немало времени, прежде чем Ян смог продолжить свой страшный путь. Подсвеченная багровыми сполохами городских пожаров Эльба была феерически прекрасна. Но Яну было не до видов ночного заречья. С непередаваемым наслаждением он погрузил руки в прохладную жидкость и поднёс пригоршню к лицу. Вода в реке была розовой! Ян отшатнулся как от яда. Боже правый, ведь ему же просто необходимо умыться и напиться, пока он не умер от ужаса и отвращения. Но Всевышний сегодня явно заткнул уши, либо напрочь оглох от великого множества страстных предсмертных мольб умерщвляемых и богохульств умерщвляющих.
Ян с тоской глядел на угольно-чёрную, не освещённую середину реки. Туда, на стремнину, не дотягивались кровавые ручьи, текущие с городских улиц, там не плавали трупы сброшенных с береговых укреплений. Чистота и прохлада манили неудержимо и безнадёжно.
Сзади совсем рядом раздались пьяные крики. Ян затравленно огляделся и тут вдруг, совсем недалеко, заметил лодку, приткнувшуюся к берегу.
При его торопливом приближении из лодки с писком полезли крысы. Одна особенно крупная тварь, вскочив на борт и выгнув спину, негодующе-угрожающе заверещала на Яна. Ну уж, после всего, чего он нагляделся за сегодня, это слишком! Перекувыркнувшись в воздухе от мощного удара, наглая крыса шлёпнулась в прибрежную грязь и, уже не мешкая, бросилась догонять товарок. На том месте, где ещё недавно стоял «гордость и краса протестантского мира», и ей, и всей многотысячной компании, шнырявшей по улицам и подвалам, давно заготовлено роскошное пиршество.
Ян заглянул внутрь лодки. Так и есть. До его вторжения серые плотно закусывали каким-то страдальцем и мало что от него оставили. Неясно было: здесь его прикончили и бросили зачем-то в лодку, или издалече приплыл он в компании своих пожирателей, умер сразу, или крысы терзали ещё дышащего. Тут же, в останках, копошились, попискивая, розовые, ещё голые и слепые крысята. Ян, не мешкая и менее всего думая о прежнем хозяине лодки, выгреб за борт всё кроме вёсел и оттолкнул лодку от берега.
Ян грёб, что было сил, стараясь ни о чём не думать и, только выйдя на стрежень, вдруг понял, что его смущало.
Да, сегодня Магдебург был гигантской бойней, но ведь только эпицентром смертоубийств. Убивали сегодня, да и вчера, да и ранее, на всём протяжении Эльбы — что вверх, что вниз по течению — убивали и на её притоках, да и на других германских реках и озёрах. И трупы, и ещё живых сбрасывали в воду.
Ещё два года назад, во время первого победного марша католиков к морю, целые селения по Эльбе и Везеру садились в лодки и отплывали на север. Хорошо, если хотя бы каждый десятый спасся — остальные все здесь, на дне. Значит, в реке не вода — кровь пополам с трупным ядом.
И с каждым новым гребком он неуклонно приближается к большинству на дне.
Сейчас только Ян увидел то, что впопыхах не заметил, торопясь отчалить. Дно, то ли прогнившее, то ли прорубленное, то ли прогрызенное, обильно пропускало воду.
Разложившиеся, обсосанные речной живностью трупы тянули к нему свои костлявые пальцы, и Яна вместе с дырявым корытом, на котором он наивно полагал спастись, заглатывала — нет не вода, но кровь, от которой он тщетно убегал и от которой ему уже никуда и никогда не убежать... Нет!
III
«Испанец» горел, выбрасывая клубы смолистого дыма в безмятежную голубизну небес. Огонь с ленцой облизывал крепкие двери крюйт-камеры, как бы размышляя: идти на свидание со своим любимым лакомством — порохом — либо растянуть удовольствие.
В трюме Михель наконец-то совладал с последним хитроумным запором и, отшвырнув крышку, замер в восхищении. Золото! Погрузив руки почти по локоть, Михель лихорадочно соображал — что же делать? Звать товарищей, бесплодно обшаривающих каюты и кубрики, — значит делиться, с другой стороны — ему столько не унести и не спрятать. А тут ещё чёртов корабль: вот-вот расколется, отправив меньшую свою часть к небесам, большую — на дно. Михель знал, что решение есть и оно близко, как вдруг... истошный крик вырвал его, словно воздушный пузырь, из обволакивающей пучины сна и вынес на поверхность убогой реальности.
IV
Вопил как резаный тот юнец, сосед, Ян, чёрт его забери!
— Не надо крови, не надо крови! — сейчас он уже хрипел, переходя на шёпот.
— Не надо крови?! Будет тебе сейчас кровь. Умоешься! Люди добрые, это ж надо — оборвать на таком месте!
Уже приведя в роковое движение занесённый кулак, Михель заглянул в побелевшее от напряжения, покрытое обильным потом — это на таком-то холоде, — в сущности, ещё мальчишеское лицо, и что-то внезапно перевернулось в нём. В лицо Яна не врезался кулак — на него осторожно легла раскрытая ладонь.
— Ну что ты, что ты, успокойся, — Михель поразился своему голосу, определённо переставая узнавать его.
Бредивший Ян, словно и кричал-то для того, чтобы кто-нибудь положил прохладную, да что там прохладную — ледяную — ладонь на его горящий лоб.
Михель оглянулся. Только громила-гарпунёр поднял кудлатую голову, в неверном свете жировика разглядел своего недруга, пробурчал какое-то проклятие, погрозил огромным кулачищем и рухнул обратно, тут же захрапев.
Остальные, вымотанные до предела на диком холодном ветру, под непрерывным градом летящих с океана солёных брызг и сыпавшегося с небесных хлябей мокрого снега, люди застыли в глубоком, почти мертвецком сне, пытаясь набраться сил для завтрашнего, такого же серого, холодного, безрадостного дня. Спят без снов, лишь там, в глубине каждого, неслышно извивается гложущий червяк страха — перед штормом, ледяными горами, бродящими в тумане, обезумевшими ранеными китами, морскими разбойниками, подстерегающими по пути на Север и с Севера. Но прежде всего — страх перед тем моментом, когда сильная рука бесцеремонно начнёт тормошить за плечо и грубый, просоленный и прокуренный, как у всех здесь, голос позовёт наверх. Поэтому старые моряки так дорожат сном и могут выспаться в ревущий ураган. Михель усмехнулся — а ведь ему приходилось частенько отдыхать в траншее, под непрерывным градом вражеских бомб, когда близкие разрывы подбрасывают чуть ли не на полфута вверх. А вот в море и он, и так же непривычный к морю и чем-то страшно напуганный Ян спят плохо.
Всё ещё удивляющийся самому себе Михель почему-то задержался у койки Яна, хотя неудержимо хотелось нырнуть в свою разворошённую, но всё ещё, наверное, не совсем остывшую постель — ведь в кубрике ненамного теплей, чем на палубе. Михель поискал что-нибудь — обтереть нездоровый пот с лица Яна, и в это время тот открыл глаза и снова умоляюще произнёс:
— Не надо крови.
— Ну-ну, разумеется, не надо, зачем палубу-то пачкать. Лучше уж на нок-рею или по доске за борт, — всё ещё одной ногой находясь в своём сне, добродушно пробасил Михель.
Ян не расслышал или не понял вторую часть ответа Михеля, он жадно ухватил лишь то, что с ним кто-то согласен в отношении отсутствия крови. Судорожно схватив руку Михеля, он почему-то начал покрывать её поцелуями.
Михель ненадолго вернулся к своей койке накинуть что потеплее, и они проговорили всю ночь. Вернее, говорил Ян, а Михель слушал. Разошлись они под утро, твёрдо уверенные: Ян — что обрёл друга на всю жизнь, Михель — что нашёл компаньона для помощи в одном очень важном дельце.
V
Как Томас не лишился навек голоса, навсегда останется загадкой, но его истошный вопль с «вороньего гнезда» был подобен влетевшей в кубрик пушечной гранате. Крепыш Якоб, сам недавно спустившийся с «вороньего гнезда» и тщетно пытающийся согреть иззябшие руки о кружку с горячим питьём, с перепугу пролил изрядное количество на себя и закричал, обожжённый. Угревшийся в углу задремавший Йост чуть не прошиб головой палубный настил и, схватившись руками за голову, принялся горячо посылать Томаса туда, откуда, как правило, не возвращаются. Ян и Михель, шептавшиеся в углу — последние дни они проводили вместе почти все свободное время, так что кое-кто из китобоев начал уже посмеиваться за спиной — испуганно вскочили, ничего не понимая. У Михеля на мгновение мелькнула надежда на пиратов, но, взглянув на сияющего гарпунёра, он понял, что это не так. В люк свесились сначала борода, а затем и улыбающееся лицо шкипера Адриана:
— Фонтаны ребята! Киты объявились!
— Да извещены уже, — заверил Йост, потирая голову, прежде чем нахлобучить зюйдвестку, — чёртов Томас глухого поднимет и мёртвого разбудит.
— Ну так пошевеливайтесь, давай все наверх!
VI
Ян с тоской глядел вслед шлюпке, увозящей Михеля. Шкипер Адриан, оглядев его жидковатую стать, оставил Яна для палубных работ, зато Михель занял законное место на банке для гребцов.
Кто-то хлопнул Яна по плечу. Это был Томас, также оставшийся на борту и весьма тем недовольный. Годами он был не старше Яна, но уже неоднократно ходил в студёные моря за китами, и потому держал себя по отношению к Яну покровительственно:
— Что, загляделся на своего красавчика.
Ян молча стряхнул его руку с плеча.
— Ну, ладно тебе, я ж не поп, в душу лезть не буду. Только помяни моё слово — дурной он человек. Тёмный, себе на уме. Чего ради ты к нему прилепился?
— Он не приемлет крови.
— Он-то?! Да он океан её прольёт ради выгоды своей.
— Он не приемлет крови, — тускло-заведённо повторил Ян.
— Кто ж её любит, кровь-то. Кого не спроси — все против. Однако ж война вот уже сколь годков пылает, и конца и края ей, треклятой, не видать, и кровь всё льётся и льётся. Ты сам-то от войны, что ль, в море убёг?
— От крови, — согласно кивнул головой Ян.
— Так тогда послушай моего совета. Хочешь заделаться заправским китобоем... Как я, — едва не сорвалось с языка Томаса, — держись Адриана, Йоста, Виллема. Я-то тож не сразу втянулся, по-первому всё в диковину было, хоть и вырос у моря.
— Эй, болтуны! Быстренько в трюм, готовь бочки под ворвань. Чую, не останемся без добычи. Йост зол, он чёрта морского со дна добудет, не то, что кашалота, — подал голос Адриан, держа курс на ушедший вельбот, однако ж не очень приближаясь, чтобы не спугнуть китовое стадо.
— Да в трюме не рассусоливать, а скоренько, и сразу ко мне — флешнера[16] точить, чтобы бриться ими можно было, не то, что жир соскребать, — вмешался в разговор другой Томас — спексиндер.
VII
— Табань, ребята! Сейчас ОН вынырнет. Вот туточки и всплывёт, — Йост ничем не выдавал своих чувств, лишь слово ОН произнёс как-то по-особому. Гарпунёр словно вселял уверенность во всех, показывая, что, мол, ничего особенного не происходит — обычная работёнка, порыбачить вышли.
— Он что сквозь воду видит? — прохрипел Михель, ловя языком падающие из-под зюйдвестки капли пота — хоть какая-то влага.
— Бери выше, — не скрывая восхищения, отозвался его сосед по банке Питер, — он их, зверюг, нутром чует.
Михель с каким-то даже облегчением отметил, что Питер также со свистом заглатывает воздух, и бока его ходят, как у загнанной лошади.
— Да уж, — словно прочитав его мысли, отозвался Питер, — нарастил жирку, ошиваясь на бережку. Хоть самого гарпунь да разделывай. Пивко, ветчина, гулянки до утра... Ничо, опосля первого кита такую лёгкость вдруг почуешь, до Америки догрести — раз плюнуть. А потом опять на твердь земную — прогуливать вытопленные из китов звонкие талеры. И всё по-новому. Моряк — скотина земноводная. На бережку он с тоской глядит вдаль морскую, особливо ежели переберёт хмельного, на палубе его со страшной силой тянет в родной порт. Пока очередной китяра не окажется злее и хитрее остальных.
— И что тогда? — Михель со страхом ждал ответа.
— Об этом лучше не думать. Моли святого Николая[17], чтобы не выдал в трудный час. Хорошо также, чтобы, если что, это произошло как можно быстрее, чтобы не успеть ни испугаться, ни осознать.
— Буквально прирастаешь к морю, — стараясь сменить тягостную тему, со смехом начал новую историю Питер. — Был тут у нас китобой, задолго до тебя — Боб его все прозывали, потому как бобы с салом для него первейшая закуска. Где увидит бобы с салом на столе — сразу шляпу бросает: всё, что накрыл, — его. Отца с матерью готов за блюдо бобов заложить. Уж и поколачивали его не раз — всё едино. Как увидит бобы — хоть на цепь его сажай.
— Я больше бобы уважаю с кровяной колбасой, хотя с салом оно тоже вкуснятина, — причмокнул Михель.
— Так вот что Боб как-то на берегу учудил. Загрузил он чрез меры трюмы и вином, и пивом, и все кричал, что без моря жить не может, хотели уж его раскачать да швырнуть с причала. В конце концов нанял он двух нищих, чтобы те всю ночь раскачивали его гамак, изображая качку. Бедняки с радостью согласились, надеясь на лёгкий заработок, но жестоко просчитались, прокляв все и вся. Едва они останавливались, Боб тут же продирал глаза и, чертыхаясь, требовал «крупной зыби» либо «настоящего шторма». Как они его не зарезали и не ограбили — остаётся только гадать. Наверное, побоялись, что житья им не будет и китобои всего побережья не успокоятся, пока не насыпят над ними могильный холмик. Несмотря на чудачества, Боба любили. А может, именно за подобные фокусы и любили.
— Да уж, не повезло беднягам.
— В подобных развлечениях Боб довольно скоренько спустил свою долю, посему по-быстрому подрядился на первый подвернувшийся буйс. С моря они не вернулись. Один Всевышний знает, что произошло. Так-то вот.
— Не дрейфь, парень, — это тебе не кубрик гонять, тут кулаки не помогут. Здесь всем заправляет его величество Океаническое море[18]. Именно оно может разрешить или не разрешить киту нас обидеть, точно так же, как и нам добыть кита, — Виллем тоже оказался не против разрядить обстановку разговором. — Мы смертны, и киты смертны, а океан — вечен. Он побеждает реки и перемалывает скалы. А ещё дышит.
— Да ты прям язычник какой-то, — только и смог выдохнуть Михель, не забывший гневного выпада Виллема в кубрике.
— Походи с наше в море, тогда и суди.
— Ты Священное писание хорошо знаешь? — Питер тут же сам себе и ответил. — Явно давненько в него не заглядывал. Так вот, про Америку, Индию, Китай и прочие земли неведомые там ни полсловечечка. Однако и не мираж же они. Значит, дьяволова-то землица. И богатства её несметные от нечистого, во искушение христианского мира. Возьмём ради примера тех же монархов испанских. Покуда не добыли мечом земель тех, трижды заклятых, ведь оплотом, красой и гордостью крещёного мира являлись. Веру Христову обороняли, с сарацинами да басурманами доблестно бились. И хляби эти бездонные долгонько люди иначе как Испанским морем[19] не звали. А из Америки, с Филиппин, вместе с золотом, самоцветами, шёлком и прочими чудесами заморскими начали таскать из-за моря ненависть, злость, жадность, гордыню. Истинную веру исказили. И стал народ сей из судьбоносного — гореносным. И море перестало быть Испанским — не за что, стало быть.
— Он у нас известный богоискатель, пока до китов добрался, сколь монастырей сменил, — наконец-то отдышавшийся Гильом хитро подмигнул то ли Михелю, то ли Питеру, — и ты с ним на эти вопросы лучше не спорь. Он у нас здесь и Лютер, и папа римский в лице едином.
Виллем опять же не упустил возможности вставить пару-другую слов:
— А Гренландию, Гренландию-то не забудь. Как сходим на берег, так прямо дрожь берёт какая-то — сколько по берегам селений позаброшенных и храмов Христовых в запустении стоят. Дома пустые и кладбища[20] — и никого. Поверишь тут в кого угодно.
— Тень Антихриста пала и на нашу землю. Если так будет продолжаться и дальше, лет через десяток какие-нибудь московиты сойдут на наш берег и также будут чесать затылки, соображая, что же за страна здесь была и куда все поисчезали, — пророчествовал Питер так, что Михель на время даже невольно зауважал этого обычно немногословно-сосредоточенного парня.
— Ну нам больше грозит другая беда — что все разбегутся по Вест- и Ост-Индиям, Батавиям, Гвианам, да Цейлонам[21], — хохотнул Гильом. — А войну-то мы эту переломим, по всему видать, хотя только Всевышний ведает, когда ж она, проклятая, закончится. Ведь все жилы повытягивала. Сколь себя помню — все мы с испанцами воюем[22].
Михель попытался вставить словечко, о том, что и на войне иной раз так прижмёт, что и чёрта, и дьявола на подмогу звать готов.
— Суши вёсла, да и языки тоже, — Йост не спеша проверил соединение гарпуна с линём, бухта которого лежала в носу вельбота, — слушай меня. Ты — мажешь линь жиром, ты — готовишь вторую бухту — одной, чую, не обойдёмся. Ты сразу после броска подашь запасной гарпун. И не зевать, ребятки.
С хрустом размяв затёкшие члены, Йост выпрямился. Швырнул кому-то на колени снятую робу, чтобы не сковывала движений. Поглаживая древко тяжёлого гарпуна, Йост как бы заговаривал-разговаривал с оружием, прося не подвести...
Все в шлюпке напряжённо всматривались в то довольно неопределённо указанное перстом Йоста место, словно пытаясь осознать непостижимость замыслов Творца. Где-то, прямо под ними, в тёмной холодной жути, огромный Левиафан[23], утомившись созерцанием мрачной скучной бездны, начал стремительный прорыв к солнцу, ветру, воздуху. И возможной гибели. Туда, где семь жалких кандидатов в Ионы[24] могли противопоставить чудищу морскому лишь крепость остро отточенной стали, опыт и глазомер трудяги-гарпунёра, слаженность мускулов при работе на вёслах, да жалкую скорлупу сшитых дубовых досок. Если бы не неумолчная игра ветра и волн, можно было бы отчётливо расслышать бешеную работу семи сердец.
Брызги времени, залетая в вельбот, высыхали на закаменевших лицах почти бесследно.
— Люблю всех, кто выныривает, — непонятно было, шутит Йост или говорит серьёзно. Момент явно не располагал к шуткам.
Буравя взглядами солёные зелёные глыбы, пляшущие за бортом, китобои словно пытались установить некую коллективную эзотерическую связь между собой и ИМ, связать с собой воедино невидимым линём, и тогда ОН уже никуда не денется.
И Михель неожиданно ЕГО почувствовал. Из бездны шла тугая волна уверенной в себе силы — не злой, не враждебной пока ещё, а равнодушной ко всему, что меньше. Михель осознавал, что не может ещё ничего разглядеть, и всё же он отчётливо видел. Видел гибкое веретенообразное тело, ввинчивающееся в пространство, в то же время неподвижно зависшее в нём, баламутящие сонные хляби лопасти плавников и хвоста, облитые мраком бессолнечных глубин глаза, ненасытную воронку-жерло-пасть.
Кит смотрел на него, думал о нём, плыл только к нему...
— Маменька родная, если видишь ты с небес своего блудного сына Михеля, то помоги ему хоть чем...
Михель вспоминал о том, что у него когда-то была мать, считанное количество раз. Вернее, с тех самых пор, как с тощим узелком, куда впопыхах вперемешку побросав свою немудрёную одёжку да кой-чего из съестного на первое время, покинул родительский дом через окно, он вспоминал о ней третий раз... Когда уж становилось совсем невмоготу.
ПРЕДЫСТОРИЯ МИХЕЛЯ
VIII
Мать и сын давно перестали понимать друг друга. С того момента, как отец Михеля поддался на уговоры армейского вербовщика. Да и как было не соблазниться, когда практически каждый военный зазывала таскал с собой чуть ли не полевой бордель: пяток-десяток смазливых девиц, забота которых — вести вербовку тет-а-тет. Когда вино льётся рекой, в одно ухо настойчиво-обволакивающе бубнит настырный вербовщик, позвякивая монетой, в другое ухо шепчет удобно примостившаяся на твоих коленях красотка, обещая неземные наслаждения и вдесятеро большие утехи после того, как подпишешь контракт и целый мир распахнёт тебе свои объятья. Чаша весов, на которой опостылевшие поле, хлев, свинарник, рано постаревшая и погрузневшая женщина — и как ты мог её когда-то любить, убогий сельский трактир, обрыдшие, до невозможности рожи соседей, всё более вздымается вверх. А другая чаша, куда вербовщик, как из рога изобилия, высыпает всё новые и новые посулы, — вниз, перевешивая. И вся твоя деревушка — затерянный, зажатый между двумя каналами клочок земли — есть только сон, ненастоящая жизнь, ступень, которую можно и нужно легко перешагнуть. И ещё вина, и тебя уже тащат на ближайший сеновал, где награждают изощрёнными ласками, а вербовщик уже коптит над свечой дно кружки, куда ты должен ткнуть большим пальцем, а потом приложить этот палец в конце стандартного текста. Пьяного, обмякшего, опустошённого, алчущего и раздобревшего, тебя волокут обратно к столу, где вербовщик безошибочно определяет — плеснуть тебе простого или «особого», с дурманом. И вот он, пропуск в рай.
Костлявая лапа Войны, небрежно сметя со стола твои прежние радость и боль, сгребает тебя. Пока мягко — куда ей спешить, ещё похрустит всласть твоими косточками.
После того как отец, прихватив домашние сбережения, подался в края неведомые, где, скорее всего, и сложил буйно-непутёвую голову, жизнь семьи заметно изменилась.
Не потому, что без главы иссяк достаток. Стабильный спрос города, армии, флота на провиант и фураж позволял особенно не задумываться о будущности, ну а насчёт поесть-попить — как в любой нормальной крестьянской семье — от пуза. Вот только тогда совсем ещё зелёный Михель стал с тоской поглядывать за околицу да вздыхать тяжко чаще обычного. И приглядевшись внимательней, мать с тревогой убедилась, что отнюдь не о возвращении новозавербованного ландскнехта он мечтает, не о нём тоскует, но лишь о доле его.
В отличие от матери Михель довольно скоро смирился со своим неожиданным, как с неба свалившимся полусиротством, не очень горевал и о потере многолетних сбережений. Всю его тоску и злость можно было выразить:
— Какого чёрта не взял меня с собой? Отец называется!
Отец был безжалостно выброшен из жизни Михеля, как скомканная, использованная бумажка. Попадись в бою — не пожалею!
И мать вдруг с опустошающей ясностью поняла, что её ожидает одинокая старость.
Нельзя сказать, чтобы она смирилась с подобной перспективой. Вовсе нет!
Для начала попыталась откровенно поговорить с сыном. Однако прорваться сквозь его односложные «да» и «нет», а то и просто упорное отмалчивание оказалось невозможным. К борьбе был подключён приходской священник. И ему не удалось подобрать ключик к душе вставшего на скользкий путь прихожанина — уже и забыли, когда Михель последний раз переступал порог храма. Полковой капеллан — единственный из поповского племени, кого бы Михель послушал. В соответствующей обстановке, разумеется. Попытка просватать ему местную порядочную работящую девку также ни к чему не привела. Михель проявил к этому вопросу абсолютное равнодушие, как и ко всему остальному. Но и в пристрастии к срамным девкам из ближайшего городка его также нельзя было упрекнуть. Так что в головы некоторых закралась мысль о его возможной тайной предрасположенности к содомскому греху.
По ходу дела мать сама обзавелась любовником. Мужские руки всяко в хозяйстве нужны, раз сынок спит на ходу, постоянно витая где-то в облаках. Проклятый муженёк даже здесь напакостил. Ведь перед Богом они по-прежнему муж и жена, потому и не может она обвенчаться с тем работником, по которому сохла, ещё когда свой шалопай и не думал подаваться в бега. Работник-то, само собой, вздыхал исключительно о хозяйстве, а не о её порядком увядших прелестях. Ну да, стерпится-слюбится.
Посему и расспрашивала всех встречных и поперечных: не принесут ли благую да точную весточку, что дражайшая половина всё ж таки оставила эту грешную землю, освободив заодно и её. Хоть на подлог иди, подкупив пару странников-свидетелей. Не боялась бы так Ока Всевидящего.
И опять же, не о себе заботится, о кровинке родной думает — Михеле. Чтобы было ему несмышлёнышу, отцову выкормышу, с кого пример брать в работе и вообще. Михель, однако, нового хозяина невзлюбил — домой, почитай, только на ночёвку и являлся. А так все в трактире просиживал и слушал, и слушал. Отставному бродяге-то чё — готов весь день лясы точить — в тепле, да ежели ещё какой дуралей кружечку выставит за его байки. Одна польза, может, и проговорится кто о судьбе мужниной. Однако Михель про отца не выспрашивал, интересовали его совсем другие вещи.
Солдат в те поры развелось видимо-невидимо. Как раз с испанцами замирение вышло, вот вояк и распустили. Хоть и доходили слухи, что в южных пределах империи протестанты опять устроили резню с католиками, в их краях время жадно выбирало последние месяцы-крохи законной передышки. Безработных, а следовательно, голодных, вороватых ландскнехтов расплодилось такое множество, что, скрепя сердце, пришлось потратиться на пару злющих псов-волкорезов. Хотя в их безлесных освоенных краях волки давным-давно повывелись.
Не уследишь ведь за ушлыми отставниками, всех подаянием не наделишь. Михель, кстати, не испытывал к отставникам никакой жалости, не раз, вооружившись, с бранью гнал со двора. Мать однажды, не выдержав, всхлипнула:
— Ведь и нашего отца, поди, так же никто не жалеет.
— И правильно! — резко обернулся сын. — Не может добыть пропитание, как честный солдат, — вон где ему место!
И широко махнул рукой в сторону холма, белевшего каменными надгробиями.
Мать впервые осознала то, что едва не слетело с уст:
— Скорей бы ушёл, что ли. Всем будет легче.
Солдаты, из-за которых сыр-бор вышел, — пройды ещё те, особливо насчёт бесплатно пожрать и выпить. Даже ротвельш[25] шифрованный удумали для обмана простодушных селян. Пока один треплется, зубы заговаривает, да знаки тайные подаёт, дружки его с тыла чехвостят кладовые да хлева. Свинью уведут со двора так, что никто и не ворохнётся. Кинут ей, понимаешь, верёвку с крючком, на котором хлеба кусок или репка. И как только заглотит она наживку, что твой карп, — веди куда хочешь, — от боли ни сопротивляться, ни визжать бедная животинка уже не может.
И вдруг отставные, как по команде, исчезли, ровно мор их поголовно прибрал. Думаете, кто обрадовался — как бы не так. Раз не нищенствуют, значит, обрели работу, значит, вскорости могут появиться уже не как просители и воришки, но как властители и полновластные хозяева жизни и смерти. И откуда ж они только прознали? Всё ещё чесали затылки, недоумевая перед феноменом массового выхода солдат в тёплые земли, а они уж доподлинно знали, что пражане вышибли из ратуши двух советников прямо на кучу навоза под окном[26], тем самым смертельно оскорбив императора Матвея[27]. И вот уже имперцы и баварцы. Директория[28] и Мансфельд[29], Лига[30] и Брауншвейга[31] стали враз нуждаться в парнях, способных за пару гульденов выпустить кишки любому и умеющих это сделать в любое время дня и ночи.
А как только об этом узнали все, тут и Михель подгадал удобный момент.
Он забыл о доме ещё до того, как, выпрыгнув, по щиколотку увяз в мягкой садовой земле под окнами своей комнаты. Поднялся, вытер ладони, нашарил в темноте узелок с пожитками и пошёл. Ровно, сильно, не оглядываясь и не думая. Глаза у него не на затылке — смотрит только вперёд, туда же несут и ноги. Прошлое отрезанной горбушкой осталось в чужих руках, и Бог с ним, не жалко, ведь в узелке Михеля — целый каравай будущности. В темноте он неоднократно попадал в дорожные лужи, и влага смывала с башмаков последние следы прошлого в виде налипшей садовой грязи. Свежий ветер с моря словно втискивал в лёгкие Михеля всю красоту и тайную сущность нездешнего мира. А ведь я буду там, я обязательно дойду, и тогда мы ещё посмотрим! Только раз Михеля вдруг кольнуло в сердце. Показалось, что матушка стоит со свечой у окна, крестит его удаляющуюся спину и что-то беззвучно шепчет, может быть, в последний раз просит одуматься. Но Михель, разумеется, не обернулся.
IX
Солдатчина быстренько вышибает сантименты насчёт родных, семьи и прочего. Царствует голый расчёт — убивай, чтобы жить. Первая и главная жертва — твоя умерщвляемая всем этим бытием бессмертная душа.
Тем не менее стряхнуть прошлое оказалось несколько сложнее, чем скинуть ветхий изношенный плащ или вымыть башмаки, заляпанные домашней грязью.
Где-то под Бредой[32] ушедшее Михеля и достало: в лабиринте редутов, апрошей[33], осадных батарей, палаток, повозок, туров[34], бочек, ядер, костров, конских трупов, кухонных отбросов. И над всем этим хаосом, символом миропорядка, — пятнадцать бастионов, пятнадцать гравелинов, пять горнверков[35].
Вот уже который день по лагерю бродили упорные слухи, что где-то там, северней, у моря, голландцы собираются открыть шлюзы и отправить к Нептуну испанскую армию вместе с изрядным куском собственной земли.
Поэтому солдаты, наряду с массой обычных осадных работ, денно и нощно наращивали и укрепляли дамбу вокруг лагеря.
А погодка! Невод ветра упорно тащит богатый улов сизо-чёрных туч к морю — верно, топить. Мелкий нудный дождь который уж день щедро засевает обезлюженную равнину. Воздух стыл и мокр на ощупь: сожми в кулаке — и потечёт.
Вымазался, как свинья, голоден, как собака, устал дьявольски. В пояснице ломота великая от сырости, руки-ноги опухли так, что не ворохнуться. Проклятый фельдшер[36]! Этот костоправ лишь на кошелёк и смотрит. Нет денег — и помощи не дождёшься. Да и что он может, недоучка: руку, ногу оттяпать, пулю выворотить. И подлекаря у него такие же невежды. Вот побрить, бороду, усы, бакенбарды подровнять офицеру побогаче — тут они из кожи вывернутся. И вода горячая найдётся, и пену до небес взобьют, и бритву мигом выправят. Пудра, духи, благовония — только держись. Хорошо быть офицером. А нам грешным...
Михель уже и не вспоминал боле, как разнятся посулы вербовщиков и солдатские будни, чего душу зазря бередить. Каждый в этой жизни обычно получает то, к чему очень стремится, и никак иначе. С другой стороны, за инженерные работы ещё что-то и приплачивали. Хотя вполне могли гонять лопатить и за здорово живёшь. Пяток-другой лиаров[37] никогда не повредят.
А раз есть денежки, то пора и кабачок какой-никакой подыскать. Можно, конечно, и к маркитантской[38] повозке завернуть. Но холодно там, сыро, продувает, водка опять же разбавлена. Михель усмехнулся — а где сейчас не разбавляют.
— Михель! Ведь ты же Михель? — услышал он за спиной.
Окликала его разбитная девица неопределённого возраста.
«Голландка[39]. Из солдатских будет», — намётанным глазом враз определил Михель.
— Ну я, — угрюмо буркнул он. Стаканчик гретого вина с пряностями явно откладывается, и это скверно.
— Похож, похож.
Михель промолчал, чувствуя, как волна чёрной разрушающей ненависти начинает подтапливать его, словно прилив накатывает на берег. В отличие от подавляющего большинства солдат Михель не обзавёлся женой или постоянной подругой. Наверное, из-за крайне неуживчивого характера. Когда случались деньги и желание, находил шлюху, коими кишмя кишит любой военный лагерь, не упускал своего в завоёванных городах и деревнях, при нужде нанимал прачку или штопку, и этого ему пока хватало.
— Я походная жена твоего отца, — поспешно разъяснила она, видя, что Михель никак не реагирует и, более того, явно тяготится разговором. — Ты знаешь, он же здесь, в лагере, вторая немецкая терция[40].
Неизвестно на какой эффект рассчитывала отцова шлюха, сообщая эту новость, но была явно разочарована. Поэтому зачастила:
— Он сам только недавно прознал о тебе. Хотел встретиться, поговорить. Ты знаешь, он очень болен. Он умирает... Так ты идёшь к нему? Я укажу дорогу.
Михель отрицательно покачал головой:
— Если у тебя все, то я пошёл... Устал, понимаешь ли, — неожиданно для самого себя добавил он.
— Погоди. Возможно, ты не желаешь его видеть, — Бог тебе судья. Но дай хотя бы денег. На лечение, на погребение, в конце концов. Ведь ты же не желаешь, чтобы твоего родного отца бросили в общую яму. Без гроба, без отпевания. Засыпали известью — и всё.
— С этого и надо было начинать. Дать тебе денег, чтобы тут же снесла их в таверну.
— Ты не понимаешь. Я действительно привязалась к нему и хочу ему помочь, облегчить страдания... В отличие от некоторых. Ты не представляешь, как он будет рад тебя увидеть.
— Зато мне это не доставит никакого удовольствия, — круто развернулся на каблуках Михель.
— Ну дай хоть денег. Немного. Ведь отец же твой умирает.
Михель, не оборачиваясь, отрицательно замотал головой.
— Ты не сын... не сын ты! Чудовище! — в слепом ожесточении закричала она.
«Поколотить, что ли, чтобы не верещала... Время терять. Ни рукой ни ногой двинуть не могу».
— Но ведь и ты не мать, — пожал плечами Михель, сам поражаясь своей терпимости. Злость схлынула так же внезапно, как и накатила, начался отлив.
— Послушай, красавчик, — заскочила она вперёд. — В матери я тебе не гожусь, это ты верно заметил. Но может быть, в другом естестве. Папаша твой всё равно на ладан дышит. Одной ногой уже там, и дьявол крепко держит эту ногу, не собираясь выпускать. Принадлежать отцу и сыну — в этом есть нечто пикантное. Если ты отличаешься таким же темпераментом и удачливостью в делах — это меня вполне бы устроило. Ну так что — столкуемся? Может, желаешь глянуть товар лицом?
Торопливо расстегнув верхние пуговки, она бесстыдно вывалила на свет Божий довольно аппетитные груди.
— Ну, подойди, Михель, тронь, ощути, как они упруги, словно у девчонки, но и совсем не малы. Чего стесняешься, дурачок? Явно не видел ничего подобного. Где твоя палатка, пойдём, сразу оценишь качество товара. Не желаешь раскошелиться на помощь родному отцу, так заплатишь за продажные услуги.
Заинтересованные зрелищем, возле них стали притормаживать солдаты, как и Михель, еле волочащие ноги с земляных работ.
— Ну чего зенки повыкатывали?! — окрысилась шлюха, тем не менее и не думая прикрыться. — Топайте, служивые, вон прямиком в обоз, там такого насмотритесь. Конечно, поплоше и посуше, — тут же торопливо исправилась она.
— Проваливайте, — мрачно бросил Михель солдатам. И тут же, остужая не в меру пылкую и чересчур уж практичную подружку отца: — И ты тоже проваливай.
— Ты не сын, — только и смогла повторить шлюха и добавила, немного подумав или выждав, чтобы Михель отошёл: — Да и не мужчина тоже. От такого кусочка нос воротишь.
«Если не выпью, то, верно, сдохну, прямо здесь, посреди дороги», — ещё раз обречённо подвёл итог Михель. Залп тяжёлых орудий заставил его вздрогнуть и поморщиться. В последнее время он сильно маялся зубами, особенно ломило от близких выстрелов.
Но новости и неожиданности сегодня на этом не завершились, словно само провидение задалось целью не дать ему осушить стаканчик.
Не прошлёпал Михель по грязи и полсотни шагов, как его снова окликнули и схватили за рукав. Традиционное:
— Ты ли это, Михель? — с одновременным узнаванием.
Деррик, односельчанин Михеля. Перепуганный и изрядно битый. Его не только ограбили до нитки, но ещё и заставили сопровождать армию на реквизированных у него же быках и повозке. Деррик пытался было улизнуть, но, как истый хозяин, вместе с быками. Разве ж от кавалерии убежишь?
Всё это выложил он Михелю с подробностями, всхлипами, беспрерывно хватаясь за руки, по-собачьи преданно заглядывая в глаза. Проклиная всех и вся, Михель выжидал только удобного случая, чтобы, развернувшись, нырнуть бесследно в омут лагерного чрева. Чего ради он будет вмешиваться в жизнь чужой роты? Пусть этот мужлан будет доволен, что его не прирезали, когда опустошали его, уже именно его, не Михеля, деревушку. Пусть тысячу раз перекрестится, что только отлупили, а не вздёрнули, когда изловили на покраже армейского обозного имущества.
Теряя последнюю надежду на помощь Михеля, видя тщету тронуть его своими бедами, Деррик и сообщил ему, что мать Михеля схоронили уже год как. Он, Деррик, конечно бы известил бывшего соседа, только не ведал, да и никто не знал, куда слать весточку.
В один день получить два таких известия — любого другого доконало б на месте. Только не Михеля.
— Прощай, Деррик, — бесцветным голосом произнёс Михель. — Единственное, что могу тебе посоветовать: плюнь на свою крестьянскую долю и поступай в ландскнехты.
«И тогда я пристрелю тебя в первом же бою, чтобы разжиться твоей одежонкой, если до этого не выиграю её, да и твою никчёмную жизнь в картишки, или ещё как», — этого он, конечно,вслух не добавил.
Деррик хотел ещё что-то сказать, но, заглянув в глаза Михеля, вдруг осёкся и мелкими шажками поспешно затрусил прочь. До самой смерти, а прожить ему осталось совсем немного, Деррик был уверен и всем говорил, что встретился с «вервольфом»[41].
А Михель, у которого не было радости и не осталось больше злости, добрался-таки до кабака, тупо упился до безобразного состояния и вроде кого-то зарезал — не помнит.
Но вино и смерть только ещё раз доказали простенькую истину: прошлое неистребимо. И Михелю, несмотря на все его старания и браваду, пришлось-таки воззвать к прошлому. Теперь уже на небеса.
X
Первый раз — на той, чертовски грязной, раскисшей от дождей и потому скользкой, как мыло, альтдорфской горке.
Горушку ту у них лихим наскоком захватили шведские еретики, и не было бы в ней ни толку, ни проку, кабы шишка та ещё да не нависала, господствуя, над имперским лагерем. Ну и чтобы светлейший герцог Фридландский[42] не заполучил на гарнировку к жаркому ядро, бомбу или добрую порцию картечи — на выбор, холмик тот приказано было незамедлительно возвернуть. Чтобы его светлости лучше жралось до отрыжки и пилось до блевотины, голодающие которую уж неделю солдаты, враз перемазавшиеся с ног до головы и промокшие до костей под непрерывным дождём, упорно карабкались вверх.
Давно смолкли призывные вопли командиров. Должно быть, повыбиты. А и не здорово поразеваешь рот при таком дожде и потоках грязи, хлещущих сверху. Тут надо, стиснув зубы, беречь дыханье. Не покомандуешь здесь, не покрасуешься: где первая линия, где вторая, где резерв — все перемешалось. Только трусам и на руку. Зарылся в грязь под кустом либо притворился мёртвым, да поджидай спокойно, пока пушки отгрохочут.
Михель никогда не горел желанием сложить голову за кого бы там ни было, даже за обожаемого до слёз фельдмаршала. Но и трусом он никогда не был. Он был солдат. Как и всякого солдата, больше всего угнетала его нерегулярность происходящего. Отсутствие локтя справа и слева просто-таки ужасало. Ему, если уж на то пошло, недоставало даже мощного перегара в затылок — вопрос, на какие шиши Клаус умудрялся надираться перед каждой заварушкой, волновал всю роту. И всё же Михель добросовестно штурмовал небо. И как это бродяжки Густава-Адольфа[43] смогли вскарабкаться по эскарпированному переднему фасу. Если Бог, как неустанно напоминали капелланы, с нами, значит, нечистый несомненно держит их руку.
Противника надо уважать, им надо восхищаться, если он того заслуживает. Михель не видел в этом ничего зазорного. Солдат лишь инструмент в руцех Божьих и монарших. Разнося друг дружку в клочки во время битвы, солдаты не должны забывать, что бой — лишь краткий миг жизни, хотя для некоторых из них и последний.
Противником надо восхищаться, его надо бояться, чтобы действовать быстрее, сноровистее, чем он.
Михель представил, как суетятся сейчас на вершине шведы, пытаясь развернуть против них захваченные орудия. Чтой-то у этих парней не заладилось. Верно, дождь замочил порох, затушил фитили. А нам-то и на руку — в «мёртвую зону» пробираться не подогнём, а всего лишь под дождём.
Как позднее выяснилось, и не шведы там были вовсе, а солдаты финской бригады. А не стреляли они потому, что имперские артиллеристы, как ни быстро удирали, однако ж успели заклепать бросаемые орудия. И за то им от пехоты поклон низкий. Финны вынуждены рвать жилы, пытаясь затащить наверх свои пушки.
Главным общим недругом тех и других стала непролазная грязь, без остатка вбирающая в себя любую брошенную вещь: падающие тела, пушечные и тележные колёса, лошадиные ноги, безжалостно сдирающая у служивых последнюю немудрёную обувку с усталых ног.
Редкая растительность на склонах высоты истреблена огнём, сведена на топливо, вытоптана и вырвана. В очередной раз съезжая на локтях и носках башмаков по грязи, как по льду, вниз, Михель молил Бога, чтобы дурень какой под ним не выставил пики, шпаги либо кинжала. Редкие пучки травы выдирались из размокшей почвы без всякого сопротивления. Носками башмаков он пропахивал в податливой земле глубокие борозды, в которые тут же устремлялись ручьи воды.
Остановиться в этом медленном безостановочном движении можно было, лишь наткнувшись на преграду. Ежели то, по чему Михель елозил ногами, начинало бурно выражать негодование, поминая всяческого рода связи хозяина ног с дьяволом, чёртом, ведьмами и прочей нечистью, Михель только извиняюще беззлобно отбрёхивался — слава Богу, не он один здесь на склоне.
Однако всё больше ноги Михеля с размаху втыкались в мягкое, ещё тёплое, но уже неживое, навеки бросившее ругаться. И тогда Михель отчётливо осознавал себя соринкой на реснице горы — сейчас сморгнёт и... И он с силой отталкивался, одновременно подтягиваясь на руках.
Потеряв надежду организовать артканонаду, шведо-финны, в общем, враги, стали швырять с кручи камни, а затем и скатывать на головы наступающих ненужные теперь ядра и пушечные стволы.
И опять примерного солдата Михеля ужаснула прежде всего нелепость происходящего. Ведь пушки — они же для стрельбы, их же нельзя, просто-таки невозможно использовать, как простые брёвна. Только еретики могли додуматься до подобного насилия над правилами и обычаями войны.
Прямо перед Михелем орудийным стволом, предварительно снятым с лафета, придавило какого-то вояку. Отчётливый хруст костей сменился жалкими пронзительными стонами. Михель, стараясь не глядеть, невольно заложил кривую, дабы как можно далее обогнуть это место, но при том не подставить бок неприятелю, и вдруг услышал своё имя.
У придавленного солдатика суетился вставший во весь рост, как всегда, пьяненький Клаус:
— Михель! Давай! Помогай! Вытащим.
Клаус согнулся, примериваясь поудобней ухватиться за цапфы.
— Ложись, дурья голова, пропадёшь же ни за грош, — словно подтверждая слова Михеля, пуля звонко чвокнула по орудийной бронзе.
Шведские мушкетёры славились своей меткостью и уже, конечно, обратили внимание на одинокую, соляным столпом застывшую фигуру. Ответом всем был целый град солёных ругательств, которые Клаус обрушил на головы шведов, не забывая, впрочем, и Михеля.
Разумеется, отнюдь не эти проклятья заставили Михеля повернуть в сторону притягивающего неприятельский огонь Клауса. В бою частенько совершают поступки необъяснимые ни сразу, ни потом.
— Родненькие, не выдайте, вытащите... или добейте. У меня вот тут и талер в камзоле — ваш будет, без обману, — собрал последние силы умирающий.
— Быстрее, так твою! — рявкнул Клаус, — Слыхал, нам уже и талер обещают, а ты всё возишься, как пьяный под столом.
Сравнение Клауса, который еле стоял на ногах, и на любой стоянке сам не вылезал из-под стола, рассмешило Михеля, заставив забыть об опасности, и он рискнул на перебежку.
Михель был уже буквально в двух шагах, когда в Клауса попала пушечная граната, но не выпущенная из орудия, а подожжённая и брошенная рукой. Камнем врезавшись в голову, она опрокинула Клауса вниз, а сама отлетела в сторону Михеля. Михеля в этот момент угораздило поскользнуться, и, падая, он накрыл гранату собой. На мгновение через одежду почувствовал тепло сгорающего фитиля и тут же откатился в сторону, закрыв голову руками и пытаясь поглубже вжаться в раскисшую землю. И ноздри, и рот оказались забиты вязкой жижей, но Михелю было не до этого — он ждал взрыва...
«Господи, как быстро и как нелепо. Даже помолиться не успею. А всё-то пьянчужка Клаус. Сам-то, поди, отделался шишкой на затылке, а от меня и похоронить-то нечего будет».
Михель довольно насмотрелся на людей, оказавшихся вблизи разрыва гранаты или бомбы.
Однако ж фитиль что-то довольно долгонько доносит испепеляющую искру до сжатой в томительном ожидании пороховой зерни.
Жизнь пороха предопределена: мощный взрыв, разваливающий пространство либо выталкивающий в него новую погибель, стоит в конце каждой щепоти пороха.
Для чего живёт Михель? Энергично разрушает пространство, известное как Священная Римская империя германского народа[44], привносит в мир погибель от себя. Сейчас обращение в дым четырёх фунтов пороха оборвёт и жизнь Михеля.
Вскоре, однако, Михеля стало одолевать иное напастье — удушье: столь плотно он впечатался в грязь. Когда дышать стало совершенно невозможно, Михель рискнул оторвать голову от земли. Вместе с ругательствами изо рта его вырвался целый фонтан грязи.
Зловещий дымок из запального отверстия гранаты давно истаял в воздухе, устремился ввысь, словно спеша навстречу плотным клубам сырой пороховой гари, нависшей над горой. То ли капли дождя попали на тлеющий фитиль, то ли его затушило мокрым сукном плаща Михеля, то ли порох в гранате изначально оказался подпорченным.
Жадно дыша, Михель стоял на локтях и коленях, отплёвывался, глотал и не мог насытиться сырым, волглым воздухом пополам с дождём и пороховым туманом, и грязь ручьями стекала с него. Забыв про оружие, свистящие пули противника и солдатский долг. Он человек, и он жив.
Очищая ноздри, рот, глаза и уши, Михель не очищался сам, ибо Война, властно вытесняя все, входила в него своими звуками, запахами, вкусом и цветом. Война бросает лишь мёртвых, вдоволь натешившись, высосав кровь и выпив душу. На возвращающегося из ниоткуда, рано похоронившего себя Михеля она вновь властно заявила свои неоспоримые права. Умри — и будешь свободен, коли жив — вперёд и вверх.
Ещё не полностью очухавшись, Михель оглянулся. Солдат под пушкой уже не стонал. Дождь весело колотил каплями в вывороченные недавней мукой белки глаз, стекая по усам и зубам в отворенный последним воплем рот, торопясь скорее заполнить так кстати предоставившийся новый сосуд.
Немного подале торчали над бугорком ноги Клауса. Удар неразорвавшейся гранатой был, конечно, не смертельным, но, не удержавшись на ногах, Клаус скатился в небольшую лощинку и захлебнулся, пьяный, в заполнившей её луже.
Михель смог бы даже разглядеть последние пузырьки воздуха над тем местом, где была голова наполовину погруженного в лужу Клауса, но ни сил, ни желания что-то предпринимать уже не осталось.
Уйти бы прочь, как можно дальше от этого проклятого места, где все наоборот, где пушки ломают кости и убивают неразорвавшиеся гранаты.
Уже мало что соображающий Михель, только что заглянувший за грань небытия и снова блуждающий в пограничье, на этот раз между рассудком и сумасшествием, почему-то опять двинулся вверх, раздвигая пласты грязи, словно корабль волны.
Впереди, сзади, справа и слева так же упорно пытались одолеть крутизну горы большие комки грязи с живой начинкой, где-то там, внутри, непрерывно посылавшей импульс:
— Вперёд и вверх, вперёд и вверх!
Уже не шведы и финны, но сама липкая скользкая гора выступала личным врагом каждого. А шведы — те были просто злобными горными троллями, исторгнутыми подземными недрами для обороны своих мифических сокровищ.
И эти злобные великаны вновь швырнули вниз бездействующую пушку — огромного осадного монстра, непонятно как и кем поднятого вверх. Гигантский ствол её, крутясь и все убыстряя вращение, пачкая любовно начищенную бронзу, безжалостно царапая металл о камни, низвергался вниз, прямо на Михеля. Михель не раз замечал, что канониры обращаются со своими орудиями лучше, чем с законными жёнами. Артиллерия уже осознала свою элитность, свою незаменимость в поле и под крепостными стенами. В то же время артиллерия являлась во многих армиях кроме шведской делом полугражданским и выгодным. Мастер, отлив орудие, нередко шёл со своим произведением на войну, нанимал обслугу, а государство выступало лишь в роли временного, щедрого или скуповатого, арендатора. И вот коллективное детище бежавшего либо перебитого расчёта столь безжалостно вышвырнули из колыбели.
Михель настолько изнемог в борьбе с горой, что даже не имел сил просто откатиться в сторону. Как же ему все за этот пасмурный день надоело. Михель сейчас бы лёг на пики, подставил грудь под ядра и картечь, взлетел вверх вместе с изрядным куском обороняемого бастиона, подорванного пороховым горном[45]. Но намотаться на ствол старинного изделия немецких литейщиков! В этом было что-то каббалистическое, что-то позорное, словно быть прогнанному «сквозь пики», пострадать «на кобыле»[46] либо быть в клочья размётанному озверелой толпой вонючего мужичья.
Наверное, ствол катился довольно быстро, подскакивая на бугорках, ныряя в лощины, перетирая в труху древесный мусор и камешки, высоко взметая фонтаны грязи, — Михель не помнил. По пути кусок металла начал собирать и тела. Больше мёртвых, хотя Михелю казалось, что каждый раз он слышал крики. И точно, один человек, по которому с грохотом прокатился бешено вращающийся тяжеленный цилиндр, отчаянно взмахнул руками, словно пытаясь оттолкнуть пушку обратно в гору. И ещё... Ещё Михелю показалось... да нет же, в самом деле! Каждое тело заметно тормозило разгон. И если людей будет больше — пушка просто остановится, не добравшись до Михеля.
За пару десятков метров до Михеля, один из солдат вскочил, застыл столбиком, соображая, заметался туда-сюда, наконец, более осмысленно стал выбираться с пути смертоносного снаряда.
— Стой подонок! Куда? Назад! — Михелю показалось, что он кричит, но вряд ли кто-нибудь что-нибудь расслышал, кроме него самого. Как же так? Ведь это же практически единственная его надежда, что летящая, грохочущая бронза потушит неуёмную ярость смертоубийства, завязнет в чужих костях и кишках, не дойдя до Михеля. Иначе тормозом послужат его внутренности. И мягкая жирная глина станет последним его пристанищем.
Михель схватился за пистолет — убить, уложить бегущего под колёса смерти, закрыться-откупиться от перемалывающей камни и черепа неизбежности.
Колесцовый механизм[47], проворачиваясь, вместо искр выдавал лишь брызги грязной воды.
Солдат давно уже выскочил из опасной зоны, но всё бежал и бежал куда-то влево, словно опасаясь, что взбесившаяся пушка сможет изменить траекторию и погнаться за ним. Избавление от опасности заставило его забыть обо всём. Вот только шведы о нём не забыли. Пробитый сразу двумя или тремя пулями, он кубарем покатился с горы, чтобы вскоре упокоиться в одной из промоин. Пушка его явно не доставала — она катилась прямо на Михеля. И не было боле между ними ни трупов, ни глубоких рытвин, ни толстых залежей грязи — ничего, что могло бы сберечь Михеля. Михель попытался встать — грязная намокшая тяжёлая одежда непреодолимо прибивала его к земле, не давая разогнуться. Он в полной западне, ему конец, если даже его оружие и одежда отказываются ему служить и защищать.
Вот тогда-то Михель в ПЕРВЫЙ РАЗ и вспомнил о покинутой матери. Пылающая молитва явного безбожника и богохульника понеслась к небесам, явно опережая другие подобные просьбы, коими избиваемый по всей Европе народ докучал Всевышнему.
Пушка подскочила на очередном, последнем перед Михелем бугорке, чтобы затем, с удесятерённой силой, ринуться вниз, — и вдруг лопнула, разнесённая на груды свистящих осколков. Зазубренные горячие обрывки металла просвистели высоко над Михелем, мощный пороховой дух оторвал его от земли и швырнул вниз. Приземлился бесчувственный Михель в той же луже, что и Клаус, но с одним существенным преимуществом — если у Клауса верхняя часть туловища и голова были в воде, а ноги на суше, то у Михеля — наоборот.
Бродяги шведы явно плотно начинили ствол порохом, да приладили добрый фитиль, чтобы пушку разорвало в самой гуще наступающих. Но Михель весь остаток жизни оставался в непреклонной уверенности, что именно матушкино заступничество спасло его на той высоте.
XI
Отлежавшийся Михель так никогда и не узнал, что, увязая в грязи, он участвовал в крупнейшей битве всей войны. Битва под Нюрнбергом, едва не унёсшая на кровавых крыльях и его жизнь, безвозвратно отошла в область былого, став добычей воинов пера. Не узнал уже Михель и того, что это был единственный бой, в котором великий Густав Н-Адольф не достиг поставленной цели. Михеля просветили лишь в отношении того, что гора, которую они столь рьяно штурмовали, людьми с незапамятных времён прозвана Старой Крепостью, а также обрадовали, что настырные шведы так и не смогли затянуть наверх свою знаменитую «кожаную артиллерию» и вынуждены были оставить Старую Крепость.
Насущные нужды сегодня заслонили собой в памяти Старую Крепость понадёжнее любых Альп: постоянная борьба за сохранность собственной, с точки зрения Госпожи Войны никчёмной, но для Михеля-то единственной и драгоценной жизни. Место одного всадника Апокалипсиса у его изголовья незамедлительно занял другой, вернее даже пара.
Закончившаяся ничем битва привела к тому, что обе армии объявили себя победителями и продолжали упорно стоять друг против друга.
Ситуация с провиантом в имперском лагере вскоре стала никакой, то есть его попросту не было.
Если Нюрнберг ежедневно отсыпал северным единоверцам-заступникам по пятьдесят тысяч фунтов зерна — это на сто двадцать тысяч едоков-то, не считая кавалерийских лошадей, артиллерийских и обозных мулов, ослов, быков, то имперцы, не уступавшие количеством ртов, не имели и этих крох.
Армии гигантскими граблями фуражиров и мародёров прочесали ближние и дальние окрестности. Дымы сжигаемых деревень отмечали эти поиски, ибо второй по значимости задачей было не оставить ничего противнику.
Борьба на уровне «кто кого переупрямит» на выгодных позициях явно перешагнула разумную стадию. И шведы, и имперцы стали попросту вымирать за неприступными рвами и бастионами укреплённых лагерей, откуда никто их и не собирался вышибать. Вместе с ними «зубы на полку» сложили и жители Нюрнберга, которых обе армии как бы взаимно защищали друг от друга.
Вслед за голодом скученное, донельзя загаженное пространство облюбовала и «лагерная лихорадка»[48].
Большинство неумерших разбрелось в поисках съестного. Оставшиеся занимались в основном тем, что всеми силами пытались сохранить и довести до своих лагерей редкие войсковые транспорты с продовольствием. Дело под Старой Крепостью казалось невинной потехой по сравнению с рядовой проводкой продовольственного обоза.
И всё же герцог Фридландский переупрямил короля шведов. Бросив Нюрнберг, а также больных и артиллерию, которых не на чём было увезти, шведы подались искать землю обетованную — не разграбленную, не опустошённую или хотя бы не совсем разграбленную и опустошённую. А так же еле волочащие ноги имперцы — за ними: отрезать, оттеснять, отбивать.
XII
Они шли по неубранному ржаному полю, срывая колосья, наскоро вышелушивая между ладонями и швыряя в рот.
За буковой рощицей торчала заострённая пика колокольни, и это могло значить еду, сносный ночлег и кой-какие развлечения. За всеми этими удовольствиями следовало поспешать, но солдатская привычка много голодавших людей не проходить мимо любой еды оказалась гораздо сильней, потому и трещали нещадно выдираемые колосья. Бог его знает, чем встретит неведомая деревушка. Лучше уж синица в кулаке.
Дурней, пекущих хлеб, коптящих сало, варящих пиво и прочее подобное, меньше и меньше — у Войны в почёте умники, которые все эти вкусности попросту отбирают.
Село оказалось большим, уже наполовину сгоревшим и заброшенным. Мужики, конечно, разнюхали о приближении войск, живность укрыли и сами попрятались.
Окраины — кормушка всеобщая, а потому незавидная. В войну сёла сжимаются, уцелевший народ перебирается с разоряемых кому не лень околиц к центру, наивно надеясь спастись, пока крупный отряд, захлестнув, не сметёт всё — и окраины, и центр. В городах же, напротив, запустение распространяется, подобно кругам от брошенного в воду камня, ибо в городе перво-наперво «выедается» скоромная купеческо-бюргерская сердцевина. Да и сами богатеи, не очень-то надеясь либо не желая откупаться, собирают пожитки и массово покидают угрожаемые районы ещё до подхода вражеских армий, бросая нищету, которая и без всяких контрибуций не сегодня-завтра протянет ноги.
Посему Михель скоренько сообразил и друзьям ближайшим подсказал: в военной деревне, если и суждено где хорошенько пожрать, то в центре, а в военном городе, если не желаешь общаться с развалинами, набитыми скелетами и крысами, — к ратуше не лезь, держись окраин. Бывают, говорят, ещё где-то на земле сытые, довольные жизнью деревни и неразграбленные города, но когда туда добираются солдаты, почему-то все меняется. Михель, наверное, и армию-то в конце концов покинул для того, чтобы посмотреть и вспомнить, как они выглядят — несожжённые деревни и неразрушенные города.
Сейчас они в деревне, потому, не задерживаясь на окраине, — вперёд!
Ландскнехты по двое, по трое отстают, рассыпаясь по чем-то приглянувшимся дворам. Пахнуло дымом: то ли шустрые солдаты уже нашли что зажарить, то ли палят несговорчивого скрягу со всем его хозяйством. Михель на всякий случай запомнил это местечко — вернуться и потребовать кусок, если сам ничем не разживёшься.
Восьмёрка наиболее жадных или наиболее глупых забралась уже довольно далеконько в лабиринт домов, заборов и развалин, отыскивая поживу пожирней да понадёжней. Михель, составлявший как бы голову стаи, решительно свернул в проулок, где дома, на его взгляд, выглядели посолидней, как вдруг глазастый Макс заорал на полсела:
— Девка, ей-бо, ребята, девка!
Вот так оно всегда: только что еле волочили ноги и, казалось, кроме ломтя хлеба, ничего от этого мира и не надобно, как рёв Макса подбросил всех. Внутри Михеля словно сосуд с кипящей кровью взорвался, ошпарив с головы до ног, сладко заныло, отзываясь, мужское естество.
То же самое, верно, случилось и с прочими, потому что через мгновение все уже неслись, сломя голову и не выбирая дороги, по направлению, указанному грязной лапой Макса.
Глупую девку настигли лишь на чердаке большого, в два этажа, дома, среди переплетения стропил и солнечных лучей, колотой черепицы, вековой пыли и окаменевшего голубиного помёта.
Громыхая башмаками по половицам и лестницам, каждый, наверное, отметил величину дома — значит, хозяева в лучшие времена были в деревне далеко не последними и, если Война не разметала их достаток в клочья, в доме можно будет и поживиться. Пока, правда, никого не видать и не слыхать. Лишь только впереди шлёпанье босых ног, да дразнящий шорох юбок тщетно пытающейся убежать девки. И куда ж ты, милая — не нам, так другим попадёшь на зубок, в деревне-то ландскнехтов, что пчёл в улье. Будешь меньше трепыхаться и отмаешься скорей. Мы вон и Гансу нашему — любителю всякого такого накажем, чтоб не больно-то измывался, а сразу придушил, или голову по-быстренькому отрезал. Вон у него уж глаза кровью налились и на губах пена — закусил парень удила. Его ведь, если мы тебя сейчас почему-либо упустим, придётся вязать либо под запор крепкий сажать, чтобы на своих не кинулся.
И из кухни никакими приятностями не тянет — явно сытным обедом для своих освободителей никто не обеспокоился. Надо будет на эту оплошность серьёзно указать хозяевам, если, конечно, отыщутся. Михель некстати хмыкнул, вспомнив, как пару месяцев назад, по подсказке того же Ганса, они изжарили на вертеле крестьянина, упорно не желавшего предоставить для жаркого какую-нибудь домашность. Когда же мужик наконец-то уразумел, что солдатам тоже надо есть, желательно почаще, и развязал язык, было уже поздно. Снимать его, разумеется, никто не стал, просто по его словам отправили пару солдат в лес, и те действительно притащили за рога упирающуюся коровёнку. Её быстренько вытряхнули из шкуры, порубили на куски и так и пекли рядом: живность и её хозяина. Причём уголья-то все из-под мужика передвинули под новую жарёху, и крестьянин ещё долго услаждал их слух сначала криками, затем стонами и хрипами. А коровёшка его была ну до того старая, жёсткая и костлявая, что любимой шуткой этого обеда стало предложение всем встречным и поперечным бросить ломать зубы и отведать мясца помягче и пожирнее. До этого, правда, не дошло, и, когда на следующий день покидали стоянку, на вертеле так и осталась висеть бесформенная головешка, которую никто не удосужился снять. Под Нюрнбергом все участники того достопамятного обеда «с музыкой», как шутили солдаты, наверное, не раз и не два вздыхали о том зажаренном и брошенном куске, как и вообще о любой когда-то брошенной, выблеванной, втоптанной в грязь, отданной или проданной пище. Людоедство в тот период стало чуть ли не обыденным делом. Бывалочи, застукают какого молодчика за обсасываньем косточек сослуживца, без долгих проволочек — к яме — шесть пуль в ненасытный и несытый живот, закидают как попало, а ночью уже однополчане вырывают его обратно на свет Божий, чтобы более-менее по-товарищески разделить у костерка тайного.
На сегодня обед пока откладывается — на чердаке пожива иного рода. Плащом своим, конечно, никто ради общего блага не пожертвовал, поэтому забава происходила прямо на утрамбованной земле, в толстом, все покрывающем, но не скрывающем, к тому же изрядно во время возни взбаламученном многолетнем слое пыли. По молчаливому согласию, Ганса оттеснили в конец очереди — пока нужна живая. Вот когда все отвалятся — что ж, пусть и он потешится.
Михель, да, верно, и прочие, не испытывал особого желания, но бравые вояки не имеют права отказываться в подобных ситуациях — что подумают товарищи. Сегодня ты отказался попользоваться общей девкой — завтра ты не придёшь на помощь в бою, бросишь, даже не добив, тяжелораненого абы ещё что учудишь. Ганс не в счёт, ибо чего он ищет, иной раз по локти зарывшись в парящие внутренности очередной жертвы, не знает, судя по всему, и он сам.
А вообще всё происходило как обычно, лениво-рутинно, как в надоевшем нездоровом сне. Лениво-размеренно взлетает кулак Георга, успевшего первым, вбивая крик обратно в рот вместе с зубами — чтобы не укусила невзначай. Лениво, пузырясь, стекает изо рта кровь. Лениво, напрягаясь, движется вверх-вниз тощий зад Георга. Лениво оседает возмущённая было пыль. С каким удовольствием старый Георг бросил бы свои тщетные трепыханья, а просто раскинулся бы, замерев, отдыхая на тёплом и мяконьком.
Но как всегда и везде, в затылок ему дышали и зад разглядывали, и посему Георг пыхтел в меру сил. Не было ни шуточек-подначек, ни похотливо-глумливого похохатывания, в лучшие времена обязательно сопровождавшего такие действа. Все просто стояли и лениво смотрели, и даже Ганс не пытался, пользуясь всеобщей задумчивостью, втереться поближе.
Михелю вдруг захотелось почему-то ткнуть шпагой в зад Георгу. Бросив взгляд на стоящего рядом Макса, и в его глазах Михель не узрел похоти, но огромную лишь смертную скуку, через которую вдруг прорвалось точно такое же желание, что обуревало и Михеля. Но и Михелю, и Максу лень было убивать Георга и не было сил затевать драку.
Хотелось одного: набить брюхо чем-нибудь, чем-нибудь оросить сверху, да завалиться спать. И далась им эта стерва! А всё Макс пучеглазый. Ненависть Михеля лениво-тягуче переместилась на Макса. Тот явно ощутил перемену настроения Михеля и, словно невзначай, а может, действительно не нарочно, отступил на шажок и встал вполоборота, дабы не застали врасплох. Бывалый вояка опасность шкурой чувствует, почему и не догнивает где-нибудь на обочине военной дороги, а смиренно ждёт в общей очереди своей доли. Ничего, не последний день, надеюсь, живём — найдём ещё удобный момент и для Георга, и для Макса.
А собственно, чего он, Михель, разошёлся-то: всё как всегда, когда усталым голодным защитникам веры Христовой, Бог, а то кто же ещё, посылает девку. Вот, кстати, и Георг наконец-то отваливается...
У них вообще подобралась интересная команда: Гийом, Ганс, Гюнтер, Георг и Макс, Михель, Мельхиор, Маркус. Четыре Г и четыре М. Все, конечно, мушкетёры[49]. Многие всерьёз полагали, что состав подобран специально, и за всем этим кроется какая-то магия. Обсуждалась даже возможность продажи 4М и 4Г в Нюрнбержский «алфавитный»[50] полк — разумеется, в соответствующие роты. Михель с друзьями только посмеивались над всем этим, хотя втайне каждый конечно уже задумывался о возможных кандидатурах замен — солдатский век недолог. Достойный ведь, кроме всего прочего, должен обладать соответствующим именем: ухлопают кого на Г — подавай нам Г же, задумает М смазать салом пятки и дезертировать в поисках лучшей доли — значит, заменить его может опять же только кто на М.
А вообще команда их и правда числилась в заговорённых. Михель всерьёз стал опасаться, что кто-нибудь из отчаянных полковых М выстрелит ему в спину или зарежет невзначай — только затем, чтобы на законном основании занять его место в удачливой компании. Сегодня вот только удача от них явно отвернулась.
Сокрушая от злости остатки былой мебели и то и дело натыкаясь на сотоварищей, Михель бродил по дому, всё более мрачнея и с горечью осознавая, что разжиться здесь явно нечем, и мучительно соображая, что же делать дальше. Но ведь в доме же жили, совсем недавно: мертвящий тлен гнили небытия ещё не вышиб ароматы жизни, кухни, спальни.
С чердака донёсся истошный крик — явно наконец-то подошла очередь Ганса.
По всему выходило, что надо срочно менять район дислокации и пошарить в других домах.
— Михель, дружище, не пора ли найти колодец да пролить здесь всё хорошенько[51], — хлопнул Михеля по плечу Гийом.
Михель задумался над неожиданным оборотом, и молчание затянулось.
— Так как насчёт поливки двора? — повторил Гийом, уже менее воодушевлённо и со вздохом закончил: — Да вот только кого заставить вёдра таскать?
Полив водой давал кой-какую добычу в первые годы войны. Сейчас это по большей части пустопорожняя трата времени и сил. Однако солдаты упрямо-настойчиво всё поливают и поливают дворы водой во всех концах империи. Последние пару раз на памяти Михеля удалось открыть лишь две безымянные братские могилы, причём трупы были практически без одежды, а во втором огромном захоронении ещё и растерзаны.
Кто-то сболтнул, что подобным образом пираты и разбойники, как правило, маскируют сокровища, оставляя закопанные останки своих жертв, как бы охранять их же собственные бывшие богатства.
Воодушевлённые таким сообщением, солдаты битый день вышвыривали из всё углубляемой и расширяемой ямины полуразложившиеся головы, конечности, туловища, пока кто-то, не выдержав, сорвал с лица тряпку, которой тщетно пытался спастись от трупного смрада и заорал:
— Бей советчика!
И вся толпа искателей, перемазанная с ног до головы грязью и трупной жижей, с проклятьями полезла из ямы искать умника, все знающего про обычаи и нравы пиратов, а того, разумеется, давно и след простыл.
Посему идея о залитии двора не вызвала энтузиазма — главное, что днём с огнём не найти мужиков, которых можно заставить таскать воду. Чердачная девка, после объятий Ганса, явно к этому будет неспособна.
— Пустое, — отмахнулся, как от надоевшей мухи, Михель, — я полагаю, если собрать всю воду, пролитую здесь такими же бедолагами, как и мы, грешные, ей-богу, ещё одно Океаническое море разольётся.
Михель поймал вдруг себя на том, что в последнее время всё чаще и чаще стал говорить и думать о море.
А всё благодаря Натаниэлю. Старый морской волк, непонятно какими штормами выброшенный на сушу. Как он рассказывал о море — заслушаешься! О вольготном пиратском житье-бытье, о разноцветных островах, омываемых ласковыми тёплыми волнами, о знойных туземках, разгуливающих нагишом, о грудах сокровищ, играючи переходящих из рук в руки. А ведь начал-то с мелочи — поднял восстание на китобое. А когда появился перед «морским братством» на своём, пусть малом, судёнышке — тут все и зауважали. И сейчас — ему бы только с парой верных людишек подняться на любой борт. Яд его речей медленно-верно расщеплял внутренний мир Михеля, всегда полагавшего солдатское дело лучшим и единственно достойным мужчины.
Натаниэль недолго тянул ненавистную пехотную лямку. Вскоре он уже командовал речной провиантской баркой. Пиратская натура и здесь выперла наружу — ушлый Натти умудрился три раза запродать одну и ту же партию муки, причём враждующим сторонам. Неизвестно, сколько бы ещё эта мучица гуляла туда-сюда, если бы полковой профос[52], с которым явно не поделились, не вышиб как-то раз колоду из-под ног Натти, накинув предварительно петелечку на шею. Говорят, последнее, о чём пожалел неунывающий пират:
— Это же не нок-рея[53], а всего лишь ветка дерева.
Эх, Натти, Натти, как же тебя порой не хватает. Не сидел бы сейчас в проклятом доме.
— И то верно, — совсем помрачнел Гийом. — Что делать-то?
— А то не знаешь — убираться отсюда.
— И то верно, — повторил Гийом. — Вон, Георг давно уже за воротами, да и ещё кого-то с собой прихватил. Кто был третий у девки? С ним, кажись, пошёл.
— А я помню? Будем надеяться, что ежели чего промыслят — хватит совести не все сожрать, а и нам кусочек отделить.
— На то вся надежда. Я гляну ещё, где у них здесь подвал. Если надумаешь уходить, свистни — вместе веселей.
Рухнувшее перекрытие открывало какой-то проём, возможно, замурованное или замаскированное помещение, обнаружившееся из-за разрушения. Снова заорали... Но это не девка... Это во дворе... и много голосов... вот кто-то тревожно завопил в доме... Скорее всего, во двор ввалилась новая компания голодных вояк — что ж, такую рухлядь, пустую коробку выпотрошенного здания, отдадим без драки — пусть подавятся.
Михель не мог ещё различить отдельных голосов, но что-то словно толкнуло в спину: это не свои, и это не солдаты.
В полутьме кладовой Михель налетел на Маркуса. Только что энергично что-то жевавший Маркус испуганно замер истуканом, тщетно пытаясь показать, что во рту у него ничего нет, да и быть не могло. Нашёл время придуриваться, жадюга! Словно непонятно, что им сейчас будет не до еды.
— Да что случилось? — не выдержал Маркус, обдав Михеля фонтаном крошек и непрожёванных кусочков.
В другой раз получил бы по морде, но сейчас Михель только взял его за грудки и хорошенько встряхнул:
— Мушкет! Где твой мушкет?!
Маркус неопределённо махнул рукой куда-то вглубь кладовой и закашлялся, поперхнувшись. Святой Боже, и с подобными вояками император мечтает сокрушить еретиков.
— Быстро хватай его и к окну!
В шайке — это вам не в роте. Здесь подбор строго по интересу. Кто-то мастак промыслить жратву. Кто-то всегда знает, где разжиться «женским мясцом». Кто-то не растеряется и не подведёт в трудную минуту — вынесет раненого, позаботится о хвором. Кого-то в конце концов держат за то, что, как никто другой, может поднять поникший дух солёной шуткой либо беззлобным розыгрышем.
В шайке — это вам не в роте: офицеров нет. Приказы отдаёт либо самый сильный, либо самый уважаемый, либо самый сообразительный. Лидера в их сборной похлёбке 4М и 4Г, где все и каждый вольны были в любую минуту разбежаться в стороны, как-то не сложилось. Либо все шло само по себе, без команды и принуждения, либо все разом начинали драть горло до хрипоты и драки.
Михель до сих пор с гордостью вспоминает, что именно его смекалка и воля не позволили всем восьмерым пометить единую дату кончины.
Уже беглого взгляда из окна было достаточно, чтобы определить:
— Вляпались! Да по самые уши!
Вдоль по улице густая толпа вооружённых мужиков сладострастно гоняла Георга и Мельхиора — так вот кто был третьим у девки. Улюлюканье, забористые шутки, «подбадривающие» удары и пинки, дразнящие уколы шпагами и алебардами — прямо праздник устроили. Причём в руках Мельхиора трепыхался и горланил, давая мужикам новый повод для веселья, недурный гусь. И где ж он его сумел промыслить, пронырливый обжора. По всему видать, подавиться сегодня ему этой гусятиной.
Михель сглотнул обильно и поневоле подступившую слюну — самим бы не угодить на вертел. Пощады от мужичьего племени ждать не приходится. Впрочем, как и им от нас.
Вот ведь занятная штука. Стоит любому мужичку записаться в полк и получить мушкет или пику на законных основаниях — он тут же вступает в незримое братство. Братство кормящихся оружием. Ожесточение первых лет, искусно вызываемое горячими проповедями, отошло. Все армии, независимо от расцветки штандартов, напичканы твоими друзьями. Все — Kriegcamaraden[54] или соседи по несчастью. Конечно, если сойдётесь лицом к лицу в бою, не преминут выпустить кишки — работа такая. Но ты в любой удобный момент можешь без труда поменять цвет тряпки, хлопающей над тобой по ветру во время боя и похода. Бросив оружие, если прижмёт, и сдавшись в плен, можешь рассчитывать на сносное обращение — тебя или выкупят[55], или без лишних расспросов примут в ряды армии-победительницы. Картели[56] то и дело сочинялись чуть ли не на ротном уровне.
Но вот ежели ты вне полкового строя, бюргер там либо крестьянин — ты просто кусок мяса в руках любого заскучавшего ландскнехта: зажарить, нашинковать мелкими ломтиками, просто походя ткнуть пикой — зависит только от его настроения и желания. А если удача отвернулась от тебя, солдат: товарищи пали, заряды иссякли и полк твой ушёл — тогда, не обессудь, кусок мяса в жаждущих мужицких руках — ты.
Взаимная ненависть здесь передаётся по наследству, с зачатьем, и ковыляет до последнего, отлетев от бездыханного тела, тут же обвивает другого.
Итак, пути два — отступать, вернее, драпать, или обороняться в доме. Признаться, Михель слабо соображал, куда следует отступать. В лабиринте абсолютно незнакомых улиц и дворов, где местные ориентируются как рыба в воде, в два счёта можно угодить в засаду. С другой стороны, дом довольно крепкий, осаду выдержит, а самое главное — ведь где-то же на соседних улицах сидят солдаты, услышат шум, пальбу — выручат. А если не поймут, что здесь не развлекаются, или не захотят ввязываться, или, того хуже, в деревне уже и солдат-то не осталось? Так бежать или запереться?
Словно отвечая на мучивший Михеля вопрос, из дома грохнул выстрел. И что ж вам в ад-то не терпится, господа ландскнехты? Почему не посидеть тихо, глядишь, может, и пронесло бы. Незадачливый стрелок, Михель готов был побожиться, что голос подал мушкет Ганса из «совиного оконца»[57], услал пулю вдогонку за неизвестностью. Мужички, как по сигналу, рассыпались, ища укрытия. Бывалая сволочь! Явно половина, а то и поболе — дезертиры. Умело используя заборы, дома, деревья, противник стал сноровисто окружать их убежище. Значит, обороняемся!
В затылок шумно дышал Маркус, о существовании которого Михель и позабыл.
Это убегать лучше поодиночке, а сопротивляться и уцелеть они могут только вместе.
Какое у нас слабое место? Нас мало, это первый изъян. У нас считанное количество зарядов — это второе... Мы, конечно, не заперли двери, когда вломились в дом, — это главное!
Меж тем выстрелом и поднявшейся суматохой попытался воспользоваться для своего спасения Мельхиор. Старика Георга давно сбили с ног, и он лежал, не подавая признаков жизни, а Мельхиор рванулся к дому.
Мужички-то подрастерялись, а Мельхиор уже у забора.
— Молодец, Мельхиор, давай к нам, — радостно зашумели из дома, — да гуся-то не забудь.
Излишнее напоминание. Чтобы Мельхиор да выпустил из жадных лап какую-то жратву! Посему Мельхиор у забора подзамешкался. Сначала решил гуся перекинуть, а потом уж самому сигать. Птица, словно завзятый мужичий союзник, отчаянно вырывалась, стараясь ущипнуть Мельхиора за нос, а то и глаз вытащить. В борьбе Мельхиору всё же удалось подсадить её на забор. Дом встретил эту удачу диким взрывом восторга.
— Давай, Мельхиор! — забыв о возможной опасности, солдаты едва не вываливались из окон. Кто-то, заложив два пальца в рот, оглушительно свистнул.
Откуда выскочил этот здоровяк, никто так и не сообразил. Когда в доме опомнились и, чертыхаясь, разобрали мушкеты, было уже слишком поздно. Выросши из-за спины Мельхиора, он чётко и умело, словно на бойне, саданул того прикладом в затылок, вторым ударом сшибив гуся на свою сторону. Откричалась птичка.
Затрещали выстрелы из дома. Да куда там. Мужички и здесь оказались смекалистей. Аккуратно подождав, пока солдаты выпустят все заряды, они, под бессильные проклятья из дома, за ноги сволокли Мельхиора к себе, не забыв прихватить злосчастного гуся.
Солдаты явно боле сокрушались по поводу неудавшегося жаркого, нежели по бедняге Мельхиору.
Ну, сейчас пойдёт потеха!
Дверь, дверь — вот о чём должна болеть голова. Не будешь думать головой — серьёзно заболит шея.
Повелительно бросив Маркусу:
— За мной! — Михель рванулся вниз.
На лестнице потерянно болтался Ганс с ещё дымящимся мушкетом в руке.
— Что ж это такое, Михель, — плачуще забасил он, — мы ж её только по разику и попользовали, а они что? Чего они так ополчились?
— Ты, вояка! Заряды-то хоть остались, жгёшь, понимаешь, порох, почём зря. С мужиками голыми руками собрался расправляться. Так тож тебе не девки.
Ганс растерянно затеребил бандельерку[58]:
— Кажись, парочка есть.
— Подбирай сопли и с нами! Дверь надобно заложить — иначе не усидеть!
— Ребята, прикройте огоньком, мы к двери! — не переводя духа, во всю силу лёгких гаркнул Михель, не очень, правда, рассчитывая, что его услышат.
Дверь, само собой, нараспашку! Как их до сих пор не вырезали, уму непостижимо. Всё ж не такие ловкачи эти как из-под земли выросшие мужички. И у них промашки. Чем больше у них промахов, тем больше у нас шанс уцелеть. Хотя особо на это уповать не следует.
А мушкетов-то у них богато. Положат всех троих рядком на фоне дверного проёма, и пикнуть не успеем. Значит, надо осторожненько, по стеночке. Михель похвалил себя за то, что и мушкет у него заряжен — Мельхиору он всё равно бы не пособил, зато сейчас это может здорово выручить.
Дверной запор, само собой, давно и надёжно вырван «с мясом», каким чудом уцелела сама дверь, остаётся только гадать. Зияя добрым десятком разнокалиберных отверстий от мушкетных и пистолетных пуль, многочисленными вмятинами, дверь тем не менее сохранила остатки былого величия: внушительное, прочное сооружение, некогда неторопливо собранное из отборных дубовых досок деревенским столяром либо самим бывшим хозяином дома. К тому же окованная железом, с прочно вмурованными в стену петлями. Вот только чем бы её подпереть? Домашняя мебель давно обращена в пепел солдатскими кострами. Кирпичей и прочего мусора много в руках, и в полах камзолов не натаскаешь, да и ненадёжно это.
Думай, Михель, думай! Взялся командовать, так ищи выход. От тебя сейчас все зависит, и прежде всего сохранность твоей собственной башки.
Михель осторожно выглянул во двор, тут же отскочив обратно, осыпанный кирпичной пылью от близко ударившей пули. Мужички-то не зевают!
Из дома ударил ответный выстрел — кажется, мушкет Гийома, кто-то вскрикнул по ту сторону забора. Так, это изрядно охладит их пыл. Это также значит, что ребятки меня услышали и прикроют. Когда мужики научатся сносно стрелять, солдатам нужно будет срочно прекращать эту войну.
Несмотря на кратковременность рекогносцировки, Михель увидел то, что надо. Буквально в десятке шагов от входа валялась какая-то обгоревшая балка, выломанная ли в этом доме, притащенная ли издали — неважно. Ей можно надёжно подпереть дверь — вот что важно. Решение мгновенно оформилось в приказ:
— Ганс, Маркус! Оставьте свои незаряженные мушкеты, шпаги и вообще всё, что будет мешать. Видите вон то брёвнышко, — Михель нарочно так его назвал, чтобы принизить трудность задуманного предприятия в глазах непосредственных исполнителей. — Вам нужно будет быстренько выскочить во двор и внести его в дом.
Предупреждая уже готовый сорваться с уст Ганса вопрос:
— Я и парни в доме будем сдерживать мужиков. Они у нас и головы не посмеют задрать, не то что прицельно выстрелить. К тому же вы прекрасно знаете, как мужики стреляют. Мушкетов у них мало, — опять покривил душой для пользы дела Михель, — да и фуркетов[59] почти нет. Давайте по счёту три, главное, быстрота и смелость. Пока они не опомнились и не смяли нас числом.
В душе сам Михель не особо верил в благополучное завершение этого дела, но также понимал, что если у Маркуса и Ганса ничего не выйдет, идти во двор придётся ему. Эта балка была вопросом жизни и смерти.
Но все прошло даже лучше, чем ожидалось. Скорее всего, мужики посчитали, что дело «в шляпе» и не ожидали от них такой прыти, а может, «развлекались» с Мельхиором и Георгом. Несколько голов и мушкетных стволов поднялись было над забором, но так же стремительно исчезли после метких выстрелов из дома.
Успех любого военного предприятия — от мелкой стычки до грандиозного побоища — зависит прежде всего от желания противников рисковать собой. Мужики эти явно ещё хотели пожить, потянуть Жилы из пойманных солдат, при этом не дав в солдатские руки своих.
Уже в дверях Ганс, тащивший балку вторым, внезапно выронил её, заорав:
— Братцы, я, кажется, убит! — и рухнул как подкошенный.
Михель решил, что момент истратить заряд — самый подходящий, что и сделал и, кажется, небесполезно. Затем они с Маркусом наконец-то надёжно подпёрли дверь принесённой балкой, ещё и попрыгав на ней для верности, и только тогда Михель обратился к израненному Гансу. Ганс к тому времени уже сидел у стены и тихо скулил, закрыв глаза. На плече его расплывалось кровавое пятно. Михель без особой деликатности подхватил его подмышки, причём Ганс никак не отреагировал. Перетаскивая раненого в более безопасное место, не забыл напомнить Маркусу, чтобы прихватил оружие. Торопливо и не слишком-то бережно освободив Ганса от одежды, не смог удержаться от проклятий. Пуля, по счастью, прошла по касательной, и Ганс, в общем, отделался царапиной.
— Ты, олух! — Михель наградил притворщика добрым пинком, приводя в чувство. — Рви рубаху, сейчас Маркус тебя перевяжет, и к окну. Чтобы через две минуты я слышал твой мушкет, и Боже тебя сохрани отсиживаться где-нибудь по углам. А это, — хлопнул он Ганса по раненому плечу, — считай, что тебя девка цапнула. Плохо взнуздал либо зубы поленился пересчитать — вот она тебя и куснула.
С дверью порядок, но в целом ситуация неутешительна. Попались ровно полдюжины куропаток в силки. Патронов на час доброго боя, логово их надёжно блокировано, у противника подавляющее превосходство в численности, да и в вооружении, прочая солдатня из деревни словно испарилась.
Остаётся подороже продать свои жизни и не угодить в плен живыми. Прорываться глупо и бессмысленно: положат рядком в двух шагах от дома. Ждать, пока ландскнехты на другом конце деревни наконец-то проснутся и поймут, что здесь не заурядное истребление крестьянской живности, но форменный бой.
Впрочем, атакующая сторона — мужики, значит, следующий ход за ними, а нам-то чего голову ломать.
— Хвала Всевышнему, что эти бродяги не разжились пушкой, — с облегчением вздохнул кто-то, кажется Гийом, — а то полетели бы сейчас клочья и от дома, и от нас.
— Вломиться в дом они могут только через дверь, — уверенно сказал Макс.
— Пусть штурмуют. Абы что — наложим кучкой у дверей, чтоб неповадно было, — беззаботно откликнулся Ганс, с усердием раздувая фитиль.
Настроение у него после перевязки и пинка Михеля резко повысилось. Вообще Ганс отличался тем, что быстро впадал в панику, но так же скоро приходил в себя.
— Они могут попытаться поджечь дверь.
— Влепим в поджигателя полдюжины пуль, пусть побегает, — оптимизм Ганса не знал предела.
— У тебя-то лично хоть одна пуля про запас найдётся или нет? — снова не сдержался Михель.
Ганс смущённо улыбнулся и на всякий случай отошёл подальше от грозного Михеля.
— Не надоело языки-то чесать, — встрял угрюмый молчун Гюнтер. — Что делать будем — то мужикам решать, а нам лишь огрызаться, ибо судьба наша даже не в руцех Божьих, но в грязных лапах вчерашних землеробов.
Михель поразился совпадению своих мыслей и слов Гюнтера.
И мужички придумали. За забором произошло какое-то движение, так что солдаты схватились за мушкеты, и во двор швырнули грузно шмякнувшееся о брусчатку тело. Это был Георг.
— О Боже, — тихо охнул Гийом.
— Вот собаки, что удумали, — восхищённо пробасил Ганс.
Неестественно скрюченный Георг, на первый взгляд, не подавал признаков жизни. Лишь присмотревшись, можно было увидеть, что тело Георга сотрясает мелкая дрожь невыносимой боли, одной рукой он слабо царапал булыжник двора, другую пытался завести за спину, словно пытался убрать что-то сильно мешающее. Постепенно до всех доходило, что мужицкая смекалка сотворила с Георгом. Его посадили на кол. Вернее, воткнули кое-как стёсанное поленце, ставшее вместо топлива для костра инструментом казни.
Понятно, чего добивались мужики этой акцией устрашения, но эффект получился прямо противоположным. Солдаты вообще-то не сомневались, что их ожидает нечто подобное, но сейчас даже колеблющиеся укрепились духом — надо стоять до конца.
Дав вдоволь налюбоваться занятным зрелищем, мужички подали голос:
— Ландскнехты, слышите, нет! Сдавайтесь лучше по-доброму, а то со всеми так будет.
Взрыв бессильных проклятий был тому ответом.
— Только заряды зря не тратьте! — пытался перекричать общий гул Михель, перемежая свои призывы яростными богохульствами в адрес вонючего мужичья.
— Михель, его ж добить надо, чтобы не мучился зазря, — обернулся к нему Маркус.
Михелю прежде всего польстило, что к нему обращаются за советом. И он разрешающе и несколько вальяжно махнул рукой.
— Вы живодёру нашему доверьте, — ткнул в раз присмиревшего Ганса Макс.
Ганс долго что-то выцеливал, затем резко повернулся: глаза в слезах, руки трясутся:
— Я не могу. Не могу я... К тому же заряду меня предпоследний.
— Вот те раз, — едва не сел Гийом. Остальные были поражены не меньше.
— Наш мясник-то слабак. Вот кабы ему кожу содрать доверили либо разрезать на мелкие кусочки — тут бы он не подкачал, — смешливо подытожил Макс.
— Ну ты! — с поднятыми кулаками Ганс бросился на говорящего, ещё не дослушав, и через мгновение они уже катались по полу, поднимая тучи пыли. И опять Михель, взяв власть в свои руки, решительно растащил драчунов.
— Кому будет лучше, если мы тут друг дружку перережем, — еле переводя дух, выговаривал он, — только мужикам. Лучше я вас вон в окошко выброшу — к Георгу... Кстати, о нём.
Михель решительно подошёл к окну и метким выстрелом разнёс Георгу голову.
Мужики ответили градом пуль, не причинившим защитникам какого-либо вреда.
— Вот и конец пришёл четырём Г, — попытался пошутить кто-то.
— Если так пойдёт и дальше, то четырём М также несдобровать.
Постреляв, за забором затихли.
— Явно новую каверзу измышляют, — вопросительно-утвердительно заключил Михель, в очередной раз с удовольствием отметив на себе пять пар молчаливо-почтительно вопрошающих глаз.
Да у тебя явные командирские замашки, дружище. Не заделаться ли тебе бравым капралом, а там, глядишь, и до ротного недалеко. Жалование не в пример солдатскому. А впрочем, нет. Капральство тебе никто и не предложит в силу твоего буйства и недисциплинированности, да и собачья это должность — свои же прирежут или выстрелят в спину в бою, что случилось не с одним уже капралом. Но сейчас-то ты командир — значит, командуй!
— Что это вы сгуртовались все в одной комнате? А ну как мужики зайдут с флангов или, того хуже, с тыла? Гийом — налево, в угловую комнату, ты, Гюнтер, — направо, Маркус — наблюдай за тылом. Ты, Ганс, остаёшься здесь, надёжа на тебя слабая, буду за тобой приглядывать. Макс, ты лёгок на ногу, к тому же глазаст, — Михель едва не добавил: хотя и глуп, как осёл. — Ещё раз обойди дом понизу, нет ли где незамеченного ранее пролома, ещё одной двери, какого-либо хода или другой подобной неприятности. Я здесь, в резерве — готов поддержать любого из вас. Кричите, стреляйте, если что. Не зевать, не дремать — шкуру спущу.
В томительном ожидании прошло до получаса.
Хуже нет — ждать да догонять. Вот славно в бою: машинально-заученно бегаешь, падаешь, стреляешь, колешь — и никаких сомнений.
А здесь что? Нервы у всех на пределе, того и гляди, кто-нибудь сорвётся, потребует действий, выйдет из повиновения, а то и своих крушить начнёт, увлечёт за собой остальных. Конец тогда Михелеву руководству. И мужики примолкли — на рожон кому ж переть охота.
Михель, томясь от безделья и неопределённости, собрался уж было устроить осмотр позиций, однако Ганс, изрядно ослабевший от потери крови был ненадёжен, постоянно клевал носом, явно намереваясь вздремнуть. Чёртов Макс где-то запропал.
Грохнул выстрел! Из задней комнаты — тут же определил Михель, споро подхватывая мушкет.
— Не смей спать, собака! — рявкнул для верности на Ганса, прежде чем выбежать.
В комнате он увидел виртуозно орудующего шомполом Маркуса и пропавшего Макса, на коленях стоящего у окна и приложившегося к пристроенному на подоконнике мушкету.
— Мужички — ушлые ребята пытались лестницу подтащить, — на мгновение отрываясь от своего занятия, пояснил Маркус.
— Убил?
— Пугнул, — скорчил недовольную гримасу Маркус, — соринка, понимаешь, в глаз попала в самый момент. Думаю, и этого достаточно, чтобы отвадить их от подобных штучек. Видел бы, как улепётывали, — чуть забор не снесли.
— Каждый убитый мужик тебя больше не зарежет. Всякий убежавший мужик может набежать вновь, — подытожил Макс, поднимаясь и старательно отряхивая колени.
«Чистюля, — фыркнул про себя Михель, — скоро кровью умываться будем, а он все прихорашивается».
А вслух строго добавил:
— А ты чего здесь околачиваешься?
— Так стреляли ж! Я и прибег на подмогу.
— Прибег... Судя по пыли на заднице, ты здесь давненько просиживаешь.
Сконфуженный Макс принялся отряхиваться и сзади.
Михель осторожно выглянул из окна, чтобы самолично обозреть диспозицию.
— Тихо все, — неслышно подошёл сзади Макс, — теперь не полезут.
Словно опровергая его, ударил выстрел, но пуля споткнулась о дом далеко в стороне от окна.
— А раз тихо, так и пошли отсюда. Чем лясы точить, лучше вон шпагу наточи.
— Уж не твою ли, — язвительно-задиристо протянул Макс.
— Может, и мою, — как можно спокойней и уверенней ответил Михель, хотя внутри всё так и вспыхнуло. Не хватало им вдобавок опять передраться. Глаза их встретились, и, очевидно, Макс прочёл что-то важное для себя, потому как сразу сник.
— Пошли уж, коли надо, — уныло-согласительно проворчал он.
— Вот именно надо! — закрепил победу Михель. — А раз тебе ноги покою не дают, промысли каку-никаку посудину да разгонись за водой. От этой пыли в горле першит — мочи нет.
— Кажись, в погребе была лужа, — обрадованно вспомнил Макс.
— Да не задерживай, — вновь напустил на себя начальственную стать Михель.
При его появлении Ганс, усиленно трущий грязными кулачищами глаза, испуганно вскочил, чем опять же порадовал сердце Михеля — не спит, боится.
Вода, принесённая Максом в полуразбитом кувшине, оказалась мутной, изрядно затхлой, ну да не привыкать. И Михель, и Ганс, да и сам Макс, судя по мокрому пятну на груди, воздали ей должное.
— Обнеси и остальных, тоже, поди, сомлели. Заодно и проверишь, как и что, — обрадовал Михель давно уже переминавшегося с ноги на ногу Макса. — Да возвращайся скорее.
Макс умчался чуть ли не в припрыжку. И запропал. Вот тебе и подтянул дисциплинку.
— Михель, поглянь скорее, чего-то опять удумали изверги, — придушенно прошипел Ганс.
Михель рванулся к окну. По двору, прямо на них медленно двигалась половинка каких-то ворот... Спокойней, Михель, не сама же она в гости жалует. Явно за ней спрятался кто-то. И дымок курится. Значит, с факелом, огнём, а то и с миной пороховой. Так они же дверь нам собираются поджечь! Или взорвать!
— Ганс! Цель в серёдку — там он таится, вражина, — скомандовал Михель, прикладываясь к мушкету.
Усердно сопя, Ганс плюхнулся рядом, толкнув Михеля и сбив тому прицел. Михель сквозь зубы пробормотал ругательство, но момент для устройства серьёзной выволочки был явно неподходящим. Появление двух мушкетных стволов в окне не осталось незамеченным. Засверкали вспышки выстрелов. Часть пуль испещрила стены многострадального дома, часть, свистя, влетела в окно, расплющиваясь о заднюю стену комнаты.
Не выдержав этого града, Ганс испуганно шарахнулся от окна.
— Куда, сволочь! Назад! К оружию! — не отрываясь от мушкета, зарычал Михель.
Совершенно потерявший голову Ганс заметался по комнате под пулями и проклятиями Михеля. Решившись наконец, бросился к оставленному на подоконнике мушкету и при этом опять толкнул Михеля уже нажавшего на курок.
— Проклятье, я же так промажу!
Толчок в плечо, клуб дыма, моментально застлавший оконный проём. Куда же пошла пуля, ведь я же явно промахнулся из-за этого олуха. В ярости Михель схватил мушкет за ещё горячее дуло, с явным намерением, прикладом размозжить башку проклятому олуху Гансу, дьявол его забери, но, увидев, как тот старательно выцеливает, внезапно успокоился.
Красная от напряжения рожа Ганса выражала свирепую решимость хоть самому вылететь вместо пули и пронзить проклятый щит вместе с тем, кто за ним скрывается. Михель только и смог прошептать:
— Не подведи, малыш, только не подведи. Вмажь им в серёдку.
Волнение Ганса настолько передалось Михелю, что он совсем забыл про воздетый мушкет, так и стоял, нависая над Гансом.
— Проклятый дым! — в один голос возопили Ганс и Михель после выстрела.
Словно сжалившись над ними, налетевший порыв ветра отнёс пороховой клуб вглубь дома.
Михелева отметина в правом верхнем углу — смотри-ка, умудрился в щит попасть. Ганс на этот раз не подкачал: его пуля точно посерёдке, на уровне груди.
— Но щит-то стоит! Движется! И дырки-то не сквозные — пули не смогли прошить ворота.
— Ты, сволочь! Признавайся — ссыпал порох из патрона[60].
Михель вновь взялся за мушкет, загнал Ганса в угол, где тот испуганно съёжился, закрыв голову руками:
— Нет, Михель, клянусь тебе нет! Заряд был полным!
— Да ведь у тебя же левое плечо ранено и болит?
— Ужасно болит, но заряд я всё же полный забил! Посмотри, Михель, ведь и твоя пуля не пробила ворота.
— А ведь верно, — задумчиво и даже немного растерянно пробормотал Михель, а про себя добавил: «Смотри, дурак дураком, а как шкура начинает трещать — мигом сообразил, что к чему».
— Знаешь, они, наверное, окованы железом, — всё ещё отчаянно труся и не веря в своё спасение тараторил Ганс. — Сейчас многие хозяева так делают, мы же сами видели. Помнишь ту дверь, в деревушке, как её там... забыл, чёрт... на дрова всё не могли разделать.
— Что же нам делать? — совсем уже убито закончил Михель, забыв и про командование, и про авторитет.
— Может, тройной заряд пороха рискнуть?
— Чтобы пороховые газы через запальное отверстие выдавили тебе напрочь глаза или, того хлеще, мушкет разнесло во все стороны?
— Может, два раза попасть в одно и то же место? Вторая пуля обязательно пробьёт дыру.
— Ну ты совсем сдурел. У тебя хоть раз подобное получалось? То-то. В нашей бригаде только Кунц-Отшельник так может, и то через раз. Где ж мы тебе его достанем?
— Кто стрелял, куда, зачем? — вбежавший Макс, как обычно, не мог удержаться от обычного шутовства.
— Сидим, понимаешь, а тут ворота, понимаешь, мы стреляем, понимаешь, — кроме «понимаешь» речь Ганса обильно приправлялась ругательствами и всхлипами.
— Э, да он опять близок к истерике, — Михель, отойдя в сторону и не забыв бросить Максу: — Башку-то береги, зазря не высовывайся, — принялся заряжать мушкет.
Речь Ганса всё более теряла членораздельность.
— Пора его отвлечь хоть чем-нибудь, — Михель устремив выразительный взгляд на Ганса и, не переставая прибивать заряд, кивнул на его мушкет.
Ганс понял этот немой приказ и, оборвав свою речь на полуслове, рванул свой шомпол, едва не сломав. Пока они перезаряжали, Макс ещё раз подошёл к окну.
— Ноги, — неожиданно не к месту произнёс он.
— Что ноги? — недовольно проворчал Михель.
— Ноги у него чуть-чуть торчат из-под щита. Башмаки. По ним и бить надобно.
— Ай да молодец, — Михель готов был расцеловать товарища. Ведь Макс, сам того не сознавая, вернул Михелю уверенность, вернул командирство. Макс даже не сообразил, что сейчас наиболее удачный случай вырвать командование у Михеля, самому стать лидером. Впрочем, Макс всегда довольствовался и был доволен вторыми ролями. Армия, как, впрочем, и всё остальное, на этом и держится — кто-то отдаёт приказы, кто-то слепо их исполняет.
— Макс, к окну! — в голосе Михеля явно было поболе металла, чем свинца в его мушкете. — Ты в левый башмак, я в правый. Сейчас мы его стреножим.
— Ребята, а башмаки-то Мельхиоровы, — Макс и здесь оказался зорче всех.
— Да ну, — удивился Ганс. — Содрали верно, да вместе с кожей и ногами.
«Как они могут в такой момент отвлекаться на всякие глупости. Цель-то у нас ну совсем крохотная и постоянно исчезает под нижним краем шита. Представляю, как ему трудно, движется еле-еле, постоянно останавливаясь и переводя дух».
А история-то была занятная. Таких башмаков не было точно ни у кого в армии. И башмаки эти едва не поставили крест на судьбе 4М и 4Г.
МЕЛЬХИОРОВЫ БАШМАКИ
XIII
Использовав временное затишье, 4М и 4Г отправились на вольный промысел. На казённых харчах недолго и ноги протянуть, посему приработок необходим как воздух. Официально всё было в порядке — вышли на фуражировку. Ох уж эти фуражировки — людей в них полегло да пропало бесследно гораздо больше, чем в крупных битвах.
В расставленную ими западню въехала роскошная, как им на первый взгляд показалось, карета. Сундуки, понимаешь, на крыше и запятках. Разгоревшиеся в ожидании поживы глаза не хотели замечать, что и карета давно просит ремонта, и ливреи кучера и лакеев — дрянь, и лошади, еле тащившие колымагу, — всего-навсего клячи, хоть и с расчёсанными хвостами и лентами в гривах. Наконец, в конвое всего 3 кирасира[61], даже без офицера — это в прифронтовой-то полосе.
Хотя дьявол сейчас разберёт, где более опасно, вся империя — один сплошной театр военных действий, безо всяких кулис.
Кирасиров как главную угрозу смели одним залпом. Кучер так носом и тюкнулся с передка, и лошади, подбодрённые его последним в жизни ударом, протащили по нему тяжёлую колымагу. Один из лакеев навзничь полетел с запяток, долго потом скулил в колее, зажимая вырванный пулей бок, верно, молил о пощаде... Пожалели пару раз прикладом по голове. Оставлять свидетелей подобных «фуражировок» — себе дороже.
Зато второй гайдучок, прикрытый телом товарища, не медля — в кусты. Пошёл топтать растительность, не выбирая дороги. Это очень скверно. Хотя ему, конечно, не до того было, чтобы нас запоминать и разглядывать.
Дверь рыдвана с треском распахнулась, повиснув на одной петле, и оттуда кузнечиком выскочил весьма воинственно настроенный юнец — шпага в правой, пистолет в левой. Ну, куда с добром. Причём он не только свирепо вращал без толку оружием и глазами, но ещё и орал всякую чушь:
— Тётушка, не бойтесь, мы вас обороним! Солдаты, слуги — к оружию!
Ну, насмешил молокосос! Там, куда мы отправили и твоих солдат, и твоих слуг в придачу, им явно будет не до оружия. Там главное, чтобы ворох грехов был поменее. Вот ещё один, правда, ломанул в кусты — явно за пушкой побег. Сейчас возвернётся и задаст нам перцу.
Хотя как знать, как знать. Чем чёрт не шутит: наткнётся на пикет или отряд проходящий. Надо поспешать. Ещё бы знать точнёхонько, что из кареты не из пистолета, ни тем паче из мушкета по нам не саданут.
Наш выход! Впереди, широко отмахивая шпагой, что косой, шагал Макс. Лесная поросль, лопухи и прочая мурава валились под его ударами, что враги под мечом Зигфрида[62]. Чистюля не желал замочить ног обильно выпавшей росой. Оценив его услугу, а также держа его в качестве живого прикрытия, в затылок ему топали Гийом и Маркус.
Жадюга Ганс пёр целиной, всё норовя вырваться вперёд. Неожиданно он задрал голову к небу и завыл по-волчьи — дурашливо и в то же время свирепо-угрожающе. Когда, отвывшись, он возобновил путь, это был уже не человек — существо, движимое одним всепожирающим желанием убийства и крови. С лязгом вылетели из ножен его шпага и даго[63]. Взбрыкнув, ровно стоялый жеребец, Ганс побежал, но тут же ухнул в незамеченную заросшую травой яму. Какое-то время лишь колыхание и треск кустарника да бессвязные ругательства выдавали его присутствие. В конце концов перемазанному Гансу удалось-таки выкарабкаться. При этом исхитрился не потерять оружия. Бросив тревожно-ненавистный взгляд на товарищей, которые в отличие от него спешили не в схватку, а за добычей, Ганс припустил вприпрыжку, правда, уже не столь опрометчиво, глядя под ноги, огибая ямы, перепрыгивая через полуистлевшие коряги и упавшие стволы.
«Вот он и словит первую пулю, если что», — подумали, верно, разом все семеро.
Михель решил, что не будет зла, если он, пока не торопясь, перезарядит оружие.
Юнец из кареты по мере подъёма и выхода доблестной восьмёрки из-под крон деревьев, всё более терял запал и уверенность. Слуги и солдаты что-то не выручали, да и противников оказалось не один и не два. Замешательство его, отчётливо видное всем, только усилило радость компании и желание его не упустить.
— Пугнул, живчик, так, что сам в штаны наложил, — злорадно протянул Маркус, оглядываясь, то ли проверяя действенность шутки, то ли удостоверяясь, а идут ли за ним, не бросили ли.
Ганс самому себе казался, верно, древним берсерком[64], если он, конечно, когда-нибудь слышал о таких. Только вот неувязочка: берсерк — тот, как правило, один бросался на восьмерых. У Ганса всё наоборот. Легко быть смелым в стае, зная, что тебя всегда поддержат.
По расслабленным уже было в предвкушении добычи и потехи нервам стилетом полоснул выстрел. Все почему-то решили, что это из кареты, тёмная, непросматриваемая глубина которой могла таить любые неожиданности. Макс даже присел на одно колено, теперь уже абсолютно не заботясь о возможности обзеленить штанину. Ганс, сделав два гигантских прыжка назад, опять же угодил в яму — непонятно, случайно или спасаясь.
Михель сразу сообразил, что стреляли-то сзади. А сзади у них Гюнтер.
— Эй, трусы! И где ж это, скажите на милость, вы увидели дым? — донёсся издевательский голос Маркуса, также быстро разобравшегося в ситуации.
Пуля, выпущенная Гюнтером, перебила молодчику из кареты руку, в которой он сжимал пистолет. Взвыв побитой собачонкой, тот враз забыл и про дражайшую тётушку, и про долг, и про дворянскую честь, выронил не только пистолет, но и шпагу и, зажимая раненую руку, побежал. Почему-то не вглубь леса, а прямо по дороге. Только пыль поднялась.
— Ганс, Ганс! Не упусти его! Давай бегом! Ишь порскнул, ровно заяц! И куды ж ты намылился, глупенький зайчонок[65], — возбуждённо загалдели ландскнехты.
Ганса дважды понукать не надо. Окрылённый доверием товарищей, а более запахом близкой крови, уже не обращая внимания ни на какие преграды, Ганс рванул, ровно борзая за дичью. По пути отбросил шпагу, отстегнул ремень с ножнами, скинул на обочину стеснявший движения камзол. Нагнал! Ганс не был бы Гансом, если бы вот так вот, запросто, отправил дворянчика на тот свет. Рванул к себе, схватил мертво за горло и, когда обречённый сначала одной, а затем, превозмогая боль, и второй, раненой, рукой попытался отодрать цепкие пальцы Ганса и тем открылся снизу, Ганс, медленно, смакуя, распорол его снизу доверху. Присев рядом, с каким-то неподдельным детским изумлением смотрел на агонию, словно удивляясь: и кто ж такое мог сотворить. Простого созерцания ему вскоре показалось мало...
Товарищи давно уже перестали обращать внимание на подобные художества. Лишь Гийом, поморщившись при очередном диком вопле с дороги, бросил:
— Лучше б ускользнувшего гайдука с запяток попытался достать. Явно тот где-то поблизости блукает.
Ландскнехты с опаской окружили карету. Михель, перезарядивший к тому времени мушкет, торопливо присоединился к остальным.
— Баба, а боле никого, — как обычно, зрение не подвело Макса в полумраке кареты, — старая к тому ж. Может, Ганса кликнем?
— Хватит ему на сегодня развлечений, — угрюмо, как обычно, процедил Гюнтер, — разведёт тут сейчас, понимаешь, волынку, за уши не оторвёшь, а нам поспешать надо.
— Старуха! — обратился он к отчаянно визжащей женщине, которую, к тому времени, сильные руки Макса и Маркуса выволокли из кареты на свет Божий. Сказал так, что она тут же замолчала и почти не всхлипывала:
— Деньги, драгоценности! Потом молись. Денег — побольше, молитву — побыстрей.
С грохотом полетели на дорогу сундуки, закреплённые на крыше кареты. Кто-то то ли в шутку, то ли всерьёз — мало ли где по нынешнему неспокойному времечку хранят деньги — полоснул по подушкам. Пух и перо взвились весёлым облачком и истаяли, лениво разносимые слабым ветерком. В общем, пошла потеха. Вскоре выяснилось, что веселиться-то нечему.
Сундуки пусты, взяты лишь для блезира, или, говоря по-простому, пыль честным людям в глаза пускать. На старухе навешано, правда, густо, но дока в подобных цацках Гийом — сколько церковных окладов и аналоев разорил у папистов — намётанным взором определил, что всё это никчёмные стекляшки и цена им в базарный день — пяток гульденов. Ни кошелька тебе, ни шкатулки. Нет, кошельки, конечно, были и у старухи, и у юнца — Гансу крикнули, чтоб обыскал получше, но не те тугие мешочки, радующие глаз, из которых того и гляди начнёт сочиться золото, ровно масло из треснувших мехов, а сморщенные, сухие, словно стручки гороха, пролежавшие под снегом. И как эти стручки, пустые — ну, ни единой же полушечки. С горя бросились обшаривать тела кучера, лакея, солдат. Опять же Гийом не сплоховал: вырезал изо рта одного из кирасиров упрятанный туда талер. Рот — самое надёжное место для монеты: не срежут, как кошелёк, не вытащат как из кармана. Главное, зря не разевай его где попало. Все шумно одобрили удачу Гийома — но ведь это только один талер. Проворно резали обивку кареты, вспарывали кавалерийские сёдла — ничегошеньки. Подступали к старухе, но та от страха ровно язык проглотила. Пытать? Бесполезная затея. По всему видать не из той знати, которую война озолотила. Скорее наоборот.
И одрами, запряжёнными в карету, побрезгует не то что кавалерия и обоз, даже маркитант не польстится волочить свою тележку с нехитрым товаром. Разве что на колбасу сдать, опять же, самим потом зубы ломать. Да и опасно это: сбёгший лакей признает хозяйских рысачков даже по шкуре. Кирасирские лошадки, само собой, клеймены, значит, тоже сразу спросят, где промыслили.
Восемь здоровых лбов рисковали своими шкурами ради пары монет, пары стекляшек, одного более-менее хорошего платья — лучшее, конечно, оказалось на самой старушенции, но пока суд да дело — оно оказалось безнадёжно испорченным. Решились всё же рискнуть с конями. Макс вроде прикинул, куда их можно толкнуть. Но отдавать придётся хорошо, если за четверть цены, если вообще что за них выручишь, а самое главное, выжига Макс бессомненно слупит щедрые комиссионные. Недаром он сразу предупредил, что пойдёт торговаться один. Поди потом проверь.
Главная ценность, пожалуй, оружие. Семь пистолетов — в карете нашёлся ещё один, зато раззява кирасир имел вместо положенной пары всего один. Два мушкетона[66] — опять же у этого убогого с одним пистолетом ружьё тоже отсутствовало. И как он воевать-то собирался? Впрочем, его лучше экипированным соратникам это не помогло: мушкетоны остались в бушматах, пистолеты в ольстрах[67]. Ни выстрела не успели сделать. Три палаша, шпага приконченного Гансом юнца. Ни у кучера, ни у гайдука с запяток оружия, всем на удивление, не оказалось, что опять же подтверждало удручающую нищету владельцев кареты. Ведь все кто ни попадя разгуливают сейчас вооружённые до зубов, и у последнего мужика под застрехой вполне можно обнаружить мушкет, а то и пару пистолетов в придачу.
Ремни, пороховые натруски, патронные сумки — само собой, до кучи. С кирасами и шишаками решили не связываться. Тяжело и малоприбыльно. Доспехи рядовые, ни тебе, понимаешь, золотой чеканки, ни чернения по серебру. Куски железа, к тому же изрядно поржавевшие.
Вот тут Мельхиор и узрел башмаки. Кучер и лакей были босы, у юнца обутка так себе, да нога уж больно мала. Кирасирские ботфорты держатся на честном слове — развалятся ни сегодня-завтра, больше грошей на починку изведёшь, а самое главное — интересоваться начнут, откуда у тебя, мушкетёра, после ночной отлучки да кавалерийские сапоги. Беды не оберёшься. Командование в последнее время принялось рьяно подтягивать дисциплину. Очередная маршальская блажь — чтобы солдат да не грабил, расскажи кому — засмеют. Но тебе-то, служивому, угодить по нынешним временам в петлю за деяние, за которое ещё вчера награждали и, возможно, завтра будут снова награждать, — плёвое дело.
Не пил бы капрал столь безбожно, не играл бы ротный столь неудачно в зернь[68], и на эту охоту не выбрались бы.
Босой Мельхиор с утра был не в себе. В лесу чудом не наступил на гадюку и был в полном ошеломлении от этого. Только и бубнил в засаде про змей, шарахался от каждой подозрительной ветки. Под конец начал заговариваться: поинтересовался у Михеля, наваристы ли змеи и если десяток гадов спустить в котёл и, основательно проварив, скажем, как кожу варят, когда больше в рот нечего сунуть, слить воду, можно ли наесться и не отравиться. Пришлось дать по рёбрам, чтобы немного очухался и не демаскировал засаду.
Так вот, проходя от тела к телу, вернее, от ног к ногам, Мельхиор всё более мрачнел:
— В лес не пойду на верную погибель, знаете, сколько там змеюк под каждым кустом клубится. Останусь здесь. Или несите на руках.
Вдруг Мельхиору на глаза попались ноги старухи, торчащие из-под разорванного окровавленного платья.
— Нашёл! — издал ликующий вопль враз приободрившийся Мельхиор. — Парни, вы только гляньте, какая у ей лапища!
— Так они ж бабские, — наморщил нос Макс.
Но счастливчик, уже никого не видя и не слыша, плюхнулся задом в колею, и вот уже, сопя, тянул на наспех вытертую о траву, но всё же ужасно грязную ногу расшитый серебром башмак тонкой жёлтой кожи.
— Впору, ей-бо, впору, — обрадованный Мельхиор даже пустился в безудержный пляс, исполняя что-то дико-зажигательное. У бедного сына ландскнехта никогда ещё не было столь дорогой и изящной вещицы.
Глядя на плещущую через край неподдельную радость, один за другим 4Г и ЗМ, забыв про жалкую добычу, пустые желудки, драную одежду и обувь, также развеселились, ровно дети. Лёгкий на ногу Макс тут же составил пару Мельхиору, забавно изображая даму. Прибежал даже Ганс, сообразив своим умишком, что здесь вовсю веселье, явно кого-то пытают люто, либо бьют смертным боем, и так и стоял, разинув рот, соображая. Вид его был настолько глуп и растерян, что Михель, взглянув на него и ткнув пальцем, повалился ничком в траву.
Рядом лежал, держась за живот, Маркус и уже не смеялся, а хрюкал:
— Ой, уберите подальше этих придурков. Ой, ведь не могу больше, счас брюхо лопнет.
XIV
Быстренько, но с максимальными предосторожностями распродав жалкую добычу, 4М и 4Г на время притихли. После делёжки с капралом и вообще-то осталось — пару раз в кабак сходить. Счастье ещё, что ротному за время их отлучки, дизентерия выправила бессрочный отпуск — обозревать ад и окрестности.
Знакомые немало потешались над приобретением Мельхиора. К слову сказать, он не особо выставлял новые башмаки, словно предчувствовал. Берег, носил при крайней нужде, тщательно чистил и мыл, мазал жиром, даже менял с ноги на ногу два раза на дню[69].
Михель также ощущал какую-то неуютность, какую-то тягость, словно латы на него нацепили, а снять забыли. Вроде обычное дело провернули, даже мертвяки те, дорожные, совсем ночами не беспокоили.
Предчувствия не обманули. Божий одуванчик и не в меру прыткий вьюноша, жизни которых походя оборвала разудалая компания 4М и 4Г, не просто прогуливались в военной зоне. Они направлялись к его светлости главнокомандующему. Чего хотели добиться: денег, службы, возвращения конфискованного и реквизированного — сие неизвестно. Но о них знали, их ждали. И когда они не появились, нарядили расследование. Тут ещё везунчик лакей, которого они проморгали на дороге. Не сгинул в лесах, не напоролся на другую банду — живёхонький, хотя и до смерти перепуганный вышел к имперским пикетам.
Состав преступления налицо — осталось найти виновных. Естественно, лакей никого не видел — это замечательно. Но в ходе следствия вышли на маркитантку, позарившуюся на старухины обноски и стекляшки. Макс время от времени вёл с ней любовные сражения, шум стоял на весь лагерь. Вот он и решил и пассию свою облагодетельствовать, и нажиться немного за её же счёт.
Любительницу до чужого платья и побрякушек взяли в крепкий оборот. Пикантность ситуации заключалась в том, что профос, ведущий дело, был, пожалуй, единственным мужчиной имперской армии, кому разбитная бабёнка отказала в аренде своих прелестей. Сейчас наступил его черёд веселиться: он не только мог отличиться в раскрытии чудовищного злодеяния, но и отомстить за свою поруганную честь.
4М и 4Г как на медленный огонь водрузили. Что же делать? Каждый ландскнехт отлично знает, какая неизбежность уготована ему в конце военной дороги. Но каждый всё же желает, чтобы эта дорога была подлинней и поровней. Первое, что пришло на ум всем восьмерым:
— Бежать!
Лишь немного помешанный на вере Гюнтер, в своё время ушедший из иезуитского колледжа, доказывал, что никуда не годится бросать защитника Святой Матери нашей католической церкви[70]. Ну да, имперская армия что и без нас может победить, что с нами быть битой. Да куда он денется, этот Гюнтер. Не посмеет разрушить счастливое братство 4М и 4Г. Верующие — они ведь и самые суеверные тож. А и пусть остаётся, и пусть его потом хоть восемь раз вешают за всех сразу.
Главная загвоздка к тому, чтобы немедля смазать салом пятки, не в Гюнтере. Во-первых, в связи с этим делом вокруг лагеря учреждена цепь караулов крепких да пикетов тайных. И всех перехваченных бегунцов велено без промедления доставлять пред очи лакея и маркитантки на предмет возможного опознания. Во-вторых, подгадили хитромудрые шведы. Ловким манёвром их армия совершенно исчезла из поля зрения имперцев. И именно сейчас. Ни раньше, ни позже! А топать наобум по обоюдно опустошённой стране, кишащей мужицкими отрядами и шайками дезертиров... Можно, конечно, попытаться пристать к достойной бриганде[71], но вопрос: как встретят? Не посчитают, что мёртвые, мы принесём им больше пользы — своим оружием, одеждой, содержимым котомок. В-третьих, Макс клялся и божился, что его метресса скорее испустит дух под пытками, чем продаст его, Макса, а следовательно, и вся компания вне опасности.
Сглупили они, наверное, что не побежали. Тут ещё Мельхиор! Крути не крути — его дурацкие башмаки остались единственной и притом смертельной уликой. Уж что с ним ни делали, как ни уговаривали. Только что на колени не падали. Макс попытался было выкрасть и спалить злосчастную обувку, за что чуть был не лишён жизни хозяином башмаков. Спасли его быстрые ноги да вмешательство остальных.
— Если они пропадут, я сам пойду к профосу и про все ему расскажу! Зарубите это себе на носу! — орал точно взбесившийся Мельхиор.
Сумасшедший, да и только!
Не убивать же его. Опять же, без пользы разрушишь заповедный восьмиугольник 4М и 4Г. Да и зачем силы тратить. И без этого слишком многие мечтают увидеть убийц графини и её племянника поднимающимися на эшафот. После непростых переговоров с упрямцем, удалось договориться, что Мельхиор сам спрячет свои драгоценные башмачки и достанет, когда все благополучно завершится. Пришлось чуть ли не на Библии клясться, что никто не пойдёт за ним следить и высматривать.
Когда Мельхиор, поминутно оглядываясь, удалился искать место тайное, обетованное, а вся семёрка мирно расположилась у костра, Маркус, сплюнув в угли, вдруг со смешком произнёс:
— Слушайте, а вдруг кто другой найдёт и опустошит его тайничок. Он же нас ночью перережет всех.
Однако никто почему-то не поддержал Маркусову шутку. Михель, несмотря на жар костра, зябко передёрнулся, словно уже ощутил на горле холод алчущей стали.
— Это чёртово расследование нас всех рассорит и во врагов обратит, — процедил Гюнтер, также сопровождая свои слова смачным плевком в костёр.
— Все Мельхиор помешанный. Помните, когда окончил свои дни знаменитый на всю армию карточный шулер Фриц, Мельхиор отрубил его палец, смастерил ладанку-амулет, повесил на шею, говоря, что это здорово поможет в играх.
— Ну и?
— Ну и проигрался в пух и прах в первый же вечер.
— Нельзя сидеть сложа руки и ждать, пока нас всех затребуют к палачу, — рубанул рукой воздух Гийом.
— Ну так я вам вот что скажу, — пододвинулся ближе Макс, — есть тут мыслишка одна.
Любой дозор или вахта — скука смертная, даже если сидишь под носом у врага, в отводном карауле[72]. Там даже тоскливей: ни тебе костерка развести, ни в кости перекинуться, даже пошептаться порой нельзя.
Особливо бесит любого пехотинца, когда им начинают замазывать разные дыры: ставят караулить артиллерию, пороховые погреба, обозы либо оберегать какую-нибудь важную персону из штатских штафирок. На таком поганом посту и позабыть про тебя вполне могут: из роты откомандирован и здесь для всех чужой.
Пост у армейского застенка не исключение. Обращать честного солдата в пособника живодёров — что может быть позорней. То, что, добывая пропитание или развлекаясь, солдаты выдумывают для крестьян такие мучения, что никакому заплечных дел мастеру и не снились, отношения к дознавательской братии не меняло.
Совсем недалеко кипит жизнь: со стуком сдвигаются кружки, визжат и хохочут шлюхи, горланят хмельные песни, звенят серебро и сталь, а ты тут вышагивай, как пёс на цепи, взад-вперёд, с мушкетом на плече, тоскливо поглядывая на звёзды и пытаясь определить, когда же наконец сменят. Хоть бы поболтать кто зашёл. Это строжайше запрещено, но ведь все прекрасно знают, что в дымину пьяный профос давно валяется кверху брюхом и палатка того и гляди лопнет от его мощного храпа. Уработался, умаялся, скотина!
Поэтому появление Гийома, усердно изображавшего мертвецки пьяного рубаху-парня, было встречено часовым гауптвахты с явным одобрением. У него не вызвало подозрений, что пьянчужка надвинул шляпу как можно ниже и что он явно не стремился попасть в круг света, отбрасываемый фонарём, подвешенным над дверью узилища. А если и были, то враз исчезли, едва Гийом встряхнул винным мехом. И не пустым.
Бурдючок сей был хитро устроен. В него был вшит ещё один, поменьше. И трубок было две. Обычная хитрость виноторговцев: в большой наливалась вода, в меньший вино, покупателю давали на пробу из винного и денежки с него брали, конечно, не за воду. Мех в руках Гийома имел несколько другое содержание. Большой был с вином, меньший тоже с вином, но обильно приправленным сонной травой.
И начали они отхлёбывать. Гийом ловко подсовывал часовому дурман, но и себя не забывал вознаградить чистым, так что наблюдавший из темноты затаившийся Макс глотал слюнки и всерьёз опасался, как бы Гийом не увлёкся и не свалился раньше охранника. Гийом, словно прочитав мысли Макса, отойдя на пару шагов, сунул два пальца в рот с целью очистить желудок. Солдат не преминул воспользоваться представившейся возможностью, стал жадно поглощать заботливо подсунутое ему зелье, время от времени отрываясь и опасливо косясь в сторону Гийома. Макс в кустах чуть не всю шляпу засунул в рот, чтобы не расхохотаться, видя как все удачно складывается. Бедняга караульщик решил, что всех надул, в то время как дурили-то как раз его.
Гийом блевал долго, со вкусом, с перерывами и множеством звуков. Когда он отхаркался, всё было кончено.
Возвращаясь на место пиршества, Гийом едва не полетел на землю, споткнувшись о распростёртое тело караульного. Удержав с большим трудом равновесие, долго что-то соображал, икая и бормоча проклятия под нос.
— Дьявол забери, его ж развезло вконец, — чертыхался в своём убежище Макс. — Давай же, очухивайся поскорей, свинья, время не ждёт.
Гийом ткнул носком башмака часового раз, другой, затем присел возле него на корточки.
Поднялся он трезвым. Только икота мучила.
— Ик, готов собака, — и, задержав дыхание, выпалил как можно скорее, — Макс, поторапливайся. Так ведь и не сказал, пёс рыжий, когда смена. В любой момент могут нагрянуть. Ик!
Макс не заставил себя долго уговаривать:
— Если нас заметут, то только из-за твоего икания. Давай, я тебе по спине хорошенько вдарю — враз пройдёт. А то глотни винца — двадцать глотков не дыша. Тоже как рукой снимет. Да смотри сам трубки не спутай. Брошу рядом с конвоиром, коли сомлеешь.
Излишне говорить, что Гийом выбрал глотнуть винца.
— Дай и мне горло промочить, — произнёс Макс, когда Гийом наконец-то отвалился от меха. — Ну, ты как, в состоянии? Точно двадцать глотков сделал, не двести?
Гийом без слов кивнул головой.
— Держи, и пусть рука твоя будет тверда, как всегда.
Ганс, которого и всерьёз-то никто не принимал, прогулялся возле офицерских палаток и, вернувшись, вытащил из-за пазухи подзорную трубу. В следующие два дня Макс излазал все окрестные деревья и холмы и точно установил, в каком узилище томится его возлюбленная и их общий источник беспокойства. Поэтому сейчас, несмотря на тьму, Макс двигался уверенно, а Гийом, стараясь не отстать, — за ним.
— Мадонна, Мадонна, ты меня слышишь. Это я, твой Макс, — солдаты имели склонность давать своим подругам либо грубо-непристойные, либо нежно-возвышенные прозвища.
Пьяненький Гийом едва не прыснул, неожиданно услышав это — Мадонна.
— Как же, как же, помним: непорочное зачатье и всё такое прочее.
— Макс, ты это? Где ты пропадал столько дней — я так извелась, ожидаючи. Если бы ты знал, что они со мной делали. Но я не выдала тебя и не предам никогда — клянусь.
— Я знаю и верю тебе. Скоро для тебя эти муки закончатся, — в этом Макс не кривил душой. — Всё будет хорошо, я обещаю. Подойди поближе, я объясню, что делать.
Ухватившись за прутья решётки, Макс подтянулся, и уста их слились в долгом поцелуе.
Гийом, стоя за спиной, почувствовал, как пьяные, но искренние слёзы навернулись на глаза и мир поплыл, дробясь и рассыпаясь. Этого нам ещё не доставало. Гийом торопливо смахнул влагу рукавом.
— Бей! — негромко, но властно и отчётливо выдохнул Макс, спрыгивая и приседая.
— Ик! — неожиданно вырвалось у Гийома, тем не менее пика с укороченным древком, которую он сжимал в руках, точно попала между прутьями решётки.
Слабый вскрик — Гийом отдёргивает пику.
— Не промазал? — поинтересовался Макс с корточек.
— Сходи проверь, — зло огрызнулся Гийом.
— Вот и всё, — спокойно-отрешённо констатировал Макс, поднимаясь и отряхивая руки. — Прости, Мадонна. Не в наших силах было отрезать тебе язык и выжечь глаза, чтобы не узнала и не выдала, посему пришлось пойти на крайние меры.
И совершенно другим тоном:
— У нас там осталось, чем помянуть рабу Божью?
— Плескается малехо, только давай смоемся отсюда поскорей.
— Я надеюсь, мех до своих не понесём.
— Разумеется. Работа наша и вино, значит, тоже.
— Кстати, ты свою долю уже вылакал, когда часового утихомиривал.
— А это надо будет ещё поглядеть.
— Обыскать бы вояку на предмет толстого кошелька.
— Сделано уж — гол как сокол.
— Врёшь поди-кось. Ну а мушкет прихватим?
— Пожалей парня. Если застанут спящим на посту да без оружия — смерть верная. С нас ещё те вериги не сняты, а тебе уже новое дело не терпится провернуть. К тому ж каждый ландскнехт опознает своё ружьё из сотни тысяч.
— А ты можешь на глаз прикинуть — покупной у него мушкет или выданный[73]?
— Шутишь? Темнота — глаз коли, да и схожи они, ровно близнята. Не глупи, потопали. Смена вот-вот нагрянет.
— Уговорил. Тогда пойдём скорее. Выпить охота — мочи никакой нет.
— На вот, сосни. Помнишь — на счёт три отрываешься и передаёшь посудину мне.
— Сравнил глотки. Мне надо до пяти хотя бы считать.
— Перетолчёшься. Да не споткнись. Ты-то чёрт востроглазый, хоть в усмерть расшибись — мне и горя нет. Перешагну и дальше пойду... Сгубил бабу ни за грош. О винце я пекусь, коли прольётся, ведь каждый последнее отдал... Эй, эй, бурдючок-то сюда. У тебя, как я погляжу, совсем совести нет. Пользуешься тем, что меня по пьяному делу на разговор потянуло.
— Душу я, Гийом, заливаю. Печёт вот здесь — невтерпёж.
— Эт какую-такую душу — ту, что давно заложена и перезаложена всем чертям того и этого света?
— Кончай болтать, да пей скорей. Если глаза меня не обманывают, то мы с тобой винца попили...
XV
Утром развесёлую компашку 4М и 4Г не то что барабаном — пушкой было не добудиться. Глаза Макса не подвели хозяина. Остальные, охочие до вина и горящие нетерпением узнать результаты вылазки Гийома и Макса, перехватили их на полдороге. Своего рода засада. Весть, сообщённую Максом, встретили бурей восторга. Сразу всех обуяла дикая жажда. После того как расправились с обычным вином, единодушно решили, что и сонное выливать не резон. Опасность устранена, похода не предвидится — кого бояться?
Поэтому капралу, который в душе сам немного побаивался неукротимой и удачливой компании и всеми силами пытался этого страха не выказать, пришлось прибегнуть к помощи палки.
Разбуженные и ещё не продравшие толком глаза, они сразу потянулись к оружию.
— Что, шведы? — Михель первым выразил общий вопрос.
— Да нет. Общий аппель[74]. — Капрал был рад, что побудка обошлась без серьёзной ссоры. И то сказать, что есть пара ударов палкой для бывалого ландскнехта? Это как «с добрым утром». Все ведь понимают, какой бедлам наступит, если командиры перестанут поддерживать хотя бы минимальную дисциплину и порядок.
Про себя капрал давно сделал вывод, что дерзкие грабители и убийцы, о которых только и трепотни, — именно эти парни, чему он совершенно не удивлялся. Чему он был удивлён: почему они всё ещё на месте, а не в бегах? В случае осложнений и ему ведь может аукнуться — куда смотрел?
— По какому поводу? — Гюнтер спрашивал у капрала, но рассматривал Макса и Гийома.
— Мне не докладывались, — сухо отрезал капрал, стараясь показать, что он никоим образом не обязан вообще-то отвечать на вопросы рядовых солдафонов.
— Приехал кто? — не обращая ровно никакого внимания на капральский тон, продолжал расспрос Гюнтер. Под его взглядом вчера ещё столь геройские Макс и Гийом съёжились и побледнели. Неприятным предчувствием постепенно прониклись и все остальные. Словно чёрная туча набежала на ясный горизонт, заставив ещё более посереть помятые с похмелья и недосыпа рожи восьмёрки.
Капрал в ответ молча пожал плечами. Всем ясно, что, если бы намечался приезд высокого начальства, об этом неделю только все и болтали бы.
— Давайте, давайте, быстренько приводите себя в порядок, чистите пёрышки и в строй. Поправить здоровьишко есть чем, а то и меня бы угостили? — капрал чутьём нащупал трещинку неуверенности в монолите 4М и 4Г и сейчас исподволь пытался её расширить и углубить.
Маркус красноречиво наподдал сморщенный блин меха ногой, как бы отвечая на просьбу капрала.
— Ставлю дублон, что здесь и воробья-то не напоишь, — с видом знатока протянул капрал.
— А у тебя, что, есть дублон? — мгновенно развернулось к нему восемь пар глаз.
Капрал почувствовал, что на спину ему словно швырнули горсть ледышек, что трещина, которую он столь умело расширял и в которую столь неосмотрительно углубился, вдруг наглухо захлопнулась, намертво придавив. Ведь эти ребята не только вид, но и запах денег воспринимают однозначно: как сигнал к немедленному действию. Ведь они, не то что за дублон, они за денье[75] зарежут. На миг потерял осторожность, брякнул лишнее словцо, и опять нужно будет ходить, поминутно оглядываясь и прислушиваясь, и спать, не снимая портупеи с оружием.
— Что вы, ребята, — стараясь говорить как можно ровней и естественней и сам чувствуя, как убого и фальшиво получается, забормотал капрал, — да откуда ж у меня может быть целый дублон? Неужто вы запамятовали, когда жалованием последний раз всех нас побаловали? Это ж вы на добычу можете отлучиться, а я-то всегда тут, безвылазно при роте... А вообще-то мне надо по делу, пошёл я. Да и вам давно уж пора в строй... Это ж я так, в шутку, про дублон ляпнул.
Опасаясь показать спину, капрал попятился задом, поминутно запинаясь. Отойдя на безопасное, по его мнению, расстояние, он повернулся и затрусил, слабо соображая куда — главное, подальше.
В более подходящий для веселья момент, восьмёрка вдоволь бы нахохоталась над манипуляциями капрала, но сейчас чувство неясной тревоги, передавшееся от мудрого Гюнтера, сожрало смех ещё в утробе глоток.
Быстро потухли разгоревшиеся было при упоминании о дублоне глаза. «Не до жиру — быть бы живу».
И вот они в разомкнутом строю. Разомкнут — это чтобы всех было видно. Лица бледны, побелели и пальцы рук, судорожно сжимающие оружие. Впрочем, кто в них особо вглядывается. Мало ли больных и немощных, едва доковылявших до плаца. Вон капрал на правом фланге тоже дрожит как лист на ветру. Ведь если начать разбираться, за половиной солдат в строю какой-нибудь грешок да отыщется. И неизвестно, смогли ли они так же умело замести следы, как 4М и 4Г. Вообще для любого служивого это неожиданный и не самый приятный сюрприз. Поджариваешь колбаску, истекая слюной, бросаешь краплёные кости, точно поставив на выигрыш, уламываешь деваху, верно чуя, что через пару слов или пару медяков, она позволит тебе полакомиться своими прелестями, погружаешь усы в плотную прохладную пену, намереваясь осушить разом полкружки — и тут на тебе, барабан. Стой, понимаешь, ёжась от пристальных взглядов и дурных предчувствий. Солдаты негромко переговаривались, взглядом отыскивая знакомых в стоящих напротив. Почти каждый, прослуживший более трёх месяцев, отметил, как поредел строй. И это не боевая убыль. Кабы жалование вовремя выдавали — вчетверо бы народу прибавилось. Кое-где уже от затянувшейся паузы начали лениво переругиваться, поминая былые обиды, а то и переплёвываться, стараясь плевком непременно украсить рожу соперника. Забегали офицеры, замелькали капральские палки — гул несколько схлынул.
Все, словно по команде, повернули головы налево. Михель почувствовал, как сердце, отчаянно сжавшись в комок, плюхнулось вниз и разбилось вдребезги, ударившись о мозолистую пятку. Было от чего.
Впереди важно вышагивал опохмелённый профос. А за ним, поддерживаемая с двух сторон помощниками профоса, забинтованная, бледная, но живая — Мадонна, Максова подружка! Дальше, тоже почему-то в окружении профосовых служек, — бежавший от них в лесу гайдучок.
— Доверились, называется. И кому? Двум пьянчужкам, один к тому же хвастун, — разрядил могильную тишину Гюнтер.
— Говорил же, к шведам надо было рвать, — заныл за спиной Маркус.
— Отбегались, браток. И ты, и мы, — рассудительно ответил Мельхиор. — Походил, называется, обутым.
Михель скосил глаза влево и вниз и внезапно ему захотелось заорать на весь мир от бессильной ярости. Мельхиор вырядился в свои башмаки!
— У нас не двое дураков, Гюнтер, их трое, а вернее, все восемь, — хрипло прошептал он.
Почувствовав, что речь идёт о нём, Мельхиор завозился, переступая с ноги на ногу.
— А что я? Дрожи тут день и ночь, что найдут да покрадут моё сокровище. К тому ж вы сами клятвенно уверяли, что девка на небесах — кого бояться? А может, я желаю и умереть в новых башмаках — одна радость в жизни осталась. Пусть меня и вздёрнут в них, и в могилу вместе с ними положат.
— И не надейся, — не удержался до этого пришибленно молчавший Макс, — палач обязательно заберёт их себе, а потом продаст.
— Макс, Макс, слышишь меня, — зловеще-рассудительно зашептал Георг, — и не воображай, что в петлю занырнёшь. Я ведь тебя вперёд изничтожу. Как только зачнут нас из строя тягать, так и зарежу. А если оружие отберут, я ведь тебе, сучонку, горло зубами вырву, хоть напоследок потешусь.
— Я-то что, что я? Это вон Гийом пикой ширял, с него и спрос.
Гийом предпочёл отмолчаться.
Казалось, ещё мгновение, и восьмёрка старых боевых товарищей превратится в визжащий клубок режущих и топчущих друг дружку непримиримых противников.
— Хорош собачиться, вояки, — Гюнтер, как всегда оказался наиболее хладнокровным. — Вляпались, так хоть имейте честь умереть достойно. Вы ведь всё ж таки ландскнехты, а не стадо баб. Молите Деву Марию о чуде, а кто не верит в чудеса — молите подарить смерть лёгкую, непозорную.
Михель послушно закрыл глаза, но Дева-заступница появилась сначала с лицом матушки, а затем — вот нечистый что вытворяет — с лицом Максовой подружки, их общей погибели. Михель решительно открыл глаза: чуда на сегодня не предвидится, а завтра оно ему и даром не надобно.
— А чего, собственно, теперь бояться-волноваться? Карты розданы, и в рукаве у тебя не болтается крупный козырь, и ходишь не ты, и единственное, в чём ты волен — это проиграть достойно — без шума, драки и суеты. — Михель внезапно успокоился и принялся наблюдать за происходящим словно бы со стороны. Словно и не к нему, конечно, не к нему, к Максу, но значит, и к нему, медленно-неотвратимо приближается эшафот.
— А вдруг Макс не выдаст — возьмёт все на себя, — как тонущий, чудом вынырнув последний раз, жадно хватает уже ничего не решающую порцию воздуха. Тщетные барахтанья — дно уже поставило на тебя и выиграло, посему не трепыхайся.
— Чтобы Макс да не выдал — не может такого быть. К тому же никто не поверит, что он один и ограбил, и перебил всех на дороге. Да он и шагу не ступил всё это время без нас, как и мы без него.
— Боже, как же она медленно выступает, внимательно вглядывается. К чему этот цирк? Не проще прямо подойти к нашей роте. Растягивает удовольствие? А может, забыла? Опять ты, Михель, про чудеса. Но ведь война и есть сплошная цепь чудес. Разве не чудо их спаянный товарищеский кружок 4М и 4Г, вышедший из стольких передряг. На память, вот уж совсем не ко времени пришёл Фриц — молодчик из соседней роты:
— Я их дурёх с задку пользую, по-собачьи. Доведу, понимаешь, до беспамятства и полного изнеможения. — В этом месте рассказа Фриц обычно хлопал себя по панталонам. — Ну вы сами видели, есть чем. И пока она опамятуется, где она и что с ней, я уже давно прыг — и ищи-свищи. С кого денежки прикажешь требовать — рожи-то моей она и не видела. В рёв, в крик — а мне и горя нет.
— То-то после таких субчиков девки завсегда вперёд плату требовать зачали, — вставлял кто-нибудь.
Фриц громогласно начинал оправдываться, и если его аргументы принимались и дело не доходило до потасовки, следовала долгая, со вкусом, дискуссия о том, что лицом к лицу тоже неплохо — груди захватить в руки и помять хорошенько никогда не повредит. А ещё лучше...
О чём это ты, Михель? Ведь Макса-то его маркитанточка, по его же словам, изучила как нельзя более и, разумеется, опознает даже ночью, на ощупь, что уж говорить о светлом дне.
После того как из предыдущей партии висельников сорвались сразу двое и их поневоле пришлось помиловать, профос приказал прикупить новых крепких верёвок. Значит, и здесь чуда не ожидается.
И что ж она так долго-то, ведь никакого терпежу не хватит вот так вот стоять-поджидать.
Напряжение достигает предела. Кажется, произнеси сейчас кто слово громкое, кашляни, звякни железом, и они бросятся в безрассудный бой — восемь против тысячи, лишь бы не стоять пассивно, словно овцы под ножом, лишь бы что-то ещё успеть...
Макс, которому слова Гюнтера запали в душу, попытался успокоиться. Что ж, набедокурил — отвечай. Макс по-настоящему боялся только одного: как он посмотрит Мадонне в глаза? Ведь сердце же не выдержит, лопнет ещё до того, как она протянет руку и ткнёт в него перстом судьбы. Интересно, изменилось ли что-нибудь, если бы Мадонна стала его законной женой, о чём неоднократно ему намекала, мечтая о будущей жизни, об их детях. А он все отшучивался, да отнекивался.
— Не захотел с бабой обвенчаться, обвенчаешься с петлёй. Не захотел с бабой обвенчаться, обвенчаешься с петлёй, — выстукивало молоточком, словно кузню в башке сладили, и тяжким молотом добавляло: — Продал — пропал. Предал — пропал.
Гюнтер, закрыв глаза, истово молился, стараясь заглушить муки совести. Как всегда в минуты роковые, его разум обгладывал червячок сомнений: не лучше ли было остаться монахом и словом, а не клинком поддерживать императора. Хотя где там его монастырь? Груда развалин, прибежище сов и летучих мышей, лишь изредка тревожимых диггерами — охотниками до поповских кладов. Гюнтер дал клятву, что если чудо всё ж таки произойдёт, бросить мушкет и шпагу и направить стопы свои прямо в монастырь. Есть же ещё цветущие обители, не тревожимые злобой еретиков: в фамильных землях императора, Италии, Франции, наконец. А есть ведь у него, задумка тайная, от которой дух захватывает. Уйти в пустыню[76], стать отшельником и из чащобы звероопасной начать новый поход за обновление и расцвет матери нашей — Святой католической церкви, осаждаемой со всех сторон врагами могучими — еретиками да неверными. Повторить путь и превзойти святых Бенедикта Нурсийского, Франциска Ассизкого или Игнация Лойолу[77]. Превзойти!
Окстись, малый, — эка тебя занесло. Смерть ведь тебе предстоит, да не мученическая, а самая что ни на есть позорная — по делам и мука. А все почему? Потому, что десятки раз нарушал ты данные подобные обеты — уйти, уйти, бросив все, не лить больше крови. Потому, что всегда на пути твоего религиозного подвижничества вставала здравая мыслишка о том, что в эти окаянные дни один вооружённый защитник церкви и наихристианнейшего императора нужней, чем дюжина болтунов в рясах, что церковь потому и выстояла во всех невзгодах, что была и есть воинствующая, что всегда есть время слова, но есть время и меча, когда не слышат и не слушают ничьих увещеваний. И твой монашеский, твой рыцарский орден — вот эти семеро не верящих ни в Бога, ни в Дьявола, смердящих телом и душой, нарушавших, нарушающих и, если останутся в живых, будущих нарушать впредь все десять заповедей подонков. И то, что ты не дал им уйти к еретикам, не дал усилиться силам Антихристовым — в этом твоя высшая заслуга, твой Божий промысел. Раз не смог удержать их от действий неправых и, более того, сам активно приложил к этому длань свою, за то и будет тебе сегодня и Голгофа, и осина позорная в лице едином.
Ганс также торопливо шлёпал губами, но не слова чистой молитвы спихивал распухший искусанный язык с пяти с половиной футов высоты нескладного Гансова тела. То были самые грязные проклятья. Адресованы прежде всего тем, до чьей плоти Ганс уже никогда не доберётся, чьими криками уже никогда не возбудится, а также тем, кто завтра, через день, неделю, месяц — далее Ганс не заглядывал, будет врываться в помертвевшие от безысходности селения, сшибать двери с петель и добираться до пухлых девок, их мелких, легкорасчленяемых по суставчикам выродков, беспомощных, уже и позабывших толком, как кричать от боли, стариков. Кто-то другой, но не Ганс! Потому что Ганс будет болтаться в петле наглядным примером того, кого стоит, а кого не стоит отправлять к праотцам.
Неуёмный Ганс, когда не случалось долго кого на расправу, начинал мучить себя: прокусывал язык, грыз пальцы, резал руки, царапал тело ногтями до крови, сжимал в кулаке раскалённый уголёк из костра так, что остальным нередко силой приходилось прерывать эти приступы членовредительства. Ганс познавал боль, и даже сейчас, кроме всего прочего, его разбирал интерес: как оно будет, когда его начнут вешать, что это за ощущение, с чем его можно сравнить, что это за наслаждение собственной смертью, единственное, пожалуй, из тех, что он ещё не познал. Возможно, их не сразу легко и быстро вздёрнут, а предварительно подвергнут пытке, дабы выведать какие-либо сведения. И тело Ганса заранее сжималось в сладкой истоме, в то время как язык продолжал сыпать проклятья на головы будущих мучителей и замученных, осмелившихся убивать и умирать без него, Ганса.
Ганс в жизни своей не прочёл ни единой книги, даже не заглядывал в них никогда. Да и когда было читать, да и кому бы в голову взбрело обучать грамоте подмастерье на скотобойне, так и не ставшего мясником-мастером. Хозяина Ганса поймали за руку на торговле человечиной, которую он в течение определённого времени небезуспешно выдавал за говядину, и Ганс подался в солдаты. Теперь человечина стала основным его товаром, и тем паче ему стало не до книг. Единожды, правда, его, на время заинтересовал Гюнтер, сообщив, что у Святейшей инквизиции есть специальные фолианты, посвящённые искусству пытки. Святым отцам нелегко — ведь они сражаются не с людьми, но с дьяволом, выбравшим то или иное тело местом своего обитания, — тут уж не до жалости. Пару дней Ганс просыпался с мыслью достать такую книгу, обязательно с гравюрами, но, расспросив Гюнтера поподробней, пришёл к выводу, что как практик, он на голову выше борцов с ересями. После этого он ещё больше стал презирать книги и грамотеев. Пренебрежение его дошло до того, что одного оказавшегося в его руках, уж не помнит где, книжного червя, он отпустил живым — небывалый случай! Только обрезал аккуратненько пальцы на руках, да выколол глаза. И тем не менее если бы сейчас Гансу прочли строчки: «И сколько весит этот зад, узнает скоро шея[78]», он был бы поражён созвучностью со своими мыслями и, может быть, умер с большей почтительностью к людям грамотным.
Кроме того, где-то в самой глубине души, Ганс, коего все держали за полусумасшедшего глупца, лелеял ещё одну мыслишку:
— Профос и людишки его обленились сверх всякой меры. Да и то сказать, работы невпроворот. И когда у них очередная запарка, бывает, выкрикивают желающих пособить. Так вот, не успеет профос и рта раскрыть — я тут как тут. Тогда и глянем, кто глупей, кто умней. Неважно, что ты, Гюнтер, наизусть псалмы шпаришь, ты, Макс, глазастее, ты, Георг, старше, а ты, Михель, горазд приказы отдавать. Главное — кто кого переживёт, кто кому петельку на шею набросит, да чурбачок из-под ног выкатит. Я-то вас ласково вознесу: раз — и вы уже в аду. И на одёжку вашу не позарюсь... Возможно. Разве что Мельхиоровы башмаки. Если по ноге придутся. Уж очень они славные.
Ганс усмехнулся, неожиданно для всех. Этак ты домечтаешься до «Зелёной лягушки»[79], приятель. И туда будут приходить молоденькие девочки и пить вино, а потом оставаться наедине с тобой в подвале. Ты, она и острейший нож для разделки мясных туш. Ганс даже слюну пустил от удовольствия.
Но всё это, если нас выдадут, если профосова шайка с глубокого похмелья, если из своих никто не предложит услуги вперёд тебя. Хоть беги из строя сломя голову к профосу да докладывай обо всём без утайки.
Старый Георг, после того, как схлынуло первое потрясение, вызванное известием, что Максова подружка жива и спасения не предвидится, начал откровенно клевать носом. Это ведь молодым только голову до кулака донести, а его в последнее время порядком измотала старческая бессонница.
Ошарашил вот её бурдючком с сонным вином и только собрался разом расквитаться со всеми липкими бесконечными кошмарно-бессонными ночами — не дали. Распроклятая солдатчина: ни пожрать, ни поспать толком.
Мало нужды, ещё и убиенная графиня проходу не даёт. Чуть смежишь веки — тут как тут, зазывает проклятая, сулит всякое такое, а сама в кровище с головы до ног, да и гнить начала, как любой кусок мяса. Но ведь он же, Георг, к ней и не прикасался. Вон лбы, что в неё кинжалы пихали, — такого храпака выдают, что призраки и вурдалаки и на пушечный выстрел опасаются к ним подойти. Непонятное что-то творится и на том, и на этом свете. Ведь не пристаёт же к нему тот здоровяк-кирасир, которому Георг влепил пулю в бок на той же полянке. Аккурат в щель между передней и задней половинкой кирасы, ажно сам поразился. Лежит себе покойно там, где уронили, а старая карга совсем взбеленилась. Явно тот вояка, не смотри, что верхом, живым был, и человек уважительный, и товарищ добрый. А графиня и по жизни, верно, была такая же стервозная. Крестьяне её явно наплакались горючими слезами.
Можно, разумеется, службу заказать за упокой души, да где денег взять, да и подозрительно это будет выглядеть. Поп у них ненадёжный, всё более с офицерами якшается да гулеванит. Донесёт, как пить дать, абы просто кому сболтнёт по пьяному делу.
А вообще что ни творится в мире подлунном — оно к лучшему. Ведь ежели по совести судить, подзадержался ты, Георг, на этом свете основательно. Пора к семье, заждались уж тебя горемычного, все глаза проглядели. Вот только как бы исхитриться — попасть в обитель душ безгрешных. Геенна ведь огненная по тебе истосковалась, хоть и уверяет Гюнтер, что наше дело верное и Господь на нашей стороне. Ему-то, краснобаю, все давно и безоговорочно ясно, а вот Георга мутит. Это что же: все их грабежи, смертоубийства и прочие «подвиги», когда сперва режут, а потом начинают интересоваться верой, — все богоугодные делишки?
Сумрачно, Георг, тебе будет являться пред всевидящие вопрошающие очи. Хотя и пора, давно пора.
Вон сколько молодых сгорело мотыльками на огромной свече Войны. А тебе хоть бы хны. И команду ты себе удачливую подобрал. Некоторые из резвых, Михель там, Макс, Ганс опять же, паршивец, посмеиваются за глаза, а то и в лицо прямо выговаривают, что помоложе бы им компаньона, пошустрее. Георг привык к этим подначкам. Время от времени в любой порядочной компании случаются недоразумения, вспыхивают ссоры, плетутся интриги. Разве ж не костерили они порой всемером того же Макса за излишние прыткость и легкомыслие. Вот же свеженький пример — убрали, понимаешь, свидетеля на пару с лопоухим пьянчужкой Гийомом. Перепадало и Гюнтеру за его учёность и гордыню, и Михелю за стремление везде и всегда командовать, всех подминая под себя. А уж про Ганса-то, живодёра, и говорить нечего.
Порода людская неизменна. В мирное время враждуют десятилетиями из-за пустячной межи. Без драки, а то и смертоубийства не обходится ни одна ярмарка, да и любое другое скопище народу. В кабаках, само собой, вино и девки действуют, ровно огонь на порох — то там, то здесь вспыхивают ссоры, драки, поножовщина. А в семьях? Или муж лупцует дражайшую половину почём зря, что чаще, либо здоровая бабища отыгрывается за весь свой род на каком-нибудь хиляке, что всё ж таки случается пореже. Либо родители воспитывают деток всем, чем под руку попадётся, либо возмужавшие отпрыски сживают своих стариков со света, резонно полагая, что хватит, покуражились, пора и честь знать.
Единственное, несущественное отличие войны: у солдат поболе средств разобраться со своими обидчиками. Вот года три назад, подгулявшие канониры шарахнули из полукартауна[80] двенадцатифунтовым по кабаку, где их обсчитали, а потом и вытолкали взашей.
Дрались частенько и за работу. Сам Георг из Нижней Саксонии родом. Испанские Нидерланды, а затем и республика Генеральные Штаты под боком. Те же ланды, те же пустоши, но насколько богаче, сытней и привольней живут тамошние крестьяне. Георг, как и многие, не мог ни задаться вопросом: почему так? Он особо не завидовал голландцам и не очень-то их ненавидел. Он вообще тогда был добрее — нижнесаксонский крестьянин-отходник Георг. Может, потому, что немного больше задумывался над тем, что происходит вокруг.
Наверное, не зря нидерландские фермеры и бюргеры столь долго и упорно боролись за свою свободу, за право самим распоряжаться заработанными деньгами. И уже никого не удивляло, что горстка сугубо мирных торгашей и сукноделов швырнула перчатку в рыло самой гордой и воинственной империи христианского мира, да это рыло ещё и размололо в кровь. И хотя славящиеся кроме своей гордыни ещё и ослиным упрямством испанцы снова и снова рвались в бой, даже слепому стало ясно: союзу Семи[81] быть, процветать и никогда уже не называться Испанскими Нидерландами. Потому и зажили по-людски, что не стало над ними ни жадных маркграфов, ни хищных курфюрстов, ни алчных епископов[82]. Потому-то каждую весну тысячи кнехтов[83] из Северной Германии привычно топали на заработки к соседям. Их было так много, что нидерландские фермеры-работодатели, кочевряжась, нередко стравливали артели приходящих, руководствуясь дедовскими заветами: «Кто хорошо машет кулаками, тот и трудиться будет на славу».
Какое-никакое, а развлечение в их затерянных в ландах фольварках.
А пришедшие, злые, отощавшие за зиму, и сами всегда были не прочь вздуть друг дружку. Георг как-то попытался действовать на свой страх и риск. Ещё хуже! Полная беззащитность. Заработок не проблема — работа в поле привычна, кормёжка, как правило, очень даже прилична. Надо только вот свои честные гроши домой донесть. Стервятники всех мастей от профессиональных нищих и отставных солдат до благородных рыцарей и всевозможной монашеской братии густо облепляли к осени дороги, по которым сезонники возвращались к родным очагам. Пуская в дело льстивое слово и дубину, краплёные карты и меч, они ровно пиявки присасывались и к без того не толстым кошелькам отходников. Поневоле оценишь преимущество артели. Даже если шайка какого-нибудь фона, у которого цветистая фамилия — единственный капитал, начнёт резать передних — задние могут уцелеть, рассыпавшись по придорожным лугам и лесам.
Вскоре артели стали вооружаться так, что нередко жители встречных деревень спешили укрыться, полагая, что на них наступает организованный отряд разбойников.
Мир буквально сочился насилием,ровно нерадиво слепленная плотина, что даёт обильную «слезу», и каждая такая «слезинка» может стать роковой, пустив сперва размывающую струйку, затем ручеёк, затем неудержимый поток. Мир распирало от злобы, зависти, нетерпимости, как брошенный на солнцепёке труп начинают разносить дурные газы, продукты разложения. Мир кубарем катился с горки в пучину Войны, но многие ли тогда понимали это? В деревнях вот всеми правдами и неправдами выживали иноверцев, заставляя порой людей бросать нажитое поколениями. И рабочие артели сейчас набираются по религиозному принципу. Первый вопрос, куда бы ты ни пришёл: порог какого храма переступаешь, на каком языке слушаешь проповеди? Драки артельные стали более жёсткими, с увечьями, а то и смертоубийствами. Причём опять же полосуются больше из-за «кто как молится», а не «кому на кого спину гнуть». Голландские прижимистые хитрованы подливали масло в огонь, извлекая доход из религиозной чересполосицы. То иноверцам платят меньше, то, наоборот, ссылаясь на родство душ, напирают на то, что «уж свои-то не станут обдирать бедных хозяев как липку».
Георг начинал бояться, как только перешагивал родной порог. Боялся заболеть, получить увечье, потерять деньги, быть ограбленным или убитым, не найти работу, продешевить при найме. Да мало ли что. Мириады опасностей поджидали за каждым поворотом неоднократно хоженой, такой известной и каждый раз по-новому узнаваемой дороги. Осколки того непонятного древнего страха до сих пор сидят в нём. Дорога сама по себе представляла источник страшного беспокойства, тупой ноющей боли. Нанявшись на работу, Георг на короткое время успокаивался, но почти сразу с тоской начинал отсчитывать дни, когда ему опять придётся ступить на дорогу. И так раз за разом. С деньгами он боялся быть ограбленным или обманутым, без денег дрожал, что, не найдя чем поживиться, его просто убьют. Деваться-то некуда. Надел маленький, земля скверная, подати огромны. Ртов много, помощников нет. Старший сын ушёл на заработки да запропал. Георг всё ж таки надеялся, что нашёл его Иоганн работёнку неплохую, постоянную, а то и охмурил подвернувшуюся мясистую вдовушку да живёт припеваючи, имея каждое утро вдоволь хлеба с маслом. Любой нормальный родитель желает детям лучшей жизни. О том, что Иоганн, скорее всего, догнивает в придорожной топи с проломленным черепом, Георг даже и не думал. И второй помощник, Рудольф, не оправдал надежд отца — сгорел в одночасье, простыв осенью в поле. Соседи, правда, призрачно намекали, что дело нечисто, не обошлось без порчи, и изъявляли желание помочь разобраться, но Георг не дал хода этому делу. Вернувшись в следующем после смерти сына году из Нидерландов, Георг узнал, что женщину, давно подозреваемую в связи с Сатаной, настигла-таки кара Божья. Причём обошлось без святейшей инквизиции. Всем встречным-поперечным говорили, что в дом колдуньи попала молния, спалив в одночасье. Георгу, как своему, проговорились за кружкой, что роль небесного огня выполнили охапки соломы и вязанки хвороста да пара факелов. Мужики ещё и заставили Георга выставить им пива, уверяя, что мстили и за Рудольфа.
Одну дочь удалось выпихнуть замуж в соседнюю деревню за такого же горемыку-отходника. Концы с концами сводят, а чтобы помочь родителям — об этом никто и не заикается. Опять же свои дети у них пошли.
Другая дочь так и не обрела своей половины. В том мало её вины: парни то в батраках, то в солдатах, там же, на стороне, и девок навострились находить по вкусу. Перезрелая злючка, у которой каждый прошедший день подъедал кусочек надежды как-то обустроиться. А жизнь-то идёт. Невостребованная. Невозворачиваемая. И начала его Грета заявляться в родительский домишко заполночь, навеселе. Многие замужние соседки стали как-то холодно раскланиваться с Георгом, а в глаза их мужей словно масла изрядно плеснули. Того и гляди утром обнаружишь свои ворота в смоле. Вот срамота-то будет.
Одна надежда — трое младшеньких. «Поскрёбыши». Тихие близнята — мальчик и девочка — и неугомонный сорванец годом помладше. Так и стоят русоголовые перед глазами. Сколько бы сейчас им было, если бы...
Подточенная плотина рухнула, и бездушная стихия с рёвом устремилась на взлелеянное и ухоженное трудом поколений... Не в силах сдержать и остановить более процесс разложения, гниющая плоть кадавра с треском разошлась, выпуская болезненный миазм смерти гулять по белу свету.
Война войной, а есть-пить желательно каждый день, посему Георг опять ступил на знакомую дорогу, ведущую вниз[84]. Успокаивало, что война идёт где-то на юге, в фамильных доменах императора, которые в одночасье перестали таковыми являться.
Но война, подземным торфяным пожаром упорно пожирая пространство, продвигалась от своей колыбели. Вытесненные из Пфальца голодные оборванцы Мансфельда, делая буквально-таки заячьи прыжки и петли, пытались прорваться на лютеранский север империи, а Тилли[85] плотно вцепился им в холку и гнал, не давая огрызнуться или хотя бы дух перевести.
В этой бешеной голодной гонке, теряя сотни отставших, больных и умерших, обе армии вместе с тяготящим снаряжением отшвырнули и те святые принципы, которые якобы заставили их расхватать оружие и загнать Европу в кровавое болото. И когда орды Мансфельда прорвались всё ж таки на столь желанный север, они этого словно и не заметили. Две гигантские волны, вернее, два всепожирающих смерча затеяли причудливую смертельную пляску, подбираясь всё ближе и ближе к родным местам Георга. В своих, на первый взгляд абсолютно бессмысленных метаниях они напрочь игнорировали все границы и нейтралитета, подчиняя свои амбиции лишь принципу животной силы и страха. Что им уютный опрятный домишко Георга со всеми его обитателями? Получасовая забава для горстки негодяев. Деревушка Георга? Дневная лёжка разбитой роты: жадно вобрать чужие жизни, чтобы продлить свои. Что им эта страна? Всего лишь операционная база. Главная стратегическая задача — опустошение. Не оставить противнику ни куска хлеба для пропитания, ни жилья для ночлега и обогрева, ни человека, у которого можно вымучить потаённый припас, которым можно усилить свои ряды.
Георг, как назло, застрял в тот раз в Нидерландах. Фермеры, понимая, что в данных обстоятельствах дармовщине приходит конец, всеми правдами и неправдами старались задержать пришлых работников, то суля златые горы, то пугая адовыми муками по возвращении в родные края, то попросту не отдавая заработанного. Назойливым мушиным роем закружили вербовщики, предлагая вступить в единственную армию, где платят по часам[86].
Сердце Георга болезненно сжималось от страха, от тревожных весточек с родины. Дорога стала страшно-враждебной, как никогда ранее, ибо заканчивалась рукотворным адским жерлом. Но он муж и отец. Поэтому, как бы ни трусил, едва последняя монетка аккуратно заложена в кошелёк, кошелёк надёжно укрыт в одежде, дорожная сумка готова, отвальная чаша, да не одна, осушена для храбрости — Георг немедля выступил в путь.
Никогда он ещё так не спешил, и никогда дорога не была столь зловеще пустынной. Война убивает и дороги, когда некому становится по ним ходить или когда уцелевшие люди предпочитают торной дороге тайную тропу. Тогда дорога умирает, зарастая сорной травой, ровно неухоженная могила.
А потом вдруг дорога наполнилась скрипом в спешке мазанных колёс, мычанием и храпом донельзя измотанных животных, испуганным детским плачем. Шли люди, пытающиеся сменять родину на жизнь. Вот только немногим это удалось. Невидимое тавро Войны уже заклеймило каждого из них. Это уже было её стадо, её убойный скот, направляемый опытной безжалостной рукой. И это была агония дороги, как неизлечимый больной перед мраком неизбежности ощущает вдруг улучшение и прилив сил. Практически никто не шёл по пути с Георгом, многие встречные разглядывали его с испугом, как вражеского шпиона или опасного сумасшедшего. С началом бесконечного людского потока Георг внимательно вглядывался в лица беженцев — опасался пропустить своих. Потом плюнул — слишком уж много звеньев составляли живую цепь горя. Осознал вдруг, что не уйдут они никуда, останутся на месте. Не решатся бросить пусть маленький, но свой дом, бедняцкое, но своё хозяйство. Его станут дожидаться, несмотря ни на что, хозяина, принимающего важнейшие решения. А решение покинуть, бросив все, являлось, с какой стороны ни глянь, поворотным в судьбе.
Георг шагал, почти не давая передышки избитым ногам и воспалённым глазам. Дорога, словно заправский карманник, тащила и тащила у него секунды, минуты, часы. Георг шёл как во сне, почти не воспринимая окружающее, едва успевая уворачиваться от встречных повозок, явно ускоривших темп движения. Наконец тело не вынесло напряжения, заданного лихорадочно пульсирующим мозгом. Ноги отказались более выполнять простую и ясную команду — вперёд! Они понесли Георга куда-то вбок, как-то ещё нашли укромное и уютное место — и полный провал в десятичасовой глубокий, как смерть, сон.
До конца дней своих Георг проклинал себя и уверял, что это случилось именно во время его беспробудного сна. Слабые доводы рассудка, что ничем он, успей тогда, безоружный и беззащитный, пособить бы не смог, став ещё одной жертвой, безоговорочно отметались. Если бы он был рядом, уж что-нибудь да придумал, вывернулся, откупился своими деньгами. Жизнью, в конце концов.
Однако его не было, когда длиннющая лапа Войны дотянулась до родного очага, мягко торкнулась в дверь, гнилостным нутром учуяв чистую добычу, задубасила сильней и уверенней. Лопнули ставни, вылетели двери, рухнули стены, осела крыша, погребая глупых людишек, наивно полагавших отсидеться и спастись.
Окончательно обезумевшие от страха и голода ландскнехты Мансфельда после остановки накоротке побежали дальше, а ландскнехты Тилли ещё не подоспели. Вот в щель между двумя армиями, как зёрнышко между мельничными жерновами, и втиснулся Георг. После того как отоспавшись, вопреки своей воле, вновь пустился наперегонки с Войной, дорога совершенно опустела. И хотя все эти люди, нещадно нахлёстывающие заморённых кляч, тянущие, с руганью, упрямых мулов, мочалящие увесистые ослопы о бока медлительных волов, шли в прямо противоположную сторону, их отсутствие резануло неожиданно по сердцу так, что Георг, несмотря на всю торопливость, вынужден был сесть прямо на дороге, благо никому не мешал, и немного отдышаться. Исчезла последняя прослойка между ним и Войной — никогошеньки.
Пара глотков из фляжки взбодрили как обычно. В путь, в путь! С внезапным необъяснимым и полным исчезновением людей его надежда, что все обойдётся благополучно, начала таять, словно струйка дыма, угасающего под холодным дождём костерка. Властно вышибая надежду, её место в душе всё более по-хозяйски прочно и основательно занимал страх. Тёмный, тягучий, беспросветный. Настроения никак не добавляли трупы по обочинам — пока ещё загнанных животных, первые пепелища — пока ещё устроенные самими жителями, дабы лишить врага крова.
Деревушка Георга была, пожалуй, первой, или, смотря откуда идти, последней из опустошённых в те дни. Что бы вражеской походной боковой заставе свернуть на один из просёлков, чтобы на всякий случай быть поближе к основному ядру армии, что бы не дойти полмили, что бы полениться, не подняться на холм, с которого так прекрасно обозревать окрестности. И просочилась бы деревушка, с которой проходящему войску ни толку, ни проку, меж загребущими лапами очередной грабь-армии, осталась целёхонькой. Нет же, изверги, не свернули, дошли, поднялись.
Как у него не лопнуло сердце, пока он шёл по тому, что совсем недавно называлось деревенской улицей, — уму непостижимо. И ведь до самого же конца, минуя остовы и пепелища соседских домов, он упорно продолжал на что-то надеяться. До самого последнего шага. Даже смешно. Сейчас.
А когда дошёл и убедился, что-то вдруг оборвалось внутри, как перетянутая струна. Надежда, издав последний вздох, окоченела, но вместе с ней исчез куда-то томительный гнёт страха и неизвестности. И осталась одна огромная и безмолвная, как мир, пустота. Георг попросту застыл посреди дороги соляным столпом и стоял, смотря и не видя. Почему-то вдруг сразу решил, что они мертвы, и не стал бегать, искать, суетиться, пытаясь отыскать свидетелей и свидетельства. Просто стоял, не чувствуя даже усталости.
Он немного ошибался. Дочь Грета в этот момент была ещё жива, и даже, что удивительно, вполне довольна своей долей. Но вряд ли Георга порадовала бы весть об этом.
Спокойно, не крича и не царапаясь, пропустив целое капральство, она поднялась, подтянула спущенные чулки, одёрнула завёрнутые юбки, и поняла, что чем-чем, а мужским вниманием она здесь обделена не будет ни в коем разе. А большего ей от жизни ничего и не требовалось. Конечно, вояки обошлись с ней, мягко скажем, грубовато, но так их же никто не представлял друг другу.
Ей не повезло потому, что строгое командование, прекрасно сознавая, как большие обозы и лишние люди тормозят маневрирование любой армии, особенно драпающей без оглядки, издало очередной суровый циркуляр. Отныне и вовеки, на роту разрешалось иметь из женского пола четыре «прачки». Причём и отдавшие приказ, и принявшие его к исполнению, ни на йоту не сомневались в отношении основного занятия этих «прачек». Ей повезло потому, что в ротах плевали с высокой колокольни на этот приказ, как, впрочем, и на все остальные. Ей повезло потому, что одну из ротных «прачек» вот уже третий день трепал приступ нервической горячки[87] и солдаты дискутировали на тему: не стоит ли освободить зазря занимаемую повозку, да подыскать достойную замену.
Ей не повезло. Поднимаясь с земли, сильно помятая и счастливая, Грета не подозревала, что сразу прочно подцепила дурную болезнь из букета, которым страдала половина солдат и поголовно все «прачки». Менее чем за год прогрессирующий недуг, облюбовавший молодое свежее тело, вкупе с прочими «прелестями» кочевой лагерной жизни, сведёт её в могилу.
Георг так и не вспомнил, сколько простоял он, недвижим, в шоке и полной прострации. Возможно, что и не один день. В чувство его привело появление новой армии, как нитка за иголкой следующей за первой. Войска, как ноги, всегда топают парами — то одна впереди, то другая.
Эти люди хотели догнать и побеседовать накоротке с нелюдьми, отнявшими душу Георга. Значит, ему с ними по пути. Позднее Георг уразумел, что людьми не пахло и на той, и на другой стороне, да и сам заделался подобным. А тогда он видел все попроще: надо идти и отомстить, а после этого можно и в могилу. Промелькнула, правда, мысль о том, чтобы покончить со всем разом, но он твёрдо помнил, что самоубийцам вход в небесные врата, в которые скрылось от него его семейство, строго настрого заказан. Со своей стороны лигисты[88], лишившиеся в бестолковой и бесплодной гонке через всю империю более трёх четвертей армии, понимали, что исход дела может решить последняя пика. Так лютеранин в третьем поколении Георг, правда, никогда не отличавшийся ревностью в делах веры, встал под знамёна католиков.
Остаток дня и ночи он пропивал со всеми встречными и поперечными донесённые в никуда денежки. Солдатам казалось, что новобранец выставил «вступительные», на самом деле это были поминки. Походя и, в общем, не желая того, Георг узнал, что не успевшими убежать или спрятаться жителями, мансфельдовцы доверху забили два деревенских колодца. В их болотистой местности всегда ощущалась нехватка здоровой воды. Вот, чтобы лигисты почаще отлучались в кусты и тем поумерили свою прыть в погоне, униаты[89] и израсходовали самый дешёвый на войне «материал».
Утром, морщась от жесточайшего похмелья и кряхтя от непривычной тяжести лат и длиннющей пики, как зелёного новичка его конечно ж засунули в пикинёры. Проклиная болтающуюся промеж ног шпагу, Георг шагал на северо-восток.
в перерывах между ругательствами моля Всевышнего попридержать прытких на ногу и на расправу мансфельдовцев.
В первых стычках Георг, ровно одержимый, пёр вперёд, не ведая страха, чем заслужил авторитет среди товарищей. Затем острота боли пылающим вечерним солнцем канула во вчера, сменившись лунно-рассеянной тупой тоской безвозвратной потери, и Георг стал просто жить, всё более думая о себе, а не о мщении.
Впервые вопрос «что делать» встал, когда под давлением настырного Тилли и прочих обстоятельств Мансфельд распустил своё войско. Немалая толика его соратников пришла к католикам, в одночасье став из заклятых врагов, товарищами, однополчанами. Георг едва не нанялся в отряд, которому поручили выследить и убить самого неистового кондотьера[90], Эрнста фон Мансфельда, но туда требовались помоложе и покрепче. Тут ещё узнал, что мятежный генерал и Лига попросту не сошлись в цене[91], ибо свои услуги незаконный сын известного католического полководца ценил ой как высоко. Не то получил бы Георг в командиры главного убийцу своей семьи. Впрочем, возможно, те, кто швырял детские тельца в жерло колодца, плечом к плечу шагают с ним по нескончаемым дорогам войны, стоят рядом в битвах.
Шли годы. Георг старел, слабел, и вот в последнее время, всплыв из омута обезличенной тупой тоски, его родные всё чаще появляются перед ним и зовут, зовут к себе. И графиня эта неспроста подзуживает. Пора, значит. Вероятно, это произойдёт сегодня, и бессмысленно уже гадать, куда попадёшь после смерти. Просто пришло время. А всё едино боязно. Потому и угрожал сдуру такому же придурку Максу. Умирать надо без злобы в душе. Так, кажется, поучает Гюнтер.
Георг легонько коснулся Макса.
— А, что? Это ты. Ничего, старик, может, ещё и обойдётся. Прорвёмся. Мы ж всё-таки 4М и 4Г, а не шваль какая-то, пороху не нюхавшая, — забормотал Макс, вырываясь из плена своих мыслей. Как ни был расстроен, а свою букву, назвал вперёд. Георг бы несомненно произнёс: 4Г и 4М.
Незадачливый Гийом именно себя держал виновником того, что вскорости должно произойти. Ведь Макс же вывел его тютелька в тютельку и девку выставил, ровно мишень, а вот он, Гийом, не удержался, перебрал некстати и так облажался. Нет ему прощения ни на том, ни на этом свете. Сгубить такую компанию. Лучшую в армии! Гийом очень гордился и дорожил как своей командой, так и участием в ней. Нельзя сказать, что у него совсем не было споров и ссор с остальными, тем не менее его все устраивали. Вот бы ему такую бриганду в Регенсбурге — сейчас бы в золоте купались. В довоенном бытии Гийом был вором широкого профиля. Мог и кошелёк срезать, и в церковном алтаре не гнушался пошуровать. Как и у всякого уважающего своё ремесло лихого человека, в конце пути у Гийома стояло лобное место — ни обойти, ни свернуть. Со сколькими приятелями, славными выпивохами и живорезами, разлучил его эшафот — сейчас и не упомнишь. Зато сколько карманов очистил он под вопли своих подыхающих подельничков! Народ валом валил на публичные расправы, в экстазе забывал обо всём на свете, некоторые ухари даже девок умудрялись портить в толчее, ну а любителям лёгких деньжат — только успевай поворачиваться.
Мысль о том, что если твою руку вдруг придержат в чужом кармане и ты станешь следующим хрипящим на помосте неудачником, не останавливала, а как бы даже подстёгивала. Острее ощущались бренность бытия и сладость кратких мгновений жизни.
А в Воровскую башню[92] угодил, как это всегда бывает, по-глупому, совсем не там, где ожидалось. В преддверии открытой схватки в моду вошли тайные политические убийства. Протестанты втихую резали католиков, и наоборот. А кроме того, под шумок моты списывали долги путём устройства смерти кредиторов, распутницы избавлялись от чересчур дотошных супругов. Уставшие ждать наследники, набитые под завязку капюшонов чужими секретами иезуиты... Да мало ли кому после долгих размышлений или спонтанно, по наитию, озарению, либо как там ещё, вдруг срочно понадобились специфические услуги бретёра[93]. Гийома порой тошнило от показной порядочности, лживого целомудрия, прожжённого благочестия заказчиков. И практически все требовали одного: дело должно выглядеть форменной уголовщиной, и ничем более. Авансировали, правда, щедро. По исполнении заказа могли исчезнуть, но ведь анонимный донос-то придумали не только для того, чтобы невинных порочить.
В том треклятом дельце Гийом и стоял-то всего лишь «на стрёме», успел удрать, пока заводчиков вязали. Залёг в укрывище тайном, только доверенным ведомом. Под утро и выгребли оттуда, плотно перекрыв, без исключения, ходы и выходы. Видно, ночью вырвали палача из объятий Морфея или Бахуса, супруги или любовницы, ну, он спросонья и прожарил хорошенько пятки кому-то из схваченных посвящённых. А Гийом понадеялся, что он только с утра возьмётся за своё «достойное» ремесло, да покуда раскачается: захмелится, огонь воздует, дыбу смажет, топоры да крючья поправит.
Гийома особо-то не допрашивали. Вина доказана, показаний против него уйма, да он и не запирался: выложил начистоту, и про себя, и про дружков, точно так же, как и они про него. Зачем омрачать себе последние денёчки, упрямиться, озлобляя следователей, когда дело коню понятно.
Страшна не сама даже пытка, а её ожидание. Стойкий запах бойни, погреба, сортира. Крупные капли шлёпаются со сводов в унисон долетающим, словно из толщи камня словам. Как ни вслушивайся, ни напрягай уши, если они у тебя ещё сохранились[94], всё едино, эти размеренные, никак не складывающиеся в связные вопросы слоги идут, словно из склепа. В перерывах между вопросами и ответами, скрип гусиного пера и треск свечного фитиля, порой самые громкие звуки, но эта тишина пугает пострашней любого окрика и вопля, ибо в них уже изначально запрятаны твои будущие не столь далёкие мучения. Гийому этот скрип представлялся скрипом колёс позорной телеги, отвозящей приговорённого на лобное место, а треск — треском своей дымящейся шкуры.
Палач в углу солидно потягивает винцо, ожидая своей очереди. Весь его вид словно говорит о случайности и ненужности его нахождения в этом храме боли. Словно топал он в таверну, да вот незадача — промахнулся дверью. Если присмотреться, видно, что он немолод, устал, невесёлые думы витают далеко от обдумывания способа, как ловчее переломать тебе кости. Но никто на него не пялится, словно все здесь играют в игру «его здесь нет», словно неосторожный взгляд может притянуть несчастье. Кажется, что и дознаватель нарочно понижает голос, и писец старается помягче елозить пером по бумаге — только бы не привлечь внимания главного жреца этой юдоли страданий. Зато вовсю резвятся подручные заплечных дел мастера, мельтешат туда-сюда: подсыпают уголь в горн, качают мехи, позвякивают цепями, выкладывают перед тобой инструменты — один ужасней другого.
Наглядная агитация служит мощным побудительным средством развязывания языков, но порой эффект прямо противоположен: при виде этих зверских приспособлений, которые вот-вот начнут кромсать, мять и рвать твою плоть, язык прилипает к гортани, мысли рассыпаются, ровно истлевший костяк, освобождённый от ржавых оков. И чем более страстно стремишься отдалить момент начала знакомства с этими хитроумными орудиями, тем быстрее приближаешь. Причём Гийом, как и все преступники города, прекрасно знал, после каких слов допросчика следует ожидать этого. Постоянное, мучительное ожидание ключевых слов, отнюдь не добавляло красноречия. Как правило, это звучало так:
— Давай-ка, уточним сей момент с нашим другом.
Или:
— Да здесь у тебя путаница полнейшая, приятель. Ещё раз, то же самое, поподробней, с нашей помощью.
С Гийомом вышло иначе. Видно, время поджимало. Ибо не успел он на первом допросе и рта раскрыть, как судейский его и огорошил:
— Знаю, ты нам все выложишь, как на тарелочке, но сначала мы тебе всыплем как следует.
И удалился.
Гийом до сих пор вспоминает с дрожью, что последовало за этими словами. Вроде и били его крепко и до, и после, и ранило в бою, но то был первый случай твоей абсолютной беспомощности и их абсолютной правоты.
Теперь-то Гийом знает, что следователь напрямую нарушил закон, который гласит, что сначала нужно потребовать и выслушать добровольные показания. Лишь в случае запирательства либо дополнительных улик, неопровержимо обличающих во лжи, принимается решение о более действенных методах устрашения при поиске истины. Понял Гийом и то, что дознавателю просто надо было срочно куда-то отлучиться — может, нужда припёрла человека. И вот, чтобы палач не зря жевал свой хлебушко, а обвиняемый был полностью готов к чистосердечной даче показаний, он и отдал такой приказ. Чего время зря переводить, дел много. Больше Гийома в тюрьме практически и не били. Так, по мелочам перепадало.
И завертелось перед ним во всей своей красе колесо[95], на котором вертеться ему в последний день своего земного бытия, покуда не переломают все суставы, покуда не умрёшь от невыносимой боли, или покуда милосердный палач метким ударом не прекратит страданий. Хлопоты Гийома о том, где бы раздобыть хоть немного денег на подкуп палача, дабы не измызался долгонько на потеху зевакам, а скоренько отправил к Плутону[96], оказались прерваны самым счастливым образом. Их государь, тогда ещё не курфюрст, а просто герцог Макс[97], избран был вождём всех католиков империи. А любому вождю надобна сила, да побольше. В поисках этой силы армейские зазывалы не миновали и застенков. За головы еретиков обещали полную амнистию. И на индульгенцию[98] тратиться не надо. Вот благодать-то снизошла внезапно на не самых лучших сынов Баварии. К тому ж армия не тюрьма — улизнуть, то есть дезертировать, не в пример как легче. Гийом, с превеликим удовольствием оттискивая отпечаток большого пальца под текстом контракта, думал только об одном — как легко он надул Костлявую. Душа пела, тело болело. Лишь через полгода затянуло рубцы. Сейчас мельком и не разглядишь. К холоду и дождю, правда, донимают. А так ничего, жить можно.
Убёг бы в конце концов Гийом, пополнив одну из шаек, если бы в один прекрасный момент его не осенило. Ведь находясь в армии, он каким-то боком выступает в двух ипостасях: и как преступник, и как палач. Что до грабителя, то это ощущение для него не ново, привычно. Но ещё грабёж на службе государства дал ему непередаваемое чувство безнаказанности и даже полезности своего бытия. То, за что до войны мигом сволокли бы на эшафот, сейчас не пресекалось, но даже поощрялось и награждалось. Он мог судить, он мог казнить, при этом целиком оставаясь старым Гийомом по кличке «Хватай, что плохо лежит».
Это ли не счастье, это ли не вершина достижимого? А что до боёв и опасности умереть? Так ведь и жизнь порядочного вора не способствует долголетию. И судейским чинушам головорезы иногда устраивают «тёмные». Палачей вот, правда, не трогают — человек при деле. И каком нужном. Все, везде, всегда рискуют своей шкурой. Так что бои — это плата за твоё перерождение. По этой таксе ты, Гийом, здорово задолжал. Вот и явился судебный исполнитель по твою душу...
Не так себя, как ребят жалко. Хорошо хоть виселица, а не колесо.
Думка Маркуса была пряма, как толстая кишка и проста, как дырка в заднице:
— Только бы не обделаться! Пособи, Святая Катерина[99]!
С вина, что ли, поганого, сонного брюхо с утра крутило — спасу нет. Самое скверное — ведь подумают, что со страху напустил в штаны. Он уже и истлеет напрочь, а живые всё будут поминать: вот ведь затесался дристопшонник в наши ряды. Позор-то какой. Маркус предпочёл бы серьёзно заболеть, и чтобы видели, что болезнь, а не глупый страх выворачивает его внутренности.
Маркусу нечего вспоминать и не с кем прощаться. Вся его жизнь — армия и война. Сын солдата, которого убило на следующий день после рождения Маркуса. Сколько таких временных папаш, материных дружков сменилось у него: материализовывались из порохового дыма и в нём же вскорости растворялись.
Жозеф, которого они так и не смогли разыскать под грудами мёртвых тел, но ротный сказал, что точно видел, как его подняли на пики. Лейтенант, сам ставший ротным два часа назад после боя, выразил желание тут же утешить скорбящую вдову. Но недолго мать походила, вернее, поспала, лейтенантшей. Утром он смылся, а днём ещё и его постоянная подруга примчалась — ругаться.
Мартин, сбёгший с пятью гульденами. Мать до последнего вздоха не уставала вспоминать те денежки да проклинать воришку. Особым красноречием эти тирады отличались во время частого безденежья и голода.
Словно кому-то неясно, что эти денежки тогда же и были бы истрачены, но никак не отложены на чёрный день. Такова судьба всех денег, приплывавших в их руки. И это резонно — на войне надо жить только сегодня.
Потому что завтра здесь далеко не для всех. Причём Маркус заметил, что сумма похищенного в материнских устах имела постоянную тенденцию к росту. Изредка его так и подмывало ехидно поинтересоваться:
— И как это Мартин смог упереть такую прорву деньжищ, не надорвавшись? Явно на телеге вывозил.
Корнелиус, который так скверно с ними обходился, что все их молитвы того периода жизни являли страстную просьбу к Господу избавить от этого чудовища. И Всевышний, отложив прочее, внял. Корнелиуса скрутила «лагерная лихорадка», и они бросили его, предварительно обобрав, в каком-то заброшенном овине и ушли под его проклятья и бессильные угрозы. Позже мать и сын обоюдно признались, что испытывали веское желание поднять камень или палку и, вернувшись, расквитаться за кошмарные полгода. Да вот постеснялись друг дружки. Потом ещё долго в страхе вздрагивали: вдруг выкарабкался, выздоровел, нашёл. После кулаков Корнелиуса мать стала осмотрительней, долго не решалась выбрать постоянного сожителя. Но куда одной, да с мальчонкой — нужно плечо...
Появился Ингмар: весёлый, удачливый, смелый. Живи, да радуйся. Только вот не одной матери глянулся сей добрый молодец.
Молодая вертихвостка, шлюшка Катрин, коей едва стукнуло пятнадцать годков, распахнула любвеобильному, как выяснилось впоследствии, Ингмару, свои жаркие объятья. Естественно, старая мать, а ей в это время уже, кажется, стукнуло двадцать пять, не могла конкурировать со свежестью и красой.
Стерва Катрин, по двадцать раз на дню мозолила глаза: то, словно невзначай, начнёт расправлять и разглаживать новую юбку, то перебирать ожерелье — опять же Ингмаров подарок. А уж ночью словно бес какой в девку вселялся. Напрасно мать зарывала голову поглубже в тряпьё: звуки любовных утех проникли бы, пожалуй, и сквозь крепостные стены. Эта ведьма ещё нарочно выбирала местечко поближе.
Бог с ней, с Катрин, у ней совесть явно ещё в материнской утробе стибрили. Её выкрутасы — полбеды, ну, отбила, ну, пользуется, ну, торжествует. И то — юность не вечна. Но ведь и сам Ингмар тут же обретается. Выгадывай, не выгадывай, а столкнёшься то там, то здесь. В другой раз мать затащила бы на себя первого встречного, утром плюнула, да забыла обо всём. А сейчас вот что-то не могла.
Маркус знал уже, что в устах матери и всех её товарок слово «люблю» подобно мелкой разменной монетке — гуляет туда-сюда. Но глядя, как она мается без своего Ингмара и рядом с ним, и непонятно от чего более страдает, Маркус впервые задумался над истинным значением этого слова, кое каждый вечер гуляло вокруг под тысячами повозок, парусиной палаток, от капральской до маршальской, солдатскими, ветром подбитыми, плащами и просто под вечно распахнутым небом. Сызмальства все происходило на глазах у Маркуса, и никогда не составляло какой-то там тайны. Но сейчас он осознал, что «люблю» далеко не всегда тождественно «хорошенько вставить». Осознал и решил не говорить этого непростого слова никому, похоронить вместе с собой.
Сталкиваясь с Маркусом, Ингмар пытался заговорить, разузнать. Чего там выяснять — и так все понятно. Маркус всячески старался увернуться от этих встреч, где-нибудь прошмыгнуть. Однажды, когда Ингмар попытался попридержать мальчугана за шиворот, Маркус, неожиданно даже для самого себя, цапнул его зубами за руку. Тогда Ингмар при встречах стал просто совать ему кусок хлеба, ветчины, а то и мелкую монету. От подарков Маркус, воспитанный по системе «Дают — бери, бьют — беги!», не отказывался.
Отсутствие постоянного мужчины весьма плачевно отражалось на благосостоянии небольшого семейства. Раз, когда было совсем голодно, решился поделиться добычей с матерью. Пока она яростно расправлялась с куском колбасы, Маркус рассказывал, где это ему так подфартило. С младых ногтей он включился в процесс поиска хлеба насущного. Совсем маленьким выпрашивал, затем стал подворовывать — иначе не выжить. Вдруг мать закашлялась, подавившись. Маркус уже сжал кулак — стукнуть хорошенько по спине. Но она, отбежав, сунула два пальца в рот. Потрясённый Маркус наблюдал извержение драгоценной пищи. Вытирая рукавом рот, мать обнаружила, что в руке по-прежнему зажат остаток колбасы. Швырнула его на землю и принялась исступлённо топтать. Затем подскочила к сыну и наградила его звонкой оплеухой так, что искры из глаз посыпались. Впавший в панику Маркус решил было, что она рехнулась, но потом его озарило. Поток ругательств, обрушившийся на его голову, подтвердил догадку. Сразу после удара он предусмотрительно отскочил на почтительное расстояние, так что орудовать кулаками мать уже не могла. Основной смысл забористой ругани заключался в том, чтобы он, выблядок, и думать не смел более принимать какие-либо подачки от этой скотины Ингмара. Сын не долго оставался в долгу, тем более что его душила ярость на собственную глупость: слупил бы втихомолку весь кусок без остатка и сам бы был сыт, и эта дурёха не выступала бы.
— Брал и буду брать! А ты хоть сдохни с голоду, крошки не поднесу. А если ещё хоть раз тронешь, дождусь, пока напьёшься, возьму палку и так отделаю, что никто и даром на тебя не позарится.
Вволю наоравшись на потеху соседям, мать и сын заснули, завернувшись кое-как в единственный плащ. Легли спинами друг к другу — ведь они же в ссоре. Улечься по отдельности им и в голову не пришло — холодно ведь.
Младая Катрин недолго хвасталась шикарным любовником. Ингмар променял её на сдобную Петру, совсем не оправдывающую своего имени[100]. Когда какой-нибудь служивый собирался одарить Петру своим вниманием, он громогласно объявлял, что идёт «выспаться на пуховой перине». Однако и у Петры Ингмар «не залежался». «Пошёл в поход по юбкам» шутили в полку, некоторые ещё прямей и конкретней объясняли, куда он направился.
Враз лишившаяся лоска и бравады, нечёсаная и трясущаяся с похмелья Катрин пришла к матери на третий или четвёртый день своего несчастья. Ингмаровых подарков на ней заметно поубавилось. Зато в руке сжимала увесистый узел, из которого приветливо подмигивало горлышко кожаной фляги, да выглядывала на свет Божий копчёная баранья нога.
— Выпьем, подруга? — с порога предложила Катрин, как ни в чём не бывало.
Мать вкратце, но энергично пояснила, кто теперь у Катрин в подругах, присоветовав в конце топать своей дорожкой и не мельтешить перед глазами у добрых людей.
— Ладно, не желаешь со мной общаться, Бог тебе судья. Хоть парня покорми — вон одни глаза да уши остались. У меня тут каравай, сыр, ещё чего-то наложили. А для нас — водочка. Мы ведь теперь как бы родственницы — с одним мужиком спали, — криво ухмыльнулась Катрин. — Слышала, конечно, о моём горе?
— Конечно, — в голосе матери явственно проскользнули торжествующие нотки.
— Делить-то нам, выходит нечего?
— Вроде так.
— Так, может, как раньше — по стаканчику? Мириться пора.
— Маркус, расстилай плащ, тащи нож, кружки. Глянем, что этой липучке от нас понадобилось.
Женщины молча навалились на выпивку, не чокаясь и почти не закусывая. Маркус, тоже пару раз дёрнув водочки, подсел поближе к провианту. Выпивал он, сколько себя помнил, всем напиткам предпочитал сладкое вино, особенно гипокрас[101], но от водки тоже никогда не отказывался. Особенно хороша зимой, с мороза. Мигом прибрав добрую половину съестного, принесённого Катрин, Маркус ощутил тяжесть и блаженное томление в членах и решил, что самое время вздремнуть на солнышке.
Третья порция оживила Катрин, ей страшно захотелось выговориться. И у матери заблестели глаза, она то и дело перебивала вновь обретённую подругу. Посему Маркус убрался подальше — чтобы не тревожили глупым бабским трёпом.
Проснулся он от сильного толчка в бок. Продрав глаза, обнаружил, что мать и Катрин катались по траве, вцепившись друг дружке в волосы. Маркус поискал глазами нож, обнаружив, сунул за пазуху. Больше оружия поблизости не было, значит, можно надеяться, что обойдётся без смертоубийства. Сделал пару добрых глотков обжигающей жидкости, плотно загнал пробку, чтобы не разлили сгоряча, и перевернулся на другой бок.
Вторично пробудился от холода. Вечерело. Мать и Катрин сидели, тесно обнявшись, и выли в два голоса. От закуски — корки, да кости, тут же валялась пустая фляга.
— Чем ныть, разбежались бы лучше за жратвой, да винца прикупили тож, — недовольно пробурчал он, приглаживая пятерней взлохмаченные со сна волосы.
Предложение пришлось повторить дважды, прежде чем на него обратили внимание. В конце концов он бы и сам прогулялся до съестной лавочки — дали б на что купить.
— Заткнись щенок, — отреагировала мать. — Чудовище ненасытное.
Зато Катрин поддержала предложение Маркуса:
— Верно, малец! Требуется добавить. Пить буду, пока все его подношения не спущу. Пусть лучше голая останусь. Да, голая! Но ни одной его тряпки не оставлю. И юбка эта дурацкая. Говорила ж — не покупай!
Она попыталась разорвать на себе юбку, но не удержалась и покатилась под горку. Лёжа на спине, продолжала орать в небо:
— Ненавижу его! И семя его поганое изведу!
После ленивой перебранки они уковыляли, наказав Маркусу сидеть и дожидаться и, наобещав гору вкусностей и сладостей.
Только отпустив, Маркус сообразил, что совершил ошибку. Надо было с ними топать. Ведь ясно, как Божий день, что они начнут возлияния, едва завладеют заветной посудиной и, совсем о нём забудут. Маркус сел, прислонившись спиной к пеньку, и твёрдо решил дожидаться.
В очередной раз пробудившись от холода, он обнаружил, что уже ночь, правда, светлая из-за полнолуния. Дружный храп вывел его на спящих в обнимку мать и Катрин. Весь их безмятежный вид говорил о не зря прожитом дне: похмелились, подрались, напились, выплакались. Маркус усмехнулся: как ещё обошлось без мужиков. Он не ведал, что обе торжественно поклялись держаться от злодеев-мужчин подальше, а также любой ценой вернуть Ингмара: Катрин — для матери, мать, соответственно, для Катрин. Естественно, встав утром, обе и не заикнулись о своих обетах, потому что начисто обо всём забыли. Маркус терпеливо истоптал траву вокруг спящих. Разумеется, ни жратвы, ни выпивки. Так и знал! С досады наградил Катрин пинком в бок — мертвецки пьяная, она на мгновение оборвала храп, чтобы тут же продолжить с удвоенной силой. Тогда, движимый каким-то непонятным чувством, не то озорством, не то ещё чем, Маркус, с помощью подвернувшегося под руку прутика, осторожно закатал юбки Катрин и, присев на корточки, принялся бесстыдно-внимательно разглядывать облитые лунным светом прелести непотребной девки, размышляя, и что же нашёл в этом особенного Ингмар? Все как у матери. Зачем, спрашивается, менять шило на мыло? Но ведь и у Петры точно то же самое, разве размерами поболе. В чём же дело? Опять эта непонятная «любовь», утащившая у него единственного человека, к которому он привязался всей душой. Ещё непонятно, кто больше тоскует по Ингмару, мать или сын.
Катрин беспокойно заёрзала. То ли иззябла, то ли стало донимать комарье. Маркус торопливо одёрнул юбки и, немного поглазев на луну, решительно втиснулся в серёдку между Катрин и матерью. Согреваемый с двух сторон, он уж точно выспится как у Христа за пазухой.
Жеребчик Ингмар недолго погарцевал. Зарезали на пирушке менее удачливые по женской линии завистливые товарищи.
Катрин действительно все с себя пропила и истекла кровью после визита к знахарке, неудачно поковырявшейся крючком.
Прочие «отцы» как-то не отложились в памяти, из-за полной схожести друг с другом и общей серости. К тому времени Маркус, посчитав себя взрослым, всё больше отдалялся от матери, перестал интересоваться её делами. Встречались, выпивали, разбегались. И речи быть не могло, чтобы заставить его называть очередного пьяного хмыря, тискающего подурневшую мать, «папой».
Об истинном отце Маркуса мать вспоминала после побоев очередного молодчика. Схаркивая кровь, заводила надоевшую волынку:
— Вот был бы жив наш Жан-красавчик.
Потом мечтала, как хорошо бы было, если бы армия вновь прошла по тем заветным местам: показать сыну место гибели отца, а если совсем повезёт, и яму ту найти, куда их скидали скопом после боя — и своих, и чужих.
Сгинула мать глупо. На войне, в лагере, в походе довольно непросто умереть героически-красиво. Даже в бою.
В целом Война есть великая универсальная ярмарка, где на продажу выставлено всё, что душе угодно. Включая и саму душу, и саму Войну. По амбиции и по амуниции можно заказать резню на выбор: на сокрушение или на измор, династический конфликт или всеевропейский погром. Гибкая система оплаты: натурой, в кредит, в счёт будущей добычи. Не прогоришь, если будешь помнить старое как мир: «Война кормит войну». Здесь же широкий набор инструментария: десяток-другой тысяч головорезов во главе с в меру жадным и продажным фельдмаршалом[102]. Предлагаемое мясо, правда, исключительно одного вида, зато в любых количествах. На продажу выставлены и более тонкие субстанции.
Всегда в продаже, например, «мёртвые души».
Оказался ли полк на острие вражеского удара и был практически полностью повыбит, голод ли протянул меж солдатами свою тощую шею, чума ли чёрной змеёй вползла в лагерные ворота — в бумагах полковника число подчинённых всегда близко к штатному. Такой же ажур в ротных списках. Бумажная армия не болеющих, не голодающих бессмертных топает параллельно. Бесплотные призраки, разумеется, не атакуют и не обороняются, не просят хлеба и не бунтуют. А денежки получают. Ибо жалование казна отпускает именно по этим капитанским и полковничьим рапортичкам. Получив жалование на двести человек, капитан честно выдаёт положенное семидесяти-восьмидесяти имеющимся налицо, а остаток столь же бестрепетно ссыпает в собственный карман. Подобную же операцию проводит и полковник, только остаток у него как минимум на порядок выше. Кавалерийские начальники имеют дополнительный доход на фураже, потому всегда и разодеты пышнее, и деньгами сорят не в пример пехтуре. Проскакивают, разумеется, «белые вороны», тянущие лямку за одно офицерское жалование, но таких чем дольше идёт война, тем меньше. Погибают они, почему-то чаще и раньше. Большинство генералов и офицеров либо кутит напропалую, живя сегодняшним, либо копит на безбедную старость в отставке, думая о завтра. И для первого, и для второго необходимы золотые кругляшки — и побольше. Не будет же офицер, роняя честь, шарить по карманам убитых.
И всё бы распрекрасно, но там, где денежки, там и свары из-за них. Каждый мечтает отхватить кус пожирнее. Затем, если в армии по спискам пятнадцать тысяч, то и задачу дают на пятнадцать, а не на пять, как на самом деле, а это чревато конфузней. Наконец работодатель и заказчик, а у любого из них вечно туго с деньгами, не может не реагировать на наглый обман.
Поэтому время от времени, не столь часто, как хотелось бы верховному командованию, и слишком уж часто по мнению вороватых командиров, устраивались смотры, где список сличался с наличностью.
В такие дни полковники и капитаны становились ну чрезвычайно любезны со слугами, торговцами, проститутками, ребятнёй и прочим лагерным, по мнению командиров, отребьем, для которого во все иные времена у них только окрик и хлыст. Наблюдалась прямо-таки гонка за такими: их улещали, угощали, подкупали. Всё для того только, чтобы приодеть в солдатское, дать оружие и поставить в строй, показав, что вот они, родимые защитнички веры и престола, все на месте, как мы и отписывали, можете убедиться.
И мать, и Маркус, и Катрин, да и весь их шумный табор, не упускал возможности подзаработать. Однако прибыток сей был небезобидным и небезопасным тож. Неподкупленные заранее ревизоры, обычно лишь отечески журили пойманных с поличным офицеров, зато с «липовыми» солдатиками обращались беспощадно: секли принародно, клеймили, резали уши, могли и повесить.
Вот с таким непримиримым фанатиком, чуть ли не из самой Вены[103], и пришлось иметь дело матери Маркуса.
В тот год все начальнички, что уцелели, словно с цепи посрывались, выжигая неповиновение и крамолу. И то сказать, недавно столь безоблачный католический небосклон заволокло свинцовыми протестантскими тучами, и всё ещё вчера несокрушимое имперское здание заходило ходуном. Беда не в последнюю очередь утвердилась потому, что очень многие чиновники и генералы блюли государственные интересы в редкие перерывы между наполнением своих карманов. Вон у герцога Савелли[104] в Померании за зиму, протянули ноги две трети вояк, а денежки ещё полгода исправно требовали на все десять тысяч. Поэтому на Дунае были твёрдо уверены, что Север на замке, пока Густав-Адольф, всего лишь с тринадцатью тысячами солдат так двинул бронированным кулаком, что вся империя содрогнулась[105]. Проверяющий прошествовал мимо матери, которая и усы себе нацепила, и выправкой блистала так, что залюбуешься бравым воякой, как вдруг, обернувшись, несильно ткнул её в грудь:
— Что, служивый, телеса распустил? Никак от водянки пухнешь? Али грыжа заблудилась да не там вылезла?
Мать побледнела, пытаясь что-то сказать, но он уже не слушал. Проворно расстегнул её камзол:
— Что, красавица, совсем растелешить, или и так уж все поняли, что не мужик ты?
И так же лениво, не повышая голоса:
— Возьмите даму.
Сделав пару шагов, обернулся:
— Понимаешь, пахнет от вашего брата по-другому. Амбрэ, так сказать. Вот по запаху я отлов и веду. Без ошибочки.
Дальше в строю, не сразу, а через настоящего ландскнехта, стоял и Маркус. Огромный штурмовой шлем постоянно сползал на глаза, под тяжестью пики затекла рука, прочая амуниция тоже изрядно гнула долу. Хорошо хоть от лат, разных там наколенников и налокотников, в спешной суматохе построения удалось отбояриться.
И сам Маркус, и все окружающие отлично могли предсказать его будущее. Топать ему по солдатской стезе — а по какой же ещё? Сызмальства игрушки — пули, порох украсть да поджечь, или когда очередной «батяня» под настроение смастерит деревянную шпажку, а то и мушкет: и резвись, и привыкай. Со товарищи опять же игры какие — ясно воинские. Причём игра не безымянна, а битва знаменитая или, допустим, осада, рассказов о которых, правдивых и не очень, можно наслушаться у любого костра.
Но мал он пока, не берут в солдаты, год хотя бы ещё подержаться за материну юбку советуют.
Ревизор надолго задержался возле Маркуса. Разглядывал без интереса или осуждения. Маркус почувствовал, как пунцовеют уши, щёки. Тонкие струйки пота зазмеились из-под шлема. Сейчас сильные безжалостные руки вырвут из общего строя, словно зазевавшуюся рыбёшку из родной стихии потащат неводом. Сверкай потом поротой задницей перед всей армией.
— Служи верно, солдатик, — вдруг услышал он, и проверяющий под смех свиты натянул ему шлем на самый нос. — Эх, обстановочка, совсем сопляков приходится поднимать на защиту императора и церкви.
Маркус, боясь спугнуть своё счастье, так и простоял весь смотр, ничего не видя. Чуть позже до него долетел сердитый знакомый шёпот:
— Не думай влезать.
Идиот он, что ли. И мать не выручит, и сам влипнет. Да и ей не убудет с кнута: кости целы останутся, а мясо нарастёт.
Однако так легко, как ожидалось, она в этот раз не отделалась. Посоветовавшись, разоблачённым, а это были в основном непотребные девки и их дети, затесался, правда, ещё и одноногий инвалид, решили рвать ноздри. Верно, ревизор с острым нюхом опасался конкуренции. Кстати, несмотря на все его бахвальства, из строя выдернули едва ли шестую часть псевдосолдат. Везунчики в строю, пряча глаза, переминались с ноги на ногу: вдруг да у кого из приговорённых к экзекуции нервы сдадут. Закричит: «А почему я должна страдать?» — да и пойдёт сдавать всех напропалую.
Однако в помертвевшей от ужаса кучке отлично понимали слепоту выбора: сегодня ты — завтра тебя. Безносой ещё можно протянуть, наоборот, кто-нибудь из не выданных сейчас завтра из жалости и признательности, возможно, кусок побольше швырнёт. Но вот если все отвернутся за предательство — тогда уж точно конец.
А ужаснуться было чему. Потехи ради, а также для усиления эффекта устрашения, велено было инструмент калить на огне.
Детей, раздав оплеухи, в конце концов помиловали, причём пара самых красивых мальчиков исчезла по мановению руки аудитора, а вот остальным пришлось испить уготованную чашу до дна.
Мать была второй. Девку перед ней, у которой и рвать-то нечего было, так как нос давно провалился, унесли замертво, и люди профоса долго отливали её водой, а вот мать оказалась покрепче. Она не только не лишилась чувств от пронзительной боли и вони собственной горящей плоти, но и принялась громогласно награждать ревизора и всю его шайку такими эпитетами, какие даже в солдатском лагере далеко не каждый день услышишь.
Разгорячённый уже втихомолку выпитой водкой, раздосадованный неожиданной задержкой: ведь в генеральском шатре его ждал обильный стол, и он точно знал, за скольких «мёртвых душ» должны угощать, а ведь есть ещё и другой шатёр, где ждёт так кстати подвернувшаяся добыча иного сорта, — аудитор несколькими словами расколол свою блестящую карьеру:
— А вы этой горластенькой ещё и язычок подрежьте.
Под дружный гогот его прихлебателей, слова его обернулись для бедной матери Маркуса гнусным делом.
А уже вечером, когда аудитор, сам сплошная немота, валялся под столом, в столицу полетел донос. Ведь всем доподлинно известно, что нельзя дважды карать за одно и то же преступление, утяжелять кару, когда приговор уже объявлен и записан, а каждый подсудимый имеет право на последнее слово. За первой анонимкой последовали и другие: аудитор обвинялся во взяточничестве, содомском грехе, растлении малолетних, и дни свои он закончил в сырой келье монастырской тюрьмы, тщетно замаливая грехи. Искалеченным им людям, может, и стало бы легче. Если бы они узнали об этом.
Мать отлёживалась пару дней, всем лекарствам и снадобьям предпочитая водку, затем как-то вечером напилась больше обычного и попыталась выяснить, все ли для неё потеряно. Недвусмысленные жесты, в какой-то мере заменили язык, но мужчины откровенно шарахались от её изуродованного лица.
Оставалось одно — сесть на сыновью шею. Маркус в отличие от многих других сыновей вряд ли бы выразил недовольство, тем более прогнал прочь и уж, конечно, не стал бы брезгливо отводить глаза. К тому же у него появился заработок. Сразу после смотра его записали на половинное жалование. Но когда он ещё начнёт получать полное, не говоря уже о двойном. А ведь не сегодня-завтра заведёт себе кралю. Такого увальня и служаку явно причешет какая-нибудь оторва, что будет пить-жрать в три горла. Матери и объедков-то не останется. Да и быть у кого-то в нахлебниках, пусть даже у собственного сына... К тому же она понимала, что чем дальше, тем больше ей необходимо будет выпивки. Поэтому мать продолжала вливать в себя водку, и всё более мрачнела. А ночью, пока все дрыхли без задних ног, она повесилась...
Маркус поморщился — история повторяется. И матери, и, судя по всему, сыну погибель несёт смотр. Династическое проклятье, да и только. Разница поколений в том, что у матери хватило смелости самой разом подвести черту под всей этой мерзостью, а вот сынка поволокут на верёвочке, словно упрямого бычка на бойню.
Среди их команды Маркус, пожалуй, менее всего боялся смерти. Если счесть солдат, отдыхающих под землёй, окажется гораздо больше, чем марширующих по земле. Пришла пора воссоединиться с молчаливым большинством.
XVI
Так они стояли, помертвев, и Неизбежность, старшая сестра Войны, заглядывала в остекленевшие очи, угадывая мысли, в то время как младшая сестра Порока, также зачем-то внимательно рассматривая незнакомые и малознакомые лица, приближалась, чтобы пожать руку Неизбежности. А они всё ж таки не верили до конца, что именно в этот нежаркий погожий денёк, рухнет непроницаемый занавес, навсегда отделяющий их от горестей и радостей непростого мира. И не надышаться, не наглядеться, не навспоминаться напоследок.
С каждым шагом несчастной маркитантки к ним Жизнь делала точно такой же шаркающий шажок от них. И они сами уже мало походили на живых и дышащих: члены одеревенели и напряглись, мертвенно-бледные лица закаменели. Вечные своей мудростью насекомые дождём сыпались с них, спешно отправляясь на поиски новых пастбищ.
Не надо было никакого профоса, никаких очных ставок, достаточно проницательного взгляда, чтобы сообразить, по чьему поводу сие сборище.
Замерли сердца, еле-еле проталкивая внутри остывающих тел жидкость, с которой вскоре расставаться. Отмирали мысли, чувства. Внутри незримо-смертельного круга, отделившего восьмерых от всех, до последнего пульсировал лишь немой крик Маркуса:
— Поволокут на плаху — точно обделаюсь!
И вот она уже перед Гийомом, и Гийом, последним ускользающим усилием воли, придаёт лицу умоляющее выражение:
— Пожалей ты меня, Христа ради. Я не хотел, честное слово.
Её, запавшие от невыносимой боли предательства родного человека увядшие глаза равнодушно скользят по Гийому — она его не видела. Да и всё равно ей, кто держал ту пику, — ведь дело же не в этом.
Испуганно плутоватые глазёнки бывшего лакея на мгновение задерживаются на Гийоме, но лишь на мгновение.
Узкий луч зари надежды блеснул и померк для Гийома. Макс, вот кто утянет их в бездну. Макс, да ещё Мельхиоровы башмаки.
Только сейчас Гийом, а может, и другие осознали, какую пытку сами себе изобрели: Макс-то стоит последним, восьмым. И следовательно, всем, без исключения, предстоит заглянуть сначала в глаза Мадонны, затем лакея. Людей, чьей смерти они так желали и чьих жизней не смогли выпросить ни у Бога, ни у Дьявола.
Макс на данный момент их самое тайное, страшное, гибельное. Это то, что они всеми силами хотели, но уже никоим образом не могли скрыть. Что-то несущее гибель, словно опухоль, исподволь умерщвляющая весь организм. Семь человек перед Максом, ровно семь печатей. Каждая снимаемая печать может оказаться последней, если Мадонна опознает кого-то из них ещё до Макса или если кто-нибудь не выдержит и схватится за оружие, оберегая их общую тайну. Почему-то все ожидали подобной выходки от Ганса. Конечно, ничего этот поступок не изменит, даже если у кого-то действительно достанет решимости и совести убить Мадонну. Разве что казнь состоится немного пораньше. Компания-то их известна, да и вся туточки на виду. Так что никого эти семь печатей не хранят. Это скорее случайное число ступеней по пути к Максу-Смерти. Верно, чисто рассудочно отпихнули его на последнюю позицию, инстинктивно отодвигая поворотный миг в судьбе. Как Ганса задвигали в конец очереди в пикантных ситуациях.
А погибель уже снимает вторую печать — ощупывает Гюнтерово лицо, допытывается — а ты чем оправдаешься, солдатик?
Все, творимое Гюнтером, делается во славу Божью, и сам Господь направляет его карающую либо воздающую десницу. Но и Гюнтер не выдерживает безмолвного поединка, опускает очи долу. Он проигрывает, он начисто проигрывает, ибо ни одна вера мира не должна покоиться на страданиях безвинных.
— Подними голову, — слышит Гюнтер негромкий приказ. — Что рожу прячешь, али виновен?
Гюнтер с достоинством вскидывает голову, но это уже лакей, такой же раб обстоятельств, и перед ним Гюнтер не чувствует своей вины.
— Не он ли? — хотел поинтересоваться профос, но лишь устало махнул рукой. Ясней ясного, что с паршивой овцы этой, лакея, толку не будет. Верная надежда только на упрямую бабу. Даже железная надежда, ведь ночью её попытались досыта накормить этим металлом. Отплатили за все её заслуги в деле укрывательства злодеев. Сейчас она им задолжала и желает отдать должок — будьте уверены.
Гансу проще: полковой дурачок, взятки гладки. Душа его, не освещённая разумом, тычется в потёмках, потому никому до него и дела нет. Он этим и пользуется на всю катушку. Бессмысленно-рьяный взгляд выкаченных, в крупных кровавых прожилках глаз профоса он встречает и провожает восторженно-почтительно, готовый хоть сей миг выпрыгнуть из шкуры и топать за профосом на край света. Устало-тусклому, запорошенному смертной тоской и обидой взору Мадонны отвечает кривой бессмысленной улыбкой. Вот он я, весь тут, к вашим услугам, но я ничего не понимаю, потому что там не был. И ведь действительно не был. А лакею даже братски подмигивает: что, дружок, не обзавёлся глазами на затылке, теперь страдаешь — сочувствую.
И лишь когда последний конвоир показывает ему свой тыл, из глаз Ганса полыхает такой заряд лютой ненависти, что просто удивительно, как у них не затлели волосы. До Макса четверо. Всего.
Окончательно одуревший от ожидания Мельхиор не придумал ничего лучшего, как подбоченившись, притопнуть ногой в новом башмаке. Вот он я — берите! Профос удивлённо вскинул брови и приостановился, обращая внимание Мадонны на странного субъекта. Впрочем, для профоса все они подозрительные, развратные, порочные, преступные субъекты, рано или поздно оказывающиеся в его поле зрения, а затем и в петле.
Но для Мадонны это только один из многих. Кажется, недавно выклянчивал водку в долг и ушёл, не смочив глотку. Основную опасность для Мельхиора представляет лакей, неоднократно чистивший и подававший хозяйкины башмаки. Но трусоватый парень бесполезно-старательно выглядывал чужие лица. Точно как приказано, хотя его почести и награды и ответ на все вопросы находились в пяти с половиной футах ниже, на ногах Мельхиора.
Но ноги-то служек порядка интересовали менее всего. Их интересовали лица, которые нужно опознать и, во вторую очередь, шеи, на которые можно набросить верёвки. А ноги — это то, с помощью чего преступник всходит на эшафот, и это то, из-под чего вышибают чурбачок или скамейку, когда приговор зачитан и осталось привести его в исполнение. Профосу в его богатой карьере приходилось возносить поближе к Богу и безногих, поэтому ему глубоко безразлично, наличествует ли данная часть тела либо отсутствует, и тем более плевать, во что это обуто.
Михель пятый. Именно после пятой печати наступит Страшный суд. Если не для всего мира, то для них восьмерых точно. Михель ровно предел, за которым уже — ничего, хотя и сереют за ним лица Георга и Маркуса.
«Зелёный»[106] в облике дракона отточенным, незлобно-ленивым жестом огромного когтя раскроил грудину Михеля, но не выдрал, как ожидалось, одним рывком обнажившееся сердце, а коснулся его длинным, раздвоенным, шершавым, как у телёнка, языком. И язык этот стал жестоко вылизывать сердце Михеля.
Сладкая испепеляющая боль шаркающе истачивала сердце, призванное к ответу за деяния головы и рук. Оно сжималось, тщетно ища укрытия и безмолвно взывая о пощаде, за не им задуманное и свершённое, однако безжалостный враг находил его, всюду доставая, оплетая, играл, ровно мячиком, одновременно напитывая ядовитой слюной, омертвляя для несуществующего будущего. Дикий крик сладострастной невыносимой боли рванулся вверх и потряс бы, комкая, размеренную рутину аппеля, если бы не намертво сцепленные зубы, кои не разжать, наверное, и железом. В глазах потемнело, остро недоставало воздуха, но когда Михель прорвался-таки сквозь предсмертную мглу, устояв на ватных чужих ногах, Мадонна была уже возле Георга.
Дракон, не торопясь, втянул кроваво-огненный язык в ухмыляющуюся пасть и так же лениво зашнуровал грудь, используя на этот раз коготь в качестве парусной иглы. Лишь тупо ноющее, не спешащее расправляться в своей рёберной клетке, едва не ставшей могилой, сердце напоминало о том, что это ему не привиделось.
Тысячи раз встречавшие и провожавшие светило и словно обесцвеченные его вечным жаром глаза Георга не выражали ровным счётом ничего. Работа на бездонно-спокойных, ровно болотная трясина, непробиваемо-рассудительных нидерландских фермеров, немало приучила его подавлять эмоции. Кто много кричит, обычно мало живёт.
В душе Георг попытался было вызвать ненависть и презрение. Умирать так будет всё ж таки полегче, как бы там Гюнтер не пытался утверждать обратное.
Шлюха! Такая же, как его Грета, как и все они здесь. Живёт без смысла, красоты, радости.
Но взглянув на Мадонну, Георг сразу понял, что если кто и будет подыхать сегодня от разлива чёрной желчи, то только не он, Георг.
Бедная девочка: затравленная, забитая, всеми брошенная и преданная. Ты прости нас за всё, что мы с тобой сделали — всех. Это Война, это она проклятущая. Она ведь и меня... Если бы мы только могли встретиться, побеседовать по душам, начистоту, ничего не скрывая. Я ведь, случись всё по-другому, мог бы отцом твоим приёмным стать. Ведь у тебя, как и у меня, — никого. Бросил бы свою вонючую компашку и... Ничего.
Поздно, слишком поздно. У тебя впереди виселица, и единственная твоя надежда на спасение — это мы. Выдашь — помилуют. Может быть. Такова жизнь.
Первый раз Магду — это её настоящее имя, отсюда и до Мадонны недалеко — продала родная мать. За пару дукатов, в самом юном возрасте, интендатскому майору — ворюге, как и все интенданты. Кого винить — ведь вопрос стоял о жизни или смерти от голода. Магда не могла сказать что-нибудь дурное про своего первого мужчину. Изысканная еда, первое в жизни приличное платье, даже первая принятая ванна — все он. И мать тут же кормилась, стараясь, правда, поменьше попадаться на глаза.
Казалось, ему доставлял огромное наслаждение сам процесс лепки из грязной угловатой девчонки чувственной прелестной женщины. Но как только посчитал свой шедевр окончательно завершённым, так сразу и заскучал. Не в меру избалованный женским вниманием богатый толстячок довольно скоро пресытился прелестями очередной «перепёлочки» Магды. Хоть не наладил под зад коленом, как вполне мог. Беспощадная экономия на солдатских желудках позволяли майору, по делу и без дела, проявлять показные щедрость и великодушие. Разрешил беспрепятственно забрать все свои подарки, а матери конфиденциально вручил небольшой, но туго набитый мешочек. Капиталец позволил им прикупить фургончик, мула, разных полезных мелочей и заняться маркитантским промыслом. Раз война не собирается заканчиваться, то на такие услуги спрос постоянен. Майор и здесь не забыл про них. Вернее, сейчас наблюдался обоюдный интерес: передвижная лавчонка оказалась подлинной алхимической ретортой, где всё, что бы ни урвал доблестный интендант у вооружённых защитничков веры, трансмутировалось в звонкую монету. Конечно, бравый ворюга тащил сотнями мешков и бочек, но ведь и подобных лавочек под его патронажем не одна и не десять. Так что мешочек, небрежно брошенный в материн подол, возвернулся к нему не единожды. Риск, как и прибыль, отнюдь не делилась пополам. «Большие воры вешают воришек», а не наоборот.
Была для его посещений ещё одна, не столь меркантильная причина. Магда даже гордилась собой — надо же, присушила мужика безо всякого колдовства и «фильтра»[107]. Сначала прогнал, теперь изредка сам прибегает.
Разок, вернувшись внезапно, застала своего, как полагала, майорчика в объятьях матери. Когда сообразила, кто именно барахтается в полутьме и чем занимаются, в лицо словно горсть раскалённых углей швырнули. На глаза попался, завораживая, дорогой эфес Майоровой шпаги. Разделаться с двумя единственно-близкими людьми. А дальше? И за что? Тихо отпустила полог. Всецело поглощённые «делом», её появления так и не заметили.
Два дня после этого старалась не смотреть в глаза «противной похотливой старухе», пока та сама не схватила её за локоть:
— Ты что, доченька?
Магда, стараясь освободиться, молча выкручивала руку.
— Постой! Да ты никак знаешь? Ты видела?!
Чувствуя, как глаза стремительно наполняются слезами, Магда упорно продолжала тянуть руку.
Мать внезапно выпустила дочь, и Магда полетела на землю. Приподнявшись на локтях, Магда со злостью двинула ногой так, что мать с криком:
— А лягаться-то зачем, кобылка?! — рухнула на неё.
Локтем мать угодила Магде подвздох так, что у той перехватило дыхание. Не смея выдохнуть, Магда замерла с открытым ртом, зажав руками место ушиба. Испуганная мать села рядом, злость её моментально улетучилась. С порциями воздуха изо рта Магды вылетали и отдельные слова:
— Значит... я кобылка... а кто же... тогда ты?
Видя, что все обошлось и, наблюдая за сверхусилиями дочери, мать внезапно развеселилась.
— А я, а я тогда старая кобылица, — со смехом заключила она Магду в объятия.
Магда ещё было поупиралась, но упоминание о старой кобылице, созвучное её недавним мыслям, окончательно растопили её неприятие, и она расхохоталась в материнских объятьях.
После этого всё быстро разрешилось к вящему удовольствию сторон. Да и как могло быть иначе: речь шла о дальнейшем деловом сотрудничестве, о жизни и смерти.
Свободу выбора оставили целиком за храбрым интендантом — кого пожелает ублажить, или, как выразилась мать, «кого сгребёт», так тому и быть. Решено было также согласовать усилия по перекачке части средств из сверх всякой меры распухшего кошелька майора в их семейную копилку. Общую идиллию примирения несколько нарушил вопрос Магды:
— А что если этот хлыщ потребует любви втроём?
— Там видно будет, — хлопнула её по колену мать.
— Надо было всё-таки вооружиться той бесхозной шпагой да погонять вас всласть по лагерю нагишом, — мечтательно вздохнула Магда, и они опять закатились смехом.
После этого случая Магда словно открыла для себя мир мужчин. Масса их окружала её, постоянно мозоля глаза, делая покупки, а то и пытаясь купить её, по поводу и без повода изрекая грязную кучу непристойностей, старались погладить, ущипнуть, а то и затащить в ближайшие кусты. Но всё это стадо, снедаемое похотью даже на смертном одре, было надёжно заслонено от неё мощной фигурой майора. Всегда чистого, ухоженного, надушенного, вежливого и щедрого. И вот этот первый и пока единственный её мужчина нагло изменил, причём на глазах.
Посему первое — отомстить наглецу и развратнику, причём как можно быстрей. Второе — это даёт дополнительный приработок, и если быть поразборчивей и поусердней, то довольно неплохой. И наконец, ещё одно открытие — само по себе это неиссякаемый источник удовольствий. Результат: из Магды довольно скоро получилась дорогая офицерская шлюха.
Интендант отнёсся к переменам в судьбе Магды гораздо покойней, чем она втайне надеялась. Разве что ещё реже стал прибегать к её интимным услугам, а так ни словом, ни жестом не выразил своего неодобрения.
Вскоре его, видимо, за недюжинные заслуги в присвоении солдатского провианта перевели с повышением ко двору. Распрощались они сухо, хотя без пяти минут полковник потратился и на презенты, и на полдюжины шампанского. Ни мать, ни дочь с собой не взял, они и не напрашивались. Сопровождаемый огромным обозом с платьем, сундуками, коврами, посудой, роем слуг в новеньких ливреях: «кому война, кому мать родна» — майор отбыл в роскошной карете — растаскивать империю дальше.
Настало короткое жаркое лето жизни Магды, с лёгкой руки какого-то остряка, ставшей вскоре Мадонной. Узрели её как-то, пробиравшейся по лагерной грязи с огромной бутылью вина, которую, боясь поскользнуться и разбить, прижимала к себе, словно Мадонна младенца Христа на полотнах великих итальянцев и фламандцев. Богохульники-самоучки так и влепили, что вовек не отскоблишь. Хорошо ещё, хоть не Чёрной пяткой нарекли: в тот раз ещё оставила в грязи изящную туфельку, так что пришлось ковылять по грязи босой ногой. Но капитана, внёсшего предложение о пятке, обвинили в отсутствии куртуазности, так что он едва не вызвал на поединок всех скопом офицеров полка, и отвергли его идею.
Временной промежуток, когда основной проблемой Магды стало определиться, в чьей же постели она пробудилась, а также, как справиться с головной болью от похмелья, а вечером — выбрать, кого одарить благосклонностью на этот раз и сколько за это запросить, не мог быть долгим. Ступив на золотую ступеньку порока, она не могла не видеть, что эта лестница ведёт только вниз, в бездну. Век шлюхи недолог, век элитной шлюхи сжат, иной раз до размеров дневного перехода. Да и как иначе, когда в любом разорённом городке или деревушке большинство уцелевшего женского населения готово на все ради куска хлеба, ради жизни для себя и своих близких.
Некоторые умудряются находить клиентов и в шестьдесят, но в шестьдесят, да и в тридцать лет вряд ли можно рассчитывать на богатого клиента. Того и гляди саму доплатить заставят.
Ступени этой лестницы сродни галунам на шляпах: от широкого к узкому, от позолоченного к посеребрённому и к простому[108]. Лишённая покровительства, испытывая жесточайшую конкуренцию как со стороны двенадцати-пятнадцатилетних, так и со стороны регулярных десантов роскошных столичных кокоток, Магда быстренько спрыгнула со всех ступенек сразу так, что вскоре фельдфебель, капрал или сержант стали для неё редкой залётной птицей.
Не добавляли радости постоянные раздоры с матерью. Главная тема вечной ругани:
— Ведь такого майора держала. И упустила! Я вот к трюфелям под соусом начала привыкать, коньяк попробовала, ликёры там. Неужто из-за строптивой доченьки так и подыхать нищебродкой.
Как в воду смотрела. Действительно, скоро померла, и на смертном одре кричала, что Магда, стерва, заместо лекарства отраву ей поднесла, хотя, разумеется, и в помине такого не было. Совсем рехнулась. Однако какая бы ни была сумасшедшая, только бы живая.
По смерти матери Магде пришлось серьёзно впрячься в маркитантскую лямку и вскоре недурно поставить запущенное дело.
Таковой уж она уродилась Магда-Мадонна — за что бы ни бралась, все делала старательно, вкладывая душу. Любить, так любить, продаваться, так продаваться — без остатка.
Во многом примирила её с переходом от вечного праздника к тяжёлому труду констатация очевидного факта: офицер пошёл не тот. Хуже всякого солдафона. Грубые, вспыльчивые, жадные до ласк и скупые при оплате. А главное — злыдни несусветные. Руки распускают за каждым пустяком. Да если бы только кулаками орудовали! В ход идут палки, хлысты, а то и оружие. Для скольких её товарок затянувшийся интимный ужин обернулся быстрыми поминками. У самой сколько раз жизнь висела на волоске, спасала лишь полная покорность. Где-то Магда их понимала: бои, кровь, грязь, грубая полупьяная солдатня отнюдь не способствовали улучшению нравов. Понимала до тех пор, пока сама, в очередной раз разглядывая и осторожно ощупывая свежеприобретённые синяки и ссадины, чертыхаясь, подсчитывала, сколько ж пудры и примочек надо истратить, чтобы хотя бы через пару дней быть в «рабочем» состоянии.
Для себя прогрессирующее огрубление нравов Магда объясняла просто: пылкие на поле брани и в алькове дворянчики, рыцари без страха и упрёка, как католики, так и протестанты, при первом звуке боевой трубы смело пришпорили коней и очертя голову сиганули в пропасть Войны. Никому тогда и в ночном кошмаре не могло привидеться, что заполнять ту бездну неустанно придётся ни много, ни мало тридцать долгих лет. Многие так и сгинули, не долетев до дна.
Война — это ловушка прежде всего для горячих сердец. Уцелеют холодные прагматы, всегда ставящие свечку и для «зелёного» — так, на всякий случай. В офицерах нынче всё более выслужившихся солдат, а нет господина жёстче вчерашнего раба, да проходимцев, явно раздобывших гроши на офицерский патент[109], промышляя на большой дороге, и желающих возвернуть потраченное раз сто, как минимум.
Время текло, то замерзая на полуголодных «зимних квартирах», то разливаясь потоком очередной открываемой кампании, то бешено крутясь в дефилеях[110] боев, погонь, засад. Война умело дирижировала ходом событий, находя время и для гигантских битв, и для кулуарных переговоров, всегда имея в резерве годик-другой.
Время текло, Магда жила, торгуя всем помаленьку. Уж и забыли, что когда-то она была модной и дорогой офицерской штучкой и запросто могла наградить доброй пощёчиной зазевавшегося денщика или чем-то не глянувшегося солдата. Стала в доску своей для мушкетёрской шатии-братии, а что в долг мало отпускала, так ведь свой интерес надо блюсти, чтобы по ложной доброте вмиг не остаться сирой и убогой. Так и жила, время от времени впадая в тоску по нормальной семье, детям. Родила пару раз от солдат, да вот маркитантская фура не самая лучшая колыбель. Не уберегла.
Во время очередного приступа тоски смертной и нарисовался пред её опухшими от слёз глазами Макс. Подгадал момент добрый молодец. Молодой смазливый балагур, вечно куда-то спешит, торопится, и всё с шуточками-прибауточками. Магда и распахнулась навстречу: и душой, и кошельком? А когда он из кармана вчера вытащил полузабытое «Мадонна» и только так её и величал, тут-то она, дурочка, совсем поверила, что заблудившаяся меж лагерных повозок и палаток молодость назначила ей коротенькое рандеву перед окончательной разлукой. Не слушала она теперь ничьих предостережений и советов. Не замечала, как частенько, гноем из незаживающей язвы, из Макса выдавливается жадность, глупость, скрытность, ложь, цинизм. И то, что без гроша её частенько оставлял: погуляет да вернётся, не может не вернуться, ведь такие слова говорил, клялся.
Макс и верно не раз задумывался: не зашвырнуть ли прошлое житьё в выгребную яму, да зашагать по новой дорожке. Понимал, что эта другая жизнь рядом с расчётливой, хозяйственной Магдой будет и покойней и сытней. Можно не сомневаться. Но ведь старше она его — раз. Болотной трясиной тянет его, засасывает беспутное, опасное, вольготное солдатское бытие — два. Чистая мужская дружба, имея в виду 4М и 4Г, завсегда выше глупой бабской любви — три.
Макс всё более склонялся к половинчатому варианту: завести себе походную жену, то есть Магду, как у большинства солдат, при этом не ограничивая своей воли, но всегда имея под рукой женскую ласку, заботу, кормёжку, ну и тому подобное. Что касается детей: Бог даст — будут. Всё равно, с ребёнком она будет, без — Макс не настроен отдавать ей жалование, тем паче делиться добычей.
Так и существовали: Макс убегал-прибегал, чутко прислушиваясь к ворчанию и насмешкам друзей; Мадонна терпеливо ждала, когда её любовь пересилит и все наладится. Наверное, так у них ничего бы не сложилось, как вдруг этот случай, пушечным ядром вдребезги разнёс недостроенный хрустальный мост её счастья.
Неотложное желание Маркуса рельефно вытеснено на его лице так, что даже одурманенный винными парами профос оживился, чувствуя, что можно неплохо разнообразить начинающую надоедать рутину смотра.
— Ха, — каркающе выдохнул профос. — Полюбуйтесь на этого поносника. Уже изволил навалить или ещё держишься? — и профос ткнул своей палкой в живот бедному Маркусу.
Маркус ещё крепче стиснул зубы и не то улыбнулся, не то оскалился.
— А может, чует кошка, чьё мясо слопала, да и дрожит ровно осиновый лист. — Профоса после хорошей похмелки обычно всегда пробивало на разговор, и ублажённый размягший мозг выдавал такие метафоры, что профос сам потом диву давался. — Ну, невеста виселицы, не он ли?
Мадонна замотала головой. Профос не глядел в её сторону, и никто не смотрел: все, ухмыляясь, разглядывали Маркуса — а зря.
Взаимно обмерев сердцем — глупым комком плоти, по прихоти Судьбы повелевающим чувствами, — они нашли друг друга глазами: суженый и его единственная любовь, убийца и его жертва.
Что-то, уже на уровне Провидения, подсказало Максу, что если он опустит глаза, а этого нестерпимо, до жжения в зрачках, хотелось — то пропал. Его словно намертво приковал к себе взгляд Мадонны, но чем дальше он смотрел, отрешаясь от окружающего, тем всё более с изумлением понимал — нет в этом взоре ненависти. Нет! Может быть, презрение и, конечно, горечь, и чуть безразличия, и вдоволь страха, и непонимание. Но не злость.
Она словно спрашивала, но уже не его даже, а себя:
— И как я могла полюбить такого?
И твёрдо добавляла:
— Ноя люблю его!
Макс всеми силами подавлял своё изумление, которое, словно перегретый котёл, должно было вот-вот разнести его сознание: «Она, что... простила?».
И опять профос держал устрицу преступления в руках и уже поддел лезвием тугие створки, и маслянисто-маняще замерцала внутри жемчужина доказанной очевидности, но снова выскользнула из неловких грубых рук.
— Ну, скажи нам что-нибудь. Попросись из строя, и я, может быть, разрешу. Кишки-то небось джигу в брюхе отплясывают. Или котильончик завели. — И профос снова вроде шутливо, но довольно-таки чувствительно ткнул своим жезлом Маркуса.
— Ещё раз тронешь — убью, — Маркус окончательно определился: лучше смерть, чем позор.
Помощники профоса дружно заржали, словно именно этих слов от Маркуса и дожидались. Однако главарь не поддержал их порыва, посему смех неровно замёрз в их глотках.
— Понимаю, — задумчиво произнёс профос. — Сам знаешь, бывает: нажрёшься какой-нибудь тухлятины, да зальёшь болотной водицей. Ладно — беги из строя. Я разрешаю.
— Я дотерплю, — сквозь зубы процедил Маркус, продолжая ненавидяще рассматривать профоса.
— Гордая сволочь, — померк взором профос.
Кто-то из его подручных хихикнул, но тут же испуганно умолк.
— И терпеть тебе до самой смерти, горемычный. Пошли ребята, побыстрей, а то здесь скоро крепко завоняет. Чую, пропыхтим с этим опознаванием до самого вечера.
Профос грубо подтолкнул Мадонну:
— Но, каурая, пошевеливайсь.
Мадонна мазнула последним косым взглядом по Максу, ровно пощёчину влепила. И... прошла мимо. Мимо! Не сказав ни слова! Не ткнув пальцем! Не подав знака профосу!
Вернётся. Она обязательно вернётся! Сразу не вспомнила, отойдёт и вспомнит. Или убоялась рядом с ними говорить, решила удалиться на безопасное расстояние. Ведь не может же такого быть, чтобы она действительно простила и помиловала.
Изумление с головой накрыло не только Макса — все 4М и 4Г словно воскресли, встав из могил и убедившись, что мир изменился, подобрев. В этом свежем, как утренняя роса, мире нашлось место даже для таких подлецов, как они.
Мадонна удалялась, и это было до того неожиданно и изумительно, что у Макса, да и не только у него, вдруг мелькнула шальная мыслишка — окликнуть, вернуть. Но она шла не оборачиваясь, не делая ровно никаких поползновений для того, чтобы, вернувшись, потащить их на виселицу.
Теперь главной задачей стало стоять и выстоять. Адская слабость пережитого сковала все члены похлеще профосовых цепей. Хотелось ничком упасть на грешную землю, зарыться лицом в прошлогоднюю мёртвую траву и, вдыхая терпкий запах тлена, осознавать, что для тебя худо-бедно жизнь продолжается. Мадонна и здесь помогла своим бывшим друзьям, ибо после них значительно ускорила осмотр, почти пробежала остаток жизненного пути. Профосу опять же обратить на это внимание, да куда там. Обрыдло ему вконец это представление. Оживление, вызванное утренней дозой спиртного, испарилось. Запотевший штоф заслонил в голове его всё остальное. Повесить бы кого поскорей — и сразу за стол. К тому ж до самого последнего солдатика в строю верил профос, что обвиняемая укажет сообщников, ведь не дура же она в конце концов, чтобы подыхать вот так вот, ни за что, ни про что, в одиночку.
Когда надежды профоса окончательно рухнули, все были порядком обескуражены полным фиаско считавшегося беспроигрышным мероприятия. Ясно было одно: преступников здесь нет. Вывод: они уже обезопасили себя — сбежали к противнику, либо попросту дезертировали. Существовала, разумеется, вероятность того, что злодеи в данный момент заняты по службе: в карауле, на фуражировке, откомандированы по делу.
Продолжать следствие? Повторять все сначала? Острота первых мгновений охоты прошла, зверь ускользнул из верной ловушки. Ищи теперь ветра в поле. Неизвестно, сколько бы ещё судили и рядили, если бы присутствующий адъютант главнокомандующего не сболтнул, разумеется, по секрету, что запутавшемуся в паутине собственных интриг светлейшему сейчас не до этого, и он в целом охладел к этому делу. Светские и духовные владыки империи с редчайшим единодушием ополчились против герцога Фридландского, завалили императора доносами, все уши ему прожжужали, что Валленштейн спит и видит себя восседающим на императорском троне. Посему имперскому главнокомандующему не до прошлых тревог, все помыслы о будущем: оставаться и бороться либо подавать в отставку и наслаждаться покоем заслуженного тылового бытия награбленного комфорта. Опереться Валленштейн может только на всецело преданную лично ему армию, потому предпочитает не волновать солдат излишними казнями и жестокостями. Следствие нужно тайно продолжать, а сегодня закругляться, ибо уставшие, страдающие от голода и жажды солдаты начинают проявлять недовольство.
— Теперь можно и о капральском дублоне размыслить, — беззаботный голос Ганса прозвучал так же дико и нереально, как рык неизвестно каким образом очутившегося бы здесь льва. Скудоумие не позволяло Гансу долго горевать, остро переживать, тратить все краски душевной палитры. Гансу или очень плохо, или чересчур хорошо. Только простые чувства довлеют над ним. Как только страх смерти разжал свои клещи, Ганс сразу же ощутил сосущую пустоту в желудке. Цепочка проста и безукоризненна: еда — деньги — капральский дублон как ближайший на данный момент источник.
Но прочие-то, с трудом высвобождаясь из липкой паутины небытия, далеко ещё не были готовы вступить на твёрдую почву грешной земли.
— Ганс, заткнись, Бога ради, не то я за себя не ручаюсь, — трудно было определить, что доминировало в тоне Макса — угроза или мольба.
— А чего я такого сказал-то? — притворно возмутился Ганс, и тут же добавил: — Ты вообще помолчал бы, Максик. Было время, и говорил ты, и суетился сверх меры, да что толку?
Звериное чутьё верно подсказало Гансу: после промаха с Мадонной позиции Макса, да и Гийома, в их компании неуловимо, но несомненно пошатнутся, баланс взаимоотношений изменится в пользу остальных шестерых, значит, и Ганса тоже. И Ганс торопился раньше прочих заполнить эту пустоту, показать себя. Через часок-другой эти умники захотят поесть и выпить, и вспомнят о том злосчастном дублоне, и все отметят тот факт, что первым о нём заговорил, позаботился об общих интересах дурачок Ганс. Так-то вот.
Беднягу Макса ждало ещё одно, на этот раз последнее, в этот день испытание.
Уже на импровизированном эшафоте, Мадонна, разведя руками петлю, обвившую шею, закричала, как бы всем, но только ему одному:
— Передайте этому дурню, которого здесь нет, — даже на пороге могилы она оберегала его, — я любила лишь его одного и никого больше. С остальными просто спала.
Взбешённый профос с такой силой вышиб чурбак из-под Мадонны, что тот отлетел футов на двадцать и долго крутился волчком. А может, и не от злости, а оказывая последнюю любезность своей несбывшейся мечте — у Мадонны сломались шейные позвонки и смерть наступила мгновенно. «Любезность» обошлась профосу в сломанный большой палец правой ноги.
Половина солдат полка пожелала в данный момент, чтобы профос расшиб не ногу, а голову, а другая половина, чтобы перед ними Божьим промыслом оказался вдруг истинный виновник гибели всеобщей любимицы, а в руки им дал бы острую пику или добрый мушкет.
И пришёл вечер тихой светлой скорби. Гюнтер, а по его примеру и Мельхиор, уже снова припрятавший драгоценную обувку, истово молились, Ганс исчез, осознав, что каждое неосторожное слово может иметь для него самые плачевные последствия. Остальные потерянно молчали, что-то мучительно осознавая и переосмысливая.
Макс, время от времени изумлённо повторял:
— Братцы, да она же святая. Святая! Ей-бо, больше ни одной девки не обижу.
Ни до, ни после, никто и никогда не видел серьёзного, неулыбчивого Макса, который никуда не спешил.
Макс вдруг скинул камзол и принялся методично его ощупывать с изнаночной стороны. Нащупал, осторожно подпорол ножом и извлёк на свет Божий пару звеньев довольно массивной золотой цепи.
— Вот, — торжественно вытянул ладонь. — На самый-самый чёрный день берег. Сотню раз уж мог и хотел достать, ан что-то удерживало. Настал сей день — чернее не бывает. Возьми, Гюнтер, тебе верю, возьми и закажи панихиду, гроб организуй там. В общем, всё, что надобно. Если мало будет, проси в долг. Я отдам.
Гюнтер согласно кивнул, молча подбросил золото на ладони, оценивая вес и стоимость, бросил Мельхиору:
— Пойдёшь со мной, там и помолимся.
Никто ни словом, ни жестом не намекнул, что было бы неплохо звёнышко в трактир снести, ибо, если о еде и не думалось, то выпить, смыть пережитой ужас, затолкать его поглубже в нутро хотелось неимоверно.
— Она святая. Вот вам крест, в её светлую память ни к одной девке больше не прикоснусь, — повторил, в который уж раз Макс, ровно они глухие или совсем непонятливые.
Макс сдержал своё слово. До первой захваченной деревни...
Война всех их заставила забрать свои клятвы обратно.
XVII
Через пару дней капрала зарезали ночью — прямо в палатке. Как обычно, никто ничего не видел и не слышал. Потому как от одежды и амуниции убиенного клочка цельного не осталось, ясно было — что-то упорно искали. А ещё через пару дней, когда хозяин одного грязного временного кабачка для солдат, собрался уже послать за стражей, дабы приструнить разбуянившуюся восьмёрку своих завсегдатаев, который уж раз пьющих в долг и не находящих времени расплатиться, один из компании, читая хозяйские мысли, ровно открытую книгу, вдруг осклабился:
— Что, жирная морда, хочешь сказать, что мелу для нас не припас боле[111]?
И, не давая опомниться, швырнул на скользкую от жира столешницу новенький дублон, странно смотревшийся в убогом заведении, где и серебро-то в этот период поголовного безденежья и оскудения проскальзывало нечасто, и словно магический кристалл, притянувший к себе свет двух жалких сальных огарков, освещавших трапезу лихой восьмёрки.
Кабатчик, резонно опасаясь какой-либо каверзы, не торопился, дав возможность 4М и 4Г вдоволь насладиться произведённым впечатлением. Михель, а именно он уговорил остальных, ещё до конца не поверивших в счастливое избавление, «прощупать» капрала, именно он завладел дублоном и швырнул его сейчас чуть не в рожу разъевшейся кабацкой крысе — был наверху блаженства.
Первым опомнился Ганс. В то время как Макс всё ещё клял и винил себя в смерти Мадонны, Ганс занял его место, став главным весельчаком компании. Он нырнул под стол и, появившись, поставил перед кабатчиком, уже решившим каким путём ему сподручней протиснуться к столу и завладеть золотым, башмак. Богатый, женский, хотя уже и весьма поношенный.
— А может, натурой возьмёшь, в залог? Хозяин башмака за него и десяти дукатов не пожалеет[112].
Мельхиор, захохотавший было вместе со всеми, внезапно осёкся, топнул босой ногой о пол и схватился за голову:
— Боже правый! Да ведь это же моё. С ноги упёр, я и не заметил.
Ганс потряс добычей перед носом растяпы и вновь обратился к хозяину заведения:
— Налетай, грабь задарма, пока я не передумал.
Подобного Мельхиор никак не мог оставить безнаказанным. Двумя руками схватил Ганса за грудки и потащил к себе, прямо по столу, по кружкам, блюдам, коркам и костям, чтобы без помех внушить, что брать у своих не спросясь — нехорошо. Но Ганс отнюдь не горел желанием выслушивать подобную чушь, потому, недолго думая, перебросил Мельхиоров талисман Маркусу, ничего не имевшему против подобного развлечения.
— Караул, грабят! — отпуская ненужного уж теперь Ганса, взревел Мельхиор.
И вопль его не остался гласом вопиющего в пустыне. Ловя башмак, Маркус ненароком толкнул какого-то плюгавого драгуна, бережно нёсшего кувшин вина. Немного подумав, драгун решил, что такой кислятине, которую он только что прижимал к груди бережней, чем мать родную кровинку, самое место на голове Маркуса, но никак не в своём желудке, что и осуществил. Голова оказалась прочнее посудины, и Маркус, так и не поняв, что к чему, с блаженно-глупой улыбкой, весь облитый вином, тюкнулся носом в стол. Плюгавый недолго наслаждался своим триумфом. Не испрашивая согласия друзей, Гюнтер выдрал из под них лавку, вернее, доску, положенную на два пустых бочонка и служившую сиденьем. Посчитав себя достаточно вооружённым, Гюнтер наградил драгуна столь добрым ударом, что тот, сметая все на своём пути, отлетел в угол, где надолго и упокоился на одном из столов. Компания, тихо-мирно закусывающая-выпивающая за этим столом, рассудила, что новый собутыльник им не требуется, новая закуска, если принять драгуна за мясо, — тоже. А так как драгун, несмотря на пару тычков, ничего членораздельного сообщить им уже не мог, то за ответом они отправились к 4М и 4Г.
Михель мощным выдохом задул свечи. И вовремя. Когда на то место на столе, где должен был лежать дублон, упала рука кабатчика, там сплелись в торопливом поиске ещё, как минимум, четыре пятерни. Так никто и не сообразил, куда задевался золотой, а вскоре стало не до того.
Их трижды, с треском вышибали из кабачка, и три раза 4М и 4Г, а также те, кто по тем или иным причинам, либо безо всяких причин, взял их сторону, потирая шишки и ссадины, вламывались обратно.
Увлекательную игру «туда-сюда» прервал явившийся-таки на шум патруль. И опять 4М и 4Г подфартило — они как раз снаружи зализывали раны перед очередным штурмом и потому разбежались без помех, а вот противную сторону, тех, кто внутри, накрыли, как птенцов на гнезде.
А ещё через пару деньков, отлежавшаяся компания горланила уже в другом кабаке, и Михель вновь швырял на столешницу дублон. Возможно, тот самый, возможно, другой. Мельхиор поминутно заглядывал под стол, проверяя, на месте ли его башмаки, чудом сохранённые в предыдущей заварушке. Наклонившись в очередной раз, вылезти наверх уже не смог.
ПРЕДЫСТОРИЯ МИХЕЛЯ (продолжение)
XVIII
Вот эти знаменитые башмаки, с коими столько связано, им с Максом и предстояло дырявить. Жаль, конечно, но Мельхиору они вряд ли когда ещё понадобятся. Слов нет — цель мала, но ведь и стрелки они далеко не последние.
Макс и здесь оказался проворней. Его мушкет сипло рявкнул уже тогда, когда по мнению Михеля и прицелиться-то толком нельзя было. «Поспешишь — людей насмешишь». Пуля Макса чиркнула по брусчатке двора в полудюйме от носка левого башмака.
Время, прошитое пулей Макса, судорожно рванулось.
— Чёрт, чёрт, чёрт! — взревел Макс, и одновременно Михель спустил курок, и одновременно человек за щитом, почувствовав опасность, отдёрнул правую ногу, и одновременно пуля Михеля высекла сноп искр ещё дальше от цели, чем пуля торопыги-Макса, и одновременно неведомый враг, оступившись, не удержал тяжёлого щита, и одновременно эти ворота с грохотом рухнули, подняв тучи пыли и мелкого сора.
И изумлённое Время обмерло, резко оборвав бег.
Перед ними во всей своей красе, в своих знаменитых башмаках предстал... Мельхиор. Да не простой, а с «гостинцами»: трубка с дымящимся фитилём, две увесистые сумки с порохом. Мельхиор, виновато моргая чаще обычного, разглядывал их. Михель, Макс, Ганс из окна глазели на него.
— Батюшки, да это же Мельхиор, — непонятно было, чему так рад Ганс. Может, тому, что Мельхиор, считавшийся мёртвым, на деле жив-здоров.
— Сволочь, к мужикам переметнулся, — Макс от изумления даже припозднился и высказался позже Ганса, чего раньше за ним не замечалось.
— Господи, мушкеты-то у нас как на грех разряжены. — Несмотря на изрядное потрясение от предательства Мельхиора, Михель не потерял способности рассуждать здраво. — А Гансов? Ганс же тоже перезарядил. Кажется, свой последний патрон забил.
— Каков, сволочь! — накачивал себя злобой Макс. — Я ж лично сколь раз последний кусок с этим змеем подколодным преломлял.
— Отвлекай его разговором, отвлекай, — склонился Михель к уху Макса.
Макс повернул разгорячённое лицо и недоумённо уставился на Михеля. Наморщенный лоб выдавал усиленную работу мысли.
— Соображай же скорей, — едва не заорал Михель.
Наконец Макс согласно кивнул головой, повернулся к окну, но явно затруднялся, с чего начать разговор.
— Что, Мельхиор, сын Иуды, справно ли платят на новой службе? — наконец раздался его язвительный голос, как показалось Михелю, через года.
— Ребята, они хорошие. Они вот мне и ножку гусиную дали, — несколько смущённо, но довольно бодро ответствовал Мельхиор. — И башмаки мои милые опять же при мне оставили.
— Ножку! — Макс от возмущения едва не вывалился из окна. — Нашу святую многолетнюю солдатскую дружбу ты, обжора чёртов, сменял на тухлую гусиную лапку.
— Не зли его понапрасну, — зашипел Михель. И к Гансу: — Осторожненько передай мне свой заряженный мушкет.
Михель не глядя протянул руку назад, и даже от нетерпения принялся сжимать и разжимать кулак, ожидая, когда пальцы сомкнуться на цевье.
— А что мне было делать? — раздался со двора рассудительный, отнюдь не рассерженный голос Мельхиора. — Ты-то, Макс, как бы поступил на моём месте?
Побуревший Макс буквально задохнулся от гнева, постепенно, однако, сознавая, что ответа-то у него нет.
— То-то, молчишь, — безжалостно добил его Мельхиор, сам не сознавая того.
Не дождавшись мушкета, Михель обернулся. Ганс влип в стену, судорожно прижав мушкет к груди.
«Боже, как я устал от этого придурка», — но вслух Михель произнёс как можно ласковей:
— Ну же, Гансик, мушкет, пожалуйста.
Ганс столь энергично замотал головой, что Михель на миг усомнился в крепости его шеи.
— Постой, Мельхиор, — Макс, кажется, наконец-то подобрал нужные слова. — Речь ведь совсем не обо мне. Как ты оправдаешься перед людьми и Господом?
Михель перекатился по полу под окном и, оказавшись вне видимости Мельхиора, пружинисто вскочил на ноги. Зорко сторожа каждое движение непредсказуемого Ганса, Михель, слабо надеясь, попробовал всё же договориться.
— Ганс, Мельхиор взбесился, его надо срочно остановить, пока он не разнёс всех в клочки. Отдай мне свой мушкет. Я сумею навести порядок.
— Тогда ты прикончил нашего Георга, сейчас ты мечтаешь застрелить нашего Мельхиора, потом ты задумаешь убить Гюнтера, Макса или даже меня. Что же тогда от нас останется, Михель? Мы не враги тебе.
— Дай ружьё! — завизжал Михель, разбрызгивая со слюной остатки терпения и благоразумия.
Совершенно не думая, что в гневе дьявол наделяет Ганса прямо-таки нечеловеческой мощью и свирепостью, Михель бросился отнимать злополучный мушкет. И действительно, Ганс, ровно гигантский клещ, вцепился в оружие, и Михель понял, что проще лбом прошибить каменную стену крепостного бастиона, чем завладеть оружием. На его счастье, Ганс лишь пассивно держал мушкет, обороняясь и не делая никаких попыток перейти в наступление.
Пришедшее на ум сравнение со лбом и стеной навело Михеля на мысль о старом, порядком позабытом приёме, и он что было силы ударил Ганса головой в нос. Обмякнув, тот стал медленно сползать по стене, не выпуская оружия. Рывок, другой — и вдруг внезапно в руках отчаявшегося уже было Михеля очутилось оружие, а Ганс, лишившись опоры, кулём рухнул на пол. Совершенно забыв, что его силуэт чётко выделяется на фоне оконного проёма для возможных стрелков, Михель торопливо приложился.
Пока Михель не на жизнь боролся с упрямцем Гансом, задушевная беседа Макса и Мельхиора плавно завершалась. Оправившемуся Максу удалось доказать бывшему соратнику, что порядочному ландскнехту содействовать мужичью — самое распоследнее свинство.
Пристыженный Мельхиор внезапно рухнул на колени, когда у Михеля всё было готово к выстрелу.
— Братцы, простите вы меня, глупого дурака, ради Христа! Что ж мне делать-то оставалось? Вы только посмотрите, что они с Георгом сотворили! И вас всех истребят, коли ружья не положите. А я, может, и выживу.
Разглагольствования Мельхиора были прерваны выстрелом и свистом пули. Это Михель спустил курок, но так как целил в ростовую, а не в коленопреклонённую фигуру, то и пуля его прошла выше.
Взвыв от бессильной ярости, Михель стоял, потрясая оружием, и опомнившиеся мужики, прикрывающие Мельхиора, торопливо опустошали по нему свои мушкеты. Если бы Макс, сам поражённый промахом не меньше Михеля, не двинул его прикладом под колени, возможно, мужичья пуля оборвала бы его проклятья на полуслове. Рухнувший на пол, придавленный Максом, который опасался, что незадачливый стрелок вскочит и опять бросится под пули, Михель орал в потолок:
— Мельхиор! Слышишь! Ты покойник! Покойник! Мы ведь тебя, мужицкого прихвостня, из-под земли добудем.
Опешивший Мельхиор, отчего-то не ожидавший, что в него будут стрелять, ведь он же покаялся, торопливо ухватил своё упавшее прикрытие и стал, натужась, приподнимать.
Загрохотали башмаки на лестнице. Это остальные, заслышав стрельбу и крики и видя затишье на своих участках обороны, без приказа, по собственной инициативе и разумению, бросили свои посты и поспешили к месту нанесения главного удара.
— Стреляйте! Стреляйте в эту сволочь! — заорали практически одновременно Макс и Михель. Судьба в этот день, очевидно, серьёзно благоволила к изгоям. Мельхиор успел поднять свои неуязвимые ворота.
Только Маркус своим мушкетом проверил крепость щита. Более хладнокровные Гийом и Гюнтер решили поберечь патроны. Вообще, конечно, картина, открывшаяся глазам вбежавших, мало располагала к здравому размышлению. Тело окровавленного, недвижимого Ганса, через ноги коего им пришлось перепрыгивать, вбегая в комнату. Под окном сплелись в одно Макс и Михель — явно не на шутку взялись выяснять отношения. Орут: «Стреляй!», ровно помешанные — но куда? Во дворе только труп Георга да что-то непонятное.
— Ну, ты успокоился?! — гаркнул Макс прямо в лицо Михеля. Михель согласно потёрся затылком о пол. Макс, отпустив его, перекатился в угол, сел и тут же подтянул мушкет, выдрал шомпол, принялся охлопывать патронташ. Вояка, ничего не скажешь — оружие прежде всего. Хотя за каким рожном им сейчас эти бесполезные железяки, если не в их силах достать предателя. Однако Михель сделал то же самое. Солдатская натура: мушкет всегда лучше иметь заряженным. Перезарядил и Маркус, а Гийом и Гюнтер встали по углам проёма, держа оружие наготове. И Михель внезапно успокоился: помирать таким молодцам явно рановато.
— Что это за явление? — Гюнтер ни кивком, ни намёком не показал, что имеет в виду, но все поняли, о чём речь.
— Мельхиор, подлюга, — зачастил, как всегда, Макс. — Нацепил башмаки, запасся порохом и огнём, залез за окованные железом ворота, плюёт на нас, а лижет теперь мужичьи задницы.
— То есть взорвать нас хочет, — перевёл на нормальный язык Гюнтер. — И много у него пороху?
— Нам за глаза хватит, — махнул рукой Макс. — Разнесёт нам двери как миленький.
— Две сумки. — Михель ещё не понял, чего добивается Гюнтер, но за его вопросами почувствовал отчаянную работу мозга, поиск выхода и поспешил уточнить: — Фунтов на двадцать каждая потянет, а то и поболе.
— Ганс готов? — влез в разговор Маркус, находившийся к Гансу ближе всех.
Макс выразительно глянул на Михеля, но тот нашёл время, неподходящим для рассказов.
— Очухается вскоре, — подытожил Макс. Мушкет его был заряжен, и Макс жаждал действий. — Так что делать-то будем, господа честные ландскнехты?
У Михеля, которому, в общем-то, и надо было отвечать на этот вопрос, не нашлось, что сказать.
Гюнтер вдруг отделился от стены и встал на фоне проёма. Михель выбросил было руку, чтобы отдёрнуть его обратно, но одумался — не из тех Гюнтер, чтобы вот так, бесславно, оплатить разом по всем счетам. Быстрой смерти не ищет, до конца будет цепляться за жизнь руками и зубами.
Ударил одиночный выстрел. Гюнтер едва уловимо подался влево, приседая, затем принял прежнее положение — чёткая мишень на фоне окна. Взгляды всех сверлили его спину, но Гюнтер молчал, чего-то выжидая. Слабое сожаление Михеля о том, что власть над поредевшей группой опять уплывает, исчезло бесследно. Пусть только Гюнтер выволочет их из этой ловушки, разломает капкан безысходности, а потом может командовать хоть всю жизнь.
А может, и не Гюнтер здесь вовсе нужен, но вмешательство иных, вышних сил-покровителей, если, конечно, на небе ещё хоть кто-то не отвернулся от Михеля и его команды. Ведь Гюнтер всего лишь смертный, такой же, как они, разве почестнее.
И здесь Михель ВТОРОЙ РАЗ воззвал к брошенной когда-то им и умершей без сыновьей ласки и догляда матери: помоги.
— Так и знал, — негромко сказал Гюнтер, то ли самому себе, то ли всем, ведь знал же, чувствовал, что слушают одного его. — Порох они весь Мельхиору ссыпали, а сами сидят без заряда, — добавил он погромче, но всё так же не оборачиваясь. — Думают взорвать дверь и толпой добыть нас «белым оружием»[113].
Словно подслушав, что речь идёт о нём, подал из-за своего укрытия голос Мельхиор:
— Вот, значится, как, Макс и Михель. Вот вы что — убить меня задумали. Башмаками моими завладеть да попользоваться. Ну так и я вас с превеликим удовольствием в гроб вгоню. Не помилую. Я душу перед ними, понимаешь, нараспашку, а они в меня из мушкетов. Да я...
— Мельхиор, — негромкий голос Гюнтера, ровно ливень дорожную пыль, прибил визгливые причитания Мельхиора.
Все словно воочию увидели, как сжался за своим щитом подлый предатель, как страстно захотелось ему быть за тысячу немецких миль отсюда, зарыться в землю, испариться. Ибо чуть поменьше жизни ценил он и любил, почти как свои башмаки, Гюнтера, своего наставника и духовного пастыря. Соглашаясь на предательство, никак не подумал, не посмел подумать, что кроме готовых день и ночь потешаться над ним и его башмаками Ганса и Макса, кроме Михеля и Гийома, могущих без запинки перечислить цену его башмаков, деньгами либо натурой, у всех кабатчиков, маркитантов, перекупщиков и держателей закладов, ему ведь, крути не крути, придётся общаться с Гюнтером.
Гюнтер не спешил. Знал магию своих слов, втайне надеялся, что при звуках его голоса рухнут Мельхиоровы врата, как пали некогда неприступные стены Иерихонские[114]. Раскаявшийся и все осознавший заблудший путаник вернётся в лоно 4Г и 4М. Когда этого не случилось, Гюнтер даже испытал лёгкую досаду.
— Слышишь меня. Это говорю я — Гюнтер. Ответь мне, брат.
Михель почувствовал, что при этом нежданном-негаданном, как снег в июле, «брат» лицо его свела судорога. И это после того, как мгновение назад Мельхиор прилюдно их поносил и собирался напрямки вознести на небеса. Осторожно разминая лицо рукой, Михель только и смог пробормотать про себя: «Гюнтер есть Гюнтер, и он неподражаем».
— Да, да, да! — если бы Мельхиор дотянул до Второго пришествия Христа, и тогда в его голосе вряд ли было бы больше экзальтированного восторга. — Я слышу, и я готов слушать тебя до бесконечности. Ибо только ты всегда меня понимал, поучал и направлял на путь истинный.
— Желаешь моей погибели, Мельхиор? — Вкрадчивый голос Гюнтера словно убаюкивал ярость по обе стороны окна. Впрочем, Михеля неприятно резануло «моей». Уж не собирается ли Гюнтер, отделив агнцев от козлищ, сепаратно поискать спасения. Тут надобно держать ухо востро!
— Гюнтер, я не... Нет вот у меня выхода, Гюнтер, пойми, — казалось, Мельхиор и Гюнтер соревновались, кто из них тише выразит свои чаяния. Может, и вообще не надо было им что-то говорить и доказывать. В этой паре Гюнтер — строгий пастырь, Мельхиор — прилежный адепт, они отлично понимали друг друга без слов.
— Я жить хочу, — чуть громче добавил Мельхиор.
— Понимаю, брат. — Гюнтер стоял у окна, словно на кафедре, в голосе его явно прорезались назидательно-нравоучительные нотки. — Каждый выбирает свою дорогу, и каждый по своему разумению шагает к своему вечному спасению, но на всё воля Христова. Господь наш незримо присутствует рядом, и в печали, и в радости.
— Такты понимаешь, ты оправдываешь меня? — недоверчивый восторг Мельхиора метнулся от пропасти к надежде.
— Не только понимаю, но и прощаю тебя. — Гюнтер умолк, как бы давая Мельхиору время для переваривания своих слов, а также чтобы Мельхиор получше приготовился к дальнейшему. — Покажись, Мельхиор. Хочу поглядеть на тебя напоследок. Благословлю тебя на будущую жизнь, в которой мне уже не быть с тобой рядом.
В голосе Гюнтера пробились искренние слёзы.
— Ну нас-то не проведёшь! Какой всё ж таки молодчина Гюнтер. Счас этот олух высунется из-за щита, и я, а то кто же ещё, с превеликим удовольствием прострелю его поганую башку. — Михель рванулся вперёд, но вдребезги расшиб свой порыв о недвусмысленно-запрещающий жест Гюнтера.
— А как же Михель, как же Макс? — сквозь счастливые рыдания произнёс Мельхиор. Оказывается, слёзы не растворили его недоверия, оно просто осело на дно.
— Я клянусь тебе, слышишь, клянусь, что ни Макс, ни Михель, ни Гийом, ни Ганс, — Гюнтер дважды повторил имена, чтобы Мельхиор лучше прочувствовал, — до тебя и пальцем не дотронутся. Веришь ли мне? — и обернувшись вглубь комнаты, Гюнтер громко, грозно, раздельно произнёс: — Ни с места, поняли! Кто сделает хоть шажок — уложу на месте!
И Михель, и все остальные поняли, что это отнюдь не пустая угроза.
— Как же так! — едва не заорал Михель, но прикусил губу. Возбуждённо зашушукались Гийом с Максом. Даже Ганс заворочался и застонал в своём углу, хотя вряд ли издаваемые им звуки относились к сложившейся ситуации. Только Маркус на отшибе ничем не выразил своих чувств.
— На пол! Все на пол! — последовала новая команда Гюнтера.
Ружьё Михеля в руках, а Гюнтерово лежит на подоконнике. Михель, если захочет, сможет сразить Гюнтера быстрее, чем тот Михеля. А далее? Это не выход. Где-то на самом донышке души Михеля сохранилась горстка доверия к Гюнтеру.
И ещё Михель осознал, что Гийом, и Макс, и Маркус, три здоровых мужика, ровно дети малые, обиженные странным дядькой Гюнтером, заглядывают в рот ему, Михелю, ждут его слов, распоряжений, действий. Если он сейчас выстрелит в Гюнтера — воспримут как должное.
Притворно покряхтывая, Михель опустился на пол. Мелькнула мысль перевернуться на спину, закрыть глаза, скрестив руки на груди, но странные речи Гюнтера, его непонятные приказы, возможно, потребуют противодействия, так что надо быть начеку. Михель устроился на животе, не выпуская мушкет из рук и исподлобья приглядывая за Гюнтером. Рядом торопливо устроились Макс и Гийом, Маркус сзади, причём Макс тут же, брызгая слюной, стал что-то горячо нашёптывать Михелю, явно интригуя против Гюнтера, но Михель махнул рукой — отвяжись. Гийом, как всегда, был спокоен и вроде полностью уверен в вожаках — не продадут, вызволят. Только внимательно присмотревшись, можно было разглядеть в глубине его зрачков застывшие льдинки страха. Да кому бы приспичило его разглядывать. Михель по крайней мере был уверен, что Гийом не позволит этой льдинке растаять и затопить сознание. Другое дело импульсивный, взрывной Макс.
Но их возможные действия в данный момент меньше всего интересовали Михеля. Горизонт наглухо заслонила гигантская фигура Гюнтера. Важно, что этот умник замыслил.
Михель ощутил накат волны чёрной ярости. Какого чёрта он, словно бычок на поводу у Гюнтера, покойно и покорно топает на бойню, а повод сей свит из хитроумных словес Гюнтера.
Держись, Михель! Не спеши впадать в безумие. Сегодня не их день. В этот препоганый день и хладнокровные прагматики едва уберегут свою шкуру от лишних дырок, а уж для невоздержанных, невоспитанных давно в божественной канцелярии отмерено, отвешено, подсчитано.
И тут вдруг Михель оцепенел. Ему показалось, почудилось, этого не могло быть. Это сбываются его грёзы, ведь он же подспудно ждал чего-то подобного: Гюнтер, как бы невзначай, не нарочно, случайно, непреднамеренно, бедром едва заметно подвинул свой мушкет.
Почудилось. Не может Гюнтер навредить своему ученику, он ведь Мельхиора постоянно подспудно готовил к пострижению, к совместному вероятному уходу от мира сего. Для подтверждения своих сомнений Михель повернулся сначала к Гийому, затем к Максу.
Гийом лежал, зажмурив глаза, понимал, что действия ещё впереди, не сдадутся они так просто, даже если все полягут в доме, и перед возможным вечным покоем использовал каждую минутку для передышки. Значит, ничего не видел. Но Макс-то, востроглазый Макс, не мог пропустить такой важности. Однако и Макс не узрел ничего особого — взгляд Михеля он расценил как попытку ещё раз обсудить обстановку и действия Гюнтера. Стратег хренов — чего языком молоть попусту, и Михель заткнул начинающееся словоизвержение запрещающим жестом. Макс обиженно пробубнил что-то под нос, но тут же умолк, поняв, что Михеля раздражать не стоит.
И всё же Михель остался в уверенности, что намеренно или случайно Гюнтер развернул свой мушкет в сторону Мельхиора.
А вот и он сам. Лёжа на полу, подокном, Михель представил воочию всю нескладную Мельхиорову фигуру с пунцовой от смущения и слёз рожей, слипшиеся от пота и грязи, серые от обильной седины космы — на его жалкую шляпу явно позарился какой-то мужичонка либо попросту утерял, раззява, увесистые даже на глаз сумки, оттягивающие плечи и, конечно, пыльные, два дня не чищеные и потому довольно жалкие Мельхиоровы башмаки. Одной рукой Мельхиор придерживал ворота, другой сжимал трубку с фитилём.
— Вот он я, Гюнтер, — попросту объявил Мельхиор, словно отлучался стаканчик пропустить.
Мужики встретили поведение Мельхиора возмущённым гулом, но на это вряд ли обратили внимание.
— Я всегда знал, Гюнтер, что ты лучше многих. Ты один на всём белом свете меня понимаешь и прощаешь. Поговори со мной, Гюнтер.
— Верой, данной мне Господом нашим, отпускаю тебе все грехи твои, в прошлом, настоящем и будущем. — Голос Гюнтера оборвался на высокой и торжественной ноте, ровно поперхнулся он куском слова либо сорвал голос, взяв слишком высоко.
Томительное мгновение, когда Гюнтер замирает с воздетой в воздух рукой, собираясь перекрестить Мельхиора, а сам Мельхиор, вконец пристыженный и раскаявшийся, решает, не изменить ли ему круто в который уж раз за день свою судьбу и направить носки своих башмаков в обратную сторону.
— Покойся с миром. — И когда Мельхиор, отпускает ворота, которые почему-то стоят и не падают, и делает неуверенно, робко шажок-другой к своим, Гюнтер истово и быстро перекрещивает его. Разум Мельхиора постепенно постигает смысл последних слов Гюнтера. Он останавливается в недоумении, вопрошающе разглядывая Гюнтера, а левая рука Гюнтера по бедру скользит вниз к замку мушкета, лицо Мельхиора перекашивает гримаса отвращения и ужаса, он оборачивается к своим воротам, которые начинают заваливаться на него, а палец Гюнтера уже на курке, и он не целясь — от бедра.
Выстрел заставил лежавших на полу торопливо вскочить, но голос мушкета сливается с мощным взрывом, от которого дом сотрясается, словно в лихорадке. От неожиданности Михель присел, а Макс рядом с ним даже опять расстелился на полу. И тут же на них «пороховым духом»[115] отшвырнуло от окна Гюнтера.
Так Михель и не добился потом от Гюнтера ответа на вопрос — намеренно или чисто случайно угодил он пулей в пороховую сумку на боку Мельхиора.
Визжащий от страха Маркус, отчаянно богохульствующий Михель, плачущий Гюнтер отлетели в угол и рухнули на Ганса, устроив «кучу малу». Порядка не добавил очнувшийся от столь бурного натиска Ганс. Ещё не пришедший окончательно в себя, он принялся дико орать и яростно отбиваться, не соображая что к чему.
К тому же комнату моментально заволокло дымом и пылью, и вскоре всех одолел немилосердный чих.
Михелю наконец-то удалось взломать хитросплетение ног, рук, мушкетов, шпаг.
— Макс, Гийом, к окну, живее! — к Михелю моментально вернулся командирский тон. Неуязвимый Мельхиор, судя по всему, получил по заслугам, значит, можно снова побороться за власть.
— Ах мать честная! — Макс, как обычно, опередил прочих и, как обычно, не мог просто, без словесных выкрутасов, объяснить, в чём дело. — «Волки»[116] прут стадом!
— Кто, кто? — неподдельно изумился Гийом, однако тут же понятливо протянул: — А, ясно.
Остальные тоже без объяснений поняли, что к чему. Известие об опасности, словно пружина, подбросило всех в одночасье. Михель огромным прыжком одолел расстояние до окна. Беглый взгляд: ни Мельхиора, ни ворот. Как ураганом двор вымели.
А внизу-то полнёхонько мужиков. Крадутся по двору, осторожно косясь на окна. И всё новые и новые перемахивают через забор.
«Эге, да они порешили, что Мельхиору удалось задуманное и он подорвал нашу дверь. Ринулись на штурм, и не могут сообразить, что к чему, — сообразил Макс. — Дверь-то на запоре, и Мельхиор запропастился бесследно».
Один из мужиков, узрев Михеля, погрозил ему кулаком в бессильной ярости.
— Ну, счас я тебе устрою. Впрочем, почему только тебе.
— Караколе[117], ребятки, караколе. Первая пара — я и Макс, затем — Гийом, Маркус, третьи — Гюнтер, Ганс.
— У гостим горяченьким! — не преминул вставить Макс.
Что хорошего в Максе: не успеешь произнести его имя — он тут как тут.
— Мой вон тот мешок жира с алебардой, — предупредил Михель, чтобы, не дай бог, не влепить две пули в одну цель.
— И как он, сердешный, ей собрался в доме размахивать, — словно у Макса только и голова болит, что о мужицких удобствах.
Макс, как повелось, первым спустил курок. Краем глаза Михель отметил, как один из мужиков, обернувшийся в это время назад, чтобы лишний раз убедиться, что он не один здесь, да так назад и завалился, не успев глянуть в лицо своей гибели.
Выстрел Михеля — надо торопиться, дать и другим место у окна. Алебардист, выпустив оружие, замирает, зажав рукой внезапно разверзшееся во внутренностях пекло.
Того, как раненый, медленно, с усилием, поднёс руку к глазам и, удостоверившись, что это действительно его кровь, начал медленно оседать, Михель уже не видел — торопливо перезаряжал в углу комнаты, а место стрелков заняли Гийом и Маркус. Два выстрела слились в один. По невозмутимому виду Гийома было трудновато определить результат, зато Маркус не сдержал торжествующей улыбки:
— Поторопитесь — они драпают.
В густом дыму, враз затянувшем комнату, Гюнтеру и Гансу пришлось труднее других. Тем не менее Ганс, разогнав немного дымовую завесу рукой, не зря спалил теперь уже Михелев патрон. Свою пулю Михель с великим трудом, рискуя обломать шомпол, загнал-таки в его мушкет[118], пока Ганс очухивался в углу. Ганс поспешил сообщить о своей удаче восторженным рёвом, а вот у Гюнтера дела что-то не заладились.
Макс-торопыга успел-таки вторично прибить заряд, и глаза у него зоркие — самый неловкий отступающий, не успевший полностью очистить двор от своей персоны, свесился по обе стороны забора.
Когда подскочил Михель, во дворе, на беглый взгляд, ничего живого не осталось. Не считая видимую нижнюю половину подбитого Максом напоследок, во дворе прибавилось четыре тела — значит, Гийом тоже промахнулся. Из всех пятерых реальной опасности никто не представляет — патроны можно поберечь.
— Михель, Михель, — возбуждённо зашептал возникший рядом Гюнтер. — Видишь вон кучу мусора возле развалин сарая. За неё гадёныш один заполз. Лихо так избежал моей пули — просто диву даюсь. За главного он у них — сам на рожон не пёр, исподтишка подзуживал. Нужен он мне. Ты пужни его, а я уж тогда не упущу.
— Ясно, — Михеля не надо просить дважды.
Мужики после такой встряски больше не полезут, а заводилу убрать — всё равно что десяток простых укокошить.
Приглядевшись, Михель заметил край шляпы неопределённо бурого цвета.
— Гюнтер, готов?
— Ага, — односложно отозвался Гюнтер, чуть сдвигая Михеля плечом для более удобного прицеливания.
Пуля Михеля взбила фонтанчик мусора прямо перед мужицкой мордой. Как верно было рассчитано, хладнокровия у главаря нападавших недоставало — явно под градом пуль в строю не маршировал. Он вскочил, открывшись во всей красе, и Гюнтер точнёхонько послал пулю ему в брюхо.
— Вот он мне за всё и ответит, — пояснил Гюнтер немой вопрос Михеля — почему не выстрелил в голову или грудь?
— Пущай помается, — согласился Михель. — В следующий раз такие, как он, солдатские станы за милю обходить будут.
— Полагаешь? — скептически сощурился Гюнтер. — Никто ничему не учится. Пока мы будем их грабить и мучить, они будут гадить в ответ — открыто и исподтишка. Лишь бы не отдал Богу душу до того момента, когда я спущусь с ним потолковать.
Внезапно Михель обнаружил на оконном карнизе то, что другие в горячке отражения атаки как-то проглядели.
Мельхиоров башмак, будь он неладен! Взрывом сюда занесло, а то как иначе. Лежит себе новенький, не смят, не прожжён. Умильную картинку портит несущественная деталь — осколок кости последнего владельца, торчащий сверху. Ну да нам, ландскнехтам, не привыкать к подобным мелочам. И не такое видывали.
Подивись, Гюнтер. Последний привет от Мельхиора. Может, где и второй валяется и кому-то ещё они будут впору.
Михель размахнулся, чтобы забросить проклятую память о предателе как можно дальше, но Гюнтер подставил руку.
— Хоть это схороним. Всё ж таки тварь Божья.
— Вот именно, что тварь! — Михель вложил смысл прямо противоположный Гюнтерову, однако не стал спорить, когда тот мягко, но настойчиво выкрутил из его руки последний остаток Мельхиора на этой земле.
И ведь схоронил же, и заупокойную прочёл, и крест поставил — всё честь по чести.
Михель не раз наблюдал, как погребали отдельные косточки-суставчики солдат, попавших в подобный переплёт, иной раз слабо надеясь, что это останки именно того, кого надо. Но Гюнтер-то свершил обряд над предателем — хуже врага. Все честь по чести, лишь уходя, бросил:
— Встретимся в аду. Явись, пожалуйста, обутым.
Скоро подал голос и «крестник» Гюнтера. Сперва просто стонал, потом начал кричать, чтобы добили — свои ли, чужие — без разницы. Его просьбу поддержали мужики за забором, обещая чудовищные кары, если изверги ландскнехты не исполнят последнюю волю умирающего. На всё это Гюнтер только посмеивался и предлагал паре мужиков рискнуть с дубьём перелезть через забор и самим несколькими ударами свершить благое дело. Те в ответ подняли над забором шляпу на прутике. Ландскнехты, разумеется, не клюнули на столь дешёвый фокус. Подставлять головы вместо шляп мужики не рискнули. На этом перебранка закончилась. Стих, ослабев, и раненый, чем немало обеспокоил Гюнтера.
Настроение у всех в доме после первой, пожалуй, за день удачи резко повысилось. Повеселел даже Ганс, которому от щедрот выделили четыре патрона, и он, кое-как обточив ножом пули к своему ружью, вновь почувствовал себя вооружённым и уверенным, хотя время от времени морщился и осторожно трогал раненое плечо. Пару раз Михель ловил его ощупывающий взгляд, но не придавал этому серьёзного значения — после поговорим. И о Мельхиоре, и о солдатской взаимовыручке.
Однако ж солнце, в данном случае союзник ландскнехтов, явно собиралось предать-улизнуть. Торчало над горизонтом хорошо если на две пики. Как пить дать, мужики ночью взбодрятся и попытаются-таки добыть головы упрямцев.
Голод опять же донимал всё сильнее и сильнее — кишки прямо-таки военные действия в тылу открыли, требуя контрибуции. Макса уже дважды гоняли за водой, и с каждым разом она оказывалась грязней. Ганс пробормотал что-то насчёт неотложной нужды и бочком-бочком выскользнул за дверь.
— Братцы, а он ведь на чердак, за девкой, — догадался Макс.
— Сейчас вернётся весь в кровище, и будет нарочно, на виду у всех в зубах ковыряться. — Маркус никак не мог привыкнуть к Гансовым выходкам.
— Помните, помните, однажды Ганс на полном серьёзе утверждал, что, если одновременно закусить католиком и протестантом, несварение обеспечено — они и в брюхе продолжат распрю о вере.
— Постой, — спохватился Михель, ткнув пальцем в Маркуса, — когда началась вся эта заварушка с мужиками, ты ведь что-то уписывал за обе щеки?
— Кто, я? — удивлению Маркуса явно недоставало искренности.
— Э, братишка, — насел на него Гийом, брюхо которого издавало особенно выразительные рулады. — Так не годится в честной компании, чтобы один трескал от пуза, а другие ноги протягивали с голодухи.
— А ну-ка дыхни, — поднялся с корточек Макс, — враз определим.
— Да я, — потупился Маркус, — в общем, там кусочек ветчины завалялся от чьей-то столетней трапезы. Ну, до того закаменел проклятый — не угрызть.
— Так подать же его сюда немедля! — чуть ли не в четыре глотки, как у них частенько случалось, выдохнули остальные.
Маркус метнулся было из комнаты, но был схвачен за полу камзола Максом.
— А ведь он сожрёт по дороге половину, — авторитетно заявил Макс, — слупит, как пить дать.
— Надо послать тогда с ним кого, дабы догляд был, — рассудительно пробасил Гийом.
— Ну да, чтобы они в две пасти уничтожали всеобщее достояние.
В конце концов после недолгих споров решили, как обычно, послать Гюнтера.
— Смотри, чтоб он тебя не зарезал за тот кусок, — напутствовал Гюнтера на дорогу неугомонный Макс. — Да пошарь хорошенько, может, там не один кусочек-то завалялся.
Гюнтер для смеха взял мушкет наперевес, словно Маркус находился под стражей, и так его вывел из комнаты.
— Такой компании обормотов только с мужиками и совладать. Бывалые вояки вырезали бы нас в два счёта, — подал голос молчавший до того Михель.
— Где ж их взять, бывалых-то — все от сохи вчера забриты.
Кусочек, торжественно внесённый Маркусом, подталкиваемым Гюнтером, был не сказать чтобы так уж и мал. Вот насчёт твердокаменности Маркус ничуть не приврал.
— Только топором и орудовать, — покачал головой Макс. — Зубы тут не помощники, да и нож обломать — раз плюнуть. Только по запаху и можно определить, что сие такое. А помните божественный запах свежайшей, только что с коптильного крюка ветчины?
Гийом отвернулся в угол, наклонился — изо рта его обильно потекла голодная слюна. Михель молча показал неугомонному брехуну кулак — нашёл, мол, время вспоминать такое.
— Ребята, а что если мы его сварим? — подал мысль Гюнтер.
— Кого, эту заразу Макса? — флегматично поинтересовался Михель так, что Макс метнул на него испуганный взгляд — вдруг да не шутит.
— Тут и так-то на раз куснуть, а коли уварится, то и в котелке совсем потеряешь. — Маркус не мог скрыть обиды, что выпотрошили его заначку, и потому все предложения отметал с порога.
— У меня вот тут, в кармане, — Гюнтер не обратил на тираду Маркуса ровно никакого внимания, как он умел, — совершенно случайно горсти три зерна завалялось, с того поля перед деревней. Можно их к мясу.
— Вот же черт! — хлопнул себя по лбу Макс. — Ведь и у меня же в сумке десятка три колосков нелущёных. Времени не было, так я их так напихал — про запас — и забыл совсем с этими мужиками, будь они неладны.
— Вы пошарьте, пошарьте по карманам — явно по солдатской привычке зерном впрок запаслись, — невозмутимо гнул свою линию Гюнтер. — Вот вам и шляпу жертвую, ссыпайте в одно место.
И ведь как в воду смотрел! Кроме бесшабашного Гийома у каждого хоть по десятку зёрен да обнаружилось.
— А добрая кашка собирается, — радостно заявил Гийом, пересыпая-провеивая зёрнышки из руки в руку.
— На шестерых здесь, пожалуй, маловато, — остудил его энтузиазм брюзга Маркус. — Вот ежели одному напереться. Опять же соли нет.
— Не ворчи, жадюга, — оборвал его Гюнтер. — Поломал бы зубы втихомолку, а тут смотри, скольких твой кусок напитает и осчастливит. К тому же смотри, каков расклад: соль должна быть в ветчине — это раз; Ганс, не к столу будет сказано, я полагаю, сытым возвернётся — рот долой — это два.
— А посуда? Варить-то, в чём собрался, умник? В шляпе, что ль? А на чём? Думаешь, мужики нас за хворостом выпустят? Или, может, дверь нашу на топку пустим?
Гюнтер, только обречённо махнул рукой — что, мол, на тебя слова-то попусту расходовать.
— А вот ежели бы ещё можно было Георговы да Мельхиоровы карманы обсмотреть, ведь явно тож зёрнами запаслись, — ляпнул, не подумав, Макс, и все вдруг потускнели лицами, а Макс, ничего не замечая, продолжал языком молоть: — Тем паче что они не едоки ноне, наша бы доля возросла.
Ожидая поддержки на свою шутку, Макс оглядел прочих. Однако все потупились, не принимая его взгляда. Повисла неловкая тишина.
— Интересно, где сейчас наша артельная повозка[119]? — задумчиво протянул Михель, который после очищения карманов вновь занял наблюдательный пост у окна.
— На то и обоз создан Господом, чтобы вечно отставать да появляться в тех местах, куда имеют обыкновение заглядывать вражеские разъезды, — ввернул Макс.
— Жалко будет нашего каурого, да и фуру[120], коли мужики их подцепят, — хозяйственно рассудил Гийом. — Вроде и нет там ничего такого — котёл, поржавевший от безделья, палатка драная-штопаная да ведёрко с колёсной мазью, а всё жаль.
— Как же, — Макс тут как тут, — а запас кремней и фитилей, а пистоль без курка, а кинжал Георгов сломанный. Зачем он ему нужен был, как полагаете?
— Позолоту с ручки вроде хотел соскоблить или кузнецу продать, — отозвался Михель, лениво окидывая взором знакомый до последней соринки Двор.
— То и мы можем сделать. Глядишь, пару медяков выручим. Меня больше волнует, как бы обозный наш, Андреас, ушлый малый, пока мы в отлучке, не загнал бы первому встречному повозку да лошадку да не смазал салом пятки.
— Так ведь некуда идти ему, — Макс не собирался уступать инициативу в разговоре, — круглый сирота он, шведы постарались, я выспрашивал.
— Честный парень, можно положиться, — веско, как обычно, вставил Гюнтер. — Появись сейчас перед нами, да с котелком под мышкой — расцеловал бы. Макс, кончай лясы точить — за водой, да и посуду надо какую приглядеть, на дрова что-нибудь разломать. Бери Маркуса да Гийома. А то ведь болтовнёй сыт не будешь.
— Точно, — мысли Гийома вертелись вокруг еды, ровно жаркое на вертеле. — Пока туда-сюда, зерно хорошенько упарится, дай Бог, к полуночи управиться. Там ещё мужики — дадут-нет ложку ко рту донесть. Хотелось бы сдохнуть сытыми.
— Будем мы тебе её парить-жарить, — проворно вскочил Макс. — Помнишь присказку нашу — «Горячее сырым не бывает». Потопали работать.
Однако не успели Маркус и Гийом подхватиться за Максом, на пороге возник Ганс.
— Ребяты, — жалобно просипел он в полной прострации, — это что ж такое творится на белом свете. Девки-то нигде нету. Уж я весь дом облазил.
Ганс ещё что-то бормотал, а Макс уже согнулся в углу, держась за живот.
— Она на небушко вознеслась, Гансик, — рыдая от смеха, выдавил Макс, — понимаешь, на небо, вместе с бренным телом.
Макс ткнул пальцем в потолок, и Ганс послушно проследил взглядом за его жестом, словно ожидая обнаружить какие-то следы на потолочной копоти. Тут уж засмеялись все. Даже мрачную физиономию Гюнтера расцветила улыбка. Ответным эхом раздались мужичьи проклятья по ту сторону ограды, да только кто на них обращал внимание. Лишь Ганс сурово сдвинул брови, сообразив, что опять попал впросак.
— Что, обжорна ненасытная, выкусил втихомолку? — включился в веселье Маркус, и все, оценив, тут же подхватили — «обжорна, обжорка».
— Надо было дурню её за ноги к балке подвязать, ровно окорок, тогда бы никуда не делась, — вначале никто не понял, серьёзные речи ведёт Гийом или подначивает беднягу Ганса, но Гийом сам рассеял недоумение, лукаво добавив: — И подкоптилась бы пороховым дымком заодно.
— Лучше за шею надо было вязать, — и приподнявшийся было Макс вновь повалился, совсем не беспокоясь о чистоте платья, — как корову в стойле.
— Ну какая ж она корова, — от нарочито трезвого тона Гийома, стало ещё веселей.
— Она тёлка, стельная или яловая, — попытался блеснуть познаниями в сельском хозяйстве бессменный обитатель городов и лагерей.
— Пле... пле... племенная, — наконец-то совладал с языком Макс, вновь зарываясь в кучу мусора.
Ну, не мог Ганс, видя такое буйство безудержного веселья, долго оставаться хмурым и обиженным.
— Ну да, не пожрал, не пожрал, и в брюхе тьма египетская, и задница опять останется девственно-чистой и скоро вообще паутиной покроется! Довольны, довольны, да! Но ведь ты-то Макс, ты-то тоже голодным походишь.
— А вот и не угадал, не угадал! Ставишь стаканчик в ближайшей корчме, что скоро поедим?
— Ребята, — понятливо растянул рот до ушей Ганс, — так она у вас, и живая!
Вот тут-то всё испытавший и переживший дом точно должен был распасться и рухнуть, насыпав могильный холмик над визжащей и стонущей от неистового восторга пятёркой.
Мужикам явно должно было почудиться, что в доме завелась нечистая сила, и их недругов за руки — за ноги волокут на раскалённые сковородки и в полные смолы котлы.
— Да, да, да — и насолили, и накоптили, и напарили, и нажарили, — Макс быстро загибал пальцы, всё больше запутывая Ганса. — Тебе что в девках больше нравится? Отвечай быстро и честно! Поди-кось филейная часть? Помним, как ты постоянно оглядывался на всех встречных и поперечных.
— Да, задок, — и Ганс развёл руками, показывая, какие именно размеры заслуживают его внимания.
— А мы тебе грудку оставили, — хором заорали все, ибо Ганс уже не первый, да и не десятый раз попадался на эту старую как мир, ещё на каннибальской заре человечества придуманную шутку.
И опять задрожал, затрясся, заходил ходуном старый дом, пытаясь припомнить — смеялись ли когда в нём так, как эти сумасшедшие... Разве что до войны.
— Полбу будешь лопать и радоваться, — ткнул Ганса в чудом не рассыпанное в этой заварушке зерно Маркус. — На свежатину его растащило, видишь ли. Одно слово — обжорка.
— Он не обжорка, — вступил в разговор охрипший от беспрерывного дикого хохота Михель, — он — господин лишний рот.
Однако посмеяться вдоволь над этой новой шуткой успел разве что быстрый на еду, веселье и расправу Макс.
XIX
Ударил залп, другой, зачастили по отдельности в какофонию выстрелов, нарастая, включились крики, конский топот. Где-то там, за стенами, жарким пламенем вспыхнул бой — короткий и яростный.
Вмиг смех полетел из окна, вышвырнутый за ненадобностью. Мушкеты в руках, фитили проверены, курки взведены — к окну, к окну. Ганс, увалень, опрокинул шляпу с зерном, но никто этого и не заметил.
Тревога, мешаясь с радостью, густо залепила комнату. Неужто долгожданное спасение? А вдруг это просто мужики из-за чего-то крупно повздорили? А если это шведы?
— Крути, не крути, надо вылезать. Не дожидаться же здесь второго пришествия, — выразил общий порыв Гюнтер.
— Сунемся из огня да в полымя, — с сомнением покачал головой Маркус, всё ещё не переваривший потерю своей личной ветчины.
— Опять не поели, — сокрушённо покачал головой Гийом, — чует моё сердечко — помирать нам голодными.
— Вылезать надобно! Правильно Гюнтер говорит, — воинственно потряс мушкетом Ганс. — Глядишь, ещё и девку догоним. Чую, не могла далеко уйти.
— Кто про что, а горбатый всё про горб, — недовольно скривился Маркус.
— А то! Вы-то успели, натешились, а мне-то мужики помешали.
— Угомонись, ради всех святых, — оборвал его причитания Гюнтер. — Ты, Михель, что отмалчиваешься? Хотелось бы и твои соображения послушать.
— Ясно одно: кто бы там ни был, они колотят наших врагов, а значит, могут быть нам небесполезными, — несколько витиевато выразил свои мысли Михель.
— И хорошо колотят, — согласно кивнул Гюнтер. — Гляди-ка.
Досаждавшие им мужики бросали свои позиции и разбегались кто куда, совсем не думая, что оказывались на виду под прицелом из дома — несомненно перед лицом новой, ещё более грозной опасности. Ландскнехты схватились было за мушкеты, чтобы довершить разгром и позор своих недавних мучителей, но были остановлены Гюнтером.
— Поберегите патроны, неизвестно ещё, что и как.
— Да что там думать, — Макс даже облизнулся от нетерпения. — Ясно, как Божий день, наши расчухались. Самое время взять их в клещи и давануть так, чтобы хруст в Нюрнберге услышали.
— А вдруг это банда побольше занимает себе квартиры?
— Непохоже, — покачал головой Михель. — Послушай, как лупят: ровными залпами, точно по счёту. Солдаты то, да ещё как лихо вымуштрованные.
— Напомнить, чья армия сейчас ходит в лучших[121]?
Михель только махнул рукой — и так всё ясно.
— Ну так что ж мы рассусоливаем? Раз начальник говорит — пошли, значит — пошли.
Михель покосился на Гюнтера, но так и не понял, серьёзно тот говорит либо шутит.
— Ох и накромсают нас здесь же, во дворике, не успеем дверь отворить, — заканючил было Маркус, но был безжалостно оборван Гюнтером.
— Приказ получен и должен быть выполнен.
А Ганс ещё и веско добавил прикладом по спине:
— Я, Гюнтер, присмотрю за этим нытиком, не беспокойся. Выше голову, Маркус, с тобой нас шестеро, и ты нам нужен, как и мы тебе.
— Вот так дурачок, — восхитился, верно, не один Михель. — Такие речи зажигательные ведёт. И как разумно... А не торопится ли Гюнтер сложить голову и тем искупить вину за Мельхиора. Его, положим, совесть мучает, а мы-то здесь причём.
— Да, знать бы верно, кто там порох тратит, можно было б не тужить, — поскрёб в затылке Маркус.
— И всё равно вниз — дверь отмыкать.
Один из мужиков до того ошалел от страха, что сиганул через забор, ровно решился на повторный приступ, и сейчас метался по двору, не зная, где бы схорониться.
Узрев такое охотничье раздолье, Макс зубами заскрипел от нетерпения. Однако первым же повернул к выходу, спеша навстречу новым приключениям.
«Если Макса подстрелят — то только влёт, — почему-то подумалось Михелю. — А меня явно по пьяному делу распластают, когда меньше всего ждать буду».
— Макс, — придержал живчика Гюнтер. — Срежь мне вон того олуха во дворе, чтобы глаза не мозолил. А то дверь отомкнём, а он бросится сдуру.
Как-то извиняюще Гюнтер добавил:
— У самого, понимаешь, руки чешутся на такое безобразие. — Но тут же напустил на себя обычный вид: — Но не дай бог, внизу твой мушкет окажется незаряженным. И останьтесь кто-нибудь ещё — соберите зерно да и кусок Маркусов злосчастный за пазуху киньте. Я всё ж таки тешусь надеждой усладить грешную плоть горяченькой похлёбкой либо кашей.
Михель вдруг понял, с каким трудом даже стальной Гюнтер сдерживает себя.
«Да провались оно пропадом, это командирство. Не повышу больше голоса ни на кого — хоть на куски режьте. — Михель сам же себя и оборвал: — Зарекался хорёк цыплят не таскать. Мысли у тебя какие-то. Не ко времени. Тут, может, и взаправду сейчас внизу на куски покромсают».
Сзади неожиданно громко ударил выстрел — Макс не терял времени даром. Когда они отвалили ненужную теперь балку, из-за которой совсем недавно рисковали жизнями, Макс уже тут как тут. И можно было не сомневаться, что мушкет его вновь готов выплюнуть добрую порцию свинца по первому желанию своего шустрого хозяина.
— Всадники объявились, — Максу не терпелось сообщить новость. — Но кто, откуда — даже я не разглядел.
— Попытаем счастья насчёт конинки. — Михель первым, решительно, как в реку, шагнул за порог, не сомневаясь, что его поддержат.
Выстрел Макса не остался незамеченным. Послышались голоса — явно решали, как сподручней заскочить во двор, затем всё покрыла резкая, как удар хлыста команда.
— По-немецки голосят, — у Маркуса от напряжения даже уши зашевелились. Это был один из его любимых фокусов, но, пожалуй, впервые, он делал это бесплатно.
— А ты думал, по-турецки. — Макс не преминул вставить словечко и поднять на смех друга, но момент для шуток опять выдался неподходящий.
— Может, Гюнтер составит третью линию, — говоря это, Гийом не оторвался от своего занятия — забивки острия фуркета в щель между брусчаткой двора, и никто не понял — шутит он либо говорит серьёзно.
Выйдя на свет, они, как бывалые солдаты, тут же приняли двухшеренжочный строй: Михель, Маркус, Гийом — впереди, Макс, Гюнтер, Ганс — сзади. Фланги их упирались в стены дома, с тыла не зайти, а шесть мушкетов, когда каждому даётся бытие единственное и неповторимое — это вам не шутка.
Ответить Гийому, возжелавшему безмятежной службы в тылу, не успел даже скорохват Макс. Прежде всего потому, что появились всадники — неведомые пока избавители либо погубители.
— А лошадёнка-то шведская[122].
— Нас не лошадь будет убивать, а тот, кто на ней, — Ганс время от времени выдавал удивительно светлые мысли. Наверное, в те моменты, когда меньше думал о девках и «развлечениях».
Первый всадник, неожиданно узрев перед собой готовую к отпору группу, резко осадив лошадь, повернул назад.
— Храбростью они не отличаются, — попытался поднять общий дух Гийом.
— Это не трусость — благоразумие, — меланхолично поправил Гюнтер. — Бывалый вояка не свяжется, как неразумный юнец, с шестерыми.
— Гюнтер, Гюнтер, — неожиданно для себя заговорил Михель. — Нас, возможно, будут сейчас убивать, а я ведь не смогу умереть, если ты мне не ответишь...
— Хочешь узнать, почему я не дал вам прикончить Мельхиора, а сам отправил его на небеса? Или выведать, когда у меня возникло твёрдое намерение очистить от него землю? — для Гюнтера чужие думки что раскрытая книга, и Михель только согласно кивнул головой.
— Я сам должен исправлять свои огрехи. Понимаешь, сам, и никто другой.
— А что ж ты, изверг, хитрован, не намекнул хотя бы жестом. Мы ж чуть с ума не посходили. Ганс вон из сивого седым стал.
— У Мельхиора и мысли не должно было возникнуть, что его обманывают. Чтобы и ветерок не смог донести.
— Но ты ведь его вроде как переубедил. Он же к нам шёл.
— Единожды предавший может и ещё раз преступить ту грань. Не было бы боле веры ни у нас к нему, ни ему к самому себе. А как без веры-то жить.
— Значит, и ты, Гюнтер, можешь ошибаться, — злорадно прошипел Маркус.
— Да, где-то я крепко дал маху. Я ведь его к постригу готовил, думал, спасу душу, да вы знаете.
— А ты вон Ганса спытай. Отменный пробст[123] получится. — Ну как не влезть Максу в общую беседу.
Максу не всегда везло на шутки, но уж если они удавались...
— Макс, чёрт тебя дери, — прорычал Михель, еле переводя дух и смахивая выступившие от смеха слёзы. — Ты ж нам всю боеспособность угробил. Как целиться-то прикажешь — сквозь слёзы.
Но тут же вновь поперхнулся смехом: надо ж удумать такое — предложить Ганса командиром в женскую обитель.
— Если Ганс пробст, я тогда — пенитенциарий[124] — Маркус швырнул мудрёное слово, словно полено в костёр веселья.
— Я наконец-то понял старинную мудрость — доверять можно только покойникам. — Гюнтер попытался остаться серьёзным.
— И то если зарыт не меньше, чем на десять футов, и зубами в землю. — В Макса словно бесёнок веселья вселился. А может, и не покидал его никогда.
— Счас вам представится возможность зарыть тройку-другую молодчиков в землю, — ткнул в сторону ворот Маркус.
— Возможно, это будем мы сами, — пытался сострить и Гийом.
— Что-то не наблюдаю у них шанцевого инструмента, — Макс явно сегодня собрался быть с костлявой запанибрата.
— Кляп в рот[125] — Михель ничуть не удивился, что у него вырвалась чисто морская команда, — слишком часто он в последние дни думал о море. Поразило, что его поняли и дружно умолкли.
— Говорим либо я, либо Гюнтер, остальные слушаются и подчиняются, — добавил Михель и тут же ввернул, поминая старое: — Понял, Ганс?
— Не сомневайся, — несколько смущённо отозвался Ганс. Кому ж понравится, если тебе, как первогодку-несмышлёнышу, напоминают персонально.
Въехавших во двор было не так уж много.
— Чёртова дюжина, — счёл Михель и тут же со вздохом про себя добавил: — Кажется, точно шведы, будь они неладны.
Кавалеристы держались уверенно, держа заряженные пистолеты на гривах лошадей, стволами вверх. Явно с палашами наголо они атаковать не собираются, а после короткого разбирательства перестреляют, не сходя с седел. Поэтому главное, не упустить вражескую команду, тоже успеть разрядить мушкет и хоть не задарма лечь в землю.
Вражеские ряды расступились, и вперёд выехал, судя по позументам, портупее, сбруе и осанке, офицер.
— Я его сшибаю, если что, — шепнул Михель, дабы все не вздумали выцеливать только одного, а рассредоточили внимание, спешив как можно больше врагов.
— Мне вон того щёголя с петушиным пером, на тарелочке, — первым, как обычно, сориентировался Макс и, как обычно, сделал это с прибауточками.
— Мой — тот молоденький. Явно зажился на этом свете, — определился Ганс.
— За что люблю этих парней — даже подыхать будут с улыбками и шуточками. — Состояние крайней угрозы отчего-то умильно подействовало на Михеля.
— Мой — вон тот, с большим жирным пятном на колете, — Маркус был неравнодушен к тем, кто что-то поел, да без него.
Сдержанно хмыкнул Макс, и Михель догадался, что Макса так и распирает сказать что-нибудь вроде:
— Это он твой кусок ветчины здесь глодал лет десяток назад и вернулся догрызать.
Но Макс, несмотря на всю свою бесшабашность, всё ж таки привык исполнять приказы, посему промолчал.
«Надо будет у него потом поинтересоваться, правильно ли я угадал», — как о чём-то само собой разумеющемся, подумал Михель.
— Я беру вон того, к кирасе от самого Эффенгадбера[126], — разнообразные ценности прошли через руки вора и ландскнехта Гийома — поневоле стал разбираться. — Чтоб не испытывать крепость старой стали да не повредить ненароком золотое откаливание, я ему рыло разнесу. Но и кираса тогда моя добыча.
— Ещё один заговорённый. Почему люди так не желают верить в собственную смерть. Да ещё на войне. — Михель определённо не мог сосредоточиться на предстоящей стычке.
— А я того подонка, что кутается в рясу с чужого плеча. Явно обитель разграбил либо храм осквернил, святотатец. — Пожалуй, только у Гюнтера в голосе проскользнула ненависть к тому, кого он собирался подстрелить.
— Ну что, господа мушкетёры? Все ли цели разобрали? — чужой капитан явственно видел их шевелящиеся губы. Догадаться, о чём могут переговариваться в этот момент, было несложно. — Однако спускать курки погодите. Давайте разберёмся, может, и миром разойдёмся. Или мало кровушки пролили, служивые? — неожиданно ввернул он. — Чьи будете? Что-то кушаков не наблюдаю[127]?
— Вы в фаворе, вам и карты раскрывать, — голос Гюнтера звучал более хрипло, чем обычно.
— Мы-то баннеровские[128]. А вы, господа, надо полагать, имперцы? — верно определив, что находится под прицелом противника, шведский капитан вёл себя на удивление уверенно, более того, дерзко-насмешливо.
В напрягшейся шестёрке давно уже никто не надеялся, что это свои, но всё же, подтверждение худших опасений подействовало ошеломляюще. Остатки 4М и 4Г тут же ощетинились мушкетами. В шведских рядах никто не шелохнулся, только лошади, тихо позвякивая сбруей, переступали копытами, наслаждаясь неожиданно представившимся отдыхом. Лишь взгляды у верховых стали такими же насмешливо-дерзкими, как и у командира. Одно слово — шведы. Интересно, а есть ли среди них действительно хоть один «фулблуде»[129].
— Михель, Гюнтер, — несмотря на все запреты, Макс не удержался. — Командуйте залп. Прикроемся дымом — и обратно. Балку на место, а там как Бог даст. Сядем в новую осаду.
«Тоже мне, стратег выискался, — недовольно хмыкнул про себя Михель. — Застоялся уже, ровно те шведские жеребчики. Лишь бы что-нибудь делать — бежать, стрелять — без разницы... А действительно, что предпринять? Послушаем шведов, ведь почему-то же они до сих пор не напали. К тому же Гюнтер у нас сегодня в умниках ходит, пусть он и соображает, а мы выполним. Стрельнуть и дурак сможет, был бы мушкет. Вот уцелеть после этого...»
— Судя по всему, милейшие противники, мы вовремя избавили вас от осады мужиков. — Офицер явно любил поболтать, и складывание витиеватых фраз не составляло для него ровно никакого труда. — Посему пока предлагаем вам добровольно без промедления встать в наши ряды и честной службой оплатить это спасение.
— А сколь платит новый «снеговик»[130]? — Макс от страха и перевозбуждения явно утратил всяческое понятие о воинской дисциплине. — Вон у Валленштейна два флорина в неделю на всём готовом.
— И когда вы лично, мой любезный друг, последний раз держали в руках те самые два флорина? Я полагаю, до ночи будете вспоминать, да так и не вспомните. У нас, конечно, меньше обещают, зато платят.
— Послушайте, почтенный капитан, — голос Гюнтера звучал спокойно, не вкрадчиво, но было в нём что-то обволакивающее. Гюнтер сделал приличествующую паузу.
— Лейтенант Мак-Грегор, увы, только лейтенант, хотя и не теряю надежд.
— Кой чёрт тебе не сиделось в Каледонских горах[131], — уныло и даже как-то обречённо вздохнул Михель. — Нет же, принесло на нашу голову. Без вас, радетелей, мы б уж давно поснимали головы местным протестантам да зажили, как у Христа за пазухой.
— Так вот, доблестный лейтенант кавалерии Мак-Грегор, да сбудутся ваши мечты о капитанстве, — возобновил светскую беседу Гюнтер. — Никогда не поверю, что вашей солдатской совести достанет на то, чтобы, вызволив нас единожды, тут же неволить вторично. Как добрые католики, мы не желаем служить в вашей богопротивной армии, стоящей на страже интересов Антихриста. Можете нас перебить, но служить к вам не пойдём, — торжественно возвысил голос Гюнтер.
Все невольно переглянулись при словах Гюнтера о «добрых католиках» — это уж он круто загнул. Михель, да и прочие, подумали, что вот он и финал их жизненного пути. Гюнтер и мушкет-то первым демонстративно опустил, хотя Мак-Грегор, конечно, не присутствовал при сцене с Мельхиором и не ведал, как Гюнтер может усыпить бдительность.
Шотландец тоже оказался любителем демонстраций. Необыкновенно медленно, как показалось всем, он поднял руку, словно готовясь дать отмашку на общий залп. Но рука его потянулась кусу, который он и стал накручивать, размышляя. Неизвестно, что бы он там надумал, но за воротами вновь раздался шум и конский топот, и в окружении кавалеристов показалась кучка пеших. Эти были без оружия, изрядно взъерошенные и побитые. Без сомнения, это были захваченные шведами члены мужицкой шайки, и было их шестеро.
Бравый шотландец наконец-то оставил терзаемый ни в чём не повинный ус и принял решение.
— Вам повезло, уважаемые. Вот эта шестёрка вполне вас заменит. Конечно, не сразу, ну да это забота капрала, который их будет муштровать. Я полагаю, мощи Швеции не будет нанесено непоправимого ущерба, если она не заполучит ваших шести мушкетов. Вот только помогите мне уговорить их принять нашу сторону.
— Это мы мигом, — враз оживился Гюнтер. — Есть тут у меня про запас один молодчик. Вам он всё равно не сгодится — нашпигован свинцом, а мне в самый раз. Я объясню ему, как плохо нападать на честных солдат, хотевших только поесть и поразвлечься, и считайте, что их контракты уже пылятся в вашей полковой канцелярии.
— Да пожалуйста, — пожал плечами лейтенант. — Только не очень-то затягивайте.
— Я мигом, — повторился Гюнтер и смело шагнул из строя. Ни секунды не колеблясь, он вручил свой мушкет Михелю, что должно было произвести на шведов самое благоприятное впечатление.
— Гюнтер, может, пособить, — Ганс тщетно пытался казаться безразличным — от вспыхнувшего вожделения голос его звенел натянутой струной.
— Нет, Ганс, для двоих там уже маловато.
Гюнтер несколько поспешно пересёк двор, направляясь к мусорной куче. Шведы и не думали расступиться, давая ему дорогу, даже не смотрели на него, поэтому Гюнтеру пришлось лавировать между конскими крупами. Только их лошади злобно косились на Гюнтера и фыркали, распознавая в нём чужака из племени тех, кто так и норовит при каждом удобном случае ткнуть их пикой в брюхо либо залепить пулю промеж глаз. Животные в отличие от людей не доверяли Гюнтеру, подозревая его во всех смертных грехах сразу — от скотоложства до пристрастия к конскому жаркому. Однако вышколенность и преданность хозяевам не позволяли и вцепиться в плечо или лягнуть дефилирующего мимо Гюнтера. Недоверчивость животных передалась Михелю. Ему вдруг померещилось, что вот сейчас, поравнявшись с последним всадником, Гюнтер сбросит его с коня, запрыгнет в седло — и ищи ветра в поле, оставив их объясняться с разъярёнными шведами. А Гюнтер ему ещё и свой мушкет вручил, словно стреножил. Михель всего лишь раз стрелял с двух рук, но ведь то из пистолетов, и результат был плачевен.
Однако честный Гюнтер оказался лучше, чем Михель о нём подумал. Не мог он обмануть доверие товарищей, да и Мак-Грегора тоже.
Крика ожидали, но не от Гюнтера.
— Как ты посмел умереть?! — ревел Гюнтер, награждая труп яростными пинками. — Как ты мог не дождаться меня! Сволочь мужицкая, сволочь, сволочь!
Никто в жизни не видел Гюнтера в таком возбуждении.
«Ну вот и Гюнтер сломался, — уныло подумал Михель. — И что-то с нами будет».
Отчаяние Гюнтера словно придавило их к стене, не давая двинуть и пальцем. В сторону Гюнтера они старались не смотреть, словно не желая запечатлеть в вечности его именно таким. С опаской поглядывали на шведов. Некоторые кавалеристы оглянулись, заинтересованные. Лицо одного мужика растянула широкая кривая ухмылка: что, ландскнехты, и вам бывает солоно.
Мак-Грегор демонстративно подавил зевок:
— Кажется, представление затягивается, и мы понапрасну теряем время. Господа, мы вообще-то люди занятые.
А ведь совсем рядышком было спасение, ведь отпускали ж нас шведы. Значит, Гюнтеров мушкет бросаю, стреляю со своего, потом быстро наклоняюсь за его... Замыслы Михеля были прерваны тем, что он почувствовал, что его отодвигают.
Вперёд неожиданно для всех выступил Ганс.
— Я вот что удумал. Послушай, — несколько сбивчиво начал он. — Обмен, так сказать. Ты мне одного из этих вот мужичков отдай. На время. Я тебе его скоро возверну. Может, правда, не целиком, а по частям. Ну да небольшая потеря для света белого. И после этого, голову ставлю, они на коленях будут умолять взять под свою руку.
— Один уж тут наобещал было. Счас вон с мертвяком здорово бьётся. — Предложение Ганса явно не заинтересовало Мак-Грегора. — К тому же я ясно сказал — мне шестеро нужны, а у тебя вроде как пятеро остаётся.
— Не печалься, будут у тебя шестеро, — сделал упреждающий жест Ганс — Я пойду за него, пострадаю за общество, коли надо. Палачи, по нонешним временам, ой как нужны.
— Подобного добра у нас предостаточно, — охладил его пыл шотландец.
— Так я ж не только топором, — ощерился Ганс. — Мне и с мушкета сподручно.
— Ай да Ганс, — поспешил выразить общее чувство Макс, — молодец такой.
— Бросишь свою команду и пойдёшь вот с этими? — кивок в сторону притихших, внимательно слушающих мужиков. — Так они ж тебя зарежут на первом биваке[132].
— А вот это надо будет ещё поглядеть, — Ганс даже подбоченился горделиво — любуйтесь, какой красавец.
— А что, спытаем парнишку в деле? — лейтенант даже оглянулся на своих подчинённых, словно всегда с ними советовался. — Может, увидим что занятное.
— Уж в этом-то можете быть уверенными, — вечно настороженный зверь в душе Ганса, разнося в прах запоры и решётки, рванулся на волю и изготовился к прыжку.
Было в его ровном, неугрожающем, в общем-то, тоне нечто от раската отдалённой грозы, нечто такое, что у навидавшихся всякого мужиков волосы зашевелились, а изображающий отчаянную скуку, немного даже жеманный лейтенант новым взором окинул Ганса и, словно невзначай, осадил лошадь, как будто на лесной тропе из-за поворота блеснули вдруг на него глаза крупного хищника.
Ганс прекрасно уловил эту перемену состояния, но не подал и виду, чтобы зазря не раздражать великого начальника.
— Ганс, я не дам тебе этого сделать, — про замолчавшего Гюнтера как-то подзабыли, а он тут как тут.
Кроме светлых полосок на крытом, как у всех, пороховой копотью лице, ничего не выдавало в Гюнтере его недавнего состояния.
— Пора прекращать сей балаган. Я лучше свою душу запродам, чем тебе позволю сгубить ещё хоть одну. Лейтенант! Я обещал тебе шестерых новобранцев? Они у тебя будут.
Гюнтер вытащил шпагу и чиркнул по брусчатке.
— Вот вам черта, — обратился он к мужикам. — Может, и скверно получилась, ну да захотите — увидите.
— За ней жизнь, шведское серебро, и всё такое прочее. Думать вам ровно столько, сколько мы будем фитили раздувать. Лейтенант! Делать нечего. Если они предпочтут отправиться к своим, таким же вонючим и упрямым, как и сами, праотцам — и дьявол с ними. Мы принесём клятву на верность Баннеру. Не подыхать же здесь, во дворе, в конце концов под вашими палашами.
Широким, уверенным шагом Гюнтер занял своё место в строю, почти вырвав у Михеля мушкет, от которого тот и не чаял избавиться.
— Готовсь. Курки взвести, полки открыть — всё как положено. Цель в брюхо, ребята, чтоб помаялись.
— Фунтов семьсот перегною заготовим, — Макс готов был шутить даже на сковородке в аду.
— Гюнтер, мушкеты-то мы разрядим, а ну как шведы воспользуются сим оборотом, да возьмут нас в палаши, — предостерёг Михель.
— А у тебя есть ещё какой выход? — зло огрызнулся Гюнтер.
— Не торопись стрелять, дай им поразмыслить, тварям твердолобым, — это уже Гюнтер всем. — Цели разбираем слева направо, хотя я всё ж надеюсь, что обойдёмся без стрельбы.
Михель отсчитал в ряду «своего» и с некоторым интересом даже стал вглядываться в лицо человека, которого, возможно, в скором времени отправит на тот свет, словно выискивая в чертах лица признаки обречённости, печать смерти. Команды Гюнтера по подготовке к стрельбе, нарочно затянутые, он выполнял чисто механически — не первый и даже не сотый раз под его прицелом оказывались живые и мыслящие, вынырнувшие из ниоткуда либо спокойно сидевшие на своей земле в ожидании Михелева появления. Не все подобные встречи заканчивались для визави Михеля трагически, но он уже и не сочтёт точно, скольких усадил в лодку Харона[133] и оттолкнул от берега. Не всегда Михель и разглядеть-то успевал, кого выплёскивало под его удар неумолимое течение времени. В коротких бешеных схватках ночью, в лесу, в тумане, в пьяном угаре, в слепящей злобе — тут кто проворней и метче. Сегодня вот за забором — попробуй угляди.
Сейчас выпал случай, не особо спеша, рассмотреть мишень. Ангел смерти явно не спешил накрыть своей тенью его жертву. Насмешливый, с какой-то полубезумной искоркой взгляд больших серых глаз — прочие детали как-то не фиксировались.
— Да он же, этот, наподобие нашего Ганса, если не похлеще. Ему же всё равно.
Однако Михель ошибался. Под ружьём люди взрослеют быстро, ещё скорей они зреют под прицелом, осознав вдруг, что ведь и не жили же совсем. Насмешливое выражение вдруг как ветром сдуло — мужичок закрутил головой, оглянулся даже на шведов, ища у них поддержки. Лицо его исказилось, он вдруг страшно напрягся, словно хотел броситься на Михеля. И тут вдруг Михель увидел, что все мужики сцепились руками, и его жертву просто крепко удерживают соседи.
Момент залпа, как ни выгадывал время Гюнтер, приближался.
— Гюнтер! — хотел крикнуть Михель, привлечь внимание, но его мужичок ловко извернулся из своих рукотворных оков и бросился к заветной указанной Гюнтером черте. Его свалили, подставив ногу, но он упрямо пополз на четвереньках, что-то всхлипывающе причитая.
И тут словно запруду прорвало. Остальные мужики, рыча и отталкивая друг друга, торопились занять своё место в команде живых.
Тем неожиданней грянул выстрел.
— У кого же нервишки не выдержали? Ганс, зараза, не упустил момента, — догадался Михель.
— Я не слышал отбоя, я не слышал отбоя, — закричал Ганс, хотя его ещё никто ни о чём не спросил. Выкрикивая оправдания, он тем не менее активно орудовал шомполом, перезаряжая.
Выстрел Ганса был хорош: смертелен, но не наповал. Раненый пытался приподняться на руках, но каждый раз обессиленно валился наземь.
— Он ведь к черте стремится и никак не может доползти. Теперь уже никогда не сможет. — Михель, словно невзначай, перевёл ствол на Мак-Грегора.
Мужики опасливо косились на ландскнехтов, не решаясь прийти на помощь раненому. Наконец самый храбрый, сплюнув в сторону Ганса, решительно перешагнул черту и склонился над умирающим.
— Срежьте его, собаку, — сдавленно просипел Ганс, ускорив заряжение.
Мужик, сидя на корточках, что-то крикнул своим друзьям. Несмело потоптавшись, вышел ещё один, вдвоём они подхватили умирающего товарища и перенесли его всё ж таки за черту, но там им осталось только сложить ему руки на груди да закрыть лицо шляпой.
— Спёкся, голубчик, — прокомментировал Ганс, щёлкая курком в полной готовности к новому выстрелу.
— Добился-таки своего, — в голосе Гюнтера не было злобы, только безмерная, безграничная тоска.
— А то, — прищёлкнул языком Ганс. — Зря ты меня тогда удержал. Ножом бы я его...
Он сделал ряд стремительно-резких замысловатых движений.
— Да и заряд бы сберёг, — добавил Ганс последний аргумент.
— А теперь-то что, дурень? — не выдержал Гийом. — С ними, что ль, потопаешь?
— Да вы не бойтесь, — беспечно махнул рукой Ганс. — Я через пару-тройку дней к вам вернусь. Мужичков покрошу да энтому фанфарону, — еле заметный кивок в сторону Мак-Грегора, — кой-чего поотрезаю да сбегу.
— Хельмут, — голос Мак-Грегора как гром с небес. — Проводи господ имперцев до околицы, проследи, чтобы никто их не обидел. Прощайте, ландскнехты. Следующей встречи не желаю — сойтись мы можем только в бою.
— Отчего ж, — широко улыбнулся Гюнтер. — Пути солдатские неисповедимы. Знай, доблестный Мак-Грегор, что всегда можешь найти стол, кров, помощь и защиту у нашего костра. Смотрите, внимательней, ребята, запоминайте нашего благодетеля. И в бою отверните ствол, и товарищам своим в шеренге тоже накажите...
— И вы тоже запомните внимательно эти рожи, — внезапно прервал Гюнтера тот мужик, что первый бросился помогать подстреленному Гансом.
— Это что ж, ты нам угрожать вздумал, срамец? — искренне удивился Гюнтер.
— А чего мне бояться? Я ж теперь, как никак подо львом[134].
— Мы вас вообще-то по смеху найдём. Уж больно заразительно вы ржёте. Чаю, не вся имперская армия из таких весельчаков состоит. А с тебя, умник, — неожиданно ткнул он грязным пальцем в Гюнтера, а не в Ганса, как многие ожидали, — будет спрос особый. Был у нас на деревне такой же поп-говорун. Тоже ходил-нудил. Складно пел. Обсказать, что мы с ним учудили, как только обрыдла его болтовня?
— Лучше не надо, — поморщился Гюнтер. — Дай некогда, уходим мы. И так подзадержались в вашей, не в меру гостеприимной хлебосольной деревушке.
Гюнтер несколько картинно сорвал шляпу с головы и принялся раскланиваться:
— Ещё раз всяческих благ, новых чинов и помогай вам Господь, господин Мак-Грегор, вам, господа драгуны, ну и вам, господа шведские рекруты. Хельмут, будьте столь любезны, покажите нам дорогу.
— Да следите, чтобы ни один волос не упал с нашей головы. — Всегда и всюду последнее слово за Максом.
Вот оно как выходит на Матушке-Войне: один вроде свой был, да чуть не сгубил, другой враг — да выручил. И такое здесь — сплошь, да рядом. Чудны дела твои, Господи.
XX
Всю дорогу Михель спиной ощущал какую-то неясность, тревогу. Так и подмывало махнуть через забор и самому поискать дорожку к спасению. Чего вроде опасаться — лейтенант дал слово.
Шведы мало на них обращали внимания. У солдат на привале масса забот: собственный желудок, одежда, оружие, снаряжение и боеприпасы — не одно нуждается в починке, так другое в пополнении. У кавалеристов — плюс забота об их верных друзьях и помощниках. Поэтому их окликнули-то пару раз, и то не угрожая, а больше интересуясь у оказавшегося словоохотливым Хельмута, кто да откуда. Никто не пытался оспорить распоряжения Мак-Грегора, преградить дорогу. По всему видно, лейтенанта здесь уважали. Немного успокоившись, ландскнехты с жадным любопытством глазели на мирную жизнь своих врагов. Конечно, ничего особенного не узрели. Всё как и у них, вечные походные заботы, даже запахи те же. Из того дома, куда Михель хотел наведаться за жарким, опять тянуло с ума сводящим, восхитительным, лучшим в мире ароматом жареного мяса. Михель искренне пожалел имперцев, которых, судя по всему, вышибли до того, как жаркое было готово. Непреложный закон — победителю лучшие куски. Неожиданно Хельмут исчез, и пока ландскнехты тревожно судили да рядили, что делать самостоятельно, он и вернулся, да в компании с довольно увесистым караваем. Хлеб тот был, конечно, не первой свежести, немного заплесневелым, зато каждому досталось по доброму ломтю.
Хоть жевали на ходу, всухомятку, все изрядно повеселели, а Макс уже, с набитым ртом, начал балагурить, что неплохо, кабы Хельмут исчез также и за винцом.
Старательно перемалывая свою долю и чувствуя, как сухие куски камнем падают в забурливший желудок, Михель машинально сравнивал увиденное, и сравнение было, как правило, не в пользу имперцев.
— Пьяные по улице не шатаются, тем более не дрыхнут под заборами... Капральства не перемешаны — как в строю, так и на постое. Ротные значки развёрнуты — каждый знает, куда бежать в случае сбора. Половина коней не рассёдланы — в готовности... В кузне уже огонь воздут и работа кипит — когда успели... Девки не визжат, даже странно, ну этих-то, наверное, мы прибрали... Вообще, ни баб, ни детишек, кругом одни солдаты... Пастор трезвый! И как тянутся все к нему — с уважением, советуются... Даже в маркитантской лавочке выбор куда как богаче.
А тревога не отстаёт, плетётся рядышком, нашёптывает что-то непонятное. Чувство такое, что вот-вот выстрелят в спину. С чего бы это — вот уже и околица.
У границы села они были остановлены невесть откуда взявшимся патрулём, и здесь случилась заминка. Капрал оказался недоверчивым служакой и всё требовал письменного пропуска. У Михеля, а верно, и у прочих, мелькнула мысль о прорыве силой, однако уверенный вид и поведение капрала удерживали, словно они находились под прицелом трёх десятков стволов. Да и куда они в чистом поле от кавалерии сбегут.
Повезло, что капрал лично знал Хельмута и наконец-то поверил его божбе. Не последнюю роль сыграло и обещание Хельмута до краёв наполнить кружку капрала, и не водой, при первом удобном случае.
— А и у вас не все на приказах да шпицрутенах[135] держится, — даже позлорадствовал Михель.
Хотелось рвануть в распахнутый мир, ускоряя и ускоряя бег, ровно под горку, не чуя под собой ног загребать башмаками дорожную пыль и грязь. Стремительно катящееся под ту же горку солнце обещало неласковый тревожный ночлег в чистом поле между двумя воюющими армиями.
— Дойдём до того поворота, а там напрямки через поле к лесу, — распорядился Гюнтер. — Да колосьев набирайте, завтра к утру опять зубами заклацаете, ровно голодные волки. Хоть на костре зёрна обжарим.
«Неужто вырвались, неужто уходим? — Горизонт спасения миражом небытия расплывался перед Михелем. Вечерние тени словно таили новые полчища неведомых врагов. — Вот что значит матушкино заступничество. И Мельхиора одолели, и с мужиками справились, и от шведов отбрехались. Почему ж на душе так сумрачно-муторно?»
Выстрел!
Они уже сворачивали с дороги, и Гийом аккуратно обходил лужу, потому что шедший следом Ганс собирался из неё напиться, и Ганс действительно присел на корточки, но приложиться к воде не успел — на него навзничь рухнул сражённый Гийом.
«Вот оно предчувствие, не обмануло», — Михель думал уже на лету, делая гигантский прыжок через дорожную канаву и приземляясь уже в поле. Миг — и дорога полностью опустела, если не считать лежащего в луже Гийома, а из ржи торчали почти незаметные пять мушкетных стволов.
— Макс, Ганс, — раздался спокойный до невозможности голос Гюнтера, — бить только по отчётливо видимой цели. А то знаю вас, торопыг. Кто-нибудь видит этих мерзавцев?
— Дорога пуста, — осторожно приподнявшись, доложил Макс.
— Должно быть, во ржи хоронятся, как и мы, — предположил Маркус.
— А по-моему, из села это пальнули, из последнего дома, — попытался по звуку сориентироваться Гюнтер.
— Далеконько до домов-то будет, — с сомнением покачал головой Михель.
— Макс, пороховой клуб наблюдаешь? — поинтересовался Гюнтер.
Макс, проворчав что-то насчёт того, что вот опять ему, как всегда, башку под пули подставлять, тем не менее добросовестно встал и внимательно осмотрелся.
— Не видать ни черта, — доложил он результаты осмотра и добавил, словно извиняясь за глаза: — Темновато.
— Ну да, а мы на фоне заката у них как на ладони, — согласился Гюнтер.
— Кто ж мог-то напоследок пулю в Гийома влепить? — недоумевал Михель, не переставая внимательно осматривать поле — не зашевелятся ли где колосья, безошибочно выдавая присутствие неведомого врага.
— Может, действительно случайный выстрел — из баловства кто-то пустил пулю нам в спину. Так дисциплина ж у них — никто запросто порох жечь не позволит. Это, наверное, кто-то из дозорных. Ну, точно. Сменили посты, а бравый капрал, торопясь осушить обещанную Хельмутом кружку, заторопился и не предупредил о нас. Новый дозорный и принял нас за удирающих мужиков.
— Что с Гийомом?
— Да дышит вроде, — через дорогу отозвался Ганс. — Но крепко ему досталось — не шевелится. Как бы он в луже не захлебнулся.
— Гюнтер, уходить надо, — выразил общее желание Макс, — вишь, шведы нарушили своё слово. А ну как навалятся — их в деревне не меньше двух эскадронов.
— Ганс! — Гюнтер моментально принял решение. — Тебе всё равно дорогу перебегать. Если ты, конечно, не решил от нас отколоться. Прихватишь Гийома. Макс — пособи Гансу. Да не бойсь, прикроем.
Макс, против обычая, не стал ворчать, что вот, мол, опять ему совать башку в огонь и вообще негоже двум живым подвергаться опасности из-за одного умирающего. Пока они в меру осторожно, но споро перетаскивали Гийома с дороги в поле, все настороженно ждали выстрела, но его не последовало.
— Макс, снимай с него плащ. Расстилай. Маркус, Михель, хватайтесь за углы, понесём так. — Команды Гюнтера были отрывисты и точны. — Ганс, что с тобой? Бери свой угол.
— Не могу, рука, рана, кровь опять. Маркус, неумеха, перевязал хреново.
— Тогда поменяй руку, берись левой. Макс, не обессудь, ты как обычно, последний — наблюдаешь и прикрываешь. Только не стони, что опять все пули тебе, — прибью на месте безо всяких шведов. Кто ж виноват, что тебя таким глазастым уродили.
До ближайшего леска шли рысью, хотя Маркус, головотяп, умудрился заплестись ногами в ржаных стеблях и упал, уронив, разумеется, и Гийома. Очнувшись от забытья, Гийом широко открыл глаза и застонал.
— Гляди под ноги, раззява. Не ядро к пушке тащишь, — зашипел Гюнтер и склонился над раненым. — Потерпи ещё немного. Счас мы тебя перевяжем.
Гийом то ли согласно, то ли устало прикрыл глаза.
— Макс, погони нет? — обернулся Гюнтер.
— Не видать и не слыхать. Тихо все.
— Перед бурей тоже все стихает, — напомнил о бдительности Гюнтер и подхватил свой край плаща. — Ну, взялись.
Ноша была не столь велика, но нести-то пришлось очень быстро, почти бежать, постоянно опасаясь выстрелов или многочисленной погони, да ещё проклятые колосья словно специально шведами здесь посажены. В одном месте Михель резко взял вправо, сбив с ноги всех остальных.
— Куда тебя нечистый несёт? — недовольно проворчал Гюнтер, с трудом восстанавливая шаг.
— А ты нюхни, — сквозь зубы пробормотал Михель, отчаянно пытаясь удержать в потной руке ускользающий край плаща.
Гюнтер послушно повёл своим хищным точёным профилем и только согласно кивнул — в воздухе стоял густой смрад разложения.
— Мертвяк туточки, — брякнул сзади Ганс.
— Да не один, — определился Маркус, тщетно пытаясь рукавом защитить ноздри и рот. Это ему плохо удавалось — мешали мушкет и фуркет.
— Давно воняют. — Гансу всё нипочём.
— Трое, — вскоре донёсся сзади поясняющий голос всюду поспевающего Макса. — Каждый с дыркой в башке. Похоже, расстреляны. Оружия нет, сумок нет, в одних нижних рубахах. Примерно с неделю как отмаялись.
— Ещё четыреста фунтов перегною, — почему-то вспомнил Михель одну из любимых Максовых прибауток.
— Я понял, ребята. — Гюнтер говорил негромко, но отчётливо. — То не шведы, то мужики. И не Гийома они выцеливали, а Ганса. Ведь Ганс же шёл последним, когда ему неожиданно приспичило напиться. Он нам крикнул, чтобы лужу ту не мутили, а мужики, конечно, тех слов не слышали. И когда Ганс неожиданно наклонился, Гийом оказался на линии огня. Стрелок или уже нажимал курок, или решил, что мы уходим, и надо хоть кого-нибудь из нашей компании подстрелить. Это не шведы, у тех дисциплина, к тому ж Мак-Грегор дал слово. А мужики могли мушкет попросить, выкрасть, купить, взять обманом.
— И я, кажется, догадываюсь, кто нажимал на курок, — кивнул Михель.
— Точно, та сволочь, что угрожала нам во дворе. — Ганс, счастливо избавленный от смерти, был ещё в изрядном потрясении от этой новости. — Говорил же вам, что мне надо остаться. Может, я вернусь да посчитаюсь с гадами?
— Остынь, — предупреждающе поднял свободную руку Гюнтер. — Гийому ты уже не пособишь ничем. Совсем плох. К тому ж и ты ранен.
Он кивнул на все увеличивающееся кровяное пятно.
— Эт точно, — воинственность Ганса как рукой сняло. — Печёт, зараза.
— Ух, кажись, дошли, — перевёл дух Михель, едва их накрыла тень первых деревьев. — Только не валитесь все сразу, сначала осторожненько опустим Гийома.
— Рощица-то, — скривился Маркус, больше для того, чтобы их позлить, — блохе негде укрыться. Может, дальше двинем?
— Раз Гюнтер определил, что это не шведы, значит, погони не предвидится. — Михель смертельно устал и нуждался хотя бы в самой краткой передышке.
— Где опускать-то? — Ганс тоже дышал, как загнанная лошадь, к тому же ослаб от потери крови. — Надо, чтоб помягче.
— Бросайте, где хотите. Ему, кажется, всё равно. Видите, вши разбегаются.
— Да, это первый признак. Чуют твари, что здесь пожива кончилась, — подошёл Макс.
Тем не менее Гийома опустили, как могли, осторожно. Гюнтер приложился к груди, затем поднёс к губам кинжал, определяя, не затуманится ли сталь от слабого дыхания. По тому, как он отрицательно замотал головой, все стало понятно и без слов.
— Готов, — не смог удержаться, чтобы что-нибудь да не сказать, Макс.
— Смотри, пуля даже не смогла пробить грудь, так и застряла в теле, — присел на корточки Макс.
Гюнтер метнул на него свирепый взгляд — мол, кто будет за полем и дорогой следить, но Макс сделал вид, что ничего не заметил.
— Значит, его срезали с предельной дистанции. Добрый выстрел, — отозвался Михель, уже успевший принять горизонтальное положение и с наслаждением расправивший усталые члены.
— Смотри, какие у мужиков стрелки оказались. Наше счастье, что весь порох Мельхиору отдан был.
— Да швед то был, швед. От сотворения мира мужики не могут что-либо подобное свершить, — неожиданно вскинулся Маркус.
— Добрый-то он, конечно, добрый. Однако пуля на таком расстоянии уже утрачивает остойчивость, летит, как Бог на душу положит, кувыркаясь, разнося все внутренности. Лёгкое расковыряло, он кровью и захлебнулся, видишь, изо рта струйка стекает.
Неизвестно, сколько бы ещё разглагольствовал Макс, но не выдержал Гюнтер:
— Макс, прогуляйся-ка до последнего куста и заляжь там. Сам отдохни, языку своему дай отдохнуть да за дорогой заодно пригляди.
— Вечно Макс да Макс, — тем не менее Макс послушно сгрёб мушкет и фуркет и отправился к недалёкой опушке.
— Я думаю, это девка Гийома ухлопала, та, что из дома. Это она мстит. — Ганс говорил ровно, даже как-то замороженно. — Когда мы давили мужицкий бунт в Верхней Австрии[136], так их бабы бились с нами похлеще, чем их мужья.
— Могилу-то будем рыть али так бросим? — проявил практическую обеспокоенность Маркус.
Все разом вопрошающе обратили взоры на Гюнтера. Суставы Михеля тоскливо откликнулись на перспективу новой работы и заботы.
— А ты как думаешь? — вопросом на вопрос ответил Гюнтер. — Обязательно будем.
— А чем? — в свою очередь перебросил вопрос Маркус. — Голыми руками, что ль? Или мушкетами?
— Всех не перехоронишь. — Мускулы Михеля подняли мятеж против своего господина, требуя законного отдыха, и язык помимо воли выпихнул эти слова.
Гюнтер с укоризной глянул на Михеля — мол, от тебя-то, брат, подобного не ждал, но Михель, сориентировавшись, добавил уже более твёрдо:
— К своим надо поспешать, Гюнтер. Что мы впятером?
— Не найдём наших, и нас некому зарыть будет. Так и сгниём в поле, как те трое — не унимался Маркус.
— Ну и топайте! — внезапно взорвался Гюнтер. — А я останусь. И всё сделаю как надо. Потому что христианин, и он, Гийом, был добрым католиком, и шёл с нами не в последнюю голову потому, что верил, — не бросим околевать, как собаку, предадим земле, как сможем, и крестом увенчаем. — Может, он был скверным товарищем, но...
— Не кипятись, Гюнтер, — Михелю пришлось-таки подняться, но злости не было. — Ты, как обычно, прав. Просто кости у всех трещат от усталости. Давайте дружненько, как всегда, компанией, и не заметим, как закончим.
— Я тоже хорош. — Гюнтер провёл ладонью по лицу, стирая гнев и раздражение. — Забыл, что у нас действительно туговато с шанцевым инструментом. Но и вы запамятовали, что покойников надо хоронить. Срезайте дёрн — хоть так его обложим. А я пока крест смастерю...
— Вот лежу я здесь, братцы, слушаю вас и думаю — неужто действительно живого хотите в землю зарыть. — Слабый, со слезой голос заставил их всех подскочить.
— Гийом! — веря и не веря, забыв о возможной опасности погони, заорали все. — Жив, чертяка! Ну надо ж! Как же ты! Чего молчал-то ранее!
— Как дубьём меж лопаток приложили. Отшибло все, не вздохнуть. Но с похоронами вы явно поторопились. Никак уже и барахлишко моё поделили.
— Да вот же она, пуля, торчит, пальцами могу поддеть и вытащить. — Через мгновение в руках Гюнтера оказался кусочек свинца, а открывшуюся рану присыпали порохом и туго перевязали. Гийому ввиду возможного противника запретили громко выражаться, но уж вполголоса он им такого всякого нашептал. И что ж бы вы думали: после непродолжительного отдыха Гийом пошёл, правда, не без поддержки, но ведь пошёл!
Глубокой ночью они вышли к передовым имперским постам. Против обыкновения в них не стали сразу палить, а милостиво выслушали-разобрались.
XXI
В тот достопамятный день, в том проклятом доме их компании словно хребет переломили — больше не подняться.
Нельзя сказать, что Георг и Мельхиор были душою общества, и без них — ну, никак. Смерть всегда гуляет в обнимку с ландскнехтами, каждый раз в новом платье на костяке, с новой маской на черепе. Но всё же гибель Георга и особенно предательство Мельхиора потрясло всех. Их спаянная в боях и гулянках компания, где каждый не единожды клялся жизнь отдать за други своя, развалилась от первого же серьёзного удара.
В стародавние, ветхозаветные времена, как утверждал всезнайка-Гюнтер, гуси спасли Вечный город[137]. Птица из той же чёртовой породы стала первотолчком распада и гибели микрокосма 4М и 4Г.
А Ганс-то помер. Вот незадача.
Та самая плёвая царапина привела к воспалению, воспаление обернулось гниением, гниение — гангреной. И Ганс ещё при жизни буквально спёкся от жара, несмотря на обильное питьё и холодные компрессы. Как он метался, как стонал, как мучился напоследок. И без конца бредил, вспоминая отвратительные подробности своей жизни и вымаливая — слишком поздно — прощение у своих жертв. В минуту просветления он наотрез отказался от священника и пожелал последние таинства принять из рук Гюнтера. Гюнтер без лишних слов согласился, хотя формально не имел права исповедовать, причащать и соборовать, но спорить в такой момент с Гансом было глупо и бесполезно — в часах его бытия торопливо ссыпались в бездну последние колючие песчинки. Добродетельный Гюнтер предпочёл отяготиться ещё одним грехом, чем отправить Ганса в вечность без последнего покаяния. Частенько ведь в преддверии сильного боя, когда к капеллану не протолкнуться, служивые вынуждены исповедовать друг дружку.
Когда Ганс, с многочисленными перерывами, сменой компрессов наконец-то закончил свою исповедь, Гюнтер тихо вышел из лазаретной палатки и побрёл куда глаза глядят. Он буквально наткнулся на Михеля, но не узнал его, а попытался обойти, так что Михелю пришлось крепко взять его за рукав.
— А, это ты. — Обычно умные, усталые или с хитринкой глаза Гюнтера впервые были абсолютно пусты. — Знаешь, даже я не подозревал, что он у нас такой.
Гюнтер аккуратно расцепил пальцы Михеля на своей руке.
— Да храни его Господь. — И тут из глаз Гюнтера полыхнуло вдруг такое пламя неукротимой ярости, словно сполохи геенны огненной прорвавшись, указали скорую неизбежность как Гансовой душонки, так и их всех, но чуть позже.
— Не находите, что гораздо спокойней будет пронзить ему сердце осиновым колом, а потом уж зарывать. — Макс, как всегда, возник неожиданно и бесшумно...
В имперском лагере, как обычно, ощущалась крайняя нужда в топливе. Тратить драгоценные дрова на выделку гробов никто не собирался, да и не хватит лесов на домовины всем отправляющимся в последний путь, поэтому тело Ганса только отпели и довезли до кладбища в гробу, а там бесцеремонно вывалили в общую яму да кое-как присыпали негашёной известью, а потом землёй.
XXII
На следующий день, дождавшись, когда Гюнтер отлучится до ветру, окончательно оклемавшийся к тому сроку Гийом, пряча глаза, хрипло произнёс:
— Вы как хотите, а я ухожу. Я хоть и вор, однако ж порядок завсегда уважал. У шведов порядок жизни попрочней и посправедливее будет, чтобы там Гюнтер про них не плёл. Пусть даже они и неправильно молятся. Надоело жалования своего законного годами ждать. У них платят. Насчёт прибрать что плохо лежит — это в любой армии, хоть в ангельской рати можно спроворить. К тому ж и Регенсбург, люди говорят, под шведом[138]. Давненько дома не был, мочи нет, узнать хочу, как там и что. Никому я вроде не должен, и мне не должны. Компашку нашу святую мужики-антихристы порушили. Ничего боле меня здесь не вяжет. Потому оставайтесь с миром, долгих лет жизни, хлеба, денег, пороха, девок вдосталь. Не поминайте лихом. Мне было славно с вами. Ей-бо, слеза прошибает, что развалилась такая шайка. Так я пошёл... Опасаюсь, Гюнтер меня задержит. Да пребудет Господь с вами и нами.
Гийом встал, забросил на плечо тощий узел с пожитками, охлопал карманы, осмотрел амуницию — ничего не забыто. И пошёл среди бела дня, ну, словно Гюнтеру компанию составить, чтобы не скучно было тому в одиночку тужиться. И ведь прошёл же, как вода сквозь песок, просочился через все пикеты, патрули и дозоры — воровская школа что-нибудь да стоит.
— А ведь и мне надо уходить, — чуть вслух не произнёс Михель, разглядывая узелок из старого плаща на плечах удаляющегося Гийома.
Михель вдруг с тоской осознал, что отяжелел, стал грузен на подъём за прошедшие годы. Нет в нём той мальчишеской лихости, того азартного интереса, когда города и веси, новые люди и свежие впечатления наползали друг на друга, словно льдины в далёком полярном океане. Льды бесследно уносились мощным течением, а он все понукал и понукал время.
Но армия из подателя новых приключений стала вдруг единственным надёжным укрывищем и становищем в намертво сцепившемся мире.
И всё же надо, надо что-то делать. Тебе ведь уже скоро будет тридцать три, а ты ещё ничегошеньки не сделал. Ноги твои оплетены сеткой синих вен, словно карта рек, что ты форсировал зимой и летом, под огнём и без, вброд и вплавь. Сердце рвётся из грудной темницы в конце длинного дневного перехода. Даже с похмелья ты стал страдать дольше и тяжелей. Грядущие зимние холода заранее вгоняют тебя в озноб, и часто, глядя в рассыпающиеся угли жалкого костерка либо уныло меся грязь остатками башмаков на бесчисленных бесконечных дорогах, ты осознаешь, что невесть уже сколько беспросветно и безнадёжно ломаешь голову над вопросом:
— Зачем я есть?
И нет в империи уголка, который ты мог бы назвать своим. И нет в имперских лесах дерева, в дупло которого ты спрятал бы горшок с кружочками белого и жёлтого металла — на старость либо на случай увечья. А ведь скоро ты уже не сможешь занять привычное место в строю и будешь умолять о покое и отдыхе.
Каждой новой битвы ты ждёшь не в торжественном обмирании сердца, но в холодном поту, иногда еле сдерживая желание тут же скинуть штаны и облегчиться. Война, лагерное бытие как-то разом потускнели; облетев, позолоченная мишура обнажила огромную помойку, где люди-отбросы круглые сутки напролёт занимались тем, что убавляли друг дружке здоровье и сокращали жизнь.
Михель не Гюнтер — путь в монастырь ему заказан. Даже гипотетически. Михель не Ганс — примитивные радости его уже не тешат. Михель не Макс — он не готов всё время одинаково зубоскалить как над смешным, так и над трагическим. Михель не Г ином, для которого мир — один большой карман, и он с большей или меньшей ловкостью запускает туда руку и вытаскивает — то густо, то пусто. Михель не Маркус, у коего даже во тьме египетской на лбу можно разобрать слова: «Сын ландскнехта, сам ландскнехт, и дети твои будут ландскнехтами до скончания века».
Михель чего-то хочет, чего-то ищет, пока ещё подспудно роясь в своём сознании, ровно в захламлённом амбаре, пытаясь выковырять из сора неведомую жемчужину.
А где-то на севере, путеводной звездой, подобно Полярной, маняще раскинулось море — одним огромным изумрудом. Ты там ещё не был, Михель, так пойди туда, и там из пасти холодных волн вырви своё счастье.
От Натти, Царство ему Небесное, хотя вряд ли, Михель знал, что солёная вода раскинула свои объятия и на юге империи, греховно подмигивая Урбану VIII[139] сквозь витражи и решётки его новой роскошной летней резиденции; и на западе, лишая бедных подданных Его Католического Величества[140] сна и покоя, постоянным нашёптыванием последних новостей из страны Эльдорадо[141]. Топай в любую сторону — рано или поздно море со щенячьим восторгом торкнется в твои башмаки. Но Михель из Нидерландов — значит, дорога ему на север.
Никто в подлунном мире не мог бы сказать Михелю, да и любому другому смертному, когда закончится эта треклятая война. Кровавая воронка с головой засосала Михеля, и он день за днём, год за годом продолжал бесконечное погружение, не ведая, когда достигнет тверди и будет ли эта твердь вообще. Его деятельная натура всё более тяготилась этой неопределённости. Сменял шило на мыло: та же рутина, такой же отупляющий, тяжёлый, грязный, однообразный труд, даже цикличность та же, что на селе, — зимой все «работнички» отдыхают. Единственное отличие от мужицкого бытия, которое он столь опрометчиво покинул, — грабят не его, а он. Но и это приелось: исчезла острота ощущений, да и грабить, по большому счёту, стало нечего. Ржаной сухарь, который раньше беспечно втаптывался в грязь, сейчас воспринимался как дар небес. Довоевались — неделями хлеба не видят. Мучай, не мучай мужика — ну нет у него ничего, сам последние корки догладывает. К тому ж мужик, которому всё это порядком осточертело, всегда может добыть если не мушкет, так дубину на худой конец и пополнить ряды тех, кто грабит. А Михелю снова переквалифицироваться в землероба? Ага, и ждать, ворочаясь каждую ночь, стука прикладов в дверь. Он сейчас и коня-то в плуг не сможет толком запрячь — забыл напрочь.
Война из средства обогащения всё больше обращалась в средство выживания. Время скатертей-самобранок, безвозмездно расстилаемых в каждом доме, безвозвратно ушло вслед за Турном и Букуа[142].
Оставаться на месте при подобном раскладе — значит без боя отдать Судьбе стратегическую инициативу, пассивно выжидать, понимая, что ничего хорошего тебя уже не ждёт.
Обезлюженная, загаженная, забывшая про плуг земля буквально жжёт пятки сквозь вечно требующие замены, стёртые до дыр подошвы башмаков. Душу печёт от сознания личной никчёмности и общей безысходности. Настоятельно требовалось остудить их морской водицей. Вот же казус: не столкни его судьба совершенно случайно с «морским волком» Натти и не наслушайся Михель его баек и бреден — воевал бы себе спокойно и по сих пор.
Но, резко вырвав себя из привычной среды обитания, Михель опасался зачахнуть на новом непривычном поприще. Требовалось окружение, поддержка. Неясные, но великие замыслы, разрозненно-неоформленно заполонившие голову, предусматривали если не компанию, подобно приснопамятной 4 М и 4Г, то хотя бы единомышленника, готового топать с тобой и за тобой до отмеренного Судьбой предела. И кто ж у него на подхвате?
Гюнтер — свихнувшийся поп, упорно не желающий слышать, что все кругом поголовно с утра до вечера зазубривают и скандируют из Писания одну только фразу: «Ибо не мир я принёс, но меч!»
Макс, всегда готовый бежать на край земли, но именно только до края земной тверди, и не далее, шут гороховый, готовый примкнуть к тем, кто будет громче ржать над его бесконечными шутками, готовый ради острого словца и перчёной шутки нарушить любой приказ.
Про Маркуса и вспоминать не хочется. Он воду-то даже как питьё на дух не переносит, а тут море — враз свихнётся.
Примкнуть к чужим? Это надо кому-то крепко довериться. Да и кого отыщешь среди этого сухопутного сброда. Все, кто хотел выудить счастье из глубин морских, и так давно на флоте, вот только Михель что-то подзадержался да так и завис между небом и землёй.
Верти не верти, а кроме как к Гюнтеру... К кому ж ещё. Хоть отговорит по-умному.
Мудрый Гюнтер не стал сразу разубеждать — внимательно выслушал, пошлёпал губами, соображая.
— Я б и сам с тобой рванул. Не в «морские братья», разумеется, а в миссионеры. Ведь сколько там ещё язычников бродят впотьмах без света слова Божьего. Замаливал бы грехи — свои и чужие, нёс слово животворящее. А и смерть мученическую обрести от рук безбожных агарян было б ой как славно. Так что уговорил — составлю тебе компанию. Только вот, чудак-человек, — нельзя зачинать другое дело, старое не претворив, да ещё в паре шагов от цели. Знаешь ведь, почему столь форсированно на север топаем. Думаешь, только отступника Георга карать[143]? Бери выше. Ведь во всей Вселенной только один смертный желает продолжения войны — король Швеции. Как только утихнет это подлое сердце, а это может случиться и завтра, потому как об этом молит весь крещёный мир, — тут и войне карачун. Мы победим — правда у нас. Потому и Георга идём потрошить. Взвоет Иуда сей, шведов запросит пособить, не бросить. А ведь все астрологи при светлейшем давно предсказали дату гибели Адольфа-супостата. Впрочем, как и конец самого генералиссимуса[144]. К весне — верно тебе говорю — замиримся. Сбросим шведов обратно в море, очистим Померанию, Мекленбург — и готово — я целиком к твоим услугам.
— Так мы ж там, вроде как были[145].
— Ничего-то ты не понимаешь. Я тебе толкую — мир не за горами, а ты упёрся как бык. Устали ведь люди от войны, невмоготу, неужели ты не видишь?
— Да я и сам вроде как устал.
— Правильно, и я устал. Но надо потерпеть ещё чуть-чуть. Это ведь Господь наш в очередной раз испытывает веру нашу на прочность, проверяет твёрдость духа чад своих. Так что, мил дружок, Макса мне не баламуть и сам поостынь. Хватит с меня, что Гийома упустили. А после битвы я сам тебя благословлю — море — так море.
Дожился, понимаешь ли, уже и Гюнтер тиранит почём зря. А может, остаться? Голова пухнет от дум и сомнений — хоть монетку подбрасывай да решай.
Время покажет, прав был Гюнтер или нет. К тому же путь на север плотно перекрыли шведы. Осталась малость — сковырнуть их с дороги, как надоедливый чирей с тела. Пока Валленштейн ведёт нас всех на север — Михелю лучшего и желать не надобно. К тому ж иметь Гюнтера в противниках-преследователях — благодарю покорно. И так еле удержали — хотел сходить до шведов за Гийомовой головой. И ведь принёс бы...
ЛЮЦЕН, НЁРДЛИНГЕН И ДАЛЕЕ
XXIII
В центре земли, коченеющей с вырванным сердцем, земли, некогда славной тучными нивами и цветущими городами, а ныне изобилием волков да бескрайностью кладбищ, стыла на железном ветру деревушка Люцен. Молила всех святых запорошить глаза воякам, как будут топать мимо, а ещё лучше — низвергнуть ландскнехтов разом в тартарары.
Из-за сильного рикошета, что ль, мольбы те попали не в те уши и были превратно истолкованы.
Именно на поле и дорогу пред Люценом положили глаз паписты и евангелисты для очередного, последнего и решительного выяснения коренных вопросов бытия и сознания.
Хвала Всевышнему, что битвы не столь часты, — иначе войны бы закончились в полгода, и чем прикажете ландскнехту тогда кормиться?
Проклятье дьяволу, что битвы так редки, — иначе давно бы все вояки навеки упокоили друг дружку, и старый Мир-отец наконец-то смахнул бы горючие слёзы, вызванные неразумными действиями скверных чад своих.
По шведской моде, большим поклонником которой оказался светлейший, их мушкетёрский полк раздробили едва не по капральствам и расставили между кавалерийскими эскадронами.
Наверное, чтобы любителям поплёвывать сверху было за кого убежать и за кем укрыться. Ну а им-то, стрелкам, прятаться где? Верных друзей пикинёров, под прикрытием которых можно без помех перезарядить мушкет да и передохнуть малость, им не придали. Любители позвенеть шпорами и в обычное-то время их за людей не держали, а под плотным артогнём шведов и вообще взбесились. Мечутся туда-сюда, нахлёстывая лошадей, орут что-то непотребное.
Вообще кабы нашёлся умник да счёл как-нибудь на досуге, сколь безответной пехоты потоптано своими же кавалеристами: это ж какое войско можно было составить — полмира завоевать.
Макс, в азарте выцеливая какого-то отбившегося шведа, — да и шведа ли — так и полетел кубарем в грязь, попав под копыта очередного выдвигающегося в пекло корнета[146]. Хорошо ещё, что рубки здесь не было — трупов на земле негусто, потому лошади нашли, куда ставить копыта, и Макса не потоптали. В грязи и в навозе, зато живой, только за грудь виновато держится, а что мушкет в щепки, так и часа не прошло, нашла их ряды порция картечи — только успевай бесхозные мушкеты да патронташи подбирать.
Так и метались они как оглашённые взад-вперёд, вправо-влево, в основном от своих и спасаясь. Однако ж пока все четверо целы, и Макс оклемался — лупит с чужого мушкета да нахваливает, всякий раз уверяя, что попал.
Главная сеча в центре, где шведы выкуривают имперских мушкетёров из придорожного рва и спешно отрытых шанцев[147]. Вот там сполна люди жалование отрабатывают, целыми капральствами отправляясь в свой последний поход — к пункту под названием Страшный Суд.
У них по сравнению с центром, ровно служба в глухом гарнизоне. Пару раз отогнали шведов мушкетными залпами, в третий не успели... Михель, защищаясь от разящей стали, выставил мушкет, получил шпагой по руке, но вскользь — жить можно. Наехали со второй линии ребята — подмогли. Всё ж таки есть прок с кавалеров — не только шпорами звенеть.
Огляделся. Гюнтер, слава Богу цел. Маркус тоже без царапины — уже мертвяков обыскивает. Макс в кровище — уха лишился. Кое-как друг дружку перевязали. Михель даже мушкет смог перезарядить. Везёт им, даже вчетвером из роты-то, хорошо, если половина на ногах.
Однако роту их так и подтягивали к центру, ровно бабочку к огню. А там ведь сгорят без остатка. Можно и нужно рискнуть — пробиться в тыл к лазарету. Макса вон прихватить, крови где зачерпнуть побольше да обмазаться, чтобы у профоса и прочих героев тыла не возникло назойливого любопытства к твоей грешной персоне. Гюнтер, конечно, не пойдёт. Фанатик!
А то как бы было ладненько — товарищ выводит из сечи двух израненных однополчан.
Михель совсем уж было решился пробираться в тыл, прихватив Макса и ещё пару-тройку из раненых — полегче, чтобы возни с ними поменьше. Не забыть бы только вовремя сорвать повязку, да раззудить рану, чтобы господа любители ошиваться по тылам устыдились, увидев доблестных защитников церкви и императора, пострадавших через чрезмерную любовь к вере и долгу.
Михель уже начал потихоньку протискиваться в задние шеренги отряда. Ни строя, ни порядка караколирования давно не соблюдалось. Ротный тыл стал обычным прибежищем трусов, раненых, тех, кто неосмотрительно истратил все заряды. Отодвинул одного, другого, когда ЭТО и случилось.
— Десять дукатов за заряженный мушкет! — заорал Макс, и его столь необычная мольба заставила всех встрепенуться.
А Макс — он уже что-то видел, и тянул шею, и поднимался на цыпочки, и тыкал беспрерывно пальцем, и дрожал от возбуждения, и орал как оглашённый:
— Густав, Густав! Шведский король! Вон он, вон, прямо перед строем! Видите, на вороном! В бирюзовом плаще! Да стреляйте же, стреляйте! И мне мушкет, мне дайте! Пальну, а потом хоть убейте!
И все как один — и трусы, и герои, и здоровые, и умирающие — бросились на зов Макса и кричали, прося указать поточней, и перезаряжали, и торопливо выцеливали. Малорослые подпрыгивали, чтобы хоть что-то увидеть за спинами товарищей. Некоторые яростно протирали запорошенные пороховой гарью глаза. Кунц-отшельник, лучший стрелок армии, выбитый в самом начале боя, сидел безучастно в грязи, зажав живот руками, тщетно пытался переварить застрявшую там картечину. Тоже зашлёпал руками по лужам, потянул к себе мушкет — дорогой, именной, полученный лично из рук генералиссимуса[148]. Попытался подняться, используя ружьё как костыль, но со стоном неловко рухнул на землю.
— Ребята, помогите, поднимите на ружьях, уж я не подгажу — всажу в самое змеиное сердце.
Кто бы его ещё слушал — каждый хотел сам, лично истребить первопричину всех бедствий и несчастий. Кунца набежавшие сзади так и затолкли в грязь, где он, не переставая всхлипывать от боли и досады, вскоре затих навеки.
Затрещали первые торопливые выстрелы. Теперь уже всем отчётливо было видно, как по дымному вздыбленному полю намётом летит на роскошном коне всадник. Вот он приостановился, оглянулся, замахал призывно шпагой туда, где клубился грозовой тучей шведский конный полк, свежий, подведённый из резерва, ещё не битый и явно не хотящий быть битым. Похоже, люди Густава уже вдосталь навоевались. Кавалеристы жались под сильным имперским огнём, и король, устав драть глотку, вновь пришпорил коня. Время слов прошло — пришло время личного примера.
И с чего это Макс вообще взял, что это именно храбрый Густав, а не простой шведский полковник-сумасброд, получивший приказ-нагоняй. Но спроси любого — голову даст в заклад, что это северный монарх, и никто иной. Добрая сотня мушкетов в немоте сердец их хозяев выцеливала сейчас самую заманчивую цель Великой войны. И не было силы, способной помешать Михелю вернуться на его законное место в первой шеренге. Безо всяких команд, без обычной путаницы и суеты мушкетёры заняли свои места, первая шеренга без понуканий встала на колено, а некоторые для лучшего упора и вообще легли прямо в грязь. И грянул залп, который должен был подвести черту под этой войной.
Он упал! Рухнул грозный Лев Севера, покатился в грязь Снежный король, свалился под копыта, ровно простой смертный, грозный и неутомимый Бог Войны.
Под восторженные вопли солдаты бросились обниматься, некоторые рыдали, не стесняясь слез, другие, не поднимаясь с колен, тут же наскоро возносили хвалу Всевышнему. Ноздри затрепетали от сивушного духа — эге, у кого-то нашлась и водочка. Лей, не жалей!
Словно Битва уснула, и Война скоропостижно скончалась, и они не на кровавом поле, а на прекрасной городской площади, и это не шум боя, но гул праздника.
Немногим удалось остаться серьёзными, сохранить уплывающее чувство времени и места.
— Боюсь я, опять он выкарабкается. Ведь он, шведский громила, уж семнадцать раз был ранен, и все как с гуся вода, — предостерёг Гюнтер.
— Ведь и тонул же он четыре раза, и в Польше, и здесь, в Германии. Верно, дьявол ему пособляет, — перекрестился при упоминании нечистого Макс.
— Кабы добраться туда, да уж точно в голову из мушкета, али горло перехватить кинжалом.
— Куда там, всех положат — в палаши возьмут да конями потопчут. Мы своё дело свершили, да какое! Посему нам с чистой совестью можно обратно топать: водку пить, гонять тыловых крыс да ждать награды от Светлейшего, а то и от самого Фердинанда[149].
— Интересно, а кто ж всё-таки лично его сразил? Чья пуля попала?
— То народ, ведомый промыслом Божьим, сразил Антихриста! — возвысил голос Гюнтер.
— Ага, тогда я перст Божий, указующий. Это ведь я его первый заметил. — У Макса грудь колесом, глаза горят, выступает гоголем — герой дня да и только.
— Смотри, смотри, лошадники пожаловали! Вот они и докончат дело, если что!
И действительно, большой отряд имперских рейтар, огибая ликующих мушкетёров, медленно разгоняясь, пошёл в атаку на то самое место, где валялся — вот вопрос вопросов — мёртвый или только раненый — шведский король. Разумеется, рейтары имели объектом атаки тот конный полк шведов, что так неосмотрительно бросил своего обожаемого монарха в жаркой сече. Ну что стоит рейтару, проезжая мимо, истратить пулю, ткнуть резко вниз шпагой или хотя бы, вздыбив коня, обрушить его вниз — на грузного, ещё не старого человека, вознамерившегося взгромоздить на свою лысину ржавую корону Шарлеманя[150].
— Кричите же им, кричите, показывайте! — заторопился Макс, явно выказывая намерение вновь грудью испытать крепость копыт рейтарских лошадей.
— Маркус, придержи этого перста Божьего, стопчут же. — Гюнтер и сам придержал не в меру прыткого юношу за фалды.
И они кричали, чуть не все хором. Но рейтары, то ли в запарке и шуме боя, то ли торопясь пролить кровь, а вернее всего, по своему обычному кавалерийскому высокомерию, не обращали на них ровно никакого внимания.
— Гюнтер, Гюнтер, как полагаешь, сделают? Затопчут, зарубят? — теперь уже Макс тряс Гюнтера за рукав. — Неужто опять все усилия дьяволу под хвост!
— Должны, иначе зачем небо коптят.
— Должна, должна и в этот мир наконец-то пожаловать справедливость.
— Теперь дело конницы гнать лишённых короля-командующего супостатов, захватывать неприятельский лагерь, собирать трофеи и пленных. А нам можно и в тыл — глотку промочить. — Макс решительно бросил мушкет на плечо.
— Погоди, может, ещё и наша помощь потребуется, у шведов много сильных генералов: Баннер, Горн, Врангель, — попытался усовестить его Гюнтер.
— Вот эти молодцы пусть их и гоняют, — беспечно ткнул в сторону уже сцепившихся с врагом рейтар Макс. — Меня сейчас больше беспокоит вопрос, насколько щедра будет длань Светлейшего по отношению к лучшим воинам? Офицерский чин, пожизненный пенсион, двойное жалование, Руно на цепочке[151], оружие в золоте? Я ни от чего не откажусь. Но первое дело сейчас — так надраться, чтобы лёжа качало — за наш успех, за нашу победу, за Густава в аду.
— Пойдём, пойдём! — зашумели отовсюду. — Что всё мы да мы. Что, наша рота войну должна за всех выиграть? Пущай теперича другие попотеют. Полдела, считай, им спроворили. Густавову башку выложили как на блюдечке.
— А как жив Антихрист? — Гюнтер, подобно волнолому пытался сбить общее течение.
Гюнтера уважали, а ротного боялись. Но ротный давно сверкает пятками дырявых носков в небо — какой-то ухарь и сапоги с мертвеца успел смазать. Прочее начальство, хоть и не босоноги, однако ж тоже отсутствуют по причине убытия — или вчистую, или вследствие раны тяжкой. Один капрал на роту и уцелел, а больше помалкивает — в такой запарке от своих пулю можно запросто схлопотать. Посему и Гюнтерово уважение, силой страха не поддержанное, для счастливой, как никогда, роты — не тормоз.
— Оставайся Пустосвят, коли желаешь, крути хвосты рейтарским лошадкам, а нам надоело! — уважение уважением, а и недолюбливали Гюнтера многие.
— Да где ж ему уцелеть-то, рассуди по совести, когда добрый десяток пуль в него влепили. Нафаршировали свинцом, что того гуся яблоками. Его счас заместо якоря хорошо использовать — не всплывёт, — урезонивали другие, более лояльные к Гюнтеру.
Михель, конечно, возле Гюнтера, и ушки на макушке. Макс тут же крутится, Маркус не встревает. Встали бы как ранее, плечом к плечу 4М и 4Г, никто бы и рта не раскрыл. Михель сам нет-нет да и одарит Гюнтера парой красноречивых взглядов — чего, мол, упираешься. Не хватало ещё от своих пострадать, да когда — на пороге мира!
Многих же подстёгивали не смолкающие, а даже разгорающиеся и крепнущие звуки битвы. Пока до тех и других весть дойдёт, что нет больше Густава, море крови успеют пролить. Четырёхфунтовое ядро, прилетевшее откуда-то справа и навеки упокоившее двух крикунов, явилось постскриптумом дискуссии. Гюнтер, конечно, не признал поражения, продолжал негодующе сверкать глазищами, но он замолчал, он согласился и позволил себя увлечь. Вякнул только напоследок, что негоже раненых и оружие бросать, так и без него знают — подобрали, кого и что могли.
Со стороны, наверное, казалось, что рота получила приказ, и перебрасывается на опасный участок, потому и никто ими не интересовался, остановить не пытался. Многие встречные, конечно, дивились, что это мушкетёры такие раздухарённые топают. Но таких быстренько просвещали в отношении смерти главного слуги Антихриста на земле. Чужаки сильно сомневались, что демона удалось сразить простыми, не серебряными, не освящёнными пулями. Но в споры не встревали — у всей роты, вернее, у её бравых остатков, почему-то разом ужасно запершило в глотке. Наиболее дальновидные и предприимчивые уже льстиво примазывались к богатеньким соседям, незаметно оттирая лишние рты. Другие издалека начинали наводить мосты насчёт подзанять, или что-нибудь заложить, или продать, и лучше чужое. Все твёрдо надеялись, что грядущие милости генералиссимуса с лихвой покроют затраты, поэтому даже известные ротные жадюги и скопидомы подраспустили кошельки. Пытались, конечно, и встречные трупы обыскивать, но почему-то у всех попадавшихся навстречу тел колола глаза одна особенность — напрочь вывернутые карманы. Солдаты генерала Мародёра[152], как обычно, побойчей да пошустрей нашенских будут.
И тут внезапно «покойнички» ожили! То ли Густава в очередной раз только ранили, то ли шведы об этом ещё не знали, то ли наоборот, взъярились ответно.
Роту с головой накрыл вал драпающей имперской конницы. Кавалеристы разных полков: рейтары, кирасиры, драгуны, кроаты[153]. Те, кто совсем недавно собирались без роздыха домчаться до Стокгольма, теперь столь же рьяно намылились удирать до самой Вены. Одно слово — коннички.
Конных стало так много, словно шведы всё это время рассекали палашами воздух. Увернуться от них было практически невозможно. Макс в очередной раз полетел под копыта, да так там, кажись, и сгинул.
— Вот ещё напасть! Стопчут же всех поодиночке.
Кавалеристы, нещадно нахлёстывая своих одров и воздавая подвертывающейся под руку пехоте, прошли сквозь их строй, как раскалённый нож сквозь кусок масла. Но за ними-то уже замаячили тени преследующих шведских драгун. Эти будут топтать сознательно, умышленно и вместо плетей угощать палашами и пистолетными пулями.
— Гюнтер, Маркус, давайте сюда, ко мне. Держись крепче за мой мушкет. Он всё равно не заряжен. Да под ноги, под ноги смотри.
Предупреждение к месту. Маркус тут же заплутал ногами в лошадиных внутренностях, потянув за собой остальных, причём кобылка та ещё и подыхать не желала, отчаянно била копытами. В конце концов Михель просто крепко схватил Маркуса за шиворот и поволок по крови, кишкам, дерьму.
— Ой, нога, нога, — заканючил Маркус, приседая на колено.
— Так ты остаёшься? — жёстко, в лоб влепил Михель.
Михель боялся обернуться, страшился посмотреть, где шведы, ибо они могли оказаться так близко, что надежда на спасение тут же и околеет от полной безысходности, подобно злосчастной лошадке.
Маркус испуганно, энергично замотал головой.
— Тогда держись за мушкет.
XXIV
Неожиданно они оказались на батарейных позициях. Тоже не мёд: понарыто, понатаскано, понавезено всего. Трупы опять же. Одно хорошо — и преследователей то задержит. Всё с ног на голову с этими новомодными шведскими порядками. Ежели ране, порядочный ландскнехт с закрытыми глазами мог обрисовать любой боевой порядок: пехота в центре, кавалерия на крыльях, артиллерия сзади, то с этими северными бродяжками пушки могут оказаться везде, где угодно, — от авангарда до обоза. Ещё и бедную пехоту могут припрячь цугом — таскай по полю.
Миновав фальконет[154] среднего калибра, Михель вдруг с ужасом ощутил, что земля под ногами проваливается вниз, и они неожиданно очутились в каком-то подземелье. При их нежданно-негаданном появлении в угол испуганно шарахнулся некто с факелом в руке. Факел, а также свет из дыры, что они проделали своими телами, позволили Михелю разглядеть бочонки и бочки по углам, аккуратную пирамиду стальных шаров-бомб в центре, о которые они чудом при падении не переломали ноги.
— Пороховой погреб! И здесь кто-то с открытым огнём! — Михель так и обмер сердцем, протестующе замахал руками.
— Э, дядя не дури! Постой! Свои мы! — закричали разом. И все, верно, молили Бога, чтобы это не оказался швед, прорвавшийся и уцелевший после одной из предыдущих атак, или хотя бы чтобы случайная искра с мерно потрескивающего факела не упала в открытый бочонок.
— Врёте, проклятые христопродавцы, — неизвестный тем не менее поднял факел подальше от пороха, а также чтобы их осветить. — Молитесь, своему дьяволу, чтобы получше встретил в аду.
— Мы такие же католики, как и вы. Верно служим церкви и императору. Посему погасите или уберите немедленно огонь! Иначе произойдёт непоправимая ошибка, и вы долго будете о том сожалеть.
Последние слова Гюнтера, несмотря на весь трагизм ситуации, невольно вызвали улыбку Михеля и Маркуса. Но именно это ощеривание грязных, в копоти и крови физиономий послужило лучшим доказательством их правоты. Может, хитрец Гюнтер на то и рассчитывал.
— Побожитесь! — потребовал неизвестный, судя по всему имперский артиллерист, скорее уже по инерции недоверия, чем действительно продолжая сомневаться. Кажется, он обрадовался не меньше их.
К тому времени Михель достаточно его разглядел и мог делать определённые выводы. Конечно, из наших. Одежда богатая, верно, не простой канонир. К тому ж стар больно, чтобы самому под ядрами корячиться. Волосы слиплись от крови, но вроде рана неглубока — жить будет.
Они послушно выполнили его требование, после чего неизвестный ловко вышвырнул факел в дыру — света и так доставало, к тому же вскоре он вытащил откуда-то из-за вороха гранат надёжный, безопасный зажжённый фонарь.
— А шведы где?
Гюнтер приложил руку к земляной стене:
— Да уж близёхонько.
Впрочем, приближение больших конных масс можно было определить не только по дрожанию стен.
— Так, может, я зря с факелом поторопился? — спохватился старик.
— Ты это, дядя, брось, — Маркус отчаянно пытался придать своему тону суровость и вескость. Он присел на первый попавшийся бочонок и, морщась, яростно растирал ушибленное копытом колено. — Мы ещё пожить хотим.
— Они, гады, сына у меня, — старик закрыл лицо ладонями и затрясся в рыданиях, — к лошадям привязали и разметали по полю. Думали, деньги он где схоронил. Я их зубами готов грызть.
Похоже, неожиданное избавление от смерти, на которую он сам же себя обрекал, потрясло старого артиллериста.
— Зачем же зубами? У тебя вон пушка есть, да не одна, — попытался отвлечь его от невесёлых мыслей Михель.
Однако на слова его почему-то живо отреагировал Гюнтер, даже палец назидательно поднял, ловя ускользающую мысль.
— Что ж у тебя, хозяин, погребок-то столь хилый? — Маркус осторожно разгибал и сгибал ногу в колене, и это не доставляло ему особого удовольствия. — Если уж мы сумели вломиться, то любая случайная бомба насквозь прошьёт.
— Строили-то ночью, пред самым побоищем, наспех. — Старик ещё глотал последние слёзы, однако рассказывал охотно. — Пришлось пехотных в работы взять. И не досмотрел, везде ведь надо было поспеть, как они доски и брёвна успели пропить. Что там доски, пары бочонков зелья[155] не хватает, а ведь четыре же раза пересчитывал.
— Эт мы могём, — осклабился Маркус. — Мы, мушкетёры, бедовый народ, и палец нам в рот не клади.
— Дак это вы, что ль, были, — вгляделся старик. — Что-то рож не припоминаю.
— Не мы, не мы, — махнул рукой окончательно развеселившийся Маркус. — Я к тому речь веду, что любой из нас такую штуку смог бы провернуть да кого угодно одурачить.
— Слупили по четыре су за срочность, да ещё и ничего толком не сделали — это вы считаете правильным делом!
Речи были заглушены нарастающими раскатами. С потолка тонкими струйками посыпалась земля. Все инстинктивно сжались, втянув головы в плечи.
— А он у тебя, того, не обвалится напрочь, став нам всем шикарной могилой? — забеспокоился Маркус.
— С восхода, почитай, конные носятся туда-сюда — и ничего, стоит, как видишь.
— Ага, конного нам здесь только не доставало сверху, да ещё и с лошадью. Полный набор будет — пехота, конница, артиллерия. Хоть армию собственную погребную создавай.
Михелю нестерпимо захотелось наверх, хотя и понимал, что это гибельно.
— А ведь это ж наши атакуют, наши! Слышите, с какой стороны, — опять назидательно поднял палец Гюнтер.
— Помогай им Бог. Может, сломят наконец супостата, — закрестился артиллерист.
— Может, мы потихоньку в тыл? — робко предложил Маркус, переводя вопрошающий взгляд с Гюнтера на Михеля и обратно.
Но Гюнтер, словно и не слышал его, будучи целиком погружен в свои мысли.
— Сломят! Конечно, сломят, если мы им пособим. Ты, старик, знаешь, как с пушкой управляться, заряжать там, наводить?
— Да я вообще-то мастер-литейщик.
— Я не про то спрашиваю.
— Ну как же. Хотя и давненько этим делом напрямки не занимался.
— Пошли. Заодно и сына твоего им припомним.
— Гюнтер, ты куда? — враз всполошились Михель и Маркус.
— Туда же, куда и вы — к пушке!
— Но у меня же нога, — заканючил Маркус.
— Главное, голова цела. Не бойся, в атаку хромать не придётся. Здесь все недалече.
И уже в дверном проёме, назидательно подняв палец:
— Запоминайте, потому как умными людьми сказано: «Прекраснейшее, что нам принадлежит, — честь!»
— Всё так, но я бы со своим «Absolve Dominet»[156] предпочёл погодить.
— Нет, сегодня Глас Божий возвестит наихристианнейшему воинству «Те Deum laudamus»[157]. A «Dies irae»[158] — по врагам нашим!
Точку в содержательной беседе подвёл со стоном поднявшийся Маркус:
— Ты, у нас, Гюнтер, в конце концов дьявола уболтаешь сигануть в его же собственный котёл со смолой кипящей.
Перед ними расстилалось поле, на котором кипела отчаянная рубка. Даже плотный доселе пороховой дым заметно поредел — в ход шло исключительно белое оружие.
— Еретики сильны как никогда. Посему не медля приступай к науке, — раскомандовался Гюнтер.
— Прежде всего пушку надо после предыдущего выстрела пробанить. То есть прочистить, — торопливо поправился артиллерист, встретив недоумённый взгляды всей троицы.
— Вот эту штуку, она называется банник, засовываете в дуло и равномерно туда-сюда, туда-сюда, как... Ну, вы сами знаете где, — лукаво улыбнулся он в усы.
— Продолжайте, молодой человек, — передал он своё нехитрое орудие Гюнтеру, — вы более других стремились овладеть нашим ремеслом. Да не ленитесь, а то мне, старику, сие уже не по силам.
— Вы, — ткнул он пухлым перстом в Маркуса, — пойдёте сейчас вон туда. Видите ноги. Да, да, в красных чулках. Это не испанский лейб-гвардеец[159], а, к сожалению, мой лучший наводчик. Сожалею не потому, что это именно его ноги, а потому, что ему никогда ими не пользоваться. Короче, — оборвал он сам себя. — Видите, рядом дымок вьётся. Это тлеет без пользы артиллерийский фитиль, он намотан на специальный жезл. Там ещё изрядный запас должен остаться. Тащите — нам без него как без рук. Не спешите. На груди наводчика на цепочке должен висеть пробойник — шило такое. Его также — сюда.
— Цепочка, надеюсь, хоть золотая? — Маркус всеми силами пытался заменить исчезнувшего Макса.
Но старик уже про него забыл, обернувшись к Михелю:
— А с вами, молодой человек, мы, ежели не возражаете, отправимся за начинкой к пирогу, то есть за зарядом. Нам, следовательно, обратно в погреб.
— Момент, — обернулся он к Гюнтеру. — Я думаю, достаточно. Вы столь яростно баните, что, опасаюсь, увеличите калибровку, и ядра будут попросту сами выкатываться из дула.
Смущённый и задетый за живое, Гюнтер даже чертыхнулся, что водилось за ним крайне редко.
— Пойдёте с нами. Принесём сразу бочонок пороха, чтобы каждый раз в погребок не спускаться.
Так же неторопливо и обстоятельно, чтобы запомнилось раз и навсегда, старый артиллерист показал им процесс заряжания. За исключением мелких хитростей, все до боли знакомо. Тот же мушкет, только без замка и калибром заметно поболе.
— Теперь что? — смиренно обратился артиллерист к Гюнтеру, прерывая процесс. — Куда наводить прикажете. У нас ведь бомба, а с ней особая опаска нужна. Надо навести, поджечь фитиль, быстренько закатить бомбу, прибить пыжом и отпаливать, чтобы бомбу не разнесло в стволе, вместе со всеми нами.
— Куда стрелять? А вон куда!
— Боже ты мой! — ужаснулся Михель, проследив направление указующего перста Гюнтера. — Наших-то опять лупят.
Очередной имперский вал, судя по всему, расшибся о шведскую скалу. Малодушные осаживали, разворачивая лошадей, храбрые пытались подороже продать свои жизни.
— Где же дьявол закружил Паппенгейма[160]?! — Маркус почему-то требовал ответа у них. — Без него наши коннички, что мокрые курицы.
— Да мы-то откуда ведаем! — резонно заорал на него Гюнтер. — Ты не о нём беспокойся, а вот об этой кормилице, — звонко шлёпнул он по пушечной бронзе.
— У кого глаз острый? — спохватился артиллерист. — А то мои слезятся.
— У Макса, — машинально пожал плечами Михель. — У кого ж ещё.
— И кто у нас Макс? — старик поочерёдно оглядел всю троицу.
— Судя по всему, он в окрестностях ада, — вздохнул Гюнтер перекрестившись. — Кстати, до сих пор не познакомились. Я Гюнтер, а эти два достойных отпрыска рода людского и мушкетёрского — Михель и Маркус.
— Весьма рад. Фердинанд Фрунсберг, мастер пушечных и литейных дел, к вашим услугам. — Старик потянул было руку, чтобы приподнять несуществующую шляпу.
— Не из рода ли тех достойных Фрунсбергов[161], столько сделавших для империи?
— Где уж нам, — смущённо-польщённо заулыбался старик. — Они-то из благородных будут, фон-бароны, а мы бюргеры, мастера. Пушки, колокола. В последние годы, правда, только пушки. Колокола никому не потребны, словно люди напрочь забыли Бога.
— Люди, с помощью пушек защищают своего Бога, — сурово перебил его Гюнтер. — Покончим с проклятыми еретиками — дойдут руки и до колоколов. Чтобы приблизить час сей благостный — наводи по злодеям!
— Дай, я испытаю, — неожиданно вырвалось у Михеля.
— Извольте, извольте, — старик ровно наследника своему пушечному делу сыскал.
— Гюнтер, командуй! — Михель сотни раз видел всю процедуру, посему нуждался только в достойном целеуказателе.
— А вон того субчика мне сделай. — Гюнтер также склонился к орудию, указывая направление.
— Ага, вижу. Ишь молодчик — палаш весь в крови. Гюнтер, клинышек подбей совсем легонько[162]. Маркус, где тебя черти носят, хватай за цапфы[163], по горизонтали подвернуть бы надобно. Носится, как очумелый, по полю, и не выцелишь. Гюнтер, у тебя в запасе поспокойней не найдётся?
— Заряжай, не болтай! Наши вроде его придержали.
Старого артиллериста словно подменили. В то время как Гюнтер и Маркус больше суетились, он действовал быстро, чётко, ловко. Мастер словно стряхнул обузу времени — спроворил, подобно юному подмастерью, единственная награда которого — брань да оплеухи.
— Поберегись! — молодцевато гаркнул он, прикладывая фитиль к запальному отверстию.
Гюнтер едва успел сгрести в сторону полоротого Маркуса, расположившегося поглазеть непосредственно за пушкой и, несомненно пострадавшего бы от отката при выстреле.
Михель, наоборот, выбежав вперёд, попытался вскочить на тур, но поскользнулся, да так и уселся в корзину с землёй, где к тому же валялась чья-то оторванная или отрубленная голова. Пробормотав что-то вроде:
— Смотри, не отгрызи там у меня кой-чего, — Михель так и остался сидеть, наблюдая за делом рук своих.
Весь квартет артиллеристов разразился бурей восторга. Михель не мог и мечтать о подобной удаче: бомба угодила прямо в шведа и разорвалась буквально у него в руках.
Михель, конечно, не мог услышать, как храбрый вояка успел пробормотать, прежде чем исчезнуть в пламени и дыме:
— Славный выстрел, чёрт возьми.
Ни Михель, ни прочие не обратили внимания и на то, что пороховым духом и осколками было сброшено с лошадей и искалечено шесть имперских кроатов, полуокруживших на момент выстрела шведа с целью задать ему добрую трёпку.
— Если бы ты, парень, мог видеть, как мы его! — восторженно обратился Михель к голове, на которой сидел. Больше-то не к кому. — Однако ж и жестковата у тебя черепушка. Прям ядро чугунное. Верно, упрямец был, когда был живым. А может, ты из шведов и нарочно решил наставить мне синяков на задницу?
Однако ни побеседовать вволю с невозражающим собеседником, ни порадоваться как следует Михелю не дали. Подняли ор от пушки.
— Михель, Михель! — Гюнтер опять вооружился банником, и тот в его руках буквально трещал и гнулся. — Это не последний, и даже не предпоследний швед на этом поле.
Кончай глумиться над павшим и сюда! Глаза твои для нас сейчас по сотне дукатов за каждый зрак.
Так, значит, Гюнтер и голову разглядел. Когда успевает: и работать, и подсматривать.
— Где она, твоя сотня, — вздохнул Михель, тем не менее покорно оставляя новую игрушку и слезая с тура. Бросив последний взгляд на своё сидение, Михель с изумлением и радостью обнаружил зажатый между зубами мёртвой головы дукат.
— Вот так находка! Да ты, парень, — Михель упорно продолжал обращаться к голове как к живому, — чаю, из благородных будешь. Вернее, был. Извини тут, что я тебе наговорил. Разве ж какой шведский прихвостень смог бы устроить для меня такую королевскую награду? Покойся с миром. Дай я тебя землёй присыплю, что ли.
— Михель, ну где ты там запропал?
Михель оглянулся: Гюнтер, прочистив орудие, взялся уже за шуфлу. Фердинанд и Маркус волокли снаряд и пыжи, причём явно ссорились, попеременно обращаясь друг к дружке с короткими пылкими репликами. Михель, занятый головой, не видел, как Фердинанд, не дождавшись, пока Маркус устанет, подбрасывая шляпу вверх, ловить её, вопя что-то труднопереводимое, попросту прожёг ему тлеющим фитилём штаны, приводя в чувство. Обычная шуточка мушкетёров и артиллеристов. Не осади их свирепо Гюнтер, быть бы старику нещадно битому.
— Заряжайте давайте, я сейчас.
«У меня тут дукат», — Михель, конечно, не добавил.
Его благодушие, правда, очень скоро испарилось, ибо мёртвая голова упорно не желала расстаться со своей собственностью, как Михель её ни тряс и ни пытался пальцами выдрать монету. Пришлось гардой кинжала пересчитать упрямцу зубы. Наскоро сдув землю и крошево зубов, Михель, чертыхаясь, торопливо сунул монету в карман — настырный Гюнтер опять подал голос от пушки.
— Чего ты там копаешься? — накинулся на него Гюнтер, в то время как Маркус и Фрунсберг продолжали яростно перепираться между собой. — Панихиду, что ль, устроил? Вон кого надобно отпевать. Причём срочно.
И Гюнтер ткнул чёрным от пороховой гари перстом в поле.
— Да дукат тут подвернулся. — Михель готов был язык себе откусить, однако ж и рукой уже подтверждающе хлопнул по карману. — Не бросать же. Вы тоже заберите, если что, не забудьте.
— Хорошо. — Гюнтера не обрадовала даже весть о деньгах, на что втайне надеялся Михель. — К орудию, к орудию. Наводи, давай!
И он наводил, и они стреляли, благо, снарядов — в избытке. Не всегда, разумеется, так же успешно, как первый раз, но в целом неплохо. Когда же орудие опасно раскалилось от выстрелов, а уксуса под рукой не оказалось[164], перешли к другой пушке примерно такого же калибра.
Как прихожане на колокольный звон, на выстрелы потянулись люди: пехотинцы рассеянных рот, потерявшие коней кавалеристы. Гюнтер каждому находил дело, ободрял павших духом, придерживал тех, кто собирался бежать дальше. Постепенно у них образовался узел обороны. К рявканью пушчонки присоседился треск доброго десятка мушкетов, а там и вторая пушка подала голос.
Гюнтер и Фердинанд уже сами не заряжали — только командовали. С приказами и дело приобрело осмысленность, пошло веселей. Всё-таки как здорово, когда за тебя кто-то думает.
Появилась даже возможность перевязать Фердинандову голову, заодно расспросив о ране. Точнее, словоохотливый старикан сам им поведал о том во время перевязки.
— Как сердце чуяло. Обычно-то я шляпой покрываюсь, что на походе, что в бою. Потому как от ядра или, положим, картечины шлем поможет, ровно мёртвому припарка. А тут нахлобучил — батарейные мои так и полегли от смеха — старик в железо рядится. Я ещё в сердцах плюнул — чтоб вас всех побило. А оно вон как обернулось. Ровно я накаркал-напророчил. В общем, когда хлынула эта саранча на батарею, приметил меня один швед — не видел я здоровей мужика, сколь живу.
— Давно замечено — у страха глаза велики. — Гюнтер никогда не любил, чтобы при нём как-то выделяли в лучшую сторону противника.
— Да говорю ж вам — великан из великанов. Горяч не в меру — саданул меня палашом прямо по штурмовой каске. А что было б, кабы в шляпу я нарядился, как обычно? Развалил бы до самого копчика. А сила какова: шлем пополам, палаш в куски, я в обморок, шведа и след простыл. Как очухался немного, то и решил в погребе схорониться, где вы на меня и свалились.
— И сдаётся мне, — добавил Фердинанд, подумав, — что первым выстрелом Михель, дружок, ссадил именно этого громилу.
— У тебя ж вроде глаза слезятся, как же ты его в поле-то разглядел? — Гюнтер ехидненько так и вроде шуточками уже начал вгрызаться в авторитет Фердинанда, откусывая кусочек за кусочком.
— Точно он! — бесхитростному Фердинанду и дела нет до тайного смысла Гюнтеровых речей. — Руку даю на отсечение. Да сдаётся мне, что и сына моего именно он расказнил.
Гюнтер только плечами пожал. После того как Фердинанд признался ему, что по молодости грешил анабаптизмом[165] и вообще продавал свои пушки направо и налево, лишь бы платили, Гюнтер решил держать ухо востро. Но пока идёт бой — каждая пара рук, каждая голова на счету, и Гюнтер лебезил и заискивал ради грядущей победы перед Фердинандом.
Затесался к ним даже один мародёр из тыловых с огромным и уже доверху набитым мешком. Он явно рано поверил в имперскую победу или решил рискнуть и собрать сливки, пока другие ещё опасаются. С милю резво драпал от шведской кавалерии, однако добычу не бросил. Долго сидел на своём мешке, все не мог отдышаться. Думали, уж помрёт. Гюнтер бросил на бездельника пару свирепых взглядов и, не выдержав, решительно сам к нему направился.
— Вот отныне твой мушкет, твои заряды. — Гюнтер буквально насильно вручил всё это опешившему мародёру. — Вон твоя банкетка[166], вон твоя бойница, и ещё за той присмотри. Бегом — марш!
— Мешок можешь взять с собой, — добавил Гюнтер, усмехнувшись в усы. — И не дай бог, надумаешь под шумок улизнуть в тыл. Из могилы достану.
Развёрнутая под руководством Гюнтера бурная деятельность стала маяком не только для осколков разбитой имперской армии. Их батарея оказалась как бы на «ничейной» земле.
На счастье, шведы в очередной раз перенесли направление удара. Жаркое дело кипело левее. Через батарею изредка перелетали ядра как с той, так и с другой стороны. Шведских одиночек — таких же заплутавших кавалеристов — неизменно встречали огнём, рассеивая по полю и не давая сбиться в крупные опасные группы. Кое-кого удачным выстрелом ссаживали с коней, что неизменно встречалось бурей восторга, причём больше радовались почему-то, когда враг оставался в живых и спасался, расшвыривая доспехи и снаряжение, подбадриваемый в хвост солёными шуточками и выстрелами. Даже мародёр-тыловик вспомнил, что ведь когда-то был справным солдатом и всё меньше косился на тыл да и на невольных соратников — не бегут ли, не бросили ли.
Однако имперцы не выиграли ещё ни Войну, ни даже битву. Явно пьяный сбившийся с дороги шведский расчёт со своей передвижной четырёхфунтовкой, умело используя складки местности и горы трупов, прокрался незамеченным и первым удачным выстрелом картечью положил на месте едва не половину отряда. Оставшиеся в панике бросились наутёк, и только Гюнтер, а за ним Маркус — к пушке, где за лафет испуганно присел ошарашенный Михель. Только старый Фердинанд сохранил невозмутимость, что-то громко подсчитывая.
— Дуэль так дуэль! — заявил он. — Если хотите уцелеть и победить, то что бы ни делали — по моей команде «ложись» — падайте ниц, иначе всем конец. А теперь заряжай!
Их орудие на пригорке — шведское в низине. Михель, чертыхаясь, ослаблял клинья, Маркус как раз прибивал пыж, когда раздалось громовое:
— Ложись!
И кто бы мог подумать, что старый пердун Фердинанд может ещё так молодцевато гаркнуть. Они послушно попадали, и тут же выше с визгом пролетела картечь, донёсся звук пушечного выстрела.
— Как ты догадался? — приподнявшись на локте, Гюнтер счищал с лица налипшую кашу из крови и грязи. — Колдовство какое-то.
— К орудию, — махнул рукой Фердинанд. — Потом объясню.
Однако словоохотливость взяла верх и, ворочая наравне со всеми враз потяжелевшую пушку, но не сбиваясь со счёта, Фердинанд охотно дал пояснения.
— Это же не люди, пятнадцать, шестнадцать, — кивок в сторону шведов, — это куклы механические. У них же все размерено, рассчитано и вбито в башку, двадцать восемь, двадцать девять. Наши заряжают медленней и палят абы как, сорок, сорок один. А эти все всегда в одно и то же время. Кстати, вот оно — ложись!
И вновь визг картечи над головой. Сливаясь с пушечным, совсем рядом ударил вдруг мушкетный выстрел.
Михель поднял голову, и с удивлением увидел незамеченного никем мародёра-мешочника, победно потрясающего дымящимся мушкетом, кстати, Михелевым.
— Вы только посмотрите, каков молодец?! — Гюнтер уже на ногах и не скрывает восхищения.
— Так ты попал, девять, десять? — в голосе Фердинанда было нечто, заставившее их обернуться.
— А то! Наповал! И ножкой дрыгнуть не успел! — послышался горделивый ответ.
— Идиот, восемнадцать, девятнадцать! — схватился руками за окровавленную голову старик. — Ты же выбил их расчёт с ритма, а меня со счёта. Как я теперь определю время заряжания, тридцать один, тридцать два.
— На вас не угодишь, — пожал плечами мародёр. — Пойду я, пожалуй. К тому же заряды полностью иссякли.
— Нет уж, держите его! Сорок три, сорок четыре. Подыхать вместе будем, по твоей вине. Ложись, что ли! — по привычке скомандовал Фердинанд.
Выстрел!
— Ах вы, мои куколки заводные. Пять, шесть. Ах вы, мои милые. Вы только гляньте на этих героев — уложились ведь вовремя. Прямо как при полном расчёте. Двадцать, двадцать один. Теперь они нам не страшны.
— Вот ещё одному уже ничего не страшно, — сдержанно кивнул Гюнтер. Шведы не преминули ответить за гибель товарища, влепив весь заряд в бойницу, откуда был произведён ружейный выстрел. Нечто, оставшееся от мародёра, решившего вернуться к мушкетёрскому ремеслу, сползало вниз по брустверу рядом с заботливо прислонённым к банкетке мешком.
— Осиротел мешочек-то, — брякнул Маркус, на время забыв обо всём.
— Заряжай! — ткнул его Гюнтер. — А то раззявил губу, трофейщик хренов.
Им ещё два раза пришлось целоваться с землёй, прежде чем они зарядили сами.
— У шведов-то проклятых отчего заряды не иссякли до сих пор?
— Унитары! Всё в одной холстинке зашито — и порох, и пыж, и ядро — забивай сразу — и готово. Каждый солдат на себе добрый десяток может утащить.
Наконец-то сподобились и они.
— Так, как только шведы стреляют, десять, одиннадцать, Михель, сразу к прицелу, и постарайся, чтобы этим выстрелом всё и ограничилось, семнадцать, восемнадцать. Я зарядил бомбой, потому что от картечи они также попадают, как то сделали мы. Надо развалить им пушку. Швед пошёл, конечно, не тот. Их там с десяток голов, давно бы со шпагами рванули в атаку, врассыпную да перекололи нас в мгновение ока. Тем паче ни я, ни тот мешочник на шпагах уже не сильны.
— Так они ж не ведают, что нас здесь четверо.
— Ведают, не ведают. Тридцать, тридцать один. Чего тут ведать? Раз ни из пушки, ни из ружей не отвечают — значит, нет никого. Бери голыми руками. Нет, не тот швед стал. Ложись!
И всё-таки Михель поторопился! Выпущенная бомба впритирку прошла над шведской пушчонкой, зарылась в землю, где и разорвалась, не причинив никому вреда.
Шведы ответили ещё двумя картечными зарядами, но к этому они уже привыкли, посему зарядили гораздо быстрее.
— Михель, умоляю, не промахнись! Ведь не дурни же они, в конце концов. Догадаются сменить частоту выстрелов и сметут всех разом. Или поймут, какие из нас вояки, и возьмут штурмом.
— Мне нужно время для прицела. А с бомбой этого не сделаешь — надо торопиться.
— Так что ж ты молчал? Давай ядро закатим!
Михель ощутил незнакомое чувство величия себя, наводящего пушку. От его меткости зависела вся их четвёрка, а также свалившиеся, как снег на голову, шведы. «Одним ударом семерых» — в этом что-то есть. Михель не раз и не два видел, как ядро врезается в плотный строй атакующих, как заряд картечи наповал укладывает все капральство. Но в худшем случае из орудия палили в него, в лучшем — свои имперские артиллеристы поддерживали огнём. Навалился страх — опять промажет! Зря он самонадеянно встал к пушке.
«Если суждено уцелеть в этой заварушке — ухожу в артиллерию. Вон и старик ко мне благосклонен — шпыняет гораздо меньше увальня Маркуса или гордеца Гюнтера. Должен взять, ведь расчёт его весь приказал долго жить. Тогда уж Гюнтер, сволочь, мной не покомандует — куда идти, что подать. Когда пожелаю, тогда и к морю уйду... Шведы-то как медленно работают. Чуют еретики, что на прицеле. Запросто любому башку снесу. Вон один даже обернулся — а порох-то у него так и сыпется — нет, не будет у них доброго выстрела».
— Ну, запаливай, — негромко и даже устало скомандовал Михель, словно занимался этим годы и годы, и выстрел этот для него — один из тысячи.
— Voila, — восхищённо прищёлкнул языком Фердинанд, почему-то решивший перейти на французский. — Михель, каналья, да ты же прирождённый артиллерист!
— Выпивка с меня! — выразил своё отношение к выстрелу Маркус.
— Заряжай давай! Картечью! Уходят же! — Гюнтеру все мало. — Ну ты и глаз, Михель!
А вопили они все потому, что Михель попал! Ядро угодило в лафет или колесо — только щепки полетели. Выбитый силой удара из люльки ствол отлетел далеко в сторону, к огромному сожалению Михеля, не зацепив никого из шведов.
— Подумаешь, в пушку попасть, — пожал плечами Михель, хотя его так и распирало заорать что-нибудь оглушительно-звонкое. — Любой сможет.
— А вот и не любой, не любой, — горячо подхватил Фердинанд. — Тут глаз нужен. И чутьё. Они или есть, или нет.
Оставшиеся без пушки шведы рассыпались проклятьями, бессильно грозили кулаками, даже постреляли из мелкого оружия, а потом вдруг побежали, да так резво — только пятки засверкали. Потому-то Гюнтер и завопил как резаный, чтобы поторопились заряжать. Саданули картечью вослед — да куда там.
— Вот теперь можно и отпраздновать. — Гюнтер неуклюже, но крепко облапил Михеля. — Молодец! Ты даже не подозреваешь, Михель, какой ты славный малый!
— Может, в тыл? — робко предложил Маркус. — Сколь воевать-то можно? Пехтура от нас сбежала — прикрывать некому.
— Пехтура, — передразнил его Гюнтер. — А сам-то кто?
— Заряжай! — скомандовал уже Фердинанд. — Битва-то не кончилась.
— Заряжай да подавай, — скривил губы Маркус. — А отдыхать и наливать когда ж будем?..
— Паппенгейм! Смотрите, точно Паппенгейм!
— Ура, победа, насыпь им перца под хвост, ребята!
Огромная масса имперской кавалерии, подобно водяному потоку, грозно выкатывалась из-за ближайшего холма, сворачивая расстилающуюся перед ними шведскую армию, ровно штуку сукна.
— Боже ты мой, какая силища! Сколько ж у него кавалерии-то будет? — не скрывая радости, притворно ужаснулся Маркус, всплёскивая руками.
— Тысяч за семь простирается мощь его региментов[167]. — Фердинанд не меньше других потрясён был величием разворачивающейся панорамы огромного противоборства.
— Фердинанд, как сделать, чтобы наша штучка плевалась как можно дальше? — Гюнтер не мог долго радоваться.
— Или хобот приподнять, или хвост опустить, и заряд, конечно, рисковый забить.
— Действуй: командуй, показывай. Надо пособить конничкам.
Михель тоже взялся было за инструмент, но Гюнтер мягко его отстранил:
— Отдыхай. Тебе нельзя утомляться. Руки будут дрожать и глаз слезиться. У нас вон там Маркус — новоиспечённый бомбардир — от безделья изнывает, да и Фердинанд — работник хоть куда. Полюбуйся пока, как наши еретиков кромсают. Что, разлюбезные, наскочили с ковшом на брагу! — погрозил он кулаком в сторону противника.
Однако ж и шведы тоже не с хвоста хомут надевают. Мягко спружинив, шведская армия погасила первый, самый бешеный натиск, не раскололась на тысячу небоеспособных осколков. Кавалерия, мушкетёры, орудия — всё это спешно меняло фронт, подтягивалось, охватывало, контратаковало. Поле беспощадной резни мигом затянулось плотными клубами порохового дыма, и уже не разобрать было — кто там кого и как.
У смертельно вымотанных артиллеристов работа тоже не заладилась и не спорилась. Непосредственная угроза миновала, предвкушение близкой победы расхолаживало и расслабляло. Удирающий от них шведский расчёт наткнулся на целёхонькую однотипную четырёхфунтовку, и после недолгих споров решили развернуть её и вторично испытать судьбу в артиллерийской дуэли. Тут-то и накрыл их вал атакующей имперской конницы. Храбрые шведы ещё успели всадить заряд картечи в упор. В горячке боя было не до возни с пленными.
Михель, с удовольствием расслабив напряжённые члены — возня с орудием утомляет не хуже рукопашной, — вёл ленивую борьбу между Совестью и Усталостью: помочь — не помочь, причём Усталость явно одерживала верх. Хотел уж было обернуться и крикнуть, чтобы не суетились понапрасну, всё равно ничегошеньки в дыму не разберёшь, так и по своим недолго угодить, как вдруг внимание его привлёк всадник, явно держащий путь по их душу.
Михель беспокойно заёрзал. Всадник выскочил из имперских рядов, но у них ведь там всё так перемешалось. С вознёй у пушки он совсем забыл про свой верный мушкет и то, что его всегда надо иметь под рукой, желательно заряженным. Ежели, конечно, думаешь протянуть хотя бы до следующего восхода солнца. Гюнтер, командирчик хренов, явно сунул его ружьишко в чьи-то грязные неумелые лапы, и хозяин лап, разумеется, удрал под поднятый шведами шумок, с испугу сгребя и Михелев мушкет. И валяется, поди, его неказистый, но убоистый мушкет сиротливо в какой-нибудь луже. Пойти посмотреть что-нибудь подходящее.
— Гюнтер, гость к нам, — обронил Михель, проходя мимо. — И дьявол тебя забери, кому ты запродал мой мушкет?
— Мушкет твой у охотника до больших мешков. — Гюнтер с явным удовольствием разогнул спину и, выпрямившись, поднёс ладонь к глазам. — Командир какой-то жалует либо вестовой. Счас начнётся кутерьма: передвинуться туда, сосредоточиться там, стрелять туда, не стрелять сюда.
Фердинанд и Маркус, как по команде, тут же бросили работу, и, рьяно показывая, что это тоже важное дело, принялись выглядывать всадника. Судя по всему, лошадь тому попалась не ахти или заморилась за этот сумасшедший день, но всадник перешёл на шаг. Михель, обрадованный известием, пошёл проведать свой мушкет. Маркус, оторвавшись от увлекательного созерцания, крикнул в спину, чтобы Михель пошарил в мешке насчёт выпить-закусить. Михель согласно кивнул головой, хотя был точно уверен, что в мешке том, кроме окровавленного тряпья да мало-мальски приличного оружия, ничего не обнаружится. Хотя чем чёрт не шутит. Надо будет у мёртвого мародёра порыться в карманах — явно что поценней туда откладывал. Если у него, конечно, остались карманы.
Мушкет свой Михель опознал только по половинке приклада, которая так и осталась в руках мертвеца. Проклятые шведы щедро наделили картечью не только теперь уже навеки безвестного любителя выморочного имущества, но и Михелев мушкет.
— Не дорожишь ты, парень, доверенным оружием. Ой, не дорожишь. Досталось бы тебе от нашего ротного на орехи, кабы оказался вдруг на нашем ротном смотре.
Михель поймал себя на мысли, что вот уже который раз разговаривает с мертвяком. Словно готовится к встрече с будущей землёй, когда все друг дружку повыбьют да повырежут, только с такими и можно будет перекинуться словечком-другим.
Карманы мародёра не особо обогатили Михеля. Так, мелочевка. Больше руки оттирал, ибо внутренности мародёра после шведской картечи все почему-то оказались наружу. Похоже, шведам перед боем тоже не платят. Начальнички, так их и разэтак, повсюду одним мирром мазаны.
В мешке все, как Михель и ожидал. Приятно обрадовала, правда, изящная вещица, явно офицерская, — серебряная фляжка, так ведь без капли содержимого.
Михель уже привстал было, чтобы разом вывернуть содержимое мешка на землю да раскидать пинками, дабы руки не пачкать, как неугомонные Гюнтер и компания опять что-то разгалделись за спиной. Наскоро проверив первый подвернувшийся из мешка пистолет — заряжен — Михель сунул его за пояс — хм, а рукоятка-то не иначе как слоновой кости — и поспешил к крикунам.
— Михель, Михель! Вот радость-то! Ты погляди, кто к нам жалует! Ну что, угадал? — Маркус не выдержал и бросился навстречу.
— Старуха с косой.
— Да ты чё, Михель, сдурел. Ну, глянь, глянь повнимательней. Пошире-то разинь свои знаменитые глаза. А я тебе подскажу — это замена твоя.
— Тогда призрак короля шведского.
— Нет, вы только полюбуйтесь на него? Шутник выискался. Совсем пушечные газы зенки повыели.
— Хорошо хоть пушечные, не кишечные.
— А я подскажу, не сочту за труд. Это пропажа наша общая обнаружилась.
— Да ну? Тогда это запропастившийся было невесть куда Паппенгейм собственной персоной, везёт мой пропавший мушкет. — Чего бы Михелю не побалагурить, видя как распаляется Маркус, тем паче что конный одиночка явно не представляет угрозы.
— Дуралей ты, Михель, и отец твой был, — не на шутку рассвирепел Маркус, однако сам же себя нетерпеливо оборвал. — Да это же Макс, Макс наш нашёлся. Он теперь станет пушку наводить, а ты, шутничок, землю с нами рыть.
Если Маркус ожидал от Михеля взрыва восторга или негодования, то крепко ошибался. Дождался он только того, что Михель заговорщицки подманил его пальцем поближе и таинственно зашептал:
— А я ведь никогда и не сомневался, что Макс жив. Это ж ты, Маркус, его уже и убил, и зарыл, и отпел. За что и ответ держать будешь.
— А что я, что я... Это Гюнтер. А я ведь... тоже всегда верил. Скажи ему, Михель.
— Ладно, замолвлю словечко, — враз повеселел Михель. — Пойдём встречать нашего героя. Если выпивки он и не приволок, то уж вестей — полные перемётные сумы.
XXV
— А я чую, пушка одиноко палит. Ну, думаю, не иначе как наши оборону против целой армии держат. Кто ж, как не вы! — заорал Макс ещё издали, так что за громом битвы было и не разобрать. — Жаль я в кавалерии ещё никого не знаю, а то б поспорил на пару монет, что это только вы, и никто более.
— Дай-ка я тебя перекрещу для верности, а ещё лучше — шпагой ткну, чтобы убедиться, что не призрак. — Давно Михель не видел Гюнтера в такой радости.
— Вон, коня лучше ткни, уж он-то точно из плоти и крови. А меня только святой водой спытать можно.
— Кстати, ты-то святой водицей не догадался облагодетельствовать. — Кто про что, а Маркус все о водке.
— Ну да, драгуны ведь известные пьянчужки. Давеча скакал в эскадронном строю, дак так надышали на меня — чуть с лошади не свалился.
Макс, живой Макс, в пыли, крепко уже пропахший конским потом, усталый, но, как всегда, весёлый. Жмёт руки, обнимается, знакомится с Фердинандом. Пушка заброшена, бой забыт — пусть привыкают и без нас как-нибудь обходиться.
— Выкладывай, где тебя черти носили? — Гюнтер, разумеется, видит, что Макса и без того распирает от желания вывалить на них гору вестей, но также прекрасно знает, что Максу будет приятней, ежели его попросят.
— Чудом ведь меня не стоптали тогда. Получил копытом по голове, думал каюк, однако ж Бог миловал — вскользь. Когда очухался — вас уже и след простыл, друзья тоже мне, а шведы вот они — близёхонько. Пырь глазами — ан Гнедок бесхозный ушами прядает. Я к нему — еле вскочил — вертится, зараза. А шведы уж с трёх сторон заходят. Пришлось с поля боя убираться, и поскорее. Парочка шведов за мной увязалась, да на счастье в ольстрах пистолеты заряженные нашлись. Да целых три пары к тому ж — старый хозяин запаслив оказался. Удирал да Бога молил, чтобы конёк мой не споткнулся. Далеконько они меня загнали — видно, глянулась им башка моя. Хотел уж ворочаться да разобраться с ними по-свойски, ан гляжу — отстают. К тому же засады опасался или какой ещё каверзы, шведы-то у нас мастаки на всякие такие дела. А тут и наш авангард. Покуда разобрались — снаряжение-то у меня мушкетёрское, башмаки опять же[168], лошадка шведская и сам непонятно кто. Ну, сволокли к Паппенгейму, а что я мог доложить? Хватило, однако ж, ума соврать, что от пехоты меня снарядили поторопить его. Так он об этом и без меня ведал, что как воздух здесь нужен. Послал он меня, куда подале, а своим — вперёд! И я было пристроился, однако ж конь мой спотыкаться стал, да и мне что-то без палаша расхотелось в рубку ввязываться. Так вместе с отсталыми, а их в такой гонке ох как много набралось, и возвернулся. Но хитрость мою шведы перемудрили. Когда я появился на поле брани злой, еретики, почитай, всех прытких, что до меня поспели, прибрали, и очутился я в самом пекле. С Паппенгеймом, опять же, довелось свидеться. Но ему на тот момент уже не до земных дел было. Отходя в мир иной, генерал наш храбрый все повторял: «Как я счастлив, как я счастлив».
При вести сей Гюнтер молча скорбно закрыл лицо руками и стоял, раскачиваясь, переживая гибель храбрейшего католического воителя.
— Паппенгейм-то в своё время отдал должное протестантской вере, — склонясь к Гюнтеру, несколько не к месту сообщил Фердинанд. — Дай Валленштейн тож.
— Почему счастлив-то? Торопился предстать пред очи Всевидящего? — не понял Маркус.
— Нет, потому что узнал, что Густаву каюк.
— Так Густав умер?! — в один голос завопили все, а Гюнтер мигом выздоровел от скорби.
— А то! Вы, пожалуй, одни ещё про то не ведаете. Куда вы палили-то тогда? В белый свет? Я лично в него целил — значит, обречён он был. Вы ж знаете, я не мажу.
— Густав умер. Густав умер! Густав умер!!! — на разные лады продолжали перебрасывать главную возбуждающую новость все четверо, так, что Максу поневоле пришлось выжидать, чтобы продолжить.
— Вообще-то человек двадцать драгун уже божатся, что именно они его добили. Опасаюсь, все лавры и награды перехватят. Опять бедной пехоте ничего не перепадёт.
— Вот сволочи! — в сердцах выругался Маркус. — Хоть пули помечай в следующий раз.
— Толку-то, — скривился Макс. — Отбили шведы тело своего ненаглядного монарха. Ох и рубка была. Голов поотлетало.
— Я вот чего порешил, — добавил Макс, переводя дух. — Я в конницу ухожу. Ведь сколько я сегодня увидел, где только ни побывал, пока вы как сурки пушку окапывали, вот и конька славного, ровно под меня кто-то холил.
— Макс, ты чего это? Тебе, с твоими-то глазами, вот сюда — наводчиком. Ежели уж Михель косоглазый сподобился, то тебе-то сам Бог велел, — всплеснул руками Маркус.
— Нет уж, увольте, теперь с коня до полной и окончательной победы не слезу. А она, судя по сегодняшнему раскладу, не за горами.
— Ой, не торопись, Макс. Видно, молитвы наши опять не дошли до ушей Божьих, либо прогневала Всевышнего греховность наша.
Кавалерийская река имперцев, лишённая предводителя, рассыпалась на ряд ручейков, проток, лужиц, и все они обильно и рьяно засыпались песком шведской картечи и пуль.
— Да что ж они, бессмертные, что ли! — возопил Гюнтер, воздевая кулаки к небу в бессильной ярости.
— Ты, Гюнтер, как желаешь, а я ухожу, — сплюнул Маркус. — Бесчестно будет после стольких подвигов и лишений сгинуть здесь. Уж если Паппенгейм с семью тысячами сабель не мог их сломать.
— Заткнись, трус! — подскочил к нему Гюнтер. — Да я тебя...
Однако вперёд выступил Фердинанд, придержав Гюнтера за плечо. Михель, наоборот, отступил на шаг назад, выжидая, и всем своим видом выражая несогласие с Гюнтером. Макс, уже в седле что-то осознав, вдруг начал разворачивать коня.
— Все пойдём, только помогите орудия заклепать да порох испортить. — Слова давались Фердинанду вымученно-тяжело.
— Правильную речь ведёшь, дядя. — Макс уже на земле.
— Макс, мешок вон тот забрось в седло. А то воевали, воевали — и ни с чем останемся.
XXVI
Никто, конечно, их подвиги не оценил и не отметил. Выдали, как прочим, по монетке, дабы отпраздновать гибель «шведского льва». А на них ещё и начёт сделали — за утерянные мушкеты. Великая битва под Люценом, которую они столь счастливо пережили, поставила жирный крест на их былой дружбе и спайке.
Макс подался в драгуны и, судя по всему, пришёлся там ко двору. Шутников и балагуров везде ценили. Почти его и не видели. Однако ж нос не задрал — при редких встречах щедро угощал выпивкой, как всегда, охотно одаривал ворохом свежих новостей и шуток. Плакался, что драгуны — это всё ж не кавалерия[169], сетовал, что не родился кроатом, вот у них — скачки, сшибки, добыча.
Михель записался во вновь набираемую Фердинандом батарею, и тот сильно помог ему, исхлопотав перевод. Вообще они очень сблизились после Люцена, и Михель не раз ловил себя на мысли, что Фердинанд видит в нём погибшего сына Якоба, с которым Михель был почти одногодок.
Старик его приодел, охотно ссуживал звонкой монетой, так что Михель наконец-то оженился, подобрав солдатскую вдову посвежее. После кровавой бойни Люцена наблюдался избыток такого товара. Тем более что Фердинанд завёл моду неодобрительно покряхтывать после очередного Михелева разгула, когда мир и так плыл куда-то в похмельном тумане, и драить пушечную бронзу либо перетаскивать пушечные ядра было великой мукой. Старый Фердинанд договорился уже и до того, что не прочь понянчить «внучат», да не суждено было. Женщина оказалась бойкой на язычок, и чем дальше, тем острее мела, попрекая всем, чем ни попадя, нередко перехватывала мужнину монету, отложенную для него Фердинандом. И как-то пьяный, к тому же в пух и прах проигравшийся Михель, не вынеся больше её воплей, не в меру распустил кулаки. Фердинанд в те поры отсутствовал — уехал на ближайшую пороховую мельницу, так что удержать Михеля было некому...
После похорон Михель напрямую отправился к Фердинанду и с порога заявил:
— Мне уехать?
Фердинанд долго молча рассматривал его старческими бесцветными глазами, и глаза те полнились влагой. Михель и сам ощущал внезапный прилив влаги того же сорта:
«Боже, да ведь я люблю этого старикана. Люблю, и сам себе боюсь в том признаться. Но уступать не буду. Прогонит — уйду без слов и оправданий».
Фердинанд порывисто поднялся, старческие ноги подвели, и Михель вынужден был поспешить на помощь. Поневоле они оказались в объятиях друг друга. Фердинанд доверчиво припал к груди Михеля и заплакал навзрыд. Михель терпеливо ждал, неловко переминаясь с ноги на ногу, чувствуя, как мокнет рубаха на груди. Наконец старик успокоился. Отступил, стыдливо отвернулся и махнул рукой — мол, не гляди на меня такого.
— Оставайся, — наконец-то разомкнул губы. — Оставайся какой есть.
— Тогда деньжат выдели, на помин души рабы Божьей. — Михель когда-нибудь наточит бритву, высунет свой поганый язык, да отмахнёт по самую репицу...
Фердинанд так и не сказал Михелю, что Фриду схоронили не одну — ребёнка она носила. Михелева...
Однако ж после того случая Михель изменился. Не то чтобы полностью начал праведную жизнь, но всё чаще, находясь перед выбором — махнуть ещё бутылочку да затеять потасовку или отправиться на боковую, побеседовав предварительно с Фердинандом, — выбирал последнее.
Помаленьку под чутким руководством Фердинанда овладевал он хитростями пушкарского дела. Фердинанд не скупился на порох, обучая Михеля. У пушки старик преображался, из ласкового отца становился суровым пестуном, не выделяя Михеля из прочих и не давая поблажек. Однако бывалый ландскнехт Михель не роптал. Принцип канониров схож с мушкетёрским: «Хочешь пожить — стреляй быстрее и точнее».
Однако ж и батарея у них стала — всем на загляденье.
— Это-то и хреново, — как-то раз, крепко выпив, попечалился Фердинанд, — лучших всегда в самое пекло швыряют, да первыми. На самый опасный участок, где надо стоять до последнего заряда и человека. Значит, опять наша батарея до первой серьёзной драчки живёт.
— Так брось над людьми изгаляться. — Михель даже стакан отставил. — Дай слабину.
— Не могу я так. Не привычен полдела делать. К тому ж чем лучше готовы будем, тем больше еретиков наколотим. Пей!
— Одно спасает, — вытирая усы после очередного стакана, продолжил Фердинанд. — Швед тоже в бой особо не рвётся. Притих.
— Да уж, — согласно пристукнул своим стаканом по столу Михель. — Гибель Густава их здорово подкосила.
— Я горжусь тобой, Михель, это надо уметь — в нужное время в нужном месте, да с готовым к делу оружием. Однако и в наше время тож...
— Знаю, знаю, выучил твою песню назубок: швед не тот пошёл, имперец не тот, война не та, и вообще раньше и вино было крепче, и звёзды крупней, — усмехнулся Михель.
— А что, скажешь не так, скажешь, швед прёт сломя голову, как при Густаве?
— Нет, пожалуй. Притихли бесовы дети. Да что из пустого в порожнее лить. Ясно, как Божий день, — присмирел швед. Однако и на мировую, собаки, нейдут.
В подобных бесхитростных, вроде ни о чём беседах, ровно толстая короста нечистот, постепенно отваливаясь, обнажала душу. Нерастраченная любовь к непутёвому, столь рано бросившему его ради золотого миража Марсовых забав отцу досталась старому мастеру-артиллеристу.
Маркус остался с Гюнтером в пехоте, возможно, против своей воли. Люцен совсем испортил Гюнтера. Обуял его грех гордыни, возомнил Гюнтер, что вправе судить да рядить всех смертных, карать и миловать.
Придумал Гюнтер, что чашу весов под Люценом в ту или иную сторону склонить мог не то что последний регимент, финферлейн[170], эскадрон или корнет[171], но и человек, последним брошенный в бой. Гийом! Гийом, которого он не удержал, дал уйти к шведам, усилил мощь Антихристову. Привиделось Гюнтеру, что и прочие спят и видят, как бы стать на дорожку дезертирства и предательства, прямиком ведущую в ад. А с кого спросят на Страшном суде за души эти неубережённые — с Гюнтера. И решил Гюнтер, вспомнив из позаброшенной и порядком забытой латыни, коей никогда не щеголял понапрасну — Per Dominum moriemur[172] — не допустить.
Маркуса вообще держал в чёрном теле, замучил проповедями да нравоучениями, ещё больше пугал геенной огненной, чтобы и удумать не смел чего худого.
Из советчика Гюнтер превратился в диктатора. То, что в тесной компании рассматривалось как шутка, равномерно перекладываясь на плечи всех, стало непосильно для одного Маркуса. Там, где раньше амбиции Гюнтера получали сосредоточенный отпор в шутливой либо резкой форме, теперь, после того как оставшаяся троица разбежалась по родам войск, не встречали сопротивления.
Подобные Гюнтеру хороши как временные организаторы в большом и равном коллективе. Дай Гюнтеру капрала — он вусмерть замучает своё капральство справедливыми упрёками и муштрой, дай ему армию — он угробит её парой блестящих безжалостных побед. Гюнтер хорош или в монастыре, или в бриганде, где всё на вере и примере. Как регулярный командир и опекун, он слишком строг и требователен сверх разума — сам сдохнет и всех загоняет.
И вообще когда одной рукой режешь, другой грехи отмаливаешь, недолго и с ума сойти. Со сколькими это уже случалось.
Завёл ведь ещё привычку, фанатик дурной, каждый вечер заявляться на батарею и проверять — на месте ли Михель. Михель его и углядел-то случайно. Глядь — стоит в отдалении, а глаза такие нехорошие — страшный взгляд. Тусклый и тяжёлый, как у змеюки болотной.
Не добавил веселья и Макс, как-то раз за доброй выпивкой просто ответивший на жалобы Михеля:
— Тебя-то лично инспектирует, а ко мне соглядатая приставил.
Опешивший Михель только и смог выдавить:
— Так пришей в тёмном месте, и дело с концом.
— Шутишь, этого-то я знаю, сам после третьей бутылки выплакался. А другого взамен втихомолку сговорит, я и ведать не буду — от кого пули в спину ждать. Нет уж, шалишь — с этим спокойней.
И помолчав, добавил:
— К тому ж чист я и перед Гюнтером, и перед всеми.
Словом, совсем святоша сдурел.
И мечта Михеля о море застыла, покрылась толстым слоем льда, как водная гладь в стужу. То ли боялся Гюнтера, то ли привязался к Фердинанду. А вернее, ни то, ни другое. Просто Михеля данный порядок вещей пока устраивал. Деньги водятся, занятие имеется, даже надсмотрщик объявился.
Где-то в пограничном Эгере пал оклеветанный, захлебнувшийся в собственных интригах Валленштейн — последняя надежда императора, им же уничтоженная.
О генералиссимусе горевали недолго. Хоть и единственный ведал солдатскую душу и не жалел золота для её ублажения, однако живым — жить. Да и опасно стало в открытую симпатизировать тому, кого принародно объявили предателем интересов императора и церкви.
Испанцы, баварцы, валлоны, саксонцы, не прячась, глумились над его памятью, задирали остальных, прекрасно ведая, что завсегда могут позвать на помощь профосову шайку. А не он первый, не он последний. Пришли новые начальнички, возжелали себе чинов, наград и поместий — значит, жди большой драки. Императору видней, пусть его голова обо всех болит. Только давно ведомо, что император — голова, а курфюрсты[173] — шея.
XXVII
Это не ангельские трубы, возопившие о Страшном суде, и это не полковой гобой, выдувающий сбор. Этот неясный гул, и непонятный гам, и страшный шум... всё это в твоей бедной головушке, Михель. А кроме: что-то кололо в боку, что-то отдавило вконец онемевшие, чужие ноги, отчего-то вся спина мокрёхонька, и что-то твёрдое закрывает глаза, не давая доступа свету белому. Если его, конечно, не расстреляли в этот день картечью, свет белый.
Михель осторожно пошевелил сначала правой, затем левой рукой. Хвала Всевышнему — обе слушаются своего непутёвого хозяина. Затем осторожно подтащил правую к глазам, и убедился — то, что закрывает ему свет — твёрдое и холодное. А что у нас после битвы отвердевает и стынет — это и слепому ясно.
— Эге-гей, Михель! — раздалось вдруг недалеко. — Живой, есть вообще здесь кто? Или всех положило.
«Макс, это Макс меня разыскивает! А мне ни крикнуть, ни знак какой подать. Так и пропаду здесь».
— Послушай, служивый, не знаешь, случаем — здесь или подальше стояла батарея старого Фердинанда.
Что отвечали Максу, Михель не слышал, зато каждое слово своего не в меру горластого дружка, молотком вбивалось в уши.
— Нет, родненький, и не проси — возиться с тобой нет ни сил, ни желания. Мне бы Михеля найти, живого либо мёртвого, а тут ты со своими перебитыми ногами. Да не скули ты так жалобно. Ежели я каждого с ногами там, руками, глазами, кишками и прочим буду обихаживать, до Второго пришествия проваландаюсь, а дружка закадычного так и не обнаружу.
Ладно, ладно, пришлю кого-никого — монашка там, али из обоза, всё одно ведь будут раненых собирать. Сказал: пришлю — слово моё из стали.
Несмотря на незавидность своего положения, Михель усмехнулся:
— Из стали. Ты, друг, забудешь этого несчастного раньше, чем повернёшься к нему спиной.
— Кажись, верно шагаю. Вон Фриц валяется, вон Оттон с пикой в брюхе упокоился. Знать и Михель в этом ряду, ежели, конечно, салом пятки не смазал. Что, Вилли, помог тебе новый кафтанчик? Уговаривал же полдня — пойдём пропьём. Нет же — ни себе, ни людям. Куда он сейчас — в крови, глине, ко всему и дырками изъязвлён.
Основательный Макс пару раз начинал раскидывать наваленные груды трупов, тщетно пытаясь отыскать Михеля, ещё раза три вступал в перебранку с ранеными, доказывая, что спасать должен кто угодно, только не он, Макс. Швед из недобитых, чем-то не глянувшийся обычно не кровожадному Максу, схлопотал от него по голове. В конце концов бестолочь Макс, битый час бродил вокруг да около, топтался по Михелю, отдавив вконец руки и ноги, пока не выделил наконец его приметы.
Макс начал тараторить сразу, как только Михель, посаженный поудобней, торопливо опоражнивал, захлёбываясь и обливаясь, его фляжку.
— Глянь-ка, кого я с тебя снял.
— Так это Фердинанд меня облапил, да так и застыл — ни вздохнуть, ни шевельнуться.
Михель настолько ещё был слаб, что не мог пока ни радоваться собственному спасению, ни печалиться по поводу гибели Фердинанда.
— А ведь он же меня собой закрыл. За мгновение до шведского залпа. Мы покатились с гласиса[174], причём я здорово приложился головой. Затем сверху ещё и трупами завалило.
С Максом разве сосредоточишься:
— Шведов в кои веки разнесли! Впервые! Да как — в пух и прах. Погляди, как красиво лежат, стройными рядами — как и накатывались. Жалко, Гюнтер не поднимется, не откроет очи, не порадуется. Он же столько лет о том мечтал. Даже когда никто не верил, что Густава и его выкормышей задержать можно. Все, конечно, о победе грезили, но Гюнтер больше прочих вымаливал. Ну, встань, встань хоть на миг, Гюнтер! Полюбуйся на зрелище невиданное! Порадуй душу!
Предупреждая немой вопрос оторвавшегося от фляжки Михеля, Макс пояснил:
— Заполучил Гюнтер ядро в умную голову. Только брызги посыпались. Почитай, в самой завязке боя. Ничего и сделать не успел, а как рвался до Гийома добраться, да посчитаться за измену...
— И Гийом вон там, в рядах этих синих[175]. Столкнулись нос к носу. Я не Гюнтер, конечно, саблю опустил, да нашлись кроме меня доброхоты с палашами вострыми. Орал ведь ему, чтобы ружьё бросал, да то ли не услышал, то ли прикипел душой к шведам и решил до конца за них стоять...
— Про Маркуса не ведаю. Чаю, если уцелел — объявится, а ежели не появится, то и гадать не стоит — ясно...
— Полная ведь победа, Михель, понимаешь, полная и окончательная. Я сам до сих пор поверить не могу. Хотя и дрались они как черти. Большую часть шведов отправили к их королю — в преисподней ему прислуживать. Пленных вон — сотнями гонят. Конница, как обычно, повеселилась. А у меня, как на грех, — тут голос Макса предательски дрогнул, и он украдкой от Михеля смахнул набежавшую слезу, — Гнедка прикончили. Потерял конька верного, обезножел. Гнали мы их без роздыху и всякой пощады. Вдруг один обернулся и приложился. Да столь внезапно — ни отвернуть, ни успеть. Пришлось лошадку вздыбить: как ни крути, своя шкура дороже. Самое скверное — добивать ведь пришлось друга верного, конька своего. Остался пешим, ну и ни добычи, ни пленных выгодных. Пришлось возвращаться. Тебя вот решил отыскать.
— Вот и вся добыча, — Макс раскрыл ладонь, — сплошные медяки.
Макс, широко размахнувшись, зашвырнул деньги, и даже руку вытер о полу кафтана.
— Чё я ещё пришёл, — пустая фляжка отправилась вдогонку за монетами. — Последнюю волю Гюнтера выполнить. Передать слова его...
— Гюнтер нарочно прибег, когда уже построение объявили и можно было вполне угодить в профосовы лапы за уклонение. Сказал, что до меня ближе, чем до тебя, три раза повторил, прежде чем убедился, что я запомнил.
— Вот, что он велел тебе передать. Только не перебивай, я сам был весьма удивлён. Ты же знаешь, он у нас логик. Был, — добавил Макс, помрачнев. — Поэтому слушай. Во-первых, Гюнтер сказал, что мы победим, но Ришелье этого императору никогда не простит, значит, война будет продолжаться. Значит, опять католики будут резать друг друга во славу Антихриста. Затем он сказал, что больше не может удерживать нас, не имеет права. И ты, Михель, можешь уйти, если желаешь. Потом сказал, что будет искать смерти, ибо жизнь для него утеряла всякий смысл. И ещё добавил, изрядно меня напугав, что понял главный принцип этой войны — она бесконечна. И вестись будет до скончания мира. Михель, что делать будем?
— Уходить, — пожал плечами Михель. — Помоги подняться.
— Гюнтер, Гюнтер. Последняя, пожалуй, чистая душа отлетела к престолу Господню.
— Да уж. У нас в армии и капеллана-то, верно, не осталось, что мыслит, не болтает, а именно думает как Гюнтер.
— Макс, со мной пойдёшь? — в упор спросил Михель, обрывая тягостные раздумья.
— Веселье обещаешь?
— Да уж не без этого.
— А, понял о чём ты. Вернее, вспомнил. В моряки, что ль, зазываешь?
— Не столько в моряки, как в «морские братья».
— Братья, сёстры, полубратья, полусёстры. Ты прям, как в монастырь ведёшь. Везде одно и тож — правят сила и деньги.
— Так вдвоём мы ещё чего-то да стоим.
— Насчёт кишки выпустить из любого «брата»? Это уж само собой.
— Тогда уходить надо прямо сейчас. Пока не очухались от боя, не начали порядок наводить, убыль считать да новые роты сбивать.
— А что с Маркусом? Он вроде тоже из наших.
— Не пойдёт же. Ты же прекрасно знаешь, он сухопутчик по натуре. К тому ж, судя по всему, они сейчас с Гюнтером под ручку возвращаются в лоно Творца.
— Твоя правда. Гюнтер и сам в наиопаснейшее место полез и этого телка с собой уволок. Где они стояли, сейчас все лежат.
Послушай! До утра время терпит. Явно праздник большой будет, в честь такой победы. Пир горой и так далее. Не шутка ведь — самого шведа в первый раз за войну разнесли, да ещё как! В пух и перья! Лагерь их взят. Горн[176] в плену! Говорят, добыча агромадная. Неужто господа-командиры не поделятся? Их же на пики возденут, коли героев-солдат не уважат за дело великое, не позволят достойно помянуть павших. Утром и потопаем.
— Ага, со страшного похмелья. К тому ж пир на неделю растянется.
— И погуляем. Будет что вспомнить, о чём порассказать на далёких морях. К тому ж дело требует подготовки — коней там достать, снаряжение, провиант. Путь неблизкий. Кони за мной, конечно. Счас их без хозяев столько, что десяток региментов беглецов снабдить можно. Кстати, не успел тебе сказать. Поп, которого Хуммелем[177] кличут, нажжужал тут по пьянке, что Фердинанд завещание на твоё имя составил. Не мне, правда, в уши то говорено, но верные люди передали. Пушки, огнеприпас наличный, коней, упряжь и прочее батарейное хозяйство он, конечно, в пользу армии отписал, если ты не захочешь принять батарею. Зато вся личная движимость и недвижимость — твоя. Грех бросать.
— Фи, там барахла — кот нанюхал. Пара кафтанов. Ему армия самому прорву деньжищ должна, и вряд ли когда отдадут. Все ведь на свои кровные, перед боем так потратился — монетки за душой нет.
— Хоть десяток гульденов выручим на круг — и то хлеб. К тому ж пару коней всегда можно выпрячь из лафета на сторону.
— Толку с артиллерийских битюгов.
— Твоя правда. Тогда я лошадей достаю, точно. А битюгов можно под победный шумок и на другую батарею толкнуть. Либо в обоз.
— Сейчас все продавать начнут, да задешево. Покупать нет. Хотя ты прав, Макс. Нечего спешить как на пожар. Верно, здорово я башкой хрястнулся. Собрался в чём есть идти. Вечно ты у нас торопился, сейчас наоборот.
XXVIII
Они тронулись под вечер пятого дня. Причём полночи Макс, перебравший «подорожных» чарок, ехал поперёк седла и блевал на дорогу, так что Михель стал опасаться, что он вытошнит все внутренности, а также что издаваемые Максом звуки переполошат патрули на добрый десяток миль в округе. В отношении последнего он напрасно беспокоился. Ежели патрули и были, то все мертвецки пьяные.
И то ведь: каковы начальнички, таковы и подчинённые. Последний анекдот, мигом ставший достоянием всей армии, да и шведов, верно, в придачу. Бравые генералы, Галас и Пикколомини, отмечая победу, уединились в шатре, и трое суток единственным признаком их присутствия были попеременные возгласы[178]:
— Пей, Галас!
— Пей, Пикколомини!
Неприятности начались на следующий день, когда, кое-как отдохнув, причём Макс непрерывно клянчил опохмелиться и в конце концов надрался вновь, они тронулись дальше на север. Еле ноги унесли от шведской погони.
Ну ты поглянь! Живы Густавовы последыши, не всех, знать, под Нёрдлингеном упокоили. Одно хорошо — на север гнали, куда они и без шведов стремились. Да Макс враз перестал требовать «промочить пересохшее нутро» — тож великое облегчение.
Дальше до голландских владений вообще пошла дикая чересполосица. Где шведы гарнизон держали, где их противники, где вообще власть сама по себе. Про уцелевшие сёла и говорить не приходится — мужицкий край, мародёрский рай. Ехали главным образом ночами, выбирали просёлки поглуше, за провиант и вино старались честно рассчитываться — благо пока было чем, чтобы зазря не задирать местных. Ушки держали на макушке, оружие — наготове. Ну и Бог миловал. До поры, до времени.
В густом лесу напоролись на засаду. Остроглазый Макс, хоть и подрёмывал, вовремя углядел огоньки фитилей и крикнул:
— Пригнись!
Добрый десяток пуль досталось бедным, как всегда, ни в чём не повинным животным. Добро хоть успели вовремя соскочить, чтобы не быть придавленными падающими конями.
Ловкий Макс успел и мушкет с пистолетами из седельных кобур выдернуть. Михель остался с пистолетом, который предусмотрительно сжимал в руке, и со шпагой на поясе. Сумки с провиантом, фляги с вином, свёрнутый Максов плащ — ночь показалась ему душной — пришлось оставлять в добычу неведомым разбойникам.
Михель и сам едва не лишился плаща — тот оказался придавлен насмерть поражённым конём, пришлось срочно рвать завязку. Однако когда, уже потеряв всякую надежду, потянул, плащ неожиданно свободно оказался в руках.
Жалеть о потерях некогда, выручать глупо. Спастись бы самим. Макс и Михель пальнули по разу, заставив неведомых лесовичков задуматься, и, пользуясь паузой, — в лес. Долго ломили по несусветному бурелому, постоянно падая и ушибаясь. Каким чудом глаза на сучках не оставили, неведомо. Умудрились растерять друг дружку да едва доаукались, отбросив всяческую осторожность.
Следующую остановку сделали в чудом уцелевшей хижине среди развалин безвестной лесной деревушки. Чем-то она Максу сразу не глянулась. Естественно, они прямиком туда и не сунулись. Аккуратненько обошли: свежих следов не наблюдается. Вообще никаких не было, в смысле — человечьих. Затем залегли неподалёку: высматривая, выслушивая, вынюхивая. Ни огонька, ни звука, ни запаха жилья. И ведь большую же часть жизни Макс и Михель провели под открытым небом, однако тянуло их под крышу.
Дождь опять же собирался, и немалый, судя по величине и плотности застлавших небесную епархию туч.
Макс явно расхворался: сначала взмок от ночной гонки, затем застыл в сыром и холодном августовском лесу. Михель, видя это, упорно тащил его под крышу, чтобы хоть от неизбежного ливня укрыться. Макс же, не чуя своей выгоды, все канючил жалобно:
— Михель, нечисто что-то здесь, ой нечисто. Вон, смотри, костяк в траве, а вот и другой.
— Да как и везде. Жили же здесь когда-то люди, а потом померли.
— А могил, могил-то сколько!
— Так никто ж не вечен. Жили, болели, умирали, хоронили. Во всяком случае, повезло им чуть больше, чем незарытым, чем тому, о кости которого ты только что запнулся и нос расквасил.
— У меня такое чувство, что Костлявая нас из-за угла разглядывает да ухмыляется.
В конце концов Михель прислушался бы к предостережениям Макса, самого что-то тяготило, но случайно дотронувшись до Максовой руки, тут же отдёрнул свою, ровно от печки.
— Э, дружище, да ты горишь весь, бредишь, вот опасности везде и мерещатся. Винца б тебе горяченького, но его, судя по всему, те обормоты из леса высосали, да холодным.
Налетевший пронзительный порыв резкого ледяного ветра окончательно подмёл Михелевы сомнения.
— Вот она, смерть моя, — заявил Макс, едва они переступили порог.
— Да брось ты — обычный мертвяк.
— А чё он за столом сидит — ровно давненько нас в гости ожидает?
— Привет, хозяин, — Михель бесцеремонно сгрёб высохшую мумию. — По-моему, твоё место за порогом.
За хозяином последовали его пожитки — гнилое тряпьё с лежанки, причём там Михель обнаружил ещё один труп и также с ним не миндальничал.
— Ложись, Макс! — хлопнул он по чистым доскам. — Счас я тебя кипяточком напою. Потерпи немного.
Однако выскочив за водой и глядя на суматошно толкущиеся по небу тучи, Михель призадумался: «Не Чума ли похозяйничала, прибрав всех этих несчастных. Но даже если и так, куда на ночь, в дождь, с больным Максом. Была — не была!»
В окрестных развалинах нашлось довольно много кусков дерева, что позволило развести добрый огонь, согреться, обсушиться, выпить горячего. Макс, правда, раскапризничился по поводу какой-то непонятной вони. Михель в душе согласен был, что воздух в хижине неидеален, но его больше беспокоили сквозняки, жадно растаскивающие драгоценное тепло. Макс к тому же вскоре затих, угревшись и закутавшись с головой. Михель и сам начал клевать носом. Сунулся было на крыльцо — глянуть напоследок, что и как, однако за мерным шумом частого крупного дождя ничего ни услышать, ни разглядеть. В такую непогодь все сидят по норам — рукотворным и естественным. Михель пошёл спать, предварительно щедро начинив очаг дровами. Необходимо хорошенько отдохнуть — ведь топать отныне на своих двоих. Хорошо хоть немного совсем осталось. Наказал себе обязательно подняться и закрыть заслонку, когда останутся одни угли. Осмотрел Макса, который широко разметался во сне.
— А ведь выздоравливает же, чертяка. Ей-бо, выздоравливает! Мы с тобой, Макс, ещё ухватим Фортуну за хвост.
Михель решил не трогать и не утеснять Макса. Поспать можно и на столе, предварительно сдвинув его от окна. Ну и само собой: дверь подпереть, окно завесить, оружие проверить и под руку.
Михель проснулся от ощущения чьего-то внимательного взгляда. Рука метнулась к оружию. Да это же Макс разглядывает его со своей лежанки.
— Чего не спим, служивый? — зябко повёл плечами Михель, откладывая пистолет.
— Да сам только что глаза продрал. Соображал, подымать тебя или ещё поваляться.
— Как ты? — с тревогой поинтересовался Михель.
— Нормально, жрать только хочу как волк.
— Это ж верный признак выздоровления. У самого, брат, кишки друг дружке кукиш кажут, — понимающе вздохнул Михель. — Ничего, сейчас должны пойти места неразорённые. Не всё же мы тогда со Спинолой прибрали. К тому же море совсем рядом, хоть рыбкой у здешних разживёмся.
Ты, кстати, в те времена, где обретался, когда мы с испанцами здесь шуровали, пытаясь «копьём достать Фландрию»[179]?
— В Италию дьявол занёс.
— И как?
— Паршиво. Жара, кормёжка непривычна, пива не допросишься, только что вина вдоволь. Жрут одну траву: салат там, апельсины, оливки. Ни ветчины тебе, ни пива, ни хлеба даже ржаного.
— Макс, кончай про еду. — Михель вскочил со своего ложа и с хрустом размялся. — Давай не колготься. До полудня надо выйти к какой-никакой ферме либо деревне. Пара монет ещё завалялась.
Михель сгрёб оружие, решив сполоснуться в первой попавшей луже и осмотреться — насчёт стихии и вообще...
Макс никогда ещё так не кричал. Больше всего Михеля в его крике потряс даже не чудовищный ужас, а полная безысходность.
«Ну что могло бы так перепугать Макса в пустой сторожке?!»
В избушке облако густой пыли — а Макса нигде нет! Михель никогда не был суеверным, но сейчас его охватил прямо-таки мистический ужас.
— Макс! — заорал Михель что было сил. — Где ты?
— Конец мне, Михель, — усиливая панику Михеля, голос Макса донёсся из-под земли. — Доска гнилая оказалась, в погреб я рухнул, а здесь трупов под завязку. Сюда их складировали. Это ЧУМА, Михель. Понимаешь ты — ЧУМА! Беги подальше, спасайся.
Михель и не заметил, как оказался за дверью. Всё-таки Чума! Её не уговоришь, ей не сдашься в плен, от неё не дезертируешь. Однако вместо того, чтобы бежать куда глаза глядят, Михель присел на крылечке и закрыл лицо руками. Что ж не повезло-то им так?
Михель решительно поднялся, завязал рот и нос и, вдохнув побольше сырого уличного воздуха, решительно толкнул дверь.
— Макс, руку! Быстрей! — Михель старался не смотреть вниз, почему-то боялся, что не выдержит и убежит, на этот раз окончательно.
— Михель, ты что, уже заболел или головой ударился? — Макс немного успокоился или утратил всякую надежду. — Я думал, ты уже мили за две от этого весёлого домишки. Ты понял, что я кричал?
— Макс, сволочь, ты хоть что-нибудь можешь сделать молча. — Михель уже тысячу раз успел пожалеть, что вернулся.
XXIX
Порядочному ландскнехту часто приходится убегать что есть сил, но в этот раз Макс и Михель превзошли сами себя. Любая смерть — Божье воздаяние, однако «чёрная смерть»[180], не отделяющая плевел от злаков, косящая людей направо и налево — и смелых, и трусов, и богатых, и бедных, — пользовалась за свою подлую неразборчивость особой нелюбовью.
— Макс, кажется, выбрались, пронесло! — время от времени повторял Михель, не то ободряя друга, не то уверяя себя.
Как хотелось бы в это верить.
Остановились они только на опушке, завидев совсем неподалёку ферму. Жилую!
— Вот и поедим, — кое-как отдышавшись, выдохнул Михель.
На ферме их встретили неприветливо, хотя Михель сразу недвусмысленно забренчал монетами. Дело оказалось не только в неприязни к двум голодным, бродячим, усталым ландскнехтам, столько в том, что ландскнехты эти вышли из Зачумлённого леса. Так, значит, называлось это проклятое урочище. Причём обитатели фермы выказывали смешанное чувство к тому, что под боком у них вечно дремлет вполглаза страшная угроза. Ведь Зачумлённый лес кроме опасности был в этих условиях и спасением, являясь надёжным заградительным кордоном против охочих до чужого банд отставных ландскнехтов, мародёров и разбойников всех мастей.
— Явно издалече топаете, да спешите. Наши бы ни за какие коврижки не полезли в это гиблое место, — угрюмо бросил хозяин фермы, мрачный верзила, не снимающий мозолистых ладоней с неумело заткнутых за пояс пистолетов. Михелю изрядно досаждала его воинственность. Может, моргнуть Максу да взять причитающееся силой. Напомнить лишний раз мужланам, что единственное, для чего они слеплены Творцом, — не дать ландскнехту помереть с голоду. За хозяином маячил, правда, пяток наспех вооружённых работников, и с полей то и дело подходили новые, но сами они явно атаковать незваных гостей не собирались.
После того как Макс и Михель согласились разместиться в дальнем углу двора, на голой земле, умыться уксусом[181], ничего не трогать, обойтись без столовых приборов и сразу же после трапезы уйти, им вынесли, наконец-то, поесть. Причём хозяин наотрез отказался от предложенной платы.
— Видишь, видишь, вот они Нидерланды. Смотри, какую прорву съестного тащат. И окорок, и яйца.
— А, — безразлично махнул рукой Макс, — мне что-то есть совсем расхотелось.
Михель внимательно на него посмотрел, однако промолчал.
Молоко и пиво подали в таких кувшинах, что чудом в руках не рассыпались. Макс, который сразу налёг на питьё, попробовал было возмутиться, однако Михель его удержал.
— Судя по всему, — жестикулировал он с набитым ртом, — эти крынки подцепят вилами, в ближайший овраг, да закопают поглубже. Ежели до этого ещё и в костре хорошенько не прокалят.
Торопливо перемалывая жирную обильную пищу, Михель не переставал в упор и грозно рассматривать крестьян, толпящихся в почтительном отдалении.
— Хм, ты поглянь-ка, Зачумлённое урочище и нас бережёт. Судя по рожам, давно бы попытались проломить нам башку, если бы не опасались, что заразны мы.
Обычно словоохотливый по любому поводу и без повода Макс сидел непривычно задумчивый, словно вслушиваясь в себя.
Кусок застрял в глотке Михеля — ни туда ни сюда. И тут Михель с ужасом осознал, что не помнит, из какого кувшина пил Макс, что он скорее так и умрёт, поперхнувшись, но не тронет Максова питья.
Макс поднял на Михеля грустный, все понимающий взгляд и носком сапога осторожно ткнул к нему один из сосудов:
— Вот из этого я не пил. И вообще жри скорее и потопали отсюда. Говорил ведь — давай не будем там ночевать.
Напившись, Михель принялся торопливо собирать остатки провианта.
Уже за воротами Михель ещё раз обернулся поблагодарить хозяев, но ответом ему был торопливый лязг засовов. Затем из-за стены донеслось:
— Чтобы мы вас здесь больше не видели. Пристрелим как собак.
— Главное, сейчас в спину не пальните, — собрал последнюю волю Макс.
— Вот ещё, добро переводить, — фыркнул расхрабрившийся невидимка.
Когда ферма скрылась за поворотом дороги, Макс обернулся к Михелю, просто сказав, как о чём-то само собой разумеющемся:
— Конец мне, Михель. Дотянулась всё ж таки до меня длань Чумы.
И упал прямо на дорогу.
Почему Михель его не бросил, почему, стиснув зубы, плача и выбиваясь из последних сил, тащил уже не друга — Макс-то обречён, — а страшный источник смертельной заразы за собой?
Макс упорно не желал обращаться в хладный труп, изо всех сил сопротивлялся смертельному недугу. В минуты бредового забытья костерил Михеля последними словами, требовал бросить и добить, один раз даже плюнул в Михеля, чтобы заразить повернее, в отместку. В минуты просветления рассудка, стоя у врат Вечности, всегда смешливо-несерьёзный Макс преображался, поднимаясь над рутиной отлетающего Бытия:
— Михель, запомни, самый худший порок для ландскнехта — жадность. Я считал, что в нашей компании кроме себя, разумеется, каждый является олицетворением какого-нибудь из семи смертных грехов. Гюнтер — гордыни, Мельхиор — чревоугодия, ну и все прочие. Ты тож, согласись, не безгрешен. И лишь когда по моей вине погибла чистая душа — Мадонна, тут я вдруг осознал и обнаружил, что сам я вместилище и хранилище всех грехов адовых. И чем дольше жил, тем всё новые и новые легионы бесов в себе находил...
— Сколько там, Гюнтер говорил, чертей по свету бродит и во тьме сидит? Десять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч... дальше запамятовал[182]. Болезнь с дьявольской быстротой пожирает мой мозг... О чём это я? Так вот, главный грех — жадность. Запомни, Михель! Я ведь, дурак эдакий, перстенёк там поднял. Эта банда, что в лесу передохла, они под пол не только своих мёртвых пихали, они там и награбленное хранили. Этот сундук как-то сам собой открылся, когда я рухнул сверху. Словно кто невидимый крышку потянул. И вот камень этот. Дай, покажу, только не подходи близко.
На ладони Макса возник большой перстень с огромным рубином. Искусно обработанный камень фокусировал, преломляя редкие лучи неяркого солнца, и казалось, камень сочится кровавыми слезами. Глаз не отвести.
— Хорош, да?
Михель только шумно вздохнул, когда Макс несколько торопливо убрал перстень.
— Он и там меня сразу притянул, ровно уголёк во тьме кромешной. Там-то, в сундуке у них, всё боле хламье, а этот на самом верху, так и манит. Ровно кричит немо: возьми меня, возьми. А ведь он добрые три сотни пистолей стоит, ежели не все пять. О тебе опять же ни слуху ни духу. Я ведь и помыслить не мог, что ты рискнёшь возвернуться. От ужаса, отчаяния и безысходности я его и сцапал — терять-то нечего. А ты, Михель, ровно решил не таить заразу, не схоронить её вместе со мной, грешным, а по миру распространить. Дай воды испить...
— Попутал меня бес. Знаешь же наш принцип — хапай, что плохо лежит. Это-то меня и сгубило. Да не одного меня, судя по окрестностям и начинке той сторожки.
— Макс, — Михель пытался говорить громче, но голос, не подчиняясь, то и дело срывался на хриплый шёпот, — а ты не подумал, кто его туда мог положить? С чьей он руки? Для кого и чего изготовлен?
Макс, устало прикрыв глаза, только кивнул — продолжай, мол, я внемлю.
— Ведь он же гораздо больше, чем обычный размер. Покажи-ка ещё раз.
Макс, не открывая глаз, отрицательно замотал головой, и Михелю пришлось продолжать.
— Ведь его же спокойно можно на два пальца нацепить, а то и на три.
Макс внезапно настежь распахнул глаза — болезнетворная хмарь рассеялась, взгляд был зорок и пытлив.
— Я думаю, — Михель с превеликим трудом сглотнул внезапно подступивший к горлу ком...
— Я думаю, нет, я уверен — это с Её пальца. — Михель перекрестился испуганно. — С перста Царицы Чёрной смерти. Это её западня.
— Правильно, Михель. Я тоже до этого додумался. Не забывай вот только, что заночевали мы там по твоей воле.
— Этого я никогда не забуду.
— Прежде чем помереть мне, да и тебе тож, надо разрешить один вопросик: что с этим наследством делать? Я хочу остановить Её поступь... Хотя лично мне это уже не поможет. Но как?
Макс замолк, собираясь с силами. Михель терпеливо ждал.
— Закинуть подальше? У меня и сил не осталось. Да и найдут, рано или поздно. Бросить в речку? Вода навсегда станет источником заразы. Утопить в болоте? Болото высохнет. Либо осушат — ты же знаешь, сколь лихо голландцы это делают. Зарыть в чистом поле? Опять же опаска, что либо лемех пахаря, либо заступ землекопа его выворотит...
— Я вот что придумал. Чёрную смерть в состоянии одолеть только великая сила моря. Большого и вечного, чистого и могучего... Ты должен довести меня до моря. Туда зашвырну. Кроме того, пока живу — надеюсь. Я почему-то уверен, что если ты и меня искупаешь в море, я ещё выкарабкаюсь. Заблуждаюсь, верно. Но всё равно, исполни мою последнюю волю. Дотащи. Я ведь и моря-то никогда ещё не видел. Гляну — и умирать можно. Хотя в глубине души ещё теплится надежда.
Молва намного опережала еле бредущих Михеля и Макса. Их встречали задолго за воротами, на границе своих владений, угрозами и выстрелами в воздух заставляли побыстрее убираться прочь.
Всё-таки жадность, кою столь проклинал Макс, была посильней его проклятий. Некий паренёк, на пару мгновений выпущенный из поля зрения взрослых, продал Михелю за последний гульден старую ручную тележку. Крикнул издали, чтобы бросили деньги на дорогу, а сам, оставив товар, опрометью бросился наутёк.
Когда Михель, кое-как взгромоздив Макса, обернулся, парень обильно поливал деньги из большого кувшина — верно, уксусной кислотой.
— Смотри, чтоб не растворились денежки-то, — задорно крикнул ему Михель, хотя чему вроде бы веселиться... — Море далеко?
— Да пару часов хода. Не слышишь прибой, что ли? Вон за той сосновой рощей... Скажи лучше: война-то ваша скоро кончится?
— А бес её знает!
Макс угасал на глазах. Но на губах Михеля отчётливо уже чувствовалась морская соль, поэтому он пёр, не разбирая дороги, ежеминутно грозя развалить ветхую тачку и вывалить Макса на очередном ухабе.
В прибрежных дюнах Михеля грудью встретили ещё два врага: песок, в котором вязли как ноги, так и колёса утлой колымажки, и корневища вековых сосен, густо змеящихся, и даже, как на миг померещилось разгорячённому Михелю, сползающихся, чтобы заступить ему дорогу. Да что там песок и корни: сосновые шишки, подобно маленьким ежам, героически лезли под колёса, а толстый слой рыжей опавшей хвои обрёл свойства зыбучих песков. На очередном корне колесо допотопной тележки с треском и отломилось.
Макс, даже не пришедший в себя от толчка, тихо сполз из накренившейся тележки на сырой песок, куда вскоре опустился и Михель, сжимая обеими руками грудь с готовым удрать на свежий воздух сердцем, с ужасом думая о перспективе остаться здесь, под кронами, вместе с Максом. Для починки требуется только пара крепких ударов — но чем? В этих песках не то что молотков не накидано — камня подходящего днём с огнём не найдёшь. Михель совсем уж было взвыл от досады, когда додумался приспособить пистолет. Уже замахиваясь, осознал, что оружие-то, конечно, заряжено.
— Так, тихо, успокойся и подумай. И верно, чёртов перстень приносит сплошные беды. Едва не застрелился. Довезу ли Макса живым, поможет ли ему холодная морская ванна? А вот об этом сейчас лучше не думать.
Когда, аккуратно разрядив оружие на подстеленную сумку, — нужно, чтобы ни один заряд не пропал, — он опустил первый раз пистолетную рукоять на сломанное колесо, курок, оставшийся взведённым, звонко щёлкнув, исправно выдал сноп искр. Михель проследил взглядом направление пистолетного дула, зажатого в руке, — аккурат в живот.
— Ой, не выйти нам с Максом из этих дюн. Ведь проще ж было вывернуть кремень из курка, а не возиться с полной разрядкой.
Ожесточясь, Михель бил и бил по непослушному колесу. Дубовая, затянутая железными кольцами для прочности пистолетная рукоять, треснув, раскололась. Михель, проклиная всех святых, забросил остатки пистолета подальше, совершенно не думая о возможности починки. Но колесо — встало на место! Сгребя всё так же бесчувственного, но вроде пока живого Макса, Михель буквально швырнул его в тележку.
Когда сосны, и корни, и шишки бросились врассыпную, открыв огромную серо-свинцовую пасть, где нижней челюстью, усеянной там и тут белоснежными клыками мелких волн, служила бездонность солёной воды, а верхняя бугрилась сырыми тучами, Михель только разочарованно ахнул. Стоило убивать столько времени на починку, когда до цели оставалось две сотни шагов.
— Макс, Макс, вот оно, твоё море! Очнись! — Михель хотел ещё что-то добавить, но осёкся на полуслове. — Что ж ты так-то, Макс, ведь чуть-чуть оставалось, — обречённо махнул рукой и побрёл к воде.
Впервые представилась возможность переговорить словоохотливого друга, и впервые этого не хотелось.
Михель долго бродил по кромке прибоя, пока совершенно не промок и иззяб. Более того, находясь довольно долго вдали, он как-то забыл о приливах-отливах, так что вообще едва не утоп, неосторожно углубившись в чужие владения. Холодное купание, освежив тело, унесло с собой страхи и сомнения.
— Вот ты и дошёл, куда хотел. Действуй дальше и с умом. Ты теперь наследник не только грехов, но и славы 4М и 4Г.
— Макса в море, в море. Нечего заразу распространять. Не совсем по-христиански, нуда сам ведь хотел. Друг нужен, пока он жив, когда мёртв — это обычный кусок падали, не лучше и не хуже сотен тысяч подобных.
Михель поискал подходящую палку — прикасаться к трупу не было никакого желания. А вообще чего мудрить — скатить вместе с ненужной уже тележкой.
Кольцо! Взглянуть, что ли, напоследок? Михель сам себе боялся признаться, что оттопыренный карман Максова камзола притягивает его мысли и взоры. Что же с ним делать?
Разве ж мало ты, Михель, испытывал судьбу зря и попусту?
Однажды смертельно усталый Михель во тьме кромешной долго искал пристанища, отстал, запоздал, потерял своих и не хотелось ночевать в грязи. Вымерший лагерь погружен был в мертвецки беспробудный сон — даже часовых не выставили после изнурительного перехода. Палатки, землянки, повозки — все битком. Наконец, плюнув на условности, ввалился в какой-то домишко, бесцеремонно распихал ноги-руки, даже не обратив внимания, что хозяев конечностей не пробудило столь грубое обращение, и уснул раньше, нежели донёс голову до кулака.
Пробуждение было не из приятных. В чумном бараке! Среди груды трупов! Единственным живым! Пока Михель спросонья разбирал, что да как, явившиеся два монаха-могильщика бесцеремонно сгребли его и поволокли к повозке-катафалку, чтобы спровадить в последний путь. По дороге они ещё и немилосердно ругались, как по справедливости разделить немудрёные Михелевы пожитки. Когда Михель, открыв глаза, разубедил их в бесхозности своего барахлишка, его попросту бросили на землю, и отправились за «настоящим» мертвецом. И ничего: никаких последствий данной памятной ночёвки. Да мало ли что было...
Потому, поразмыслив, Михель решительно полоснул кинжалом по Максову карману. Жить — значит, рисковать, жить красиво — рисковать втройне. С помощью подобранного прутика Михель осторожно поддел кольцо и устроил ему двойную купель: сначала призвав на помощь свои почки — кстати, прекрасное обеззараживающее, — затем непосредственно в море.
Большая вода решила поиграться, а может, просто подслушала, что он там наплёл в своё время Максу. Волна по-мародёрски сволокла перстенёк с пальца-прутика, намереваясь спровадить в свои бездонные кладовые, где и так уже добра — не перечесть. Но у Михеля-то колечко — единственная ценность после головы. Потому-то, только что мучительно размышлявший над тем, очистилось оно или нет, ландскнехт тут же сиганул в воду, возвращая своё.
XXX
Кольцо буквально жгло ногу. Михель не удивился бы особо, если бы в том месте, где оно соприкасалось с подкладкой, на теле возникло подобие стигмата[183]. Потому и понёс его до первой портовой лавки скупщика.
Торопливо вышагивая по улочкам, Михель поймал себя на мысли, что порядком отвык от мирной спокойной жизни и смотрит на все как-то одичало. Солдат меньше, чем бюргеров. Гражданские довольны: ходят, смеются, делают свободно покупки, не боясь показывать деньги. Да и в лавке жирный ростовщик не бросился из-за конторки, согнувшись в три погибели, узрев вломившегося ландскнехта. Чуть приподняв шляпу, кивнул свободному приказчику — обслужи.
Михель с дрожью душевной толкнул по стойке свою ношу. Приказчик не спеша водрузил на нос стекла: символ учёности и деловитости. Для Михеля сие не в диковинку, однако сердце кольнуло: сейчас будут обдуривать.
— Гм, занятная вещица, — приказчик бубнил под нос, не поднимая головы от перстня и столь доверчиво подставив Михелю сытый загривок регулярно обедающего человека, что Михель даже умилился. Рубануть бы шпагой али кинжал воткнуть, а потом, ухватив крепко за волосы, заломить голову, внимательно наблюдая, как самодовольство сменяется, без полутонов, паническим ужасом, затем отчаянной мольбой, пока сумерки сознания не одолеют последние искорки жизни.
— Товарец ваш, — хозяйский прихвостень наконец-то соизволил поднять рыбьи за толстыми стёклами зенки на Михеля, — представляет изделие с перста какой-либо статуи святого, из католической храмины. Из тех, что выносят по праздникам. Литургии там и прочее.
В голосе бессомненного кальвиниста промелькнуло неприкрытое презрение к папистским штучкам. Михель задавил вздох возмущения, вовремя вспомнив основополагающий тезис: «Чья сила — того и вера».
— Сработано просто великолепно. Чистое рубиновое стекло, позолота на серебряной основе. Спроса нет, ведь вещь не носильная. По размеру, как видите, любому смертному великовато будет.
Приказчик начал растягивать слова, одновременно повысив голос, и пока Михель соображал, что к чему, сбоку колобком подкатился хозяин.
«Плакали мои денежки. Неужто Макс погиб из-за такого пустячка. Вот, поди, в аду локти грызёт». Михель и сам готов был вцепиться в кого-нибудь зубами от досады и горечи.
— Позвольте полюбопытствовать, почтеннейшие? — проблеял неожиданно высоко и тонко лавочник, по примеру слуги вооружаясь очками.
— Голосок-то у тебя. Небось побывал в наших руках и был охолощён ради смеха. — Михель представил себе эту сцену, и внезапно развеселился и успокоился.
Чего особенного? Ну, обманулся в надеждах, дак не первый и не последний раз. Оттого и маркитанты из последних сил следуют за армией, потому как верно знают: торговец простого служаку завсегда обманет. Каждому своё: кто-то теряет кровь, кто-то находит золото. Как там Гюнтер приговаривал: род христианский делится на пастырей, псов и паству. Только вот вместо овец всё больше стригут псов.
И тут Михель в очередной раз убедился в очаровывающей волшебной силе перстня. Когда кольцо в мертвецком схроне заражало-зачаровывало Макса, Михель, разумеется, не видел. Когда он сам, сидя над морской бездной, бесповоротно понял, что без кольца в кармане не тронется с места — это было с ним и без свидетелей. Теперь он видел власть кольца со стороны. Оно, как воронка на реке, затягивало-засасывало хозяина.
Но ведь и Михель же постепенно вновь попал под его обаяние. И хотя в голове могуче-предупреждающе гудело: «Продавай и беги!» — кольцо нашёптывало прямо противоположное.
И они яростно торговались, к великому изумлению приказчика, и уже хозяин убеждал своего подручного, что рубин настоящий и чистый, а потом и вовсе прогнал за попытку обмануть клиента. Видя, что Михель не уступает, хозяин принялся запугивать его городскими властями, сурово настроенными по отношению к разным вооружённым бродягам, а Михель в ответ и правда схватился за оружие, а вконец запуганный и сбитый с толку приказчик безуспешно ломал голову над дилеммой, кого кликнуть: стражу, чтобы скрутила подозрительного продавца, либо лекаря к явно свихнувшемуся хозяину. Остановился на лекаре, но тут Михель и скупщик наконец-то ударили по рукам, причём Михель казался более раздосадованным, но не по поводу цены, а потому что всё-таки приходится с перстнем распрощаться.
Только в лабиринте незнакомых улочек, на сыром морском ветру, Михель немного опамятовался. Триста не триста, как предрекал Макс, но пятьдесят пять-то пистолей имеем. Михель! Ты же никогда таких денег в руках не держал. Кстати, кошелёк до сих пор зажат в руке, привлекая алчные взоры. В ближайшей таверне за стаканом горячего грога — Михель решил отныне приучаться исключительно к морским напиткам — он окончательно успокоился и прикинул дальнейшие шаги собственного бытия. Приодеться, безжалостно расставшись с надоевшими лохмотьями. Причём не броско и пышно — наличность позволяла — а обычно, как моряки ходят. Снять комнату поближе к порту. Припрятать большую часть денег. Заказать службу — помянуть Макса, Фердинанда и прочих. Посетить побольше матросских кабачков: послушать, чем народ дышит, какие корабли нахваливает, какие, наоборот, костерит.
Как сказано, так и сделано.
Михель не спеша обходил портовые кабачки и вертепы, не забывал фрахтовые конторы. Пил в меру, ещё меньше говорил, больше слушал, оглядывался, охотно знакомился, не скупясь на угощение. Пару раз показал, что и сам не лыком шит. Однако крепких кулаков и обычных ландскнехтских талантов здесь оказалось явно недостаточно. Редкие предложения отметал: то не туда шли, то корабль не тот, то команда неподходяща. Зазывали, к примеру, в морскую пехоту на конвойный фрегат конвоировать «толстопузых купцов», везущих из-за далёких морей пряности, шёлк, чай. Но на военном корабле враз можно угодить на нок-рею либо под киль[184], причём не только за такую «малость», как вооружённый мятеж. Ещё проще угодить за борт с привязанным к ногам пушечным ядром: свирепое солнце, недостаток свежей еды и питья, неведомые болезни требовали и собирали со всех судов за проход в тех водах обильную дань. А шторма, а пираты? За те же гроши, да вместо твёрдой земли — шаткую палубу. Если идти, то не охранять, а нападать. Вон, славный Пит Хейнс нагрел испанцев сразу на двенадцать миллионов[185]. За таким молодцом Михель бы в огонь и в воду. Но новичка в такую авантюру ни за что не возьмут, сами моряки говорят, что подобный фарт выпадает раз в полстолетия, значит, Михелю уже не дождаться. И основное: как Михель насмотрелся властей и командиров всяких, то может спорить с кем угодно — из того золота и серебра миллионов одиннадцать с гаком заграбастала казна, остальным же «щедро» поделилась с флотскими, так что военный флот отпадает по всем причинам.
Слава Богу, денежки завелись, так что можно покочевряжиться, выбирая. Кроме того, Михель, как человек, в морских делах неопытный, предпочитал всю подготовительную работу провести на берегу: узнать от излишне откровенных под влиянием рома моряков, какая команда донельзя недовольна своим капитаном, шкипером или патроном, кто из них не прочь поменять флаг и род занятий, раззадорить и сплотить таких недовольных в послушную стаю, чтобы там, в далёком море, хватило пары слов для переселения в капитанскую каюту.
Изредка, правда, Михеля пробирала дрожь, что кольцо царицы Чумы, как он продолжал считать, с ним в одном городе, куда он, кстати, сам его и доставил. Значит, жди большой Беды.
Посему, продирая утром глаза, Михель первым делом, выглядывал в окно, каждый раз обмирая сердцем в ожидании чёрного знака[186].
Иногда нестерпимо тянуло к знакомой лавчонке: попытаться сторговать заветное колечко обратно. Михель даже воочию представил, как перепуганный хозяин с ужасом отшвыривает перстень, когда узнает, при каких обстоятельствах Михель им завладел. Мелькнула даже мысль сделать его «вечно возвращающимся», как в какой-то сказке, но он тут же её отверг: ведь рано или поздно такая штучка обратится против своего хозяина. И Михель понял, что окончательно успокоится, когда между ним и зловещим перстнем будет дней пятьдесят солёной воды.
Не привыкнув иметь на руках столь большие суммы, Михель щедро швырял денежки направо и налево, твёрдо помня, что скопидомство не входит в число ландскнехтских добродетелей. Стал и поигрывать помаленьку, и опять же с целью за игрой выведать что-нибудь стоящее. Впервые в жизни он оказался совершенно свободным. Ни работать на земле, ни трудиться на поле брани, ни топать в тревожную неизвестность, ни мёрзнуть в карауле, ни торчать на аппеле. Даже ломать голову, где бы поесть-выпить хотя бы раз в день, не надо. И Михелю этот отпуск внезапно жутко понравился. Так ведь у «морских братьев» и должна быть столь славная житуха. Сходил в море — утопил зазевавшегося купчишку — поделил добычу по справедливости — гулевань на бережку.
Решено: сижу на месте, пока в кармане плюхается хоть один дукат. И если так и не подвернётся ничего подходящего — на первый борт и как в омут головой. Так полагал Михель, но жизнью людской заобычно распоряжается его всемогущество Случай...
Гулял как-то пьяненький Михель по городу, вроде как бы протрезвляясь бесцельно, да ноги сами принесли к знакомой лавке. А перед входом кучка народа о чём-то скорбно переговаривается. У Михеля сердце так и оборвалось — вот оно, началось.
— В чём дело, почтеннейшие? — стараясь говорить как можно медленней и ровней, поинтересовался Михель, которого бросало то в жар, то в холод.
— Старый Ицхак, жид вечный, ноги протянул, — сплёвывая сквозь зубы, протянул один давненько небритый тип, явно проведший последнюю ночь в придорожной канаве, и почему-то по-приятельски подмигнул Михелю. Вообще-то шапочный знакомый, портовый бродяга, раскрутивший вчера Михеля на пару кружек пива и надеющийся улучшить сегодня это достижение. Но Михель, в таком состоянии, не признал бы, верно, и мать родную. Побледнев как полотно, Михель пытался что-нибудь произнести, однако лишь беззвучно открывал и закрывал рот, затем развернулся и что было сил припустил вниз по улице.
— Зарезали его вчера ночью и всю лавку обчистили, — слова бродяги в спину Михель уже не услышал.
Вперёд! Вперёд! Быстрее! В порт! На первый отходящий борт! Барахлишко в комнате осталось: плащ там новёхонький, рубашки, ещё что-то? И Бог с ними! Чума в затылок дышит. По дороге, запыхавшись, Михель заскочил всё-таки в таверну, одним духом осушил кружку, затем, подумав, потребовал рому — лучшее средство от любой заразы. Не успела поданная порция рухнуть в могилу желудка, как Михель был уже на улице.
Сколь ни спешил он, шлюшке, вертевшейся рядом и намётанным глазом определившей, что новоприбывший не клиент и не в себе, удалось, пользуясь его лихорадочным состоянием и торопливостью, сменить дислокацию Михелева кошелька. Из его кармана — себе под юбки. Причём как большинство завсегдатаев, так и кабатчик прекрасно разглядели эту манипуляцию, но не подали и голоса. Первые знали, что к вечеру будут, благодаря своей безъязыкости, изрядно навеселе, второй — что, сколько бы ни было денег в кошельках подобных растяп, все ссыплются к нему на стойку.
Большинство названий причаленных кораблей уже что-то да говорили Михелю.
— «Рай» отчалит в Англию через три дня... «Пилигрим» только через две недели... «Святой Лука» ожидает где-то запропастившийся транспорт с французскими винами. «Амстердам» надолго застрял с поправкой такелажа. Эта посудина, запамятовал имя, вообще и фок, и грот меняет.
«А крыс-то из-под ног шныряет. Чуют, твари, близкую роскошную поживу. Всё это отныне станет вашим, делите по справедливости с царицей Чумой. Только без меня! Уж увольте».
Паника, усиленная винными парами, привела к тому, что Михель едва не сиганул с пирса вслед за уходящим военным корветом.
— Меня-то возьмите, возьмите, я согласен! Согласен даже на юнгу!
Лодки под рукой не оказалось, вплавь догонять поймавший свежий бриз, идущий под полными парусами быстроходный военный корабль, было верхом глупости.
— Эй, Михель, ты что, перепил? — услышал он весёлый голос над головой. С «вороньего гнезда» неказистого судёнышка его окликал какой-то заморыш. — Или корабль свой проспал? Так не убивайся: аванс получен и пропит, чего ещё желать.
Михель раздражённо отмахнулся, явно не желая признавать собеседника.
— Михель, это ж я, Том, не помнишь, что ли? Матрос с буйса «Ной». Ты ещё к нам приходил, да чем-то не глянулось.
— Когда вы в море-то? — только и смог выдавить Михель в ответ на эту тираду.
— Да к вечеру выходим. Не нашли никого взамен Боба, решили, что и так управимся. Работы больше, зато и пай у каждого вырастет... Ты-то не передумал? А то шкипер на борту, собрался в город отлучиться до вечера — с семьёй там попрощаться и прочее. Если поднимешься на борт и будешь настаивать — возьмёт. Место в кубрике найдётся.
— Я передумал, я передумал. Я передумал! — заорал вдруг оживший Михель и бросился к трапу. — А тебе, Томас, бочонок рому в первом вест-индском порту.
— Ты совсем очумел, родимый, мы же на Севера идём. За китами.
— Это я так, в шутку. Потом поймёшь.
БУЙС «НОЙ»
XXXI
Океан лопнул как кусок гнилого сукна...
Примечания
1
Спексиндер — буквально «разрубатель сала» — специальный чин в голландском китобойном флоте, отвечающий за разделку китовой туши.
(обратно)2
Трешкоут, буйс, флейт — типы голландских торговых, военных и промысловых судов того времени.
(обратно)3
Ворвань — китовый жир.
(обратно)4
Схидам — центр голландского винокурения,насчитывал до 130 спиртоводочных заводов.
(обратно)5
Здорово от тропических хворей бережёт — можжевеловую водку (джин), наиболее популярную на флоте, изобрели и использовали как лечебное средство при тропических болезнях.
(обратно)6
Амстердамский бургомистр Пуав — всю Тридцатилетнюю войну Голландию сотрясали скандалы, связанные с продажностью высших должностных лиц Республики, с прямой поддержкой ими врагов страны.
(обратно)7
Спинола Амброзио (1569—1630) — талантливый полководец, возглавлявший испанскую армию в войне с Голландией.
(обратно)8
«Опекунов» с большими пушками — по договорённости, мощный голландский флот охранял в годы Тридцатилетней войны французское судоходство.
(обратно)9
Христиан IV — король Дании (1588—1648). Несмотря на то что Дания и Голландия в годы Тридцатилетней войны формально являлись союзниками, между ними существовали многочисленные противоречия.
(обратно)10
Зундские пошлины — торговые пошлины за проход судов через так называемые Датские проливы (Зунд, Большой и Малый Бельт), ведущие в Балтийское море, составляли важнейшую статью доходов Датского королевства.
(обратно)11
Брандвахта — голландцы намеренно блокировали устье реки Шельды, на которой расположен торговый соперник Амстердама, порт Антверпен, экономически удушая конкурента.
(обратно)12
Испанские Нидерланды — южная часть Нидерландов, оставшаяся под испанским гнетом (Современная Бельгия).
(обратно)13
Ворвани в каждую бочку спермацета — то есть мешали дорогой продукт переработки китовой туши с более дешёвым.
(обратно)14
У Фризских островов — группа Фризских островов непосредственно у голландского побережья в Северном море.
(обратно)15
Вертлюжная пушка крепилось непосредственно на борту верхней палубы в отличие от тяжёлых орудий, установленных на нижних (батарейных) палубах и стрелявших через специальные отверстия (порты) в бортах.
(обратно)16
Флешнер — специальный инструмент для разделки китовой туши.
(обратно)17
Святой Николай — покровитель моряков и торговцев.
(обратно)18
Океаническое море — так в XVII в. называли Атлантический океан.
(обратно)19
Испанское море — название Атлантики в Средние века.
(обратно)20
Дома пустые и кладбища — на момент открытия европейскими мореплавателями (викингами), климат острова был значительно мягче, что отразилось и в его названии (Green land — Зелёная земля) Однако ухудшение природных условий привело к запустению и исчезновению поселений европейских колонистов.
(обратно)21
Вест- и Ост-Индиям, Батавиям, Гвианам да Цейлонам — годы Тридцатилетней войны — период активного строительства Голландской колониальной империи, раскинувшей свои форпосты в Азии, Африке, Северной и Южной Америке.
(обратно)22
Сколь себя помню — все мы с испанцами воюем — освободительная борьба голландского народа против испанского владычества в целом продолжалась более 80 лет (1566—1648).
(обратно)23
Левиафан — библейское морское чудовище в виде огромного змея.
(обратно)24
Семь жалких кандидатов в Ионы — по легенде, Иона был проглочен китом.
(обратно)25
Ротвельш (Rot — бродяга, Welsch — чужестранец) — одно из немецких названий воровского языка.
(обратно)26
На кучу навоза под окном — речь идёт о событиях 23 мая 1618 г. в Праге, так называемой «дефенестрации», положившей начало Тридцатилетней войне (1618—1648).
(обратно)27
Матвей — император Священной Римской империи (1612—1619).
(обратно)28
Пражская Директория — правительство, избранное восставшими чехами после низложения императора.
(обратно)29
Граф Мансфельд — авантюрист, руководитель наёмных отрядов на службе Директории.
(обратно)30
Католическая лига — создана в имперских землях в 1609 г. для противодействия Протестантской унии.
(обратно)31
Брауншвейгские князья — одни из руководителей протестантов на начальном периоде Тридацтилетней войны.
(обратно)32
Бреда — сильнейшая голландская крепость, осаждённая и взятая испанской армией Амброзио Спинолы в 1625 г.
(обратно)33
Апроши — особые траншеи, закладываемые для постепенного безопасного сближения при атаке крепости или укреплённой позиции.
(обратно)34
Туры — плетёные корзины с землёй для устройства укрытий.
(обратно)35
Пятнадцать бастионов, пятнадцать гравелинов, пять горнверков — типы укреплений так называемой «голландской системы фортификации», составляющие крепость Бреда.
(обратно)36
Фельдшер — буквально «полевой цирюльник»; попутно занимался и врачебной деятельностью.
(обратно)37
Лиар — мелкая французская монета, имевшая хождение и в других странах.
(обратно)38
Маркитанты — мелкие торговцы, следующие за армией, непременная принадлежность военного быта того времени.
(обратно)39
Голландка — одно из прозвищ проституток.
(обратно)40
Терция (немецкое произношение слова «терсио») — название полка в испанской армии. Могла целиком состоять из иностранцев-наёмников.
(обратно)41
Вервольф — «человек-волк» — оборотень в германской мифологии.
(обратно)42
Герцог Фридландский — имперский полководец Альбрехт Валленштейн, фельдмаршал, герцог.
(обратно)43
Густав II-Адольф — шведский король (1611 — 1632) активный участник Тридцатилетней войны.
(обратно)44
Священная Римская империя германского народа (германской нации) — государственное образование, основной театр военных действий Тридцатилетней войны.
(обратно)45
Пороховой горн — старинное название подземной мины, обычно закладываемой для разрушения крепостных укреплений.
(обратно)46
Быть прогнанному «сквозь пики», пострадать «на кобыле» — виды солдатских наказаний.
(обратно)47
Колесцовый механизм — один из видов ружейного замка того времени, применялся, как правило, в пистолетах и охотничьих ружьях, отличался сложностью и ненадёжностью.
(обратно)48
«Лагерная лихорадка» — сборное название массовых эпидемий (дизентерии, тифа и т. п.)
(обратно)49
Все, конечно, мушкетёры — пехота того времени делилась на мушкетёров и пикинёров: солдаты всеми правдами и неправдами стремились избавиться от длинных неудобных пик и вооружиться мушкетами.
(обратно)50
«Алфавитный полк» — в помощь Густаву-Адольфу город Нюрнберг выставил полк из 24 рот, с названиями по буквам алфавита, изображённым на ротных знамёнах.
(обратно)51
Пролить здесь все хорошенько — в недавно перекопанных местах вода впитывается быстрее, чем пользовались солдаты при поиске чего-либо, зарытого в землю.
(обратно)52
Профос — чин военной полиции.
(обратно)53
Нок-рея — рея, служившая виселицей на судах того времени.
(обратно)54
Kriegcamaraden (нем.) — боевые товарищи.
(обратно)55
Тебя или выкупят — существовала официальная такса выкупных платежей для каждого чина.
(обратно)56
Картель — здесь договор между двумя армиями о размене или выкупе военнопленных.
(обратно)57
Совиное оконце — народное название чердачного окна.
(обратно)58
Бандельерка — патронная перевязь мушкетёра.
(обратно)59
Фуркет — европейское название вилки-подсошника, необходимого для стрельбы из тяжёлых фитильных мушкетов.
(обратно)60
Ссыпал порох из патрона — большой калибр тогдашних ружей и значительный заряд вызывали довольно болезненную отдачу при выстреле, поэтому повсеместным явлением было умышленное просыпание пороха из патронов солдатами на землю для уменьшения отдачи.
(обратно)61
Кирасиры — вид тяжёлой кавалерии.
(обратно)62
Зигфрид — легендарный герой немецкого средневекового эпоса, рыцарь без страха и упрёка.
(обратно)63
Даго — вид кинжала, обычно употреблялся в паре со шпагой.
(обратно)64
Берсерки — древнегерманские воины-викинги, отличавшиеся особой неудержимостью и жестокостью.
(обратно)65
Глупенький зайчонок — заяц в Средние века являлся символом глупости.
(обратно)66
Мушкетон — короткое кавалерийское ружьё, как правило, для стрельбы дробью.
(обратно)67
Бушматы, ольстры — соответственно ружейные и пистолетные кавалерийские кобуры.
(обратно)68
Зернь — вид азартной игры, кости.
(обратно)69
Менял с ноги на ногу два раза на дню — обувь того времени шилась одинаковой, без различия на правую и левую, поэтому даже в солдатском уставе рекомендовалось через день менять башмаки с ноги на ногу.
(обратно)70
Защитника Святой Матери нашей Католической церкви — императора.
(обратно)71
Бриганда — банда разбойников; отсюда и бригантина — буквально «корабль разбойников».
(обратно)72
Отводной караул — выставлялся в опасном месте, непосредственно у неприятельских позиций.
(обратно)73
Покупной у него мушкет или выданный? — нанимаясь в армию, солдат приносил оружие с собой либо покупал за свои деньги. Лишь постепенно этот порядок стал заменяться выдачей оружия из казны, но ещё долго стоимость выданного вычиталась из солдатского жалования.
(обратно)74
Аппель — построение войсковой части для парада или смотра.
(обратно)75
Дублон, денье — соответственно крупная золотая и мелкая медная монеты.
(обратно)76
Уйти в пустыню — имеется в виду любое незаселённое пустынное место.
(обратно)77
Святых Бенедикта Нурсийского, Франциска Ассизского или Игнация Лойолу — крупнейшие деятели и реформаторы католической церкви VI, XIII и XVI вв., основатели монашеских орденов бенедиктинцев, францисканцев и иезуитов.
(обратно)78
И сколько весит этот зад, узнает скоро шея — из Франсуа Вийона, французского поэта XVI в.
(обратно)79
Домечтаешься до «Зелёной лягушки» — на деньги, полученные за казнь руководителей чешского национального восстания 1618 г., пражский палач Ян Мыдларж купил трактир «У зелёной лягушки».
(обратно)80
Полукартаун — вид осадного арторудия. Картаун стрелял 24-фунтовыми ядрами, полукартаун — 12-фунтовыми.
(обратно)81
Союз Семи — Нидерландскую буржуазную республику образовал договор 7 провинций.
(обратно)82
Ни жадных маркграфов, ни хищных курфюрстов, ни алчных епископов — территория Германии была поделена на множество светских и духовных владений.
(обратно)83
Кнехтов — здесь батраков.
(обратно)84
Знакомую дорогу, ведущую вниз — то есть в Нидерланды; Nederland — низкая земля.
(обратно)85
Тилли Иоганн Черклас фон — командующий войсками Католической лиги, формально подчинённой императору.
(обратно)86
Вступить в единственную армию, где платят по часам — армия Нидерландов вызывала изумление всей Европы регулярностью выплаты солдатского жалования.
(обратно)87
Нервическая горячка — сыпной тиф.
(обратно)88
Лигисты — сторонники Католической лиги.
(обратно)89
Униаты — сторонники Протестантской унии.
(обратно)90
Кондотьер — военный авантюрист, командир набираемого на свой страх и риск наёмного отряда.
(обратно)91
Мятежный генерал и Лига попросту не сошлись в цене — постоянный переход как солдат, так и известных полководцев из одного лагеря в другой и обратно являлся характерной чертой Тридцатилетней войны.
(обратно)92
Воровская башня — уголовная тюрьма в городах.
(обратно)93
Бретёр — наёмный убийца.
(обратно)94
Уши, если они у тебя ещё сохранились — распространённым видом наказания мелких уголовников, попавшихся впервые, было отрезание ушей, как бы визитная карточка, доказательство того, что данный человек уже имел дело с законом.
(обратно)95
Завертелось колесо — распространённая в то время казнь колесованием.
(обратно)96
Скоренько отправил к Плутону — то есть в преисподнюю (Плутон — бог подземного мира в древнеримской мифологии).
(обратно)97
Герцог Макс — Максимилиан Баварский, глава Католической лиги, союзник императора, активный участник Тридцатилетней войны. Отобрал у Фридриха V Пфальцского его владения и титул курфюрста (выборщика императора).
(обратно)98
Индульгенция — платный церковный документ от имени римского папы об отпущении грехов.
(обратно)99
Пособи, святая Катерина — у неё просили помощи при расстройстве желудка.
(обратно)100
Сдобную Петру, совсем не оправдывающую своего имени — имена Пётр, Петра буквально означают «камень», «каменный».
(обратно)101
Гипокрас — сорт сладкого вина, обильно сдобренного пряностями.
(обратно)102
10! Десяток-другой тысяч головорезов во главе с в меру жадным и продажным фельдмаршалом — практика продаж и перепродаж отрядов и целых армий являлась обычным делом.
(обратно)103
Из самой Вены — столица Австрийских Габсбургов, императоров Священной Римской империи.
(обратно)104
Герцог Савелли — имперский полководец.
(обратно)105
юг Густав-Адольф, всего лишь с тринадцатью тысячами солдат, так двинул бронированным кулаком, что вся империя содрогнулась — имеется в виду начало так называемого «шведского периода» Тридцатилетней войны (1630—1635), отличавшегося наибольшей ожесточённостью и размахом боевых действий, а именно высадка войск Густава II-Адольфа в Северной Германии, которую не смогла предотвратить ослабленная армия герцога Савелли.
(обратно)106
«Зелёный» — по народным немецким поверьям, зелёный — любимый цвет чертей и Сатаны, в который они чаще всего обряжаются. Поэтому дьявола называли просто «зелёный».
(обратно)107
«Фильтр» — здесь привораживающее зелье.
(обратно)108
Сродни галунам на шляпах: от широкого к узкому, от позолоченного к посеребрённому и к простому — при введении армейской формы одним из главных знаков отличия были строго определённые ширина и материал тесьмы при отделке одежды, головных уборов и снаряжения.
(обратно)109
Гроши на офицерский патент — офицерские звания в то время, как правило, покупались.
(обратно)110
Дефилей (дефиле) — горный проход, теснина, излюбленное место для устройства засад и внезапных нападений.
(обратно)111
Мелу для нас не припас боле — в трактирах того времени существовала особая система записи отпущенного в долг мелом. Выражения «мела нет», «мел кончился» означали исчерпание кредита.
(обратно)112
Десяти дукатов не пожалеет — то есть пяти дублонов. Дублон — двойной дукат.
(обратно)113
«Белым оружием» — то есть холодным оружием.
(обратно)114
Пали некогда неприступные стены Иерихонские — по библейской легенде, стены осаждённого Иерихона рухнули от звука труб войск Иисуса Навина.
(обратно)115
«Пороховым духом» — взрывной волной.
(обратно)116
«Волки» — обычно верхняя одежда крестьян того времени (кафтаны) была серого цвета, потому их частенько обзывали волками.
(обратно)117
Караколе — буквально «улитка». Приём поочерёдной ружейной стрельбы, когда залп давала первая шеренга мушкетёров и тут же отбегала назад для перезарядки. Затем то же делала вторая шеренга и т. д.
(обратно)118
Загнал-таки в его мушкет — огнестрельное оружие в то время выпускалось, как правило, штучно и имело разный калибр. Солдаты получали свинец и сами отливали пули соответственно диаметру дула своих ружей.
(обратно)119
Наша артельная повозка — для обеспечения хозяйственных нужд себя и своих семей, Военнослужащие вскладчину нанимали или покупали транспортные средства в зависимости от своих возможностей. Неизбежно разрастаясь в условиях кочевой необеспеченной жизни, частный обоз становился серьёзной обузой при маневрировании армейских соединений.
(обратно)120
Фура — вид армейской повозки.
(обратно)121
Чья армия сейчас ходит в лучших? — лучшей армией того времени считалась шведская, то есть противники Михеля и его друзей.
(обратно)122
А лошадёнка-то шведская — шведские северные маленькие лошади сильно отличались от рослых отборных животных имперской кавалерии.
(обратно)123
Пробст — духовник монахинь.
(обратно)124
Пенитенциарий — священник, которому предоставлено право отпускать особо тяжкие преступления.
(обратно)125
Кляп в рот — команда, подаваемая на галерном флоте гребцам перед боем, чтобы крики раненых не мешали остальным.
(обратно)126
Эффенгадбер — знаменитый немецкий оружейник, известный роскошными парадными доспехами.
(обратно)127
Что-то кушаков не наблюдаю? — армии того времени, не имея униформы и знаков различия, вынуждены были прибегать к различным импровизациям — капюшонам, кушакам, кокардам и т. п. определённого цвета для отличия своих от неприятеля. В частности, в битве при Люцене в 1632 г. шведы использовали кушаки зелёного цвета, имперцы — красного.
(обратно)128
Баннеровские — Баннер — один из шведских военачальников, впоследствии маршал и главнокомандующий шведской армией после гибели Густава Н-Адольфа в битве при Люцене.
(обратно)129
«Фулблудс» — «чистокровный», то есть швед. Шведская армия в то время в абсолютном большинстве состояла из иностранных наёмников. По некоторым подсчётам, в 1632 г. на стотысячную армию было не больше шестисот шведов и финнов.
(обратно)130
«Снеговик» — то есть Баннер. Про шведов, жителей малоизвестной тогда северной страны, их политические противники распускали всяческие небылицы, что они спят и живут в сугробах и т. п. В частности, Густаву-Адольфу дали кличку «снежный король».
(обратно)131
В Каледонских горах — то есть в Шотландии. В армии Густава-Адольфа было довольно много шотландских протестантов.
(обратно)132
Бивак — расположение войск на отдых и ночлег, как правило, вне населённых пунктов.
(обратно)133
Харон — перевозчик в страну мёртвых в древнегреческих мифах.
(обратно)134
Я ж теперь как никак подо львом — то есть в шведской армии, на знамёнах которой изображён был лев.
(обратно)135
Шпицрутены — длинные прутья для телесных наказаний, впервые введённые Густавом-Адольфом.
(обратно)136
Когда мы давили мужицкий бунт в Верхней Австрии — имеется в виду крупное антивоенное антифеодальное восстание 1626 г.
(обратно)137
Гуси спасли Вечный город — имеется в виду эпизод древнеримской истории, когда гуси предупредили горожан о ночном штурме врагов.
(обратно)138
Регенсбург, люди говорят, под шведом — в период наивысших успехов шведской армии на короткое время удалось овладеть большей частью Баварии.
(обратно)139
Урбан VIII — римский папа (1623—1644).
(обратно)140
Его Католического Величества — титул испанского монарха.
(обратно)141
Эльдорадо — мифическая страна золота, якобы находящаяся в Америке, предмет вожделения испанских конкистадоров.
(обратно)142
Турн и Букуа — полководцы-противники начального периода Тридцатилетней войны.
(обратно)143
Отступника Георга карать — речь идёт о саксонском курфюрсте, в описываемое время союзнике Густава Н-Адольфа.
(обратно)144
Конец самого генералиссимуса — Валленштейн очень увлекался астрологией и. по легенде, заранее вычислил день и час своей гибели.
(обратно)145
Так мы ж там вроде как были — в конце 1620-х гг., до вступления Швеции в Тридцатилетнюю войну, имперцы совершили удачный поход к побережью Балтики.
(обратно)146
Корнет — в данном случае мелкое кавалерийское подразделение (взвод).
(обратно)147
Шанцы — полевые окопы.
(обратно)148
Из рук генералиссимуса — Валленштейн к тому времени добился чина генералиссимуса (буквально генерал генералов).
(обратно)149
Фердинанд II — император Священной Римской империи (1619—1637).
(обратно)150
Ржавую корону Шарлеманя — корона первого императора Священной Римской империи Карла Великого (фр. Charlemagne) была железной (из гвоздя с креста Спасителя).
(обратно)151
Руно на цепочке — орден Золотого Руна — высшая награда Австрии и Испании.
(обратно)152
Мародёр — легендарный генерал, солдаты которого отличались особой распущенностью и от имени которого произошёл сам термин «мародёр» — военный грабитель.
(обратно)153
Кроаты — лёгкая имперская иррегулярная конница, набираемая из пограничной области Кроации (Хорватии).
(обратно)154
Фальконет — вид артиллерийского орудия.
(обратно)155
Зелье — порох.
(обратно)156
«Absolve Dominet» (лат.) — католическая молитва над павшими в бою.
(обратно)157
«Те Deum laudamus» (лат.) — торжественная месса по случаю избавления от врагов.
(обратно)158
«Dies irae» (лат.) — заупокойная, реквием.
(обратно)159
Это не испанский лейб-гвареец — отличительным знаком испанской гвардии были красные чулки.
(обратно)160
Паппенгейм — командующий имперской кавалерией, отсутствовал на начальном этапе Люценской битвы.
(обратно)161
Не из рода ли тех достойных Фрунсбергов — речь идёт о легендарном вожде немецких ландскнехтов XVI в. Георге фон Фрунсберге.
(обратно)162
Клинышек подбей совсем легонько — орудия наводились на цель подбиванием или ослаблением системы клиньев.
(обратно)163
Цапфы — специальные приливы на орудийном стволе для крепления и заряжания.
(обратно)164
Уксуса под рукой не оказалось — уксус использовали для охлаждения ствола орудия после ветрела.
(обратно)165
Анабаптизм — одно из радикальных протестантских течений эпохи Реформации.
(обратно)166
Банкетка — забрустверный земляной выступ — скамья для стрелков.
(обратно)167
Регимент — полк.
(обратно)168
Башмаки опять же — пехота была, как правило, обута в башмаки, кавалерия — в сапоги-ботфорты.
(обратно)169
Плакался, что драгуны — это все ж не кавалерия — драгуны изначально создавались как «ездящая пехота» и в бою, как правило, спешивались.
(обратно)170
Финферлейн (шв.) — батальон.
(обратно)171
Корнет — см. примечание 146.
(обратно)172
Per Dominum moriemur (лат.) — «За Господа умереть нам».
(обратно)173
Курфюрсты (нем.) — буквально князья-избиратели, семь духовных и светских владык, за которыми с XIII в. закреплено право избрания императора Священной Римской империи.
(обратно)174
Гласис — насыпь для установки орудий.
(обратно)175
В рядах этих синих — Густав-Адольф первым пытался ввести армейскую униформу синего цвета.
(обратно)176
Горн — шведский командующий.
(обратно)177
Хуммелем кличут — Homme! — по-немецки «шмель».
(обратно)178
Трое суток единственным признаком их присутствия были попеременные возгласы — исторический факт.
(обратно)179
«Копьём достать Фландрию» — испанская пословица того времени, синоним безнадёжного предприятия из-за трудностей испано-голландской войны.
(обратно)180
«Чёрная смерть» — эпидемия чумы.
(обратно)181
Умыться уксусом — как обеззараживающее средство при инфекционных болезнях.
(обратно)182
Десять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч, дальше запамятовал — в Позднее Средневековье появлялись теологические трактаты, в которых вёлся скрупулёзный подсчёт всех «видов и типов» нечистой силы.
(обратно)183
Стигмат — язва или рана, образующаяся вследствие психологического внушения, например у религиозных фанатиков, отождествляющих себя со святыми мучениками.
(обратно)184
Угодить на нок-рею либо под киль — речь идёт о так называемом «килевании» — распространённом на флоте наказании, когда провинившегося матроса протаскивали на тросе под килем судна.
(обратно)185
Вон славный Пит Хейнс нагрел испанцев сразу на двенадцать миллионов — в 1628 г. голландский флот под командованием адмирала Питера Хейнса атаковал испанскую Серебряную флотилию, перевозящую ценности из Америки в метрополию, и захватил добычи на двенадцать миллионов гульденов.
(обратно)186
Чёрного знака беды — чёрный флаг вывешивался как знак карантина в случае эпидемии.
(обратно)
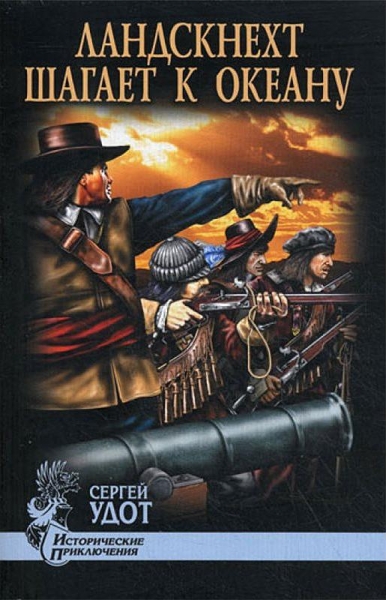

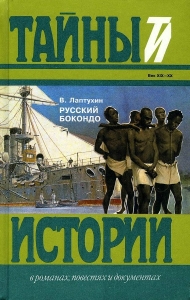


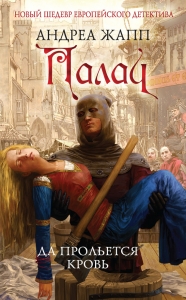
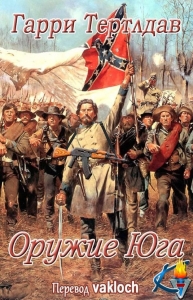


Комментарии к книге «Ландскнехт шагает к океану», Сергей Николаевич Удот
Всего 0 комментариев