Майкл Муркок Карфаген смеется
Предисловие
За четыре с половиной года, прошедших с тех пор, так я закончил редактировать первый том мемуаров полковника Пьята «Византия сражается», мои собственные жизненные обстоятельства существенно переменились. Я занялся тщательной проверкой некоторых заявлений Пьята после того, как получил несколько писем от людей, знавших его до войны. Их воспоминания решительно отличались от известных мне. В результате я отправился по следам полковника, в какой-то миг мне показалось, что я вынужден буду продолжить странствия с того момента, где он остановился в 1940‑м. Отставной турецкий бимбаши[1], один из революционных националистов Кемаля в 1920‑м, уверял меня, что Пьят был американским ренегатом, сионистом, работавшим на британцев. Два энергичных восьмидесятилетних старца в Риме настаивали, что он был польским коммунистом и собирался проникнуть в фашистскую организацию на раннем этапе ее развития. В Париже почти все соглашались, что он был русским, возможно, евреем, связанным больше с преступным миром, чем с политическим подпольем. Не все помнили его как Пьята (Рiаt или Руаtе – возможные варианты). Некоторые жители Берлина, с которыми я встретился, опознали его как Питерсона или Палленберга, но с готовностью подтвердили, что он был ученым, инженером. Одна немецкая леди, некогда узница Бухенвальда, а теперь жительница Оксфорда, очень удивилась, когда я спросил, считает ли она Пьята настолько выдающимся, как утверждал он сам. Она сообщила, что ей известно по крайней мере об одном исключительно успешном его изобретении, потом рассмеялась и отказалась продолжать. У этой женщины случались приступы умственной нестабильности.
После того как в 1941 году пришли нацисты, в Киеве не осталось фактически никаких письменных свидетельств, и даже о Бабьем Яре не сохранилось никаких упоминаний, за исключением произведений Евтушенко и Антонова[2]. Теперь это часть новой автострады. Со своим обычным тактом Советская Украина предпочла позабыть о событии, которое могло представить в дурном свете всех украинцев в целом (нацисты еще нигде не находили такого множества восторженных добровольцев).
В Америке обнаружилось гораздо больше документов, но они оказались одновременно и полезными, и противоречивыми. Некоторые газетные сообщения не согласовывались с рассказами Пьята, и все-таки есть немало оснований полагать, что он мог пережить то, о чем умолчали газеты. О госпоже Моган, например, практически не упоминали в ходе кампании против клана, которую вела «Нью-Йорк уорлд» в 1921–1923 гг., но госпожа Тайлер[3], которой Пьят уделил пару строк, представлена в газете одной из главных злодеек. Точно так же засаленные и выцветшие газетные вырезки в записных книжках Пьята не обязательно подтверждают его сообщения, находящиеся на соседних страницах, и, к сожалению, даты и источники часто неразборчивы или вовсе не указаны. Один заголовок, возможно, из «Нью-Орлеан тайме» конца 1921‑го, звучит так: «Бернс разоблачает клан». В статье идет речь о департаменте юстиции Бюро расследований, предшественнике ФБР, намеренном изучить всю деятельность клана[4]. Это сообщение подтверждает все слова Пьята – но расследование началось раньше, чем он утверждал. Обвинения полковника в предвзятости и коррупции очень часто также сомнительны. Я имею в виду «Мемфисский коммерческий вестник»[5], который Пьят считал правой рукой местных политиканов. На деле «Коммерческий вестник» получил Пулитцеровскую премию за смелые статьи о противостоянии клану. Газета представляла интересы значительного числа южан, которые возмущались действиями клана и активно протестовали против них, например, в Миссисипи, Теннесси, Алабаме, даже в Джорджии. Во многих западных штатах, включая Техас и Калифорнию, клан добился куда больших успехов, чем на Юге.
«Карфагенская демократическая газета», выходившая в Арканзасе, определенно сообщала о воздушном корабле майора Синклера в статье, озаглавленной «Местные граждане помогают летчикам», от 27 февраля 1922 г., но я не смог отыскать никаких упоминаний о Пьяте в «Канзас-Сити стар», хотя, по его собственным словам, он произвел настоящий фурор в 1923 г. Есть вырезки из «Толедо блэйд», «Кливленд плэйн Дилер», «Спрингфилдского республиканца» и «Сент-Луис лоуб демократ», но Пьята везде называют Питерсоном. «Индианаполис таймс», «Даллас ньюс» и «Нью-Орлеан таймс» в лучшем случае публиковали уклончивые комментарии, но чаще всего журналисты решительно критиковали его за «отвратительные искажения фактов», расовый и религиозный фанатизм. Иногда Пьят, кажется, не понимал, что его осуждают, и гордо вклеивал вырезку в альбом, чтобы подтвердить свою известность. Скандал с де Грионом упоминается в «Тон» за 1921 г., и здесь мсье Пьятницкий назван натурализованным французским гражданином. Заметка «Любовь в разгар красного террора» оказалась театральной рецензией из северокалифорнийской газеты, выходившей в Грасс-Вэлли: «Среди исполнителей ролей в этой увлекательной музыкальной драме были мистер Мэтью Палленберг, мисс Гонория Корнелиус, мисс Этель де Курси и мисс Глория Дуглас».
Но мои странствия были не совсем напрасными. Они оказались полезны, когда я наконец поселился в отдаленной части йоркширских долин, чтобы попытаться привести в порядок рукописи, о которых шла речь в первом томе. Я использовал записи разговоров с Пьятом, немногочисленные интервью, взятые у людей, с которыми я встречался, но в основном мне снова пришлось положиться на письменные источники, непоследовательные и скучные, как всегда. В то время как большая часть предыдущего тома была написана по-русски, основной текст следующего сочинения, за исключением упоминаний о сексе, как всегда, сделанных по-французски, состоял из записей на каком-то полусекретном языке, в котором преобладали английский, идиш и немецкий, с небольшими польскими и чешскими вкраплениями и незначительными фразами на турецком (а еще там были собственные, в значительной степени непереводимые, слова Пьята). Это относится к большей части дневника, который, по словам автора, был составлен между 1941 и 1947 г. Никаких еврейских букв в рукописи нет. И вновь без помощи М. Г. Лобковица я не смог бы продолжить работу: Пьят, как уверяет мой друг, плохо говорил на всех языках, включая русский. Конечно, его идиш, часто подсознательно смешиваемый с немецким и английским, подтверждает данное мнение. Пьят утверждал, что изучил язык, работая на евреев в киевском гетто, на Подоле.
И вновь я сохранил особенности оригинала – правописание, грамматику, хаотичные смешения языков и странные формы слов, а также часть (некоторым может показаться, что слишком большую часть) его безумных выпадов. Когда мнения и оценки Пьята менялись радикально, иногда на соседних страницах, по мере того как одно причудливое объяснение сменялось другим, я оставлял их без изменений, ибо это – существенные выражения индивидуальности автора. Я старался избегать решительных суждений или выводов, будучи уверен, что другие читатели могут заметить кое-что из того, что я не сумел разглядеть.
Вычитка этого сочинения оказалась нелегким делом. Зная о моем отвращении к большинству суждений Пьята и огромных временных затратах, друзья часто советовали передать «наследство» в академическое учреждение, которое могло бы обеспечить куда большую объективность. Однако, пусть это покажется донкихотством, я пообещал Максиму Артуровичу Пятницкому, что его воспоминания будут напечатаны. Я чувствую, что должен сдержать это обещание вопреки всем трудностям.
Особая благодарность всем людям, которые помогали мне в работе над этой книгой: Линде Стил, Джону Блэквеллу, Джайлсу Гордону, Робу Коули, Роберту Ланье, Элен Малленс, Явусу Селиму, «Петросу», Жан-Люку Фроменталю, Лили Стайнс, Дэйву Диксону, Полу Гэмблу, Майку Баттерворту, Джеффри Даймонду, мистеру и миссис Чайкин, мистеру и миссис Джейкобс, «Ма» Эллисон, Христиану фон Бодиссену, Франсуа Ландону, Фриде Крон, Натали Циммерманн, Лоррис Мюррейл, Лэрри Снайдеру из библиотеки Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич, сестре Марии Сантуччи, Мартину Стоуну Джону Клюту, Исле Венабльз, профессору С. М. Роуз, а также тем людям, которые пожелали остаться неназванными.
Майкл МУРКОК, Лондон, октябрь 1983
Глава первая
Я один из величайших изобретателей своего времени. Отвергнутый на родине, мой гений был признан всеми, даже турками. «Рио-Круз», перегруженный снегом и беженцами, двигался из Одессы к Севастополю и Кавказскому побережью. Британцы произносили тосты, называли меня русским Прометеем. Как я мог заметить иронию? Ведь я не представлял, что ждет меня в будущем. В те последние дни 1919‑го, избежав позорной смерти, я стал осознавать свою миссию: мне предстоит озарить весь мир светом науки. (Теперь, прикованный, я все еще жду своего Геркулеса. Es war nicht meine Schuld[6].)
С того дня, как я взошел на борт, мистер Томпсон, главный инженер «Рио-Круза» – космополит по характеру своей профессии, любитель научных журналов – стал моим безоговорочным сторонником.
– Вам следует при первой же возможности приехать в Англию, – настаивал он. – Столько людей погибло! Ученые сейчас нужны как никогда.
Меня поддерживали еще несколько членов экипажа. Они были добродушными, непосредственными и искренними людьми – лучшие представители Англии, теперь таких нет.
Мы любили говорить о том, что, пока Россия не придет в себя, Англия будет самым подходящим местом для продолжения моей карьеры. Мистер Грин, деловой партнер моего дяди Семена, возвратился в Лондон в начале революции. У него непременно найдутся для меня деньги. Кроме того, поддержка, которую я обнаружил на борту «Рио-Круза», давала возможность предполагать, что, высадившись на английский берег, я мог бы быстро добиться важного правительственного поста.
В свете этих перспектив, поддерживая силы небольшим количеством кокаина и вина, я по крайней мере отчасти смог позабыть о своих прежних разочарованиях. Расстаться с Россией было труднее, чем я ожидал, и прошло целых три недели, прежде чем нам удалось добраться до Константинополя. Как только мы потеряли из виду берег, на корабль обрушились сильные ветра и волны. Я был неплохим моряком, но тем не менее иногда страдал от морской болезни и по временам впадал в ужасную, изнурительную меланхолию. В такие моменты мне приходилось покидать общество и возвращаться в свою койку, где около получаса все мое тело сотрясалось, как будто в унисон с колебаниями корабля. Эти случаи были как физической, так и психологической реакцией на события предшествующих двух лет, но всякий раз, когда происходило подобное, меня охватывало неутолимое стремление вернуться в невинное прошлое, в мое золотое одесское лето 1914‑го, когда передо мной, казалось, открывался целый мир. В полубреду мне представлялось, что благородный город Одиссея навеки отдан татарам, мусульманам, евреям. Завладев Одессой, они захватили какую-то часть меня – и удерживали до сих пор.
Троцкий и Ленин смотрели свысока и усмехались: в окровавленных пальцах они держали маленький осколок моей души. Стихии могучим хором стенали вокруг корабля, когда я оплакивал Эсме, моего маленького ангела, Эсме, светлая славянская красота которой воплощала все истинное и благородное в России. Обесчещенная анархистами, этим монгольским сбродом, моя утраченная возлюбленная не вернется уже никогда. Она смеялась надо мной, когда я ужасался ее рассказам о насилии и унижении. Эсме, моя величайшая опора после матери, была моей музой и моей надеждой. Если она все еще жива, то стала всего лишь большевистской шлюхой. Эсме, когда мое тело содрогалось на узкой койке, я так хотел повернуть время вспять, чтобы спасти тебя. Как изменились бы наши жизни, если бы мы сбежали вместе! Я остался бы верен тебе. Кabus goruyorum[7]. И я до сих пор, даже в этом ветхом теле, верен тебе. Несмотря на все твои измены, я не виню тебя.
По пути в Константинополь «Рио-Круз» заходил в несколько портов Черного моря, чтобы подобрать пассажиров, высадить войска и выгрузить боеприпасы. Джон Монье-Уилльямс, капитан корабля, был седым коренастым валлийцем; с одной стороны его лицо избороздили ужасные шрамы – последствия давнего пожара. Капитан всегда был с нами вежлив, но явно испытывал некоторое отвращение к этому назначению, последнему перед выходом в отставку. Прежде его путь лежал в индонезийские, индийские и китайские колонии; для него наша гражданская война была непонятным местным конфликтом, не достойным британского участия. Грузовое судно превратили в военный транспорт; оно не слишком подходило для размещения пассажиров.
Большей частью каюты представляли собой общие спальни; мужчины располагались отдельно от женщин и детей. Мы с миссис Корнелиус получили собственную каюту, но необходимость изображать мужа и жену создавала для меня неожиданные неудобства, особенно ночью, так как моя спутница оставалась верной своему французу, а я сгорал от желания на верхней койке. Миссис Корнелиус была необыкновенно соблазнительной женщиной. Тогда ей только исполнилось двадцать, и она достигла расцвета. И я не мог не думать о ее нежной розовой плоти и чувственном аромате. Время от времени во сне она, прервав свое прелестное храпение, что-то нашептывала и причмокивала пухлыми, сладострастными губами, усиливая мое желание и заставляя меня лелеять и свою ностальгию, и бедный раздувшийся член в течение многих часов, пока корабль пробирался по темному суровому морю, скрипя, вздыхая и иногда издавая таинственный звук, напоминавший кряхтение перегруженного верблюда.
Другие пассажиры оказались в основном украинскими торговцами, nouveaux riches, которых я не терпел. Мало того что они были нелепы, женщины оказались самодовольными, мужчины – скучными, а их дети и слуги – отвратительными. Многие претендовали на благородное происхождение; все постоянно оплакивали потерю всего; при этом почти каждый, казалось, притащил на корабль по крайней мере по две шубы и три алмазных ожерелья. Эти люди были военными спекулянтами, спасавшимися от мести большевиков; среди них встречалось немало евреев. Я допрашивал многих, подобных им, во время службы в разведке и знал их на нюх. Кто-то из них, должно быть, узнал меня и начал распространять злостные слухи: я был красным шпионом, немецким чиновником и даже, как это ни забавно, евреем. Я начал замечать, что пассажиры в моем присутствии волнуются или ведут себя подобострастно. В ответ я начал избегать их. К счастью, мы с миссис Корнелиус общались с ними не слишком часто. Нас с самого начала путешествия пригласили обедать за маленький столик, предназначенный для мистера Томпсона и большинства офицеров, которые не могли пользоваться отдельной кают-компанией, поскольку корабль был переполнен. Истосковавшаяся по англичанам миссис Корнелиус с удовольствием приняла приглашение. Офицеры в свою очередь наслаждались ее веселым нравом. Их компания была намного понятливее и приятнее, чем общество моих соотечественников, так что меня это предложение тоже устроило.
Мы продвигались вперед через густой белый туман, через снежные бури и штормовые вихри, и, пока не оставили Россию, я по-прежнему страдал от болезненных перепадов настроения. Севастополь, Ялта и другие порты лежали впереди. Я, конечно, мог высадиться в любом из них, и меня это беспокоило. Было бы гораздо легче, если б расставание оказалось мгновенным. Однако я не испытывал нетерпения при мысли, что окажусь в Константинополе: как я понял, город был переполнен русскими, не способными получить визы в более гостеприимные страны. Я утешал себя: самое большее через несколько дней после прибытия в столицу Оттоманской империи я уже буду на пути в Лондон. Тем временем я делал все, что мог, лишь бы выбросить из головы воспоминания о Киеве и Одессе, забыть Эсме и первый полет над Бабьим Яром, приветствия товарищей-студентов во время моей речи в университете, восхитительные месяцы, проведенные с Колей в богемных кабаре Санкт-Петербурга. Я пытался сконцентрироваться на будущем, на практическом воплощении своей технологической Утопии. Мою жажду знаний и творчества до некоторой степени удовлетворил мистер Томпсон, который помог мне изучить корабль.
Старые поршневые двигатели, установленные на «Рио-Крузе», вызывали у мистера Томпсона, больше привыкшего к современным турбинам, одновременно и восхищение, и сомнение. Он считал удивительным, что двигатели вообще работали. Итальяшки пользовались ими уже много лет, сообщил он. Итальяшки прославились тем, что развалили все корабли, на которых плавали. Обычный текущий ремонт был для них чем-то немыслимым. «Они относятся к механизмам точно так же, как к лошадям: лупят их до тех пор, пока те не умирают на ходу». Мистер Томпсон бродил по темным содрогающимся коридорам машинного отсека, его красное лицо и волосы, казалось, пылали, а острый нос содрогался от пуританского страха. Он демонстрировал, что починил и усовершенствовал, обвинительными жестами указывал на пятна и вмятины на медных деталях, на ржавчину и заплаты на поршнях и трубах. Машинное отделение пропахло кипящим маслом. Из кочегарки валил угольный дым. В ужасной полутьме я воображал, как подпрыгивают заклепки на металлических пластинах и как рычаги вырываются из рук. Мистер Томпсон рассказал, что настоял на том, чтобы сверху донизу вымыли все помещения, чтобы очистили и смазали каждый винтик, прежде чем он позволил этому военному трофею снова выйти в море, и все же отделаться от налета грязи так и не удалось. Мистер Томпсон думал, что это всегда останется проблемой на любом корабле, независимо от того, насколько хороши системы вентиляции. В ответ я изложил ему свою концепцию корабля, которому не нужны ни уголь, ни нефть, потому что его двигатели работают от двух гигантских ветряков, возвышающихся над палубой судна; таким образом, нужен просто вспомогательный двигатель и маленький резервуар с дизельным топливом. Мистер Томпсон сомневался, пока я не сделал для него набросок чертежа будущего устройства; тогда он заволновался. Он всерьез настаивал, что мне следует запатентовать эти планы, как только я достигну Лондона. Я уверил его, что именно таковы мои намерения. В тот день за обедом он попросил меня описать изобретение еще раз его коллегам-офицерам. На них рассказ также произвел впечатление. Капитан Монье-Уилльямс, который служил на парусных судах, сказал, что оценил бы бесшумную работу моего двигателя. Ему не хватало тишины, что стояла на больших парусниках даже тогда, когда корабль развивал значительную скорость.
Миссис Корнелиус усмехнулась:
– У мня никада не б’вало ника’ого черт’ва ’покойствия до ветру, – сказала она и рассмеялась.
Ее поддержали все, кроме меня и капитана.
Позже она объяснила мне соль шутки. За столом, однако, она добилась своей цели и прервала чрезмерно серьезную беседу. После пудинга большинство пассажиров вышли из салона. Когда капитан Монье-Уилльямс и еще несколько офицеров удалились по служебным делам, миссис Корнелиус исполнила несколько номеров. Ее карьера началась в мюзик-холлах Степни[8], и она знала немало популярных песенок. Моряков явно обрадовали номера, которые, очевидно, были известными хитами, но мне песни в основном показались незнакомыми. В конечном счете я выучил их все и не раз избегал неприятностей, доказывая, что я британец, исполнением «Лили из Лагуны» или «В церкви Троицы я встретился с судьбой».
В тот вечер миссис Корнелиус выпила довольно много. В конце концов мне пришлось помочь ей добраться до каюты. Она страдала слабостью желудка, и смех, пение, морская качка привели к тому, что она потеряла над собой контроль прежде, чем мы добрались до двери. Я помог ей улечься. Через некоторое время она пробормотала, что ей намного лучше и она готова продолжить. Я тоже, возможно, был не вполне трезв, потому что в темной каюте, когда она пела «Мальчик, которого я люблю, стоит на галерке», попытался забраться к ней в койку. Она почти тотчас прервала пение и резко напомнила мне, что мы оба дали слово чести. Стыдясь себя самого, я вернулся в свою постель.
Когда я проснулся на следующее утро, слабые лучи света пробивались сквозь стекло иллюминатора. Миссис Корнелиус, по-прежнему одетая в розовое с черным шелковое платье, крепко спала. Стараясь не беспокоить ее (и несколько опасаясь заговаривать после того, как едва не предал ее доверие), я умылся в тазу и поднялся на палубу. Это вошло у меня в привычку, отчасти потому, что я спал так ужасно, отчасти потому, что в ранние утренние часы моя похоть усиливалась, и мне было невыносимо лежать на койке прямо над желанной женщиной, отчаянно пытаясь сохранять самообладание.
На рассвете на палубе людей бывало не много. Я мог покурить и насладиться прогулкой в уединении час-другой до завтрака. Единственной пассажиркой, с которой я сталкивался регулярно, была худощавая женщина средних лет. Ее лицо всегда покрывал толстый слой косметики. Кожа ее казалась зеленоватой, а губы и волосы – ярко-алыми. Она сидела за маленьким столиком на палубе и раскладывала пасьянсы. Ветер часто смешивал ее карты и иногда уносил их за борт, но все же, очевидно, не задумываясь об этом, она продолжала игру. Я начал воображать ее героиней легенды, оракулом, пленной троянской пророчицей. Определенно, было что-то цыганское в ее черном платке, украшенном большими темно-красными розами, в ее ярко-изумрудном платье и красных перчатках до локтей. Каждое утро, в одно и то же время, она занимала свое место. Сосредоточенная на картах, она никогда не замечала моего присутствия. Ее муж, бритоголовый бывший военный в какой-то гражданской форме, состоявшей из сюртука и брюк для верховой езды, заправленных в охотничьи ботинки, подходил к ней в то мгновение, когда раздавался первый звонок к завтраку; тогда она собирала карты, укладывала их в серебристую сумочку, протягивала мужчине длинную руку и удалялась с палубы. Супруги никогда не разговаривали, но пользовались языком мимики и жестов, который позволял предположить, что они постоянно общаются друг с другом.
В первые дни путешествия главную палубу судна почти постоянно заливала вода. Холодная, серая, она сливалась с небом, и иногда казалось, что мы погружаемся в преддверие ада; возможно, мы плыли по краю мира, и нам не было суждено когда-нибудь пристать к берегу. Сидя в ресторане, который в перерывах между трапезами заменял нам кают-компанию, я наблюдал, как снаружи то возносятся, то отступают волны. Миссис Корнелиус обычно присоединялась ко мне примерно в два-три часа, к этому времени она успевала привести себя в порядок. Мы заказывали напитки и непринужденно беседовали с другими пассажирами. По словам моей спутницы, компания была не из лучших, но миссис Корнелиус терпимо относилась к нашим спутникам, которых я по большей части считал невыносимыми. Из толпы торговцев и их жен выделялись две миниатюрные неврастеничные дамы, сестры, всегда державшиеся за руки; я поначалу принял их за влюбленных лесбиянок. Толстый торговец зерном из Александровска рассказал миссис Корнелиус, что помог царю бежать в Румынию в начале 1918 года. Он был дружен с господином Риминским, бывшим владельцем самого крупного синема в Одессе, любившим поговорить о своей дружбе с известными актерами и явно считавшим себя кем-то вроде кинозвезды. Признаки возраста на его красивом лице были тщательно замаскированы румянами и сурьмой. Он планировал, по его словам, создать в Америке новую киностудию и предложил миссис К. стать одной из его первых актрис. Она захихикала и ответила, что подумает об этом. Риминский представил нас своему ближайшему приятелю, очень странному человеку, высокому молдаванину, князю Станиславу, розовокожему, худощавому и длинноногому, похожему на фламинго. От легкомысленной жены князя и их черноглазых сыновей-близнецов пахло эвкалиптом и камфарой, и я избегал их, предполагая, что они страдают от какой-то болезни. Среди других постоянных посетителей салона выделялся смуглый толстый грузин с темной раздвоенной бородой, торговец углем. Похоже, ему было нечего надеть – он все время ходил в одном и том же вечернем костюме и подбитом волчьим мехом пальто. Эти одеяния с каждым днем все сильнее покрывались плесенью. Фермер-меннонит, его полуголодная, дрожащая жена и пять дочерей, все в серых одеждах, были единственными людьми, общавшимися с бледным пухлым молодым человеком в плохо сидящем костюме. Неотесанный мужлан мог бы купить такой наряд для первого визита в город (все подозревали, что этот парень скопец, за спиной его дразнили «евнухом»). Наконец, был майор Волишаров, носивший белую форму донских казаков, – именно такую я когда-то упаковал в свой чемодан. Майор рассказал нам, что сопровождает маленького сына и дочь в Ялту, где к ним присоединится тетя. В Ялте он также надеялся отыскать свой полк. Его жену убили красные. Волишаров был занят только своими детьми, он говорил об их достоинствах и недостатках, об их физических свойствах, часто в их присутствии. «Быстрый, как крыса, – сказал он однажды вечером, взмахнув рукой, в которой держал стакан водки, и указал в угол салона, где играли мальчик и девочка. – Быстрый, как крыса. Но девочка – это мышь». Самой запоминающейся деталью на его невзрачном лице были усы, вощеные на немецкий манер; разумеется, этим усам он уделял почти столько же внимания, сколько детям. Мы говорили о гражданской войне. Узнав, что я сражался с красными под Киевом, он рассказал о трудностях крымской кампании. Он заявил, что не покинет Россию, пока не погибнет сам или не убьет Троцкого. Он первоначально собирался сойти с корабля в Севастополе, но стало невозможно предугадать, какая из сторон будет контролировать город в день нашего прибытия.
– Нам остается только надеяться, – сказал он.
Миссис Корнелиус, великодушная, как всегда, сочувственно выслушивала всех наших спутников. Иногда, чтобы сменить обстановку, мы сидели на палубе, закутавшись в пальто, в то время как другие пассажиры пытались совершать то, что они называли прогулкой.
– Б’дняги, – доброжелательно удивлялась миссис Корнелиус. – И ка’ово черта с ими струслось?
Их прогулка сводилась по большей части к тому, чтобы держаться за ограждение одной рукой, прижимая одежду другой, и выжидать, когда судно наклонится в желательном направлении; тогда им удавалось сделать несколько неуверенных, мелких шажков, пока корабль не бросало в противоположную сторону, – после этого пассажиры переводили дух и пытались уцепиться за ближайшую опору, какая только им подворачивалась.
– Они ’обще тьперь не знат, кто они и шо они, так?
Многие из этих беженцев, казалось, никак не могли прийти в себя от удивления. Да я и сам был несколько сбит с толку. Никто и никогда не понимает, насколько тесно личность связана с прошлым, или страной, или даже с какой-то улицей в каком-то городе, пока его насильно не оторвут от родного окружения. Я, в свою очередь, все сильнее привязывался к своим черным с серебром казацким пистолетам. Они всегда лежали в глубоких карманах черного пальто с медвежьим воротником. Я часто ощупывал их внушительные рукояти. Я не испытывал к ним никакой сентиментальной привязанности, ведь они принадлежали неотесанному бандиту, и случай, в результате которого у меня оказались, был болезненным и оскорбительным воспоминанием. И все же они стали для меня напоминанием о России.
Плохая погода задержала судно на два дня. В конце концов снегопад сменился дождем со снегом, небо слегка расчистилось, потом море успокоилось, и мы смогли рассмотреть и горизонт, и береговую линию. Мистер Томпсон объявил, что мы приближаемся к Крымскому полуострову, хотя не увидим Севастополя до утра. Мы остановились и ожидали радиограммы с подтверждением того, что можно безопасно встать на якорь. Миссис Корнелиус отправилась на корму корабля, чтобы отыскать одного из младших офицеров, Джека Брэгга, который был почти комично увлечен ею. Она вернулась с его биноклем. Так мы смогли осмотреть побережье. Примерно через час я увидел силуэты всадников, мчавшихся на запад; я слышал залпы тяжелых орудий, но не мог опознать наездников и определить, кто ведет обстрел. Когда миссис Корнелиус забеспокоилась, я сказал ей, что мы находимся вне зоны досягаемости орудий, принадлежащих красным. Кавалеристы исчезли, стрельба затихла. Море становилось все спокойнее, погода улучшалась. В сумерках мы узнали, что скоро можно будет продолжить путь.
После обеда миссис Корнелиус решила нас развлечь. Взяв за руки мистера Томпсона и Джека Брэгга (его руки оказались по-девичьи тонкими, как у многих молодых англичан), она танцевала вокруг стола, напевая «Человека, который сорвал куш в Монте-Карло», пока не упала. Я снова помог ей добраться до койки, а потом вскарабкался на свою полку и лежал с открытыми глазами, погруженный в меланхолию и тяжелые раздумья. Мне уже приходило в голову: может, стоит сойти на берег вместе с казаком-майором и сразиться с красными. Идея была нелепой. Очевидно, мой долг состоял в том, чтобы остаться в живых, использовать свои мозги и способности в изгнании, где я мог наиболее эффективно бороться с большевиками. Никто не назовет это решение трусливым. Даже мой командир в Одессе ни на мгновение не усомнился во мне. Поражение белых, в конце концов, было решительно неизбежно. Мне следовало остаться на борту. И все же призрак Эсме, призрак того, чем была Эсме и что она воплощала, продолжал преследовать меня. Он смущал мой разум, звал меня в Россию. С какой стати мне любить свою страну, спрашивал я ее, если снисходительность царя, его глупая терпимость ко всему иностранному и экзотическому, вместе с предательством евреев привела меня в нынешнее тяжелое положение? Россия могла бы стать великой. Все ее богатства могли послужить установлению блестящего, образцового нового мира. Вместо этого моя страна находилась в паре миль от меня – смертельно раненная, погибающая. Она дрожала в агонии, раздираемая волками и шакалами, дравшимися за ее останки. Изнасилованная, она больше не могла кричать; ограбленная, она даже не могла жаловаться. Я написал всем и предложил великолепную альтернативу этому положению. То видение было тонким, ярким силуэтом за вьющимися клубами черного дыма и нездоровыми отблесками огня; прекрасное видение – совершенные массивные башни, изящные дирижабли, мир и здравомыслие, исчезновение голода и болезней, идеальный мир для разумных, образованных, здоровых людей. Новый Санкт-Петербург мог бы буквально вознестись над старым: летающий город из стали и стекла. Как легко можно было бы воплотить их в действительность, те планы, которые исчезли вместе с моими вещами!
В ту ночь, когда «Рио-Круз» покачивался на якоре в неспокойных водах близ Севастопольской гавани, оставаясь легкой добычей для всех мин, установленных у входа в бухту, я заставил себя отказаться, по крайней мере на время, от мечты об абсолютном славянском возрождении. Когда рассвело, я, выспавшись еще хуже, чем обычно, принял укрепляющую дозу кокаина (предварительно убедившись, что миссис Корнелиус не проснулась и не видит меня, – она не одобряла этого дела) и вышел на палубу. В туманном зареве провидица с зеленой кожей уже раскладывала свои карты. Она не обернулась, когда я прошел мимо. Все было спокойно и тихо, только шумела вода и шелестели карты. На побережье я сумел разглядеть невысокие заснеженные холмы, смутные очертания зданий под мрачным серым небосводом. Судно все еще слегка раскачивалось, но его движения были уже достаточно слабыми. Закутавшись в бушлат, спрятав руки в карманы и натянув кепку на самые уши, Джек Брэгг присоединился ко мне у поручней.
– Думаю, мы уже рядом, – сказал он. – Слава богу, видимость теперь немного лучше. Я не представлял, как мы пройдем вслепую мимо всех этих мин. Раньше впереди ничего нельзя было разглядеть. – Из его рта вырывался пар. – Кажется, ничего особенного не происходит. Полагаю, это добрый знак.
Через пару минут, когда начали поднимать якорь, Брэгг возвратился к своим обязанностям, а я остался на месте. Мы приближались к Севастополю, и я вскоре разглядел вход в гавань, где зловещая линия бакенов указывала на заградительную полосу. За бакенами я смог различить несколько низких новых зданий, очевидно пустых. Нигде не обнаруживалось ни единого человека, ни корабля, ни дыма из труб. И ни единого звука. Самая большая военная гавань Черного моря казалась абсолютно пустынной.
Без военно-морской охраны, которая могла бы предупредить нас о потенциальной опасности, и без шкипера, который провел бы нас мимо мин-ловушек, у корабля, похоже, было мало шансов благополучно войти в гавань, но «Рио-Круз» продолжал двигаться вперед к бакенам. Я вцепился в поручень, готовясь к взрыву, который неминуемо должен был последовать, но мы как-то проникли в гавань. Несколько минут спустя мы обошли мыс и увидели серый силуэт британского военного корабля – единственного судна в пределах видимости. На линкоре нас, похоже, не заметили, и я решил, что корабль тоже покинут. Мертвая тишина окутала безлюдные холмы и город у их подножия. Внезапно чайка взмахнула крылом – это было неожиданно, пугающе и неприятно. Ни на земле, ни на воде мы не видели никого, за исключением нескольких птиц: пустыня из снега и льда, как будто Зимний король прошел, не оставив ни единой живой души, которая смогла бы выдержать встречу с ним.
«Рио-Круз» бросил якорь между линкором и огромным главным причалом. К тому времени на палубу вышли многие пассажиры. Их, как и меня, поразила тишина. Они тихо и озадаченно переговаривались. Джек Брэгг прошел мимо меня, усмехнувшись:
– Похоже, принимают нас получше, чем во время прошлого визита англичан в Крым!
В центре города стояли довольно высокие дома – в семь или даже восемь этажей, по большей части знакомого неоклассического образца, но кое-где сохранились и более старые, типично славянские кварталы, с блестящими куполами церквей и соборов, барочными административными зданиями, чаще всего из желтого известняка. Они напомнили мне о родном Киеве. Укрепления Севастополя были крепкими и с виду неповрежденными, но никаких флагов и вымпелов мне разглядеть не удалось. Качая головой, рядом со мной прошел майор Волишаров. Он пристально разглядывал берег, как будто смотрелся в зеркало, и механическим жестом сжимал маленький прыщ на левой щеке; потом начал приглаживать усы указательным пальцем. Он напоминал мне садовника, аккуратно подстригающего любимый куст.
– Вы знаете Севастополь, майор?
– О, очень хорошо. – Он указал куда-то влево. – Все самолеты исчезли. Там был аэродром. Ничего не осталось. И сигнальная станция покинута. – Он пригладил рукой усы. – Я видел такое и раньше. И все же завтра и красные, и белые могут вернуться, начнутся бои на улицах, а на пристанях появятся беженцы.
– Вы все еще надеетесь сойти на берег?
– Нет, нет. Здесь теперь как в Ялте. Разве эта тишина не ужасна? Когда замечаешь такое, то можно быть уверенным: где-то поблизости гора трупов. – Он расправил усы. – Как будто здесь появилась чума. И повсюду будет то же самое через год или два. Вся Россия вымерла.
Мы услышали, как слабый ветерок шумит в оснастке, как он раскачивает потрепанные флаги, бьющиеся о мачты. Потом до нас донесся звон корабельного колокола – начинался обед.
Примерно в час тридцать в порту послышался шум, и некоторые из нас, включая миссис Корнелиус, вышли из салона. От большого желтого причала отходил старый паровой катер. Он хрипел и плевался, как те лодки, за которыми я часто наблюдал летом, когда отдыхающие в Одессе отправлялись на прогулки, или как те речные пароходы, которые я когда-то чинил для армян в Киеве. Из трубы валил густой черный дым, а двигатель издавал такие звуки, словно его части были скреплены только древними остатками застывшей нефти. На корме стоял русский офицер средних лет в зеленом пальто и каракулевой шапке, его лицо побелело от холода. На носу катера застыл французский пехотный капитан. На нем была полковая фуражка, но при этом он весь закутался в лисью шубу. Британский моряк в обычной форме, стоявший у руля, с удивительной ловкостью подвел судно прямо к нашему кораблю. Офицеры ухватились за веревки, сброшенные членами нашей команды. Когда катер пришвартовался, они взобрались по лестнице и обменялись приветствиями с капитаном. У меня сложилось впечатление, что в Севастополе не осталось живых людей, кроме этих троих. Некоторые из наших матросов спрашивали о чем-то рулевого, но я не мог разобрать его ответов. В тот момент британский линкор, теперь находившийся у нас за кормой по правому борту, подал признаки жизни. Он был полускрыт туманом, и потому резкий звук боцманского свистка произвел еще большее впечатление. Потом один раз взвыла сирена. Ощущение полнейшего одиночества слегка развеялось. Люди начали заговаривать с русским офицером, справляясь о судьбе родственников, о новостях с фронтов гражданской войны. Они хотели узнать, что творилось в порту, но офицер просто пожал плечами и скрылся в капитанской каюте.
Через несколько минут мимо нас прошел мальчишка-поваренок с дымящимся подносом – он понес в каюту еду.
– Они нитшего не ели всью недьелю, – сказал поваренок миссис Корнелиус, которая ухватила его за руку. – Я не думать, тшто мы будьем тут долго, миссус.
Мы отправились в салон – присесть и выпить водки, а вокруг нас немногочисленные торговцы и бывшие князья обсуждали, что означает затишье в Севастополе. Примерно час спустя я увидел мистера Томпсона. Он ненадолго задержался и сообщил, что белые пытались удержать красных на Перекопе. Мы опоздали на день – или прибыли днем раньше, чем следовало. Линкор «Мальборо», как предполагалось, должен был орудийным огнем поддерживать белых во время атаки на город. Но Севастополь захватили прежде, чем корабль вошел в гавань. Потом разнеслись слухи о прорыве большого отряда красных, белые и большинство гражданских бежали. «Мальборо» не получил никаких приказов и стоял на якоре, ожидая распоряжений. Тем временем несколько человек на борту заболели – похоже, свинкой; корабль оказался в карантине. В городе все еще оставались беженцы. Офицеры прибыли к нам, чтобы выяснить, сколько человек мы сможем взять на борт.
– Мы будем держать машину на ходу, чтобы отплыть, если понадобится, в течение часа. Вероятно, мы возьмем раненых.
Воспользовавшись биноклем Джека Брэгга, мы с миссис Корнелиус снова осмотрели город. Магазины явно разграбили в первую очередь. На стенах я видел знакомые плакаты – и белогвардейские, и большевистские. Иногда какой-нибудь старик мчался от одной двери к другой. Я заметил двух собак, которые спаривались на причале, как будто понимая, что здесь самая многочисленная аудитория, какую они могли отыскать. На некоторых зданиях остались следы от артиллерийского обстрела, но особенно ужасных повреждений мы не заметили. Я видел много городов, опустошенных войной, но ни одного, в котором так быстро исчезло бы все население. Было очень трудно понять, куда могли подеваться люди. Чуть позже у причала остановились три гужевых фургона с яркими красными крестами на холщовых навесах. Оттуда вынесли раненых, которых уложили в старый паровой катер; он совершил несколько рейсов и в конечном счете доставил на борт около тридцати человек. Тем временем серый туман опустился на город. Прошел еще час. Потом доставили какое-то богатое семейство вместе с прислугой. Эти люди заняли последнюю отдельную каюту, которая была свободна. Высокие, величавые посетители прикрывали лица воротниками.
Мы предположили, что наши пассажиры – члены царской фамилии. Ни мистер Томпсон, ни Джек Брэгг не смогли нам ничего сообщить о них, молчал и капитан Монье-Уилльямс. Еду этим гостям относили в каюту. В сумерках мы подготовились к отплытию. Все русские солдаты были очень молоды; те, которые могли ходить, обедали с прочими пассажирами. К ним относились как к героям. Они, очевидно, не ели как следует уже в течение многих месяцев. Они сказали, что сражались вместе с британской военной миссией. Еще один отряд черной сотни все еще оставался где-то между Севастополем и Перекопом. «Мальборо», несмотря на карантин, должен был эвакуировать казаков, если они сумеют добраться до гавани.
Миссис Корнелиус, как обычно, почти тотчас начала болтать с солдатами, подмечая, у кого плохо перевязаны раны, кому нужно написать письма и так далее. Она также очень много узнала о положении дел. Ей стало ясно, что белые вряд ли выстоят. В ту ночь, прежде чем мы заснули, она долго смеялась:
– Я чувствую ся Флоренс, черт ее дери, Найтингейл![9]
На следующее утро, к тому времени, когда я встал, мы уже снимались с якоря и готовились отправиться в путь. Севастополь на рассвете был все еще окутан туманом, и единственное, что мне удалось рассмотреть, – главный причал. Когда поднялось солнце, начали появляться силуэты людей. Они выступали из тумана, как призраки мертвых, завернутых в саваны. Потом появились лошади, тянувшие фургоны, груженные картофелем и другими овощами, словно жизнь продолжалась, как обычно, и хозяева фургонов собирались торговать на рынке. Существа с тележками, в которых лежали морковь и капуста, направлялись к кораблю. Я слышал их выкрики. Все это представлялось мне зловещим, хотя они вполне могли оказаться всего лишь невинными крестьянами, пытавшимися продать нам свой урожай. Однако я ожидал, что они в любой момент могут отбросить овощи и вытащить пулеметы. Мы развернулись, двигаясь к выходу из гавани; люди все больше волновались, они подпрыгивали и размахивали руками. Загудела сирена – как будто в ответ на их призывы, а потом мы миновали по-прежнему безмолвный «Мальборо», обошли бакены и направились в открытое море.
На следующем этапе путешествия мы не удалялись от побережья, по-видимому, столь же безлюдного, как Севастополь. К вечеру мы достигли Ялты, королевы Черного моря, которая выглядела великолепно в лучах заходящего солнца. Казалось, город переживал свои лучшие дни. С виду Ялта представлялась совершенно обычной: модный курорт в межсезонье, окруженный роскошными холмами, поросшими лесом и покрытыми снегом. Весь город как будто состоял из одинаковых гостиниц и немного напоминал небольшой, как бы сжатый Санкт-Петербург. Мы находились недалеко от берега, и я мог легко разглядеть людей всех сословий, лошадей, автомобили, солдат. Ялту не обстреливали, город мог прокормить свое население. Отели вдоль берега были похожи на собрание вдовствующих дам, чопорных, великолепных и ухоженных. Все намеки на бедность и что-либо неблагоприятное скрывались на глухих задворках.
Вскоре навстречу нам вышли катера белых под императорскими флагами, и опытные моряки, вежливые и педантичные, помогли некоторым из наших пассажиров сойти на берег. Майор Волишаров на время передал детей под опеку украинской семьи и отправился в город, чтобы отыскать свою невестку и получить дальнейшие указания от командования. Раненых выгрузили. Мне показалось, что они не хотели покидать судно. Катера вернулись в порт, и немного спустя, когда солнце уже стало пригревать, начали доставлять ящики, по-видимому, с боеприпасами; ящики складывали в трюм. Затем появились новые пассажиры, в основном женщины аристократического происхождения с детьми; их мужья и отцы погибли или остались на берегу, чтобы сражаться с красными. Особенно сильное впечатление на нас с миссис Корнелиус произвела пара очень странных спутников – греческий священник и католическая монахиня, оба очень высокого роста. Он был бледен и испуган, она улыбалась, щеки ее покрывал здоровый румянец.
– ’охоже, она ’олучила немного то’о, шо ей нра’ится, – заметила миссис Корнелиус, подмигнув мне.
Я был еще слишком молод, чтобы равнодушно выслушивать подобные замечания, поэтому смутился и начал пристально разглядывать берег.
Царское семейство посещало Ялту каждое лето. Мысль о том, что замечательные виллы, усаженные деревьями улицы и парки, дворцы и сады могли в конце концов исчезнуть под огнем артиллерии красных, представлялась невероятной. Даже большевики должны чтить такую красоту, казалось мне. Я был настолько уверен, что они не пожелают разрушать Ялту, что снова почувствовал желание забрать багаж и покинуть корабль. Ялта находилась в осаде. Город пережил ужасные потрясения и все же выглядел по-прежнему гордо и беззаботно, как великолепный аристократ восемнадцатого столетия, просто отказывающийся признать присутствие санкюлотов Робеспьера в своем доме. Ялта одновременно напоминала о прекрасном прошлом и обнадеживала в настоящем – истинная цитадель хорошего вкуса и изящества. В самой ауре этого города есть то, что, несомненно, воспротивится любой попытке завоевания. Конечно, через несколько месяцев Деникин и Врангель покинули Ялту; британцы и французы также предоставили город его собственной судьбе, и красногвардейцы мочились в ялтинские фонтаны, облегчались на клумбах и блевали на улицах. С тем же успехом я мог бы ожидать, что Антихрист признает святость деревенской церкви.
У этих большевиков было врожденное стремление к разрушению, неприкрытая ненависть ко всему прекрасному, непреодолимое желание уничтожать все самое изящное и культурное в России. Они опустошили Севастополь – и точно так же опустела и умолкла Ялта. Еще через год онемела и целая страна. Теперь Сталин мог остановить все движение и все разговоры, запретить пение птиц в лесу и блеяние ягнят в полях.
Пришел Зимний король. Сталин погрузил своих подданных в сонное неведение, он заморозил их сердца – и все чувства стали невозможными. Те же мужчины и женщины, которые в 1917‑м кричали на улицах, срывая голоса, в 1930 году боялись даже перешептываться в уголках собственных комнат: Зимний король не выносил шума. Даже слабый перезвон сосулек его беспокоил. Он дрожал в своих ужасных покоях, он боялся, что какой-то шепот напомнит ему о преступлениях, он подозревал, что всем прочим свойственна такая же жестокость; его сон мог прервать даже мотылек, коснувшийся крылом уродливого лица. Тогда король проснулся бы и, задыхаясь, продиктовал бы своим палачам приказ: все мотыльки – предатели, всех их следует уничтожить к утру.
Майор Волишаров вернулся на корабль с неряшливой женщиной лет сорока. Он называл ее тетей. Нам ее представили, но я не расслышал имени и не нашел возможности переспросить. Майор, казалось, теперь уделял еще больше внимания своим усам, как будто ожидая возвращения к служебным обязанностям. Он пожал мне руку и попросил продолжать борьбу за белое дело, где бы мне ни случилось оказаться. Я дал ему слово.
– Это хуже, чем в тысяча четыреста пятьдесят третьем[10], – сказал он. – Если бы христиане поверили императору и послали ему помощь, то Константинополь никогда не пал бы. – Он обернулся и посмотрел на Ялту, с виду нерушимо спокойную. – Это дело – на совести всех христиан. Скажите им это.
Я смотрел, как он поцеловал на прощание детей, еще несколько раз пригладил усы, а затем отправился на катер вслед за ординарцем, который нес чемоданы.
Таинственная семья аристократов сошла на берег, и их каюту заняла женщина с маленькой дочерью и служанкой. Женщина была удивительно хороша собой, она немедленно привлекла мое внимание. Вскоре после того, как доставили багаж новой пассажирки, судно вновь отправилось в путь. Час спустя пошел снег. Ялта, подумал я, отпустила нас с сожалением, но без жалоб.
Ялтинские беженцы были в целом гораздо приличнее тех, которые сели в Одессе. Они не теряли присутствия духа и спокойно относились к происходящему. Они принесли с собой новую атмосферу товарищества и дружелюбия. Разочарованные торговцы и их слезливые жены вскоре устыдились. Когда мы провели в море около суток, погода улучшилась, волны стали слабее, и моя собственная скорбь о расставании с прекрасной Ялтой, брошенной на произвол судьбы, вскоре угасла – на палубе звучали голоса и крики играющих детей, у меня наконец появилась возможность насладиться приятной беседой с людьми моего интеллектуального уровня, появились и женщины, которые, оставшись вдали от мужей, были рады немного повеселиться и пококетничать с красивым молодым человеком. Я начал лелеять некоторую надежду, что мое ужасное воздержание может вскоре прерваться, пусть и ненадолго.
Ради этого я стал великим создателем бумажных самолетиков и лодок и добился огромной популярности. Я получал невинное удовольствие от ребячьей радости – они восхищались плодами моего труда, а я забывал о собственных проблемах. Моя дружба с маленькими Борями и Катями приводила к близкому общению с их нянями и матерями, которые говорили, что я прекрасно обращаюсь с детьми, и расспрашивали о моем прошлом. Я многозначительно упоминал об аристократических связях, об учебе в Петербурге, о военной службе и особой миссии.
Тогда было неблагоразумно рассказывать слишком много. Шпионы большевиков уже появились среди беженцев. Я не хотел надевать ни один из своих мундиров, но пояснял, что сразу после прибытия в Лондон займусь вещами, которые имеют огромное значение для белого дела. Наконец я позволил себе намекнуть, что мы с миссис Корнелиус родственники, но не муж и жена. На самом деле я холостяк.
Единственный случай, который нарушил это приятное времяпровождение, произошел на вторую ночь после отъезда из Ялты. Я совершал свою обычную прогулку и только что миновал рулевую рубку, возвращаясь в бар, и тут увидел бледную фигуру человека, прижавшего ко рту носовой платок. Он резко отступил в одну из частных кают, как будто пораженный. На мгновение я решил, что это Бродманн, еврей, который угрожал предать меня в Одессе и который стал свидетелем моего унижения в Александровске, когда я пал жертвой казака-анархиста. Я почувствовал приступ слабости. Мой желудок, казалось, сжался. Я даже произнес его имя.
– Бродманн?
Дверь захлопнулась; ее тотчас же заперли изнутри.
Неужели предатель и трус сумел пробраться за мной на корабль? Это было невозможно. Я видел, как его арестовали. Может быть, я испытал нечто вроде галлюцинации? Я несколько раз видел Бродманна во сне. Мне снилось множество ужасов последних двух лет. И теперь, в состоянии крайней усталости, я мог спутать фантазию и реальность. Я понимал, что Бродманну никак не удалось бы сбежать и успеть на отходящий корабль. Меня просто одолели кошмары прошлого. Я немедленно отправился к себе в каюту и постарался уснуть.
Следующим утром я вел себя как обычно: встав, я поприветствовал детей, поболтал с их матерями, занялся изобретением новых игр на палубе, посочувствовал молодым женщинам, которые покинули своих возлюбленных, оставшихся воевать на Кавказе, выслушал вдов, мужья которых отважно погибли за царя и Отечество, и высказал несколько предположений насчет того, что вскоре откроются новые обстоятельства, большевики навсегда сгинут и в Петрограде восстановится законное правительство.
Я изгнал из своего сознания всякое воспоминание о Бродманне. Мне посчастливилось повстречать пару человек, которые знали князя Николая Федоровича Петрова, моего Колю. Мы поговорили об общих знакомых. Мы вспомнили старые добрые деньки, побеседовали о родственниках Коли и о войне. Я приобрел огромное значение в их глазах, когда они узнали, что я был вместе с кузеном графа, Алексеем Леоновичем, в «эртце», который рухнул в море близ Одессы, когда пилот погиб, а я был ранен. Это обеспечило мне звание военного героя, рыцаря воздуха – в итоге я получил небольшую компенсацию за свои страдания.
Женщина, проявившая ко мне в конце концов самый сильный интерес, оказалась тем прекрасным созданием, которое заняло освободившуюся каюту. Ей было около тридцати лет, она говорила по-русски, но носила фамилию мужа: баронесса фон Рюкстуль. Ее мужа, немца, владельца фабрики, сына колониста, застрелили харьковские рабочие в 1918 году после того, как Скоропадский сбежал в Берлин. Сама баронесса была не немкой, а настоящей славянской красавицей с большими сине-зелеными глазами, широким ртом и густыми темно-рыжими волосами. Она предпочитала элегантную и простую одежду, в основном платья и накидки консервативных темно-зеленых, красных и синих оттенков, которые ей превосходно шли и добавляли привлекательности. Единственной женщиной на «Рио-Крузе», которая могла ее затмить, оказалась ее же дочь (должен признать, что именно она и привлекла сначала мое внимание). Девочка унаследовала от матери цвет глаз и форму лица, но ее окружала аура уязвимости и отважного любопытства, которая очаровывала меня с детства. Это было у Эсме и это было у Зои. Есть нечто замечательное в молодых девушках, наделенных подобными качествами. Они пробуждают в мужчинах одновременно самые разные чувства – похоть, счастье, уверенность, стремление защищать. Маленькой девочке исполнилось одиннадцать, ее звали Катерина, но на корабле все обращались к ней: «Китти». Когда новые пассажиры впервые появились на палубе, баронесса казалась грустной и рассеянной и оживлялась лишь изредка – когда ее забавляли выходки дочери. Она никогда не ругала Китти. Эту обязанность возложили на няньку, Марусю Верановну, суровую старую женщину с ястребиным носом и толстыми губами, которая в обществе прочих пассажиров выглядела белой вороной. Она вызывающе смотрела на всех, кроме своей подопечной, и относилась к происходящему в путешествии с явным отвращением. Уже на второй день она начала возражать против того, что Китти избрала меня своим лучшим другом; наконец баронесса прямо приказала ей не вмешиваться.
Мы с Китти быстро подружились, но с ее матерью и служанкой я почти не общался, за исключением дежурных фраз. Встречая их на палубе, я приподнимал шляпу – мы были друг с другом равнодушно-вежливы. Конечно, никто не назвал бы извращенной мою привязанность к ребенку! В своем отчаянном состоянии я довольствовался малым: иногда гладил девочку по щеке или придерживал за плечо, когда набегала особенно сильная волна. Несомненно, мое желание усиливалось. Я теперь мечтал о Китти днем и о миссис Корнелиус ночью! Лишившись моего общества, миссис Корнелиус большую часть времени проводила с юным Джеком Брэггом. Если бы я был склонен к ревности, то мог бы заподозрить романтические интересы, но я знал, что миссис Корнелиус не предаст доверия своего француза. Поэтому не возникало и никаких вопросов насчет того, что я делаю какие-то там сексуальные авансы маленькой девочке. Я мог совладать со своими чувствами (и кроме того, Китти происходила из приличного семейства – было бы настоящим безумием рисковать и устраивать скандалы). Во всяком случае, заметив возрастающий интерес со стороны баронессы, я начал подумывать о том, чтобы обратить свои чувства на мать, а не на дочь. Это оказалось не слишком трудно, так как баронесса оставалась исключительно красивой и замкнутой женщиной. Я знал, что она чувствовала, по крайней мере, нечто вроде стремления к состязанию, которое испытывают очень многие матери, когда мужчины проявляют интерес к их дочерям. Ирония заключалась в том, что они склонны демонстрировать особое расположение к людям, ухаживающим за их юными чадами, пока не становится очевидным, что у них нет никакого шанса завоевать поклонника, после чего, конечно, они становятся воплощениями ярости, тигрицами этики, хранительницами закона. И пока я продолжал ухаживать за юной Китти, болтать с нею, шутить, буквально носить на руках – мои мысли были заняты соблазнением баронессы. Слава богу, я вполне сознательный и честный человек, тогда еще не особенно гордившийся своими достижениями в подобных делах, – хочу вам напомнить, что мне еще не исполнилось и двадцати лет. Я привык к полноценной сексуальной жизни, поскольку провел несколько месяцев в публичном доме в качестве особого гостя. Вдобавок я в глубине души надеялся, что однажды в море смогу насладиться близостью миссис Корнелиус. Такому мальчику, как я, было необходимо теплое женское общество ночью, чтобы забыть о страданиях, связанных с расставанием со святой Россией, ибо русский и его земля – это нечто единое, разделить их означает оторвать плоть от плоти, как будто украсть самое главное. Лишь немногие русские добровольно уезжали за границу. Почти все мы не можем смириться с изгнанием, и именно поэтому наши действия так часто истолковывают превратно. Я вовсе не растлитель детей! Эти глупые лондонцы не в силах понять печаль старого бездетного человека. Почему я должен считаться с предупреждениями их судей? Я просто хочу дать немного любви и немного получить взамен. Я не предавал ее доверия. Наоборот, она предала меня. Они всегда так поступают.
Почему они избегают меня теперь, когда я готов дать им все, чего они хотят? Разве я насильник или развратник? Мои чувства навеки обращены к благородным силам добра. То, что мы творили в Петербурге в 1916‑м, во всем мире теперь считают новым и свободным. Нам рассказывают по телевидению, что любить – это не преступление, независимо от возраста или пола. Именно так мы и жили. Коля научил меня ценить все стороны сексуальности без малейшего предубеждения. Если нет этических оснований или чувства ответственности – это не любовь. Почему этого не понимают люди, которые пытались сбить меня с пути? Они боялись меня, они ревновали к моей поистине прометеевой живучести. И они связали меня, заткнули мне рот и наслали на меня мелких птах, которые клюют мою плоть. Тридцать лет я был у них в плену, за мной следили, меня испытывали, меня преследовали слабоумные бюрократы, а ведь именно я мог их спасти! Они вложили мне в живот кусок металла. Es tut mir hier weh[11]. Они вложили мне в живот железо, и я никогда не прощу их. («Нишо у тьбя ’нутри нет, окромя старо’о сердца», – говорит миссис Корнелиус. Она добрая. Она думает только о хорошем. Но кто же сделал меня настоящей шлюхой? Кто отнял у меня все, даже имя?) Когда они сталкиваются со мной, то видят только несчастного старика, беспаспортного владельца магазина, но в 1919‑м на «Рио-Крузе» мной восхищалась сама миссис Корнелиус: «Иван, ты умешь обращаться с леди, ’кажу я тьбе». Я мог бы заполучить дюжину прекраснейших благородных дам. Я выбрал баронессу, потому что она была старше. Я полагал, что она окажется более искушенной и не допустит нежелательных осложнений. Вдобавок я понимал, что помимо физической привлекательности важна и личная заинтересованность. У баронессы она была: в Константинополе ей следовало получить транзитную визу в Берлин, и она предположила, что именно я стану тем человеком, который окажет ей наибольшую помощь. Ее муж не был немецким гражданином. В 1885 году его отец принял российское подданство. Она, конечно, была русской. У нее остались в Берлине какие-то дальние родственники, которые уже предложили ей убежище, и она неплохо говорила по-немецки. Безопасность ребенка, по крайней мере, в Германии была бы обеспечена. Все это я выяснил, когда по предложению баронессы мы стали вместе пить кофе по утрам, а потом и чай днем.
Я по-прежнему обедал за офицерским столиком в дальнем углу столовой, но уходил пораньше, чтобы четверть часа прогуляться по палубе с баронессой, потом она отправлялась отдыхать.
Бродманн, если это был он, больше не появлялся. Я решил, что все попросту придумал. Однако я почувствовал бы себя намного легче, если бы судно бросило якорь в Константинополе и мое путешествие в Англию практически завершилось бы. На борту собралось слишком много злоязычных людей, уже не говоря о Бродманне; слишком много потенциальных врагов могли распускать ложные слухи о моем прошлом. По правде говоря, имелись у меня и союзники, и баронесса входила в их число. У нее было очаровательное, задумчивое и печальное выражение лица, типично русское и какое-то успокоительное. Ее голос звучал низко, тепло и музыкально, все ее фразы обычно заканчивались многоточиями и многозначительными паузами. Я понимал таких женщин, понимал их романтические устремления, я заставлял баронессу улыбаться, отпуская насмешливые замечания, одновременно сочувственные и философские. Мы постепенно сближались.
– Вы поразительный собеседник, Максим Артурович… – сказала баронесса однажды вечером, когда мы стояли на палубе, вслушиваясь в плеск волн. Она улыбнулась. – Полагаю, вы тоже пишете стихи.
– Моя поэзия, Леда Николаевна, заключена в определенных сочетаниях стали и бетона, – ответил я. – В том, чего можно добиться с помощью винтов, рычагов и поршней. Я прежде всего ученый. Я не думаю, что человек сможет достигнуть совершенства, если не добьется полного контроля над окружающим миром. Для меня поэзия – гигантский самолет, который может в одно мгновение взлететь в воздух и преодолеть бесконечные расстояния, приземляясь везде, где пожелает пилот. Поэзия – та свобода, которую обеспечивает нам техника.
Это произвело на нее впечатление.
– Я не претендую на такую проницательность, Максим Артурович, но действительно иногда пишу стихи. Для собственного развлечения.
– Вы покажете их мне?
– Возможно.
Она пожала мне руку, слегка зарделась, а потом быстро удалилась в каюту, которую делила с дочерью и служанкой.
Увлеченный этим нежным флиртом, я едва заметил, как корабль достиг Феодосии. Здесь выгрузили раненых и боеприпасы и взяли на борт группу грузинских офицеров, которые держались отдельно от всех остальных, курили чудовищные трубки и говорили на каком-то диковинном языке.
Мы встали на якорь возле полудюжины других судов, довольно далеко от берега. Было трудно разобрать детали побережья, уже не говоря о порте, и все же каждый раз, когда ветер дул от берега к морю, до нас доносился запах свежескошенной травы, его происхождение объяснить никак не удавалось. Моя баронесса романтически утверждала, что это «первые ароматы весны», но кто-то другой сказал, что так пахнет лошадиный фураж, еще кто-то заявил, что это негашеная известь. Грузины, с молчаливым безразличием относившиеся ко всем гражданским лицам, этим вопросом не интересовались. В отличие от Севастополя, в Феодосии корабли русских и союзников приходили и уходили очень часто. Порт напомнил мне Одессу в ее лучшие годы. Город до сих пор оставался одним из крупнейших центров подлинного сопротивления. Возможно, именно поэтому грузины так не хотели уезжать. Они стояли, выстроившись в ряд у поручней по правому борту, изучая горизонт и наблюдая, как дым из труб военных кораблей низко стелется над водой цвета металла. Я предположил, что они остались недовольны полученными приказами. Когда корабль отошел от берега, все они перебрались на корму и впились взглядами в клубы темного дыма, которые поднимались вверх, как ряды берез, что порой внезапно появляются в украинской степи и на первый взгляд кажутся чудом природы и указывают на близость населенного пункта. А когда порт скрылся за горизонтом, грузины разбрелись по палубе небольшими группами, смахивая брызги водяной пыли, которые попадали на их потертые зеленые одеяния. Когда им пытались как-то помочь, они встречали эти попытки с негодованием, а иногда просто грубили в ответ, как будто мы были в ответе за их бедствия. Возможно, они хотели отправиться в Батум[12]. К нашему превеликому облегчению, выяснилось, что вместо этого они должны сойти на берег в Новороссийске, во время нашей следующей остановки. Я сказал баронессе, что в своих форменных мундирах, в черных каракулевых шапках, с огромными моржовыми усами они казались точными копиями наших сельских почтовых начальников. Это замечание вызвало у баронессы смех – она даже в лучшие времена не слишком симпатизировала грузинам, но эти, похоже, сошли прямо со страниц иллюстрированного юмористического журнала. Несколько лет спустя я задумался, не в этом ли кроется разгадка успеха Дяди Джо – Сталина. Зачастую очень трудно ненавидеть воплощенные стереотипы. Это также стало одной из причин удивительно быстрого восхождения Гитлера. Он настолько напоминал Чарли Чаплина, что многие люди не могли относиться к нему серьезно. Грузины отбыли на следующий день в лихтере, который прислали специально за ними. Они были рады уехать; думаю, не слишком опечалились и те люди, которым приходилось убирать палубу, вытирая их мокроту.
В Новороссийск прибывало множество кораблей, и мы не смогли войти в гавань. Взяв бинокль Джека Брэгга, я увидел обыкновенный, но оживленный индустриальный и военный порт, очевидно, готовящийся к обороне накануне большого наступления. Впервые с тех пор, как мы уехали из Одессы, я смотрел на прилетающие и улетающие самолеты. Это были разные машины, некоторые – русские, некоторые – союзнические; очень многие были захвачены у немцев и австрийцев. Меньше чем за час я увидел «сопвит кэмелс», «альбатрос», «пфальц DII», целую эскадрилью бомбардировщиков «фридрихсхафен GIII», «армстронг витворт FK8», «бреге-мишлен IV», мощный самолет Сикорского «РБВЗ», несколько «капрони СА 5» и множество летательных аппаратов «FBA» модели «Н». Некоторые из самолетов я показал баронессе, у которой сложилось впечатление, что я долго прослужил в военной авиации. Я не видел смысла ее разочаровывать, ведь мои исследования в области авиации могли бы изменить ход войны и всю историю России. Мое близкое знакомство со множеством самолетов подтвердило ее предположение (как баронесса сообщила мне позже), что я, скорее всего, знаменитый ас, ушедший с действительной военной службы для решения еще более неотложных задач. Я ее не обманывал. Из моих немногочисленных обмолвок она сочинила свой собственный роман. Взволнованная баронесса сочувственно взглянула на меня:
– И вы отказались от свободы, которую даруют небеса?
– Это было самое восхитительное переживание. – Я сделал многозначительный жест. – Если бы проклятый «эртц» не рухнул, я мог бы еще остаться наверху, с теми парнями.
– Может, вам позволят поступить на воинскую службу. – Она прижалась ко мне. Она дрожала. Заяц вот-вот должен был стать добычей ястреба. – Когда вы закончите свои дела в Лондоне…
– Конечно, я скоро снова буду летать. – Мои чувства обострились, я был готов перейти в атаку. – Но, вероятно, в новой машине моего собственного изобретения.
Повсюду вокруг нас в бледных утренних сумерках разносился вой корабельных сирен. Сине-белый патрульный самолет «ганза-бранденбург FB» пронесся прямо над нами, двигатели ровно гудели, когда машина кружила над гаванью. Я буквально чувствовал, как согревается в жилах кровь, – самолет опускался все ниже. Австрийские флаги на нем были закрашены, но новые российские надписи еще, очевидно, не высохли как следует. Длинные полосы краски виднелись на блестящих нижних частях крыльев.
– Как красиво! – восторженно воскликнула баронесса, обращаясь ко мне, будто я был создателем самолета. – Словно огромная чайка. Вы когда-нибудь полетите со мной, если появится такая возможность?
Я сжал ее руку. Я чувствовал, как учащается пульс. Она была и напугана, и очарована.
– Конечно.
Бросив якорь близ Новороссийска, мы дожидались следующего груза. Мистер Томпсон сказал, что, по его мнению, это будут артиллерийские боеприпасы для Батума. Видимо, обнаружились ошибки в маркировке груза. Тем вечером я, как обычно, прогуливался по палубе с Ледой Николаевной. Когда она собралась вернуться к себе в каюту, я поцеловал ее. Теперь она нисколько не возмутилась.
– Я ждала, что вы это сделаете, – пробормотала она.
Баронесса наконец решила начать любовную интрижку. Мы снова поцеловались. У нас перехватывало дыхание, наши ноги дрожали так, что я думал, мы упадем на палубу. А пойти нам было некуда.
– Может быть, завтра, – прошептала она.
Я с трудом разжал объятия.
– Скажите няне, что у вас болит голова, пусть она уведет Китти из каюты до обеда, – сказал я. – Вдруг она заподозрит?
Баронесса была удивлена:
– А что она заподозрит? Я ее хозяйка.
Я позабыл, как велика была тогда уверенность русских дворян в собственной власти. Я возвратился в свою каюту. Вероятно, миссис Корнелиус осталась в салоне, потому что ее койка пустовала. Я прикурил сигарету и расслабился. Я лежал, не раздеваясь, чувствуя себя завоевателем, и предвкушал грядущие удовольствия. Потом я разделся и почти немедленно заснул. Я помню, что ненадолго проснулся на рассвете, услышав шум, – миссис Корнелиус, спотыкаясь и бормоча проклятия, пыталась раздеться. Свалившись поперек койки, она прошипела:
– Пидор, – потом увидела, что я открыл глаза, и пожала плечами. – ’рости, Иван. Не х’тела будить тьбя.
Я что-то проворчал прежде, чем вернулся к своим грезам; эти грезы были вещественнее и приятнее, чем все сны, которые я видел в последние месяцы.
На следующий день мы по-прежнему стояли на якоре, дожидаясь груза. Дул сильный северо-восточный ветер, и наш корабль качался, как привязной аэростат. Мне было неважно, где мы находились, поскольку в тот момент я лежал на страстной баронессе, которая гладила и царапала меня, нашептывая мне в ухо восхитительные невинные ругательства. Я обнаружил, что ей свойственна удивительная страстность юной девственницы. По правде сказать, я ожидал, что отыщу спокойную, расчетливую и относительно опытную, даже несколько осторожную любовницу.
Но баронесса фон Рюкстуль не была ни спокойной, ни осторожной. Она оказалась не слишком опытной, но хотела поскорее изучить все уловки распутства, и это прекрасно компенсировало все неловкости; впрочем, ее неловкость сама по себе была привлекательна. Я не смог бы подыскать более восхитительную партнершу, за исключением разве что миссис Корнелиус. И вдобавок, напоминал я себе, когда мой жадный язык облизывал ее соски, а пальцы слегка поглаживали клитор, у баронессы превосходные связи – мы могли быть очень полезны друг другу. Моя депрессия окончательно исчезла с началом нашей связи. Когда я в первый раз кончил в нее, будущее внезапно предстало в новом восхитительном свете. Баронесса, со своей стороны, была изрядно удивлена моими навыками, хотя и не могла скрыть любопытства, где же я набрался подобных знаний. Zolst mir antshuldigen[13], как мы говорим в России.
При звуке обеденного гонга мы поспешно оделись, скалясь, как счастливые псы. Я выскользнул из ее каюты. Все мое тело ликовало, в голове роилось множество великих замыслов, тысячи замечательных видений, сотни новых идей для наших любовных ласк. Тем вечером за столом я пребывал в самом лучшем настроении и поражал всех своим остроумием. Миссис Корнелиус наклонилась ко мне, подмигнула и прошептала:
– И шо с т’бой та’ое, Иван? Выиграл на б’гах?
Позднее мы с моей баронессой встретились на палубе, чтобы насладиться последним объятием, прежде чем разойтись по каютам. В глубокой темноте вдали от линии кораблей мы увидели вспышку огня и услышали отдаленный взрыв.
– Поджигатели, – сказал я, – без сомнения. Красные саботажники. Так они представляют себе войну.
– Какие ж они трусы!
Я согласился:
– Да, это верно, однако зачастую именно трусы выигрывают войны.
Она сочла это замечание слишком глубоким или слишком тревожным. Договорившись встретиться в то же самое время в ее каюте на следующий день, мы разошлись в разные стороны.
Я остановился возле мостика, закурил сигарету и посмотрел на далекие огоньки, которые гасли один за другим. Когда я устремил взгляд вверх, на палубе надо мной появилась какая-то фигура. Видно было плохо, и человек явно не хотел, чтобы его заметили. Он завернулся в платок или короткий плащ, негромко кашлянул и кивнул мне. Я присмотрелся повнимательнее. И вновь с моих губ сорвалось имя:
– Бродманн?
Если это был Бродманн, то он испугался меня сильнее, чем я его. Я рассмеялся:
– Чего вы хотите добиться, играя в привидения?
Человек натянул свой платок на плечи и скрылся с глаз. Я помчался по палубе, стараясь поскорее добраться до лестницы, по которой он должен был пройти, если собирался возвратиться в свою каюту. Но он двигался слишком быстро. Дверь оказалась заперта, и хотя на сей раз я барабанил в нее, света внутри разглядеть не удалось. Я не смог ничего расслышать, даже когда прижал ухо к вентиляционному отверстию, забитому старыми газетами.
Я отправился на поиски мистера Томпсона, чтобы спросить, когда, по его мнению, мы прибудем в Константинополь.
Глава вторая
На следующий день на борт подняли четыре гроба – четыре длинные деревянные коробки, вероятно, с боеприпасами. Мы покинули Новороссийск с новыми пассажирами: троицей пожилых русских женщин, глухим стариком, раненым британским капитаном и его санитаром-индийцем, итальянской медсестрой из Красного Креста. На нашем судне собралась одна из самых странных разношерстных компаний, какую только можно было вообразить. Мы плыли уже несколько дней. Теперь корабль направлялся в теплые края. Нашей последней остановкой в России должен был стать Батум. Настроение мое переменилось, и я уже с нетерпением ждал прибытия в Константинополь, путешествия по Европе и конечной остановки в Лондоне. Я хотел избавиться от Бродманна (или, скорее, от угрозы, которую он воплощал). Я хотел наслаждаться обществом баронессы, не думая о том, что мою идиллию могут прервать в любой момент. Я решил, что мне удастся добиться своего за несколько дней пребывания в Константинополе.
Восхитительные формы баронессы смешивались в моих фантазиях с более сложными формами корабля. И «Рио-Круз», и баронесса поражали меня: трепещущие, сильные, колеблющиеся животные, с которыми нужно обращаться умело и деликатно. На второй день я приобщил баронессу к кокаину. Я дарил ей все новые и новые ощущения. Она жадно набрасывалась на все, что я мог предложить.
– Этого уже давно не случалось. Мне так не хватало…
Она была огромной великолепной кошкой, которая пожелала подчиниться моей власти. Чем послушнее она становилась в удовлетворении похоти, тем сильнее была моя привязанность к ней, и все же она никогда не утрачивала индивидуальности. Она оставалась баронессой фон Рюкстуль, почти равной миссис Корнелиус. Она называла меня своим «таинственным смуглым незнакомцем». Она тоже слышала сплетни. Она говорила, что я могу быть евреем и шарлатаном – ее это нисколько не волнует; она верила в меня, в мое величие, в мою судьбу. По словам баронессы, она считала, что раса вообще не имеет значения. Ich verspreche Ihnen![14] Она была женщиной исключительно великодушной, хотя в чем-то и ограниченной.
Конечно, у меня возникали некоторые опасения. Они были связаны с тем огромным запасом страсти и чувственности, который я в ней обнаружил, – я боялся, что баронесса стремится к крайним проявлениям чувств, что она может в любой момент выйти из-под контроля. К примеру, вскоре ее первоначальное желание короткой любовной интрижки превратилось в нечто совершенно иное – она захотела более долгой, а возможно, и более формальной связи. Вскоре она, затаив дыхание, намекнула, что было бы замечательно, если бы мы могли оставаться вместе на всю ночь.
Я уже планировал проводить с ней больше времени, но не мог скрыть опасений, что баронесса сочтет простое увлечение проявлением исключительной преданности. Я уже однозначно дал ей понять, что моя карьера важнее всего остального. Я посмотрел в ее большие сине-зеленые глаза и произнес как можно нежнее:
– Это невозможно.
Она печально ответила:
– Я так и думала.
И все же было очевидно, что она уже планировала другой вариант. Поскольку наше путешествие подходило к концу, она надеялась получить от меня какие-то обещания. Мне нравилось, как она наклоняла набок свою большую голову, медленно опуская ее все ниже, к плечу. Она казалась большой школьницей. Я обнял ее и погладил по щеке.
– Должно быть, уже пошли слухи, – сказал я. – И это плохо, потому что миссис Корнелиус до сих пор официально моя жена. И ты можешь пострадать гораздо больше, чем я.
– Мне не надо обращать внимания на чертовы сплетни, не так ли?
Верно, я не хотел, чтобы пассажиры лишились мелких крох скандала. Это отвлекало их от собственных проблем, а уже через две недели я буду далеко от нынешних спутников. Но мне следовало изобразить беспокойство.
– Я и впрямь волнуюсь, – сказал я баронессе. – Сейчас такие времена, когда мелкие проступки могут стоить человеку жизни.
Мне не следовало забывать о чувстве меры. Кроме того, я до сих пор думал о Бродманне. Он мог поставить меня перед расстрельной командой, если определенные люди ему поверят. Также важно было успокоить баронессу. Если бы она разозлилась, то смогла бы устроить мне немало проблем с властями союзников. Гораздо лучше, если все закончится постепенно, без гнева и слез, оставив сладостно-горькие воспоминания. Вскоре наши пути разойдутся. Все путешествие запомнится как мимолетная пауза, приятный корабельный роман. Когда мы сойдем на берег, безумная страсть баронессы наверняка ослабеет. Тем не менее я впервые наслаждался обществом женщины, которая была лишена удовольствий на протяжении многих лет и вдобавок привыкла подчиняться. Я был очарован ею.
Даже когда баронесса пыталась поговорить о чем-то другом, в конечном счете все равно возвращалась к любимым темам. Она гладила меня по голове, как будто я был ее ребенком или любимым псом.
– Симка, в Константинополе я собираюсь встретиться кое с кем. Ты мог бы поработать с ними с немалой выгодой.
Так выяснилось, что она уже распланировала наше будущее! Баронесса, казалось, позабыла о моей миссии, о моих отношениях с миссис Корнелиус, о моих устремлениях. Когда я бормотал что-то обо всем этом, она просто отмахивалась:
– Ведь нет ничего плохого в том, чтобы рассмотреть разные варианты. Правда?
– Ты слишком много думаешь обо мне. – Я взял ее за руку. Я был нежен. И все же мы едва не повздорили. – Ты должна сначала подумать о собственных интересах. Я совсем неплохо заботился о себе несколько лет!
– Я считаю твои интересы своими, – сказала она. Это было едва ли не самое откровенное из ее утверждений.
Чтобы отвлечь баронессу от подобных мыслей, я плотно прижал руку к ее груди и укусил за мочку уха.
Поскольку я не мог совладать с ее воображением, мне пришлось прибегнуть к мелкому обману, использовав «тайные приказы», – это оправдание в прошлом сослужило мне превосходную службу. Если бы мне захотелось, я мог бы под этим предлогом сбежать на следующий день после прибытия в Константинополь. Я мог бы даже наслаждаться обществом баронессы в течение недели после высадки, а потом удалиться с высоко поднятой головой, не опасаясь, что Леда станет мне мстить. В крайнем случае я также обратился бы за помощью к миссис Корнелиус. Хотя тогда я не мог ей довериться – она почти все вечера проводила с английскими моряками и редко ложилась спать до рассвета.
Удовлетворившись разработанным планом отступления, я снова расслабился, хотя призрак Бродманна по-прежнему тревожил мой покой. Ночами я проводил немало времени в поисках Бродманна или человека, который так его напоминал, но безуспешно. Дважды я дожидался у запертой каюты, но был вознагражден лишь слабым стоном или негромким сухим кашлем, продолжавшимся несколько секунд. Я обычно вставал очень рано, часто до того, как миссис Корнелиус возвращалась со своих пирушек, и наслаждался одиночеством на палубе. Через пару дней после отплытия из Новороссийска погода начала улучшаться. Иногда между облаками, силуэты которых напоминали спящих белых медведей, даже виднелось синее небо.
Через некоторое время стало казаться, что эти белые горы окружили наш корабль. Мы словно дрейфовали в одной из тех подводных пещер, которые, по словам ученых, скрываются в толщах ледников; эти пещеры ведут к неоткрытым тропическим континентам, где исследователь может обнаружить примитивные страны, населенные дикарями. Рев двигателей громким эхом отзывался в моих ушах, словно заполняя весь мир вокруг. Неужели Россия утонула в слезах смерти, и только мы одни избегли общей участи? Может, мы плывем над крышами безмолвных городов, населенных одними лишь мертвецами – мертвецами, волосы которых качаются, как морские водоросли, а обреченные глаза молят об освобождении? Мы не могли остановиться. Мы не могли им помочь. Мы искали свой Арарат. Я начал думать, что цивилизации действительно настал конец, и мы – единственные оставшиеся в живых. Может статься, мне самой судьбой суждено привести этих людей в новую эру. Лучшие из них, особенно англичане, уже считали меня пророком. Теперь я вновь обрел смысл жизни, постиг свое великое предназначение. Разумеется, я не предполагал всерьез, что миру настал конец, но метафора была точна. Я стоял на передней палубе «Рио-Круза», кутаясь в меха. Черные с серебром казацкие пистолеты, лежавшие в карманах, по-прежнему напоминали о моем наследии, и я с каждой минутой все сильнее верил в то, что меня ожидает блестящее будущее. Позади осталась любимая, но полностью опустошенная Россия, впереди была Европа. Она выучила уроки войны и теперь, конечно, восстанет из руин, наступит золотой век справедливости и процветания, мои технические способности будут немедленно признаны, и я сыграю одну из главных ролей в великом Ренессансе. Будущее в руках могущественных христианских держав: Великобритании, Франции, Италии и Америки, даже Германии. Будущее небоскребов и подводных туннелей, телевидения, передатчиков материи и, самое главное, летающих городов. Пусть Россия со всеми ее грехами сгинет в Средневековье, в котором мелкие царьки будут сражаться за власть над ничтожными территориями. Запад станет раем из хрома и стекла, империей, возносящейся к облакам, миром современных машин и замечательной электроники, истинным наследником Византии. Наступит греко-христианская Утопия!
Две тысячи лет назад мы сбились с пути. Теперь нам снова даровали шанс отыскать путь и пойти по нему. Турки преклонили колени, евреи обратились в бегство. Карфаген снова побежден, и на сей раз он не получит передышки и не сможет вернуть утраченную силу. Я знал, что не одинок в своих мыслях. На всем протяжении христианской истории мужчины и женщины готовились к исполнению великой задачи. Bu ne demektir?[15] Люди смеются надо мной, когда я рассказываю им, что могло бы случиться. Они не понимают, как много нас было, как легко (если бы не махинации ничтожных и жадных негодяев) мы могли бы воплотить мечту в действительность. Всякий, кто знает меня, скажет вам, что я совсем не склонен к подозрительности, – паранойя чужда мне, – и все же только идиот станет отрицать власть Сиона. Именно их темные замыслы противостояли идеалам, которые отстаивал я и такие, как я. Мистер Томпсон был одним из таких сочувствующих. Я обратился к нему. Следовало держаться на разумном расстоянии от баронессы. Я доверился мистеру Томпсону и сказал, что мне трудно представить, как я смогу выжить за пределами России. И он снова заверил меня, что такие мужчины, как я, необходимы везде, особенно в Великобритании. По его словам, я был чудом, гением. Мои таланты не пропадут впустую. На протяжении долгих часов, сосредоточенно покуривая трубку, он спокойно обдумывал мои идеи, признавая, что многие из них выше его разумения. Однако мистер Томпсон был убежден, что меня ожидает будущее инженера.
– Я завидую вам, мистер Пятницкий. Троцкий – идиот, раз изгнал из страны таких людей, как вы. Я удивлен, что вы не думаете об Америке. Будь я молод, отправился бы именно туда. В Америке ценят таких, как мы.
Но Соединенные Штаты тогда не привлекали меня, хотя образы краснокожих, жителей приграничья и буйволов, позаимствованные из романов Карла Мая и Фенимора Купера, были достаточно романтичными. Я полагал, что в Америке нет настоящих городов и подлинной цивилизации. Для того чтобы создать истинный город, по моему мнению, требовалось время. Я покачал головой:
– Я не хочу строить машины для ферм или локомотивы, не хочу изобретать методы массового производства дешевых часов. Пусть шахтеры добывают свое золото – я не стану отнимать у них ценности в обмен на какие-то дешевые игрушки!
Мистер Томпсон пожал плечами:
– Вам лучше бы позабыть о европейских склоках. Янки держатся особняком. Я знаю, каковы они. Британцы очень уж склонны заботиться о других.
– Я – русский и славянин, мистер Томпсон. Я не могу бросить Европу в такой беде. Вдобавок я христианин. Моя верность не подлежит сомнению. Но для большевиков и евреев я не буду изгнанником. Все знают, что евреи уже управляют Нью-Йорком. Я не имею ничего общего с жадными буржуа, которые плывут на этом судне. Пусть едут в Америку, если хотят. Все они дезертиры.
Когда начался этот серьезный разговор, мы прислонились к трубе, чтобы согреться, и устремили взгляды на черную, невыразительную морскую гладь. Разноцветные огни нашего корабля, красные, зеленые и белые, отражались в воде – мы как будто плыли в темных облаках сквозь бесконечное пространство. Мистер Томпсон вновь разжег свою трубку.
– Вы, русские, просто безнадежно упрямые существа, должен признать. Я уже видел беженцев в Константинополе. Человеку с вашими талантами будут рады где угодно. Но что, по-вашему, случится с остальными? С женщинами и детьми? Им позволят вернуться, когда закончится война?
Я не смог ответить. В те дни никто бы не поверил, какие будут твориться безобразия. Многие вернулись во время так называемой новой экономической политики. К 1930 году почти все они были мертвы. Не стану притворяться, что по прошествии лет я лелеял надежду на благодарность или по крайней мере признание у себя на родине. Я не дожил бы до нашего времени, если бы ухватился за соломинку, протянутую красными в середине двадцатых.
Когда мистер Томпсон возвратился к своим обязанностям, мною вновь овладела меланхолия. Вопреки обычному распорядку я отправился на поиски миссис Корнелиус. Она, как обычно, наслаждалась обществом нескольких помощников капитана в обеденном салоне. Там был и Джек Брэгг, напевавший «Побей их на Олд-Кент-роуд» и «Очи черные». Мне показалось, что, завидев меня, он покраснел, тем самым подтверждая подозрения: офицер влюбился в мою спутницу. Он не мог догадаться, как я ему сочувствовал. Миссис Корнелиус облачилась в черное с желтым платье (она называла его своим «танго-платьем») и исполняла традиционный английский танец, известный как «Колени вверх». Я взял стакан рома и начал подпевать другим, подражая всем жестам и интонациям миссис Корнелиус. Вот так мой довольно примитивный английский, позаимствованный из «Пирсона» и различных романов, начал приобретать то изящное разговорное звучание, которое отличало прирожденных британцев и позволяло мне свободно проникать во все слои общества.
Миссис Корнелиус подмигнула мне, как обычно, и попросила спеть одну из песен, разученных под ее руководством. Я охотно продемонстрировал свое мастерство, исполнив «Wot A Marf, Wot a Marf, Wot а Norf An’ Sarf»[16]. Я всегда любил эту песню. Потом раздались громкие аплодисменты. Русские, которые оставались в дальнем конце салона, у самой двери, были совершенно сбиты с толку. Миссис Корнелиус любезными жестами пригласила их присоединиться к нам, но они или мялись, или прямо отказывались. Я также посоветовал им расслабиться и тут, к своему превеликому ужасу, внезапно увидел Бродманна, укутанного в какой-то плед и спрятавшегося за толстой вдовой. Он поднялся с места. Я с трудом сдержался. Лишь благодаря железной воле я сумел промолчать. Я заставил себя улыбнуться и протянул руку существу, которое нерешительно приблизилось к нам. Улыбка превратилась, вероятно, в нелепую гримасу, выражавшую облегчение, ибо я понял, что этот человек все-таки не был моим врагом. В ответ он просиял, его красное, сальное лицо исказилось в улыбке, и он запел какую-то популярную частушку, знакомую мне с первых дней, проведенных в Одессе. Я обычно никогда не оказывал такого радушного приема евреям, но теперь было слишком поздно.
– Я так рад, – сказал он, закончив первый куплет. – Я был болен, знаете ли. Боялся, что они выставят меня с корабля. Корь или что-то подобное… Но теперь я совершенно выздоровел. Я видел вас несколько раз, не так ли? Ночью, когда выходил подышать воздухом.
Прежде чем я высвободился, миссис Корнелиус положила одну пухлую розовую руку на его плечи, а другую – на мои; вскоре она уже поднимала ноги в каком-то канкане. Мне не оставалось другого выбора, кроме как поддержать ее. К тому времени, когда миссис Корнелиус отдалилась, чтобы потанцевать с Джеком Брэггом, я остался наедине с пьяным, болезненным евреем, фамилия которого, по его словам, была Берников. В дорогом безвкусном костюме, с золотой цепочкой для часов и огромными бриллиантовыми кольцами он выглядел гротескно. Он сильно потел, вытирал платком голову и шею и много раз повторял, что отлично себя чувствует. Он начал рассказывать, как тяжело ему пришлось в Одессе, как его семья погибла во время погрома, как его мать замучили белые казаки, – и все прочие знакомые истории, которые распространяют его соплеменники. Немного позже он искоса посмотрел на меня и спросил, собираюсь ли я тоже отправиться в Берлин вместе с «очаровательной баронессой». Мне с трудом удалось сдержаться. И все же меня, безусловно, очень обрадовало, что призрак исчез. Наконец мне удалось возвратиться к столу, где сидела, переводя дух, миссис Корнелиус. Я втиснулся между ней и Брэггом, снова наполнил стакан и сосредоточился на словах «О, какая счастливая страна – Англия». Конечно, путешествовать в непосредственной близости от таких, как Берников, было уже нехорошо, но становилось гораздо хуже, когда они начинали вести себя панибратски и настаивали на том, что ничем не отличаются от меня по характеру и устремлениям. Несомненно, я покинул Одессу, став куда богаче, чем раньше, вдобавок получив воинское звание. Но эти жирные торговцы, умолявшие о сочувствии, не пережили настоящих потрясений, не испытали истинного ужаса. Их не заключали в тюрьму анархисты или большевики, они не ведали, каково это – расстаться с надеждой на выживание. Они не видели, как мужчины и женщины становились на колени в снегу около железнодорожных путей и ждали выстрела в голову. Им не приходилось слаживаться с трупами и воронами, с завшивевшими казаками, которые могли убить просто от скуки. Они слышали о нескольких арестах и случайных жертвах, они видели каких-то евреев, которых преследовали на улицах, но их негодование в основном вызывали пропавшие накладные, реквизированные здания, товары, купленные на бесполезные деньги.
В ту ночь я чувствовал, что как будто вернулся в прежнее состояние; я оказался «в кошмарном сне», как говорят русские: это бесконечное призрачное состояние зачастую неявного ужаса мне было знакомо больше двух лет. Моя жизнь и рассудок подвергались угрозе, жестокое безумие революции и гражданской войны перевернуло все мое существование, разум и тело сотрясались от страха ночью и днем. Ужас становится явью… Во рту пересыхает. Слова не идут на язык. Все что угодно, лишь бы спастись! Когда опасность проходит, невозможно точно вспомнить, какие слова сорвались с твоих дрожащих губ. И это не имеет значения, потому что ты все еще жив. Но все-таки люди смотрят на тебя с презрением и называют лжецом! Конечно, они сами лгут. Я не дурак. Не стану это отрицать. Мое выживание зависит от самопознания. Но разве не такую ложь Герников поведал британцам просто для того, чтобы добиться сочувствия и получить паспорт в богатый Берлин? Со мной такие грязные фокусы не прошли бы. Я не горжусь тем, что сделал, но едва ли испытываю чувство вины. Ведь я выжил. И что с того, что евреи пытались снискать мое расположение? Что с того, что выскочки, вчерашние кулаки, пренебрежительно обходились со мной? Чего стоит такое осуждение? Кроме того, мной восторгались британцы. Меня любила женщина благородного происхождения. За мной наблюдала другая, которая была мне и матерью, и сестрой. От еврея каким-то образом избавились, и я раскачивался между миссис Корнелиус и лейтенантом Брэггом, напевая одну из печальных казацких песен, которые выучил в плену у красных. Джек Брэгг явно волновался. Он хотел остаться и дослушать песню, но его уже ждали на палубе. Я допел до середины, добрался до той части, когда вторая лошадь пала, отдав жизнь ради спасения героини, и тут миссис Корнелиус, захрипев, повалилась ко мне на колени и, устремив на меня огромные чистые глаза, медленно прошептала:
– Думаю, тьбе лучше ’п ’ложить мня в кр’вать, Иван.
Я помог ей вернуться в нашу каюту. На сей раз миссис Корнелиус сдерживалась, пока мы не разделись; затем, когда я наклонился, чтобы прикрыть ее одеялом, девушку вырвало прямо на мою единственную ночную рубашку. К тому времени, когда я отмыл одежду в корабельной ванной (в каюте не было ни водопровода, ни отопления), миссис Корнелиус заснула. Я стоял, опершись рукой о койку, и смотрел на свою спутницу, освещенную желтым светом аварийного фонаря, который раздобыл для нас Джек Брэгг. Весь корабль, казалось, пульсировал в унисон с моими чреслами. Когда ты привыкаешь к постоянному удовлетворению похоти, становится куда труднее контролировать возбуждение. Я очень хотел, чтобы она возжелала меня и распахнула мне свои объятия. Я наклонился, чтобы погладить ее волосы. Она с благодарностью что-то пробормотала и улыбнулась:
– Эт ’рекрасно… – Я коснулся ее шеи. – О-о-о… – прошептала она. – Ты гадкий мальчик. – Она пошевельнулась. Я присел на край кровати. Я поцеловал ее ухо. Глаза миссис Корнелиус приоткрылись, и ее улыбка сменилась выражением потрясения и удивления. – Иван! Ты маленький мерзавец. Я го’орила тьбе, шо… – Было очевидно, что она забыла имя своего француза.
– Франсуа… – Я начал подниматься.
– Да.
Поднявшись на верхнюю полку, я вновь погрузился в беспокойный сон, полный фантазий о Бродманне, который прикинулся Герниковым и вызвал мстительных казаков, чтобы замучить и убить меня. Стараясь избавиться от кошмара, я вспоминал крепкие бедра, алые нетерпеливые губы моей Леды, ее великолепную славянскую грудь, ее волосы, гладкую спину, изгибы ее ягодиц. Секс всегда помогал мне избавиться от страха. Я все более и более склонялся к тому, чтобы рискнуть и провести пару ночей в обществе баронессы. Последствия, в конце концов, окажутся незначительными, даже если она действительно выступит против меня. Неужели я не заслуживаю большего? Я был повинен в ужасной жадности – я возжелал обладать сразу и миссис Корнелиус, и Ледой Николаевной. Как мог я позабыть об уговоре, заключенном со своим единственным в целом мире другом, с человеком, который не раз спасал мою жизнь, с моим ангелом-хранителем? Иногда, даже теперь, когда мы с миссис Корнелиус уже познали чувственную любовь, я со стыдом вспоминаю о том случае. Я не чудовище. Но я полагаю, во всех людях таится нечто, заставляющее их иногда вести себя подобно чудовищам. Оглядываясь назад, я проклинаю Берникова. Когда окружающие циничны, когда они полагают, что твои побуждения так же циничны, как их собственные, иногда ты начинаешь вести себя так же, как они. Мы все – общественные существа, подсознательно управляемые желаниями и ожиданиями наших собратьев. Я не отличаюсь от прочих. Я никогда не утверждал, что не таков, как они.
Теперь я понимаю свое поведение немного лучше. Бесспорно, я все еще пребывал во власти кошмара. Потребовалось куда больше пары недель в море, чтобы уничтожить воздействие долгих лет ужаса. Ужас действительно становится старым другом. Человек начинает тосковать по нему. Внезапное исчезновение угрозы может стать почти таким же потрясением, как утрата безопасности. Именно по этой причине после окончания крупных войн часто начинаются небольшие. От любой привычки, какой бы опасной она ни была, трудно отказаться, особенно когда в ее существовании не признаются. Возможно, еще что-то меняется в химии тела, когда происходит такой выброс адреналина. Всем нам случалось видеть собачонку, спасенную от клыков более крупного животного, – зачастую она разворачивается и впивается зубами в запястье своего спасителя. Моя любовь к миссис Корнелиус была скорее духовной, чем физической, хотя, конечно, эта девушка отличалась исключительной чувственностью. Я знаю, что тоже был для нее чем-то особенным. Она тогда не хотела рисковать нашими отношениями и вносить в них обычную похоть. Она сказала мне об этом много-много лет спустя. Теперь, конечно, я все отлично понимаю. Но на «Рио-Крузе», однако, я часто испытывал замешательство.
На следующее утро я, как обычно, встал и вышел на палубу. Воздух стал гораздо теплее, и легкие брызги воды освежили меня. Несколько матросов работали, полируя металл и отмывая палубы так, будто готовились к торжественному мероприятию. Солнце светило сквозь тонкие, стремительно мчащиеся по небу облака. Мне казалось, что я чувствовал запах, доносившийся с азиатского побережья, хотя знал, что пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим Батум. Раненый английский офицер кивнул мне – он, хромая, проходил мимо, опираясь на трость, его лицо побледнело от боли, а индиец-денщик сопровождал хозяина, держась в паре шагов от него и демонстрируя плохо скрытое беспокойство. Женщина с картами, моя личная мойра[17], по-прежнему раскладывала колоду, концы ее черного платка взлетали и опускались на плечи, словно крылья ленивой чайки. Там же оказался и еврей Герников. На его лице появилась слабая усмешка, как будто встреча прошлой ночью сделала нас добрыми друзьями. В его поведении было что-то, все еще напоминавшее мне жалкого Бродманна. Я не хотел проблем. Я кивнул ему издали и попытался скрыться. Но он последовал за мной. Он был нетерпелив.
– Надеюсь, что вас не обидели мои вчерашние слова. Я не очень хорошо помню, что говорил. Наверное, я все-таки еще не до конца выздоровел. Вообще-то, обычно я пью совсем мало.
– Это неважно.
Чтобы избавиться от него, я начал подниматься по металлической лестнице на бак. Герников закудахтал, как больной цыпленок, и зашевелил ногами, будто разгребал гравий. Очевидно, он расстроился, потому что ему не удалось последовать за мной.
– Полагаю, что мог выйти за рамки внешних приличий. Все это так болезненно, знаете ли.
Когда он вытягивал шею, его голос становился еще более хриплым и даже отчаянным.
– Это для всех болезненно.
Я дошел до бака и посмотрел на него сверху вниз. Больше деваться было некуда. У меня за спиной простиралось море, и белая пена билась о борт корабля.
– О, конечно. – Снова искаженная гримаса вместо улыбки. – Полагаю, они никогда не покончат с нами.
Меня оскорбило то, что он именовал себя русским. Отворачиваясь, я услышат, как он произнес:
– Der Krieg ist endlos. Das Beste, was wir erhoffen können, sind gelegenliche Augenblicke der Ruhe in mitten des Kampfes[18].
Я отлично понял его, но предпочел ответить очень холодно и по-русски:
– Я не говорю на идише.
Он запротестоват:
– Это же немецкий. Я решил, что вы знаете языки.
Он близоруко моргал, пытаясь разглядеть выражение моего лица. Я разозлился:
– Это что, проверка, мистер Герников? Вы думаете, что я не тот, за кого себя выдаю? Подозреваете, что я – провокатор? Бош? Красный?
Он изобразил оскорбленную невинность:
– Разумеется, нет!
– Тогда, пожалуйста, не преследуйте меня на этом судне и не разговаривайте со мной на иностранных языках.
Когда он отворачивался, его губы дрожали. Если бы я не подозревал его истинных намерений, то мог бы почувствовать жалость к нему. Но он не хотел мне добра. Вдобавок, если бы меня заподозрили в дружбе с человеком подобных убеждений, это вряд ли бы мне помогло. Мне позже пришло в голову, что из-за темных волос и карих глаз он посчитал меня единоверцем, подобные ошибки уже случались. Даже сам цесаревич… Неужели царь и его родные были евреями? Друзья всегда говорили мне, что я не должен принимать близко к сердцу подобные недоразумения. Но стать жертвой именно такой ошибки жестоко и подчас опасно. В иных случаях это едва не стоило мне жизни. Я смог спастись только с помощью острого ума, превосходных рекомендаций и везения.
После завтрака я, как обычно, присоединился к Леде. Она сидела неподалеку от обеденного салона в тени спасательной шлюпки, которая мягко раскачивалась на шлюпбалках. Солнце начинало светить в полную силу, и баронесса обратила к нему лицо, как будто пара бледных лучей могла покрыть ее кожу загаром. Она улыбнулась мне. Она отбросила тяжелые волосы назад, чтобы солнечные лучи могли коснуться всех открытых участков кожи.
– Доброе утро, Максим Артурович.
Мы всегда в таких случаях вели себя очень формально. Я снял шляпу и спросил, могу ли принести шезлонг и сесть рядом с ней. Думаю, она заметила, насколько я встревожен.
– Вы плохо спали? – Ее рука чуть заметно придвинулась к моей. Баронесса села прямо.
– Только потому, что тебя не было, – прошептал я.
Подбежала Китти. На ней было пальто бордового цвета с такой же шляпкой и перчатками.
– Вы поиграете со мной сегодня, Максим Артурович? Я уже думаю, что вы больше не любите меня!
Меня очень часто, как и в тот раз, поражало, насколько девочка похожа на мать. На мгновение вожделение буквально переполнило меня.
Леда рассмеялась:
– Ты дурная девочка, Китти. Кокетка! Что с тобой такое?
И все-таки мне пришлось стать ее осликом. Я проскакал два или три раза по палубе, чувствуя, как теплые маленькие бедра прижимаются к моей талии, потом изобразил утомление. Возвратившись к своему шезлонгу, я обнаружил Берникова, который прислонился к переборке. Он болтал с баронессой, как всегда исключительно вежливой, она притворялась, что счастлива уделить ему внимание. Я молча уселся и притворился, что углубился в изготовление бумажного самолетика для маленькой девочки. Я наслаждался восхитительным ощущением, когда ее прекрасное нежное тело прижималось ко мне. Я испытывал такой восторг, что едва заметил уход Герникова.
– Этот бедный человек… – сказала Леда. – Полагаю, вы слышали его историю.
– Я слышал тысячи таких историй. Этот бедный человек в лучшем случае оппортунист. Я пытаюсь отделаться от него с прошлой ночи.
– Он одинок.
Ее охватил приступ филосемитизма, столь распространенного у романтичных немецких женщин того поколения. Я не захотел расстраивать баронессу и промолчал. Вполне возможно, подумал я, что в жилах предков ее мужа текла и левантинская кровь.
– Он утомителен.
Я закончил самолетик и вручил его Китти. Девочка тотчас отпустила его на волю ветра. Самолетик исчез с другой стороны мостика, и Китти бросилась в погоню за ним.
Леда рассмеялась:
– Сегодня ты, верно, не в духе. Я обидела тебя?
Я едва не обезумел от смеси похоти и гнева.
– Нисколько! – с энтузиазмом заверил я баронессу и вдохнул соленый воздух. – Если тебе кажется, что я в дурном настроении, то лишь потому, что слишком долго был вдали от тебя.
Баронесса зарделась, она была одновременно и удивлена, и польщена. Она затаила дыхание.
– Мне бы хотелось, чтобы ты попытался быть вежливым с господином Герниковым. Все на этом корабле пренебрежительно обходятся с ним. Он был очень болен. И он потерял всю свою семью…
Я сдержался.
– Он знал моего покойного мужа. Они иногда вместе вели дела. Он был тогда очень влиятелен. Финансист. У него до сих пор еще есть немалые интересы за границей. Возможно, он окажется полезным, когда твоя миссия закончится, и поддержит некоторые из твоих изобретений. – Она накрыла колени пледом и придержала его рукой.
Я просто не мог поверить, что она не понимала, что еврейские деньги все портят. Лучшие из человеческих побуждений были испорчены еврейскими деньгами и всегда служили в угоду Сиону. Как она могла стать свидетельницей погружения России в пучину хаоса и варварства и до сих пор не понять основной причины случившегося? Как и многие женщины, она слишком уж полагалась на личные чувства к отдельным людям. Вероятно, Герников, который очаровал ее, сам по себе не был злодеем. Но он представлял силы, угрожавшие нашей христианской цивилизации. Я не видел смысла в том, чтобы просто нападать на такого человека. Я никогда не одобрял концентрационные лагеря и погромы, и все же для подобных действий существовали серьезные основания.
И были причины с подозрением относиться к любому улыбчивому еврею, который протягивал ближнему мешок с серебром. Где он взял свое серебро? Спросите Иуду. Может, с его губ неожиданно сорвался бы правдивый ответ? Неужели он мог бы все рассказать, если бы нашел человека, который сделал то же самое, что и он?
– У меня нет ни малейшего желания быть грубым, – сказал я Леде. – Все, что я хотел объяснить, – у меня с ним мало общего, и я не намерен становиться его ближайшим другом!
– Ты такой же сноб, как и остальные, – сказала она. – Это невероятно.
Поначалу я не хотел отвечать. Потом мне пришло в голову, что следует рассказать ей, как меня предал еврей и как я едва не лишился жизни. Я уже собирался заговорить, и тут баронесса улыбнулась мне.
– Что ж, – сказала она, подводя итог, – он приличный, доброжелательный человек. Как чудесен яркий свет после всей этой ужасной серости. – Она коснулась моей руки, небрежно разглядывая проходивших мимо двух маленьких смешных старух. Ее лицо приблизилось к моему. – Думаю, что сексуальная неудовлетворенность делает тебя раздражительным.
Я старался казаться веселым. Я улыбнулся. Солнце на миг коснулось волн и обратило воду в серебро.
– Трудно разгадать эту забавную шараду.
– А твоя миссис Корнелиус? Она возмущена? – Теплота ее тона не сочеталась с вопросом.
– Она ничего не знает.
– Я в этом сомневаюсь. Однако юный мистер Брэгг занимает почти все ее внимание.
Я возразил, слегка обидевшись на это замечание:
– Она уже не считает его общество приятным.
Я рассказал ей о сделке, которую мы заключили с миссис Корнелиус, о том, как моя спутница намеревалась встретиться со своим французом, едва только мы достигнем Константинополя. Я заподозрил баронессу в ревности. Она каким-то образом – все женщины способны на такое – разгадала мои чувства к миссис Корнелиус и теперь пыталась выведать все у меня. Я оставался настороже, даже когда она загадочно произнесла:
– Выходит, у тебя есть чудесное свойство: ты не замечаешь определенных вещей, мой дорогой. Ты все-таки не совсем невинен. Я преклоняюсь перед могуществом твоего воображения.
Это меня озадачило:
– Никак не могу обнаружить связь между своим воображением, которое многие хвалили, и невинностью, которую с тех пор, как мне исполнилось шестнадцать, замечали очень немногие.
Я не мог понять, почему баронесса едва не рассмеялась, хотя то, что она больше не возвращалась к разговору о миссис Корнелиус, меня успокоило.
– О, я знаю, что ты повидал в жизни намного больше меня. – Она сделала жест, выражавший преувеличенное уважение. – И ты почти во всех отношениях образованнее меня. Пожалуй, единственный твой недостаток, который я могу обнаружить, в том, что ты – мужчина.
Я предпочитал не отвечать на ее таинственные намеки. Всякий раз, когда женщина начинает с волнением говорить о тайном женском знании, лучше не обращать внимания на ее слова. Она бормочет заклинания, которые имеют значение только для нее самой (если в них вообще есть смысл). То, что женщина не может облечь в слова, она глубокомысленно именует «известным только женщинам». Таким образом в споре она сбивает с толку своего оппонента-мужчину, получая преимущество, а он задается вопросом, что же это такое – то, чего не может постичь его бедный, нечувствительный мужской мозг. Меня подобные уловки зачастую озадачивали. Я справлялся с ними, используя лишь свои выдающиеся интеллектуальные способности. Иначе почему очень многие женщины любили меня и восторгались мной? Они быстро начинают уважать мужчин, которые избегают их маленьких ловушек. Жизнь – непрерывное состязание (возможно, именно это имел в виду Герников). Нам следует всегда помнить об осторожности, особенно в тех случаях, когда мы сталкиваемся с людьми, утверждающими, что они принимают наши интересы близко к сердцу. Никто не уважает женскую интуицию больше меня, но иногда женщины уделяют слишком много внимания самым простым случайностям. Так произошло с моей баронессой. Страстно увлекшись мной, она предположила, что все женщины вокруг пытаются затащить меня в постель. Меня удивляло ее любопытство, но я тревожился, что оно может превратиться в ту сводящую с ума женскую ревность, которая как минимум неудобна и часто очень опасна. Днем мы занимались любовью, как обычно, все вокруг пропиталось выделениями наших тел, пока мы не стали пахнуть, по выражению баронессы, «как кошки в жару». К тому времени я уже почти пообещал ей уделить по крайней мере несколько дней в Константинополе, и она томилась в ожидании:
– Если б только это могло случиться поскорее.
Мои руки исследовали ее тело: я ласкал ее груди, бедра и ягодицы и в третий раз наслаждался невероятно теплой киской. Она напоминала греческую богиню и так восхитительно отличалась от молодых девушек, которых я обычно предпочитал. Я чувствовал, что мог погрузиться в нее навсегда и позабыть обо всех превратностях бытия. Женщина, подобная моей баронессе, сулила одновременно и спасение, и познание. Когда прозвучал обеденный гонг, я все еще упивался ее прелестями. Мы с превеликой неохотой расстались, вымылись как могли и вышли на палубу, где нас ожидали невыразительные взгляды Маруси Верановны и беспокойные метания юной Китти, всегда готовой к приключениям.
Леда не особенно интересовалась реакцией окружающих, но меня все же начинало возмущать молчаливое осуждение прислуги. Вдобавок раздражало, что приходилось прерывать любовные ласки ровно в шесть. Казалось, до Константинополя еще год пути.
Во время обеда миссис Корнелиус произнесла, обращаясь ко мне:
– Выгл’ишь усталым, Иван. Я за тьбя б’спокоила вчерась? Звиняй, б’ла плоха.
Я небрежно взмахнул рукой. Она, казалось, позабыла о случившемся, и я был ей за это признателен. Набросившись на свою порцию мясного пудинга, она улыбнулась сидевшим рядом офицерам, как будто ее извинения относились и к ним тоже. Капитан Монье-Уилльямс присоединился к нам. Он гордо осмотрел порцию пудинга, прежде чем перейти к еде. Он часто отмечал, как хорошо кормят на его корабле.
– Добрая порция пудинга поддержит ваши силы. – Он сообщил, что получится добраться до Батума, не подвергаясь опасности. – Вероятно, мы бросим якорь в самой гавани, слава богу. До сих пор у них все шло очень хорошо. – Он чуть заметно вздохнул. – А после Батума мы уже двинемся прямо к цели. Полагаю, вы оба будете рады добраться до Константинополя.
– Эт’ точно, – сказала миссис Корнелиус. – Х’отя, на мой вкус, поездка б’ла недурная.
Капитан взял нож и вилку и внимательно изучил свою порцию пудинга.
– Осталось всего несколько дней. А потом – дом и Англия!
Он закончил беседу, положил в рот большой кусок серого мяса и начал его медленно пережевывать. Капитан очень стремился в Дорсет, где он совсем недавно, выйдя в отставку, купил небольшой домик, но потом ушел на войну и стал командиром транспортного корабля. Все его родственники мужского пола служили в Королевском или в торговом флоте, и он часто вспоминал сыновей и племянников, которые ходили на тех или иных судах. По словам капитана, ему повезло больше, чем другим, и он потерял только двоих. Он вспоминал всех членов семьи, которые погибли между 1914 и 1918 годами.
Когда капитан поел, я сказал ему:
– Я согласен с миссис Корнелиус. Принимая во внимание все обстоятельства, это было замечательное путешествие. Русские всегда будут благодарны вам. На борту есть люди, которые считают вас почти святым.
Мои слова тотчас возымели действие. Капитан проглотил кусок пудинга и улыбнулся:
– Я исполняю свой долг, мистер Пьятницки. Им следует восхищаться британскими налогоплательщиками.
– Что касается меня, этот долг скоро будет уплачен, сэр. Подозреваю, когда красные обрушат мою страну в пучину хаоса, вновь будет призвано разумное правительство. Только тогда я смогу вернуться домой. К тому времени я передам вашим людям парочку идей, которые, уверен, они сочтут полезными. Есть немалая вероятность, что в будущем я стану членом российского правительства. В этом случае у Англии в моем лице появится верный друг.
Капитан в ответ покачал головой:
– Если это произойдет, то я буду первым, кто поздравит вас. Но мой опыт, старина, свидетельствует о другом: как только в стране начинаются кровавые восстания и перевороты, возвращение назад уже невозможно. Взгляните, как рассыпается Китай. Путь уже намечен.
– Россия – не Китай, капитан. И на Индокитай, которым управляет десяток сомнительных раджей, она тоже не похожа. – Я был вежлив, но непреклонен. – Россия – великая империя. Порядок в конце концов должен восторжествовать. Русские люди уже ждут нового царя.
– О, я уверен, что они его дождутся, – сказал капитан. – В каком-то смысле. – И он заговорил о превосходном пудинге.
Тогда меня опечалил его чрезмерный цинизм, но ему уже исполнилось шестьдесят, а мне – только двадцать. Конечно, его прогноз оказался абсолютно точным. Но тогда я не позволил себе поверить в это – и сохранил рассудок.
Тем временем миссис Корнелиус не проявляла интереса к нашей беседе. Она осторожно отмалчивалась, в то время как капитан Монье-Уилльямс обсуждал Троцкого и Ленина так, будто был с ними знаком лично. Она, разумеется, превосходно знала Троцкого и неплохо – Ленина.
В ее глазах сверкали искорки, когда капитан или кто-то из офицеров начинал авторитетно рассуждать о мотивах Троцкого.
Джек Брэгг, в какой-то мере сочувствовавший красным, восхищался всеми русскими людьми. Он даже проявлял уважение к Керенскому. С этим я смириться не мог.
– Ленин теперь может считаться главным злодеем, – сказал я, – но безответственный и восторженный либерализм Керенского и есть настоящая причина кризиса. Если бы Керенский был сильнее, он заставил бы Россию продолжать войну, и мы бы неизбежно победили. Константинополь непременно стал бы русским городом, как и предполагалось в наших договорах с союзниками. Вместо того чтобы почти ежедневно отдавать земли бывшим рабам, мы бы пожинали плоды победы. Керенский продал нас Ленину, а Ленин – немцам и евреям. Скоро Россия исчезнет как Отечество, она уподобится Оттоманской империи. Она просто вновь станет Московским царством. Причем сильно уменьшившимся. В итоге все западные границы будут уничтожены. Как же вы не видите? Мы сдерживали варваров на протяжении тысячи лет. Теперь татары возродят свою древнюю имперрию. Они объединятся с Турцией и создадут сильнейшую в истории мусульманскую державу! Союзники должны бороться, должны уничтожить Ленина. России нужно оказать помощь, иначе погибнет сама цивилизация. Христианство исчезнет.
Свои последние слова я адресовал капитану Монье-Уилльямсу, который покачал головой:
– Я так не думаю, дружище. Полагаю, вам остается надеяться, что появится более умеренный лидер, но бог знает, что в данном случае может означать слово «умеренный».
Я чуть не заплакал. По-детски открытое лицо капитана покрылось румянцем, ему явно стало неловко. Джек Брэгг понимающе сжал мою руку:
– Вы вернетесь раньше, чем думаете, мистер Пьятницки. Союзники просто обязаны послать больше войск. Тогда все это безобразие закончится.
Я взглядом поблагодарил его. Когда Джек отворачивался, я заметил, что в его честных голубых глазах блестели слезы. Он выглядел таким молодым, а был, вероятно, на два или три года старше меня. Он искренне сочувствовал, поскольку изведал ужасы войны на море и лучше всех прочих мог представить, какие испытания я перенес. К тому времени я уже слегка выпил и заговорил обо всем, чего лишился: о прекрасном Киеве, широкой степи, смешении культур в старой Одессе, величавой красоте Петербурга, дружбе моих сокурсников, обаянии Коли и его богемных друзей. Иногда я едва ли не с ностальгией вспоминал месяцы, проведенные с анархистами Махно! Я говорил о казаке Ермилове, который на свой лад попытался мне помочь и в результате погиб. Но воскрешение этих воспоминаний оказалось ошибкой, ведь потом я заговорил об Эсме.
В конце концов я овладел собой и удалился из салона, как только завершился обед. Проходя мимо маленького столика у двери, где сидели четверо пассажиров, я с отвращением заметил, что Герников каким-то образом сумел занять место напротив моей баронессы и даже ухватил за руку Китти! Совершенно растерявшись, я вышел на палубу, где долго стоял под дождем на холодном ветру.
Леда почти тотчас же присоединилась ко мне. Я ничего не сказал о Герникове, поскольку знал, что она мне ответит.
– Что-то не так? – спросила она и повела меня в темноту, подальше от корабельных фонарей.
Мы наконец остановились в тени юта. Я слышал, как в воде рокочет винт. Я слышал, как ходят поршни в машине. Я изучил корабельный механизм почти так же хорошо, как мистер Томпсон. Я очнулся и нежно поцеловал баронессу в щеку.
– Эти англичане хотят добра, – сказал я, – но иногда они воскрешают воспоминания, которые лучше всего стереть.
Она поняла. Она погладила меня по лицу мягкой, нежной рукой.
– Именно поэтому мы учимся никогда не задавать вопросов, – произнесла она. – И ждем, пока нам не расскажут.
Я смотрел на нее немного настороженно, думая о том, нет ли в ее словах какого-то скрытого смысла. Но Леда, казалось, говорила искренне. Она не обладала такими способностями, как миссис Корнелиус, и не помогала мне расслабиться, но все же теперь успокаивала меня. Я вздохнул и по такому случаю вытащил одну из своих последних сигарет. Воспользовавшись медной «вечной спичкой» – кто-то отдал мне ее, расплачиваясь за паспорт, – я осторожно раскурил сигарету. Леда прижалась ко мне, прежде всего для того, чтобы укрыться от холодного ветра, который теперь дул с северо-востока.
– Как трудно представить будущее, – сказала она.
– Ты говоришь о своей личной жизни?
Она улыбнулась:
– У тебя, конечно, есть прекрасное представление о будущем, даже если твоя мечта никогда не осуществится. Это должно придать твоей жизни импульс – мне такого не хватает. Все, что у меня есть, – это Китти. Она – единственная причина для возвращения в Берлин, где я могу найти какое-то убежище и приличную школу. И все-таки я завишу от доброты дальних родственников. Моя судьба в их руках.
– Со мной когда-то было то же самое. – Я глубоко вдохнул сигаретный дым. Табак был слишком сухим, и я боялся, что он может высыпаться из бумажной трубочки. – Так ужасно – снова стать ребенком. И все опять же ради ребенка. А для тебя там найдется какая-нибудь работа?
Леда протянула руку к моей сигарете. Она сделала несколько затяжек, потом вернула сигарету.
– Я училась быть женой выдающегося промышленника. Ничего другого. Таких, как я, мой дорогой, сейчас слишком много. В мире нас тысячи, а выдающихся промышленников – горстка! Некоторые из нас пытаются заняться воровством, обирая других, тех, кто отыскал своих промышленников, другие блуждают в каком-то тумане. Я даже слышала, что кто-то завязал тесные отношения с абсолютно неподходящими молодыми людьми.
Конечно, она шутила, но я снова забеспокоился. Неужели она предполагала, что я смогу жениться на ней и стать для нее подходящим мужем?
– Ты умна и привлекательна, – сказал я. – У тебя есть небольшой капитал в Германии, верно? Ты должна подумать о том, чтобы войти в какое-то дело. Стань сама выдающейся промышленницей! Поезжай в Париж. Все лучшие русские сейчас в Париже. Открой модный магазин. Или агентство секретарей. – Здесь мое воображение иссякло.
– Я бы лучше, – улыбнулась Леда, – стала международной авантюристкой и соблазняла бы королей и императоров.
– Но сейчас век республик и демократий. Гораздо труднее соблазнить и погубить комитет.
Она рассмеялась над этим:
– Максим Артурович, сегодня вечером вы недостаточно романтичны. Это я должна быть реалисткой, а ты – мечтателем. Неужели ты лишишь меня последнего развлечения?
Я выбросил из головы прежние подозрения.
– Ну хорошо, я продолжу мечтать для тебя. И ты можешь и дальше сомневаться. Но уверяю тебя: будущее, которое я наметил, почти реально. Дело ученого – знать, как все устроено, знать все движущие принципы…
Мы расстались у дверей ее каюты.
– До завтра, – сказала она, а затем: – Я надеюсь, мы сможем остаться вместе в Константинополе, по крайней мере на некоторое время.
– Надеюсь, что так.
Она поспешно добавила:
– В Батуме безопасно. Почему мы не можем сойти на берег там?
Я согласился обдумать эту идею, которая мне совершенно не нравилась. Я, конечно, был бы рад прервать путешествие, но по-прежнему опасался нашего дальнейшего сближения, особенно на такой ранней стадии. Я вернулся в свою каюту. Как обычно, когда миссис Корнелиус не было, я удовлетворил свои желания, приняв большую порцию кокаина. В конце концов, судя по всему, Константинополь стал столицей наркотического мира, и мне уж точно не угрожала опасность остаться без этого средства моральной поддержки. Я никогда в жизни не испытывал зависимости. Я курю, пью и принимаю кокаин по собственной воле, эти занятия доставляют мне удовольствие. Слабое ощущение, возникающее при отсутствии сигарет или «снежка», едва заметно, когда я работаю. В любом случае я бы не стал покупать то, что сегодняшние волосатые детишки называют «кокаином». Это всего лишь смесь каких-то хозяйственных средств с толикой хинина или прокаина, от которого лишь немеют губы, и добавкой амфетамина для имитации эффекта эйфории. С тем же успехом можно смешать имбирное пиво с жидкостью для мытья посуды и назвать это шампанским!
Они считают себя такими современными и отважными с этими своими «наркотиками». Они размягчают себе мозги марихуаной и снотворными до тех пор, пока не смогут уже отличить один препарат от другого. Я презираю этих ребят в кожаных куртках. Они выглядят в точности так же, как варвары, которые расхаживали по Зимнему дворцу в 1917‑м, думая, что уже все знают, а на самом деле у них было лишь необычайное высокомерие, порожденное столь же необычайной глупостью. Я вижу их каждый день, на другой стороне улицы, в пабе Финча. Они шепчутся и передают друг другу бумажные пакетики, в конце концов приезжают полицейские, усталые и злые, чтобы совершить какой-то ритуальный обыск и захватить парочку бездельников. Они заискивают перед неграми. Полиция просто возвращает этим мужланам веру в «бандитскую гордость». Они не меняются. Неудивительно, что теперь на распространение кокаина смотрят неодобрительно. Во времена моей юности это было средство для аристократов, художников, ученых, врачей. Спросите кого угодно. Хоть Фрейда. Я никогда не скрывал своего отношения к его учению. Триумвират, который разрушил нашу цивилизацию, – это Маркс, Фрейд и Эйнштейн. Их будут помнить и через миллион лет – это величайшие враги человечества. Маркс уничтожил основы христианского общества. Фрейд уничтожил наш разум – мы стали сомневаться во всем. Эйнштейн уничтожил самую сущность Вселенной. А еще говорят, что Геббельс был мастером лжи! Он был новичком. Как, наверное, потешается триумвират, когда рушатся хрупкие стены и памятники, когда топчут иконы, когда злодеи стоят, уперев руки в бока, среди обломков былого величия мира, а реки крови омывают их ноги, и надежда и человечность гибнут, сгорая в огне, свет которого отбрасывает чудовищную тень на весь мир – тень Зверя, трехглавый символ смерти.
Сам же Фрейд и уничтожил доброе имя кокаина. Но у них нет оснований меня арестовывать. Я не стану употреблять эту подделку, эту смесь талька и чистящих средств, которую они пытаются мне продать.
Спокойно наслаждаясь одиночеством, я растянулся на своей койке, чтобы обдумать предложение Леды. Было бы приятно сойти на берег в Батуме. Судя по рассказам, это весьма красивый город, хотя в нем и полно мусульман. Мы, вероятно, без труда отыскали бы отель и провели бы вместе пару ночей. Это был бы и праздник, и неплохой способ облегчить наше неизбежное расставание. Но все же, если бы баронесса после этого сочла, что продолжение нашей связи возможно, могли возникнуть затруднения. Вопреки всему, похоть снова одержала верх, и я решил спросить капитана, как он отнесется к тому, что некоторые пассажиры сойдут на берег. Я тем не менее не стал обсуждать этот вопрос во время обеда, опасаясь задеть самолюбие миссис Корнелиус, Я решил отыскать старика на следующий день и побеседовать с ним наедине.
Я уже уснул к тому времени, когда вернулась миссис Корнелиус. Проснувшись, я услышал шепот, доносившийся из-за двери, и понял, что Джек Брэгг пришел вместе с моей спутницей. Я услышал ее смешок. Потом началась какая-то возня. Было очевидно, что Брэгг тоже на время утратил контроль над собой. Чтобы избавить их обоих от затруднений, я воскликнул, как будто испугавшись:
– Кто там?
Шепот стих. Полагаю, миссис Корнелиус поцеловала Джека и пожелала ему доброй ночи. Закрыв за собой дверь, она спросила, не стану ли я возражать, если она зажжет лампу. Я сказал, что не против. Миссис Корнелиус прилично выпила, одежда ее была в беспорядке, но сама она находилась в обычном прекрасном расположении духа. Она взмахнула рукой:
– Ты ’се один, Иван?
Миссис Корнелиус села на край своей койки, чтобы снять обувь. В тот день она надела другое платье, розовое с серебром. Ей каким-то образом удалось в нескольких сумках притащить на борт содержимое целого платяного шкафа. Миссис Корнелиус всегда уделяла большое внимание своему гардеробу, по крайней мере, когда могла себе это позволить. Позднее нас обоих одолела бедность, и нам пришлось отказаться от многих привычек.
– Уф-ф! – вздохнула миссис Корнелиус. – Каждый вечер на эт черт’вом к’рабле веселле!
– Ваша энергия безгранична! – изумился я. – Мне так не суметь.
– Я в п’следние дни тож шо-то стала уст’вать. Эт Леон – та’ой черт’в мерзац. Забыл, как веселиться… ’се они, черт ’обери, такие ж.
Она относилась к лидерам большевиков свысока и говорила о них довольно грубо – для нее эти люди оставались бандой ханжей и лицемеров, подавленными интеллектуалами среднего класса. Если бы они смогли хоть немного расслабиться, то стали бы, вероятно, куда счастливее и доставили бы другим людям намного меньше неприятностей. Ни один из них, как она иногда говорила мне по секрету, не был хорошим любовником.
– А нек’торые ’обще странные! – Она всегда сочувствовала душевнобольным. – Я, мож, кончу тем, шо останусь со странным парнем. Они г’разд интереснее, п’началу уж точно.
С обычной легкостью она переоделась в ночную рубашку, выкурила сигарету, прочитала пару страниц в одной из своих «книг» – старых популярных журналов, которые кто-то отыскал для нее на корабле, – и погасила лампу.
– Баю-бай, Иван.
И вновь я слышал только ее храп, который в темноте можно было принять за стоны и страстные вздохи. И, как обычно, я находил утешение в мастурбации и фантазиях, вспоминая мою прекрасную славянку, лежавшую всего в сотне ярдов от меня. Тогда я и решил провести с ней в Батуме как можно больше времени.
Я рано проснулся и подумал, что лучше всего обдумать свои планы на свежем воздухе. По утрам в нашей каюте всегда было чрезвычайно душно. У нас оставался выбор: убрать тряпки и газеты из дверных щелей и замерзнуть или просто остаться без свежего воздуха. Когда я оделся, миссис Корнелиус пошевелилась. Она сонно пробормотала: «Смори, не заходи слишк далеко, Иван. Ты хитрый маленький ’аршивец, но ты нишо не чушь». Потом ее глаза сомкнулись, и она захрапела. Миссис Корнелиус не сказала ничего нового. Она была уверена, что я – извечный худший враг самому себе. Она повторяла это на протяжении всех последующих лет, почти до самой смерти (хотя ее ревнивые родственники не допустили меня к ее смертному одру). Меня восхваляли и осуждали великие лидеры, известные художники и интеллектуалы, но лишь ее мнение было для меня важно. Все ее помнят – она стала легендой. О ней сочиняли романы, точно так же, как сочиняли романы о Махно. Она могла вертеть политиками и генералами как хотела. Она никогда мне не лгала.
– Они должны были дать тьбе Ноб’левскую ’ремию, Иван, – сказала она однажды вечером в «Элджине». – Если б только ’опытаться.
Это случилось в субботу, как раз перед самым закрытием заведения. Паб полюбили цыгане из табора в Вествее, там постоянно играли на скрипках и аккордеонах. Они напоминали тех потрепанных людишек, которые заполонили Одессу, Будапешт и Париж за пятьдесят лет до этого. Было почти невозможно пройти по залу и ни с кем не столкнуться. Миссис Корнелиус очень редко давала волю чувствам, но тут пять пинт «Легкого и горького» развязали ей язык. Она жалела меня: незадолго до того у меня случились очередные проблемы в суде. Когда я пытался пробраться к бару, меня оскорбил какой-то мусорщик, от которого воняло мочой и моторным маслом. Миссис Корнелиус пыталась показать, что она, по крайней мере, до сих пор ценит мои дарования. Для меня это было дороже рыцарского титула. Я рад, что она смогла заговорить. Пусть и незадолго до смерти, но она признала, что верит в меня. Одно лишь это воспоминание поддерживает меня. Слишком долго я страдал от несправедливости. Теперь не осталось никакой надежды.
Я помог ей пройти мимо потных певцов в рубашках без воротников и в засаленных пальто. Мы вышли на темную Лэдброк-Гроув, шел дождь, из-под колес ревущих автобусов и грузовиков летела вода. Я поддерживал миссис Корнелиус. Она сказала, что ей дурно. Она наклонилась над сточной канавой у своей квартиры на Бленхейм-Кресент, но ничего у нее не вышло. Уже тогда было очевидно, что она очень больна. Она умирала. Ей не приходилось мне лгать. Мы всегда были честны друг с другом. Она всегда чуяла гениев, даже если иногда они оказывались злыми. Троцкий, Муссолини, Геринг – она знала их всех. Она покачала головой:
– Они никада не оценят тьбя как следут, Иван.
И это правда. Она одна могла подтвердить: если бы не большевики, мне воздали бы в России все мыслимые почести. Я приобрел бы мировую известность.
Поляки называли царскую империю Византией. Точно так же они называют сегодня Советский Союз. Набожность поляков почти столь же велика, как их лень. Я не стал эмигрантом просто потому, что хотел купить небольшой дом в Патни и работать в звукозаписывающей компании. Они не мученики. Они – мелкие буржуа, непрерывно жалеющие себя. Они так и будут ныть при любом режиме. Мне хочется, чтобы люди перестали приводить ко мне этих поляков. То же самое и с чехами. У нас нет ничего общего, кроме единого славянского языка. Во время войны кругом были поляки. Теперь повсюду чехи. Миссис Корнелиус рассказала соседям, каких высот я достиг и как пострадал. Но я не хотел их сочувствия. Я говорил ей, что сделал ставку и проиграл.
Я подхожу к каналу возле Харроу-роуд. Там очень холодно. Все гниет. Все серо. Вода покрыта какой-то слизью. Дорожка вся в грязи. Я смотрю на задние стены брошенных зданий, где больные дети бьют уцелевшие окна и мочатся на половицы, где ночуют бродяги. Они покрывают кирпичи своими экскрементами и безграмотными лозунгами. Это – воскресный день, и это – моя прогулка! Мой выходной, мой отдых, моя передышка! Я видел чудеса Константинополя, славу Рима, мужественное величие Берлина до бомбежек, элегантность Парижа, жестокое великолепие Нью-Йорка, волшебную роскошь Лос-Анджелеса. Я одевался в дорогие шелка. Я удовлетворял свои желания с женщинами поразительной красоты и высокого происхождения. Я на собственном опыте испытал все величайшие технические чудеса в мире: огромные лайнеры, небоскребы, самолеты и дирижабли. Я познал волнение быстрых и прекрасных путешествий. А теперь я бреду по грязной тропинке, глядя на бродяг и испачканные стены, страшась за свою никчемную жизнь, молясь о том, чтобы не вляпаться в собачье дерьмо и не привлечь внимание безжалостных юных бандитов. Эхо их криков разносится над водой – таинственные хрипы и стоны примитивных амфибий, свидетельствующие о возвращении к кровавому невежеству и безрассудной дикости.
И я провел здесь почти полжизни! С 1940 года – в одном районе Лондона. Dopoledne…[19] Первую же половину жизни я потратил на исследование и обучение всего цивилизованного мира. Майор Синклер, великий американский летчик и мой наставник, предупреждал меня, чтобы я не делал ничего модного. Синклера также уничтожили из-за непопулярных взглядов. Его друг Линдберг – еще один великий человек, которого погубили мелкие и порочные враги. Линдберг однажды доверил мне свою сокровенную тайну. Он никогда не собирался лететь в Англию. Он вообще-то направлялся в Боливию, но его подвели приборы. У нас было много общего, у меня и у Линдберга. Он знал, почему евреи взорвали «Гинденбург»[20].
Под арками автострады, которой «архитекторы» разделили пополам Ноттинг-Дейл и Лэдброк-Гроув, не подумав о тех, кто живет внизу, цыгане строят лачуги из старых дверей и смятого железа, ставят старые телеги среди куч щебня и мусора. Их тощие собаки носятся повсюду, их дети грязны и заброшены. По чудесной современной дороге машины мчатся в разные стороны, мчатся с запада, из Бристоля, Бата и Оксфорда, где люди живут в роскоши, сохранившейся с восемнадцатого столетия. Это чистая, созданная с умом дорога. Говорят, она помогла разгрузить жилые районы. Но чтобы ее построить, им пришлось снести наши дома. На их месте появились нелепые, безликие башни. По обе стороны Лэдброк-Гроув, в тени Вествея, стоят, пошатываясь, алкоголики обоих полов. Они просят денег, чтобы купить денатурата, и проклинают вас, если вы посмеете отказать им. Или по ночам к вам пристают мальчишки-тунеядцы, угрожая и паясничая. Из бетонных пещер рвется горящий бутан – точно так же отсветы пламени от керосиновых горелок поднимались над рыночными палатками зимой в старом Киеве. Они построили большую чистую дорогу на запад и создали настоящий кроличий садок для воров и бритоголовых, которые цепляются к поверхности цивилизации, как водоросли к лодке. Выжить без цивилизации они не смогут.
Я не говорю, что Портобелло-роуд и Ноттинг-Дейл были прекрасны. Таксисты отказывались по ночам возить пассажиров на Голборн-роуд. Район славился своими проститутками, и половина населения была связана с преступным миром. Полицейские ходили по нашим переулкам по трое. Но социальные работники и политики сказали нам, что все изменится. Дорога, утверждали они, уничтожит несправедливость и нищету.
Грязные грузовики исчезнут. В городе начнется райская жизнь. И что мы получили?
Рок-группы дают бесплатные концерты между пролетами автострады и призывают слушателей к революции и курению гашиша. Шлюхи по дешевке обслуживают клиентов возле опорных столбов, негры-гомосексуалисты ссорятся и визжат, а машины мчатся у них над головами и несут лордов и леди в Бат, Оксфорд и Хитроу. Эти архитекторы мечтали об Утопии, но отвергали реальность. Уже тогда Утопия была невозможна по финансовым причинам. Может, она и вообще была недостижима. И тем не менее они продолжали строить, как будто ничего не изменилось. Они проложили свою замечательную дорогу, в точности как обитатели Новой Гвинеи строят самолеты из бамбука, чтобы те вновь доставили изумительные грузы, падавшие к ним с неба во время Второй мировой.
Они говорили нам, что в сотворенной ими грязи разобьют цветники. Это bezhlavy[21]. Они говорили, что построят театры и магазины и окажут социальную помощь всем живущим под Вествеем, но даже не смогли справиться с цыганами, которые дерутся и пьют под арками магистрали от Шепердз-Буш до Маленькой Венеции, убивают друг друга, колотят жен и детей, отказываются учиться и работать, молодые бандиты угрожают пенсионерам, умственно отсталые показывают свои синие члены маленьким мальчикам. И им еще хватало наглости смеяться надо мной из-за моих мечтаний! Чем их Утопия лучше моей? И где процветание, которое мы должны были увидеть? Торговцы приезжают из своих пригородов на Портобелло-роуд по пятницам и субботам, они носят богемные наряды и продают дорогое барахло. Они делают трущобы туристическим аттракционом. Но аттракцион снова превращается в трущобу, когда они уезжают. По четвергам я вижу изумленных американцев, снующих туда-сюда по грязным улицам в поисках волшебства, отыскивая волшебство, которое, подобно странствующему цирку, появляется только в определенное время, скрывая вечную бедность и невежество. Где «Битлз» и бобби на мотоциклах, едущие попарно? Где огромные стены Виндзора и колокола старого Святого Павла? Они не хотят ничего, кроме романтики. По четвергам мы не можем ее обеспечить.
И что, деньги, полученные от туристов, остаются здесь? Нет. Они возвращаются назад в Сербитон, Твикенхэм и Парли[22], и ночью грабители и алкоголики появляются вновь, как будто ничего не происходило. Туристы возвращаются в «Браунс», «Уайтс» и «Парковую гостиницу». В Вест-Энд пойдешь – лучший конец найдешь… «Мир Диснея» в прошлом году, «Мир Англии» – в этом. Каждая страна – особый тематический парк, изолированный, косметически совершенный. И автобусы, спортивные автомобили и грузовики мчатся по Вествею над грязью и неромантичной нищетой. И никто никогда не узнает, в какую человеческую грязь вкопаны огромные дорожные опоры. Но магистраль принесла прибыль мистеру Марплзу и мистеру Риджуэю[23], она принесла прибыль спекулянтам свингующих шестидесятых, Файнштейнам, Голдблаттам и Гринбергам.
Миссис Корнелиус ненавидела Вествей. Она говорила, что дорога разрушила образ района. Пришли чужаки, которым раньше здесь делать было нечего. «Эт ’сегда был дружелюбный район, ’се ’сех знали. Тьперь п’явились людишки, к’торые жи’ут в Тауэр-Хамлетсе и Спиталфилде. Черт ’озьми, нишо удивительного, шо стало много ’реступлений. Они знат, шо мамочки не смогут ’десь за ими следить». Миссис Корнелиус твердо полагала, что большинство воров – молодые люди, не понимающие, что у своих красть нельзя. Старые семейные банды из Ноттинг-Дейла обычно сражались друг с другом. Если ты не был связан с бандами, тебя никто не трогал. Разрушение семей привело к последствиям, которых не могла предвидеть даже Церковь. Но теперь мы наблюдаем, как распадается сама цивилизация – повсюду, во всем христианском мире. Гунны снова копаются в наших руинах, и мелкие торгаши ставят свои палатки в наших святых местах, странствующие актеры разыгрывают непристойные представления в наших храмах, а патриции прячутся на своих виллах подальше от города, опасаясь выступить против тех самых людей, которые купили право первородства. История повторяется, и Христос смотрит на нас с небес и рыдает. Я мечтал спасти мир от подлости и жестокости, а вместо этого стал свидетелем вырождения. Может, доживу и до последней катастрофы…
Я делал все, что мог. Одна только миссис Корнелиус поняла ужасную иронию моей жизни. Я был гением, но недооценивал силы Зла. Баронесса называла меня «очаровательно аморальным». Полагаю, она имела в виду то же самое.
Глава третья
Мы – живые пастбища, на которых пасутся микробы, наша омертвевшая кожа – их хлеб насущный, мы – их Вселенная. Возможно, мы, по их мнению, передвигаемся по таким же предсказуемым орбитам, как планеты, и именно поэтому москиты всегда знают, где нас искать. Может, это всего лишь наша иллюзия – будто мы движемся по воле случая или по собственной воле. Мои ноги коснулись русской земли гораздо раньше, чем я предполагал, когда покидал Одессу. Вероятно, это было предопределено. На капитана явно подействовал мой намек на дела в Батуме, имеющие значение для правительственных сил, поэтому он охотно дал мне разрешение провести время на берегу. Баронессе также разрешили сойти на берег, хотя капитан заметил, что не несет ответственности за пассажиров, которые не смогут вернуться к отплытию корабля.
– Мы получили приказ забрать столько беженцев, сколько сможем, мистер Пьятницки. Однако это не гражданское судно, и у нас есть и свои очень важные задачи. Я уверен, вы это понимаете.
Я дал ему слово, что буду на палубе, когда «Рио-Круз» поднимет якорь.
– Я надеюсь установить на берегу связь с некоторыми антибольшевистскими силами, – сказал я.
Он ответил, что это мое личное дело. Я немедленно отыскал Леду Николаевну, которая, конечно, пришла в восторг от моих новостей и уже решила оставить Китти и няню на борту. Она заявила в свое оправдание, что собирается день-другой посвятить прогулкам по магазинам. Она думала, что мы пробудем на берегу только одну ночь, а потом вернемся на корабль. Если «Рио-Круз» все еще не будет готов к отплытию, то мы сможем еще раз переночевать в Батуме, и так далее.
– Но как мы отыщем гостиницу?
– Я легко решу проблему, – сказал я ей. – Я всю жизнь полагался только на свою сообразительность. Я чрезвычайно находчив.
В тот день ее любовные ласки были пикантнее, чем когда-либо прежде. Я с нетерпением ожидал нашего «отпуска на берегу», как говорила баронесса.
На следующее утро ко времени завтрака воздух прогрелся, но пошел сильный дождь. За столом капитан Монье-Уилльямс объявил, что мы должны пришвартоваться в Батуме в течение двух часов.
– Как приятно будет оказаться в порту, где сохранился хоть какой-то порядок. – Капитан прибыл сюда в третий раз за два месяца. Британцы управляли и городом, и гаванью почти целый год. – Хотя бог знает, что там творится теперь. В прошлый раз, когда я говорил с Дрейком, начальником порта, он находился в безвыходном положении. Очень много беженцев со всех концов России.
– Британцев это должно радовать, – сказал я. – Значит, им доверяют.
– Извините, что я так говорю, мистер Пьятницки, но это – ужасное бремя. Что случится, когда мы уйдем?
– Они соберут вещи и переправятся в Турцию. – Джек Брэгг с присущей ему бодростью попытался поддержать меня. – Хуже там не будет. – Анатолия находилась всего в десяти милях от Батума. – А может, нам стоит пойти до конца и объявить, что город находится под британским протекторатом?
– Не думаю, что русская армия с восторгом примет это известие. – Капитан Монье-Уилльямс сухо улыбнулся мне. – Во всяком случае, здесь мы составили более или менее ясное представление о том, как нужно действовать. Все желающие сойти на берег должны получить увольнительную у мистера Ларкина.
Второй помощник исполнял обязанности казначея и связного между русскими пассажирами и британской командой. Миссис Корнелиус еще не проснулась, и я очень этому обрадовался. Я бы смутился, если б она пришла в салон прежде, чем я изложу ей свои планы.
– Предупреждаю вас, – продолжал капитан, – что в городе полно большевистских агентов. Уверен, там есть саботажники и погромщики. Так что будьте осторожны, не говорите лишнего. – Это предупреждение он адресовал всем нам. – Когда вы вернетесь, мы будем очень тщательно проверять вещи и документы. Мы не хотим, чтобы в ваши чемоданы подсунули бомбы.
С губ капитана не сходила сардоническая улыбка, но было очевидно, что его отношение к делу не изменилось. Как и все прочие, он с нетерпением ожидал прибытия в Константинополь.
Когда я собрался уходить, к капитану подкрался Герников. Он был одет в ужасный твидовый костюм и курил немецкую сигару. Губы его постоянно кривились, а голова вертелась, как будто он пытался выбрать из множества жестов и взглядов именно те, которые произведут наилучшее впечатление на нашего капитана.
– Сэр, – невнятно произнес он по-английски. – Я хотел бы сказать вам пару слов.
Капитану, я уверен, Герников нравился не больше, чем мне, но Монье-Уилльямс вел себя с евреем так же вежливо и терпеливо, как и со всеми нами. Герников говорил тихо, и я не мог ничего разобрать. Я очень хотел уйти, поэтому извинился и вышел на палубу, чтобы присоединиться к моей баронессе. Она держалась за поручень, прикрывшись большим зонтиком темно-синего цвета. Китти играла с двумя деревянными куколками совсем рядом, в тени мостика, а Маруся Верановна бесстрастно сидела возле девочки на складном табурете, следя за куклами так, будто они в любой момент могли взбеситься. Я приподнял шляпу, приветствуя их обеих. Баронесса обернулась, улыбнувшись мне. Мы обменялись обычными формальными приветствиями, а потом я спокойно сказал:
– Через два часа мы достигнем Батума. Но вам нужно повидаться с мистером Ларкиным и получить пропуск. Полагаю, будет лучше, если мы поедем порознь.
– Разумеется.
Она надушилась новыми духами. Я чувствовал аромат роз, который, казалось, предвещал лето. На несколько секунд, пока баронесса объясняла служанке, что уйдет на некоторое время, я перенесся в детство. Я вспоминал густой аромат сирени в весеннем Киеве, поля пшеницы, огромные маки и полевые цветы с длинными стеблями, которые Эсме собирала у подножия холмов. Я отдал бы все, лишь бы возвратиться ненадолго в то волшебное состояние невинности, которое исчезло очень скоро, – когда я нашел Эсме в лагере анархистов и она, смеясь, рассказала о том, что с нею сталось. Она говорила, ее насиловали так часто, что между ног у нее появились мозоли. И я больше никогда не мог любить как прежде – нежно, легко, беззаботно. Я жаждал того глупого счастья. Я надеялся вновь пережить его с Ледой, поверить в наш союз, неповторимый и вечный. Но это было невозможно. Все женщины, за исключением миссис Корнелиус, теперь угрожали моему благополучию.
Они предали мои лучшие чувства. Я не больше доверял мужчинам – но вряд ли кто-то рискнет доверять свои чувства им. А дети могли быть самыми худшими предателями – и в этом я убеждался снова и снова.
Баронесса вернулась в хорошем настроении, получив пропуск. Однако, когда я вернулся в салон, мне пришлось встать в очередь, в которой уже стояло больше десятка человек. Я оказался позади гнусного Берникова, который немедленно обернулся и еще раз настойчиво, с неуместной фамильярностью заговорил со мной. Он что-то рассказывал о родственниках, которых надеялся отыскать в Батуме, о слухах, будто белые и красные похищают евреев ради выкупа, чтобы раздобыть денег на продолжение войны, о том, что союзники обсуждают идею какого-то утопического сионистского государства между Россией и Турцией, которое станет своеобразной буферной зоной для большевиков. Он болтал всякую ерунду, и вскоре я перестал обращать на него внимание. Тем временем мистер Ларкин, как всегда занудный и серьезный, наморщив лоб и вытерев блестящую лысину, уселся за небольшой карточный столик, деловито проверил документы и выдал короткие справки на листках с отпечатанным сверху названием корабля. Он слишком много времени потратил на Берникова, но наконец и я получил свой паспорт. Мистер Ларкин действовал достаточно быстро, ведь он, конечно, узнал меня. В простой записке говорилось, что нижеподписавшийся, Максим А. Пятницкий, путешествовал на торговом судне его величества «Рио-Круз» из Одессы в Константинополь и мог находиться на берегу в Батуме, но обязывался вернуться на борт корабля за пять часов до отхода. Мне нужно было расписаться внизу и взять с собой обычное удостоверение личности.
– Эти пять часов – просто на всякий случай, – сказал мистер Ларкин. – У вас не будет никаких проблем, если вы немного задержитесь.
К тому времени, когда я воссоединился с баронессой, вдалеке показался берег, дождь поутих и горизонт очистился.
– Разве это не чудесно, что наконец станет солнечно? – оживилась Леда. – Боворят, даже в это время могут выдаться очень теплые дни.
Я не мог поверить, что британцы оставят Батум.
– Может, нам следует подумать о том, чтобы осесть там, – сказал я. Под покровом шутки я скрывал свое искреннее нежелание покидать родную землю. Я знал, что баронесса разделяла мои чувства.
Она отмахнулась от моих слов легко, как истинная фаталистка:
– Давай наслаждаться временем, которое у нас есть, и не думать о том, что могло бы быть.
Я решил сообщить новости миссис Корнелиус. Она одевалась, когда я постучал в дверь каюты.
– ’рост ’огоди минутку, пока я штанишки одену.
Она выглядела необыкновенно хорошо, ее лицо разрумянилось, глаза сверкали. Она собиралась надеть оранжевое платье. Я сказал, что хочу сойти на берег и провести день в Батуме, потому что надеюсь отыскать там пару старых друзей.
– Мож, мы с т’бой там свидимся, – заметила она, набросив на плечи пелерину из лисьего меха. – Я‑то думала сама сойти немного прогуляться. – Она рассмеялась, посмотрев мне в лицо. – Ты не ’ротив, лады?
Я не предполагал, что она захочет сойти на берег. Я смог только наклонить голову, пожать плечами, улыбнуться, упаковать смену белья в свою маленькую сумку и согласиться, что неплохо бы нам пообедать вместе где-нибудь в Батуме. Она была последним человеком, которому я хотел бы сообщать о связи с баронессой. Я оставил сумку на своей койке и вышел на переднюю палубу.
Вода внезапно стала синей, и белые толпы облаков быстро помчались на север. Когда они отступили, вода посветлела, деревянные и металлические части корабля засверкали на солнце. Мы как будто плыли на золотой барке по серебряному морю. Почти немедленно все вышли на палубу и выстроились вдоль поручней, снимая верхнюю одежду, болтая и веселясь, как клерки и фабричные девочки на пикнике. Корабль оставлял на воде след – кремовая пена вздымалась над густой синевой, а впереди были снежно-белые пики, зеленые склоны предгорий, очертания лесов, даже слабый намек на сам Батум. Когда корабль изменил курс и двинулся прямо к берегу, мы могли разглядеть отблески белого, золотого и серого цветов.
Пейзаж был необычайно красив, панорама поросших лесом холмов и зеленых долин открывалась в туманном свете. Казалось, мы волшебным образом перенеслись из зимней стужи в разгар весны. Птицы пролетали над густыми лесами. Мы видели, как бледная дымка поднимается над зданиями пастельных цветов – нам открывался удивительный мир, и мы к этому зрелищу были совершенно не готовы. Люди хихикали и вертели головами как сумасшедшие. Некоторые взрослые начинали плакать, возможно, поверив, что мы перенеслись в рай. Чайки хрипло и вульгарно приветствовали нас, они вились над самой палубой. Шум двигателя звучал все живее и веселее. Теперь мы могли разглядеть длинную охристую линию каменного мола, промышленные здания нефтяной гавани, угольные склады, белую пристань вдали, сверкающие купола церквей и мечетей. Британские и русские суда ровно выстроились вдоль пристаней. Батум оказался небольшим. Ему недоставало величия Ялты или военной основательности Севастополя, но в этом тумане, с позолоченными крышами и флагами, Батум выглядел бесконечно прекраснее любого города, который нам случалось видеть. Нам, привыкшим к неуверенности, разорению, смерти и опасности, он виделся одновременно хрупким и надежным – настоящим укромным уголком. Батум располагался в заливе, окруженном холмами, густо поросшими лесом, вдали от больших дорог. С остальной Россией его связывало лишь железнодорожное сообщение. Восточный облик города заставил нас почувствовать, что мы уже достигли цели, что мы оказались в легендарном Константинополе. И мы начали действовать так, будто это место и являлось конечной точкой нашего назначения. Теперь я по-настоящему хотел распаковать чемоданы и пустить корни в земле, которая была частью России, пусть и азиатской. Понятия не имею, чем бы все закончилось, если бы я подчинился тогда первоначальному импульсу. Я до сих пор иногда жалею, что не покинул «Рио-Круз» тотчас же, но я не мог позабыть о похвалах мистера Томпсона, не мог отказаться от мечты о предстоящей научной карьере в Лондоне. Наверное, через месяц я разочаровался бы в Батуме. Он был прекрасным оазисом в бурном мире. Это происходило за несколько лет до того, как Сталин полностью уничтожил старый город. И все же Батуме не мог стать подходящим убежищем для человека, который мечтал о гигантских воздушных лайнерах и летающих городах и хранил в своем чемодане описания новых способов управления силами природы.
«Рио-Круз» медленно протиснулся на свободное место между французским фрегатом и русским торговым судном, брошенные канаты подхватили на берегу английские моряки. Вода, которая билась о теплые камни, была полна ярко-зеленых водорослей и покрыта радужной нефтяной пленкой. Я ощущал запах Батума. Я вдыхал ароматы влажной листвы, жарящегося мяса, мяты и кофе. Вдоль набережной росли пальмы. В Батуме были обширные парки, общественные сады с перистым бамбуком, эвкалиптами, мимозой и апельсиновыми деревьями. Я видел ровные ряды темных зданий, виноградные листья, ржавое железо, кирпич и штукатурку. И высоко над общественными зданиями в центре города парили флаги двух империй, русской и британской. В будках у причала и у таможни стояли на страже суровые матросы Королевского флота с карабинами и нагрудными патронташами. Пристань была безупречно чиста. Повсюду виднелась полированная древесина и свежая краска. Я услышал гул моторов, грохот трамваев, знакомый суматошный шум обычных городских улиц. За рядами деревьев я разглядел отели, магазины и тротуары, по которым бродили представители разных рас и классов. Здесь встречались русские, британские и французские мундиры, мусульманские тюрбаны и греческие фески, парижские костюмы и домотканые халаты. Революция на время улучшила жизнь Батума, придав ей интеллигентные и изысканные черты, которые прежде здесь были неведомы. Я чувствовал себя, как пес на поводке, когда поспешно собирал свою небольшую сумку и ждал, пока опустят трап. Мое удовольствие было испортил только толстый потный Берников, нетерпеливо (несомненно, он уже придумал, как можно подзаработать в Батуме) прижимавшийся ко мне. Он подмигнул:
– Неплохое удовольствие, а? Совсем не то, что штамповать паспорта в Одессе, это уж точно.
Испуганный тем, что Берников так много знал о моем прошлом, я ничего не ответил. К моему превеликому облегчению, моряки и солдаты наконец выстроились на причале, область выгрузки освободили, у трапа поставили стол, офицеры предъявили бумаги и обменялись рукопожатиями. Наконец пассажирам подали сигнал, что можно сходить на берег. Я первым спустился по качающейся лестнице, опередив Берникова. Я распахнул пальто и расстегнул воротник, наслаждаясь теплом. Сжав перчатки в руке и сдвинув шляпу на затылок, я усмехнулся британским офицерам, которые тщательно осмотрели мои бумаги, а затем возвратили их мне. Я равнодушно кивнул и что-то пробормотал русскому чиновнику, осмотревшему содержимое моей сумки. Почти нараспев я отвечал украинскому сержанту, который еще раз изучил мои бумаги и проверил мое имя и описание по большой бухгалтерской книге. Он был огромным, толстым человеком с тяжелыми усами и доброй улыбкой.
– Будьте осторожны, дружище, – пробормотал сержант, когда я наконец преодолел заграждения и вдохнул сладкий экзотический воздух Батума. – Здесь многие не согласны с тем, что настало время буржуев. – Я обернулся и пристально посмотрел на него. Он говорил как красный. Но сержант улыбнулся. – Всего лишь дружеское предупреждение.
Увидев, что у обочины, в тени пальм, располагается самая настоящая стоянка извозчиков, я едва не умер от радости. Клячи были почти такими же дряхлыми, как и сами возницы, и отделка четырехместных экипажей изрядно пострадала от времени, но в точности такую же картину можно было наблюдать в довоенном Петербурге, или по крайней мере в одном из его пригородов. Я подошел к ближайшему извозчику. Старик с густыми седыми бакенбардами, с длинным кнутом, в толстом кучерском пальто, в цилиндре – он словно сохранился неизменным со старых, царских времен. Я спросил, за сколько он возьмется отвезти меня в лучшую гостиницу в Батума.
– В лучшую, ваша честь? – На румяном лице появилась добродушная и снисходительная улыбка. – Это дело вкуса. И еще дело ваших убеждений, могу сказать. Также надо узнать, найдутся ли для вас комнаты. Как насчет «Ориенталя»? Хороший вид, приличная еда.
Наверное, я глазел на него, разинув рот, ведь он говорил на чистом русском языке, на каком говорили в Москве.
– Сколько? Ну, конечно, есть цена в рублях, но никто не принимает рубли. Есть ли у вас турецкие лиры? Или британские деньги – это было бы лучше.
– У меня есть серебряные рубли. Настоящее серебро. Никаких бумажных денег. – В этом отношении разговор ничем не отличался от бесед, которые вели во всех прочих частях России.
– Очень хорошо, ваша честь. – Он провел по щеке концом своего длинного кнута. – Возьмите с собой сумку. Есть много комнат.
Я не торопился следовать его совету. Наконец я увидел, что баронесса, как и было запланировано, идет ко мне по тротуару. Тут, к своему ужасу, я осознал, что ее сумку нес вездесущий Герников. Я изо всех сил старался не замечать его и, приподняв шляпу, приветствовал баронессу, как и было уговорено.
– Могу ли я подвезти вас, баронесса?
Я, однако, не принял во внимание, что еврейский делец вмешается в нашу маленькую идиллию. Он перевел дух, поставив сумку, потом пристально посмотрел на Леду и на меня. Я готов был поклясться, что взгляд переполняла злоба. Баронесса вежливо заметила:
– Вы очень добры, господин Герников. Думаю, что приму предложение господина Пятницкого, поскольку нам по пути.
Она взяла у него из рук свой маленький саквояж и нерешительно опустила на землю. Я положил свои вещи в экипаж и потянулся за ее багажом. Герников улыбнулся мне:
– Еще раз доброе утро, господин Пятницкий.
– Доброе утро, Герников. Очень жаль, но я не смогу вас подвезти.
– Это неважно. Я найду дорогу в Батуме. Спасибо.
Его наглый, ехидный тон меня раздражал.
– Ты слишком груб, Максим, – смущенно заметила Леда, усевшись в наш экипаж. – Ты же понимаешь, бедный Герников не хотел ничего дурного. Ты что, ревнуешь к нему? Он тебе не соперник.
– Я хочу остаться с тобой наедине. – Я устроился рядом с баронессой. – Не желаю, чтобы кто-то испортил нам праздник.
Повозка помчалась легкой петербургской рысью. Раздраженно поморщившись, Леда решила больше не говорить о Герникове. Мы поехали гораздо быстрее, когда повозка преодолела пристань и оказалась на бульваре. Это, по всей видимости, взволновало Леду, и ее губы приоткрылись, как будто она уже задыхалась от прилива похоти, более сильной и неотступной, чем моя. Когда наши тела случайно соприкасались, мы с трудом удерживались от объятий. Чтобы соблюсти приличия, я сел напротив баронессы. Мы притворялись, что любуемся очаровательными зданиями, аккуратными цветниками, кустами и высокими пальмами. Мы попытались продолжить беседу, словно репетируя наш маленький спектакль.
– Какой прекрасный закат!
– Мне кажется, британские офицеры были очень любезны.
– И русские тоже необычайно учтивы. Разве это не прекрасно – сидеть в настоящем экипаже?
Поездка оказалась относительно короткой – промчавшись по аккуратным улочкам, не разрушенным войной, мы вскорости достигли «Ориенталя», высокого и изящного здания на набережной, окна которого выходили на гавань. Полированное каменное крыльцо и резные колонны в египетском стиле, украшенные золотом, вызвали у меня ощущение уюта и покоя. Баронесса ждала в экипаже, я поднялся по лестнице и вошел в просторный тихий холл, приблизился к стойке администратора и спросил, есть ли в гостинице свободные комнаты. Худощавый армянин, управляющий, изобразил искреннее огорчение и сообщил, что обычных номеров не осталось, только два «люкса» по цене три английских фунта за день. Он с радостью примет чек любого солидного европейского банка, в крайнем случае готов получить оплату франками, но, к великому сожалению, никак не сможет принять русские платежные средства, за исключением золотых. Я сделал вид, что это совершенно в порядке вещей, и продемонстрировал легкую надменность и нетерпение. Управляющий повторил свои извинения и отправил грузина-швейцара за нашим багажом. Я в это время проводил баронессу по широкой желтоватой мраморной лестнице на второй этаж. На полу лежали розовые ковры, обивка стен была того же цвета. Это напомнило мне о роскошных путешествиях первым классом в довоенные времена. Наши номера находились на разных этажах, один над другим. Когда мы подошли к дверям ее комнаты, я снял шляпу, поклонился и громко пожелал баронессе приятного отдыха.
– Всегда к вашим услугам.
– Я вам очень признательна, господин Пятницкий.
– Не желаете ли поужинать со мной сегодня вечером?
– Спасибо.
– Встретить вас здесь в шесть тридцать?
– В шесть тридцать. Превосходно.
Я подал швейцару знак, что можно идти наверх. Мы расстались. Эта небольшая сценка, конечно, предназначалась только для служащих отеля. Я преодолел еще один лестничный пролет, укрытый земляничного цвета ковром, затем прошел со своей маленькой сумкой в огромную дверь, которая подошла бы для дворца калифа. Я оказался в изысканной гостиной. Дальше находилась спальня, размеры и обстановка которой скорее были бы уместны в небольшом гареме – огромная кровать под балдахином, газовые занавески, потолок, расписанный темно-синими и золотыми арабесками. Из окна открывался вид на высокие пальмы и синее море. Я оказался в раю. Я дал швейцару на чай серебряный рубль и молча усмехнулся в ответ на его недовольство. Когда он удалился, я вышел на балкон и полной грудью вдохнул теплый пряный воздух. Я забыл, на что похож настоящий комфорт. Это было предвестие всего, на что я мог рассчитывать в Европе. Конечно, подобную роскошь я увижу в Лондоне. Роскошь в Париже. Роскошь в Ницце. В Берлине. Там будут солидные автомобили, загородные дома аристократов, слуги, дорогие рестораны – все то, чего я уже никогда не ожидал увидеть лишь два месяца назад. Я начал понимать, что вскорости смогу жить в городах, которые не меняются в одно мгновение, в городах, где внезапное нападение представляется невозможным, где процветает поистине неуязвимая культура и порядок, в городах, где слово «большевизм» считается в худшем случае дурной шуткой и где законность остается чем-то само собой разумеющимся.
Когда я снял пальто и пиджак и растянулся на синем бархатном покрывале, меня начал бить озноб. Я судорожно дышал и хохотал в голос, слезы облегчения текли по моему лицу. Я наконец осознал, насколько мне повезло, как страшен был тот ужас, которого я избежал. Для меня стали нормой насилие, подозрительность, ложь, внезапная смерть, клевета, беззаконие. Но внезапно я увидел, что по-прежнему существуют безопасные, уютные места, культурные спутники, которых я сам могу выбирать. И заслуженная награда ожидала меня совсем рядом. Почти опьянев от волнения, я надел пиджак, выскользнул за дверь и осторожно спустился, стараясь не привлекать ничьего внимания.
Моя восхитительная любовница, уже полураздетая, бросилась в мои объятия – мягкое, душистое, нежное, похотливое создание. Даже не сняв верхнюю одежду, я взял ее прямо на покрывале. Потом мы разделись, укрылись замечательными, недавно выстиранными и благоухающими лавандой льняными простынями и снова начали совокупляться. Как же я хотел влюбиться в нее, позабыть о здравом смысле, поклоняться ей! Я взлетел на высоты эйфории, придумал изумительную свадьбу и обещал хранить верность своей возлюбленной до самой смерти – так обычно и поступали мальчики моего возраста. Здравый смысл не имел значения. Леда испытывала такое же наслаждение, как и я. Ее тело было таким мягким, таким роскошным, таким реальным… В самом разгаре любовных ласк на ее лице застывало выражение экстаза, и она становилась похожа на богиню, в жилах которой текла не кровь, а раскаленная медь. Моя влюбленность никому не причиняла вреда. Ее вожделение было восхитительно. Моя похоть была столь же велика. Мы обрели безграничный запас энергии. Нам не понадобился даже кокаин. Позже я скрылся в спальне баронессы, а она заказала вино и еду. Мы набросились на сыр, холодную говядину и лососину. Мы жадно глотали французское шампанское. Когда минула половина седьмого, мы позабыли о том, что собирались пообедать в приличном заведении, и снова совокупились на темно-синем турецком ковре. Потом она заказала в номер икру и белое грузинское вино, и мы пожирали пищу так же жадно, как вылизывали друг друга. Я не был влюблен. Я никогда не смог бы полюбить другую женщину, кроме моей матери или миссис Корнелиус. Но Леда была влюблена, и это чувство передалось мне, оно вдохнуло в меня новую жизнь. Я почти позабыл об Эсме и обо всем, чего лишился. Баронесса сказала, что я, наверное, величайший любовник в мире, наша связь никогда не должна прерваться. Я знал, что она не осмеливается произнести, чего хотела на самом деле: чтобы мы остались вместе навсегда. Она ждала только моего слова. Но я ничего не сказал. Я уже посвятил всего себя одной мечте. Я мог бы ее воплотить с той Эсме, которую я знал до революции, ибо она с детства слепо поклонялась мне. Но Эсме исчезла. Ее не могла заменить эта красивая решительная аристократка, наделенная таким же воображением и такими же амбициями, как и я сам. Леда привыкла властвовать, и поэтому ее желания почти всегда сталкивались с моими. Таких женщин, как Эсме, больше не осталось. И без нее мне приходилось реализовывать свои мечты в одиночестве.
На следующее утро мы, слегка уставшие, вернулись, чтобы узнать, когда отправится корабль. Мистер Ларкин сказал, что, по его предположениям, мы пробудем в порту еще не менее двух дней. Как дети, освобожденные от школьных занятий, мы прогулялись по усаженному пальмами променаду и посмотрели на маленьких мусульманских мальчиков, которые играли на пляже в салки и бабки. Потом по предложению баронессы мы направились к церкви Александра Невского[24] – отделанному голубым мрамором зданию, строительство которого закончилось лишь несколько лет назад. Эта церковь, с ее золотым куполом и шпилями, была воплощением истинно русской веры. Великое множество людей входило и выходило из огромного храма. Я предположил, что они молятся о пропавших родственниках, а может, и о душе самой России. Мы хотели задержаться лишь на пару минут, просто чтобы суметь потом рассказать об увиденном, но баронесса решила, что следует остаться подольше, и я был благодарен ей за это. В те времена я еще не обрел веру, и все же чувствовал себя гораздо спокойнее в этих беломраморных храмах, под высокими сводчатыми потолками, среди великолепных икон. Здесь я обнаруживал доказательства истинной духовности русских людей, ибо все раскрашенные доски, стоявшие в нишах, были произведениями настоящих мастеров. Укрываясь в этом тихом священном месте, вдали от страданий Одессы и Ялты, невозможно было думать о том, что варварство так стремительно поглотило нашу страну. Потом я услышал, что после ухода англичан из Батума большевики начали спорить, как использовать собор. Кто-то хотел устроить там конюшни, но православные возмутились. После долгих переговоров наконец был найден компромисс: «Мы согласны – сделайте из нашего собора конюшню. Но тогда разрешите нам устроить в вашей синагоге сортир!»
У главного престола мы наткнулись на изображение Христа, стоящего на воде, в натуральную величину. Он протягивал руку помощи тонущему Петру. Это была пророческая для России картина. Петр, наш святой заступник, тонул. И Христос оставался нашей единственной надеждой. Эта фреска произвела на меня более глубокое впечатление, чем я тогда подумал. Вынужден признать, что в ту минуту я стремился поскорее вернуться в «Ориенталь», в нашу постель. И все же я до сих пор могу вспомнить резную мраморную отделку, окружавшую изображение. Стоящего Христа окружал золотистый свет. Петр по пояс погрузился в воду, простирая руки к нашему Спасителю. Я помню цветы и вырезанные на камне кресты, маленькие электрические лампочки, висевшие под куполом. Все было совершенно новым. Несомненно, большевики все уничтожили и продали то, что представляло ценность, оттолкнув руку помощи, протянутую Христом.
Мы с Ледой некоторое время погуляли по саду, разбитому близ собора, и удалились через боковые ворота – как раз вовремя, чтобы увидеть отряд пенджабцев, шагавших по бульвару. Уверен, что англичане использовали такие отряды, как французы использовали сенегальцев: в знак предупреждения, чего ожидать в случае победы красных. Азия не ушла из Батума, даже во время короткой передышки. Пенджабцы шагали двумя колоннами к гавани, в тюрбанах цвета хаки и с винтовками за плечами. Как обычно, баронесса не поняла смысла происходящего.
– Они выглядят великолепно, не правда ли? – сказала она.
Такое же замечание могла сделать женщина восьмого столетия, увидев, как мавры перебираются через стены Барселоны. Они, несомненно, считали, что возвращались домой, потому что самым своим именем Барселона обязана основателю – карфагенянину Гамилькару Барке. Когда римляне изгнали карфагенян из Европы, когда испанцы наконец вытеснили мавров – посчитал ли кто-то ужасную цену? В те дни честь и религия значили все. Когда Великобритания решила, что больше не может содержать индийских наемников, она вывела их из России, бросив людей на милость варварских орд, врагов Христа. Запад выждал всего год или два, а потом начал заключать торговые соглашения[25]. Торговое соглашение – вот что погубило Китайскую империю. Чингисхан знал им цену. С тем же успехом можно было подписать договор с самим Сатаной!
«Россия будет спасена. Россия будет спасена», – шептала мне той ночью Леда. Но сегодня я спрашиваю свою баронессу, которая, вероятно, умерла, когда большевистские бомбы обрушились на ее квартиру на Брюдерштрассе двадцать пять лет спустя: «Моя дорогая женщина, которую я почти полюбил, когда же это случится?» Она жила над берлинской антикварной лавочкой и работала на швейцарского специалиста по иконам. Я так и не узнал, было ли что-нибудь между ними. Швейцарец выжил. Он умер от старости в Лозанне совсем недавно, заработав миллионы на наших иконах. Ей было примерно пятьдесят семь. Я не испытываю к ней ни малейшей неприязни. Я до сих пор могу вспомнить ее запах. Действительно, я могу вспомнить, как пахли мы оба. Я чувствую, как тонкое белье оборачивается вокруг наших тел, чувствую мягкость и упругость матраса, я смакую вино, слышу шум, доносящийся с улицы, где солдаты стоят на страже мира. Звезды сияют золотом в темно-синем небе, на фоне которого виднеются силуэты пальм. Я вижу огни кораблей над водой, слушаю гудки сирен и крики ночных птиц.
Потребовалось двадцать тысяч британских солдат, чтобы в одном небольшом русском городе сохранить иллюзию того, что прошлое можно сберечь или даже вернуть. Иллюзии ничего не стоили своим создателям. Я помню знаменитые арабские сказки, в которых колдуны расточают свои души на создание призраков. Награда всегда слишком мала, и она не стоит затраченных усилий. Смотрите, говорит волшебник, вот грифон, а вот дракон! Мы не видим, говорят зрители. Взгляните снова! Ах да, теперь мы видим! Но энергия перешла от иллюзиониста к иллюзии. И вот он мертв. Почти все империи пытаются спастись именно так – перед самым концом. И в какую цену обошлась русским людям коммунистическая иллюзия?
Не стану отрицать: мы с баронессой наслаждались неведением, мы погружались в свои фантазии, пока могли. Мы ели, мы занимались любовью, мы разглядывали товары в магазинах, мы посещали базары, я покупал дрянной кокаин. Мы притворялись, что влюблены. Но в ту ночь весь «Ориенталь» содрогнулся, как будто началось землетрясение. Еще толком не проснувшись, мы подошли к окну. Красное пламя, поднимавшееся над темной водой среди огромных облаков черного дыма, сверкало ярче звезд. В нефтяной гавани, по другую сторону мола, горел корабль, пришвартованный неподалеку от нашего. Насколько я мог видеть, непосредственная опасность «Рио-Крузу» не угрожала. Тем не менее по просьбе Леды я оделся и спустился. В холле уже собралось несколько английских офицеров – некоторые одетые, некоторые в халатах. Их голоса звучали громко и взволнованно, хотя, как выяснилось, знали они не больше моего. В конце концов, когда появился вестовой на мотоциклете, один из офицеров сообщил другому:
– Саботаж, разумеется. Красные подсунули бомбу на борт танкера.
Этого мне было достаточно. Я вернулся к баронессе.
– Теперь наш корабль может отправиться в путь раньше. Нам следует к этому на всякий случай подготовиться. Но Китти в безопасности.
Мысль о том, что наша идиллия преждевременно закончится, заставила нас заняться любовью с вновь обретенной страстью.
Мы вернулись утром. На борту судна нас встретил растерянный мистер Ларкин. Палуба «Рио-Круза» была покрыта толстым слоем нефти, и вся команда работала, пытаясь очистить корабль. Мистер Ларкин сообщил, что французский фрегат с немалым риском для себя отбуксировал танкер в море, а потом вытащил его на песчаную отмель, где теперь догорали запасы нефти. Грязный дым проникал повсюду, навязчивый, как рой мух. Лицо мистера Ларкина исказила нервная гримаса.
– Это еще не самое худшее. – Он понизил голос. – Вы знали этого парня, Герникова, не так ли? Его тело подбросили к трапу вчера вечером. Его ударили ножом не менее шести раз. Это ужасно! Его раздели донага. На груди вырезали звезду Давида, а на спине кто-то оставил надпись «предатель». Я никогда не видел ничего подобного. Бог знает, какой сумасшедший мог такое сотворить. Кажется, у него были знакомые в Батуме. Возможно, это один из них. Видимо, поссорились. Красные? Белые? Сионисты? Я не знаю. Военная полиция отмалчивается. У них сейчас и так много дел.
Баронесса плотно прижалась ко мне, едва не в обмороке. Ее лицо стало белее мела, глаза остекленели. Я поддержал Леду, которая судорожно сжимала мою руку.
– Вдобавок, – Ларкин не обращал внимания на ее реакцию, – не хватает Джека Брэгга. Он сошел на берег вчера днем и не вернулся. Все его ищут. Мы до сих пор не знаем, связано ли это с делами Герникова.
– Мне нужно отвести баронессу в каюту, – спокойно сказал я. – Господин Герников был другом ее покойного мужа.
Ларкин покраснел.
– Оставьте свои вещи. Я попрошу матроса донести их.
Леда никак не могла прийти в себя. Уложив ее, я сказал Китти и няне, что у баронессы небольшое отравление. Потом я отправился в бар, чтобы раздобыть там немного бренди. На обратном пути я столкнулся с мистером Томпсоном, который появился из машинного отделения.
– Привет, Пьятницки. – Он стер масло с рук. – Печальные новости.
Я показал коньяк.
– На баронессу это произвело ужасное впечатление.
– Ну, по крайней мере, вы, кажется, держитесь. Вероятно, беспокоиться не о чем.
Я поначалу не понял смысла его замечания, которое показалось несколько бесцеремонным. Задумался я об этом позднее, когда оставил баронессу на попечение Маруси Верановны и вернулся к себе в каюту, чтобы собраться с силами и вдохнуть кокаина. Было очевидно, что миссис Корнелиус провела ночь где-то в другом месте. Я отыскал мистера Томпсона. Он стоял, облокотившись на переборку и наблюдая за моряками, которые вываливали что-то из переднего люка.
– Вы видели мою жену, дружище?
Шотландец был удивлен.
– Я думал, что вы слишком уж спокойны. Вы не знали, что она не вернулась? Она должна была появиться вчера вечером, после обеда. Я решил, что она встретилась с вами где-то в Батуме. – Он окинул взглядом палубу, потом ткнул носком ботинка в масляное пятно. – Ну, это было самое простое предположение. А теперь, когда вы вернулись на корабль…
– Она осталась на берегу?
– Нет, насколько нам известно. – Он густо покраснел. – Послушайте, я склонен предположить, что у нее какие-то мелкие неприятности. И похоже, что Джек Брэгг вмешался в ее дела, попытался помочь ей… Мы скоро узнаем. Но сейчас еще слишком рано волноваться.
Меня не интересовали ни его предположения, ни его уверения. Я бросился к трапу и помчался вниз, на причал, где корабельный казначей беседовал с одним из дюжих морских пехотинцев.
– Полиция ищет мою жену, мистер Ларкин?
Ларкин поджал тонкие губы и протер очки серым от пыли носовым платком.
– Что ж, мы сообщили им все, что знали, мистер Пьятницки. Я думал, что вам должно быть известно, где ваша жена. Она вчера ушла в хорошем настроении, собиралась пройтись по магазинам и осмотреть достопримечательности. Я знал, что у вас дела в Батуме, и подумал, что вы могли ее встретить. Мы не слишком беспокоились.
– Но вы беспокоились из-за Брэгга?
– Джек нарушил приказ. Предполагалось, что вчера ночью он нес вахту.
По-видимому, Ларкин все еще чувствовал себя смущенным из-за того, что выставил себя дураком в случае с баронессой, – шея его была пунцово-красной. Он откашлялся:
– Почему бы вам не отправиться на пост военной полиции, в док номер восемь? Может, им уже что-то известно.
Я помчался по пристани, мое сердце неистово билось под действием кокаина и адреналина. Меня охватила паника. Может, раньше я этого не понимал, но теперь осознал: я беспокоился о миссис Корнелиус больше всех прочих. Без ее помощи мне будет существенно сложнее добраться до Англии.
Отделение военной полиции располагалось в темно-зеленом здании с красной вывеской. Я забарабанил в дверь. Мне отворил капрал в обычном форменном кителе и в клетчатом килте. На его руке белела знакомая мне повязка. Капрал что-то невнятно произнес, а когда я поднял голову и попросил его повторить, он выговорил медленно, как будто беседовал с идиотом:
– И что я могу сделать для вас, сэр?
Я сказал ему, что моя жена, английская леди, пропала в городе. Он стал более дружелюбным и расторопным.
– Миссис Пьятницки, сэр? В последний раз ее видели в кабаре «Шахразада» около полуночи. Наши люди все еще пытаются выйти на ее след, но вы даже не можете вообразить, что тут творится. Тысячи мелких столкновений, белые против красных, греческие православные против турецких мусульман, один сброд против другого, армяне против грузин, турки против армян, одна группа анархистов против другой группы, не говоря уже о семейных конфликтах.
– Моя жена не может быть замешана в чем-то подобном. В Батуме она впервые, политических связей у нее нет.
– Она англичанка, сэр. Этого вполне достаточно для кое-кого из местных ребят. Но мы думаем, что она просто поехала ненадолго прокатиться с кем-то из кабаре. Бывает, русские офицеры ведут себя слегка необдуманно, знаете ли. Возможно, они отправились к руинам.
Он указал в сторону холмов и заверил, что немедленно сообщит мне все новости, как только они появятся. Я вернулся обратно на корабль. Начался мелкий моросящий дождь. Иллюзия окончательно рассеялась. Я слушал, как дождевые капли бились об огромные листья пальм – словно стучал пулемет. Я хотел броситься в старые кварталы и самостоятельно начать поиски, но для этого пришлось бы покинуть корабль. А я не хотел рисковать – вдруг за время моего отсутствия у военной полиции появятся какие-то новости. Я горько укорял себя за чувственный эгоизм, который увел меня прочь от миссис Корнелиус. Что эти люди подумают обо мне? С их точки зрения я бросил свою жену и вернулся с другой женщиной. Пристыженный и подавленный, я поднялся на борт. Но я не мог заставить себя отойти от трапа. Когда старая няня подошла и сообщила, что баронесса хотела узнать, где я, – резко ответил, что миссис Корнелиус исчезла и я не могу прийти. В конце концов, прождав два часа и проследив за выгрузкой всего оружия, увезенного на британском армейском грузовике, я поспешно направился в каюту Леды. Она все еще лежала в койке, служанка и дочь ухаживали за ней.
– Мой бедный друг, – сказала она. – Что с вашей женой?
– Никаких новостей. Как вы себя чувствуете?
– Герников был таким милым, безобидным человеком. Таким добрым… Почему его убили? Он был похож на моего мужа. Они никому не причиняли вреда. Это так ужасно… – И она заплакала.
– Человеку необязательно кому-то вредить, чтобы стать жертвой чьей-то ненависти, – сказал я.
– Я думаю, что его убили белые, – прошептала Леда. – Красные убили моего мужа, белые убили Герникова. Все это одинаково бессмысленно.
– Нет никаких доказательств. Друзья-большевики точно так же могли напасть на него, если, скажем, он отказался дать им денег. Или какие-нибудь сионистские экстремисты. Кто знает, что за дела у него были в Батуме? Или турки. В России теперь для убийства вообще не нужны причины. Может, это просто ошибка. Радуйтесь, что вы до сих пор живы.
Но я не сумел успокоить баронессу. Она по-прежнему волновалась.
– А что с мистером Брэггом? – спросила она. – Еще не вернулся?
– Похоже на то.
Я поцеловал ее руку, несправедливо негодуя из-за того, что баронесса отнимала у меня время.
– Вам нужно попытаться уснуть. Выпейте еще немного бренди. Я загляну, как только смогу.
Я возвратился на пристань, где мистер Ларкин терпеливо проверял свои записи. Уборка на корабле закончилась, теперь грузили какие-то бочки.
– Это ром, мистер Пьятницки. Кажется, вчера вечером в «Шахразаде» произошла ссора. Оскорбили миссис Корнелиус. Джек бросился ей на помощь. Потом началась драка. Прибыли русские жандармы. Большинство клиентов разбежалось. Никаких тел не нашли, и это хороший знак. Что касается старины Герникова, то он, кажется, тоже был там некоторое время, а потом удалился с несколькими казаками, а может, с кем-то из местных соплеменников.
Герников меня не интересовал. Что мне за дело, если он лишился жизни, приняв участие в какой-то незаконной сделке? Несомненно, он считал меня бесполезным недочеловеком вроде тех, которых очень много в Одессе, – об этом я мог догадаться по выражению его глаз. Что ж, эти глаза больше никогда не будут ни в чем меня обвинять. Нельзя сказать, что я одобрял его убийство. Возможно, я уделил бы этому случаю больше внимания, если б не боялся так за миссис Корнелиус. Неужели она пережила всю революцию и гражданскую войну только для того, чтобы быть похищенной кавказцами? Неужели ее изнасиловали и убили в какой-то далекой горной деревушке? Я слышал такие истории, когда был ребенком. Кавказские бандиты печально знамениты – они не считаются ни с чем за пределами своего ничтожного сообщества. Они могут утверждать, что являются мусульманами или христианами, красными или белыми, когда того требует необходимость или простая прихоть. Но на самом деле они просто бессердечные разбойники. Я смотрел сквозь завесу дождя, мой взгляд был устремлен вдаль, к высоким горам. Если бы выяснилось, что ее похитили, я истратил бы последнюю копейку, чтобы собрать армию горцев. Я отправился бы вместе с казаками и анархистами, я был бы таким же жестоким, как они, и куда более хитроумным. Мои таланты часто недооценивали. Люди считали меня художником, интеллектуалом, человеком слова. Но в свое время я был и человеком дела. Я решил, что не могу лишиться миссис Корнелиус так же, как лишился Эсме. Эта женщина, наделенная от природы невероятной добродетельностью, отдавала слишком много равнодушным существам, которые никогда не ценили ее. Я задумался, не попал ли в беду Джек Брэгг. Возможно, она пыталась помочь ему. Я пошел в бар за выпивкой. Мистер Томпсон последовал за мной.
– Позвольте мне купить вам виски.
Он усадил меня возле иллюминатора, и я мог смотреть на пристань, в то время как он направился к импровизированному бару. Он вернулся с напитками. Мистер Томпсон оказался не у дел, пока судно стояло в порту. Его кочегары чистили котлы и машинное отделение.
– Всему этому есть весьма простое объяснение, – сказал он. – У вас прекрасно развито воображение, и это замечательно. Но временами, как мне кажется, именно оно становится вашим худшим врагом.
Я почти не слушал его. Пока он бормотал ровным голосом какие-то дежурные фразы, я продолжал обдумывать те немногие сведения, которые смог получить. Томпсон, как и баронесса, предполагал, что Джека Брэгга и миссис Корнелиус связывали некие романтические отношения.
Я не был дураком, я точно знал, что они думали. Я не видел никакого смысла даже обсуждать эту глупость. Миссис Корнелиус всегда оставалась женщиной порядочной. Она была воплощением великих английских добродетелей. С ее смертью для меня умерла и Англия. Ничего не осталось, кроме грязи и старых камней, из-за которых ссорятся побочные потомки из сотни мелких стран. Дух Англии отлетел в 1945‑м, когда социалисты уничтожили Британскую империю. Я был свидетелем всего этого. Я знаю куда больше, чем бородатые школьные учителя с безумными глазами и красными ртами, кричащие на меня с трибун, эти бездушные! Я хорошо изучил их породу. Цивилизация гибнет, страна за страной, часть за частью. Знамения повсюду: на разбитых мостовых, рухнувших перилах, испачканных надписями стенах. Знамения так же явственны, как Божий глас. Кому нужны тонкости и нюансы? Слишком многие люди движутся в неправильном направлении. Мистер Томпсон увидел романтическое увлечение. Я увидел лишь дружбу и доброту. Что лучше – замечать неявный недостаток или очевидное достоинство?
Те, кто умаляет величие миссис Корнелиус, просто демонстрируют собственное ничтожество. Но я уверен, что Томпсон хотел только добра. Он ничего не сказал напрямую, когда попытался меня успокоить. На берегу он отыскал несколько номеров английских иллюстрированных еженедельников: «Сферы», «Иллюстрейтед Лондон ньюс», «Пэлл-Мэлл» и других. В них нашлись изображения новых гигантских летательных аппаратов и дирижаблей, которые должны были пересекать Атлантику. Когда Первая мировая закончилась, в Англии вновь ожили оптимистические настроения. Со страниц журналов улыбались молодые пилоты, поднимавшиеся на ярко раскрашенные фюзеляжи чудовищных самолетов, печатались изображения воздушных крейсеров с двойными корпусами и бесчисленными пропеллерами и крыльями. В будущем такие крейсеры могли бы доставлять почту во все уголки империи. И хотя я беспокоился из-за миссис Корнелиус, но фотографии в журналах не оставили меня равнодушным.
– Есть люди, готовые тратить деньги на новые изобретения, – сказал Томпсон. – Все эти штуки недешевы. Не забывайте, нужно соблюдать осторожность, как мистер Эдисон, и сразу создать компанию. Слишком много невинных мальчиков уже было обмануто.
Как ни странно, он все еще считал меня мальчиком. А я мальчиком уже не был – не был с тех пор, как Керенский захватил власть. А в Англии существовали молодые люди моего возраста, которые еще не спали с женщинами, которые даже не вышли из стен школы. В этом отношении, по крайней мере, у меня было преимущество, но ни одну из своих фантазий я не мог воплотить в жизнь без помощи миссис Корнелиус. Я посмотрел туда, где мистер Ларкин проверял документы прибывших пассажиров. Солнце почти зашло. Я встревожился еще больше. Корабль вот-вот должен был отплыть.
Наутро мистер Томпсон подтвердил это:
– Здесь ожидаются большие проблемы. Думаю, бомба на танкере – это лишь начало.
Я решил, невзирая на опасность, забрать с корабля наш багаж и начать свое частное расследование. «Рио-Круз» все равно не отправился бы раньше десяти часов следующего дня. На рассвете, если миссис Корнелиус не найдут, я высажусь на берег. Когда я допил свою порцию, дверь салона распахнулась и вошла бледная баронесса.
– Узнали что-нибудь?
Она села, кивком поблагодарив мистера Томпсона, который отодвинул для нее стул. Мистер Томпсон не понимал нашего русского.
– Могу я предложить вам выпить, баронесса? А может, чашку чаю?
– Немного бренди, спасибо.
Когда инженер возвратился в бар, она наклонилась ко мне:
– Я не могу остаться в стороне. Как вам помочь?
Она не слишком огорчилась бы, узнав о смерти миссис Корнелиус, но все-таки изо всех сил старалась проявлять сочувствие. Я оценил ее самообладание.
– Мне придется сойти на берег, если возникнет вероятность, что корабль отправится без нее.
– Тогда я сойду с вами.
– Это невозможно. У вас есть Китти. У вас свои обязанности, а у меня – свои.
– Все наши обязательства, несомненно, можно как-то согласовать.
Я не стал с ней спорить. Если миссис Корнелиус вывезли из Батума, мне следовало организовать поисковую экспедицию. Леда стала бы помехой. Уже не оставалось времени для любовных ласк. Пришло время пуль и карабинов.
Я приподнял голову. Треск пулеметных очередей доносился из старого квартала неподалеку от базара. Два бронированных автомобиля с ревом пронеслись по бульвару, их сирены кричали, как гуси. Я услышал один маленький взрыв, потом два больших. Над собором поднялись клубы дыма и языки огня. Раздались крики. Я встал и вопросительно посмотрел на мистера Томпсона, который сказал, что это самое обычное дело.
Батум больше не был убежищем. Он стал зловещей ловушкой, одним из тех прекрасных садов из средневековых романов, которые создают злые волшебницы, чтобы соблазнять неосторожных рыцарей. Меня вновь охватил ужас перед всем восточным. Какое безумие, что я поверил иллюзии! В том же месте, где я восхищался куполами церквей, теперь в дождливых сумерках возникали зловещие силуэты сарацинских мечетей. Там, где меня успокаивала дисциплина британских томми, теперь в каждом темном углу появлялись вооруженные люди в тюрбанах. С пристани послышались крики. Большой крытый грузовик проехал возле нашей маленькой баррикады. Я подумал, что это полиция. Я вышел из салона и спустился до середины трапа. На полпути мне в глаза внезапно ударил свет ручного фонарика. Ослепленный на мгновение, я споткнулся и едва не упал. Выпрямившись, я увидел, что возле грузовика стоят какие-то люди. Неужели появились новости?
– Надо ж! – послышался знакомый голос. – Эт Иван!
Казалось, миссис Корнелиус была ранена. Ее поддерживали двое офицеров. Я помчался к ней.
– Вы ранены? Это и правда были горцы?
– Горцы? Ты тшо? Местные, г’воришь? – Она была сбита с толку. Я наконец понял, что она пьяна. – Звиняй, Иван, ’отеряла счет ’ремени, верно. Джек был так добр…
Взъерошенный Джек Брэгг стоял у нее за спиной, хмуро глядя на меня.
– Мелкая стычка, мистер Пьятницки, с какими-то грузинскими вояками, которые увлеклись вашей миссис. В результате они нас похитили. Меня одурманили. Миссис Пьятницки тоже была одурманена, не так ли, миссис?
– До слеп’ты одурела, – согласилась она.
Лицо Джека Брэгга выражало почти чрезмерное смущение и беспокойство:
– Нам удалось сбежать сегодня утром. Но мы заблудились в… Там. – Он неопределенно указал на заросшие лесом холмы. – Патрульные отыскали нас и вернули. К счастью. Мы слегка промокли.
– Он чуть с ума не с’шел. – Все мы посмотрели в сторону корабля. Там стояла баронесса. Я не знал, что она так хорошо говорит по-английски. Она наклонилась над поручнем. В свете фонаря ее было очень хорошо видно. Она напоминала славянского ангела с картины Мухи. – Бедный миста Пятницки ’ровел весь день, пытаясь разыскать вас.
– Полагаю, вам нужно поспешить на палубу, Брэгг. – С мостика донесся голос невидимого капитана Монье-Уилльямса.
Похоже, наш командир изрядно разгневался.
– Есть, слушаюсь, сэр! – Брэгг обернулся к миссис Корнелиус. – У вас все будет в порядке?
– Я иду прям как дожжь, – ответила она. – Но у мня шой-то в горле пересохло! – Она рассеянно опустила руку в вырез платья и вытащила оттуда большую черную перчатку. – Откуда, черт ’обери, эт ’з’лось?
Джек Брэгг помчался по трапу – мириться с капитаном. Я ему сочувствовал. Он пострадал за благородное дело. Миссис Корнелиус расцеловала двух молодых офицеров, пожелала им доброй ночи и, опершись на меня, начала взбираться на борт «Рио-Круза».
– Как раз вовремя, как обычно, да, Иван?
Я уложил ее в койку, и она немедленно уснула как убитая. Смотря вниз, на ее груди, вздымающиеся и опускающиеся в свете керосиновой лампы, я представлял миссис Корнелиус воплощением духа Земли. Я завидовал той легкости и непосредственности, с которой она проживала каждый миг. К сожалению, я не мог подражать ей. Сам я должен был жить для будущего. Мне следовало помнить о грядущих пятидесяти годах. И в результате моя жизнь мне почти не принадлежала.
Я вернулся, чтобы успокоить Леду. Вдалеке все еще горел танкер – он стоял на мели на песчаной косе, дрожащие тени от пламени падали на полубак. Баронесса стояла и смотрела на город, она была очень опечалена. Я предположил, что она думала о своем муже. А потом понял, что она оплакивала никчемного Герникова.
– Ты не должна так горевать. – Я коснулся ее пальцев, сомкнувшихся на поручне. – Ты едва знала его.
Она посмотрела на воду:
– Он был так несчастен без своей семьи.
Ее огромные голубые глаза были полны слез. Я обнял ее, но осторожно, опасаясь, что нас заметят.
– По крайней мере, теперь он с ними.
Мне совсем не нравилось то, как убили Герникова, и все же я чувствовал облегчение – он больше не будет меня преследовать. Иногда я вспоминаю о времени, проведенном в штетле, о тех днях, когда лежал в лихорадке. Неужели я сказал тогда евреям что-то настолько ужасное, что они прокляли меня? И теперь меня всегда будет сопровождать какая-то хнычущая, лживая Немезида? Подобные суеверия – просто глупость. Смешно даже предполагать, что они подсунули кусок металла в живот человеку. Я не верю в эту ерунду. Герников не пользовался популярностью на корабле. Возможно даже, что он сам стал причиной собственной смерти – если решил отправиться туда, куда не должен был ходить, или встретиться с людьми, до которых ему не было никакого дела. Все мы видели такого рода самоубийства. Конечно, я этого не сказал. Я понимал горе баронессы. Ей нужно было немного поплакать. Я беспокоился о ней.
Когда я вернулся в нашу каюту, миссис Корнелиус пришла в себя и разделась. Она как раз подвивала волосы с помощью листков бумаги.
– Надесь, я тебя не огорчила, Иван. Та история, шо мы сказали, была маленько неправильной, но я не хотела, шоб у Джека были проблемы.
– Вы солгали! – Мне стало дурно, на миг меня охватили подозрения.
– Да, не было никаких грузин. Мы попали в каталажку к русским п’лисменам. Выпили. – Она искоса посмотрела на меня. – Ну и маленькое ’обуянили, ха-ха. Эт Джек помог нам выпутаться, дал на лапу. И имена назвал не те.
Мои подозрения улеглись. Теперь я всей душой сочувствовал ей. Я знаю, что такое жить в тюрьме. Это унизительно. Люди, которые в Киеве показывали на меня пальцами, даже не могли представить, что я перенес. Меня лишили индивидуальности. Они могут меня обвинять – я себя виновным не считаю. Назвал несколько имен – ну и что, эти имена и так уже есть в списках. Это было пустой формальностью, чтобы варта[26] освободила меня. Я никого не предавал. Красные называли меня спекулянтом и информатором. Так будет всегда. Это ревность. Они не знают, что такое истинная дружба.
– Наверное, это было ужасно, – сказал я.
– Могло быть и хужее. У нас еще есть их черт’ва водка!
Она рассмеялась. Я восхищался ее храбростью. Миссис Корнелиус была так же отважна, как и я.
– Но больше никому ни слова. – Она приложила палец к своим восхитительным губам. – А то Джеку достанется.
– Тем не менее я поблагодарю его за то, что он сделал, – сказал я.
– Если хошь.
Она снова занялась своим туалетом, а я вернулся в бар, чтобы купить мистеру Томпсону стаканчик на ночь. Он сразу увидел, что я успокоился. Мы стояли у бара, слушая «Камаринскую», которую играл на аккордеоне один из верных присяге солдат. Некоторые дети еще пытались танцевать, а их несчастные родители говорили о смерти и пытках, о несправедливости и о погибших надеждах.
– У Джека Брэгга все в порядке? – спросил я.
– Старик на него изрядно разозлился. Но ничего особенного не случилось. Капитану с самого начала не нравилась эта прогулка. Но он, в общем, не бывает слишком строг, когда кто-то из парней слегка нарушает порядок. Пара ласковых и двойные дежурства вне очереди – все, что грозит Джеку.
Мы вышли на палубу. Дождь прекратился, и небо очистилось. Пожар угас.
– Погода должна перемениться к лучшему, когда мы поплывем в Варну, – сказал мистер Томпсон и отдал мне честь. – Что ж, доброй ночи, старик.
Я остался один. Я прогулялся по палубе, затем вернулся в каюту, улегся на верхнюю койку, выкурил сигарету, а потом долго слушал, как вздыхает и ворочается миссис Корнелиус. Я знал, что ей снятся сны, которые она называет приятными. На сей раз меня звуки не слишком беспокоили, вскоре я уснул.
Я встретил Джека Брэгга на палубе следующим утром, когда совершал обычную прогулку. Гадалка с зеленым лицом раскладывала свои карты. Она, очевидно, отыскала новую колоду. Как раз когда я проходил мимо, у нее легли верно все карты. Русский корабль уплыл ночью, и его место заняла двухмачтовая шхуна. Солнце светило ярко. Казалось, Батум снова стал чудесным городом. Я подошел к краю палубы и посмотрел вниз, на шхуну. Ее оборванные матросы все еще спали на палубе. Армяне, турки, русские, греки, грузины были похожи на пиратов из книг девятнадцатого века. Они носили пистолеты и ножи, а одежда их представляла безумную смесь разных мундиров, западных и восточных. Эти матросы немного напомнили мне анархистов Махно. Мы с Джеком повстречались на корме. Он стоял на вахте с полуночи. Его глаза покраснели, на подбородке виднелась щетина.
– Госпожа Пятницкая рассказала мне вчера вечером всю правду, – сказал я. Он, кажется, слегка встревожился, но потом заметил, что я не сержусь. – О том, как вы вызволили ее из тюрьмы, – добавил я.
– О! – прохрипел он. – Это пустяки. В наши дни несколько английских соверенов могут творить чудеса. – Тут он побледнел еще сильнее. – Должно быть, вы считаете меня ужасным мерзавцем, который сбил с пути вашу жену.
Я сумел улыбнуться:
– Ерунда. Насколько я ее знаю, именно она все и устроила! Как капитан воспринял все это?
– Не так уж плохо, по правде сказать. Вот что… Как думаете, те парни – контрабандисты? – Он указал на шхуну.
– Очень похоже. Они тут повсюду, верно? Несомненно, они используют нынешнюю ситуацию в своих интересах.
– Считается, что в этих водах все еще есть корсары. – Джек Брэгг покачнулся. Солнечные лучи коснулись его налитых кровью глаз и грязных светлых волос. При этом освещении его кожа показалась совсем серой. – Что скажете, мистер Пьятницки? Представляете, как пройдете по доске?
– Вам лучше лечь и выспаться. – Я развеселился. – Обещаю предупредить вас, если увижу на горизонте череп и скрещенные кости.
Он сонно поплелся по палубе и едва не наткнулся на провидицу, которая раскладывала свои карты. Я продолжал разглядывать шхуну. Она была очень грязной. Свернутый парус, похоже, чинили много раз. Я понятия не имел, откуда это судно, но разобрал на борту надпись на русском: «Феникс». Вероятно, шхуна начинала свою жизнь как рыболовное судно. Некоторые из спящих людей были одеты в поношенные русские морские мундиры. Другие носили армейские френчи, дорогие кавалерийские сапоги, артиллерийские фуражки. Они, несомненно, регулярно плавали из турецких черноморских портов в уцелевшие города свободной России. Вполне вероятно, что они перевозили и пассажиров за немалую цену. Я не мог их ни в чем винить. У них не останется будущего, если красные победят.
С далеких улиц до меня донесся шум бьющегося стекла. Я обернулся. Зазвонил соборный колокол. Старая лошадь тянула скрипящую, переполненную телегу по дороге к причалу. Потом к ограде подъехало два больших армейских грузовика, на которых прибыли новые пассажиры: раненые белогвардейцы в грязных английских пальто, крестьянки с младенцами, старики, похоже, из самых дальних и глухих уголков Грузии. Они всей толпой двинулись к нам. Я испугался, что корабль не выдержит их веса и утонет. Я увидел, как мистер Ларкин побежал навстречу вновь прибывшим. Другие офицеры, русские и англичане, начали занимать свои места. Я больше не хотел на это смотреть. Контрабандисты (или пираты) проснулись, как будто, заслышав лепет беженцев, учуяли добычу. Я отправился завтракать. Я думал, что это может оказаться последней мирной трапезой до прибытия в Константинополь.
Примерно через час корабельные двигатели заработали, и я приободрился – «Рио-Круз» снова уходил в море.
Из гавани Батума нас вытащил небольшой буксир. Когда натягивали канаты, те звенели и блестели в лучах солнца. Солнечный свет обжигал мне лицо. В Батуме, очевидно, воцарился мир, хотя дым от горящего танкера все еще временами разносился над гаванью. Теперь я более внимательно рассматривал остающиеся позади пальмовые и бамбуковые рощи, малахитовые здания и тенистые улицы, я скорбел, что моя желанная идиллия на русской земле так жестоко прервалась, я ненавидел Герникова за его вульгарность и даже за его ужасную смерть. Старый мотор «Рио-Круза» жалобно взревел, и корабль поплыл по спокойной воде к дальнему берегу Черного моря. Последней остановкой перед Константинополем должна была стать Варна в Болгарии, в стране, которая гостеприимно принимала своих славянских братьев. Крестьяне собирались кучками на носу судна. Они раскладывали ковры и баулы и поглощали принесенную еду. Корабль был загружен почти до предела, но капитан Монье-Уилльямс получил особые инструкции. Все, что нам оставалось делать, по его словам, – молиться о хорошей погоде. Что бы я ни думал о бедных существах на палубе, меня глубоко взволновало то, как один из бородатых крестьян поднялся, оглянулся на Батум, снял шапку и запел высоким, чистым голосом «Боже, царя храни», «Боже, спаси царя». Я почти бессознательно подпевал нашему государственному гимну. Вскоре, казалось, запели все.
Сначала исчез Батум, а затем скрылись за горизонтом и белые силуэты гор. «Рио-Круз» снова остался один в сером море под пасмурным небом. К счастью для беженцев, стоявших на палубе, дождя не было, однако волны постепенно усиливались. Я испугался, что мы никогда не пройдем мимо этих крутых водных стен. Корабль, стеная и хрипя, дрожал в воде и кое-как перемещался по холодному лимбу.
Я едва ли не с облегчением вернулся к прежнему строгому распорядку дня с баронессой. Хотя, возможно, я стал трахаться с несколько меньшим энтузиазмом, когда заметил в своей возлюбленной какое-то безумное отчаяние – как я подозревал, вызванное убийством Герникова. Она больше не отказывалась от моего кокаина. Теперь она ворчала на меня, если я не доставал порошок. Конечно, ее любовные ласки стали более оригинальными, но радости в них поубавилось. Я сочувствовал Леде. Я часто сжимал ее в объятиях. В тот первый день после отплытия из Батума мы не раз вскрикивали вместе, слыша случайные удары и глухие стуки со всех сторон и думая о том, будем ли мы когда-нибудь столь же счастливы, как в те дни, когда наша русская страсть расцветала пышным цветом на русской земле.
Миссис Корнелиус, казалось, с особенным удовольствием вернулась к своему обычному образу жизни. Той ночью она пела и танцевала. Она вспомнила почти все любимые песни. Джек Брэгг был снова на вахте, но капитан Монье-Уилльямс задержался и подхватил припев «Моего старого голландца». Миссис Корнелиус заметила, что он славный малый. Она сидела у него на коленях, и суровый валлиец улыбался ей. В дальнем углу салона, вокруг аккордеона, собралась группа русских, и мы попросили их сыграть что-нибудь веселое. Музыкант, молодой светловолосый одноногий солдат из Нижнего Новгорода, заиграл «Калинку». Вскоре миссис Корнелиус встала и присоединилась к дюжине вдов в неистовом танце, в то время как мужчины хлопали и стучали ногами. Капитана снова уговорили присоединиться к веселью. Через некоторое время он прошептал мне: «Если мы тут еще немного потопчемся, то наверняка провалимся в трюм». Он поправил кепи и вышел из комнаты с какой-то почти вызывающей развязностью. Когда миссис Корнелиус втащила меня в круг танцоров, я почувствовал необъяснимый приступ скорби, как будто воспоминания о Герникове преследовали меня. Мне нечего было стыдиться. Еврей это еврей. Я не был жесток с ним, но теперь вспоминал его пьяные дружеские порывы. Неужели именно в поисках дружбы он отправился на улицы Батума – чтобы его там зарезали, ограбили и заклеймили?
Почувствовав желание подышать свежим воздухом, я вернулся на палубу. Может, это было глупо, но я разозлился на Герникова еще сильнее. Я быстро поднялся на верхнюю палубу и остановился у трубы, неподалеку от люка, ведущего в машинное отделение. Палубные пассажиры закутались в свои ковры, хотя некоторые не спали, а до сих пор курили и беседовали. Местами горели фонари – и корабельные, и принадлежащие пассажирам. Это была странная, поразительная сцена, но я уже не мог оставаться в одиночестве. Я скрылся в каюте и, вдохнув побольше кокаина, погрузился в фантазии о будущем, о моем успехе. Я выбросил мысли о Герникове из головы.
Следующим утром я отправился на обычную прогулку, но люди на верхней палубе вызвали у меня сильное раздражение. Зеленолицая женщина впервые покинула свой пост. Я увидел ее под одной из раскачивающихся спасательных шлюпок, она сидела и медленно раскладывала свои карты. Я решил, что настало время поговорить с ней, поскольку мы оба оказались в таком неловком положении. Я уже начал пробираться к даме, но тут внезапно зазвенел судовой колокол и двигатель зашумел по-другому. Весь корабль содрогнулся и начал разворачиваться. Мне сразу пришло в голову, что мы напоролись на скалу или на другое судно. Палубные пассажиры с криками вскочили. Все они указывали куда-то в сторону берега. Я подбежал к поручням. В неспокойных водах, на расстоянии нескольких ярдов от нас, находился корабль, в который мы едва не врезались, – длинная баржа из тех, какие обычно плавают только по каналам. На ней не было ни мотора, ни пассажиров – только горы баулов, чемоданов, пакетов и сумок, прикрытых брезентом. Выглядело все это странно и тревожно, поскольку никак нельзя было понять, зачем баржа вышла в море. Мы миновали судно, и оно медленно скрылось позади, поднимаясь и опускаясь в сгущающемся тумане. Оно могло перевозить украденные большевиками вещи или пожитки одной большой аристократической семьи. Возможно, там было что-то ценное, но у нас на палубе уже собралось столько народу, что вряд ли следовало подбираться ближе к таинственному грузовому кораблю. Вода становилась все менее спокойной, и барометр поминутно падал. Пар от нашего дыхания сливался с туманом. Постепенно ветер усилился, и на некоторое время воздух стал прозрачным, но потом ветер снова стих, сгустился туман, и Джек Брэгг занял место у прожектора, чтобы следить за проплывающими мимо льдинами.
После ужина я присоединился к Брэггу. Он курил трубку и напевал себе под нос какую-то мелодию, направляя луч то в одну сторону, то в другую и всматриваясь в темную, пугающую воду. Казалось, что сигнал, предупреждающий о тумане, звучал на корабле ежеминутно. Баронесса легла спать рано, пожаловавшись на легкий озноб. Я поднял воротник пальто. По некоторым причинам мне не хотелось возвращаться в каюту. Вместо этого я предложил свою помощь в работе с прожектором, но Брэгг отказался: «Не хочу, чтобы капитан снова поставил мне на вид!» Хотя желтый луч не очень глубоко проникал в толщу тумана, мы двигались по бурному морю на малой скорости, и поэтому нам не угрожала опасность врезаться в другое судно или в паковые льды, которые в последние два часа попадались нам все чаще. Черные волны с ужасающим гулким звуком бились о корпус корабля. Некоторое время мы с Джеком курили и болтали о разных пустяках. А потом он внезапно нахмурился и всмотрелся в темноту:
– Эй! Что это там такое?
Я ничего не увидел. Он передвинул луч на несколько футов, и я заметил темный силуэт, находившийся от нас меньше чем в сотне ярдов.
– Постарайтесь не выпускать их из виду, – сказал он. – Я расскажу капитану.
Мои руки дрожали, когда я прилагал все усилия, чтобы не отводить луч от неизвестного объекта – очевидно, довольно большого судна. Мы проходили совсем рядом с ним. Казалось, если мы не изменим курс, то неминуемо столкнемся с этим кораблем. Теперь, когда Джек ушел на мостик, я увидел множество небольших белых пятен. Я с удивлением осознал, что это человеческие лица, множество лиц. Когда постепенно стали различимы слабые крики, я попытался ответить. Конечно, они не могли ничего услышать. Двигатель как будто умолк или заглох. Мгновение спустя с мостика послышался громкий, усиленный мегафоном голос капитана. Капитан назвал наш корабль и сообщил, что мы попытаемся подойти ближе. Но море начало волноваться как раз в ту минуту, когда мы приблизились. Теперь я сумел лучше разглядеть таинственное судно. Это был небольшой буксир. На палубе столпилось, вероятно, не менее двух сотен человек. На миг мне показалось, что я разобрал на борту надпись «Анастасия из Аккермана», но, возможно, это была всего лишь игра воображения. Неведомый капитан закричал в ответ. Он просил помощи. Корабль остался без двигателя. Стальной трос заклинил винт. Джек снова присоединился ко мне. Мы оба к тому времени уже промокли.
– Бедные ублюдки. Они, кажется, набрали много воды. Они наверняка тонут. Должно быть, они буксировали тот лихтер, который мы видели. А потом трос лопнул и намотался на их винт. Слышите, как они причитают? Ужасно!
Джек сказал, что капитан не может ничего поделать. Он не осмеливается рисковать жизнями своих людей. В его силах только послать радиограмму на ближайший британский военный корабль и попросить, чтобы другие суда пришли на помощь буксиру.
– Спаси их Боже, – сказал Джек, – в такую погоду они и часа не продержатся.
Вскоре буксир с двумя сотнями испуганных пассажиров исчез в непроглядной темноте. Наши палубные пассажиры как будто ничего не заметили. Море становилось все мрачнее и холоднее. Погода так и не улучшилась до самой Варны. Мы не узнали, был ли спасен буксир, но капитан Монье-Уилльямс попросил меня не распространяться о его возможной судьбе. Он не хотел никого тревожить. В глубине души я догадывался, что буксир потонул.
В Варне мы остановились у входа в гавань. К моему удовольствию, подошедшие лодки забрали большую часть наших пассажиров. На корабле, казалось, воцарилось спокойствие, хотя паковый лед все еще иногда бился о наши борта и в воздухе кружили снежинки. Я почти обрадовался снегу. Я не верил, что смогу наслаждаться абсолютным счастьем, если его не будет. Баронесса, ее дочь и няня стояли рядом со мной, когда крестьяне, дрожавшие и посиневшие, очевидно, от морской болезни, грузились в лодки.
– По крайней мере, болгары – славяне. – Леда завернулась в густой черный мех. Мы, должно быть, напоминали пару сибирских медведей, потому что на головах у нас красовались черные треухи. – Но что с нами станется в Берлине и Лондоне, Симка? – Она уже и на людях иногда обращалась ко мне именно так. – Разве мы не покажемся там странными, экзотическими существами? – Она скорбно посмотрела в темную свинцовую воду.
Я сказал, что, по-моему, она чрезмерно склонна к мелодраме. Иностранцы так же внимательно читают наши книги, как и мы – их. У нас много общего: живопись, музыка, наука.
– Мы можем подняться выше этих мелких различий, Леда, потому что образованны, вот увидишь. Им придется гораздо хуже. – Я указал на перепуганных крестьян, карабкавшихся в лодки. – У них есть только Россия.
Она не успокоилась:
– Конечно, бессмысленно волноваться. В конце концов, есть вероятность, что я застряну в Константинополе на всю оставшуюся жизнь.
Я не захотел продолжать этот разговор. С востока поднимался ветер, который должен был смести все западное. Мне казалось, что порывы ветра все еще доносили до нас умоляющие голоса с буксира. Я не мог выбросить их из головы; точно так же неотступно меня преследовал Герников. Я сочувствовал капитану, который был вынужден принять тяжелое, но единственно возможное решение. При этом меня не покидало ощущение, что именно я, лично я предал эти смутно различимые белые лица. В сравнении с моими переживаниями проблемы Леды казались ничтожными и только раздражали меня.
– Уверен, что ты выживешь, – сказал я.
– Симка, ты поможешь мне, если сможешь?
Это звучало почти как приказ. Я вздохнул и принужденно улыбнулся:
– Да, Леда Николаевна. Если смогу, помогу.
Из-за слишком густого тумана мы так и не увидели Варну. Я слышал, что это самый обыкновенный город, и удивлялся, что там высаживается на берег столько пассажиров. Я спросил об этом мистера Томпсона вскоре после того, как мы вышли из гавани и направились, наращивая скорость, к устью Босфора. Он нахмурился:
– Мистер Пьятницки, разве вы не догадываетесь? Мы высадили на берег всех, кто мог заразиться. А это две трети пассажиров. Думаю, нам повезло. Ларкин предположил, что Герников был заразен, хотя, конечно, маловероятно, что он передал болезнь кому-то еще; ведь сам он выздоровел к тому времени, когда мы достигли Батума. Теперь ничего сказать нельзя. Нам остается только надеяться, что мы в порядке. Ведь это сыпной тиф, старик.
Выходит, что Герникову удалось заразить немало честных христиан, прежде чем его убили. Я был рад, что мои подозрения на его счет подтвердились.
– Но никто из членов команды не заболел? – спросил я.
– Пока нет. Конечно, очень жаль, что нам, вероятно, придется стоять в карантине, когда мы доберемся до Константинополя.
В тот момент я подумал, что никогда не расстанусь с «Рио-Крузом». Было 13 января 1920 года. Завтра мой день рождения. Hallan, amshi ma`uh…[27] Я произнес слова, которые следовало сказать… И Анубис[28] – мой ДРУГ.
Глава четвертая
В ту ночь, когда русские с утомительной развязностью праздновали наверху Новый год, я занимался любовью с баронессой, про себя молясь, чтобы она была здорова. Ее служанке и дочери разрешили остаться в салоне до двенадцати. Леда отговорилась головной болью. Я сказал, что мне нужно привести в порядок бумаги. Из пассажиров только миссис Корнелиус и я знали правду, другие могли полагаться лишь на слухи, которые обращали в шутки, как и подобает отчаянным людям, находящимся в безнадежном положении. Джек Брэгг сказал, что над Босфором туман, но завтра, раньше или позже, мы увидим нашу Византию. Мы двигались вдоль побережья Болгарии медленно, но не сбиваясь с курса, а я пронзал тело своей любовницы как обезумевший кролик, визжа от удовольствия и точно зная, что мой голос исчезнет среди шумных песнопений и рева двигателей.
В полночь усталые ноги привели нас в бар. Все офицеры вернулись на палубу, но миссис Корнелиус еще никуда не ушла. Она обнялась с двумя пьяными украинскими санитарками и запела «Стеньку Разина». Она постоянно произносила «Стихий Разум» – полагаю, это была единственная русская песня, которую она знала. Китти, сонно обнимавшая комнатную собачку, купленную ей матерью в Батуме, поцеловала нас обоих перед сном, и ее, совсем разморенную, увела няня. Потом мы вышли наружу. Стало теплее. Корабль чуть заметно покачивался в спокойной воде, и я подумал, миновали ли мы устье пролива. Мы снова скрылись в той огромной черной пещере, где не было ни звезд, ни луны. Но даже здесь оставалось эхо.
Миссис Корнелиус, переполненная ромом и добрыми чувствами, присоединилась к нам. Армейская фуражка у нее на голове сбилась набок. Моя спутница, переводя дух, оперлась о поручень:
– С днем роження, Иван.
Ее внимание тронуло меня. Она качнулась вперед, чтобы поцеловать меня в щеку, а потом удивленно посмотрела куда-то в сторону:
– Боже ж мой! Похоже на черт’вы сигналы!
Баронесса тревожно нахмурилась – она не могла понять акцент кокни. Для меня английский выговор миссис Корнелиус звучал яснее, чем более правильное произношение офицеров. Я, как говорится, собаку съел по части этого просторечия. Леда не пыталась говорить по-английски. Она заметила на русском:
– Мне нужно посмотреть, как дела у Китти. Маруся Верановна, похоже, выпила водки больше, чем обычно. Доброй ночи вам обоим.
Она холодно поклонилась и пошла обратно в каюту. Миссис Корнелиус плюнула в воду:
– Никак, мать е’о, в сьбя притти не м’гу. ’се эт ром. Поднимал дух, но ронят в канаву, как г’рится. Походу, я тут была треттей лишней?
Я успокоил ее. Мне было очень приятно остаться с ней наедине.
– Вы слышали еще что-нибудь насчет болезни?
Новостей не было. Но офицеры, по словам миссис Корнелиус, не особенно волновались. Положив руку мне на плечо, миссис Корнелиус позволила отвести себя в каюту. В моей голове проносились исторические образы. Я видел конницу гуннов, флаги, копья и доспехи разъяренных турок Оттоманской империи, блестящие черные глаза которых смотрели на Европу, я представлял, как они готовились к войне с Грецией. С какой стати они претендуют на оригинальность и превосходство? Если они так гордились своей турецкой культурой, то не назвали бы эту страну Римом или Румом[29]. Какое лицемерие! Оно передавалось из поколения в поколение, усиливаясь с каждым столетием. Они попали в ловушку собственной извращенной мифологии. Это мир лжи и теней. Цивилизованные люди всегда становились добычей завистливых пастухов. И хотя озарения иногда еще возможны, я боюсь, что мое поколение было последним, способным признать ужасную истину.
Что касается этих как будто невинных спутников орд гуннов, этих турецких «иностранных рабочих», – я разгадал их игру. Я удивил их банду несколько дней назад в «Пэддингтон Армз» около станции. Они собрались вокруг «однорукого бандита» и о чем-то спорили. Заказав себе водку в баре, я небрежно заметил, как будто ни к кому не обращаясь: «Rüzgâr kuzey dogudan esiyor»[30]. Меня впечатлил их испуг. Я вернулся обратно за свой столик. Некоторые из нас по-прежнему не могут понять, почему такие высокомерные люди соглашаются выполнять черную работу в чужой стране. Все они, конечно, шпионы, пятая колонна, саботажники, авангард. Я уже не пытаюсь предостеречь эту страну. Британцев погубит их собственное самодовольство, иллюзорная вера во врожденное превосходство. Они падут, по словам их поэта-лауреата, как Ниневия и Тир[31]. Я сделал намного больше того, чего требуют честь и долг. Больше я ничего поделать не могу. Elle serait tombée[32]. Миссис Корнелиус говорила мне, что они никогда не поймут. «Ты зря тратишь свои силы, Иван. Хошь быть первым ном’ром». Но я всегда был идеалистом. Это моя ахиллесова пята. Как много мог я дать людям! Я сижу у кассового аппарата в глубине моего магазина, глядя на Портобелло-роуд. Это похоже на кино. С каждым годом белых лиц все меньше. И все больше низкорослых уроженцев Вест-Индии и высокомерных пакистанцев, самодовольных турок и арабов. Это ведь был настоящий белый район, когда я только приехал сюда: обычные приличные магазины, газетные киоски, бакалейщики, табачники, сапожники. А теперь повсюду поддельные золотые браслеты и дешевый хлопковый ширпотреб, как на самых бедных базарах Константинополя в 1920 году. А Кенсингтонский рынок, заваленный ботинками из кожи кенгуру и блестящими шелками, стал похож на Гранд-базар[33]. И люди еще спрашивают, почему это произошло! Они не имеют никакого представления о прошлом. Неудивительно, что молодые женщины начинают скучать в обществе хилых английских бездельников, которые живут только для того, чтобы курить киф[34] и требовать бакшиш от государства. Неудивительно, что белые девочки ищут новых впечатлений – и находят скалящего зубы негра и толстогубого азиатского патриарха. И вот снова перед нами Византия в эпоху упадка, последние годы умирающей цивилизации.
Я видел то же самое в дюжине больших городов в дни их окончательного падения. Когда христианские девочки забывают о чести и достоинстве и прелюбодействуют с язычниками, о благородстве можно забыть. Это повторялось в Нью-Йорке, Париже, Мюнхене и Амстердаме. Восточная Африка еще раз совокупила жестокость с хитростью и породила Карфаген. Burada görülecek ne var?[35] Запад превратился в посмешище, он позабыл о трех тысячелетиях истории и морали и готов к завоеванию. И разумеется, больше всего выгод получит хитрый пастух из пустыни, все тот же еврей.
Константинополь был нашим самым крупным военным трофеем. Если бы мы удержали его, все жертвы оказались бы не напрасны. Мы пережили бы великое возрождение совершенного христианства, русский дух, пробудившись, уничтожил бы большевизм. Во время войны союзники обещали нам возвращение Царьграда, нашего имперского города, нашего Византия[36], колыбели Православной церкви. Но британцы были слишком слабы. Вместо того чтобы спасти Константинополь для Христа и пойти на конфликт с католической Европой, они кротко возвратили город Магомету. Это удивило даже турок. И разумеется, евреи в конце концов получили самую большую выгоду. Самая подходящая обстановка для спекулянта – всеобщая неуверенность. Чтобы создать такую обстановку, нужно обрушиться на старые, честные идеи, на традиционные методы этики и научного эксперимента. Маркс, Фрейд и Эйнштейн нашли прекрасный выход: они изобрели новые языки и открыли дорогу своим единоверцам-коммерсантам точно так же, как британские миссионеры в Китае открыли дорогу торговцам опиумом. Они подвергают сомнению вечные истины, и наши дети, не в силах справиться с потрясениями, бросаются в разные стороны в поисках интеллектуальных и моральных опор. Мы пребываем в смятении, а их легионы уничтожают наши запасы. Я знаю этих евреев. Я говорю на их языке. Они засунули кусок металла мне в живот. Они отняли у меня все. Я виню в этом своего отца. Моя мать была слишком добра. У меня нет ничего общего со старыми гарпиями, которые крадут мои запасы, как вороны, пирующие на трупе агнца. У меня с ними разговор недолгий. Я скорее буду общаться со странствующими потомками тех египтян, которые отказали в убежище Деве и Младенцу. По крайней мере, цыгане теперь стали христианами. Что касается турок, я говорю одно и то же: «Çok Ufak» или «Çok büyük»[37] – и заставляю их убраться. Я не хочу их денег. Я не еврей. Это темное дело. Я не дурак. Я совершал ошибки. Я не отрицаю этого. «О wieku, tys wiosna, czlowieka! Na lobie ziarno przyszlosci on sieje, Twoim on ogniem reszte wieku zyje!»[38], как говорят поляки. Я не боюсь fremder[39] или frestl[40]. Я живу с ними. Я жил среди них в течение многих лет. Но если ты знаешь что-то, это не значит, что ты сам этим становишься. Именно поэтому я так злюсь, когда меня принимают за еврея. Неужели санитарный врач сам становится одной из тех бактерий, которые он изучает? Строители городов не должны забывать о бдительности, ведь рядом бродят жадные кочевники. И строить ровные дороги и широкие ворота не всегда мудро.
Я с самого начала их заподозрил. Вествей не мог принести нам выгоды. У меня были собственные представления о нашем районе: изумительный Северный Кенсингтон, идеал для всего Лондона. Большинство уроженцев Вест-Индии и азиатов следовало перевезти в Брикстон или обратно в те страны, где им будет удобнее. Если бы население сильно сократилось, можно было бы разбить пригородный парк, роскошнее, чем в Хэмпстеде. Это повысило бы стоимость недвижимости и привлекло бы представителей высших классов. Я отправил в совет подробный план. Я получил ответ из высоких сфер, от благородного депутата. Мои идеи произвели на него впечатление, и он собирался привлечь к ним внимание своих коллег. Но социалисты заставили его замолчать, поскольку я больше не получал от него известий. Его не переизбрали, и это уже говорит само за себя. Миссис Корнелиус называла мои идеи «чертовски изумительными», но ее больше заботило увеличение местных налогов. За совершенство придется платить, говорил я. Это была моя последняя попытка помочь новой родине. В годы войны я обращался к властям с самыми разными предложениями. Я описывал свои гигантские бомбардировщики, свои бомбы с ракетными двигателями, свои фиолетовые лучи. Я видел, как некоторые из моих идей воплощались в жизнь. Но я ничего не добился. Барнс Уоллес[41], этот ужасный шарлатан, мой соперник еще с тридцатых годов, приписал мои идеи себе. Тот, кто беседовал со мной в 1940‑м, а потом видел «Разрушителей плотин»[42], поймет, что я имею в виду. Эта кража в научных кругах считается самоочевидной. Неудивительно, что мистер Томпсон просил меня запатентовать все изобретения. Взгляните, какую репутацию приобрел этот вор Сикорский, когда уехал из России! Наконец-то все мои планы в безопасности. Кто бы их ни унаследовал, он извлечет выгоду, и таким образом память обо мне сохранится. Британское правительство ничего не получит. Патентному бюро нельзя доверять. Последнее письмо, которое я получил от них, было подписано фамилией Юдкин. Я все-таки слишком поздно выучил свой урок. Я ничему не научился в России. Я ничему не научился к тому времени, когда достиг Константинополя. Бог знает, сколько миллионов фунтов, по закону принадлежащих мне, теперь попали в чужие карманы. Тогда, впрочем, я не думал о своих интересах. Я все еще находился под впечатлением от эпического величия своего путешествия. Русский, который посещает Константинополь и великий собор Айя-София, совершает подлинное паломничество. Айя-София – одновременно величайший символ нашего рабства и нашего окончательного спасения. Хотя я в те времена был еще не слишком религиозен, но все-таки оставался патриотом.
Русские понимали, как отважно британцы сражались с турками. Вы потеряли множество людей при Галлиполи. Вы гибли в месопотамских пустынях. Вы шли на Мекку под началом Лоуренса Аравийского[43]. Мы думали, что и вы так же ясно осознаете, сколько сделали мы. Мы думали, что Константинополь останется в безопасности до тех пор, пока мы не будем готовы принять его. Мы знали, какие узы братства связали Грецию и Англию. Но то, что мы считали великим идеализмом, подобным нашему собственному, оказалось лишь сентиментальностью нации лавочников. Мы слишком много надежд возлагали на способность британцев сопротивляться устремлениям итальянцев и французов. Эти католики совершенно не желали освобождения истинного центра христианства. Британской кровью завоеваны Дарданеллы, Мраморное море, Босфор. Британцы завоевали половину Азии, отбросили назад потомков монголов и гуннов, принесли свет христианства невежественным людям, построили церкви в Гималаях и джунглях Бирмы, установили царство правосудия, сдержали варварское распространение желтых рас. Кому же еще мы могли передать наше право первородства? Я могу понять и простить им предательство. Но простит ли Бог? Он прощает только тех, кто признается в своих грехах. Их империя распалась, их экономика рухнула, их культура повержена в прах, и они тонут в море среди мусора и обломков крушения, среди осколков колониальной славы. И что же, когда их самодовольный маленький островок тонет, они кричат в последнюю минуту «Меа culpa»? Нет! Они поют «Правь, Британия». Это ужасающее зрелище.
На рассвете следующего дня я вышел на палубу и обнаружил, что корабль окутан густым туманом. Я не смог даже разглядеть, что происходит на баке. Прикрыв лицо шарфом, я осмотрелся и заметил в стороне какую-то неясную фигуру. Человек повернулся на звук моих шагов, и я увидел зеленое лицо, покрытое слоем румян. Это была гадалка. Она больше, чем когда-либо, напоминала странную героиню из театра марионеток. Я хотел спросить, не нужна ли ей помощь, но тут она произнесла на дурном немецком: «Mir est schlecht. Bitte, bringen Sie mir ein Becken»[44]. Я был потрясен. Она, несомненно, была русской, но все время принимала меня за немца или даже за еврея. Я отправился на поиски чашки, которая ей требовалась, но, когда вернулся, ее уже уводил с палубы муж, одетый в обычное пальто и брюки для верховой езды. Я хотел броситься за ними и сказать, что я такой же русский, как и они. Вместо этого я довольствовался слабым выкриком – полагаю, меня даже не услышали. Конечно, это был знак, но я тогда ничего не понял. Я оставался в одиночестве, меня принимали за иностранца даже мои соплеменники. Никто не признает меня. По крайней мере, в Лондоне я могу быть только иностранцем. Не имеет значения, как часто я посещаю православную церковь и как часто проповедую слово Христово. Я всегда буду изгоем. Я британский гражданин. Я прожил здесь полжизни. Я послужил этой стране лучше многих людей, которые здесь родились. И что с того? До сих пор fremder, до сих пор frestl. Что-то случилось в том ужасном украинском штетле, когда я был пленником евреев. Неужели иудей увидел, что мой разум слаб, и заразил меня отчаянием, использовав кусок металла? Я никогда этого не узнаю. Мой отец предал меня. Он поднял нож на своего маленького сына. Какому демоническому приказу он повиновался? Конечно, это не было слово Божье. Я замерзаю, и мне не хватает денег на их керосин.
Теперь мне приходится питаться всякой дрянью – их жареной картошкой и кусками холодной рыбы. Борщ разливают в бутылки, и он стоит больше, чем я могу заплатить. Это кошерный борщ, там не сыщешь ветчины. Супы продают в банках. Хорошая еда мне уже не по средствам. Я пировал в роскоши, я ел из золотой посуды и пил из хрустальных бокалов. И все-таки в глубине души я понимал, что когда-нибудь окажусь здесь. Мое сломанное кресло стоит на полу, прикрытом тонким ковром. На руках у меня перчатки, одна для того, чтобы перелистывать бумагу, другая – чтобы держать ручку. Никто меня не слушает, никто не читает то, что я пишу. Все это – частное дело. Я доверял только миссис Корнелиус, а она умерла. Мне пришлось слишком дорого заплатить за свои мечты. Пьяные темнокожие люди приходят в мой магазин и плюют на мои куртки. Когда я жалуюсь, они приводят полицейских из отдела межнациональных отношений. Я слишком стар для споров. У меня нет сил. Британцы никого не защищают. Они считают меня склочным старым евреем, и это их вполне устраивает. А ведь именно я пытался предупредить их! Все происходящее напоминает ужасный кошмар. Я говорю, но меня не слышат. Меня не замечают. Подобную иронию могут оценить только русские. До войны меня признавали. Во Франции, Италии, Германии, Америке, Испании. Но из-за того ужасного недоразумения в Берлине, вызванного ревностью и злобой мелких людишек, я лишился даже своего места в истории.
«Не стоит думать о прошлом», – так на днях сказал один человек в почтовом отделении. Пять лет назад отправить письмо можно было всего за три пенса! Это кажется невероятным. Они изменили нашу финансовую систему. Одним махом они отняли у нас половину ценности денег. Что это, как не международные финансы? А что такое международные финансы? Просто другое название всемирного еврейства? Мне говорят: «Прошлое – это прошлое», – как будто подобные фразы все объясняют. Но прошлое могло бы быть и настоящим, и будущим. В двадцатых мы полагали, что время материально, что его можно измерить, изучить, обработать, как пространство. Тогда мы были более самоуверенными. Мы говорили, что время повторяется и возвращается, мы говорили о временных циклах. Мы читали «Эксперименты со временем» Джона Донна и смотрели пьесы сэра Джека Б. Пресли[45]. Время стало маленькой, уютной тайной, просто старым другом, а не насмешливым костлявым всадником Средневековья. А потом появились ядерная энергия и расширяющаяся Вселенная. Время изменили мрачные моралисты, пособники Эйнштейна, эти вертлявые евреи. Мы снова оказались во власти толстогубых кочевников и пастухов.
Евреи приносят в город хаос. Здесь они могут разделять и властвовать. Но еврей не понимает, что он завоевывает. Его правила противоречат нашим: кочевники не могут понять индивидов, которые наделены множеством уникальных особенностей. Они думают, что человек, который больше, нежели один человек, является злым; они думают, что Бог, который един в Трех лицах, не может существовать. Они требуют, чтобы окружающая среда постоянно менялась. Христос был пророком города. Он проповедовал оптимизм и разумный порядок. В городах Его услышали и приняли. Город – это история, ибо город – это человек. Он создал Свою собственную среду и правила. Он построил Шумер. Шумер был разрушен лишь тогда, когда город больше не мог жить по законам слепого повиновения. В пустыне это означает выживание, в городе – самоубийство.
Я знаю этих хиппи. Они выезжают за город, чтобы искать Бога, как только наступает лето. Но Бог – это город. Город – это время. Город – наше истинное Спасение. Мы приспосабливаемся к нему, и город приспосабливается к нам. Одна только наука может помочь нам возвратиться к Богу. Я проиграл сражение, но, конечно, где-то война продолжается. Кочевники не могли окончательно победить. И будет война в Небесах, как поведал великий Генри Уильямс[46]. Люди должны прислушаться. Англичане консервативны и снисходительны. Они признают только своих соплеменников. Если бы они выслушали меня, у них появились бы лазеры, реактивные двигатели и ядерные реакторы гораздо раньше, чем у американцев. Самонадеянный Ллойд Джордж[47] в двадцатых годах планировал новое расширение империи. Ему следовало объединить силы с другими и проводить общую линию. Другие пришли бы ему на помощь. Но англичане решили продолжать борьбу в одиночестве, обманутые в точности так же, как побежденные ими турки. И они самодовольно зашагали по протоптанной дороге Абдула-Хамида[48], последнего истинного султана Оттоманской империи. Миссис Корнелиус очень внимательно слушала меня. Она все видела. В 1920‑х я думал, что она – типичная представительница поколения наблюдательных британцев. Я ошибался. Она воплощала прошлое. «Британцы – самые открытые люди в мире, – говорила она. – ’осмори на черт’вых иностранцев, к’торых мы ’ринимам».
Снова и снова я пытался вас предупредить. Вас уничтожали изнутри. Даже ваши научные журналы не обращали на меня внимания. В «Новом ученом»[49] заправляют коммунисты. И все-таки им пришлось напечатать одно из моих писем. Партийная наука – не истинная наука, она не лучше магии, она хуже алхимии. Если научный идеал извращают во имя политической целесообразности, то вскоре всем начинают заправлять такие люди, как Лысенко или Хойл[50], – танцующие медведи, готовые плясать под любую дудку. Они готовы дать то, что нужно их хозяевам. Миссис Корнелиус утешала меня. Только она ценила силу моей преданности, но не боялась ни за мой разум, ни за мою душу. Она знала, что мир оценит меня – возможно, после того, как мы оба умрем. А ведь я хотел только знания. Я претерпел великое множество оскорблений – духовных, моральных, физических. Я как маленькое степное дерево с длинными корнями, которое гнется на ветру и никогда не ломается. Посадите меня на Портобелло-роуд, окружите афроамериканцами и азиатами, накормите еврейскими «Вимпи»[51] и корнуоллскими мясными пирогами – и все равно я выживу. Некоторые пожилые люди у Финча и в «Принцессе Александре» слушают меня. Я теперь слишком беден, чтобы ходить в «Элджин», миссис Корнелиус умерла. Ее друзья знали, что такое истинное страдание. Они еще помнили тридцатые годы и две войны. Но только старый грек знает, что на самом деле означает число «1453». Он продает рыбу и жареный картофель напротив моего магазина. От него воняет жиром и уксусом. Его одежда покрыта коричневыми пятнами, как и кожа. Люди уважают его ничуть не больше, чем меня.
Когда последний император Византии умер на стенах своего города, сжимая в руке меч, на турках были доспехи и золотые шлемы. Они несли знамена ислама и выкрикивали имя Аллаха. Турки пришли со своими ятаганами и своими рабами, своими евнухами и своими гаремами, своими мечетями и своими имамами, и они овладели Константинополем. Но теперь турки маскируются. Он потешаются над Бастером Китоном в кинотеатре «Националь», они посещают лекции в Лондонской школе экономики, они пьют пиво в пабах и спят с суррейскими девственницами. Они становятся звездами сцены или дантистами. Они мило улыбаются и говорят тихими приятными голосами. Но за этим фасадом всегда кроется 1453‑й. Через тысячу лет устремления турок не изменились. Они одинаковы – с тех самых пор, как гунны, предки турок, впервые вторглись на Запад, когда душегуб Баязет привел свои войска к стенам Константинополя и отступил. Он потомок Аттилы и брат Тамерлана. От евреев он узнал, как подкупать продажных, чтобы победить отважных и погубить сильных. Арабы верят, что избавились от его империи, и все же продолжают его дело, не понимая этого. Старый грек знает все о турках (турок держит меч за спиной, когда молит о помощи, простирая к вам одну руку), но он – грек, и потому ничего не делает. Он только говорит. Он улыбается и предлагает мне остатки своих товаров, мягкую пикшу и кусочки холодной трески. «Вы добрый христианин», – говорю я ему. Мы оба знаем, что доброта и смирение – это настоящее самоубийство. Но какова альтернатива? Вот парадокс, с которым всем нам приходится жить. Вот главнейшая тайна христианства.
Мне часто задавали этот вопрос: «Сколько же еще тысячелетий мы, щедрые, благородные люди Запада, будем страдать от алчности коварного Востока?» Ответ прост. Мне жаль, что я не знал его в 1920‑м, когда «Рио-Круз» плыл по Босфору. Теперь я говорю: «Пока христианский император не отслужит мессу в Айя-Софии!»
С крестом и мечом света он придет с Запада, чтобы отомстить за нас! Он растопчет темных потомков Карфагена, они падут под серебряными копытами белоснежной лошади! Карфаген не ведает идеалов, кроме завоевания, не ведает радости, кроме жестокости, не ведает братства, кроме братства меча. Они – дети Каина, зараженные древним злом. Они должны погибнуть. Агнец восстанет над Константинополем, и две ноги его будут в Европе, а две – в Азии!
Бежать в Австралию – это не решение.
Гунн уже в Вене. Он в Брюсселе и Париже. Он в Берне и Баден-Бадене. Он достиг ворот Стокгольма и Осло! Неужели наши христианские рыцари гибли тысячами впустую? И никто не слышал о стандартных приемах коммунистов? Когда прямая атака невозможна – обманом проникни внутрь. И неужели сенатор Маккарти[52] был тем самым вопиющим в пустыне?
Говорят, у Адольфа Гитлера был темный разум. Если это верно, тогда у меня тоже темный разум. Я знаю врага, мне известна его тактика. И за это они посадят меня в сумасшедший дом? Только в прошлое воскресенье какой-то английский генерал написал в газету, что не может понять, почему так много казаков, украинцев и белогвардейцев присоединились к немецкой армии. Я послал ответное письмо. Они решили отомстить всем, кто их предал. Сталин одинаково боялся патриотов и предателей. Он убил всех выживших. Грузин, как мы говорили, – это просто турок, надевший чистое пальто. Я уже охрип, предупреждая всех вокруг, мои силы слабеют. Я заблудился в этих диких местах, среди грязи и мерзости. Меня атакуют со всех сторон. На меня клевещут. Матерь Божья! Что я еще могу отдать? Неужели мне некому передать свое знание? Где мои сыновья и дочери? Один ребенок – все, чего я хочу. Неужели и это слишком много? Белый свет очищает мой разум, и ртуть течет из моих глаз. В снегу – ангелы, их мечи – из серебра. Маленькие девочки в хлопковых платьях бегут ко мне с клочками бумаги, а я не могу прочитать, что там написано. Они ослепляют меня. Карфаген на горизонте. Византия сияет, как зеркало. Предстоит последняя война. И рыцари Христовы спят. О, как я завидую этим самоуверенным евреям!
Туман был у меня во рту.
Туман был у меня во рту. Судно ползло по бурному, шумному, невидимому морю. То и дело слышался жалобный стон корабля, который почти немедленно заглушался и искажался в тумане. Я дрожал, кутаясь в пальто, пальцы сомкнулись на пистолетах. Палуба как-то суетливо раскачивалась у меня под ногами. Я видел, что темные тени появлялись и исчезали на мостике, но никто ничего не говорил. Казалось, иногда на наши сигналы отвечали другие сирены, но, возможно, это было просто эхо. Я философски задумался о том, могла ли моя жизнь завершиться, пройдя полный круг, мог ли я умереть в тот же день, в который родился, так и не увидев Константинополя. Эти мысли отвлекли меня. Наверное, я страдал от жажды и передозировки кокаина, но внезапно пришел к выводу, что у меня симптомы сыпного тифа Герникова. Впрочем, я чувствовал себя спокойным и уравновешенным. И вновь сирена, подобная трубному гласу, заставила все судно содрогнуться. Я провел по губам влажной перчаткой. Туман, словно руки мертвецов, цеплялся за дубовые и медные детали корабля. Не сумев разглядеть берег, я решил вновь прибегнуть к помощи кокаина. Я верил в укрепляющую силу этого средства, по крайней мере, порошок должен был помочь мне продержаться до тех пор, пока я хоть мельком не увижу Византию. Я ни за что не хотел пропустить это зрелище – мне много раз говорили, что это одно из величайших чудес мира. Я решил: если я умру, то умру, созерцая рай. Я спустился по трапу на нашу палубу, открыл дверь каюты и неожиданно обнаружил, что миссис Корнелиус не спит.
– Боже мой, – сказала она, – шо за день, а? Поверишь или не, но я ’се ж п’завтракаю нынче утром.
Ее уверенность помогла мне успокоиться.
– Ты поел, Иван?
– Еще нет.
Миссис Корнелиус встала и занялась своим туалетом, а я, дрожа, опустился на ее койку. Отвернувшись от своей спутницы, как обычно, я смог вдохнуть еще немного кокаина. Почти тотчас же я почувствовал себя лучше. Миссис Корнелиус уже надела зеленое шелковое платье, небрежно набросив сверху норковую шубку:
– Неплохо, – заметила она.
В обеденном салоне она заказала большой завтрак.
– Черт’в туман, – сказала она. – Я‑то надеялась посмотреть вид. Ни разу с эт стороны не видала. – Она встревожилась, обнаружив на своем платье несколько пятен. – Откуда они ’зялись? – Она попыталась очистить платье. – У нас шо-т было прошлой нотчью, так?
Она скрестила ноги, сияя от восторга, как будто добилась поставленной цели. Мальчик принес ей яичницу с беконом, которая выглядела просто отвратительно. Все остальные брали черный хлеб, омлет и чай. Миссис Корнелиус причмокнула губами и стряхнула сахар на свой тост, как обычно.
– Никада не знашь, када случится позавтракать в следующий раз, – пояснила она. – Кажись, я целых шесть лет так не ела.
Она быстро проглотила свою порцию, заказав еще одну яичницу с беконом раньше, чем опустела первая тарелка.
– Тьбе лучше принести тост и мармелад, – заявила она мальчику.
Мой желудок был слишком слаб для подобного испытания. Я сказал, что хочу подышать воздухом.
– Уви’имся на палубе, – пообещала она.
Туман начал рассеиваться, но берег все еще нельзя было разглядеть. Однако след за кормой судна уже стал заметен. Я закурил сигарету и облокотился на поручень у кормы. Баронесса отыскала меня, когда я начал сильно кашлять. Я прилагал все усилия, чтобы прекратить приступ, но ничего не получалось.
– Ты выглядишь больным, Симка. Не подхватил ли ты то же, что и бедный Герников?
Это так меня встревожило, что кашель начался заново. Я не мог рассказать ей о своих страхах. Не следовало устраивать панику на борту судна.
– Вы с женой придумали, где остановиться в Константинополе? – спросила она.
Я покачал головой.
– Нужно постараться не терять связь.
Я кивнул. Меня настиг еще один приступ кашля. Баронесса была равнодушна и спокойна. Возможно, она уже готовилась к расставанию. Мне, однако, она казалась оскорбленной. Я, нахмурившись, глядел на нее. Я не мог говорить.
Она приняла мой хмурый взгляд за вопрос и принесла извинения:
– Я сегодня не в себе. От волнения, полагаю. Я в первый раз в стране, где никто не говорит по-русски.
Я больше боялся за себя. Я решил, что должен, не привлекая внимания, отыскать санитарку или доктора, как только появится такая возможность.
Неподалеку прогуливался Джек Брэгг. Он зачесал светлые волосы назад, его розовое лицо сияло под темно-синей фуражкой.
– Смотреть, боюсь, особенно не на что. В другое время уже можно было бы разглядеть оба берега. Но постепенно туман расходится. – Потом он пробормотал, как будто ни к кому не обращаясь: – Нам бы очень повезло, если бы все это проклятое место сгинуло. – Его брат во время войны побывал в плену в Скутари, и Джек не испытывал любви к туркам. – Где вы остановитесь? В Пере?
Я сказал, что жена обо всем договорилась. Джек предостерег меня:
– Неужели вы не можете попросить кого-то из знакомых приютить вас на время? Даже лучшие из турков ограбят вас, если смогут. А что касается армян…
В турецкой столице к армянам относились так же, как к евреям в Одессе. Тусклый солнечный свет уже пробивался сквозь туман. Брэгг напоминал собаку, почуявшую запах дичи.
– Ага!
Он всмотрелся вперед, а потом взмахнул трубкой, показывая куда-то вдаль. Мы с баронессой обернулись. Туман отступил, как занавес, и корабль внезапно вошел в более прозрачную воду. Я увидел темно-серую полосу, которая оказалась береговой линией. Там были довольно обычные квадратные здания и несколько деревьев. Ничего похожего на обещанное чудесное зрелище.
– Константинополь кажется довольно скучным. – Баронесса взволнованно рассмеялась. – Полагаю, так всегда и бывает. Действительность неизменно разочаровывает.
Издалека послышался вой сирен с невидимых кораблей. Каик под треугольным парусом прошел мимо правого борта. Он сильно клонился набок. Бриз усиливался. Я начал различать множество таинственных шумов, как будто совсем рядом с нами разворачивалась энергичная деятельность. Корабль сделал поворот и вошел в гавань. Тогда клочья тумана остались позади – как обрывки одежды, они спадали с корабельной оснастки. Мы немедленно вышли на открытую воду. Очертания берега стали более четкими. У края воды я разглядел большие здания, как будто поднимавшиеся прямо из моря. Они, похоже, были построены из серого известняка. Мелкий моросящий дождь падал с облаков, словно прозрачный жемчуг. Буксиры, два-три маленьких парохода, колесный пароход с кормовым колесом, множество парусников – все они деловито перемещались вдалеке от нас. Казалось, тут собрались корабли из разных столетий. Справа от меня был европейский берег, слева – азиатский. Я смотрел то в одну сторону, то в другую. Я ожидал слишком многого, но над обоими берегами повисла непроницаемая пелена тумана. Мы миновали небольшие белые здания и тонкие деревья, крошечные причалы, к которым были привязаны одномачтовые рыбацкие каики; темнолицые мужчины в простых рубахах катили бочки, перетаскивали ящики и чинили сети, как прибрежные рабочие во всем мире. Большинство моряков, однако, носили красные исламские фески. Все больше кораблей появлялось вокруг нас, они мчались в разные стороны, дымя, скрипя, гудя, как будто совершенно неуправляемые. Каики носились взад-вперед с немыслимой скоростью, как маленькие электромобили на выставке. Меня взволновала эта обычная повседневная суета. Здесь все было иначе, не так, как в безмолвных, тревожных, мрачных русских портах, в которых мы останавливались прежде. И все же я был разочарован. Константинополь оказался обычным оживленным морским портом, более крупным, чем довоенная Одесса, но не слишком отличавшимся от нее. Однако мне было приятно видеть такую активную деятельность и не слышать орудийных залпов.
«Рио-Круз» снизил скорость вчетверо, сделав поворот на правый борт. Сирена резко взвыла, когда нос нашего судна оказался совсем рядом с колесным пароходом, заполненным безразличными левантинцами. Тридцать смуглых голов без особого интереса повернулось в нашу сторону: собрание засаленных тюрбанов, фесок, бурнусов и бумазейных шапок. На бортах парохода выделялись ярко-красные полосы. На покрытой копотью трубе красовался серебристый исламский полумесяц. Направляясь к азиатскому берегу, пароход стучал, как швейная машинка, а наше собственное судно ворчало, словно сварливая старая леди, потревоженная хулиганами.
Теперь в шуме гавани послышались человеческие голоса. Я уловил знакомые запахи горящей нефти и сладких специй. Позабыв о своем предполагаемом сыпном тифе, я оживился, а баронесса, напротив, почему-то становилась все задумчивее и мрачнее. Крики на разных языках звучали то громче, то тише, как будто подчиняясь ритму волн. Когда взошло солнце, морось рассеялась. Джек Брэгг вернулся, чтобы проследить за моряками, которые возились с канатами и оснасткой, потом судовые двигатели заработали в другом ритме – сильный, медленный глухой стук встряхивал весь корпус корабля каждые несколько секунд. На мостике ясный, решительный голос капитана растворялся в гомоне, несшемся из порта, – мы подплывали все ближе к европейскому берегу. Я мог уже различить людей, небольшие кафе с выступавшими над водой балконами, на которых пили кофе и беседовали турки, не обращавшие на нас внимания. Я видел частые ряды вечнозеленых растений, бесчисленные тропинки, ведущие прочь от берега, от скопищ зданий, ящиков, бочек и мешков, загромождавших причалы.
И тогда наконец солнечные лучи засияли в полную силу, туманная преграда рассеялась и мы смогли разглядеть всю панораму. Она меня поразила – я не сознавал, как много оставалось вне поля зрения.
Внезапно Константинополь озарился ярким светом. Говорить стало невозможно. Думаю, даже баронесса была поражена. Я перестал обращать внимание на корабли, голоса или какие-то другие обычные детали портовой жизни.
Сквозь массивные густые облака солнце распростерло золотой веер лучей шириной в милю над городами-спутниками Стамбулом и Перой, которые располагались на холмистых берегах по обе стороны Золотого Рога[53]. Через несколько секунд исчезли даже воспоминания о тумане, и здания засветились и засверкали в прохладном ярком свете. Древний Византий со своими зубчатыми башенками и крепостями находился слева от меня, а коммерческая Галата распростерлась справа – новые здания, казалось, прижимались друг к другу на всем протяжении гавани. Подобно Риму, древний город был основан на семи холмах, и на каждом холме виднелись томные тополя, зеленые парки и аккуратные сады, тонкие башни и массивные купола. Сразу у береговой линии начинался Константинополь – один поразительный ярус над другим, уникальная алхимия истории и географии, архитектурная коллекция, собиравшаяся две тысячи лет. Зимнее солнце мерцало на мраморных крышах и золотило минареты, согревало нежные зеленые кипарисы. Повсюду были мечети, церкви и дворцы. Наш корабль и саму гавань затмевали разнообразные массивные каменные строения. Торговые корабли, эсминцы, фрегаты, буксиры роились у основания города, как мелкие мошки на поверхности воды. Я не ожидал увидеть нечто настолько величественное, настолько восточное и фантастическое. Даже заводской дым, поднимавшийся тонкими столбиками в дюжине мест, мог исходить от экзотического аравийского костра. Я почти поверил, что он вот-вот примет форму гигантских духов или летающих коней. В тот миг я мог вообразить себя Гаруном-аль-Рашидом или странствующим Одиссеем, впервые узревшим ослепительную Трою. Это видение было почти болезненным в своем разнообразии и красоте: наш имперский город.
«Рио-Круз» постепенно приближался к низкому мосту, соединявшему Стамбул и Галату, его очертания были почти полностью скрыты множеством кораблей и лодок, пришвартованных к этому сооружению. У обоих концов моста стояли мечети с огромными куполами, окруженными высокими тонкими башнями из мрамора. Последнее из облаков удалилось к горизонту и повисло там, белое и огромное, посреди сверкающей синевы. И мне открылись новые детали облика двух городов: минарет над минаретом, купол над куполом, дворец над дворцом, на огромной высоте, у нас над головами. Здесь была слава Византии, повторенная тысячу раз завистливыми преемниками Сулеймана, которые считали себя хранителями традиций Константина, даже несмотря на то, что принесли в его город свою веру. Все их мечети были построены в подражание Айя-Софии, которая теперь сама стала мечетью, – зтот благороднейший храм, величайший из всех, возведенных во славу Христову. Сияя зеленью, золотом и белизной в легком солнечном свете, город выглядел крупнее, запутаннее и древнее всех тех городов, которые я видел прежде. Когда я это осознал, меня на мгновение охватил ужас. Как легко можно было исчезнуть в Константинополе, заблудиться, сгинуть, пропасть в лабиринтах его бескрайних базаров.
По сравнению с Константинополем Одесса казалась всего лишь небольшим провинциальным городом. Джек Брэгг ненадолго присоединился к нам. Он снисходительно улыбнулся:
– Выглядит внушительно, но подождите – вы еще почувствуете здешний запах. Мы пришвартуемся у европейской таможни, на том причале. Но сначала нам нужно направиться к Хайдарпаше. – Он указал на азиатскую сторону города. – В Скутари. В большинстве мест этот пролив не шире Темзы. Но какой удивительный водораздел!
Его хладнокровие меня возмутило. Эти слова разрушили мои мечты, которые превращались в настоящие молитвы. Я попытался вобрать в себя сразу весь этот город. Корабль повернулся кормой к Византии и начал двигаться к восточному берегу, где поодаль друг от друга стояли более новые и высокие официальные здания, хотя среди деревьев еще виднелись купола и минареты. Мы приблизились к иностранным военным кораблям, ходившим под флагами Италии, Америки, Греции, Франции и Англии – кресты Христовы, триколоры свободы. Не было только нашего российского флага. Мы в течение многих столетий обещали вернуть Константинополь Христу, и накануне победы сами сбились с пути и уничтожили друг друга в кровавом пламени гражданской войны.
Наверное, я расплакался, когда миссис Корнелиус, прикрывая лицо носовым платком, пропитанным одеколоном, приблизилась, пошатываясь, встала между мной и баронессой и, приходя в себя, осмотрела панораму, а потом широко открыла глаза:
– Боже ж мой! Чертовски х’рошо выгля’ит с эт ст’р’ны, верно? – Она бывала в Константинополе проездом в 1914‑м с возлюбленным-персом. – Так близко и так дьяв’льски далеко, а, Иван?
Русские пассажиры по двое и по трое начали выбираться на палубу. Все они испытывали страх и, мне кажется, трепет. Константинополь был основой нашей глубинной мифологии, он значил для нас гораздо больше, чем Рим для католиков. Мimari Kimdir![54] В последние годы миллионы людей умерли, искренне веря, что их жертва поможет нашему царю лично водрузить русского орла над Блистательной Портой. Плакаты утверждали, что торжествующий царь, подняв огромный меч, поставит ногу на шею павшего султана. И тогда царь приведет своих рыцарей к дверям Святой Софии и потребует возвратить Христу наш старейший храм после пятисот лет унизительного рабства. Вот самое худшее деяние большевиков – они приказали русским людям прекратить войну с турками и заставили нас уничтожать друг друга. Моим единственным утешением стал греческий флаг с синим крестом, который вился по ветру рядом с государственным флагом Соединенного Королевства. Когда еврейские хозяева Ленина заставили нас прекратить крестовый поход, греки отважно подняли знамя нашего Спасителя[55]. Но вскоре были обмануты и греки.
Теперь сирена «Рио-Круза» словно бы приветствовала другие суда. Я тогда пожалел, что не могу ступить на берег в форме донского казака как истинный представитель своей страны. Но было бы безумием подчиниться этому импульсу. Я удовольствовался краткой молитвой. Трое русских стариков уже опустились на колени. Многие рыдали и сжимали руками поручни. Айя-София была свободна от Ислама! Мы думали, что Христос вернулся. Но как мы могли предвидеть следующее предательство? Как раз тогда, когда «Рио-Круз» глушил двигатели у каменных причалов Скутари, европейские евреи, сидевшие в безопасности в своих финансовых крепостях, управляли капиталами союзников. Вскоре они стравили все нации. Еврей, называвший себя греком и носивший британский аристократический титул, стал главным организатором грядущего предательства: Захаров[56], оружейный король, уже продавал вооружение и грекам, и туркам, и армянам. Он ел хлеб с премьер-министром Венизелосом и пил ароматный кофе с нераскаявшимся защитником ислама, Мустафой Кемалем[57]. И он лгал всем и каждому. Он хвастался, что в его венах течет кровь святого Павла, а затем отдал свой родной город Магомету. Сдача Константинополя стала еще одной строкой в бухгалтерских книгах «Викерс – Армстронг»[58].
Корабль наконец пришвартовался. Рослые британские офицеры стояли на пристани, непринужденно беседуя с одетыми в хаки турками в красных фесках. Они едва взглянули на нас. Высокие, закрытые ставнями окна таможни стали превосходными насестами для нетерпеливых чаек, которые, казалось, были нам рады гораздо больше, чем люди. Автомобиль с красным крестом остановился у ворот. Из машины вышли доктор и санитарка. От волнения, от страха или от физической слабости я начал дрожать. Возможно, я впервые осознал, что освободился от России. Пуповину перерезали. Баронесса едва ли заметила мое состояние. Она интересовалась состоянием своей дочери. Встав в центральной части палубы, Джек Брэгг поднес к губам мегафон и объявил пассажирам, что возможна небольшая задержка, пока будут осуществляться необходимые проверки. У греческого священника, служившего Джеку переводчиком, на лице застыло спокойное выражение – он напоминал икону, его черные руки тряслись, когда он совершал умиротворяющие жесты.
Я оглянулся назад, на сияющую Византию, оставшуюся по ту сторону пролива. Именно здесь, предположил я, сидели в седлах первые гунны из вражеских орд; они щурили глаза и облизывали губы, предвкушая огромную добычу. Торговый центр всего мира, Византия находилась в состоянии упадка уже тогда, больше тысячи лет назад. Я все еще мог разглядеть ее далекие дворцы, ее зеленые и золотые холмы. На этом расстоянии она казалась неизменной, такой же, какой могла быть во времена Феодосия или Юстиниана Великого. И на протяжении тысячи лет моралисты называли ее упадочной и предсказывали конец, и все же ни один город, даже Рим, не сохранил своих изначальных свойств в той мере, в какой их сохранил Константинополь.
Миссис Корнелиус посмотрела на меня:
– Ты в ’орядке, Иван?
По-прежнему не в силах сдержать дрожь, я ничем не мог успокоить свою подругу. Я пытался заговорить, но мне не удалось. В горле было слишком сухо. Кажется, мои ноги подломились, хотя сознания я не терял. Я помню, как миссис Корнелиус проговорила: «’от дерьмо! Надо ж, черт ’обьри, ’овезло!» Опустившись у поручней, я увидел, как на борт поднимались первые офицеры. Я попытался встать, но снова рухнул – прямо к ее ногам. Я узрел свой рай. Теперь я чувствовал, что должен умереть.
Глава пятая
В среду 1 января 1920 года я умер русским, а 14 января (по западному календарю) родился космополитом. Я перенес сыпной тиф. Для собственного успокоения британский доктор диагностировал перевозбуждение и истощение. Ich kann nicht so lange warten[59]. Судя по рассказам миссис Корнелиус и баронессы, я бредил на полудюжине различных языков. У меня были видения. Я говорил о своих любимых, о матери, Эсме, капитане Брауне, Коле, Шуре и остальных. Я вновь переживал славу и ужасы своего прошлого. Мне сказали, что чаще всего я представлял себя мальчиком в Одессе. Это меня не удивило. В Одессе я расстался с юностью (но в Константинополе мне предстояло обрести человечность).
К тому времени, когда я очнулся, уже стемнело. Я качался в широкой койке с высокими бортиками, как в колыбели. В слабом искусственном свете я разглядел сидевшую рядом баронессу. Ее волосы были растрепаны, на ней были надеты коричневое бархатное платье и желтый передник. Баронесса держала меня за руку, но сама дремала. Я слабо попытался подняться, но обнаружил, что ноги меня не слушаются. Веря, как всегда, в победу разума над материей, я не стал паниковать. Я знал, что в конце концов смогу ходить, требовалось только усилие воли. Когда я сжал руку баронессы, ее глаза механически открылись, как у куклы.
– Где я, Леда Николаевна?
– Это личная каюта капитана Монье-Уилльямса, Симка. Доктор думает, что ты в каком-то шоке. У тебя не сыпной тиф, однако всех уже проверили. Кажется, эпидемии на борту все-таки нет.
Я промолчал – пусть верит в то, что ее успокаивает.
– А госпожа Пятницкая?
Как выяснилось, она помогала ухаживать за мной, теперь же наслаждалась поздним обедом.
– Она сказала, что заглянет перед сном. И Джек Брэгг, и мистер Томпсон будут навещать тебя. Все мы, конечно, в карантине. Но это продлится недолго.
Тогда я поверил (и верю теперь), что случилось чудо. Я был спасен, чтобы исполнить свою миссию.
– Надеюсь, кокаин все еще у меня в багаже.
Я верил в силу наркотика гораздо больше, чем в способности врача-шарлатана.
– Я не смогу его забрать. Конечно, я ничего не сказала доктору.
Я погрузился в сон. У меня не было ни малейшей зависимости от наркотика, но его целебные свойства помогли бы мне излечиться. Уже тогда кокаин начал приобретать дурную славу. Художники рисовали мужчин, падающих в обморок на коленях у жен, и сопровождали картины надписью «Кокаин!». «Кока-кола» была вынуждена убрать это вещество из состава[60]. Преследование завершилось запретом. Пока кокаин оставался доступным, международные фармацевтические компании ничего не могли поделать с этим средством. Эти компании хотели захватить все – так им удалось поставить свою марку на этот препарат и возвестить о нем как о чудодейственном лекарстве. Поэтому они втайне распространяли ложные сведения об отрицательных свойствах кокаина и старались представить потребителей порошка дегенератами. Как иронично это ни звучит, но употребление кокаина, вероятно, спасло меня от тяжелой формы сыпного тифа.
Я проснулся всего через полчаса или чуть позже. Леда по-прежнему сидела рядом.
– Ты должен простить меня, если я несколько странно себя вела нынче утром, – нежно заметила она. – Я думала, что ты неестественно холоден со мной. Теперь я понимаю, что ты был болен. Все еще хочешь договориться о встрече в Константинополе? – Она взяла влажный платок и отерла мой лоб. – Есть ресторан, куда ходят русские. Если мы расстанемся, то разыщем друг друга в «Токатлиане».
– Я запомню. – Я говорил очень тихо. Меня все еще удивляло, что я остался в живых.
Она смочила водой мои губы.
– Бедный маленький старый мореход[61].
Это сравнение показалось мне непонятным, и теперь оно не стало яснее. Я никогда не видел альбатроса, уже не говоря о том, что никогда не убивал альбатроса стрелой. Меня всегда беспокоили люди, которым нравятся литературные параллели. Стихи и рассказы, которые они читали, что-то значили только для них и не имели практически никакого отношения к действительности. Но она была романтична, моя баронесса, и, наверное, я любил ее именно за это. Возможно, я чрезмерно погружен в науку. Я знал многих великих поэтов. И мало кто из них показался мне нормальным здоровым человеком. Что касается новой школы Т. С. Элиота[62] и ее попыток прославить язык и нравы трущоб, то у меня все это вызывает отвращение. Я наслушался подобной дряни на родине, когда люди вроде Мандельштама и Маяковского использовали жаргон, чтобы порадовать своих красных покровителей. Я не вижу ничего хорошего в том, что футбольные хулиганы и мелкая шпана возводятся в ранг полубогов.
Баронесса прикрыла лампу, когда я объяснил, что свет вреден моим глазам. Может, я хотел, чтобы она мне почитала? Я спросил, можно ли отыскать на корабле газету, предпочтительно английскую. Леда где-то видела каирскую «Таймс». Она отправилась на поиски. Не знаю, кто меня раздевал, но на мне была чужая пижама. Я попытался найти свою одежду, чтобы выяснить, не осталось ли в карманах кокаина. Но одежду, по-видимому, унесли на дезинфекцию. Я задумался, почему назначен такой короткий срок карантина. Теперь стало очевидно, что все опасались паники из-за сыпного тифа. По этой причине мой приступ объяснили истощением и перевозбуждением. Я тогда был слишком наивен и не мог понять, как часто власти руководствовались в своих действиях сиюминутной выгодой.
Леда вернулась и принесла газету. Там было полно новостей о мирных конференциях и политических решениях. Нашлось несколько упоминаний о России: мистер такой-то собирался вступить в переговоры с мистером Лениным или мистером Троцким. Более содержательными оказались обычные отчеты из Лондона: король побывал на строительстве нового дирижабля, Ллойд Джордж произнес очередную речь, в которой проявился его крайний радикализм, в конечном счете уничтоживший и его, и его партию. Звучало немало предостережений о разгуле социализма в Англии. Германии уже угрожало красное нашествие, как и Франции и Италии (там Ватикан вступил в союз с коммунистами). Страдания России почти никого ничему не научили. Неужели люди и впрямь завидовали нашей смертельной борьбе? Я сказал Леде, что хотел бы услышать о победах людей, а не об их безумии. После этого она почти сразу прекратила чтение.
Еще два дня я лежал в каюте капитана, пил безвкусный бульон, принимал мерзкие лекарства. Наконец старательный медик с одутловатым лицом, который брезговал ко мне прикасаться, объявил, что я здоров. Миссис Корнелиус к тому времени переехала в Перу и остановилась в «Паласе». Корабль покинул Скутари и достиг европейской части города, мои бумаги и вещи были продезинфицированы. Я мог покинуть «Рио-Круз» когда угодно. Джек Брэгг помог баронессе подыскать временное жилье в немецкой семье, неподалеку от артиллерийских казарм. Мое помещение располагалось ближе, в центральной части Перы. В этой части доков Галаты не было такси (Галата и Пера находились на Босфорском берегу понтонного моста), и мне посоветовали воспользоваться общественным транспортом. Капитан Монье-Уилльямс пожал мне руку и пообещал, что мой багаж переправят в отель. Я передал наилучшие пожелания Томпсону и Брэггу, уже сошедшим на берег, потом упаковал маленькую сумку, все еще чувствуя слабость, прошел по палубе опустевшего «Рио-Круза» и спустился по трапу на каменные плиты пристани. Оказавшись на твердой земле после длительного перерыва, я долго не мог привыкнуть к позабытым ощущениям. Сержант провел меня через ограждение, мимо серых респектабельных таможенных контор, мы вышли на оживленную улицу, где здания оказались с виду гораздо менее презентабельными – ободранная побелка, рваные плакаты, осыпающаяся краска, разбитые окна. Сержант приподнял руку, в которой держал мелкую монету.
– Вот там вы можете сесть в трамвай, – сказал он и указал на грязный зеленый знак. – Вам нужен номер один.
Он развернулся и зашагал прочь. На холмах еще было светло, а внизу уже лежал туман.
На мгновение я почувствовал себя всеми покинутым. Я с огорчением подумал, что капитан мог бы поступить и повежливее – по крайней мере, приказать матросу сопроводить меня до отеля. Позже, однако, я почувствовал благодарность за этот новый опыт. Посреди нового города всегда лучше остаться в одиночестве – так можно быстро узнать дорогу, выяснить, на каких языках говорят местные жители, и так далее. Французским я владел слабее всех прочих языков, но обнаружил, что этих знаний вполне достаточно. Я вспомнил почти все слова, когда начал обращать внимание на знаки и рекламные объявления. Половина была на французском. Номер 1, как мне сказали, шел до Гран Шамп де Морт, кладбища для иностранцев. Мне нужно было сойти на Пти Шамп. Я ждал на узком грязном тротуаре, окруженном десятками ветхих зданий, пытаясь сберечь свои вещи. Дома, расположенные на причале, закрывали мне вид на гавань, но я мог разглядеть отдельные мачты и трубы и осмотреть Галатский мост. Потоки людей перемещались по нему взад и вперед, между Стамбулом и Галатой. У остановки трамвая было несколько магазинов с грязными окнами, там продавали дрянную мебель, старинные безделушки, лампы и столы с инкрустацией. Со всех сторон двигались толпы, медленно, но на удивление оживленно. Именно такого многообразия я и ожидал: турки, армяне, белые, евреи, русские, а еще моряки из всех крупных европейских стран. Однако ни один белый человек не мог пройти по улице и нескольких ярдов – почти сразу же рядом появлялись докучливые еврейские нищие. Как ни были увечны эти евреи, они все равно тянули к прохожим искривленные пальцы.
Мрачные улицы, уводившие вверх, к Пере, казались таинственными ущельями. Во многих проулках виднелись огромные лестничные пролеты – настолько резким был подъем. Там ютились самые разнообразные нищие, продавцы ковров, масла, конфет. Кое-где мальчики на велосипедах, к которым были привязаны автомобильные клаксоны, пытались пробраться сквозь скопище автомобилей, ослов, арб, изящных экипажей и даже портшезов. Эти переулки насквозь провоняли лошадиным навозом, собачатиной, человеческой мочой, кофе, жареной бараниной, табаком, специями и духами. Женщины в чадрах были почти столь же многочисленны, как мужчины, их глаза сверкали сквозь прорези покрывал, как камешки на дне реки. Я знал, что иностранцам не следовало проявлять интерес к турецким дамам, и старался не встречаться с ними взглядами. Я и так боялся, что мне перережут горло из-за золота. Не стоило рисковать из-за пустяков.
В конце концов, потрескивая и звеня, к остановке подошел грязнозеленый трамвай номер 1. Его медные и деревянные детали были покрыты такими вмятинами и царапинами, как будто вагон побывал на передовой. Когда я попытался подняться на подножку, то попал прямо в гущу толпы. Отовсюду внезапно появились турки в фесках, греки в котелках, армяне в каракулевых шапках. Меня понесло вверх, и времени хватило только на то, чтобы отдать серебряную монету за билет первого класса с французской надписью. Проводник небрежно забрал деньги, взял меня за руку и потянул в заднюю часть трамвая, где было меньше людей. Когда я начал садиться на одну из деревянных скамей, со всех сторон послышалось возмущенное шипение. Черные глаза ярко сверкали из-под покрывал. Я с ужасом понял, что оказался в секции «только для дам». Проводник увидел меня. Он закричал по-турецки, сурово указывая на знак, почти совершенно стертый, который было невозможно прочесть. Покраснев, я в конце концов устроился возле благородного черкеса в длинной шинели с патронташами на груди и мягких сапогах для верховой езды. Черкес держал на коленях портфель и поглаживал длинные седые усы, которые спускались ему на грудь, словно хвосты мохнатых грызунов. Он смотрел в окно на уличные толпы. Я сказал ему по-русски: «Доброе утро!», но ответа не получил. Заморосил дождь. Трамвай сильно трясся, останавливался, затем продолжал тягостное путешествие по крутым, извилистым улицам. Со всех сторон вагон окружали люди – мужчины и женщины, юноши и девушки, в перемещениях которых не было никакого смысла. Большинство носили какие-то западные одеяния, иногда сочетавшиеся с восточными, все казались не особенно чистыми. Но по крайней мере я наблюдая обычную жизнь – жизнь, которую я видел, скажем, на задворках Санкт-Петербурга и в своем родном Киеве до войны. Хотя турки и были побеждены, но они продолжали заниматься своими обычными делами. Им не приходилось осторожно ползать, в ужасе озираясь и поминутно опасаясь лишиться жизни и свободы, а ведь именно так теперь жили люди во многих русских городах. Я оценил контраст, ведь Пера была главным русским кварталом Константинополя. Многие мои соотечественники все еще носили свои мундиры. Другие ходили в костюмах типичных московских и петербургских фасонов. Аристократы и крестьяне были здесь равны – в России такому не бывать. Все отчаянно нуждались в паспортах или работе, все искали кого-то, кто мог бы купить остатки их сокровищ.
Я легко узнавал их не только по одежде, но и по потерянным взглядам, недоуменным выражениям лиц, неуверенным движениям. Я опустил руку в карман и сжал рукоять пистолета. Я слишком долго смотрел на подобные лица и не хотел, чтобы мое лицо снова стало таким же.
Удаляясь от берега, наш трамвай приблизился к встречному вагону, мчавшемуся вниз по склону. Я решил, что столкновение неизбежно. Однако два транспортных средства разминулись, они сильно раскачивались на узкой улице, едва не соприкасаясь. Громкий скрежет, скрип и звон колокольчиков чуть не оглушили меня. Наш трамвай резко свернул налево и почти тотчас же сделал поворот направо. Я был потрясен, сбит с толку, напуган, но все равно счастлив снова оказаться в городе – неважно, насколько странным он был. Повсюду я видел хлипкие деревянные здания в несколько этажей, зачастую некрашеные, их основания пострадали от многочисленных землетрясений. Мне казалось, что дома вот-вот обрушатся. Но время от времени из-за них появлялся великолепный исламский купол мечети, которая стояла, как скала, в течение многих столетий. В другом месте я разглядел мраморные башни и небольшой зеленый парк, повсюду внезапно возникали группы тополей, кипарисов и сосен. Мы преодолевали неровные, почерневшие участки, где здания были уничтожены огнем. Виднелись груды щебня, как будто после артиллерийского обстрела, новые здания, недостроенные, а потом, очевидно, брошенные. Кое-где уже раскалывались и рушились грандиозные современные фасады. Пера могла бы стать огромным павильоном захудалой кинокомпании. То, что представлялось значительным, требовало ремонта; то, что выглядело внушительно, оказывалось иллюзией; то, что казалось наиболее театральным, вероятно, составляло величайшую архитектурную ценность в городе. Этому новому гетто, куда настойчивые султаны сгоняли своих иностранных гостей после соглашения с генуэзскими торговцами в шестнадцатом столетии, позволяли существовать. Оно составляло яркий контраст с мусульманским городом на противоположном берегу Золотого Рога. Я то и дело видел Стамбул в промежутках между зданиями, когда трамвай сворачивал в разные стороны. С Перы открывался великолепный вид на древний Константинополь. Город напомнил мне изящного дремлющего калифа, окруженного чувственной роскошью, не замечающего шума, бедности и вони, от которых его отделяет только небольшое пространство воды и несколько узких мостов.
Трамвай выехал на улицу пошире, вдоль которой выстроились более пропорциональные, почти европейские каменные здания. Здесь находились ровные ряды деревьев, магазины, продающие товары лучшего качества, и все же соседние переулки были переполнены, оттуда доносились вонь и крики. Проводник прокричал мне с другой стороны вагона, из-за дюжины засаленных фесок: «Выходите! Ваша остановка, господин!» Он жестом указал на стену, окружавшую небольшой парк. Я как раз увидел ее в окно. Я с трудом протолкался к выходу, раздвигая неподатливые тела, спустился по деревянным ступеням трамвая, проверил, все ли вещи целы, и, когда вагон поехал дальше, двинулся по плиточной мостовой, озираясь по сторонам. Я был на Гранд рю де Пера, на аллее посольств, отелей и легенд. Прочитанные в детстве детективы не подготовили меня к столкновению с реальностью. Я ожидал чего-то более похожего на Невский проспект или Николаевский бульвар, чего-то широкого, ровного, изолированного. Но я забыл об особенностях турок, которые поместили всех чужаков туда, где они могли бороться друг с другом, испытывая каждодневные неудобства. Я бродил взад-вперед по улице, уворачиваясь от велосипедов, всадников, собак, кого-то вроде рикш, и наконец завидел кованые железные балконы «Пера Паласа», который считался лучшим отелем в городе. (А также, как мне вскоре пришлось узнать, был печально знаменитым прибежищем кемалистов и иностранных агентов.)
Я без особенных трудностей отыскал свой отель, и это наилучшим образом повлияло на мое расположение духа. Я почти радостно вошел в прохладный холл и направился прямо к стойке администратора. Это место казалось относительно мирным и довольно чистым по сравнению с грязными улицами. Неприятный шум почти не доносился сюда, и создавалось ощущение нерушимого спокойствия и безопасности – такова отличительная черта любого первоклассного отеля. Как и во многих других отелях того времени, в «Паласе» было очень много бархата, черного чугуна и золота. Швейцары в униформе – в сюртуках, фесках и белых перчатках – выстроились в ряд. Даже грек-управляющий, бледный и толстый, выглядел, как настоящий француз. Я назвал свою фамилию. Он сверился с журналом, а потом кивнул: «Очень рад, что вы смогли отыскать нас, мсье». Он передал мой ключ швейцару-армянину, и человек, похожий на какого-то янычара из стражи султана, направился к лифту с молчаливым достоинством. Мы легко поднялись на третий этаж. Швейцар несколько церемонно показал мне комнату, оценив мое одобрительное бормотание. Комната оказалась невелика. Она выходила на Гранд рю и была очень удобной, с отдельным умывальником и туалетом. Я дал швейцару на чай серебряный рубль. Турки принимали любое серебро, хотя я узнал, что французские наполеоны и британские соверены стали (возможно, со времен Лоуренса) основной валютой для серьезных сделок.
Я заказал горячей воды. Кровать с резной позолоченной спинкой, укрытая красным бархатным покрывалом, была роскошна. В номере я обнаружил кресло, небольшой письменный стол, кладовку для чемоданов и вместительный платяной шкаф. Небольшая гардеробная была обставлена хорошо, хотя и старомодно, там висело огромное зеркало в человеческий рост. Ожидая, пока принесут воду, я достал из несессера бритву, зеркальце и пакет с кокаином. Впервые за целый месяц я мог насладиться своим порошком в уютной и приятной обстановке. Красивый мальчик принес мне воду и чистые полотенца, и вскоре я почувствовал себя возрожденным. Я надел чистую рубашку, элегантный темно-коричневый костюм-тройку и привел в порядок волосы. Теперь я снова стал самим собой – полковник М. А. Пьят, бывший офицер 13‑го полка донских казаков, ученый и светский человек.
Я как раз распаковал вещи, когда в дверь постучали. Поправив галстук, я отворил. Это оказался всего лишь посыльный с запиской от миссис Корнелиус. «Добро пожаловать на берег, Иван. Жаль, что не могу показать тебе окрестности, но я знаю, что ты и сам прекрасно справишься. Увидимся через несколько дней. С любовью, Г. К.».
Я был разочарован. Несомненно, она навещай своего француза. Но я не унывав У меня теперь появилась возможность посмотреть город, прежде чем мы отправимся в Англию в «Восточном экспрессе» или на корабле. Я, конечно, надеялся пообедать с миссис Корнелиус, но утешился: вскоре я буду обедать с ней в Лондоне так часто, как только пожелаю. Вот что казалось по-настоящему важным – наконец-то я попал в настоящую, подлинную столицу. Не возникало явной угрозы вражеского вторжения – полиция пяти союзных государств охраняла мир и порядок. В Константинополе мне были доступны все мыслимые формы наслаждений. Я вспомнил старую поговорку: здесь мусульманин забывал о своих добродетелях, а европеец открывал новые грехи. Нет ничего более волнующего, чем вид города, который только что вернулся к жизни после войны. Мужчины и женщины сгорали от нетерпения – они хотели жить полной жизнью. Из одного только окна своей комнаты я мог разглядеть десятки ресторанов, небольших театров, кабаре. Еще не настало время ланча, а в кафе уже звучала музыка. Светлокожие молодые люди в мундирах бродили туда-сюда по Гранд рю, обнимая смеющихся турецких девочек, скинувших свои чадры. Все казались такими беззаботными! Я никогда не сумел бы вновь испытать тот восторг, который открылся мне в Одессе в годы юности, но Константинополь, по крайней мере, напоминал о давних радостях. Именно здесь я впервые обнаружил удивительную способность – во всех крупных городах я чувствовал себя как дома. Мне требовалось всего несколько часов, чтобы изучить главные улицы, несколько дней, чтобы обнаружить лучшие рестораны и бары. В космополитичных городах существует общий язык, а обычная речь зачастую не нужна. Людям нравится покупать и продавать, обмениваться идеями, отыскивать новые художественные впечатления и сексуальные приключения. Трудность торговли – сама по себе превосходный стимул. Это касается и беднейших граждан, и зажиточных. Только самым богатым, кажется, знакома скука, которая охватывает меня, например, в сельской местности, но таким людям везде скучно – им нечего купить и нечего продать, им ничто не угрожает, кроме самой скуки. С превеликой радостью я услышал на Гранд рю де Пера русскую речь. Здесь говорили на французском, английском, итальянском, даже на идише, греческом и немецком. Кровь бурлила в моих венах – я оказался в естественной среде обитания и почувствовал удовольствие, которым сопровождалось внезапное возрождение моего прежнего «я». Слишком долго я жил, во всем себя ограничивая. Теперь я снова выйду в элегантной одежде на настоящие роскошные улицы.
В те дни я еще не искал утешения в религии. Для меня душа и чувства были единым целым, и Божье дело я мог совершить только с помощью экспериментов и научных изысканий. Вероятно, от подобной гордости страдал и Прометей. Вероятно, я наказан по той же причине, что и он. Я хотел просветить мир, который, согласно моим убеждениям, стремился к покою и знанию, но, будучи молодым человеком, испытывал неведомые доселе эмоциональные и физические желания. Я хотел обнаружить пределы своих возможностей. В 1920 году политическая судьба Константинополя нисколько не тревожила меня. Я вполне резонно полагал, что турки побеждены навсегда, Великобритания или Греция будут управлять городом до тех пор, пока Россия не оправится от ран и не сможет выполнить свою задачу. Тем временем я надеялся испытать в этом городе как можно больше удовольствий. Я слишком долго сдерживал себя. В Киеве, после революции, мне часто удавалось развлекаться, но иногда удовольствие омрачалось неуверенностью. Так же обстояли дела и в Одессе незадолго до моего отъезда. Но в Константинополе не было ни большевиков, ни анархистов, угрожавших моему душевному спокойствию. Я не подозревал о так называемом комитете «Единения и прогресса»[63]. Я знал некоторых офицеров-младотурок и слышал о солдатах, которые отказались сложить оружие и скрылись во внутренних районах Анатолии, но полагал, что их вскоре схватят. Важнее всего было другое – мысль, что я свободен. Я обрел новую жизнь, я стал гражданином мира. Трагедия России больше не была моей трагедией. Я раскрыл чемодан со своими проектами и заново пересмотрел рисунки и уравнения, аккуратные записи и расчеты. Здесь было мое состояние и мое будущее. Я вскоре добьюсь своего. А пока я заслужил небольшие каникулы. Аккуратно одетый и причесанный, я запер дверь, спустился в лифте на первый этаж, отдал ключ портье, сказал, что вернусь к обеду, и погрузился в жизнь города. Я не боялся, что кто-то из моих одесских знакомых может узнать меня без мундира (а если бы и узнал, то наверняка испугался бы). Я не верил, что повстречаю здесь врагов киевских или петербургских времен – почти все они, вероятно, уже мертвы. Наверное, я был чрезмерно доверчив, я надеялся, что с легкостью справлюсь со всеми опасностями, я упивался свободой завоеванной турецкой столицы. И все же не могу сказать, что был таким уж глупцом. Я уже научился осторожности. В степных деревнях я страдал от страха, потому что не мог понять большинства жестов, знаков и обычаев, но здесь, хотя город был мне почти не знаком, я понимал почти все вывески и указатели. Те немногие, которые мне оставались неизвестными, удалось узнать очень быстро.
Я инстинктивно свернул в переулок, потом вышел на широкий проспект. Миновав небольшой парк, я вошел в темное кафе, заказал чашку кофе, осмотрел все и всех, усваивая информацию стремительно и непрерывно: то, как люди шевелили руками, как они говорили, когда успокаивались, когда становились агрессивными. Я знал, что также вызвал их интерес, потому что был очень хорошо одет. Но я об этом не беспокоился. Хорошее настроение – самая лучшая защита. Открытое сердце часто может спасти в самых ужасных столкновениях. В этом смысле простодушие – лучшее оружие городского жителя. И умение быть хорошим актером: каждый день в большом городе нам приходится играть множество едва различимых ролей. Все эти современные разговоры о подлинной идентичности просто бессмысленны. Мы – всего лишь сочетания происхождения, опыта и среды: зеленщик видит одну сторону человека, инспектор полиции – другую. Чем лучше это осознает городской житель, тем меньше он будет смущаться и тем легче ему будет действовать, когда понадобится.
Я наблюдал за дорожным движением. Я стоял на кладбище Пти Шамп, среди тополей и бананов, и смотрел на ту сторону Золотого Рога, на старый Стамбул, лежавший на семи туманных холмах. Я обернулся налево и увидел, что Босфор отделяет меня от азиатского Скутари. Меня поразило количество кораблей в порту. Суда заполняли гавань, как толпа пешеходов заполоняет городскую улицу. И все-таки это не имело никакого значения в сравнении с таинственным и бескрайним древним городом. Я никогда и представить не мог, что столица могла так разрастись и раскинуться на трех разных берегах. Российские города, включая Санкт-Петербург, казались крошечными, даже ничтожными на фоне турецкой столицы. Я не видел границ Константинополя. Город казался бескрайним, беспредельным, он словно занимал целую вселенную: бесконечный остров, существующий вне обычного пространства, остров, где соединяются все расы и все эпохи. Это впечатление было настолько сильным, что я задрожал от восторга. Мне не хотелось уходить из сада. Наконец где-то за стеной заревел осел (а может, имам), и мое настроение изменилось. Я зашагал по узкой тенистой улице, которая выглядела чуть чище прочих. Похоже, во всех домах квартировали европейские семьи. В конце этой улицы я обнаружил множество магазинов, где продавали бумагу, книги, духи, цветы, конфеты и табак – все это напомнило мне обычный киевский район. Книги были на всех европейских языках, включая русский. Я купил пачку папирос, разменяв один из золотых рублей. Я знал, что меня обманули при расчете курса, но не тревожился об этом. В итоге я вернулся на Гранд рю. У маленького мальчика, который что-то пищал на неведомом языке, я купил бутоньерку; паренек как-то странно шлепал губами. В киоске я приобрел русские газеты. Сидя за столиком на улице возле кафе, я пил шербет и читал газеты, удивляясь их высокопарной и пустой риторике. Я улыбался накрашенным девочкам в дешевых платьях, которые подмигивали мне, проходя мимо. Все женщины казались шлюхами, и все шлюхи казались мне красивыми. Здесь прогуливались десятки дам из высшего света в дорогих платьях парижских фасонов и в изысканных шляпках, некоторые из них пристально разглядывали меня. Мне нравился этот мир. Он был исключительно далек от привычной современной жизни.
Я равнодушно отмахивался от уличных продавцов, предлагавших мне все – от ягодиц своих братьев до подержанных кукол своих сестер. Я купил леденец за несколько курушей[64], попробовал его, а потом отдал ребенку, который попросил у меня денег. Вскоре я понял, где нахожусь. Самая возвышенная часть города, Пера, была в основном европейской, здесь располагались посольства и богатые особняки, офисы банкиров и транспортных компаний, лучшие магазины. У подножия Перы, за башней Галаты, возведенной генуэзскими торговцами, тянулись убогие извилистые переулки и наспех построенные бедняцкие хижины. Дальше за Перой виднелись пригородные виллы среди – просторных садов, лужаек и парков. Галатский мост вел через Рог к Стамбулу, над которым возвышалась Йени Джами[65], так называемая Новая мечеть, с ее невероятно тонкими башнями и группами куполов различных размеров. Стамбул оставался турецким городом, хотя там тоже был греческий квартал, родословные жителей которого восходили ко временам Христа. Здесь находились старейшие православные церкви, древние сводчатые цистерны, которыми все еще пользовались, и изначальные стены Византия, создания величественной культуры греков, которой турки могли подражать, но никогда не умели превзойти. Самым красивым зданием Стамбула оставалась Айя-София, видимая с Перы и выделявшаяся ярко-желтым легким куполом. Прекраснейшая из христианских церквей Оттоманской империи стала образцом, по которому турки до сих пор строили свои мечети. Большинство известных памятников находилось в Стамбуле, делая его истинно византийской территорией, но все-таки подлинным Константинополем была, наверное, Пера. Именно здесь византийцы хоронили своих мертвецов (до сих пор повсюду сохранилось множество кладбищ самых разных народов и религий), здесь османы селили иностранцев, присутствие которых было необходимо для их торговли. Этот город процветал от заката до рассвета, здесь царили тонкие интриги, экзотические удовольствия, таинственные преступления и еще более таинственные пороки, и все же в течение дня город приобретал благородный респектабельный облик. Так могла бы выглядеть типичная европейская столица. Конечно, мне было любопытно посетить Стамбул, но тяга к удовольствиям Перы оказалась сильнее. Я не пытался сдерживаться. Я был похож на ребенка, которому открыли неограниченный кредит в кондитерской. Я разработал нечто вроде программы.
Было глупо разрывать отношения с баронессой, пока она не станет слишком навязчивой, не следовало и терять связь с миссис Корнелиус. Однако мне стоило завести новые знакомства. Чем больше людей окружало меня, тем больше возникало возможностей для самосовершенствования. Я напомнил себе о тех привычках, которые выработались у меня за годы войны и революции. Я все так же опасался знакомых из своей прежней жизни, неважно, дружелюбных или нет. Перу заполонили беженцы, и мне неминуемо предстояло столкнуться с людьми, которые сумели бы нарушить мой покой. Они могли знать меня под прежней фамилией, могли встречаться со мной в те дни, когда я притворялся красным или зеленым. Люди были недоверчивы, они могли подумать, что я с охотой играл эти роли. Мне не хотелось снова попасть под подозрение. Поэтому я уделял особое внимание русским, тщательно изучая все лица. Я оказался бы в неловком положении, если б наткнулся на молодых женщин, которых знавал в Петербурге, например, или на какого-нибудь богемного радикала, считавшего меня большевиком и педерастом, потому что я дружил с моим дорогим Колей. Я еще мог повстречать Бродманна, который указал бы на меня пальцем, закричав: «Предатель!» Именно это и стало причиной моего поспешного бегства из Одессы. Однако я не терял уверенности, что в большинстве случаев у меня получится уклониться от столкновения.
Было важно сохранить репутацию образованного человека хорошего происхождения и получить доступ в высшее общество. Британцы примут меня на моих собственных условиях. Я был блестящим инженером с хорошим военным послужным списком, я сбежал из России от красных. Если станут известны некоторые незначительные детали, не имеющие никакого отношения к сути дела, то моя жизнь осложнится. Так что я решил не обращать внимания на людей, которые будут называть меня Димкой (если только я не знаю их по-настоящему хорошо). При первой же возможности я отращу усы.
Прогуливаясь по крутым склонам, шагая по узким глухим улочкам кварталов Галаты, я впитывал впечатления от бедности точно так же, как впечатления от богатства. Я не ожидал обнаружить здесь так много высоких деревянных зданий. От оригинальных генуэзских построек почти ничего не осталось. Кое-где встречались старые дома с пилястрами, но самым значительным сооружением стала Галатская башня[66], возведенная в память об итальянских солдатах, которые погибли в боях. Сначала ее назвали башней Иисуса. Хрупкие деревянные сооружения возносились на пять или шесть этажей, они наклонялись под разными углами, как в немецком экспрессионистском кино. Если одно здание рухнет, подумал я, то повалится и тысяча других. Возможно, такие причудливые сочетания форм, импровизированных, необычных, недоступных логическому анализу, отражали социальную напряженность, царившую в городе. Константинополь выживал тогда, как, говорят, выживает сегодня Калькутта: с виду все враждуют друг с другом, но на деле все зависят от окружающих.
Фески, тюрбаны, цилиндры, военные фуражки, панамы возносились над этими бесконечными человеческими потоками. Я пошел обратно к Пере. Короткие переулки, пролегавшие между рю де Пти Шамп и Гранд рю де Пера, были заполнены небольшими барами и тесными борделями, в которых встречались мужчины и женщины всех рас и классов. Девушки и юноши выставляли себя напоказ в двух шагах от огромных иностранных посольств, над которыми высился чудовищный каменный дворец нашего российского консульства. Из подвалов и окон верхних этажей в переулки лились звуки джаза. Шлюхи нависали над причудливыми балконами, сплетничая с товарками с другой стороны улицы, иногда прерываясь, чтобы позвать потенциального клиента. Это напоминало античный город. Неужели Константинополь остался неизменным с тех пор, как греческие колонисты основали его за шестьсот лет до Рождества Христова? Похож ли он на Тир? Или на сам Карфаген? Я был очарован. Мне открылся пьянящий соблазн восточной фантазии. Я мечтал о красивых райских девах, о томных гаремах, о невероятно роскошных фантастических удовольствиях. Константинополь предоставлял гораздо больше возможностей, чем в эпоху упадочных султанов, ибо теперь его жители открывали для себя необычную свободу и непонятное рабство. Владыки ислама больше не имели неограниченной власти и не отдавали приказов в Йылдыз-паласе[67], но даже в Пере муэдзин все еще призывал на молитву многие тысячи верующих. Тиранию ислама нельзя было уничтожить в одно мгновение. Избавление Византии от власти захватчиков могло занять многие годы, возможно, этого избавления вообще никогда не удалось бы добиться. Но теперь в этой власти начали сомневаться люди, которые раньше никогда не смели позволить себе такие мысли. И поэтому жестокая, безумная пуританская вера внезапно утратила большую часть своего влияния. В результате избавленные от тирании люди теперь захотели испробовать все, что ранее было запрещено. Вдобавок появился новый разрушительный элемент – отчаявшиеся беженцы, стремившиеся при первой же возможности заработать несколько лир. В некоторых из этих деревянных домишек жили семьи русских аристократов, в крошечные комнаты набивалось по десять человек. Греки и евреи использовали в своих интересах поражение Оттоманской империи, чтобы отомстить старым конкурентам – туркам, армяне заняли дворцы опозоренных министров Абдула-Хамида или виллы арабских торговцев, которые были разорены, потому что поддерживали султана. Турки, насколько такое возможно сказать о них, были ненадолго деморализованы. Они увидели, что за каких-то два года их огромная империя, возводившаяся на протяжении многих столетий, уменьшилась до той жалкой «анатолийской родины», откуда в XIII столетии их основатель Осман, охваченный жестоким честолюбием, рванулся вперед и вонзил нож в горло Европы. Теперь немногие верили, что Константинополь хотя бы номинально останется турецким. Почуяв смутные времена, с запада прибыли жадные евреи, готовые прибрать к рукам все, что осталось. Для меня и миллионов мне подобных война с Турцией была крестовым походом. Но, подобно очень многим другим крестовым походам, этот быстро превратился в простую грызню из-за сокровищ и власти. Должен признать, что поначалу я всего этого не понимал. Я видел только новые открытия, экзотическую смесь человеческих типов, бесконечные возможности не только для исполнения самых безумных желаний, но и для поиска новых наслаждений, которых я пока еще не знал. Тем вечером в баре, где обслуживали только европейцев из высших классов, я потягивал коньяк, поднесенный мне на серебряном подносе русским татарином в молдавской рубашке и белых армейских бриджах. Я не мог даже предположить, как радикально переменится моя судьба под влиянием этого города.
Я проходил мимо руин, трущоб, гниющих потрохов и все-таки видел, как новая Византия поднималась по обе стороны Золотого Рога. Она могла бы стать столицей мирового правительства, главным городом будущего Утопического государства. Мир, конечно, преодолеет кризис. Два вопроса, на которые следовало найти ответ, – как сохранить этот мир и кто сможет им лучше всего управлять. Но я еще не знал, что кемалисты, финансисты, большевики уже спланировали грядущее разделение и разрушение. Проекты Утопии, лежавшие у меня в чемодане, были доступны всем. Неужели я виноват в том, что мир отверг возможность спасения?
Медленно и чрезвычайно уверенно я вернулся обратно в отель. Я купил карту и перевел еще немного денег в турецкие лиры. Я надеялся, что этой суммы хватит до отъезда из Константинополя, поскольку было не самое подходящее время и место, чтобы продавать драгоценности, привезенные из России. В Лондоне я получил бы за них настоящую цену. С другой стороны, я думал, что мог бы отдать браслет или ожерелье баронессе. Во всяком случае, она была вполне приличной женщиной. Я не хотел, чтобы они с Китти разделили судьбу других беженцев.
Вернувшись к себе в комнату, я с удовольствием обнаружил, что доставили багаж. Я тотчас переоделся в форму донского казака. Теперь на меня из зеркала смотрел во всей красе бывалый полковник, которому исполнился всего двадцать один год. Такой уверенности в себе мне не давала даже самая лучшая штатская одежда. Эту форму я заслужил тяжкими страданиями. Она искупала грехи моего отца, подтверждала доброе имя моей матери, прославляла мою страну. Однако я знал, что пока еще не следует появляться в ней на публике. С огорчением я снял ее, свернул и облачился в обычную вечернюю одежду перед тем, как спуститься в бар и выпить аперитив. Внизу собралось немало высокопоставленных британских и французских офицеров, смешавшихся с богатыми мужчинами и роскошными женщинами. Я обрадовался, что миссис Корнелиус смогла снять для нас комнаты. Усевшись на табурет рядом с суровым худощавым британским майором, я заказал виски с содовой. Он обернулся на звук моего голоса и кивнул мне. Я сказал:
– Добрый вечер! Я Пятницкий.
Казалось, майор удивился тому, что я владею английским.
– Добрый вечер. Я Най.
У него были усталые голубые глаза, взгляд казался рассеянным, но доброжелательным. Его загорелая кожа туго натянулась на тощем теле. Он то и дело приглаживал ровные седеющие усы. Осмотрев бар, майор как будто неохотно попросил большой джин с тоником. Когда я объяснил, что был летчиком, сбитым над Одессой во время облета большевистских укреплений, он, очевидно, расслабился. Как будто извиняясь, майор сказал, что совсем недавно прибыл из Индии.
– По своей мудрости наше начальство, кажется, полагает, что мой опыт, приобретенный на границе в схватках с патанцами[68], будет полезен в Константинополе!
Ничего более определенного о своей миссии он не сообщил. Узнав, что я только что сошел на берег и собирался отправиться в Лондон, майор окончательно смягчился. Меня не смутила его осторожность. Как он позже заметил, следует быть очень осмотрительным, если заговариваешь с человеком в «Пера Паласе». Я мало что знал о кампании против турецких националистов в Анатолии. Имя Мустафы Кемаля ничего мне не говорило. Хотя я и слышал, что греческая армия в настоящее время продвигается вглубь Анатолии, подробностями я не интересовался. Мне просто казалось, что Греция потребует все, что ей причитается. Майор Най охотно предложил обрисовать ситуацию, но, конечно, ничего не сказал о планах британской политики. По словам майора, он восхищался героизмом нашей Белой армии. Россия должна как можно скорее получить Константинополь.
– Русские прекрасно изучили турок. Поймите, я не сторонник территориальных устремлений России в других местах, не в Афганистане и не в Пенджабе во всяком случае. – Майор улыбался, потягивая джин. Он думал, что британцы должны пока управлять городом от имени государя и царя Константина. – Пока все немного не успокоится, Восток нужно сдерживать. Я очень высоко ценю азиатский склад ума, естественно, я люблю Индию. Нам есть чему у них поучиться. Но если Азия когда-нибудь сможет усвоить манеры и принципы Запада, если азиаты начнут одеваться в английские костюмы и рассуждать о немецкой метафизике, – она станет представлять угрозу для себя и для нас. – Он указал в сторону Скутари. – Пусть столицей турок станет Смирна. Пусть заберут себе всю Анатолию. Другими словами, они должны остаться в Азии. Греки смогут тогда забрать Фракию, а русские изгнанники получат Константинополь, который, по-моему, исторически должен им принадлежать. При поддержке британцев греки и русские создадут самый прочный барьер на пути распространения восточных и большевистских сил. Тогда установится необходимое равновесие между Востоком и Западом. Все почти сразу же увидят преимущества такого положения. Надо отдать ему должное, Джонни-турок – чертовски храбрый паренек. Но нельзя допустить, чтобы он притворялся западным человеком.
На меня произвели огромное впечатление его политические взгляды, его позитивный настрой, его честность и открытость. Майор Най был из тех превосходных англичан, которые не держат камень за пазухой и высказывают глубоко продуманные моральные суждения. Я сказал, что полностью с ним согласен. Россия разорена именно из-за своей восточной экспансии. Все знали, что китайцы, мусульмане и евреи теперь стали основной опорой Ленина. Услышав это, майор пришел в восторг.
– Точно! – Он собирался продолжить разговор, но тут, заметив знак официанта, посмотрел на часы. – Я договорился поужинать с одним приятелем. Мы еще вернемся к этому разговору. Как насчет нынешнего вечера, попозже? Я, во всяком случае, должен угостить вас выпивкой.
Взмахнув рукой, как будто отдав салют, он скрылся в смежном ресторане. Беседа с майором Наем привела меня в отличное расположение духа. Вскоре я разговорился с русским капитаном, который был прикомандирован к британскому штабу у вокзала Хайдарпаша. Он услышал часть нашей беседы. Его фамилия была Рахматов. Племянник старого генерала.
– Как я понял, вы летчик?
– Я летал, – скромно признался я, – когда служил своему императору. А вы?
– Просто обычный пехотинец. Майор Най – один из немногих британцев, которые понимают наше положение. Нам нужно молиться, чтобы их точка зрения возобладала. Я полагаю, что он здесь в качестве советника, не так ли? Это связано с восстанием в Анатолии?
Я честно ответил, что ничего не знаю, и насторожился. Пресыщенный взгляд и опущенные углы рта Рахматова напоминали мне о декадентах. Он был слишком пьян для столь раннего часа. Отказавшись от его приглашения поужинать вместе, я попросил у официанта столик с видом на внутренний двор, где меня не потревожат. Я поел весьма скромно, но попробовал несколько турецких блюд, особое внимание уделив мясу на вертеле. Многие турецкие блюда похожи на украинские, поэтому для меня стало облегчением по крайней мере на некоторое время избавиться от бесконечных британских вареных пудингов и клецек. Я с наслаждением осушил бутылку «сан-эмильона», первую за целых два года. Сидя за кофе, я обдумывал, не стоит ли принять предложение и присоединиться к майору Наю. В настоящий момент, однако, меня сильнее всего влекли удовольствия Перы. Я слишком долго мечтал о волнительной суете столичных улиц и теперь с любопытством предвкушал самые заурядные ночные приключения на Гранд рю де Пера. Я возвратился в свою комнату, сменил одежду, накинул обычное пальто и двинулся дальше.
Танцевальная музыка звучала почти из всех открытых дверей. Сияли электрические рекламы кабаре и баров. Трамваи визжали и грохотали, искры от них летели в воздух. Женщины всех возрастов, рас и цветов кожи улыбались мне. Девочки в расшитых блестками платьях качали бедрами, бродя по узким неровным тротуарам, итальянские полицейские в треугольных шляпах бесцельно свистели и обращали взгляды к невидимым звездам, не желая смотреть на то, что способно нарушить их покой. Курды, албанцы, татары метались в разные стороны, сгибаясь под тяжестью огромных грузов, или стояли на перекрестках, театрально покрикивая друг на друга. Витрины были заполнены шелками и золотом. Неумолкающие евреи бродили с яркими тканями по улицам, призывая прохожих оценить качество товара на ощупь. Мерцающие огни Стамбула виднелись вдали, и белый морской туман придавал всему городу фантастический облик, ибо только купола и минареты ясно виднелись над берегами, заросшими кипарисами и платанами, все прочее либо оставалось невидимым, либо представало смутными силуэтами. Здесь, в Пере, люди как будто находились в шумном, тесном, ужасном аду, а Стамбул казался столь же спокойным и далеким, как нирвана. Большие корабли приплывали и уплывали, гудя сиренами, паромы, под навесами которых качались керосиновые лампы, уходили в желтый туман, где располагался Скутари. Море казалось скопищем темных зеркал, разложенных в беспорядке на неразличимой поверхности. Неблагозвучная арабская музыка поражала слух, потом ее сменял столь же неблагозвучный джаз. Я слышал танго и фокстрот. Я слышал балалайки, саксофон и дикий шум цыганского оркестра. Немного впереди мужчины в шапках с кисточками и белых одеяниях греческих солдат выскочили из турецкой бани. Они выглядели одновременно и смущенными, и довольными. Над дюжиной кинотеатров висели рекламы фильмов на разных языках. Прошло так много времени с моего последнего похода в кино, что я на мгновение заколебался, пытаясь сделать выбор между «Рождением нации» и «Кабирией»[69], но потом решил, что фильмы можно посмотреть и в Лондоне, а вот других константинопольских развлечений там будет недоставать. Надеясь, что баронесса не дожидается меня внутри, я прошел мимо «Токатлиана», ресторана, который она называла излюбленным местом встреч всех русских. Сегодня вечером мне нужен был кто-нибудь помоложе. Мое внимание привлекло кафе «Ротонда» с синей электрической вывеской и жуткими зелеными окнами. Я пробрался сквозь толпу проституток, головы которых доходили мне только до груди, передал шляпу и пальто рыжеволосой ведьме, стоявшей у двери, и последовал к столу за бойким низкорослым официантом-сирийцем. Через несколько секунд меня осадили полдюжины довольно потрепанных девочек в дешевом атласе и полинявших перьях, они предлагали мне выпить и потанцевать с ними. Я выбрал двоих, как привык, а остальных прогнал. Обе девочки оказались турчанками. Они назвались Бетти и Мерси, но практически не говорили по-английски. Они кое-что знали по-русски и немногим больше по-французски (в основном морской жаргон). Бетти исполнилось четырнадцать, Мерси была немного старше. Тот вечер и часть ночи я провел в их развратном обществе, в основном на кушетках в задней комнате «Ротонды». Мы удалились туда, когда яркий свет начал резать мне глаза, джазовая музыка стала слишком громкой для моего слуха, а их непристойные словечки настолько возбудили меня, что я не смог больше терпеть. Мои маленькие девочки, возможно, явились прямо из придворных школ султана. Я в них не разочаровался. Они напомнили мне Катю, маленькую шлюху, из-за которой у меня в Одессе случилась ссора с кузеном Шурой. Но кожа их была темнее, влажные глаза – больше, а любовные ласки – гораздо утонченнее. Наслаждаясь их плотью, я не совершал никакого преступления. Я честно платил, как платили другие. Я знаю таких девочек. Они развратны от природы. Существует миф о женской невинности, которого я никогда не понимал. Правда, некоторые невинны от природы, но другие рождаются с животным желанием раскрыть все самые необычные чувственные тайны. Никто не заставляет их жить так, как они живут. Я не изобретал игр, в которые мы играли в ту первую изумительную ночь. Эти игры столь же стары, как цивилизация, столь же изысканны или столь же грубы, как сами игроки. Это их образ жизни, открывающий путь и в рай, и в ад. Люди не должны осуждать то, что им чуждо, просто потому, что их пугает непонятное.
На следующее утро, совершенно расслабившись, я решил позавтракать в номере, поздравив себя с долгожданной удачей. Кокаин защитил меня от большинства венерических опасностей, а Мерси подсказала, где раздобыть новую порцию. Все девочки знали об этом. Кроме того, они могли сообщить, где продать золото подороже, где отыскать экзотические удовольствия, кто сдает внаем лучшие квартиры. Дружелюбная шлюха – лучший источник информации в любом большом городе. Она общается со множеством людей и все слышит. Конечно, у нее есть склонность к сенсационным сплетням, тайнам, заговорам и романтическим загадкам, но на это можно не обращать внимания. За одну ночь я узнал о борделях, где работают только черкесские мальчики, о женщинах, которые изготавливают и продают абсент, о торговцах из Триеста и Марселя, которые продолжали продавать белых рабов на рынках Сирии, Египта и Анатолии. Еще я выяснил, как найти грека, который продаст мне новый револьвер и патроны. Если бы я вышел из отеля и направился в Галату, то через пару минут отыскал бы человека, который мог изготовить мне новый паспорт на другое имя. Случись мне изворачиваться, как в Киеве и Одессе, я за пару дней установлю все необходимые связи. Богемные обитатели Перы гордились репутацией своего города так же, как мои старые друзья с Молдаванки, говорившие о местных бандитах и бандершах с тем же восторгом, с каким другие говорили о кинозвездах. Отказываясь судить таких людей, я подсознательно следовал наставлениям Ницше и создавал собственную этику, и со временем она стала гораздо важнее всего, что я мог узнать в обычной комфортабельной жизни. Если бы не это – маловероятно, что я вообще выжил бы.
Приподнявшись на приятно пахнущих подушках, я нажал на кнопку звонка возле кровати. Официант откликнулся почти сразу же, и я заказал легкий завтрак, английскую газету и немного горячей воды. Слуга возвратился с моим подносом и запиской от Леды Николаевны. Джек Брэгг сообщил ей, где я остановился. Она предлагала пообедать в «Токатлиане». Она придет туда в двенадцать тридцать и будет ждать до двух. Проникнутый сентиментальными чувствами, преисполненный апатичной любви ко всему миру, я решил пойти на свидание. Я уже распланировал вечер (проведу его с Мерси и двумя ее подружками, у Бетти уже была назначена встреча), но не следовало пренебрежительно обходиться с баронессой. Я ничего не добился бы, задев ее самолюбие. Кроме того, теперь она могла с моей помощью добраться до Венеции, если пожелает. Бетти рассказала мне о человеке, который зарабатывал на жизнь незаконной доставкой беженцев в Италию. Плата за проезд была, конечно, очень высока, но я мог ее внести.
Облачившись в темно-зеленый костюм из ирландской саржи, я пришел в «Токатлиан» около часа. Ресторан занимал нижний этаж частного отеля (Мерси упоминала о его сомнительной репутации) и был недавно перестроен в персидском стиле, с преобладанием зеленых, желтых и красных мозаик. Я так и не узнал, принадлежало ли заведение армянину по фамилии Токатлиан до сих пор. Управляющий оказался голландцем. Мистер Олмейер[70] совершил какое-то преступление или нарушил какие-то порядки в Ост-Индии и не мог возвратиться в Голландию. За огромными зеркальными окнами ресторана я увидел множество предпринимателей-левантинцев, офицеров полиции союзников, дипломатов, журналистов, явно зажиточных русских эмигрантов. Оркестр негромко играл танго в дальней части зала, за пальмами в горшках. Так выглядели фойе респектабельных кинотеатров, которые мы посещали, когда фильмы еще были стоящими, правдивыми и заслуженно популярными. Метрдотель во фраке подошел ко мне, поклонился и спросил, заказал ли я столик. У меня встреча с баронессой фон Рюкстуль, пробормотал я, вглядываясь в заросли папоротников и пальм. Тут мне удалось разглядеть баронессу, сидевшую за столиком во второй галерее, наверху. Официант, еще раз поклонившись, предложил проводить меня к ней, но я поблагодарил его и сам пересек ресторан. Прекрасная голова Леды наклонилась, когда она что-то проговорила, обращаясь к высокому человеку, одетому в строгий сюртук и темные брюки. Улыбнувшись, он застыл возле ее стула. Мужчина был довольно обаятелен и, очевидно, демонстрировал армейскую выправку. Я почти с удовольствием почувствовал муки ревности. Это заставило меня понять, что я все еще сохранил интерес к баронессе. Поэтому встреча прошла не так тяжело, как я опасался. В коричневом бархатном платье и ожерелье из фазаньих перьев женщина выглядела очаровательно – пасторально-аристократическая пастушка восемнадцатого столетия. Когда я поднимался по лестнице, она увидела меня и радостно взмахнула рукой в перчатке. Баронесса представила меня своему спутнику. Граф Синюткин казался слегка смущенным. Я заподозрил, что он хотел уйти до моего прихода.
– Но, возможно, вы уже встречались в Москве? – спросила она.
Я сказал, что никогда не бывал в Москве, но мужчина смутно казался мне знакомым. Граф заметил, что тоже как будто встречал меня. У него было приятное открытое лицо, которое совсем не портил шрам, тянувшийся от правого угла губы по скуле. Действительно, шрам подчеркивал то, что в противном случае, выглядело бы как довольно обыкновенная симпатичная внешность. Манеры нового знакомого показались мне скромными, голос звучал мягко и немного печально. Я счел графа привлекательным. Моя ревность угасла. Я принес извинения баронессе за то, что не смог связаться с ней накануне вечером, сославшись на встречу с британскими военными, а потом пригласил графа присоединиться к нам. Он заколебался.
– Пожалуйста, всего на несколько минут!
Баронесса просто демонстрировала хорошие манеры. Очевидно, она предпочла бы остаться со мной наедине.
И мы втроем сели полукругом за мраморный стол и заказали изысканные американские коктейли. Нас заинтриговали странные названия и причудливые сочетания напитков. Потом молодой граф внезапно улыбнулся и нерешительно заметил:
– Полагаю, мы однажды встречались в «Агнии». В Петрограде.
Это означало, что он был одним из молодых либеральных сторонников Керенского. Несомненно, он хорошо знал моего друга Колю.
– Конечно, вы знали Петрова? – Я всегда был счастлив поговорить о Коле.
– Очень хорошо. Мы служили в одном департаменте. – Синюткин оживился. – Когда Ленин начал биться за власть, Коля посоветовал мне уехать из Петрограда. Он умел предугадывать…
– Мы с ним разделяли интерес к будущему, – сказал я. – Вы, случайно, не слышали, как он умер?
Синюткин удивился:
– Кто вам сказал, что он умер?
– Его кузен Алексей. Мы летали вместе. Он очень переживал смерть Коли.
– После Октябрьского переворота Коля затаился. Мы с ним в течение нескольких месяцев скрывались в Стрельне. Потом к нему присоединились сестры, и все они добрались до Швеции по морю. Я получил от него письмо немногим больше месяца назад. Он жив, господин Пятницкий.
Поначалу я подумал, что вся эта история – город, его удовольствия, моя баронесса – была частью лихорадочной фантазии, которая посетила меня на борту «Рио-Круза»! Потом я впал в истерическое состояние – радость смешалась с недоверием. Я оплакивал князя Николая Федоровича Петрова с тех пор, как его пьяный кузен направил самолет в море близ Аркадии. Если бы я не находился в шоковом состоянии после известия о смерти Коли, то, вероятно, вообще никогда не сел бы в самолет. Постепенно я все понял. Мой дорогой друг был в безопасности. Он по-прежнему где-то отпускал свои обычные прекрасные шутки и наслаждался жизнью, как всегда.
– Потрясающе! Вы знаете, где он теперь?
– Он был в Берлине, но писал, что поедет в Париж, а может, и в Нью-Йорк. «Правительство в изгнании» оказалось еще одним фарсом. Он написал, что принимал участие во множестве подобных фарсов. Возможно, он пошутил, но все же речь шла об эмиграции. Он собирался преподавать русский еврейским радикалам в Америке.
Баронесса от души расхохоталась. Она коснулась моей руки:
– Никогда не видела вас таким веселым, Максим Артурович. Ну что, рады, что я вас познакомила?
– Навеки благодарен! – Чтобы отпраздновать новость, я заказал еще три коктейля. – Вы даже не можете представить, мой дорогой граф, как много значат для меня ваши новости.
– Очень рад. Коля славный малый, ужасно веселый, что бы с ним ни происходило. Вы, вероятно, сможете с ним связаться через общество эмигрантов. Но я с удовольствием отыщу для вас его последний адрес.
– Вы очень любезны. – О хороших манерах я не забывал. – А что вас привело в Константинополь, граф?
– Разные дела. Нечто вроде разведки. Еще переводы. К счастью, я в кадетском корпусе изучал турецкий, теперь это пригодилось. Сам я бежал через Анатолию – меня призвали красные, им были нужны офицеры.
– Собираетесь двигаться дальше?
– Нужно посмотреть, как пойдут дела. Конечно, многие хотят присоединиться к добровольцам, но, к сожалению, я не верю нашим нынешним лидерам и их политике. Я поддерживал Керенского. Я остаюсь республиканцем. Возможно, я вернусь, когда Ленин и Троцкий успокоятся.
Он пожал плечами и начал пристально разглядывать заполненный фруктами фужер, который поставил перед ним официант. Думаю, мой вопрос смутил Синюткина.
Баронесса нарушила тишину:
– Что ж, кто-то из вас, господа, должен подыскать мне новое жилище. Семья, в которой я живу, симпатизирует немцам. К русским они относятся не очень хорошо. Последние двадцать четыре часа они не переставая жаловались на нового султана. Очевидно, Абдул-Хамид был по сравнению с ним святым, хотя и топил своих гурий в Босфоре. У немцев есть странная способность – отыскивать у тиранов превосходные качества. Шестое чувство, недоступное всем прочим. Мне с ними скучно, Максим Артурович. Меня нужно спасти как можно скорее.
Кокетничать баронесса не умела. Она выбрала неудачную маскировку для своего беспокойства и отчаяния. Очевидно, графа Синюткина ей обмануть тоже не удалось.
– Уверен, что один из нас сможет найти приличный отель.
Он покраснел, как будто сказал что-то непристойное, на губах баронессы расцвела улыбка. Она ответила:
– И как можно скорее, мои дорогие.
Быстро осушив свой бокал, граф сказал, что будет с нетерпением ждать новой встречи с нами, а затем спустился вниз, где присоединился к двум французским офицерам у длинной роскошной барной стойки. Леда, протянув руку под столом, коснулась моего колена. Ее настойчивость меня немного отпугивала.
– Я о тебе не забыл, – произнес я. – Делаю все возможное.
– Мы можем встретиться сегодня ночью? – Она зарделась от похоти и унижения. – Я мечтаю заняться любовью. Могу придумать какое-то объяснение для своих. Я согласна на любой план.
– Я мечтаю о том же, моя дорогая. Но нужно уладить очень много дел.
– Ты не покинешь меня?
Я механически повторил свои обещания, пояснив, что новые обязанности теперь отнимают у меня большую часть времени.
– Пойми, военные – не хозяева своему времени. Мне приходится работать на их условиях. Я подчиняюсь.
Расправив плечи, она начала теребить руками меню.
– А миссис Корнелиус? Как она?
– Я ее не видел. Уверен, она покинула город. Понятия не имею, когда она вернется. Леда Николаевна, у меня есть возможность вывезти вас с Китти в Венецию. Из Италии добраться до Берлина будет намного легче. – Я не хотел говорить об этом слишком много, пока у меня не появятся точные сведения.
– Не стоит так беспокоиться, дорогой. – Она коснулась губ затянутой в перчатку рукой. – Похоже, британские власти сгоняют всех русских на какой-то необитаемый остров. Это в самом деле так?
Позорный Лемносский лагерь[71] находился у противоположного конца Дарданелл. Я понимал ее страх. Ходили ужасные слухи о тесноте и голоде. Люди, кажется, платили сотни тысяч рублей за то, чтобы вернуться в Константинополь, лишь бы не оставаться в лагере. Получить визы было невозможно. Болезни, отсутствие лекарств, медленная смерть… Я снова попытался убедить баронессу. Я объяснял, что остался в городе только из-за нее. Она сказала, что я, наверное, обиделся на нее. Я отрицал это:
– Я волнуюсь и слишком много работаю.
Баронесса смягчилась и попросила у меня прощения:
– Понимаешь, я так боюсь за Китти! И не могу смириться с мыслью, что потеряю тебя. Я ведь не прошу тебя посвятить мне все твое время!
– Конечно. Дай мне свой адрес. Через пару дней я тебе напишу. Есть шанс, что у меня появятся хорошие новости.
Мы перекусили. Мои мысли были заняты чудесными новостями о «реинкарнации» Коли. Его вдохновение, его любовь очень много значили для меня. Леда думала, что это ее общество сделало меня столь счастливым, поэтому она чудесным образом расслабилась. Мы разговорились. Я снова признавался ей в любви. Я целовал ее руки. Пальцы Леды дрожали. Граф Синюткин все еще беседовал с французами. Я кивнул ему, уходя. Он посмотрел на меня с испугом, как будто я уличил его в какой-то постыдной сделке. Из «Токатлиана» я немедленно отправился в «Ротонду», чтобы позабыть об обеденных неловкостях и отпраздновать возвращение Коли в мой мир. Празднование затянулось несколько дольше, чем я планировал. Из-за некоторых необычных сексуальных причуд, кокаина чрезвычайно высокого качества, удивительной атмосферы города время летело все быстрее. В следующие три дня я переживал долгий непрерывный подъем к вершинам удовольствия, о которых уже и не мечтал: ко мне вернулась страсть, утраченная, казалось, навеки. Иногда, собравшись с силами, я возвращался в «Пера Палас», чтобы проверить, появилась ли миссис Корнелиус, и поспешно набрасывал записки с извинениями в ответ на письма, присланные страдающей баронессой. Дважды я пересекал Золотой Рог по Галатскому мосту, с двух сторон прижимая к себе возбужденных шлюх. Я стремился к волшебству Стамбула и его громадным мечетям. В старом городе еще сохранилась аура огромной власти. Здесь султанат казался таким же могущественным, как прежде. В Стамбуле сталкивались самые разные власти, духовные и светские, и не все эти силы были благожелательны. Я оказался не готов к тому, чтобы воспринять величие дворцов и памятников Стамбула, городских площадей и садов. Когда я рискнул вместе с Мерси и маленькой смешливой девчонкой по имени Фатима войти в Гранд-базар, пространство показалось мне бесконечным: одна волшебная пещера сменялась другой, вдаль уходили таинственные лабиринты, где продавались экзотические старинные двух- или трехтысячелетние безделушки. Этот удивительный рынок был местом встречи разных эпох. Создавалось впечатление, что вся история человечества каким-то образом перемешалась в этом гигантском кроличьем садке, темные крыши которого отзывались эхом на крики торговцев, говоривших на всех языках, древних и современных. Я слышал эхо голосов, которые расхваливали те же самые товары, что и тысячу лет назад. Стоило только свернуть за угол, и луч золотого света неожиданно прорывался сквозь какую-нибудь высокую куполообразную стеклянную крышу и касался древней пыли. Там, где по логике вещей не могло быть никакого окна, оно внезапно появлялось, и, заглянув в него, можно было увидеть что угодно: отряд римских гладиаторов, идущих к цирку скорым шагом, византийскую придворную процессию, торжествующую конницу крестоносцев, благоуханные сокровища османского гарема. Оказавшись на Гранд-базаре, я испугался, что никогда не выберусь оттуда, – это было место, лишенное привычных границ и геометрических форм. Мы покупали наркотики (опиум, гашиш, кокаин), сладости, кофе. Мы сидели на мягких коврах и говорили с торговцами, глаза которых были столь же древними, как мир. Они улыбались и обещали нам мистические благословения. Мы разглядывали красочных птиц, сидевших в клетках, обезьян, необычных кошек. Мы вдыхали утонченные и сильные ароматы. А затем мы каким-то образом снова оказывались на вечерних улицах Стамбула. Солнце садилось, в темно-синем небе, похожем на крепдешин, появлялись луна и первые звезды. Даже здесь великолепные киоски и мечети, с их мрамором, золотом и мозаиками, часто располагались совсем рядом с покосившимися деревянными домами. Как и в Галате, целые кварталы были опустошены огнем, некоторые дома сильно пострадали во время обстрелов и остались полуразрушенными. И вместе с тем вся история нашей западной цивилизации, как и история самозваного Востока, таилась повсюду, в каждом камне и почерневшем дереве. Это придавало мне сил.
После того как турки уйдут, мы будем строить на этих руинах. Изящная современная архитектура станет соперничать с архитектурой древности. В небе будут парить на сверкающих крыльях бесшумные самолеты. Повсюду помчатся полированные стальные автомобили, серебристые дороги, извиваясь, протянутся между шпилями и куполами бывших мечетей, ставших храмами, посвященными нашему, греческому Христу. Здесь обретут воплощение все человеческие устремления и идеалы. Константинополь станет синонимом просвещенной умеренности. В эру благого господства электричества исчезнет паровая и нефтяная нищета. Ко двору Константинополя будут прибывать арабские продавцы специй, христианские магнаты, великие поэты, инженеры, музыканты. Все заживут в изумительной гармонии, каждый найдет свое место в мировом порядке. И править нашим городом-императором, если мои мечты воплотятся в жизнь, станет благородный, терпимый, дальновидный царь. Царь объединенного мира. Царь, радостно провидящий светлое будущее. В своем правосудии и мудрости он будет властвовать над всеми людьми. В этом замечательном месте, одновременно и столице, и саду, настанет вечное лето. Наука обеспечит светом и теплом яркий прозрачный купол, искрящийся всеми цветами радуги, столь же прекрасный, как купол самой Айя-Софии. Этот великий собор, символ нашего мужества и нашей веры, по-прежнему будет возноситься над семью холмами города. В городе будут разрешены все религии, но христианская станет главной, и величайшим ее воплощением окажется наша греческая литургия. Создание лучшего мира на земле возвестит о наступлении грядущего века. Этот мир станет образцом, на который будут равняться другие города и культуры. Наконец, благодаря постройке чрезвычайно мощной машины в основании города Константинополь сможет подняться в небеса.
Сначала я попытался втолковать эти мечты своим спутницам, но они слишком плохо говорили даже на своих родных языках, к тому же были необразованны. Иногда я чувствовал себя скорее деревенским учителем, чем прожигателем жизни. В конечном счете я удовольствовался созданием заметок, которые использую теперь. В 1920 году казалось, что мои мечты с легкостью могут стать явью. Я не мог еще догадаться о том, что, пока я строил в своем воображении лучшее будущее, турки, евреи и восточноафриканские отбросы замышляли всеобщую погибель. Они не допустили создания цветущего рая на земле, потому что в грядущем мире их ждала лишь скромная награда. Они разделили нас и теперь властвуют. Нашей основной целью стал компромисс – это самое подходящее название для нашего столетия. Тех, кто отказался пойти на компромисс, сломали и уничтожили одного за другим.
Я прожил в «Пера Паласе» меньше недели. Однажды утром я возвращался по Гранд рю, пробираясь среди спекулянтов и мелких торгашей, европейских чиновников в цилиндрах и сюртуках, солдат, моряков и светских женщин. Я чувствовал себя слегка уставшим и тут услышал, что меня кто-то зовет. Посмотрев на другую сторону улицы, я увидел майора Ная в хаки. Он остановился на перекрестке и махнул мне офицерской тросточкой. Позади него, в леопардовом пальто и такой же шляпке, стояла миссис Корнелиус. По дороге проехал автобус, потом турецкий мальчик длинной палкой расчистил путь, и я бросился вперед, позабыв об усталости. Я пожал руку майору и расцеловал миссис Корнелиус в обе щеки. Майор улыбнулся:
– Мы уже думали, что с вами что-то стряслось, дружище!
Но миссис Корнелиус пребывала в дурном настроении. Ее обычная приветливость исчезла, уступив место нервному напряжению. Она была накрашена гораздо сильнее обычного.
– Вы хворали? – спросил я.
– Ну, я не в оч х’рошей форме, д’лжна признать, Иван. – Она говорила тем самым «шикарным» тоном, к которому прибегала иногда в обществе некоторых англичан. – Ты как п’живал?
– Мне было трудно не беспокоиться, – сказал я. – Я очень волновался за вас.
Она не смягчилась. Майор Най объяснил, что они собирались выпить перед обедом, и тростью указал на двери небольшого бара:
– Подойдет, старина?
Мы вошли в полутемное помещение, и я с восторгом рассказал миссис Корнелиус о своем открытии: Коля жив! Я собирался отправиться в Лондон. Там я с легкостью определю его местонахождение и дам о себе знать. Выслушав меня, миссис Корнелиус помрачнела:
– Боюсь, эт бу’ет не так просто, Иван. Неск’лько дней назад я узнала, шо я – дерьмовая русская гражданка, ’фицально, по крайности. Из-за это’о черт’ва свидетельства. Я – твоя ж’на. Из-за то’о, шо мы так зарегистрировались на к’рабле.
– Но на самом деле мы не женаты. Что это значит?
Она замолчала и попыталась улыбнуться майору. Он заказал нам выпивку. Она понизила голос, обращаясь ко мне, ее глаза ярко сверкали:
– Я чертовски увязла, эт точно! – Потом она раздраженно добавила: – Я, мать твою, тя искала черт знат как! И ’де ж, черт ’обери, ты был? Теперь от тя зависит наша виза. Во шо вышло, вишь?
Майор Най вернулся к нам:
– Миссис Пьятницки объяснила, в чем ваши трудности. Положение мерзкое. Я пытаюсь связаться с соответствующими органами и решить проблему, но у всех слишком много работы.
Я сказал, что все понимаю. В конце концов, в Одессе я был офицером разведки, с теми же обязанностями и проблемами. Люди хотели оставаться людьми, но было очень много нуждающихся, и всем помочь не удавалось.
– Может, мы сумели бы получить въездную визу, если бы за вас поручился высокопоставленный российский офицер? – предложил майор.
Мы сидели рядом на барных стульях и смотрели на шумную улицу.
– Все мои начальники теперь мертвы, – пояснил я. – Если бы не миссис Корнелиус… госпожа Пятницкая… я разделил бы их участь. Есть капитан Уоллас, австралийский командир танкового экипажа, с которым я работал в прошлом году. Моим начальником был майор Пережаров – я служил офицером связи между Добровольческой армией и Экспедиционным корпусом союзников.
Майор Най вздохнул:
– Слишком мало бумаг и слишком много путаницы. Я сделаю все, что смогу. Возможно, свяжусь с Пережаровым, где бы он ни был. Но необходимо выйти на более высокий уровень, чтобы убедить французских, итальянских, американских и греческих военных. Кое-кто из русской армии тоже хочет с ними договориться. Документов почти нет. Тем не менее иногда подобные дела совершаются гораздо легче, чем можно ожидать.
Когда появилась самая слабая надежда на решение проблемы, миссис Корнелиус пришла в обычное настроение:
– Вытти замуж, попроб’вать и раскаяться п’отом, а, майор? Чин-чин. – И она допила свой коктейль. – Кстати, Иван. Эт баронесса спрашивала про тьбя.
– Я как благородный русский предложил ей свою помощь. Теперь оказалось, что она нужна мне самому. – Я задумчиво улыбнулся.
– Да, похоже на то. ’де ты был ’сю ночь? – Миссис Корнелиус, скромно поджав губы, прижала к ним край бокала.
Майор настоял, чтобы мы выпили еще. Я не мог рассчитывать на его помощь. Я был просто знакомым, одним из полумиллиона голосов в непрестанном шуме, разносившемся вокруг посольства. Я мысленно возложил все надежды на находчивость миссис Корнелиус. Следовало подумать также о корабле до Венеции. Не повышая голоса, миссис Корнелиус посоветовала мне успокоиться:
– Ты выгля’ишь чертовски ’лохо. ’пять нанюхался?
Я заверил ее, что не слишком увлекаюсь наркотиками. Миссис Корнелиус сказала, что сделает все возможное, но мне нужно постоянно оставаться на связи. Может быть, нам придется уехать быстро и без предупреждения. Я признался, что сожалею, что стал бременем, ведь с ней связана моя единственная надежда добраться до Лондона и моих денег. Я не мог действовать самостоятельно, хотя и чувствовал, что таков мой долг. Наша трапеза продолжалась несколько принужденно. Майор прилагал все усилия, чтобы разрядить обстановку. Он рассказывал забавные анекдоты о турецком двуличии, греческом безрассудстве, французском упрямстве, американской наивности и британской чопорности. Он упоминал о Мустафе Кемале и проблемах с националистами. Он также слышал, что красные добились успеха на Украине. Эти истории только уменьшали мои надежды на скорый отъезд, особенно теперь, когда я испытал большинство удовольствий Константинополя и уже был готов отправиться в Англию. Усталость начала возвращаться в тот момент, когда я прилагал все усилия, чтобы проявлять интерес к рассказам майора. Я как раз собирался навестить свою баронессу и провести с ней хотя бы одну ночь. После недавних потрясений это было бы очень приятно и успокоительно. Когда обед подошел к концу, миссис Корнелиус надела леопардовую шляпку с миниатюрной вуалью и сказала, что у нее дела. Она повторила, что мне следует быть готовым к отъезду в любой момент.
Я вернулся к стойке отеля, где псевдофранцуз вручил мне записки от миссис Корнелиус и Леды. Тут же, на бумаге отеля, я написал короткое письмо баронессе, предложив ей встретиться со мной вечером в «Токатлиане», а потом отправился в постель, чтобы вздремнуть пару часов и избавиться от тревог.
Когда я проснулся, мое настроение улучшилось. Помог и хороший свежий кокаин, который я раздобыл с помощью Мерси. К тому времени как я помылся и оделся, пробило уже шесть часов, поэтому я решил пойти в «Ротонду», чтобы выпить и попрощаться со своими податливыми малышками. Помимо Бетти и Мерси, я уделял слишком много внимания всем остальным, а этого делать не стоило. Настало время отступить, все обдумать, как минимум на несколько дней найти новую спутницу. Может, будет гораздо мудрее уделять все внимание баронессе. Окунувшись в зеленый туман кафе, я пустился на поиски своих верных спутниц. В это сравнительно спокойное время Бетти и Мерси всегда сидели за одним и тем же столиком, но сейчас их не оказалось. Я предположил, что они нашли раннего клиента. Однако когда я спросил о них уродливого сирийца, тот не пожелал сказать ничего определенного, лишь смущенно почесывал свои бородавки. Он сказал, что девочки, вероятно, работают в Стамбуле. Они не показывались уже несколько дней. Он укрылся в своей каморке. Одна из ближайших приятельниц Мерси, стройная белокурая армянка, отзывавшаяся на имя Соня, подслушала наш разговор. Как только сириец удалился, она подошла, шелестя муслиновым платьем, и села за мой столик.
– Он лжет, – сказала Соня по-русски (она была христианкой), подняла голову и посмотрела на клубы дыма, висевшие у потолка. – Я знаю, ты давно не видел Бетти и Мерси. Ты был с Фатимой и ее компанией, верно?
Я подтвердил. Соня продолжала:
– Сириец сказал нам, что они уехали вместе с тобой за границу. Он не хотел скандала. Но почему он так сказал? – Она поджала розовые губы. – Думаю, что они, вероятно, пошли ночью в Стамбул. Есть там одна старуха, богатая вдова, которой нравится с ними играть. Ничего особенного. Но они всегда возвращались к утру. Симка, дорогой, я уверена, что их похитили.
Я знал, как привлекают обычных шлюх всякие волнующие истории, поэтому снисходительно улыбнулся. Конечно, похищения были достаточно распространены в Константинополе.
– Но кто заплатит выкуп? – вполне резонно спросил я.
– Никто, – сказала Соня. – Их родители умерли в тюрьме. Я думаю, что их уже продали. Несколько дней назад приезжал покупатель, македонец. Они почти наверняка были в списке его приобретений. Я видела его записи. Я сразу предупредила Мерси, но она решила, что я шучу. Сириец как-то связан с этим делом. Наверняка связан.
– Но куда же их продали? Не в Стамбул?
Соня разглядывала свои сверкающие ногти. Теперь стало очевидно, что она с трудом сдерживала рыдания. Ее грудь высоко вздымалась.
– В Египет? Наверное, туда. В Джидду[72]? Есть много мест. В Европе тоже есть бордели. В Берлине, например. Но, если будет слишком много шума, их могут отправить даже по дороге султана.
Она имела в виду, что к их телам привяжут камни и утопят в Босфоре. Я расстроился. Я был не в том положении, чтобы пытаться разыскать их. Я знал, что турецкие власти не проявляли интереса к таким заурядным проблемам, а британцы чаще всего не могли ничего поделать. Я попросил Соню связаться со мной, если она узнает что-то еще, хорошее или плохое, и дал ей несколько американских долларов на выпивку. Потом я вышел из кафе и направился к «Токатлиану».
Я окунулся в густой, насыщенный полумрак. Очевидное богатство этого места и персидские декорации помогли мне расслабиться. На небольшой сцене, освещенной янтарными и изумрудно-зелеными огнями, пронзительно играл негритянский трубач, рассказывая о печалях какого-то раба с берегов Миссисипи. Оркестр не мог аккомпанировать ему как следует. Прочие музыканты были евреями, они с гораздо большим удовольствием играли бы венгерские польки или австрийские вальсы. Длинный бар заполнили итальянские солдаты, праздновавшие день рождения товарища. Один из них пытался спеть печальную песню под пронзительную музыку, звучавшую со сцены. Я бросил взгляд на графа Синюткина, по-видимому, постоянного клиента. Он встал из-за стола и скрылся в задней комнате. Частные квартиры за рестораном и над ним часто использовались для свиданий. Баронесса подошла сзади и коснулась моего плеча. Она надела новое красное вечернее платье, которое ей не очень шло, хотя и подчеркивало вальяжную, пропорциональную фигуру. Я все еще считал ее привлекательной, особенно в качестве замены миссис Корнелиус. Обеим была присуща та старомодная красота, которую я ценил гораздо больше, нежели сомнительные прелести мальчикоподобных вертихвосток, тогда только начинавших появляться. Я горжусь тем, что у меня поистине католические сексуальные вкусы. Коля всегда настаивал, что это свидетельствует об истинной человечности. Я поцеловал руку Леды. Я был почти влюблен. Я чувствовал, что она преисполнилась надежды. С некоторыми трудностями мы пробрались сквозь толпу к нашему столу. Пара слов минхееру Ольмейеру – и мы узнали, что в любой момент можем подняться в свободную комнату. Баронесса следила за мной томным и страстным взглядом, и я сознательно заставил себя расслабиться и сосредоточиться на этом волнующем воплощении славянской женственности. Маленькие шлюхи – всего лишь две из многих тысяч, в конце концов. Чрезмерное беспокойство о судьбе Бетти и Мерси было бы лишь глупой сентиментальностью. Вполне вероятно, что они сейчас наслаждались жизнью в неслыханной роскоши. Такие девочки всегда рискуют. Мне следовало беспокоиться о том, как нам с миссис Корнелиус выбраться из этого города, который становился все более и более зловещим. Но даже эта мысль отошла на задний план, когда я использовал все свое очарование, чтобы подготовить баронессу фон Рюкстуль к совокуплению, которого она столь явно жаждала. Мы с ней немного поели, чуть больше выпили, а затем по лестнице, ведущей из вестибюля, осторожно поднялись в коридор, стены которого были украшены черным плюшем и зеркалами. Он вел к гостевым комнатам «Токатлиана».
Когда я снимал с Леды платье, она схватила мой член и начала сжимать его пальцами. Мне пришлось успокоить ее, предложив немного кокаина. Баронесса сказала, что ей так не хватало и моего члена, и моих наркотиков, что она едва не сошла с ума. Она повздорила с няней своей дочери и вообще вела себя очень дурно. Меня ее признания не интересовали, и я заставил Леду замолчать, опустив ее голову к моей расстегнутой ширинке, пока высыпал кокаин на маленький мраморный столик. Я привык к своим отзывчивым шлюхам, и баронесса немного удивилась моему неромантичному поведению, но она не сопротивлялась и приняла мое многообещающее обрезанное орудие удовольствия, которое оставалось для меня и радостью, и позором. Поддавшись революционному модернистскому безумию, мой отец невольно дал очевидное подтверждение ужасным слухам о еврействе, которые так часто мешали мне в обществе, а иногда подвергали серьезной опасности. Отдав меня в руки того глупого «грамотного» хирурга, он наложил на меня печать Авраама. Теперь, когда почти всех мальчиков лишают крайней плоти при рождении, это ничего не значит, но в свое время это было признаком расы и религии, предназначенным для того, чтобы пугать невежественных женщин и осуждать на смерть мужчин. Но это не интересовало баронессу фон Рюкстуль – жадные зубы, язык и губы касались объекта почти бессмысленной похоти, а я ускользал от дневных забот, ибо ее неопытность была успокоительной. Любовные ласки зрелой решительной женщины – как раз то, что нужно мужчине в трудную минуту. Я сужу по собственному опыту. Всю ночь я наслаждался ласками моей похотливой Леды, удовлетворяя ее желание и в то же время возвращая ей веру в мою любовь (если не в мою верность, в которой она несколько раз усомнилась, хотя и без злобы). Я должен признать, что испытывал огромное удовольствие от того, что красивая русская аристократка находилась целиком в моей власти. Я начинал подумывать о том, чтобы познакомить ее со своим гаремом маленьких шлюх.
К утру, когда мы расстались, в отеле для меня не было никаких сообщений. Ни майора Ная, ни миссис Корнелиус нигде разыскать не удалось. Мой посыльный не видел их с тех пор, как они отужинали в ресторане минувшим вечером. Я был рад, что миссис Корнелиус продолжала общаться с британским офицером. Она точно знала, к кому обратиться, если возникнет чрезвычайная ситуация. У нее был превосходный нюх – она чувствовала власть, скрывавшуюся под самыми странными масками. Я не сомневался, что скоро мы отправимся в Лондон.
Я проспал до полудня, а потом пошел в «Ротонду» обедать. Мне было интересно узнать, оказались ли предположения Сони беспочвенными, вдобавок я собирался встретиться с одним из моих новых друзей, болгарским гравером, который специализировался на визах. В тот момент я чувствовал себя чудесно – я был доволен, я превосходно владел собой и ориентировался в окружающем мире. Я помню, что насвистывал «Маршем через Джорджию»[73] (единственный вклад Джека Брэгга в мой репертуар), помахивая тростью и легко шагая к «Ротонде» по Гранд рю. Разум и чувства пребывали в идеальной гармонии, мое чувство меры оставалось безошибочным, а виды на будущее открывались превосходные. Я был абсолютно независим и не ведал никаких забот.
Именно поэтому я до сих пор испытываю сильнейшее недоумение: как я мог всего через несколько часов подчиниться всеохватывающей навязчивой идее. Эта идея управляла мной почти всю оставшуюся жизнь, она определила мою судьбу до мелочей. Я не жалею о том, что случилось, – я просто не понимаю, как мог стать жертвой такого невероятного совпадения. Я иногда обращаюсь к древнегреческой мифологии и представляю себя каким-то обреченным героем, на которого Зевс наложил проклятие, таким образом натянув безжалостную цепь последствий, определяющих высший удел и богов, и смертных.
Уэлдрейк[74], величайший позабытый поэт Викторианской эпохи, сказал вместо меня на английском языке, который куда совершеннее моего (да, он тоже познал ужасные страдания и унижения, которые несет человеку принуждение):
О Прометей, какая сила Тебя, незримая, сковала?Глава шестая
Я рационалист. Я всегда был рационалистом. Я верю в силу человеческого воображения, в научный опыт, анализ и описание, в христианский гуманизм, терпимость и самоограничение. Другие, менее внятные формы мистики всегда казались мне глупыми и бесчеловечными. Это правда, я всегда больше любил мир, чем отдельных людей, обитающих в нем, но я не похож на этих хиппи, которые поклоняются богам из космоса и рассказывают, что в прошлой жизни я был сэром Уильямом Скоттом[75]. Я не стану слушать и глупых девочек, которые рассуждают о полтергейстах, призраках и экстрасенсорном восприятии. И все-таки я, вероятно, становился свидетелем случаев перевоплощения (или еще менее вероятных явлений) гораздо чаще остальных. То, что мне пришлось пережить в Константинополе, могло бы потрясти человека, наделенного не столь сильным характером, и вывести его из равновесия на всю оставшуюся жизнь. Самоотречение, спасительное здравомыслие, глубокое понимание силы и смысла молитвы – только это и помогло мне сохранить разум. Если бы я стал утверждать, что всегда отличался такой же стойкостью, – это был бы по меньшей мере самообман. Потрясение от столкновения с новой страной и культурой, моя юность, понимание того, что я изгнанник и нежеланный гость, – все это не могло не подействовать на меня. Я был образованным человеком. Я знал много языков. Я поднялся в воздух и почувствовал радость полета. Но я был похож на оранжерейный цветок. Я получил диплом санкт-петербургского института уже в шестнадцать лет. В двадцать я был и магистром естественных наук, и полковником Добровольческой армии. Как говорили тогда, мой разум развивался быстрее, чем душа. Они забрали тебя, Эсме, забрали твою юность и твою невинность. Они украли тебя у меня. Они превратили тебя в шлюху, а твое лицо – в неподвижную усмехающуюся маску. Ты стала сообщницей бандитов и анархистов, ты, которая жила только для того, чтобы служить больным и нуждающимся. Ты стала циничной, ты стала считать любовь безумием, а прошлое – глупой иллюзией. И все же разве мы не вдыхали запах сирени в старых садах над Кирилловской, когда звучные колокола Святого Андрея возвещали о наступлении Пасхи? Разве ты могла позабыть, как мы бегали босиком, взявшись за руки, по заросшим травой киевским оврагам, когда солнце золотило все городские дома своим мягким светом? Разве мы не сидели под осенними дубами, чувствуя, как на нас падают красные листья? Разве все это было иллюзией, Эсме? Или теперь это нужно называть иллюзией, потому что ничего нельзя исправить и вернуть? Wann werde ich sie wieder sehen?[76] Ты трахалась так, что у тебя между ног появились мозоли. Но ты вернулась ко мне. Быть может, тебя послал Бог. Ты вернулась в обличье проститутки и превратилась в нежного, любящего ребенка, который с восторгом принимал мой юношеский идеализм. Ты возродилась, очистилась, излечилась, и я осознал, что должен стать орудием твоего спасения. Эсме, моя мечта, мой ангел! Моя муза! Бог немногим из нас дает возможность вновь пережить прошлое, искупить наши ошибки, воспользоваться тем счастьем, которое мы обычно оцениваем лишь тогда, когда окончательно теряем. Я благодарю Тебя, Боже. Я благодарю Тебя. Каюсь, в те дни я думал, что Ты подшутил надо мной. Я думал, что Ты незаслуженно даровал мне такое счастье, а потом снова забрал его и обрек меня на горестные разочарования и безнадежные поиски, изменив все мои представления о жизни. Неужели мне суждено такое наказание, неужели я должен страдать за всех? Такова моя кара, Боже? Я блуждал по земле и искал ответ. Wie lange missen wir warten?[77] Меня обвиняли во множестве преступлений. Меня били казацкой нагайкой. Меня оскорбляли и мучили. Меня сажали в тюрьму. Меня осмеивали. Меня называли ужасными именами. И никто не мог меня понять.
Я увидел ее в «Ротонде». Она сидела на стуле у барной стойки, покачивая маленькими ножками и потягивая лимонад. Она казалась очаровательной школьницей, проводившей каникулы в Аркадии. На ней был старомодный передник и юбки, золотистые локоны прикрывати очаровательное круглое личико. Ее голубые глаза были большими и невыразимо невинными, полными веселого любопытства, и она была Эсме Лукьяновой, моим возрожденным ангелОхМ. Она ничем не отличалась от девочки, которая в детстве была моей постоянной спутницей. Я видел Эсме, настоящую Эсме, она вернулась ко мне. Я снова стал мальчиком и закричал от восторга и удивления. Все посетители захудалого кафе обернулись ко мне, но меня это не тревожило.
– Эсме! Мelushka![78] Моя любимая!
Глупый сириец помешал мне. Возможно, он сделал это сознательно. Маленький дьявол! Бокалы полетели на пол, один из них разбился. Я упал. Я просто не разглядел его. Я сразу начал подниматься. Она уходила с американским моряком, коренастым рыжеволосым скотом, покрытым татуировками. Она не слышала меня.
– Эсме!
Они вышли на улицу раньше, чем я добрался до лобби.
– Эсме! Эсме!
Я даже не успел захватить свое пальто. Было холодно. День стоял пасмурный, собирался дождь. Электрическое освещение не отключали. Улицы возле гавани скрывал туман. Они стояли у маленькой зеленой будки на трамвайной остановке и, кажется, читали рекламные объявления, расклеенные внутри. Они смеялись. Они размахивали руками. Моряк был сильно пьян. Мой живот сжался. Там был кусок металла.
– Эсме!
(Он спас мне жизнь, сказала она. Это нельзя назвать изнасилованием.)
Я нагнал их как раз тогда, когда трамвай с лязгом и грохотом выехал из-за поворота. Эсме, моя любимая, моя милая девственница, улыбалась моряку. Я мог прочесть его развратные мысли. Я знал его грязные планы. Я чувствовал отвращение.
– Эсме! – Я опомнился. Я не мог перевести дух. Пот градом стекал по моему лицу. Люди смотрели на нас. – Извините меня, юная особа, я полагаю, что мы знакомы. – Отдышавшись, я попытался улыбнуться и поклониться. Я дрожал. Она хмурилась. – Киев, – сказал я, все еще пытаясь улыбаться. – Ты помнишь Киев, Эсме?
Я подумал, что у нее амнезия. Ни она, ни моряк не поняли меня – я говорил по-русски. Трамвай, застонав, поравнялся с остановкой. Я позабыл все английские слова. Мне снова исполнилось десять лет.
– Эсме!
Они вошли в трамвай. Он шел к Галатскому мосту. Я последовал за ними. Я потирал голову, пытаясь вспомнить хотя бы несколько обычных английских слов. Моряк был ниже меня, но крепче: я помню огромные предплечья, как у Попая. Он посмотрел мне в глаза:
– Вали отсюда, приятель.
Я пришел в отчаяние, я задыхался, как измученный пес. Я вспомнил английские слова.
– Вы не понимаете, сэр. Я знаю эту девушку. Она из моего родного города на Украине. Я старый друг ее семьи.
Он резко рассмеялся:
– Конечно. А она моя сестра. О’к?
Я был потрясен. Moja siostra! Moja rozy! Slonce juz gaslo! Ро dwadziesciacieniu! О Jesu Chryste![79] Моя сестра и моя роза. Моя любимая! Двадцать завшивевших солдат стояли возле твоей хижины, обмениваясь грубыми шутками, а потом один за другим входили внутрь, чтобы удовлетворить животную похоть.
– Она дочь моей матери… – Это не помогло. – Моя мать… – Я протянул к ней руку. – Эсме! Это я! Максим из Киева!
Она отпрянула. (У меня есть мальчик. Он хочет жениться на мне.) Моряк, должно быть, меня ударил. Я стукнулся лицом о неровные доски. Люди наступали мне на руки и спину. Половина головы будто оцепенела. Смуглые руки цеплялись за меня. Я вырывался, пытаясь освободиться, – я терпеть не мог турецкой вони.
– Эсме!
Трамвай доехал до Галатского моста, а я ничего не видел. Мой глаз болел. Проводник, крича, выгнал меня из вагона, показывая на собственный череп и корча нелепые гримасы. Он думал, что я сошел с ума.
Я оказался на тротуаре, неподалеку от того места, где сошел на берег с «Рио-Круза». Вода была серой, волны неритмично бились о понтоны. Гудели сирены. Миллионы людей проходили по мосту и потом исчезали. Туман становился все гуще. Послышался шум движения. Мост внезапно опустел. Я спустился по ступенькам и двинулся к нему, думая, что моя Эсме ушла именно туда. Турок-полицейский, стоявший у ограждения, приложил свой длинный жезл к моей груди. Он покачал головой и погрозил мне пальцем. Я двинулся вперед, пытаясь его оттолкнуть. Он стал настаивать, указывая на какую-то арабскую надпись и запугивая меня так, как умеют только турки. В нижней части знака виднелись знакомые буквы, но я не мог ничего прочитать. Позади меня завывали уличные торговцы, гудели автомобили, стучали копытами нетерпеливые лошади. Я оглянулся назад. Эсме нигде не было видно. Я кричал на полицейского. Я предлагал ему деньги. Я умолял его разрешить мне пройти. В ответ он пожимал плечами и тыкал пальцами в знак. Увидев, что я все понял, он расслабился. Я уже не мог пересечь мост. Его средняя часть поднялась, чтобы большие корабли вошли в Золотой Рог. Кораблей собралось очень много, под дюжиной разных флагов: линейные крейсеры, грузовые пароходы-трампы, нефтяные танкеры, баржи с зерном; а вокруг них, как паразиты вокруг китов, мелькали маленькие, красные с желтым парусные каики. Полицейский отказывался понимать мой французский. «Ма soeur! Ма soeur!» Он тыкал в меня наконечником своего жезла, с возрастающим нетерпением качая головой. «Sorella! Sorella! – кричал я. – Schwester! Shvester! Shvester! Hermana!»[80] Я ничего не мог придумать. Я злился на самого себя за то, что выучил слишком мало турецких слов. К этому времени мне следовало бы усвоить гораздо больше. Я расплачивался за лень. «Kiz kardesh!»[81] Он пожал плечами и расслабился. Пароходы проплывали под мостом, уверенно и легко входя в гавань Галаты. Неужели американский моряк забрал Эсме в Стамбул? Или они ушли совсем в другую сторону? Я дрожал от горя, скорчившись у ограждения, а в это время у меня за спиной собиралась огромная толпа турок, албанцев, арабов, персов, черногорцев, греков и евреев.
Когда мне разрешили заплатить пошлину и перейти мост, уже стемнело. Я перебрался на другую сторону по шатким доскам, я двинулся по усаженным деревьями улицам, где мусульмане опускались на колени и издавали странные горловые звуки, а потом внезапно умолкали. Они склоняли лица к земле и простирались перед Голубой мечетью. Небо почти утратило цвет, и силуэт здания казался вырезанным из черного дерева. Эта цитадель ереси и суеверия испугала меня. Я поспешно миновал сборище правоверных, пересек площадь и приблизился к Айя-Софии, почти точной копии того, другого чудовищного здания. Но Айя-София была христианским храмом, застывшим в блаженном спокойствии. Я спустился, миновал переулки, где располагались вонючие рыбные лавки, прошел мимо главного входа в Гранд-базар. Улицы заполнились ярким светом, исходившим от ламп, свечей и крошечных жаровен. Здесь работали котельщики и оружейники, здесь стояли слабо освещенные прилавки торговцев табаком – разные сорта были сложены горками, и каждую украшал лимон. Я проходил мимо ресторанов, заглядывая во все окна, но не видел ни белых женщин, ни даже американских моряков. Мечети и фонтаны, черно-белые арки, крошечные улицы со стенами, покрытыми виноградными лозами, колоннами, пилястрами, повсюду нетерпеливые голоса, крики, навязчивые прикосновения. «Сарitano! Caballero! Kyrie! Eccellenza!»[82] Ковры, шелка и подушки. Лошади, верблюды и ястребы. Арабы в белых одеждах, дервиши в конических шляпах, евреи в желтых плащах, албанцы с пистолетами на поясах, татары в овчинных тулупах, негритянки в шутовских каирских костюмах, бородатые черкесы в черных с серебром рубахах, сирийцы в византийских доломанах – они так одевались уже две тысячи лет. Я погрузился в этот хаос столетий, охотясь за маленьким осколком моего прошлого, который ненадолго оказался на расстоянии вытянутой руки. Я сидел на истертом мраморе и оплакивал свою утраченную надежду, свою сестру, свою невесту. Мы должны были пожениться. Моя мать так этого хотела! Я зашел слишком далеко. Не было никаких доказательств, что они перешли мост. Полагаю, тогда мне пришло на ум, что она покинула грехи Перы ради целомудрия Стамбула, но в Стамбуле не осталось никакого целомудрия, только иллюзия набожности, тонкая завеса, скрывавшая многие злодеяния и ужасы восточного невежества, жестокости и жадности. Она казалась такой благонравной. Неужели она родилась в одном из тех греческих семейств, которые жили в квартале Кондоскала[83], неподалеку от Цистерны[84], от ее тысячи арок? Может, это беглая рабыня, которая воспользовалась вторжением союзников? Она не понимала по-русски, но с виду казалась настоящей украинкой. Наверное, я на время утратил рассудок. Эта девочка не могла быть Эсме. Я видел Эсме в лагере анархистов всего несколько месяцев назад. Она выглядела значительно старше. Этой девочке, вероятно, не больше тринадцати лет. Как она оказалась среди этих темнокожих людей? Возможно, она была черкешенкой. Или дочерью русских изгнанников, которые приехали в Константинополь много лет назад? Или Лукьянов побывал здесь и зачал ребенка? Сходство казалось настолько разительным, что я поверил: она, наверное, родственница Эсме. По крайней мере кузина. Если бы я смог ее разыскать, то все бы выяснил. В мрачных сводчатых проходах неподалеку я услышал звук драки и чье-то бормотание. Я вспомнил, что все рассказывали, насколько опасно европейцу в одиночестве бродить ночью по Стамбулу. Я как можно скорее вышел на освещенную улицу и почти сразу же поймал такси, которое возвращалось в Перу. Я вернулся в «Ротонду», пробрался внутрь и схватил за грудки отвратительного сирийца, этого ничтожного торговца нежными девичьими телами. Я кричал на него, угрожал ему законом, местью всего казачества и Божьим проклятием, если он не скажет мне правду.
– Где она? Кто этот моряк? Где она живет? Как ее зовут? Что она здесь делала?
– Думаю, это греческая девочка.
Он извивался в моих руках как морская собака, дико озираясь по сторонам и явно не рассчитывая на помощь: вряд ли бы кого-то сильно огорчило, если б я раздавил его до смерти. И все-таки он не хотел говорить прямо и отвечал вопросами на вопросы.
– Мсье Пятницкий, я ей не отец! Она новенькая… называет себя… как?.. Хелена? В чем вы меня обвиняете? Старая леди не требует свидетельства о рождении. Сколько раз она здесь бывала? Может, два или три. Вы же разумный, благородный человек? Хотите сказать, что я как-то связан с тем происшествием с Бетти и Мерси? Неужели я такое чудовище?
Я отпустил его и приказал принести абсента. Все мое тело сотрясалось. Соня дернула меня за рукав:
– У тебя идет кровь. Садись. Расскажи мне, что случилось.
Я проглотил выпивку, принесенную сирийцем. Он пожал плечами:
– Можете не платить. Но я все равно ни в чем не виноват.
Когда он отошел, я закрыл лицо руками. Я заплакал. Соня попыталась успокоить меня, она гладила меня по лицу, стараясь не касаться свежих ран.
– Я должен спасти ее! – снова и снова повторял я. – Нельзя допустить, чтобы она утонула в этом болоте. Ты ее знаешь, Соня? – Я наконец открыл глаза. – Ты знаешь греческую девочку? Блондинку, которая называет себя Хеленой?
– Я ее видела. Она милашка. Одна леди от миссис Унал прислала ее пару дней назад. Кто знает, зачем ей работа, но попала сюда. Ты говоришь так, будто знаешь ее.
– Я и правда ее знаю. Соня, если ты сможешь раздобыть ее адрес, я заплачу. Но только дай мне знать немедленно.
– Она, наверное, живет около католического собора, по дороге к старому мосту. Однажды она об этом говорила. Значит, она итальянка?
– Возможно, полька. – Я начал успокаиваться. – Или украинка.
– Она, должно быть, тебе очень нравится, Макс.
Соня явно мне сочувствовала. Ее пальцы вновь коснулись моего лица.
– Я люблю ее.
Кажется, моя честность произвела впечатление на армянскую девочку. Она с нежностью посмотрела на меня и улыбнулась. Как и многие опытные шлюхи, она сохранила огромный запас сентиментальности.
– Я сделаю все, что смогу, – пообещала она. – Но не разбивай себе сердце, Макс. Ни одна из нас этого не стоит.
У меня на кончике языка уже вертелось, что мою Эсме нельзя сравнивать с такими, как она, но подобный ответ прозвучал бы невежливо. Я поднялся на ноги и едва не упал снова:
– Не могу удержаться…
Я изо всех сил старался вспомнить, что следовало делать теперь. После некоторых усилий на ум пришли миссис Корнелиус и баронесса фон Рюкстуль. Но в тот момент все прочие женщины не имели никакого значения. Я попытался вспомнить, что они мне говорили, но так и не смог. Я должен был вернуться в отель, но, выйдя из кафе, забылся и прошел мимо остановки трамвая. Потом я блуждал вокруг Гранд рю, затем двигался к Галате по маленьким страшным переулкам, где мне преграждало путь развешанное на веревках белье и странный густой аромат табака доносился из заведений, располагавшихся в подвалах. Повсюду носились собаки, сжимавшие в зубах бесформенные куски падали; младенцы вопили от горя, потому что родились в таком кошмарном месте, мужчины и женщины обменивались громкими оскорблениями; собаки отрывались от своей отвратительной еды, рыча и лая на всех подряд. Я споткнулся о какой-то булыжник и ушиб колено. В переулках было очень мало света, за исключением того, который проникал сквозь решетки на окнах или сквозь дыры в занавесках. Желтый керосиновый фонарь горел в кондитерской лавке, где закутанные в чадры женщины собирались, чтобы купить сладости, свою единственную радость. В это время их мужья нарушали заповеди ислама и искали утешения в винных погребках или играли в трик-трак за грязными столами в кафе. Я миновал по крайней мере два кладбища (Стамбул называли городом кладбищ) и почти случайно, завидев далекие недосягаемые огни Перы, оказался у католического собора. Это было обыкновенное, псевдоготическое здание, построенное в английском стиле, – точно такое же можно было бы обнаружить в Уэртинге или Фулхэме. Я не мог отличить одну улицу от другой. Церковь опустела. Вокруг не оказалось никого, у кого я мог бы узнать дорогу. Поблизости еще работали некоторые кафе и бары, их заполонила обычная публика. Я знал, что было бы неблагоразумно приближаться к этим людям.
Я укрылся за спинами очень старых мужчин в засаленной европейской одежде и турецких туфлях. Все они несли на головах огромные таинственные свертки. Процессия свернула за угол и двинулась по извилистым переулкам. Мимо проходило какое-то семейство – женщины, закутанные в черную ткань, мужчины в фесках и бесформенных костюмах. Шагавший впереди мальчик держал факел, освещая дорогу. Я как будто перенесся в Иерусалим времен Христа. Потом пошел дождь, и Стамбул скрылся за ним, как за тонким занавесом. Я заковылял обратно к Гранд рю, прекрасно понимая, что веду себя как безумный, и все же не в силах избавиться от навязчивой идеи. Целеустремленность, которая помогла мне в раннем возрасте развить поразительные способности, благодаря которой я смог преодолеть все опасности, стала угрозой теперь, когда я погнался за иллюзией. Существовала ли она вообще? Она была плодом моего воображения. Может, ее лицо показалось мне похожим на лицо Эсме в неверном свете огней кафе? Мне следовало это выяснить. Если бы я снова увидел ее в других обстоятельствах, если бы я увидел, что она не Эсме, – я был бы удовлетворен. Я говорил себе, что она – не Эсме. Тот вариант, что она была близнецом Эсме, казался совсем уж невероятным.
Успокоившись, я вернулся домой. Пришла записка от баронессы. Она была в «Токатлиане». Я решил провести с ней вечер. Пусть только на несколько часов, но моя Леда, конечно, поможет мне позабыть обо всем этом безумии. Я переоделся, привел себя в порядок и пошел в «Токатлиан». Баронесса сидела за своим любимым столиком на втором этаже. С ней явно стряслась какая-то беда, но она очень разволновалась, увидев мое израненное лицо.
– Что с тобой случилось, Симка?
– Это работа. Все будет в порядке.
Я не стал обсуждать свои порезы и ушибы. Благоразумие и осторожность редко производят впечатление на женщин, чаще всего причина скрытности очень проста – мужчина не хочет признавать себя побежденным и рассказывать о своих глупых поступках. Желая сменить тему, я справился о Китти. Баронесса пожала плечами. Ее дочь скучала. Здесь не было подходящих для нее школ, и она говорила по-немецки слишком плохо и не могла брать уроки у гувернантки в семействе, в котором жила баронесса.
– Она прочла несколько приличных русских книг, которые нам удалось найти. Днем мы гуляем в парке. Сегодня ходили к русскому посольству.
– Я слышал, что там творится настоящий бедлам.
Баронесса согласилась:
– Люди спят вповалку в старом бальном зале. Не осталось места даже для самых маленьких детей. И едят суп из больших мисок, как нищие. Это очень грустно, Симка. Ведь там собрались представители лучших семейств.
– Зато они живы. – Я не испытывал к ним особого сочувствия. В конце концов, это я помог многим из них с паспортами. Если бы они остались, то им, вероятно, пришлось бы гораздо хуже. – В отличие от государя, – добавил я.
– Нет, это ужасно. И так много сирот. Что случилось бы с Китти, если бы со мной стряслась какая-нибудь беда? В этом городе тысячи настоящих хищников в человеческом облике. Полиция бездействует. Ты знаешь, пока я шла сюда, меня дважды оскорбили. Европейцы! Никто не признает властей. Британцы прилагают все усилия, но полицейских не всегда можно отыскать. И вдобавок Маруся Верановна запила.
Я устал. Я предложил сразу подняться в нашу комнату наверху. Баронесса с готовностью согласилась, все ее ужасные ничтожные проблемы были позабыты, когда появилась возможность удовлетворить похоть. Я с удовольствием провел с ней время. Леда соглашалась на все игры, которые я предлагал. Женщины, как мне было прекрасно известно, грустят только тогда, когда им не уделяют достаточно внимания, а я уделял моей баронессе все возможное внимание. В ту ночь, лежа рядом с ней, я увидел сон. Мы с евреем Берниковым плыли вместе на корабле. Кажется, это был пароход, но с треугольными парусами, как у древнего греческого военного корабля. На Берникове было какое-то тряпье. Кровь лилась из дюжины ран. Думаю, баронесса и миссис Корнелиус находились рядом. Берников обвинял меня в своем убийстве, и я не знал, виновен я или нет. Я спрашивал других, что они об этом думали, но их беспокоило состояние корабля, и на меня не оставалось времени. Герников указал на себя. Он улыбнулся и сказал, что простил меня. Я попытался вышвырнуть его за борт, крича, что мне не нужно его прощение, но по крайней мере я его заслужу, если он сейчас умрет. Я хотел, чтобы еврей замолчал, но он вцепился в поручень, как хищник в добычу, и остался на месте, улыбаясь этой ужасной благостной улыбкой. Тут подбежала Китти и протянула ему руку. Он ухватился за руку, и Китти нежно увела его. Я ревновал. Я хотел утопить Герникова, а Китти его спасла.
Баронесса разбудила меня:
– Ты ужасно вспотел, Симка.
Я дрожал. Она накрыла меня одеялом. Вид ее обнаженного тела оживил меня. Ее тело было массивным, крепким и в то же время мягким, и мне нравился его запах. Мы занимались любовью до рассвета, и так я снова изгнал образ Герникова из своей головы, глубоко запрятав и призрак Эсме. Леда знала, как успокаивать и утешать, – более юным женщинам такого не дано. Но к утру, после того как мы восстановили силы с помощью кокаина, навязчивая идея постепенно вернулась. Поспешно сообщив баронессе, что у меня деловая встреча с очередным военным, я предложил увидеться за обедом за нашим обычным столиком. Убедившись, что она отправилась домой, я возвратился в «Ротонду».
В кафе несколько несчастных курдов мыли столы и пол. Сириец сидел на вершине стремянки, куря пеньковую трубку и якобы следя за действиями курдов. Когда появился я, он крепко сжал трубку немногочисленными черными зубами и начал спускаться. Словно не узнавая меня, он понес лестницу в кухню. Один из курдов сказал, что девочек не будет по крайней мере еще час. Я, мешая слова из разных языков, спросил его, знает ли он маленькую девочку по имени Хелена. Она, возможно, полька, сказал я. Чтобы не злить меня, курды притворились, что думают. Очевидно, у них не было никаких сведений, а мои вопросы их смущали. Снаружи, на Гранд рю, проливной дождь заполнил сточные канавы, окатил крыши и запрудил тротуары. Улицы покрылись множеством черных зонтиков и дождевиков. Я укрылся под полосатым промокшим навесом кафе «Люксембург», затем двинулся обратно, заглянул в окна книжного магазина Уика и Вайса, известного прекрасным выбором товаров, посмотрел на декоративные медные лампы и столы, дурные копии французских оригиналов эпохи Империи. Некоторые из кинотеатров и мюзик-холлов уже открылись. Оккупационные армии поддерживали множество таких мест, работавших едва ли не круглые сутки. Дождь освежил воздух Перы, ненадолго разогнав самые неприятные запахи, доносившиеся со стороны Галаты. Плакаты начали сползать с деревянных стенок газетных киосков, с табачных лавочек, писсуаров и трамвайных остановок, как будто город волшебным образом готовился покрыться новым слоем рекламных объявлений. Отряд пенджабцев бегом поднимался по крутому склону, солдаты держали оружие наперевес. Как и в Батуме, в Константинополе англичане разместили очень много цветных солдат, по-видимому, решив, что мусульмане будут меньше оскорблять турок. Это оказалось ошибкой. Турки более высокомерны к людям, которых они считают подчиненными, особенно к бывшим подданным Османской империи. Я думаю, что они сочли присутствие темнокожих солдат заранее спланированным оскорблением. Поражение от греков для них было также оскорбительно, но когда им начали приказывать африканцы, какие-нибудь французские сенегальцы, – это стало просто невыносимо. И хотя турки заслужили все возможные оскорбления (их жестокость по отношению к другим народам, особенно к армянам, вошла в легенду), они все-таки не понимали, за что их наказывают. В 1915 году, когда весь мир был занят другими делами, они изгнали около миллиона армянских христиан в пустыню на верную смерть. Многие все еще настаивают, что это вполне логичный поступок: «Не следует забывать, что армяне были очень богаты». Турки, запятнавшие руки кровью, остались истинными наследниками Карфагена. Они никогда не переменятся. Они присоединились к Организации Объединенных Наций, чтобы их защитили, когда они вторглись на Кипр[85]; они заключали в тюрьмы невинных христиан; они угрожали и воровали так же бездумно, как и их предки-гунны. История – не книга правил, но ее уроки слишком часто предают забвению. По-прежнему проявляя уважение к туркам, мы ведем себя подобно женщине, верящей, что ее злодей-муж в конце концов переменится. Это, конечно, свидетельствует о ее оптимизме, но не имеет отношения к истинной личности мужчины.
Дождь ослабел, и теперь я смог вернуться в «Пера Палас». Там я вымылся и переоделся. Потом, не дождавшись вестей от миссис Корнелиус, не меняя своих планов, я снова отправился в «Токатлиан». По дороге я задержался в «Ротонде». Там я обнаружил нескольких девочек, была и рыжеволосая итальянская мадам, но никто не видел моей Эсме. Я сказал, что они получат награду, если смогут отыскать ее или раздобыть ее адрес. Кажется, они предположили, что я собирался ее купить, поэтому сразу согласились помочь.
В ресторане я встретил баронессу, снова наслаждавшуюся обществом графа Синюткина. Возможно, они стали любовниками. Он поднял красивое, лицо со шрамом и мило мне улыбнулся. Мне бы тогда очень помогло, если бы баронесса обратила свою привязанность на кого-то другого, но, полагаю, она оставалась по-прежнему верна мне. Граф Синюткин, облаченный в новую форму, тепло меня приветствовал. Мы обсудили кампанию в Анатолии. Граф сказал, что греки сталкивались с сопротивлением главным образом со стороны нерегулярных отрядов вроде тех, которые я наблюдал на юге России. Я поведал ему, что лично знал Махно и неоднократно видел Григорьева, и сам Петлюра рассчитывал на мое сотрудничество. Синюткин назвал нескольких предводителей банд. Он именовал их «кондотьерами». Самым известным и наиболее популярным оказался некто по имени Черкес Этем[86]. В Анатолии он играл ту же роль, какую Панчо Вилья играл в Мексике.
– В схожих обстоятельствах, кажется, появляются схожие персонажи, да? А тем временем французы терпят поражения в Северной Сирии.
Меня внутренние турецкие дела не интересовали, я слушал только из вежливости.
– Они борются старыми средствами со старыми проблемами, – заметил я. – Бандит на большой лошади не может ничего добиться. Неужели так важно, кто побеждает? Все они – пережитки древности.
– Некоторые более прогрессивны, чем другие, – мягко настаивал Синюткин. Его голубые глаза изучающе смотрели на меня. – Для современного вооружения, в конце концов, необходимы современные банковские счета.
– Необязательно, граф. В Киеве лет семь или восемь назад я спроектировал и построил превосходный дешевый аэроплан. Средств, которые потребовались бы на сотню обычных машин, хватило бы на тысячи таких аэропланов. Армия могла бы завоевать все воздушное пространство с помощью моего самолета.
Я не хотел хвастаться, но тем не менее произвел впечатление. Синюткин действительно заинтересовался:
– Этот проект увенчался успехом?
– Во многом. Мой первый полет видел весь Киев. Вы, должно быть, читали об этом в Москве. – Я иронически улыбнулся.
– Да, что-то смутно припоминаю. Вашу машину, конечно, могли использовать во время войны?
– Я не стану сейчас рассказывать обо всех своих провалах, граф Синюткин. Достаточно сказать, что чертежи были переданы в Военное министерство в Санкт-Петербурге вместе с несколькими другими моими изобретениями, и гибнущие царские бюрократы сделали то, на что они только и были способны, – не обратили на них внимания. Естественно, мне не прислали даже уведомления о получении. Но другие оказались не столь медлительны – ко мне обратились за помощью. Одну из моих машин использовали во время последней обороны Киева. Если бы не трусость националистов, все могло бы кончиться иначе. Так думал Петлюра.
Граф Синюткин оживился. На его лице, несмотря на шрам, выразилось поистине детское волнение:
– Ей-богу, Пятницкий, вы могли бы нажить состояние!
– Это неважно. Я буду счастлив, если смогу хоть сколько-нибудь улучшить жизнь обычных людей. Средства на существование нужны, но моя жизнь прежде всего посвящена созиданию лучшего будущего.
– Понимаю, почему вы с Колей были так дружны. – Граф пришел в восторг. – Иногда вы говорите в точности как он.
– У нас много общего.
– Надо полагать, большевики очень хотели бы, чтобы вы остались в России. Даже они понимают, насколько ценны изобретатели-инженеры.
– Я никогда не стал бы помогать Ленину или Троцкому проливать кровь невинных. Любому разумному правительству я с радостью предоставлю свои изобретения, но служить тиранам не буду.
Синюткин наклонился ко мне. Его лицо посерьезнело:
– Желаю вам удачи, Пятницкий. – Потом он нахмурился и посмотрел куда-то в сторону. Полагаю, он увидел внизу какого-то знакомого. Поклонившись нам обоим, граф поднялся. – Надеюсь, мы еще побеседуем.
– Маленький гений! – Баронесса погладила меня по щеке. Мешки под глазами она аккуратно скрыла слоем пудры. Леда надела крошечную шляпу с модной вуалеткой и надушилась чуть сильнее обычного. Возможно, из-за этого она казалась уже не красивой молодой женщиной, а настоящей светской дамой из высшего сословия. – Думаю, ты произвел на нашего графа впечатление. Мне нравится, когда ты заводишь разговор о своих машинах, хотя я почти ни слова не понимаю. Но представь, каких успехов ты мог бы добиться в Берлине!
Я, как обычно, понял намерения Леды и погладил ее по руке. Она вздохнула:
– С Китти очень трудно. Немцев возмущают мои отлучки. Я говорю им, что ухаживаю за больной подругой, но они подозревают правду. Нам нужно покинуть Константинополь как можно скорее, Симка.
– Сегодня днем я должен встретиться с одним человеком, – обнадежил я баронессу. – Видимо, у меня могут быть какие-то новости уже к вечеру.
– Ты же не бросишь нас, мой дорогой?
Это было уж слишком драматично. Она никак не могла выразить свои истинные опасения.
– Конечно, нет.
Я снова погладил баронессу по руке и передал ей меню. К тому времени как мы доели дрянной борщ и какие-то фаршированные капустные листья, мой взгляд был почти постоянно прикован к происходящему на улице. Капли дождя быстро стекали по стеклу, искажая силуэты пешеходов, которые по большей части стали напоминать полулюдей, известных из классической мифологии. Несколько раз я был почти уверен, что заметил Эсме. Я знал, что веду себя просто смешно, преследуя призрак, почти наверняка порожденный моей собственной фантазией. Я сосредоточился на еде, но баронесса, заметив мое возбуждение, небрежно спросила о миссис Корнелиус. Я ответил какой-то дежурной фразой и попытался сосредоточиться. Я знал, что страдаю от легкой контузии и нехватки сна. Я выставил себя дураком, поддавшись такой нелепой галлюцинации. Очевидно, я ошибся в «Ротонде». Если я найду Хелену, то она наверняка окажется крашеной смуглой зеленоглазой девицей лет двадцати. Конечно, я пытался мыслить разумно, но моей силы воли не хватало на то, чтобы действовать, повинуясь велениям разума. Вскоре я поспешно покинул «Токатлиан», пообещав Леде, что мы снова встретимся в ближайшее время. Я пересек улицу и занял прежний наблюдательный пункт в баре «Ротонда». Девушки заходили туда, встряхивая мокрые зонтики и плащи. Некоторые приветствовали меня. Некоторые попытались усесться рядом со мной. Я их игнорировал. Сирийский цербер выполз из своей конуры и нахмурился, завидев меня. Я заказал выпивку и расположил его к себе, дав большие чаевые. Его иссохшее лицо смягчилось, он посмотрел на меня и послал мне улыбку, исполненную удивительной, почти искренней радости. Мы снова стали союзниками, если не друзьями. Я потягивал абсент и наблюдал за толпой. Оркестр заиграл причудливую смесь турецкой музыки и американского джаза. Мужчины и женщины выходили на крошечный деревянный танцпол и двигались как марионетки, дергаясь взад-вперед в такт нелепому ритму, подражая какому-то танцу, который они только что видели в дешевом кино. Пришла Соня. Она покачала головой, давая мне понять, что у нее нет никаких сведений, а потом удалилась с пожилым итальянским офицером. Я дремал над своим стаканом. Я думал о том, что написать Коле. Я знал, что должен по крайней мере оставить сообщение в «Паласе», но убедил себя, что посыльный догадается, где я, если не сможет найти меня в «Токатлиане». Я отправился в маленькую заднюю комнату, где сириец обменивал деньги по кошмарному курсу, и приобрел несколько английских соверенов. Желая сохранить сосредоточенность, я вдохнул приличную дозу кокаина, купленного у сирийца по завышенной цене, а потом вернулся к абсенту и скуке дешевых духов, мягких плеч, коротких причесок и ярких платьев. Мне было нужно нечто совершенно иное: светлые кудри и нижние юбки, розовая кожа и чистые голубые глаза.
Дождь прекратился. Я прошел по покатым улочкам до кафе напротив ворот Галатского моста и заказал среднюю порцию сладкого кофе. Я сидел и смотрел, как мимо сновали люди со всех концов земли. В этом районе было полно уличных продавцов, до невозможности расхваливавших свои жалкие товары. Толстые турецкие бизнесмены в фесках и темной европейской одежде собирались в группы и оживленно жестикулировали, проводя время в обсуждении сомнительных сделок. Вопреки логике я решился приобрести некий экмек-кадаиф[87], «бархатный хлеб», который турецкие женщины считали совершенным сочетанием муки и сливок. Вероятно, в то время в Константинополе созданием новых сладостей занимались очень многие – куда меньше людей обсуждали серьезные проблемы, возникавшие в этом городе. Но вполне возможно, что для турок это и есть самое подходящее занятие. Еще я очень полюбил блюдо, которое называлось «обморок имама». Имам-байялды[88] был самым восхитительным яством из всех, что мне случалось пробовать. Он до сих пор кажется мне куда вкуснее любых кулинарных изысков Вены или Парижа. К тому времени как сгустились сумерки, я съел целых две порции. Именно в сумерках я в последний раз видел мою Эсме и теперь сидел, питая суеверную надежду, что она снова появится в то же самое время. По обе стороны моста собирались корабли, дожидавшиеся развода понтонов, – такое повторялось дважды в день, утром и вечером. Глядя на них, я задумался, на каком судне предпочтительнее уехать – британском или американском. Практически все паромы, отправлявшиеся в Венецию, подвергались строгим полицейским проверкам – было невозможно подняться на борт или сойти на берег без необходимых документов. Пришло время, когда мне следовало отыскать болгарского специалиста по подделке документов и запастись соответствующими бумагами. Я хотел помочь баронессе фон Рюкстуль, но, может статься, придется оставить ее здесь, как она и опасалась. Она быстро отыскала бы другого защитника. Ее положение было не таким сложным, как у всех прочих. Люди из лучшего московского и петербургского общества каждое утро собирались толпами у входов в посольства Франции, Германии, Великобритании, Италии, даже Бельгии. У французов появилась такая шутка: можно убедиться в том, что русский попал в отчаянное положение, если ему приходится выбирать между самоубийством и Бельгией.
Лучшие русские гибли и пропадали на холодных лемносских берегах. Профессора крупнейших академий, ученые, адвокаты, художники, музыканты и философы теснились в лагерях, где умирали от сыпного тифа или пневмонии. Принцы крови униженно ползали перед мелкими чиновниками Германии, которую они едва не уничтожили. И конечно, бесполезно было напоминать о древних языческих завоеваниях великих христианских городов, Рима и Киева и всех прочих, жители которых сносили подобные оскорбления. Порядочные, набожные христиане терпели дурное обращение, они гнили заживо и погибали. А весь мир спокойно взирал на происходящее, все демонстрировали полнейшее довольство. Царь Николай и его правительство доверились устаревшим институтам власти. Даже русские монархисты говорили об этом. И теперь уцелевшие представители российского дворянства заплатили ужасную цену за близорукость и безумие своего властителя, за царицу, возжелавшую самозваного святого, советы которого привели к грубейшим стратегическим ошибкам во время войны.
Когда стемнело, я удалился от берега и двинулся обратно по булыжникам и каменным ступеням, я пробирался между зданиями, которые поднимались вверх криво, как пьяные, наклоняясь и сплетаясь в безумной геометрии невозможных линий и углов. Где-то начался пожар, и послышался сумасшедший звон огромного колокола с Галатской башни, построенной именно для этой цели. Одна из многих частных самозваных пожарных команд (обычно состоявших из самих поджигателей) срочно принялась за дело. Это был настоящий хаос босых ног, фесок, тюрбанов, старых ослов, шлангов и медных котлов с водой – неуклюжее сборище головорезов, которые крали столько же, сколько спасали.
Едва вернувшись в знакомый, залитый электрическим светом мир Гранд рю, я увидел, как из моторного такси высунулась миссис Корнелиус. Она махала мне и что-то кричала – я не мог разобрать, что именно. Я попытался погнаться за нею. Она бросила на меня злобный взгляд: «Если ты не ’оторо’ишься, Иван, мы н’када не ’ыб’ремся ’тсюда!» Потом такси свернуло в сторону Топхане и исчезло. Я так и не понял, следует ли дальше преследовать миссис Корнелиус, или нужно вернуться в «Токатлиан» и припасть к утешительной груди моей Леды, а может, попытаться еще раз проверить, появилась ли Эсме в «Ротонде». Едва ли не прежде, чем осознал, что делаю, я шагнул в двери кафе и попал в мир теплой продажной плоти и отвратительных тканей. Я всегда, еще со времен Одессы, чувствовал себя непринужденно в такой атмосфере. Возможно, все дело в том, что в подобных местах от тебя ничего особенного не ждут. Ты можешь бывать в питейных заведениях, рабочих пабах и борделях, пока способен держать рот на замке и платить по счетам. Ты среди друзей, и в то же время остаешься безымянным.
Все столики были заняты, поэтому я решил пробраться к бару и заказать абсент, как обычно. Я не видел ни Сони, ни сирийца, ни Хелены. Я чувствовал себя нелепо, потому что полагал: все втайне посмеиваются надо мной. Я тратил впустую слишком много времени, как говорила миссис Корнелиус. Мне следовало искать пути к бегству, готовить документы, изучать графики отправления пароходов и поездов. Тем не менее я не уезжал. Я все еще надеялся хоть раз увидеть девочку, убедиться, что ее сходство с Эсме – просто выдумка. Вдобавок я уже привык сидеть на одном месте. За последние годы, когда города сдавали и брали обратно, когда сменялись правительства и пересматривались законы, я научился тянуть время и выжидать подходящей возможности. Я иногда воображал себя рептилией, терпеливой старой ящерицей, которая способна лежать на скале много дней, пока в пределах досягаемости не появится добыча. В случае необходимости я могу преодолеть нетерпение, почти преодолеть само время, погрузиться в своеобразное полубессознательное бездействие. Этот совершенно неподобающий вариант ответа на тогдашние угрозы впервые открылся мне в «Ротонде». Поиск девочки стал делом первостепенной важности. Подумав, я уверил себя, что я легко смогу жить и работать в Константинополе. Здесь собралось много недавно прибывших дельцов, готовых профинансировать мои опыты, кроме того, я всегда мог найти работу механика. Я мог бы жить как паша на вилле, с которой открывался вид на Сладкие Воды Европы. Рядом будут соотечественники, с которыми я смогу беседовать, сотни книг и журналов, изданных на русском языке. Я не мог представить ничего подобного в холодном, строгом, величавом Лондоне. К тому же в Англии выбор юных девушек окажется не так велик. Оставаясь здесь, я смогу жить тихой, прекрасной трудовой жизнью, а если мне захочется расслабиться, когда угодно сумею насладиться всеми радостями, которые обещал Константинополь. Такой порядок пришелся бы мне по вкусу, я ведь был не просто человеком мысли – мной управляли великие физические страсти и горячность. Мне предстояло стать главным архитектором нового, блестящего христианского города.
Оглядываясь назад, я никак не могу понять, почему не захотел остаться и сделаться одним из столпов Константинополя. Трудности первых лет Ататюрка почти не изменили облик города. Он говорил, что Константинополь подобен западной блуднице. Он повернулся к городу спиной, чтобы уничтожить всякую связь между столицей и ее правителем. Он допустил, чтобы мечети увядали в нищете или становились музеями для туристов, он не давал образованным людям разрешения работать в Константинополе, и они были вынуждены переехать в Анкару. Но он не нарушал покой города, который принес богатство всей Турции. Ататюрк никогда не презирал золота, которое продолжало течь потоком через его «Стамбул». Вопреки всему Константинополь оставался центром мира. Ататюрк поднял свой флаг над скопищем землянок, над Анкарой, своей новой столицей, он требовал от подданных пуританской суровости, которой сам пренебрегал. И он пил и блудодействовал, что и привело к ранней смерти, – он исключительно точно подражал лицемерным султанам, которых на словах порицал. Константинополь не обращал на это внимания, это не тревожило город, привыкший к деспотам и их чрезмерной напыщенности. Константинополь жил под пятой тиранов по крайней мере три тысячи лет. Я начал убеждать себя, что гораздо разумнее жить недалеко от России. Будет намного легче возвратиться домой, когда придет время. Я воображал, как вернусь в Одессу, – богатый, торжествующий, щедрый; как сойду с корабля, под музыку духового оркестра и приветственные крики толпы, и привезу домой Эсме, подругу детства и мою невесту.
Она пришла одна. Поначалу перед глазами у меня скользили только порождения фантазии, и я почти не обратил на нее внимания. В тот вечер на ней было одеяние из потускневшего синего бархата, по крайней мере на два размера больше, чем следовало, волосы под плюмажем из павлиньих перьев она стянула в узел. Ни косметика, ни безвкусное платье не могли скрыть ее прелесть. Я с трудом сдерживался, в голове стучало, я со звоном опустил стакан на стойку. Мое сердце едва не выскакивало из груди, но я старался сохранять самообладание, следя за Эсме уголком глаза. Прижимая к груди небольшую, расшитую блестками театральную сумочку, она нерешительно пробиралась вперед, лавируя между посетителями. Сдерживая дрожь, я медленно поднялся на ноги, потом осторожно, шаг за шагом, двинулся к ней так, как умирающий человек приближается к оазису, который может оказаться всего лишь миражом. И вот я остановился прямо перед нею. Она замерла. Я поклонился. Во рту у меня пересохло, но я использовал все свое обаяние и казался, уверен, внешне спокойным, даже немного равнодушным.
– Не хотите выпить, юная леди? – спросил я по-английски.
Она удивленно нахмурилась:
– Я католичка.
Она говорила на дурном французском языке с акцентом, которого я не мог распознать. Она думала, что ответила на мой вопрос. Я улыбнулся, она тоже. Это была все та же Эсме, с полными губами и широко открытыми глазами. Все ее лицо мгновенно ожило. Она осознала, что неправильно поняла меня, и произнесла что-то по-турецки. Я пожал плечами и жестами изобразил полнейшее недоумение. Я чувствовал прилив невероятной радости. Я не ошибся. Она оказалась близнецом Эсме. Она рассмеялась. Это был смех Эсме, громкий и музыкальный.
– Ведь ты Хелена, не так ли?
– Хелена, да, мсье.
Она быстро кивнула, как будто я продемонстрировал необычайную понятливость, и ей хотелось ободрить меня.
Я нежно взял ее за руку и отвел в самый тихий уголок кафе.
– Ты будешь абсент? А может, лимонад?
Девушка поняла мой французский и выбрала лимонад, свидетельствуя, что она вовсе не закоренелая шлюха, а обычная школьница, которая в результате некоего ужасного стечения обстоятельств вынуждена вести такую жизнь. Еще оставалось время для того, чтобы спасти ее.
Презрительно взглянув на сирийца, который мне заговорщицки подмигнул, я заказал напитки.
– Ты меня узнала? – спросил я.
Она нахмурилась, потом быстро поднесла руку ко рту:
– О! Тот человек на остановке!
– Я потревожил тебя, и мне очень жаль. Но ты – оживший портрет моей умершей сестры. Ты можешь представить, как я был потрясен. Ты казалась призраком.
Я ее не напугал. Она снова расслабилась, любопытство вынудило ее остаться. Она склонила свою маленькую головку набок, как делала Эсме, и сочувственно спросила:
– Вы русский, мсье? Ваша сестра была… – Она не могла подыскать слово. – Большевики?
– Вот именно.
– Мне вас жаль, – мягко проговорила она.
Точно так же дрожал голос Эсме, когда она была взволнована. Даже чуть заметный жест, выдававший беспокойство и возбуждение, казался тем же самым.
– Ты понимаешь, почему я искал тебя? Тебя действительно зовут Хелена?
Она заколебалась, как будто хотела назвать мне настоящее имя. Потом осторожность взяла свое. Она наклонила голову:
– Хелена.
– Ты гречанка?
Она пожала плечами, пытаясь удержать маску, которая все еще была для нее непривычна:
– Все мы кто-то, мсье.
Я чувствовал в глубине души огромную, невероятную нежность. Она была Эсме, моей любимой розой. Я хотел протянуть руки и стряхнуть пудру с ее щек, обнажив прекрасную кожу. Я хотел воздействовать на нее добротой, как воздействовал на Эсме, любовь которой считал само собой разумеющейся, в чьей верности никогда не сомневался. Эсме поклонялась мне. Они оторвали ее от ее судьбы, точно так же они пытались поступить и со мной. Они извратили ее душу. Они сделали ее обычной: дитя революции с ужасной гримасой, на месте которой когда-то была искренняя улыбка.
– Твои родители еще живы?
– Конечно. – Она махнула рукой куда-то вдаль, за двери. Сверкнула медная змея волос, заблестели зеленые эмалевые глаза. – Там.
– И кто они по национальности?
Думаю, мои расспросы стали ее раздражать. Вздохнув, она неловко вытянула руки, унизанные дешевыми кольцами.
– Румыны, – сказала она. Под маской ее голубые глаза светились чистотой и непорочностью. – Они приехали до войны.
– Ты составишь мне компанию сегодня вечером?
Она поправила пальцами прическу:
– Именно для этого я здесь, мсье.
Я покачал головой, затем решил ничего не объяснять. Я все-таки боялся, что напугаю ее, и она умчится туда, где я никогда не смогу ее отыскать. И я ограничился вопросом:
– Так у тебя нет особого друга?
В ее вздохе был намек на притворную пресыщенность, игривое кокетство, напомнившее мне о подобных ответах Леды:
– Пока нет, мсье.
Я не стал обращать внимания на это притворство и на миг коснулся ее руки:
– Меня зовут Максим. Я хочу защищать тебя. Могу я называть тебя Эсме, а не Хеленой?
Она была озадачена, но не выказала неудовольствия:
– Если тебе так нравится. – На лице ее отразилось самое искреннее сочувствие. – Но не грусти, мсье Максим. Мы здесь для удовольствия, не так ли?
Она умолкла и спокойно выпила, глядя, как танцуют другие пары. У нее была такая же осанка, как у Эсме, те же непринужденные движения головы и плеч, то же выражение лица, тот же восторг перед чудесами мира. Мне хотелось увидеть ее в приличном платье, с расчесанными и как следует уложенными волосами, но я был еще слишком осторожен, чтобы предложить подобное, – я мог ее напугать, и она пустилась бы наутек, если бы я слишком поторопился. В таком возрасте девочки способны быть особенно капризными. Она, казалось, радовалась моему обществу, но все же в любой момент могла захотеть уехать с кем-то другим или решить, что ей не нравится форма моего носа. Она совсем недолго была шлюхой, иначе у нее выработался бы профессиональный интерес к мужчинам.
– Что ты делала раньше, до того, как стала приезжать в «Ротонду»? – небрежно поинтересовался я.
– Я… – Она сжала губы. Она по-прежнему сохраняла осторожность. – Я работала.
– А твои родители?
– Отец – плотник. Мать ходила в большие дома. – Она указала на богатые районы Перы. – Теперь она не может. И я прихожу сюда.
Все это подтвердило мою возрастающую уверенность – я избран самой судьбой, чтобы спасти ее. Наверное, у нее было немного мужчин до американского моряка, если они вообще были.
– Хорошо, – сказал я. – Может, я смогу предложить тебе работу. Я собираюсь нанять компаньонку. Это не уловка. Спроси кого угодно. Любую из девочек. Даже сириец поручится за мою честность. Если ты, к примеру, заинтересуешься предложением, я встречусь с твоими родителями и все будет устроено как следует.
Она не все поняла и как-то неопределенно кивнула. Она достала из сумочки пачку дрянных сигарет и неловко вложила одну в дешевый деревянный мундштук, раскрашенный под слоновую кость. Я протянул руку с зажженной спичкой, довольный тем, что она, очевидно, не привыкла курить. Я по-прежнему боялся делать замечания или поучать ее. Молодые девушки и так страдают от чувства вины. И человек, который напомнит им об этом, вероятно, вызовет только ненависть. Я продолжал осторожно прощупывать путь. Я шутил с нею. Смех всегда помогает женщинам преодолеть стеснение – в этом отношении он лучше и дешевле шампанского. Она становилась все раскованнее и даже попыталась перевести шутку с турецкого языка на французский. У нее ничего не получилось, но мы оба расхохотались. Я предположил, что ей могло бы понравиться одно кабаре на Пти рю, и она с готовностью последовала за мной. Театр был длинным низким зданием, полным дыма, пота и керосиновых ламп. Обычные турецкие торговцы хихикали, наблюдая там за прыжками третьесортных французских актеришек из мюзик-холла, притворявшихся исполнительницами танца живота и денди. Но ей нравились комические танцы. Она беспомощно цеплялась за мою руку, не в силах сдержать безумный смех при виде трюков, которые проделывали поеденные молью ученые тюлени. Мы с Эсме ходили в цирк в Киеве. Была весна. Капитан Лукьянов дал нам немного денег, моя мать снабдила нас свертком с хлебом и колбасой. Мы впервые отправились на вечернюю прогулку без взрослых. В большом белом шатре горели цветные лампы. Прожектор озарял огороженную арену, по которой носились тигры, вздымая опилки в воздух, а полуодетые нимфы танцевали наверху, среди теней. Эсме заплакала, увидев грустного слона, и испугалась, что клоуну на самом деле сделали больно, когда напарник стукнул его ведром. Когда мы уходили, в воздухе разливался аромат свежей сырой травы и майских цветов. Тот цирк был огромен. Он занимал все дно Бабьего Яра, над которым я позднее взлетел. Я искал Зою, свою цыганку, и почти не слушал взволнованную Эсме. Как же я был глуп – я не замечал ее любви! Мне следовало лучше защищать ее. Она была слишком хороша. Она хотела спасать людей, она помогала солдатам выживать. Солдаты вернулись и сделали ее шлюхой.
Мы немного прогулялись по близлежащему кладбищу. Казалось, Эсме совершенно успокоилась и готова была откликнуться на любое мое предложение. Я отвел ее в «Токатлиан». Мы вошли через черный ход. Я не хотел, чтобы меня заметили сидящие в ресторане. Там я договорился с Олмейером о своей обычной комнате, Эсме в это время ждала в узком, слабо освещенном коридоре. Она все еще улыбалась, вспоминая о кабаре, и пыталась сдерживаться, когда поднималась по лестнице. Я посоветовал ей вести себя естественнее. Она тут же фыркнула. Я рассмеялся. Она сделала меня таким счастливым! Я распахнул дверь номера и показал ей все, что там было. Она замерла. Очевидно, она никогда не видела такой роскоши.
– Сначала, – сказал я, – нужно еще прогуляться. Свежий воздух нам не повредит.
Я увел ее с шумной и блистательной Гранд рю к посольствам и маленьким площадям, к тихим кафе.
Мы оставили позади всю городскую суматоху. Мы были в небольшом парке, почти безмолвном, у памятника какому-то мертвому паше. С этого места мы могли ясно разглядеть миллион крошечных огоньков Стамбула. Я немного подождал, а потом увлек ее в тень искривленного душистого кипариса.
– Ты голодна, Эсме?
Она посмотрела мне прямо в глаза. Она казалась пораженной, как будто внезапно поняла, насколько глубоки были мои чувства, насколько важна для наших судеб эта встреча. Ее маленькое личико сразу стало серьезным, и она искренне ответила:
– Оui[89]
Глава седьмая
Чтобы освятить мой возрожденный идеал, отпраздновать рождение моей музы, вышедшей как будто из головы Посейдона, я потребовал родительского благословения. На следующий день я вместе с девушкой спустился в кошмарные трущобы Галаты, в мир хромых собак и бесчисленных вырожденцев, – я пришел туда, чтобы повидать ее мать и отца.
Эсме на самом деле звали Елизаветой Болеску. В 1901 году после каких-то политических треволнений ее родители перебрались в Константинополь из Хуши, который находился неподалеку от границы Бессарабии. Отец был бригадиром плотников, пока, по словам Эсме, не лишился работы в результате печального стечения обстоятельств. Их однокомнатная квартира располагалась на самом верху. Эсме с гордостью сообщила, что туда вела лестница из семидесяти пяти ненадежных ступенек. Ее отец, как я тотчас же понял, был алкоголиком, по внешности неотличимым от несчастных армян и сефардов, занимавших большую часть здания. Все вены на его лице воспалились. Запах дешевого алкоголя оказался, однако, настоящим благословением, так как заглушал ужасную вонь, царившую в этом месте. Мать Эсме, полубезумная и безвольная, носила на голове черный платок, как самая обычная крестьянка, кожа у нее была желтой. Она сказала, что приготовит нам чай, но Эсме остановила ее.
– Моя мать нездорова.
Мистер Болеску говорил только на своем родном языке и немного на турецком. Его жена знала несколько слов по-русски (увы, из-за ее акцента я ничего не мог разобрать) и кое-что по-французски. Эсме исполнилось тринадцать лет. Пока ее родители пытались объясниться со мной, используя свои ничтожные языковые познания, я думал о том, где находился в 1907 году капитан Лукьянов. Я спросил мадам Болеску, слышала ли она это имя. Она сказала, что оно звучит знакомо, но, по-моему, предположила, что я разыскивал дальнего родственника. (Эсме исполнилось два года, когда они уехали из Хуши. Поэтому вполне возможно, что девочки были единокровными сестрами. Я и по сей день убежден в этом. Жена Лукьянова покинула его через год после свадьбы, вскоре после рождения Эсме. Неужели он потом не мог найти утешение в объятиях жены румынского плотника?) Мадам Болеску спросила, не был ли он полицейским. Она говорила дрожащим, резким голосом, явно стараясь понравиться. Нет, ответил я, он был русским офицером. Джентльменом. Ее глаза стали пустыми, словно кто-то мгновенно выключил свет. Я задумался, не могло ли это оказаться признаком вины. Супруги Болеску достигли самого дна, хотя они явно были вполне приличными людьми. Турецкая столица могла оказывать такое воздействие. Что-то в ее атмосфере разлагало честные христианские души. Болеску медленно умирали голодной смертью, но теперь благодаря Эсме стали обжираться консервами, которые она покупала своим телом. Как ни странно, оба – и мать, и отец – были довольно смуглыми. Я знал, что Эсме едва ли могла оказаться дочерью пропойцы-румына. Лукьянов, несомненно, останавливался в Хуши во время своих путешествий по Украине. Я не мог точно вспомнить, когда он приехал в Киев, но это случилось после 1907 года. «Лукьянов», – прошептал я старой карге (на самом деле ей было не больше пятидесяти). Ее муж стонал как овца и жаловался, что стало холодно. Мадам Болеску подошла к окну и прикрыла его мешковиной, натянув ткань на ржавые гвозди, вбитые в голые доски. Эсме зажгла свечу. Болеску кашлял и вытирал пот с грязного лба. Он не хотел, чтобы мы оставались.
– Très bon. Très bon[90], – повторяла мать. Даже ее французский, очевидно, знавал лучшие времена.
Она погладила по голове свою прекрасную дочь, попыталась улыбнуться и продемонстрировала немногочисленные желтые зубы. И она, и Эсме так и не поняли до конца, зачем я пришел туда. Я попытался объяснить еще раз. Девочка напомнила мне убитую сестру. Я хотел позаботиться об Эсме и ее родителях. Муж и жена наконец кивнули и задумались. Теперь мы могли заключить сделку.
В конце концов я заплатил за нее два английских соверена. Легко купив родительское благословение, я стал теперь, с их точки зрения, единственным хозяином их дочери. Ее мать уверила меня, что Эсме была хорошей девочкой, девственницей, набожной католичкой. Она поцеловала дочь на прощание. Отец что-то ворчал, рассматривая деньги. Эсме сказала, что скоро придет еще повидать родителей. Мы спустились по шаткой лестнице. Обеспокоенный извозчик дожидался нас, подкармливая лошадь из своей торбы. Я приказал ему отвезти нас в небольшой переулок за «Токатлианом». Там я уже снял на месяц одну из частных квартир Олмейера. Этот номер напоминал красную пещеру с низкими искривленными потолками и толстыми коврами того же цвета. Это были самые лучшие здешние апартаменты. Я сказал Олмейеру, что сделка должна остаться тайной для всех. Я заплатил ему вперед. Остаток дня мы провели с модистками, которые прибыли, чтобы облачить Эсме в пристойную одежду, подобающую ее возрасту. Ее вымыли с головы до пят. Волосы причесали и стянули лентами. Теперь она снова напоминала обычную тринадцатилетнюю девочку. Я оставил ее с платьями и зеркалами и возвратился на некоторое время в «Пера Палас». Мне не поступало никаких сообщений. Я начал думать, что миссис Корнелиус обо мне забыла. Я надеялся повстречать в баре майора Ная, но он тоже пропал. Я был уверен, что баронесса, с другой стороны, может потерпеть и подождать подольше.
Прошла неделя. Я не отвечал на все более и более тревожные записки Леды. Потом я дал знать, что вынужден уехать в Скутари по делам. Я не хотел, чтобы мою идиллию прерывали. Наконец-то я полюбил. Это был ностальгический восторг, мечта, ставшая явью. Мы ходили в кино, на выставки и в театры. Мы занимались тем, чем я всегда хотел заниматься с Эсме. И теперь Эсме не сдерживалась, тщательно изучая ценники или умоляя меня не терять голову, как бывало в Киеве. Я мог наслаждаться всем в полной мере и не думать о будущем. Любовные ласки были сладостными и нежными, в отличие от всего, что я знал прежде. Они представали почти идеальной детской игрой, хотя и не лишенной страстности. Эсме жадно хотела жить, наслаждаться жизнью, как человек, долгое время считавший, что она кончена. Она жаждала сексуальных удовольствий гораздо больше, чем я. Я зачастую хотел просто лежать с ней рядом, обнимая и укачивая свою любимую, рассказывая ей веселые истории и угощая конфетами. Теперь весь мой мир стал нежным, розовым, теплым, я познал радость отца, воссоединившегося с дочерью, брата, обретшего сестру, мужа, нашедшего жену. Она принимала мою романтическую нежность так же легко, как принимала все мои подарки. Я ничего у нее не просил, лишь бы только она оставалась собой, объектом моей привязанности, моей маленькой прекрасной богиней, спасенной от зла. Я спас ее, но не смог спасти ее двойника. Я несколько раз писал миссис Корнелиус. Я сообщил, что связался с людьми, которые могли нам помочь. Я передал баронессе фон Рюкстуль, что столкнулся с неожиданными трудностями. Чиновник, который обещал сделать ей визу, теперь уволен со службы, кроме того, в Константинополь прибыли мои родственники, общение с которыми отнимало много времени. Я снова и снова откладывал встречи с обеими женщинами. Пока я жил в земном раю, гибли целые армии, создавались новые страны, а другие исчезали или обретали новые названия. Империи старой Европы падали, как прогнившие деревья. Эсме проявила удивительные способности к языкам. Она быстро усовершенствовала свой французский, изучила русский и немного итальянский. С ее помощью я чуть лучше освоил турецкий. Склонность к изучению языков оказалась у нас общей. Это еще сильнее убедило меня, что мы на самом деле родственные души.
На содержание тайной квартиры в «Токатлиане» требовались деньги, и мне приходилось продавать драгоценности, предназначенные для Лондона. Кокаин в Пере был хорошим, дешевым и доступным. Тем не менее Эсме принимала его слишком много. Как только женщины преодолевали свои предубеждения и пробовали кокаин, в них почти всегда пробуждалась подлинная страсть к этому наркотику. Некоторые даже утверждали, что этот порошок прежде всего предназначен для женщин. Мои средства подходили к концу, очень скоро это стало очевидным. Я не оплатил свой счет в «Паласе», и миссис Корнелиус вполне резонно отказалась мне помочь. Она уехала из России с куда меньшим капиталом, нежели я. Тогда я начал подумывать о заработке – о продаже своих знаний или умений. Я неплохо справлялся в Киеве во время гражданской войны, я выжил и стал успешным бизнесменом. Теперь мне предстояло повторить это в Константинополе. Эсме привыкла спать большую часть дня. А я спускался в доки, где под старинными сводами отыскал десятки ремонтных мастерских. Я сдружился с несколькими механиками, которые занимались лодочными двигателями. Я выручал их всякий раз, когда им требовалась помощь. Вскоре я не только обзавелся более-менее постоянной работой, но и познакомился с владельцами небольших судов, которые плавали по Босфору, Эгейскому и Черному морям. Почти все они были греками либо армянами. Я даже повстречал родственников своего старого наставника Саркиса Михайловича, и меня приняли как друга семьи. Они тоже были механиками. Турки редко управляли такими ремонтными мастерскими. Они считали, что потеряют лицо, если испачкают руки в машинном масле или даже попытаются постичь тайны двигателя внутреннего сгорания. Турки на протяжении многих столетий жили за счет других. До сих пор они нанимали немцев и британцев, чтобы те строили для них машины, а представители малых народов Османской империи должны были поддерживать технику в рабочем состоянии. Британцы построили подземный фуникулер, который соединял Перу с доками Галаты. Немцы построили трамвайные линии. Ни один турок никогда ничего не изобрел. Даже проекты мечетей скопированы у византийцев. Как собираются править класс или страна, если они полагаются лишь на собственную гордость и на рабов? Они не могли претендовать на Константинополь. Истинные наследники Византии, способные строить машины, должны управлять городом, фундамент которого заложили римские инженеры. Древние лабиринты, которым минуло две с половиной тысячи лет, подтверждали очевидный факт: чтобы выжить, нужно понимать и принимать новые технологии, как только они появляются. Работая в гаванях Золотого Рога, где регулярно встречались венецианские галеоны и китайские джонки, я следил, как приземлялись и поднимались летательные аппараты – «макки» и «порте-филикстоу», которые прибывали из Италии и с Гибралтара и доставляли высокопоставленных военных. Я очень хотел стать пилотом одной из этих машин, по крайней мере пока я не построю свой собственный аппарат. Самолеты напоминали о том, что значил для меня Запад. Они пробуждали мое воображение. Они вновь делали Европу реальной. Даже самые великолепные корабли не могли передать это ощущение. Самолеты постоянно кружили над основными базами, они легко прилетали и улетали. Я мечтал о том, что вместе с Эсме полечу к свободе, в Геную или Гавр. Я построю более сложный вариант своей первой машины и сбегу отсюда, унося Эсме на спине, словно мы летающие принц и принцесса, герои восточной сказки.
Я очень обрадовался, когда Эсме сказала, что мечтает вести домашнее хозяйство и стать моей женой. Я был всего на семь лет старше ее. Когда мне исполнится тридцать, ей будет двадцать три. Нет ничего дурного в том, что двадцатипятилетний мужчина женится на восемнадцатилетней девушке. Мы грезили как дети, почти ничего не зная о нормальной семейной жизни. Эсме восхищалась моими проектами; она тихо сидела рядом, когда я, вооружившись угольником и логарифмической линейкой, работал над чертежом нового парового двигателя, в котором будут использоваться быстро разогревающиеся химические соединения, способные привести в действие легковой автомобиль. Естественно, она не могла уследить за математическими формулами, но сами символы очаровывали ее. В течение многих часов она смотрела на них, как кошка, ее взгляд не отрывался от моей ручки, когда я выводил на бумаге формулы.
Мы продолжали обедать в темных кафе на задворках. Эсме говорила, что хочет готовить для меня. Она называла разные турецкие и румынские блюда. Эсме высокомерно утверждала, что в ресторанах их не умеют приготовить как следует. До десяти лет она училась в благотворительной школе при женском монастыре. Одно время она собиралась стать монахиней. Потом положение ее отца ухудшилось. Турки больше не хотели нанимать христиан. И Эсме пришлось искать работу. Во время войны рабочих мест было немного. Она попыталась стать домашней работницей, как ее мать, но почти все наниматели, зажиточные греки или люди из иностранных посольств, покинули столицу. Прибывало все больше беженцев, и конкуренция стала очень высокой. Две ее подруги устроились на работу к миссис Унал. Они рассказали, что в борделе можно хорошо зарабатывать, если правильно выбирать время. Полагаю, Эсме оказалась настолько невинной, что миссис Унал прогнала ее. Даже в Пере и Галате существовали какие-то законы. Британцы прилагали все усилия, чтобы поддерживать порядок, но большая часть времени у англичан уходила на то, чтобы улаживать споры между различными группами союзников и мешать турецким полицейским требовать взятки. Эсме сказала, что она даже думала вернуться в Румынию и отыскать там родственников, но была единственной опорой своих родителей. Они, вероятно, скоро умрут. А пока ей следовало заботиться о них. Чтобы успокоить ее совесть, я уже пообещал им несколько шиллингов в неделю.
Записки от баронессы фон Рюкстуль становились все более истеричными. Эти невыносимые немцы хотели, чтобы она съехала. Маруся Верановна исчезла. Китти убита горем. Денег не осталось. Неужели я бросил ее? Я неохотно согласился встретиться с ней. В своей комнате в «Пера Паласе» я на самом деле наслаждался ее обществом. Я чувствовал, что вернулась непосредственность, исчезнувшая за время, проведенное с Эсме, ведь к маленькой девочке приходится относиться как к хрупкой игрушке. Леда стала изобретательно похотливой. Бесконечные фантазии и печали дали ей возможность изучить все формы вожделения. Я искренне сказал, что очень скучал по ней.
– Но ты же постоянно в Скутари, – заметила она. – У тебя там есть женщина?
Я успокоил ее:
– Все дело в том, что в Скутари живут влиятельные турки.
– Ты в самом деле шпион, Симка? Когда я сказала графу Синюткину, что ты был летчиком и служил в разведке, он решил, что ты, наверное, секретный агент.
– Все, что тебе нужно знать, любимая Леда, – это то, что я русский патриот. Я ненавижу Троцкого и его банду. Я действительно больше ничего не могу сказать.
– Так твоя работа опасна? Я очень эгоистична. Это просто от волнения. Я переживаю больше за Китти, чем за себя. Но и мне нужно найти работу.
Когда она ушла, я позволил себе роскошь: около часа понежился в ванне в одиночестве и попытался собраться с мыслями. Я действительно вел довольно опасную жизнь, хотя и не в том смысле, в каком предположила баронесса. Я работал, но мои сбережения почти иссякли. Вдобавок я обманывал сразу трех женщин и, что еще хуже, отклонился от намеченного жизненного плана. Мне следовало срочно придумать, как разрешить все эти трудности. Переодевшись, я спустился в бар и, к своему восторгу, увидел миссис Корнелиус. Она была в новом бледносинем платье из мягкого шелка и в темно-синей модной шляпе. Она ничуть не удивилась, заметив меня, но я, наверное, даже покраснел, когда она на меня посмотрела.
– ’ривет, Иван! – сказала она. Голос ее звучал сурово и неодобрительно. – Так ты п’слал мне вест’чку.
Я покачал головой:
– Я только что вернулся из Скутари. – Я стремился вернуть ее расположение. – Я работаю. Пытаюсь заработать немного денег, ремонтируя машины для турок.
– ’де ты был, черт поб’ри! Глупый маленький жулик. Если ты не п’т’ропишься, то п’п’дешь в беду. Я не смогу тьбе помочь.
– Вы уже сделали для меня гораздо больше, чем кто-то еще, дорогая миссис Корнелиус, – прочувствованно и в то же время с достоинством ответил я. – Если я вас здесь задерживаю, тогда вам лучше уехать одной. Я присоединюсь к вам, как только смогу.
– Ты о чем ’обще г’воришь? Не п’хож, шо ты с’бирашься в Лондон!
– Уверяю вас, собираюсь.
– Так п’чему ты нишо для это’о не делашь? – Даже когда ее глаза сверкали от раздражения, она была так очаровательна.
– Нам нужны документы. Бумаги о разводе, если понадобится…
– Развод! – Она разозлилась. – Я тьбе про эт писала в п’сленний раз. П’хоже, черт побери, нет никаких записей про наш брак. Я уж ’се выяснила. Чем, по-твоему, я занималась? Эт не мне надо волно’аться. Мне нишо не надо, кроме свидетельства о роженни, шоб доказать, шо я а’гличанка. И ведь ты не сам шо-то задумал? Кто? Эт’ черт’ва баронесса?
– Я зарабатывал деньги. Уверяю, это правда. В доках. Вы забываете, что я первоклассный механик.
– Первоклассный дрочила, точнее. – Она вздохнула. – Давай выпьем.
Я заказал анисовой.
– Я для тьбя ’се лучшее сделала, Иван. – Она вроде бы начала успокаиваться. – Но ты-т’ сам сьбе не помогать.
– У меня сложности в личной жизни, – признался я. Мне очень хотелось все ей рассказать, но она не дала мне времени.
– Личная жизь! Иван, у тьбя не бу’ет ника’ой черт’вой личной жизни, п’ка ты не приедешь в трижды проклятый Лондон! А для это’о надо попасть на корабль. У м’ня роман с адмиралом, ’от шо нам сейчас нужно!
– Но есть и еще кое-кто. Я встретил здесь родственницу. Сироту. Я хочу спасти и ее.
– Прекрати, Иван. Ты мне г’в’рил, шо ты единственный ребенок!
– Вы слышали об Эсме? Это ее единокровная сестра.
Миссис Корнелиус разозлилась.
– Избавься от нее, – сказала она решительно и твердо. – Как можно быстрее. Эт’ плохие новости, Иван. Брось ее. Ты сам знашь, шо тьбе делать. Но сделай эт’ немедля.
Я был возмущен:
– Это не какая-нибудь мелкая интрижка, миссис Корнелиус. Девочка мне очень помогла. И хочу откровенно вам сказать…
Миссис Корнелиус властно взмахнула рукой:
– Я ’се эт’ слыш’ла. – Другой рукой она подала официанту знак, чтобы он принес нам еще выпить. – Ты как заблудшая овца, Иван. Я изо ’сех сил за тьбя боролась – ’се’да с ка’ими‑то девками. Если б не я, было б ещо хужее. Ты п’губишь сьбя!
Эти слова показались мне просто ужасными.
– Выслушайте меня, миссис Корнелиус!
– Шоб ты выставил сьбя дураком? Уволь.
Мною овладел гнев. Я поблагодарил ее за выпивку и поднялся.
– Возьмись в руки! – прошипела она. Я понимал, что она имела в виду. Она очень заботилась обо мне. Если бы она познакомилась с Эсме, не стала бы говорить ничего подобного. А теперь миссис Корнелиус никак не могла остановиться. – Отделайся от нее, Иван! Каждый, черт возьми, за сьбя!
– Я за нее отвечаю. Она всего лишь ребенок. Ей тринадцать лет, миссис Корнелиус!
Она расслабилась и скривила блестящие губы:
– Не впутывай меня, Иван.
– Мы можем сказать, что она удочерена.
Миссис Корнелиус приказала официанту оставить оба стакана. Она открыла темно-синюю сумочку и заплатила ему. К тому времени я по-настоящему разозлился. Не сказав больше ни слова, я покинул бар.
Теперь я понимаю, что она заботилась в первую очередь обо мне, но тогда страсти помрачили мой разум. Я не мог расстаться с Эсме. Я начал думать, что миссис Корнелиус ревнует к моей маленькой девочке. Я шел по Гранд рю в безумном гневе, не замечая ветра и дождя. Я чувствовал, что меня подвели и не оценили по достоинству. Поскольку я больше не мог доверять миссис Корнелиус, мне приходилось рассчитывать только на собственные силы. Мне нужна была одна лишь Эсме. Я остановился и обнаружил, что забрел на турецкое кладбище. Оно оказалось самым странным из виденных мною, поскольку почти над каждой могилой стояли скульптуры в натуральную величину, некоторые из них были жизнеподобными, а другие – удивительно неестественными. Вот сапожник трудился за своим столом, вот пекарь пек хлеб, а совсем рядом человек, казалось, умирал на виселице – его тело искривилось, а лицо исказилось от невыразимых страданий. Такие удивительные памятники возвышались почти над каждой могилой, и я понял, что они изображали не только умерших, но и их занятия и обстоятельства смертей. Кладбище окружала древняя стена из желтого песчаника. Дождь не прекращался, но был довольно слабым. Стаи грачей с воплями носились по сумрачному небу. Чайки парили в вышине и жалобно кричали. Старый сад дышал, как умирающий человек. Я прошел по разбитым плитам к стене и увидел за ней шиферные крыши и деревья, которые гнулись на ветру. Листья уже облетели, и открылся вид на Босфор. Скрюченный турок в сбившейся набок феске и промокшем шерстяном пальто, полы которого едва не волочились по земле, шел по тропе внизу. Он остановился и, не замечая меня, начал мочиться у стены. Подумав, я осознал, что не смогу перенести расставания с миссис Корнелиус. Я прекрасно понимал, как далеко отступил от намеченной цели. Возможно, я никогда не смогу вернуться на изначальный путь.
Неужели мне придется выбирать между Эсме и моей судьбой? Многим мужчинам когда-то приходилось принимать такие ужасные решения. И все же, несомненно, Эсме была такой же частью моей жизни, как и технические изобретения. Она была моей музой и вдохновительницей. Миссис Корнелиус не станет долго сердиться на меня, она не злопамятна. В случае необходимости я сам доберусь до Англии. Сразу после прибытия я отыщу ее в Уайтчепеле. Собравшись с мыслями, я покинул кладбище и направился к Гранд рю.
Я с облегчением вернулся к своей восхитительной Эсме и позабыл обо всем. Мой проект парового автомобиля был почти готов. Я рассказывал в доках и мастерских об изобретении, которое может принести инвестору миллионы. Меньше чем через две недели я пообщался с заинтересованными лицами и почти заключил соглашение с мистером Шарьяном, армянским бизнесменом. Он предложил профинансировать опытный образец и собирался продавать первые автомобили в Париже. Затем мистер Шарьян был убит средь бела дня на Галатском мосту, и меня притащили в отделение полиции как подозреваемого. Я назвал свой адрес – «Пера Палас». Я сообщил, что есть люди, способные поручиться за меня. Среди прочих я упомянул майора Ная и графа Синюткина. Турецкие полицейские не обращали внимания на мои слова и уже собирались выставить меня убийцей, но, к счастью, британские стражи порядка оказались более осторожными. Я заявил, что моя жена, миссис Корнелиус, может подтвердить мои слова. Я почувствовал, что снова попал в какой-то кошмар, – ощущение было мне давно знакомо. Британский сержант допросил меня, пришлось ему все повторить. В моей темной камере железные кандалы были вбиты в покрытый плесенью камень, вероятно, эти мрачные стены возвели еще в Средние века. Через некоторое время сержант вернулся. Он сказал, что майора Ная вызвали в Лондон, а миссис Корнелиус уже покинула «Пера Палас» и села на поезд в Париж. Я перестал себя контролировать. Не помню, что я говорил, но уверен, что умолял сержанта о помощи и клялся, что не способен никого убить. Он пообещал мне сделать все возможное. Я никак не мог сосредоточиться. Сколько времени пройдет, прежде чем Эсме запаникует? Если она даст показания в мою защиту, это выдаст нашу тайну и приведет к ужасным затруднениям. Я представлял, какие пойдут сплетни, во что превратят мою чистую, благодетельную любовь к ней. Я чувствовал, что схожу с ума.
Шесть часов спустя власти освободили меня. Убийцу поймали. Это был черкес, которого опознали все свидетели, человек, который давно поссорился с мистером Шарьяном. Турецкие полицейские мне ничего не сказали. Только англичанин принес извинения.
– Вы, кажется, путешествовали с женой? Что ж, пошлите ей телеграмму и сообщите, что прибудете следующим поездом.
Опасаясь худшего, я помчался в «Токатлиан» и обнаружил там рыдающую Эсме. Она была убеждена, что я уже мертв. Вскоре она успокоилась и развеселилась, и я смог выбрать время, чтобы наведаться в «Пера Палас». В холле я поговорил с управляющим. Миссис Корнелиус действительно оставила адрес для корреспонденции: «Почтовое отделение на главной улице Уайтчепела, Восточный Лондон, Англия». С майором Наем можно было связаться через Военное министерство на Уайтхолле. А тем временем, сказал грек, лицемерно извиняясь, мой багаж вынесли из комнаты. Они с радостью возвратят вещи, как только получат арендную плату за месяц. В чемоданах остались почти все мои чертежи, одежда и полкило кокаина. Я принес деньги из «Токатлиана» и оказался практически без гроша. Чемоданы доставили в мои апартаменты два огромных сомалийца, которые обычно исполняли обязанности вечерних швейцаров. Чаевых я им не дал.
Той ночью я продал едва ли не последние драгоценности и повел Эсме в мюзик-холл. Я отчаянно пытался снова овладеть ситуацией. Когда рядом находилась Эсме, все остальное было неважно. Миссис Корнелиус вскоре приедет в Лондон, и я смогу ей написать. Ей гораздо легче будет добиться для меня разрешения на въезд в страну. Если посмотреть на происходящее под определенным углом зрения, могло даже показаться, что мое положение улучшилось.
С другой стороны, моя баронесса, которую я встретил на следующий день, становилась все безумнее. Волнение лишало ее привлекательности. Вместо того чтобы заниматься любовью, она предпочитала обсуждать свои проблемы. Она все еще не получила вестей из Берлина, от родни своего мужа. Ее немецкие хозяева считали, что она злоупотребляет их гостеприимством. Теперь, когда исчезла Маруся, Китти требовала больше внимания. Можно ли как-то заработать денег?
Я смог придумать не слишком много пристойных вариантов. Для таких, как баронесса, открывалось мало вакансий. Сам я старался скрывать источники доходов – в конце концов, я зарабатывал ничтожно мало и работал простым механиком. Конечно, я заверил баронессу, что постараюсь ей помочь и по-прежнему надеюсь: ей удастся добраться до Италии или Франции. Она слышала, что в Турции неизбежна настоящая гражданская война. Голоса националистов звучали все громче.
Положение султана становилось угрожающим – он чересчур охотно вел дела с британцами. Англичане, со своей стороны, арестовали слишком много людей по политическим мотивам и тем самым усилили напряженность. Позиции повстанцев укреплялись. Граф Синюткин, по словам Леды, предсказывал большие проблемы. Значительная часть турецкой армии отказывалась разоружаться. Бандиты-башибузуки во внутренних районах грабили деревни и села, убивая без разбора турок, греков и армян. Вскоре нападению мог подвергнуться и сам Константинополь.
Последнее показалось мне маловероятным. Я сказал Леде, что союзники смогут легко защитить город. Весь цивилизованный мир окажет помощь в случае необходимости. Несколько бандитов не представляют угрозы. Город на протяжении столетий сопротивлялся огромным полчищам врагов. Но Леда не успокаивалась.
– Все будет в точности как в России. Разве ты не видишь, Симка? Весь мир идет по тому же ужасному пути! Именно поэтому я переживаю за тебя. Я не хочу тебя потерять.
Я от души рассмеялся. Я сказал ей, что неуязвим. Как Леонардо, я перебирался из города в город, всегда угадывая направление ветра. И неважно, в каких обстоятельствах я оказывался, – мой гений умел отыскивать преимущества.
Она была настроена скептически:
– Но тогда почему же ты до сих пор здесь?
Я напомнил, что у меня есть обязательства. Кроме того, следовало учитывать воинственные настроения турок. Моя «Компания паровых автомобилей» уже почти начала работать, но мистер Шарьян погиб.
– Я найду другого мистера Шарьяна.
– О, Симка, это так постыдно! Ты заслуживаешь лучшего. Тебе нельзя унижаться перед армянами. Если бы у меня были деньги, ты никогда не попал бы в такое ужасное положение. Я как-нибудь найду работу и смогу содержать нас обоих. У меня способности к математике. Муж всегда восхищался тем, как я веду счета.
– Ты должна прежде всего подумать о себе и о Китти. Я всегда могу найти приличную работу.
– Я стала для тебя просто обузой. Неудивительно, что ты так редко видишься со мной.
– Не забудь, что в городе у меня есть дальние родственники. Один из них, кажется, умирает. И мое призвание, любимая Леда, как я всегда говорил, важнее всего прочего в моей жизни.
– Я слышала, миссис Корнелиус отправилась в Париж. Я не бросила бы своего мужа в таком затруднительном положении.
Я не хотел выслушивать эти мелкие упреки.
– Ты всегда знала, что наш брак был чисто номинальным. Миссис Корнелиус и раньше говорила о своих планах, и я настоял, чтобы она уехала.
Баронесса начала тихо всхлипывать:
– Я сомневалась в тебе. Мне очень жаль. Я не хочу стеснять твою свободу, Симка. Я не ревнива, хотя и не могу вынести разлуки с тобой.
Я подумал, что теперь ее требования куда меньше, чем в прошлый раз. Она стала реалисткой. Я снова ощутил прилив сочувствия к ней.
– На самом деле, любимая, миссис Корнелиус просила меня уехать с ней. – Я надеялся, что это приободрит Леду. – Она рассердилась, когда я отказался. Я сказал ей, что не могу бросить тебя.
Баронесса улыбалась и качала головой, вытирая слезы:
– Если б только это была правда.
Меня это обидело, но она, казалось, ничего не заметила. Я встал и оделся. В дешевой комнате, которую сдавали на всю ночь по особой цене, на деревянном полу не было ковра. Я почувствовал, что щепка вонзилась мне в ногу, и выругался. Я приоткрыл ставни, чтобы стало чуть светлее и я смог вытащить занозу. Снаружи собралась толпа. На плакатах виднелись надписи на арабском, и я не мог понять, чем возмущены эти люди. Леда прикрыла плечи грязной простыней.
– Не печалься. Тебе нужно позаботиться о себе. Я не питаю никаких иллюзий. Я почти на десять лет старше тебя.
Я опустил ногу на пол. Нежность и понимание внезапно вернулись. Я подошел к кровати, поцеловал Леду и пообещал, что вскоре снова с ней встречусь.
Однако на следующий день заболела Эсме. Озноб усиливался, возможно, у нее начался грипп, и доктор выписал дорогие лекарства. Я, как одержимый, ухаживал за своей малышкой, приносил ей лучшую еду из ресторана, брался за дополнительную работу в доках и продолжал поиски нового покровителя. Всякий раз, когда Эсме просыпалась, на ее крошечном личике, окруженном взмокшими от пота светлыми локонами, появлялась отважная улыбка. У меня снова не осталось времени на баронессу. Карточки, которые я заказал, были готовы: «Европейская и восточная компания паровых автомобилей». Я распространял их повсюду. На данном этапе я не видел никакого смысла забывать о турецких интересах. Паровые автомобили предназначены для всего мира. В конечном счете, разве важно, откуда взяты средства на их изготовление – с Востока или с Запада? Деньги лучше расходовать на автомобили, чем на оружие! Я тогда питал великое множество ложных надежд.
Эсме поправилась и оживилась. Я начал иногда встречаться с Ледой. Наступила весна. Мы с Эсме отправились на холмы. Мы ели имам-байялды под ароматными тутовыми деревьями, наблюдая за пасущимися козами и овцами. Солнце серебрилось на бледно-сером небе, и стены деревенских домов окрашивались в нежные сиреневые, розовые или желтые тона. Уже зацветали кустарники. Далекое море было спокойным. Почтенный приморский пригород Константинополя мало напоминал желтые улочки киевских предместий. Пейзаж казался более экзотичным, более мусульманским. И все же мое детство вернулось: то уверенное, эгоцентричное детство, когда я начинал осознавать свои необычайные силы и придавать форму своим мечтам. Эсме слушала меня так, как всегда слушала Эсме, и я описывал великолепное будущее. Она задыхалась от восторга. Она широко открывала глаза. Она ценила мой ум и предсказывала мне удивительную карьеру, представляя себя моей верной спутницей. Потом она окунулась в собственные фантазии. Она воображала дома, которые у нас будут, когда мы разбогатеем, высчитывала, сколько слуг мы наймем, и так далее. Она давала мне все, что я получал от первой Эсме. Но эту Эсме я тоже не считал простой заменой. Я потерял одну и не вынес бы потери другой. Я постоянно заботился о ней. Я хотел, чтобы она развлекалась, была здорова, получала любимую еду, одежду, безделушки, чтобы наши любовные ласки приходились ей по вкусу, даже когда мне что-то не нравилось. Я знал, насколько опасна чрезмерная забота, и пытался избежать этой опасности. Эсме понимала, как я ее люблю и как много она значит для меня. Она ценила мою заботу, настоящую отцовскую заботу.
Я постепенно привыкал к Константинополю. Со сменой времен года город как будто становился более волшебным. К тому времени у меня появились друзья в доках, знакомые инженеры на кораблях, которые регулярно заходили в городскую гавань. Я оказывал услуги многим эмигрантам, все еще населявшим Перу. Их становилось все больше, потому что Красная армия заставляла добровольцев отступать. Некоторые русские теперь сражались вместе с греками в Анатолии. Другие вступили в банды, которые использовали войну в своих интересах. Кое-где группы ренегатов поступали на службу к мелким вождям. Целый отряд казаков «Волчья голова»[91] помогал устанавливать новый режим в Китае. Другие отправились в Африку, чтобы присоединиться к Иностранным легионам в Испании и во Франции. Некоторые белые офицеры даже предложили свои услуги индонезийским пиратам. Они отвернулись от нашего дела. Очень многие русские наемники были почти детьми, они знали лишь одно дело – войну. И они скорее продали бы свои мечи исламу, чем согласились жить на христианскую милостыню. У союзников, занятых собственными политическими махинациями, просто не оставалось времени на то, чтобы помочь нашей русской армии воссоединиться. Генералы ежедневно уезжали в Америку, якобы для того, чтобы читать лекции об ужасах большевизма, но на самом деле к родственникам в Торонто и Майами. Баронессе фон Рюкстуль повезло. В апреле она устроилась секретаршей в «Византию». Мы встречались два раза в неделю в ее комнатушке на верхнем этаже старого отеля. Китти в эти вечера брала частные уроки у мадам Крон, работавшей в американской школе. Мы все еще говорили об отъезде. Баронесса продолжала хлопотать о берлинской визе, но мы оба считали, что нам повезло по сравнению с тысячами несчастных, вынужденных бродить возле гавани и Галатского моста, продавая иконы и меха ухмыляющимся солдатам и морякам.
Кабаре в некоторых кварталах Гранд рю стали практически русскими. Благородные князья и княгини, которые до войны разучили несколько народных танцев, теперь исполняли их для пьяниц под аккомпанемент расстроенных балалаек, а изгнанники-казаки по вечерам демонстрировали свое умение обращаться с пистолетами и кнутами. Графы давали уроки верховой езды. Графини преподавали рисование и музыку. Люди из высшего света стали третьесортной цирковой труппой, в которой насчитывалось полмиллиона нищих. Быть русским в Константинополе значило быть посмешищем. Все русские по возможности предпочитали не упоминать о своей национальности. В некоторых случаях я именовался поляком или чехом. Иногда позволял людям думать, что я британец, француз, даже американец. Точно так же баронесса тщательно поддерживала свой немецкий стиль, хотя иногда забывала про «баронессу» (поскольку у всех русских были титулы) и становилась фрау фон Рюкстуль. Из-за смуглой кожи меня часто принимали за армянина, и не всегда разумно было это отрицать. Еще в мастерской Саркиса Михайловича я выучил несколько фраз, в основном технических терминов, и они оказались мне полезными. Армяне – не евреи, что бы там ни говорили. Они были очень дружелюбны по отношению ко мне, и некоторые даже называли меня племянником Куюмджана. Они поручали мне все более сложные задания, почти всегда гарантируя полную оплату. Пять или шесть паровых двигателей, принадлежавших владельцам паромов, вскоре стали мне до боли знакомы. Я многое узнал о морских кораблях и в особенности о пароходах. При всякой возможности я экспериментировал, внося небольшие усовершенствования в свои автомобильные проекты.
Вечерами мы с Эсме нанимали экипаж с извозчиком. Мы катались по Стамбулу или путешествовали по небольшим белым прибрежным дорогам, вьющимся вокруг чистого бирюзового Босфора и Мраморного моря. Небо было удивительно синим – прежде я считал этот цвет лишь фантазией живописцев. Мы хорошо питались в ресторанах близ лесистых заливов и крошечных рыбацких портов. Слушая томную турецкую музыку, мы наблюдали закат на фоне невероятных пейзажей. Весенние туманы неярко светились, особенно на рассвете и в сумерках, и мы видели, как холмы Скутари и Стамбула дрожат в медно-красной дымке. Константинополь был опасным хищником, украшенным драгоценными камнями. Он мог очаровать вас своей красотой, а затем внезапно сбить с ног, чтобы высосать кровь и душу. Его чудеса были потенциально опасными. Я зарабатывал хорошие деньги, мне поклонялась юная невеста, у меня была преданная любовница. Но я никогда не забывал, что мое истинное призвание – в другом месте, на энергичном Западе.
Положение союзников становилось все более и более шатким. Переговоры о мире продолжались. Европа была разделена, ее будущее определяли победители. Византийский город стал для них проблемой. Мы все чаще слышали о Мустафе Кемале и его прихвостнях, националистах, действовавших в столице. Многие французские и итальянские военные думали, что Константинополь должен остаться турецким, а не греческим. Греки, заявляли они, это просто англичане в белых юбках. Одни только британцы оказывали подлинную поддержку греческому делу, снабжая войска боеприпасами и кораблями. Британцы считали себя истинными наследниками традиции Гомера; таким образом, помогая Греции, они поддерживали собственные притязания. Но было ошибкой сражаться за контроль над проливами, в то время как ислам и большевизм угрожали прибрать к рукам Кавказ и Анатолию. Вместе они сформировали бы Красную Орду, более безжалостную и эффективную, чем армии Тамерлана или Аттилы, и способную выступить против христианского мира. Нет ничего безумного в предсказании, которое говорит о том, что когда-то на нас двинется армия Антихриста. Союзники выбились из сил, они сражались и одержали победу, но завтра эта победа покажется ничтожной. Взрывались горы, из алого пламени выходили армии ада. В бой вступил самодовольный Карфаген. Цитадели цивилизации подвергались нападениям со всех сторон. Запад должен укрепиться, восстановить свои силы! Подлинный враг до сих пор жив! Он уже приближается!
Эти снисходительные молодые люди, бородатые, в клетчатых рубашках, приходят в магазин и пытаются повесить на мои окна плакаты лейбористской партии. Они понятия не имеют, от чего их спасли. Коммунисты и люди Востока – самые серьезные угрозы всему, что нам дорого на Западе. Те порядочные мужчины и женщины, которые голосовали за Адольфа Гитлера, понятия не имели, что голосуют за тиранию. Они надеялись сдержать распространение зла. Самая большая ошибка Гитлера состояла в том, что он заключил договор со Сталиным. Его рядовые последователи начали сомневаться и утратили веру в него. Третий рейх по-настоящему начал рушиться, когда утратил истинный боевой дух и лишился сторонников за границей. Некоторые невинные попали в беду и действительно несправедливо пострадали, но больше всего преувеличивают зло гитлеризма и мелодраматически рассуждают о холокосте те люди, которые думали, что могут обогатиться, эксплуатируя приютившие их страны. Я не политик. Даже в теперешних обстоятельствах я сохранил веру в порядочность и братство людей, в добрую волю и терпимость. В молодости мой идеализм был еще сильнее. Я полагал, что турки вполне разумны, что они будут признательны, если их оставят в покое в Анатолии. Я даже в чем-то сочувствовал их борьбе. Но моим доверием, как это часто случалось в жизни, злоупотребили.
В пятницу, 1 мая 1920 года, я пришел на обычную вечернюю встречу с баронессой. Нам недоставало прежней страсти, но наши любовные игры стали спокойными. Когда все закончилось, она налила мне рюмку польской водки, которую мы обычно называли бизоньей водой.
Пропитанная мускусом, слабо освещенная комната была переполнена вещами, включая множество фотографий самой баронессы, ее покойного мужа и Китти. Леда казалась необычно взволнованной и таинственной. Я лежал в кровати. Она принесла коробку засахаренных фиг и предложила их мне.
– В Турции я толстею, – сказала она. – Но, наверное, это лучше, чем жить на немецких клецках.
Я подумал, что она все-таки подыскала другого любовника. У нее был такой вид, какой женщины часто принимают в подобных обстоятельствах, – словно у них есть некая власть, некая тайная радость, будто они хотят успокоить слегка потревоженную совесть. Я погладил ее по лицу:
– С каждым днем ты становишься все красивее.
– Я хочу тебе кое-что сказать, Симка.
– Все ясно. Это граф Синюткин?
Она удивленно посмотрела на меня, а потом рассмеялась:
– О, ты думаешь, что все так же дурны, как ты сам! – Я уже привык прощать ей эти мелкие обиды. Если Леде нравилось считать меня бандитом и шарлатаном и таким образом сохранять некое подобие самоуважения, я не возражал. – Нет, у меня есть для тебя хорошие новости.
Я забеспокоился. Неужели она беременна? Я ведь старался соблюдать меры предосторожности. Я пытался вспомнить, когда и как это могло произойти.
– Я сказала «хорошие новости», Симка. – Она уселась на корточки, натирая кремом розовую грудь и живот, массируя шею и плечи. – Кажется, я нашла человека, который даст денег на твои изобретения.
Я успокоился и обрадовался. Какая мне разница, был ли этот человек ее любовником? Все, что мне от него требовалось, – это возможность воплотить в жизнь одну из моих идей. Тогда я сразу приобрел бы солидную репутацию.
– Кто он? Еще один твой богатый приятель-еврей?
– Я не знаю его имени. Но кое-что ты угадал. Он знакомый графа Синюткина.
Я не видел графа уже несколько недель. Проведя некоторое время в «Токатлиане», он просто исчез. Недавно пошли слухи о том, что царские офицеры уезжают на войну в Парагвай или в Аргентину, где уже находилось немало русских солдат. Я решил, что граф отправился в Южную Америку. Леда вытерла уголок рта.
– Я не очень много об этом знаю, но граф думает, что представилась прекрасная возможность. – По ее словам, через две недели Синюткин должен вернуться в Константинополь. Тогда он будет готов вести переговоры от имени своего покровителя. – Его интересует твой маленький самолет. Ты мог бы подготовить какие-то бумаги? Примерную смету? – Она нахмурилась, пытаясь вспомнить, что ей сказал Синюткин. – Размеры фабрики, необходимые инструменты, материалы и так далее. Он понимает, что ты не захочешь раскрывать все детали, но нужно как можно больше. Он абсолютно серьезен. Граф заверил меня, что он прежде всего человек слова.
Я этим удовлетворился, подумав о том, что удача как будто повернулась ко мне лицом, едва я отыскал Эсме. В моем сознании ее образ был навеки связан с моим маленьким самолетом.
– Все готово. Мне не трудно оплатить расходы. Я хорошо знаю людей на местных фабриках. Двигатели – вот основная статья затрат. Их можно изготовить сравнительно дешево, если будет большой заказ. Граф говорил о деньгах?
– Он сказал, что его покровитель не слишком расточителен, но заплатит хорошо.
– Этого вполне достаточно. – Я поцеловал ее. – Моя любимая, ты получила свой берлинский паспорт!
Мы отпраздновали это событие остатками водки и моим кокаином. Я вернулся в «Токатлиан» несколько позже обычного. Эсме спала, склонившись над учебником английского для начинающих, который я ей купил. Листки с письменными упражнениями, заполненные удивительно четким и ровным почерком (один из результатов монастырского обучения), рассыпались по полу. Я аккуратно поднял страницы и сложил их в стопку. Эсме что-то пробормотала во сне, когда я нежно поднял ее и уложил в кровать. Я решил: если мне предстоит вскорости покинуть Константинополь, нужно взять с собой и баронессу, и Китти. Конечно, будет трудно незаметно проникнуть в другую страну в обществе несовершеннолетней девочки. Школы Константинополя уже поставляли девочек во все европейские бордели. Чиновники могли бы предположить очевидное. Мужчина и женщина, путешествующие вместе с маленькой турецкой девочкой, компаньонкой их дочери, – с виду совершенно почтенное семейство. Кроме того, я теперь был многим обязан баронессе. Лежа в постели и держа Эсме в своих объятиях, я обдумывал все возникшие проблемы.
Баронесса недавно жаловалась, что Китти слишком долго оставалась в одиночестве – девочка не знала своих ровесниц. Леда боялась, что Китти заскучает и начнет бродить по улицам. Я уже думал о том, чтобы познакомить Китти с Эсме, так как моей девочке требовались благовоспитанные подруги. Я хотел представить Эсме как одну из дальних родственниц, о которых уже упоминал. Я скажу, что пообещал ее умирающему отцу позаботиться о ней. Может, баронесса по доброте душевной согласится присмотреть за Эсме? Я оплачу все расходы. Если Эсме решится на обман, план просто не может не сработать. За годы нищеты она привыкла ко лжи. Я объясню, что эта небольшая хитрость обеспечит ей европейский паспорт и в конечном счете приведет к нашему браку. Что еще важнее – когда у Эсме появится подруга для развлечений, мне станет гораздо легче. Как только начнется производство моих самолетов, придется надолго уезжать, причем часто. У меня оставалось две недели на то, чтобы воплотить замысел в жизнь. Это означало, что баронесса будет видеться со мной намного больше. Я не сомневался, что она обрадуется.
Со следующего дня все мои дела шли без сучка, без задоринки. Поверив, что вновь завоевала мое сердце, Леда стала счастливой и нежной. В течение недели мы строили планы предстоящего путешествия на Запад. Она сначала собиралась поехать в Берлин, а потом присоединиться ко мне в Лондоне. Теперь баронесса была уверена, что сможет найти работу. Больше всего ее беспокоила Китти. Именно тогда настал подходящий момент, чтобы рассказать о моей недавней встрече с бессарабским кузеном, который прожил в городе уже некоторое время. Он умирал от туберкулеза, и дни его были сочтены. У него на руках пять дочерей и племянница. Племянницу звали Эсме, чудесный ребенок. Девочка целыми днями бездельничала, и мой кузен опасался, что она могла легко сбиться с пути. Я развил эту тему, и баронесса едва не разрыдалась.
– Бедный ребенок. Ты с ней встречался? Как она выглядит?
Эсме была милым, застенчивым существом, с виду моложе своих лет, но без намека на дурной характер. Она слишком невинна для Перы.
– Я напишу твоему кузену, – сказала Леда. – Дай мне его адрес.
Дом, в котором он остановился, был весьма сомнительным, заметил я, так что ей придется положиться на меня. Я отнесу записку.
На следующее утро я сказал Эсме, что нужно делать. Баронесса – старая подруга, добрая женщина, очень любившая меня. Она когда-то была моей любовницей. Теперь эта женщина мне очень полезна, и я в свою очередь хочу помочь ей. Нам всем будет выгодно, если Эсме подружится с Китти. Эсме сочла этот обман замечательной безобидной игрой. Она тотчас согласилась. Тем вечером я вернулся к баронессе и принес записку, которую под диктовку написал один из моих нищих приятелей с побережья. С достойной старосветской элегантностью мой кузен сообщал, что с удовольствием разрешит своей подопечной навещать баронессу. Он был более чем признателен ей за заботу.
С тех пор я начал наслаждаться жизнью – раньше я никогда не испытывал ничего подобного. Ребенок, которого я возжелал на корабле, и девочка, которая теперь была моей любовницей, стали лучшими подругами, играли вместе, делили одни игрушки, ходили в парки, музеи и приличные кинотеатры со своими любящими опекунами. Разумеется, в присутствии девочек баронесса не проявляла своей страсти. Эсме и Китти обнаружили, что у них много общего, и языковой барьер скоро был преодолен. Все стало каким-то утешительно буржуазным, и мне показалось, что совершилась явная перемена к лучшему. Леда фон Рюкстуль даже несколько раз встречалась с моим кузеном. Больной кавалерийский офицер Благовещенский был готов на все за рубль-другой. Я оправдывал все эти представления тем, что баронесса уже назвала меня жуликом, и поэтому я не делал ничего неожиданного для нее. Кроме того, наш обман никому не причинял никакого вреда. Уговор оказался полезным для всех. Все, что от меня требовалось, – арендовать комнату около Галатской башни, продолжая сохранять в тайне номер в «Токатлиане». Я был приятно удивлен тем, как гладко все проходило, как успокоительно оказалось вести жизнь настоящего патриарха.
Прошел почти месяц, прежде чем граф Синюткин связался с нами. Мы с баронессой договорились встретиться с ним в ресторане под названием «Олимп» на Пти рю. Когда мы пришли, греческий бузучный оркестр играл до того громко, что мы не смогли поговорить как следует, пока музыканты не удалились. Пища здесь была жирной, и готовили ее не слишком хорошо, но граф объяснил, что сейчас ему хочется избежать встречи с определенными людьми. С нами он разговаривал очень тепло, с энтузиазмом. Я спросил графа, много ли он путешествовал, – выглядел он так, словно немало повидал в жизни. Он сказал, что его дела требовали довольно продолжительных поездок, но больше ничего не объяснил. Он хотел поговорить о моей работе.
– Я буду счастлив, если этот замысел удастся реализовать. Меня сразу поразила восхитительная простота вашей идеи.
Я сказал, что он льстит мне.
– Подождите, пока не увидите первую машину в воздухе!
Он буквально не мог усидеть на месте от нетерпения.
– Теперь уже скоро.
Его партнер не мог сейчас приехать в Константинополь, но он появится в Скутари в ближайшие недели. Если я составлю смету, мои расчеты немедленно передадут по назначению. Если все пройдет хорошо (а граф был уверен, что именно так и будет), я смогу надеяться на встречу со своими потенциальными покровителями и на подписание контракта. Я предположил, что граф представляет международную коммерческую корпорацию и поэтому ему нельзя афишировать свои связи. Мы провели остаток вечера вместе. Граф продемонстрировал глубокое понимание южнорусских проблем. Он прекрасно знал и Киев, и Одессу. Как выяснилось, граф встречался с Петлюрой, который, по его мнению, все еще действовал где-то на окраине.
– Храбрый человек, – заметил он, – и убежденный националист.
Мне не хотелось возражать графу. Я согласился, что Петлюра сражался за то, во что искренне верил. Я не видел смысла в изложении собственных воззрений. В Санкт-Петербурге граф Синюткин был радикалом. Он стал свидетелем последствий революции, и все-таки до сих пор верил в подобные вещи, далекие от его собственного повседневного опыта. Мы говорили о Коле, о посетителях «Приюта Арлекина» и «Алого танго». Граф сожалел, что люди вроде Мандельштама, Маяковского и Луначарского продолжали поддерживать Ленина.
– Но некоторые всегда будут цепляться за политическую идеологию так же крепко, как женщина цепляется за свою веру в никчемного мужчину. Они хотят, чтобы эти идеи были истинными, а что там на самом деле – неважно.
Я согласился. Можно было даже сказать, что он точно описал трагедию всех русских людей.
– Похоже, что религия стала для нас жизненно необходима, – сказал граф. – Другим так же нужен хлеб или секс. И, очевидно, не имеет значения, какую форму принимает эта религия.
Нас слегка развезло. Баронесса начала рассказывать о жизни на даче в Белоруссии и о маленькой сельской церкви, где она венчалась. Она описала священника, который вел у нее занятия в школе и мог часами рассказывать о Боге Всемилостивом.
– Мне так жаль, что Китти никогда не узнает настоящего русского детства. Нам всем так повезло! Мы думали, что так будет всегда.
– То же чувствовал и государь. – Граф Синюткин бросил в мою сторону сардонический взгляд. – Именно это и стало причиной нашего нынешнего положения, верно?
Баронесса, как обычно, отказалась говорить о политике. Она знала лишь одно: ее жизнь разрушили и забрали все, чем она дорожила.
– Теперь у меня есть только Китти. И, конечно, Симка.
В трезвом состоянии она не стала бы проявлять подобную сентиментальность. Граф из вежливости сделал вид, что ничего не заметил. Я был ему признателен. Леда находилась во взвинченном состоянии, она сообщила графу, что у нее теперь две дочери и она заботится о них, наслаждаясь взятой на себя ответственностью. После этого Синюткин извинился и встал. Он сообщил, что скоро свяжется с нами. Он поцеловал руку баронессы.
– А пока… – граф положил на стол маленький мешочек из кожи серны, – …от моего клиента. – Он поклонился и простился со мной:
– Всего доброго, господин Пятницкий.
Синюткин скрылся в толпе. Баронесса подняла кожаный кошелек:
– Это золото!
В моей маленькой комнате мы пересчитали монеты – внутри оказалось десять соверенов. Я отдал Леде пять:
– Твои комиссионные.
– Восхитительно, – сказала она, распуская завязки на панталонах. – Мы можем позаботиться о том, чтобы девочки в понедельник купили себе новые платья.
Чудесный семейный спектакль продолжался так успешно, что я рассчитывал на его долговечность. Если бы баронесса узнала о моей чувственной привязанности к Эсме и стерпела бы это, по крайней мере, закрыла бы на это глаза, – тогда нашему браку уже ничто не угрожало бы. Несколько раз я уже хотел намекнуть на истинное положение дел, но всякий раз сдерживался, опасаясь нарушить достигнутый статус-кво. Почти все ночи я проводил с Эсме в «Токатлиане», но вечера посвящал женщине, которую Эсме теперь называла тетей. Кроме того, я решил, что неблагоразумно рассказывать Эсме о моей продолжающейся связи с Ледой. Женская ревность уничтожила множество самых замечательных планов. Эсме нравилось обманывать Леду, но я сомневался, что в столь юном возрасте она оценит иронию того, что ее саму тоже обманывают.
Несколько дней спустя пришло сообщение от графа: увиденное произвело впечатление на его клиентов. Вскоре мы обсудим детали. Готов ли я совершить непродолжительное путешествие? Я ответил, что, если понадобится, я поеду на край света. Я встретился с графом в баре у фонтана Тифон. Он сказал, что его покровители не могут точно сообщить, когда посетят Скутари в следующий раз, поэтому мне следовало быть готовым к тому, что в любой момент придется без предупреждения отправиться на азиатский берег.
– Если им действительно понадобится мой самолет, я брошу все и приеду в любое время, днем или ночью.
– Они, судя по всему, появятся здесь недели через две.
– Вы пойдете вместе со мной на эту встречу, граф?
– Конечно. Будьте уверены, мой друг – человек чести.
Заподозрив, что его клиент – еврей, я счел нужным пояснить, что не страдаю от предрассудков и спокойно отношусь к чужим религиозным убеждениям. Так я укреплялся в своем заблуждении. Миссис Корнелиус часто говорила, что я сам – свой злейший враг. Я верил своим друзьям, я жил в радости и давал жить другим, я протягивал руку помощи, ожидая в случае необходимости того же самого, и из-за этого потерпел поражение. В течение многих лет я был готов излагать свои идеи всем, кто проявлял к ним интерес, А кто сегодня слышал о Пятницком? И ведь всем знакома история Лира. Люди дивятся глубине моих суждений. Мои замечания основаны на опыте. В моей ненависти к большевизму нет ничего отвлеченного. За эти идеи собственной жизнью заплатил человек, который прекрасно понимает, что такое жить под гнетом красных. Теперь я осознаю, что мне не следовало ссориться в Одессе с двоюродным братом, с Шурой. Во всем была виновата девчонка. Из-за этого прервалось мое обучение – слишком рано, слишком рано… Если бы я тогда остался в городе, то получил бы необходимое предостережение. Катакомбы Одессы все еще отзываются эхом на зов несвершившегося будущего, призраки все еще шагают поступью Робеспьера. Где-то в небе над куполом собора Святого Николая летит одинокий аэроплан, изящная машина, в кабине которой сидит молодой человек. Его силуэт четко виден в сиянии желтых солнечных лучей, он мчится над городом спящих коз, над городом Одиссея. Он смотрит сверху на улицы, которые рассыпаются на части, на здания, которые никто не может восстановить, на страшных нищих, стоящих в грязи и молящих о хлебе, которого им никогда не подают. Юноша оплакивает их, и по его щекам текут серебристые слезы. Люди мчатся вперед. Они пытаются поймать блестящие капли. Они ссорятся, они убивают друг друга ради серебряных иллюзий. Юноша перестает плакать. И его смех превращается в безумный, когда авиатор поднимается ввысь, туда, где небо становится черным, и затем он исчезает за горизонтом. Одесса, город жадности, город реальности. Город того, что могло бы быть. В Аркадии жил еврей, который держал меня за руку. Он знал, почему его соплеменники вложили мне в живот кусок металла. Они заставили меня кричать. Герников истекает кровью, в глазах его – боль и сомнения. Es tut sehr weh[92]. Они заставили нас встать на колени в снегу. Они бичевали нас своими кнутами. Бродманн приказывал им. Они опутали нас сетями из колючей проволоки и повесили нас над кострами, как рыб, а их собаки, высунув красные языки, сидели рядом и ждали, когда мясо будет готово. Я надеялся, что они отпустят меня. Я доверил им свою жизнь. Я сказал им правду. Но в те дни я еще не мог знать, в чем она. Как человек может доказать, что он достоин спасения? Той ночью, в пустынном краю, я молился звездам, потому что думал: они могли оказаться ангелами, которые спасут меня. Я никому не причинил зла. Разве любовь – это зло? Я никого не предавал. Они сами выдали себя. Это не преступление. Я говорил им: «Это не преступление!» И все же они отвернулись от меня. Пусть они узнают, что такое подлинное страдание. Пусть скитаются, как скитался я. Пусть умоляют о смерти. Бродманн был негодяем. Жизнь ради жизни ничего не стоит. В конце концов, человеческое достоинство – единственное, на что нам остается надеяться. Но даже его обычно не удается сохранить. Им нужна разумная причина для того, чтобы поступать с вами именно так. Они лишают человека чувства собственного достоинства, если могут. Планета вертится. Мы слишком малы. Я люблю Вселенную и все ее чудеса. Я не просил награды. Я лишь хотел насладиться тем даром, который достался мне от Бога. Я ведь не лучше и не хуже Герникова? Я ведь не хуже других? Я мог бы стать почтенным человеком, у которого красивая жена и две прекрасные дочери, человеком, который по воскресеньям выходит подышать воздухом на Гранд Шан. Я мог бы стать тем биржевым маклером в сюртуке и цилиндре, который смотрит, как его дети крутят обручи у пруда в Кенсингтонском саду, или прогуливается с женой по Центральному парку. У меня могло быть все – имя, репутация, семья, почет. Но чтобы добиться этого, мне пришлось бы позабыть о доверии к ближним. Цена, я думаю, оказалась бы слишком высока.
Несколько недель спустя после моей первой встречи с графом я получил от баронессы сообщение: мне следовало сесть на трехчасовой паром в Скутари. Граф Синюткин встретит меня там. Я тотчас отправился к Эсме и, обняв ее, попросил хорошо себя вести. Я вернусь самое позднее следующим утром. Я оставил ей немного денег. Она поднялась на цыпочки, обхватила мою шею тонкими ручками и поцеловала.
– Ты будешь великим человеком, – сказала она по-русски.
Ее любовь и вера укрепили мои силы, и я с легким сердцем отправился в путь, задержавшись только для того, чтобы проститься с баронессой. Я уверил ее, что не забуду об осторожности. Леда сказала, что полностью доверяет графу, но мне следует получше изучить его друзей, прежде чем отвечать им согласием. Я обещал ей, что буду предельно осмотрителен.
Я прошел по Галатскому мосту и в два сорок пять сел на первый паром до Скутари. Заплатив несколько медяков, я устроился в мягком кресле и осмотрел с моря чудесную панораму всех трех огромных городов, из которых состоит Константинополь. Солнце висело высоко в небе. Купола мечетей были озарены светом. Всюду, куда устремлялся мой взгляд, виднелись различные оттенки зелени или синевы и белые мерцающие блики. В воздухе смешивались запахи морской воды и специй, цветов и кофе. Вполне возможно, думалось мне, что я вернусь в Перу богатым человеком. Мир очень скоро услышит о моих достижениях. Мне не придется бежать из города подобно преступнику. Я прибуду в Лондон или в Париж настоящей знаменитостью: Пятницкий, создатель летающей пехоты. Пятницкий, изобретатель дешевого парового автомобиля. Пятницкий, творец воздушных лайнеров и домашних роботов. Все позабудут Эдисона. Он создавал игрушки, а я собирался создать целую цивилизацию!
Как будет гордиться мною миссис Корнелиус, когда прослышит о моей известности! Я мог уже представить, как она читает новости в «Дейли мэйл» и рассказывает соседям, что когда-то мы были женаты. Я путешествовал бы по всему миру со своими прекрасными женщинами: великий патриарх, хранитель древней русской традиции и все-таки современный человек и человек будущего. И все начнется именно здесь.
Так изменится центр Старого Света – он станет центром нового.
И перед моим мысленным взором возникала величественная картина: Парсифаль простирает руки к чаше Грааля.
Глава восьмая
Время от времени меня слепили отраженные от воды лучи солнечного света, оглушал говор каких-то дервишей в конических шляпах и одежде цвета грязи, толпившихся на носу парома. Я потел в своем европейском костюме и прилагал все усилия, чтобы дышать не слишком глубоко, – от торговцев ослами и шелком, которые заполонили почти весь корабль, очень сильно воняло. Я обратил взгляд к азиатскому берегу. В Скутари очертания Карфагена были различимы куда явственнее, чем в Стамбуле. В Скутари не осталось почти ничего от Греции и Рима. Здесь находились кладбища турок, которые хотели обрести покой в восточной земле. Некоторые надгробные памятники были столь грандиозны, что могли соперничать с огромными мечетями, также возведенными в память об умерших родственниках разных султанов и султанш. Здесь почти не было той нищеты и убожества, которые проявлялись в других частях Константинополя. Скутари выглядел более спокойным и изящным. Отсюда город казался куда больше, чем со стороны Золотого Рога или Мраморного моря, дома и склады были на удивление хорошо отремонтированы. Скутари завоевали задолго до того, как пал европейский город, и поэтому турки уделяли этому месту особое внимание. Неподалеку отсюда Ганнибал, опозоренный и побежденный, изгнанный безжалостной родиной, искал защиты у добросердечного грека, Прусия, царя Вифинии, и здесь Ганнибал, охваченный ужасом, взятый в плен Сципионом Африканским, выпил отвар болиголова и умер. Подобно Риму и Стамбулу, Скутари также был построен на семи холмах, но ему недоставало плотности. Очень много места занимала растительность, среди листвы виднелись купола, башенки, минареты и крыши.
Этот город был красивым – и сонным. Здесь располагались виллы оттоманских сановников и аристократов, с бассейнами, фонтанами и прохладными галереями. Богачи чувствовали себя в безопасности, зная, что поблизости размещены основные вооруженные силы Турции. И сейчас из крепостей и с блокпостов доносились отдаленные звуки горнов, топот ног и громкие команды. Небольшой паром подошел к причалу близ широкой оживленной площади, по которой как попало передвигались лошади, экипажи, автомобили и телеги. Итальянские полицейские равнодушно наблюдали за происходящим. Дервиши всей толпой сошли на берег, пересекли площадь и вскоре скрылись за рыночными палатками. В конце концов я спустился по деревянному трапу и начал озираться по сторонам, надеясь обнаружить графа Синюткина.
На самой площади располагались обычные побеленные турецкие кафе, офисы различных судоходных агентств, несколько банков и контор. От площади расходились узкие мощеные улицы, уводившие вверх, с увитыми виноградными лозами и плющом желтыми и красными зданиями по бокам. Высокие платаны роняли тень на крыши, повсюду виднелись решетки, служившие подпорками для душистых растений. Казалось, здесь было гораздо теплее. Я снял шляпу, вынул носовой платок и вытер лоб, думая, не обманул ли меня граф. Наконец среди множества ослов, лошадей и телег появился старый седан «де дион бутон». Сначала я подумал, что это армейский транспорт, потому что на шофере были красная феска и элегантный серый мундир, но потом я заметил знакомое лицо со шрамом – граф сидел на заднем сиденье. Он взмахнул рукой, выскочил из автомобиля и подбежал ко мне, экспансивно пожав мою руку и извинившись за то, что опоздал и не смог встретить меня вовремя. Мужчины и женщины вокруг нас носили по темным улицам огромные узлы или втаскивали похожие друг на друга грузы на паромы. Небо за рядами зданий было бледно-синим, и воздух казался неподвижным, несмотря на столь значительное волнение, царившее на площади. Граф передал мою сумку водителю и вежливо остановился у машины, ожидая, пока я усядусь. Внутри машина оказалась просторной, удобной и практичной. Автомобиль, по словам графа, предоставил его партнер. Усевшись рядом, мы выехали с площади и вскоре уже катились между решетчатыми стенами и заборами из кованого железа, за которыми я мог разглядеть большие низкие особняки богачей. Дорога шла то вверх, то вниз, извиваясь среди больших скоплений деревьев, могил и белых мраморных памятников, ресторанных навесов – под ними зажиточные турки бездельничали и курили на ярком солнце, как будто войны, восстания, дворцовые перевороты никогда не нарушали их однообразного спокойствия. Потом белые дороги стали более пыльными, а стены – более низкими. Мне открывались лужайки и сады, блестящие мозаики, украшавшие великолепные виллы. Воздух был пропитан ароматами цветущих кустов и трав, заполнен звуками воды, которая плескалась в фонтанах во внутренних двориках. Именно в Скутари удалялись богачи, если хотели спрятаться как можно дальше от грязи и шума повседневной жизни. Дальше виллы стояли уже не так тесно, я даже заметил нечто похожее на сельский дом, возле которого паслось стадо коз. Я сказал, что, по моим предположениям, мы должны были встретиться с партнером Синюткина в самом Скутари. Граф покачал головой:
– В Скутари мы, европейцы, привлекаем к себе слишком много внимания. Он решил, что лучше всего нам встретиться в более уединенном месте.
Я спросил, не в загородный ли дом мы едем. Граф Синюткин улыбнулся и предложил мне расслабиться и наслаждаться путешествием.
– Вам предоставляется наилучшая возможность увидеть подлинную Турцию. Я теперь многое понял и начал с большим сочувствием относиться к тому, что происходит в турецкой политике.
Мне было нелегко, я нервничал: мы ехали по обычной сельской местности, а я не имел ни малейшего представления о конечном пункте нашего путешествия. Дорога ухудшилась, автомобиль качался и подпрыгивал на кочках. Я не хотел быть невежливым, но у меня едва не сорвалось с языка, что я не желаю испытывать какое-то там сочувствие к служителям ислама.
– А когда мы возвратимся в Константинополь? – спросил я.
– Довольно скоро. Через день или около того. Может, задержимся чуть дольше.
Я испугался, хотя изо всех сил старался этого не показывать.
– Не ожидал, что не смогу вернуться к ночи, – сказал я. – Полагаю, можно будет послать телеграмму в Перу. Понимаете, там будут волноваться обо мне.
Я не хотел, чтобы баронесса или Эсме забеспокоились и нарушили мои планы. Нельзя предсказать, что случится, если мое отсутствие продлится больше двадцати четырех часов.
– Конечно. – Синюткин потрепал меня по руке. – Напишите записку. Я прослежу, чтобы ее передали.
От холмов, поросших густым лесом, исходил тяжелый, влажный аромат, который показался мне успокоительным. Постепенно я опомнился:
– А ваш покровитель – он, случаем, не инвалид? – Я удивлялся, почему он не мог приехать в Скутари. – Автомобиль дорогой. Армянин, да? Или богатый грек?
Синюткин рассмеялся, как будто я удачно пошутил. Автомобиль выехал из леса, свернул и начал подниматься по еще более крутому склону. Мы достигли вершины. Внизу простиралась прекрасная долина с небольшими озерами, реками, виноградниками и рощами плодовых деревьев. На противоположной стороне долины виднелась большая гора, ее вершину до сих пор покрывали снега. Долина, возможно, сохранилась еще с греческих времен – затерянная земля, не тронутая временем, не испорченная современной промышленностью.
– Это гора Олимп[93], – сказал граф, как будто подтверждая мои фантазии. – По крайней мере, так думали первые греческие колонисты. Ваши новые деловые партнеры живут в нижней части склона этой горы. Я знаю, что вы считаете их турками. Но это не прежние турки. Вы с ними поймете друг друга. Они прогрессивнее большинства русских.
Как мне показалось, эти слова свидетельствовали скорее об оптимизме, чем о здравомыслии графа, но я оставил свои мысли при себе. У меня вызывало сомнения словосочетание «прогрессивный турок», но хоть какой-то покровитель – это гораздо лучше, чем никакого. Пока турки не собирались использовать мои проекты для поддержки большевиков, я был готов иметь с ними дело. Я не мог представить, с кем турки пожелают воевать теперь – разве что с теми, кого они преследовали всегда.
Стало гораздо жарче. Спускаясь, мы не раз теряли долину из виду. Через некоторое время я окончательно перестал понимать, где мы находимся. Дорога тянулась по небольшим каньонам и лесам, минуя крошечные фермы и плантации и приближаясь к Олимпу, который турки, по словам графа, называли горой Булгурлу. Тут и там виднелись остатки мрачных крепостей крестоносцев, мавританских замков, греческих и римских колоннад. Казалось, вся история региона разворачивалась перед нами, среди этих восхитительных развалин. Этот пейзаж заставил меня позабыть о подозрениях и расслабиться. Без сомнения, мне открылся один из прекраснейших в мире видов. Солнце заходило где-то позади. Автомобиль свернул на другую извилистую дорогу, которая внезапно превратилась в лесную тропу; мотор взревел, и наконец мы выехали на крутой склон, усыпанный гравием. Мы добрались до места – круглой площадки перед эффектной старинной виллой. Дом выглядел так, будто в нем в течение некоторого времени никто не жил. Я, однако, уже настолько привык к небрежности, с которой турки, даже высшего сословия, относились к ремонту и благоустройству, что не мог решить, правильно ли мое впечатление. Вилла казалась скорее неаполитанской, чем турецкой, но на окнах виднелись привычные решетки со сложными геометрическими узорами. Я увидел длинные белые балконы с перилами из кованого железа, мозаичные террасы, фонтан, выложенный синей плиткой, тонкие столбы. Я уже почти ожидал, что нубиец в экзотичном тюрбане скажет нам «Салам!» и распахнет дверь автомобиля. В действительности это сделал шофер, жестом указав нам дорогу, потом появился совершенно обычный босоногий слуга в феске, мешковатых белых брюках и безрукавке. Он сбежал по главной лестнице и заговорил по-турецки с графом Синюткиным, который сразу его понял. Он сказал, что нам нужно подняться на первую террасу. Там, под шелковым тентом, мы увидели сервированный стол. Взглянув на меня, слуга что-то спросил по-французски с сильным акцентом.
– Вы будете мастику?[94] – спросил граф. – Боюсь, это мусульманский дом. Может, чай, кофе или лимонад?
Я согласился на мастику, и мы сели.
Дом окружали высокие деревья, но сквозь заросли тут и там можно было разглядеть горные склоны и океанскую гладь.
– Именно здесь византийские императоры строили свои охотничьи виллы, – сказал граф Синюткин. – Отсюда, как принято считать, открывается самый лучший вид.
Слуга принес на подносе кувшин со льдом и водой. Граф Синюткин плеснул в стакан немного мастики, затем налил воды до краев. Я подержал напиток на свету, оценил его переливчатый цвет, затем вдохнул сладкий аромат. В тяжелом воздухе разнесся запах роз, жасмина и фуксии. Небо потемнело и стало зеленовато-синим. Меня уже переполняло удивительное чувство блаженства. С трудом сопротивляясь ему, я попытался сосредоточиться и напомнил графу о его обещании послать телеграмму.
– Дайте мне записку, – сказал он, тотчас поднявшись.
Я взял свой бювар и написал «мадемуазель Эсме Лукьяновой», указав наш номер в «Токатлиане». Я попросил ее не волноваться за меня, отыскать баронессу, если ей понадобится общество, но сохранять осторожность. Все хорошо. Я увижусь с ней через несколько дней. Я вспомнил, как она плакала раньше, когда я уходил совсем ненадолго. Ничего лучше телеграммы я так и не смог придумать, хотя меня беспокоило, что Синюткину теперь известно больше о моей частной жизни.
– Леди? – Он приподнял бровь.
Мне пришлось объяснить, что девушка находится под моей опекой. Я опасался, что Леда каким-то образом узнает о присутствии Эсме в «Токатлиане» и после этого усомнится во всей моей истории. Но я сделал все, что мог. Я взмахнул рукой:
– Семейные дела. Буду очень обязан, если вы не станете упоминать об этой телеграмме при следующей встрече с баронессой.
– Мой дорогой друг! Разумеется! – с иронией произнес граф Синюткин. – Я немедленно выброшу это из головы. Слуга передаст сообщение до ужина.
– Я поначалу подумал, что здесь есть частное радио. Владелец этой виллы, очевидно, очень богат.
– Он происходит из старинного рода. – Граф Синюткин склонил голову, прежде чем подняться по короткой лестнице в дом. – Сейчас я этим займусь.
Я откинулся на спинку дивана, упиваясь восхитительным спокойствием этого волшебного сада. Птичьи голоса сливались в вечернем хоре, фонтаны пели, воздух переполняли удивительные ароматы. Я надеялся вскоре приобрести похожую виллу в награду за все свои мучения. Выбрав момент, когда на меня никто не смотрел, я быстро вдохнул немного кокаина из своей маленькой серебряной коробочки и пришел в наилучшее расположение духа. Все, что мне требовалось, – чубук для курения, несколько прекрасных маленьких обитательниц гарема для нежных игр, и я был бы счастлив, как какой-то султан. Я впервые столкнулся с тем, как обитатели Востока ублажают своих гостей, опьяняя их экзотическими впечатлениями и не используя таких грубых средств, как вино. Все-таки я не мог ни в чем заподозрить Синюткина. Он был другом Коли. Человеком с безупречным прошлым. Христианином. Он никогда не предал бы меня мусульманам.
Граф возвратился с невысоким седобородым человеком в облачении турецкого бимбаши – серьезные голубые глаза смотрели на меня, лицо мужчины было немногим темнее моего, хотя и более загорелым. Он пожал мне руку и произнес формальное приветствие на хорошем, чистом русском языке:
– Я майор Хакир, мсье Пьят.
Граф сказал:
– Майор Хакир представляет друга, который не может находиться здесь.
Меня неоднократно обвиняли в самых разных вещах, но глупцом не назвал бы никто. Но могу согласиться с тем, что иногда я бывал чрезмерно доверчив или наивен. Мне очень быстро стало ясно, что радикализм графа не угас после свержения Керенского. Синюткин просто посвятил себя другому делу – делу кемалистов. Теперь, конечно, стали понятны все его предшествующие расспросы. И мои ответы, которые были всего лишь данью вежливости, убедили графа, что я разделяю его взгляды. Естественно, я встревожился, но не осмелился это показать. Я спасся от одной ужасной гражданской войны. Я едва уцелел в плену у украинских бандитов. Я пережил пытку, тюрьму, покушения на убийство. Конечно, я не имел ни малейшего желания снова подвергаться таким опасностям, особенно в Турции, я даже языка здешнего не знал. И поэтому я счел первейшей своей обязанностью всячески ублажить этих людей, а потом бежать как можно скорее. Как я ненавижу радикалов и их продуманные заговоры, презренные хитрости людей, готовых на любую низость во имя дела, которое они ценят превыше всего! И все-таки, если мне предстояло еще раз позаботиться о спасении собственной жизни, я должен был обуздать все проявления гнева, я должен был кланяться и улыбаться турецкому майору, притворяться расслабленным и спокойным.
Бимбаши Хакир говорил медленно, с равнодушной притворной любезностью, типичной для османов:
– По словам графа Синюткина, вы согласились помочь нам. Мы очень признательны. – Он подал знак слуге, который налил ему мастики. – Некоторые горячие головы в нашем движении хотят обратиться за поддержкой к большевикам. Но мы здесь ведем иную битву. Мы не хотим решать исторические и религиозные проблемы. Мы просто считаем, что необходимы определенные практические реформы. Так сказать, чистка конюшен. Вы можете оказать нам огромную помощь, мсье Пятницкий. Мы должны убедить пробольшевистскую фракцию, что можно добиться прогресса, не разрушая до основания всего нашего наследия. Вы, как я понимаю, разделяете мое мнение.
Его бледные глаза смотрели прямо на меня. Он поднял стакан и сделал глоток. Хакир внешне напоминал мне султана Абдул-Хамида в расцвете лет. У него был тот же пристальный, немигающий, почти птичий взгляд, всегда устремленный прямо на собеседника. Я пролепетал какие-то глупые цветистые фразы. Услышанное удовлетворило майора, и он улыбнулся. Этим эгоцентричным революционерам требовалось только одно – чтобы собеседник подтвердил их убогие заблуждения.
– Надеюсь, вы будете моим гостем сегодня вечером. Утром мы вместе отправимся в путь. Как вы можете догадаться, – он сделал жест, который показался мне бессмысленным, но майору, очевидно, очень нравился, – я в некотором роде рискую, живя в собственном доме!
Что мне оставалось? Я пришел в ярость! Став жертвой обмана, я попал в змеиное гнездо и теперь должен был шипеть, извиваться и казаться таким же, как они, чтобы змеи не набросились на меня все разом. Я решил взять у турка как можно больше золота, дать ему самую примитивную модель своего изобретения и при первой же возможности сообщить властям обо всем, что мне станет известно. Теперь, однако, важнее всего было выждать и заставить их поверить в то, что я искренне сочувствую делу. Другой на моем месте мог бы потерять самообладание, обнаружив, что попал в руки старых врагов, но мне удалось сдержать эмоции. Я внимал бимбаши, изображая восторг. Ни он, ни Синюткин, которого я теперь считал предателем своего народа, своей веры и своего класса, ни на мгновение не догадались о моих глубоко скрытых чувствах. Пусть отправляются на виселицу, подумал я. Получив важную информацию о кемалистах, я мог с легкостью подобраться к англичанам и таким образом раздобыть для себя и Эсме английские паспорта. Кроме того, в Англии я буду недосягаем для мстительных османов. Мой долг – все выяснить. Пока Синюткин и Хакир говорили о коррупции при дворе султана и о махинациях союзников, я улыбался и изображал энтузиазм. Вскоре после заката мы перешли в просторную комнату, увешанную дорогими шелками и гобеленами, уставленную низкими диванами и роскошными резными столами. Мы поужинали – признаюсь, превосходно, хотя пища и была довольно простой. Бимбаши оказался одним из тех турок, которые гордились элегантностью и аскетизмом (одно из основных свойств исламского фанатика) и ни на секунду не задумывались о несчастных порабощенных народах, трудами которых эти удобства создавались.
Мы разошлись довольно рано, со взаимными уверениями в дружбе и согласии. Я долго лежал в комнате, полной мавританских арок и ширм, и, пока легкий ветерок шевелил москитную сетку над кроватью, разглядывал сводчатый потолок, тонкие узоры на котором освещали висевшие на цепях медные лампы. Я тщательно обдумывал свое положение. Я мог бы встать ночью и украсть автомобиль, но, не имея водительского опыта, обладая лишь самым общим представлением о том, где мы находимся, не зная даже, сколько бензина в баке, решил не рисковать и отложить этот план, годившийся лишь для чрезвычайной ситуации. Я снова подумал о проблемах, связанных с Эсме и баронессой, и беспрестанно размышлял о предательстве Синюткина. Он, вероятно, сошел с ума, ведь он изменил своей древней крови. Он был одним из тех людей, которые поддерживали без разбора все революционные движения, – новый Бакунин, прятавший извращенную черную душу под очаровательной аристократической внешней оболочкой. Когда я вернусь в Константинополь, разоблачу его с особым удовольствием. Становилось все яснее, что после революции в мире появилось множество скрытых оппортунистов, похожих на графа, но это было мое первое столкновение с подобными людьми за пределами России. В дальнейшем я стал гораздо осторожнее. Такие, как Синюткин, получают извращенное удовольствие, предавая людей, которые доверяют им больше всего, они – готовые агенты тирании. Именно они позднее уговаривали друзей возвращаться в сталинскую Россию на верную смерть, они становились журналистами в эмигрантских газетах и раскрывали секреты несчастных, пытавшихся помогать друзьям или родственникам, все еще пойманным в ловушку в так называемом Союзе Советов, – а потом ловко передавали информацию в ЧК. Они были готовы к самому презренному лицемерию, лишь бы осуществить безумную мечту Троцкого о мировой революции. Разумеется, почти неизбежно и сами эти люди становились жертвами предательства. Наверное, Синюткина убили, причем скорее всего по прямому приказу НКВД. Такие, как он, наносили делу мира куда больше ущерба, чем все враждующие армии. Цели турецких мятежников были, по крайней мере, понятны, хотя едва ли разумны. А вот подобные Синюткину и по сей день остаются для меня загадкой.
На следующее утро, к моему ужасу, предатель уехал. Он отговорился необходимостью поддерживать контакт с французскими торговцами оружием в Скутари. Я подозревал, что на самом деле он просто не мог смотреть мне в глаза. Мне оставалось только надеяться, что он отправил мою телеграмму, как обещал. Теперь я оказался в полной власти невысокого седобородого бимбаши. Хакир был, как всегда, равнодушен и вежлив. Думаю, он так никогда и не понял, что Синюткин меня обманул.
Он относился ко мне без всяких подозрений, как к обычному заговорщику, хотя и оставался очень сдержанным. Как христианин и русский, я по-прежнему был его древним кровным врагом. Я решил общаться с ним по-дружески, пока это необходимо. Я хорошо знал их революционные повадки. Я мог так же, как сам Ленин, сотрясать воздух, рассуждая о самоопределении и всеобщей справедливости. Мы легко позавтракали, а затем покинули виллу Хакира и уселись в «де дион бутон». Шофер поехал по другой дороге, и мне удалось разглядеть далекий Константинополь, его башни и крыши, сверкавшие среди утреннего морского тумана. Потом мы двинулись в глубь страны, оставляя позади пышные сонные прелести холмов и неуклонно приближаясь к бесплодным, пропитанным кровью плато, на которых примитивные орды османов вновь стали собираться, чтобы со свирепой ревностью начать новый поход против Христа, цивилизации и благородных, добрых греков.
С каждым часом земля становилась все беднее. Леса исчезли, и лишь редкие заросли бананов и тополиные рощи близ маленьких речушек вносили разнообразие в унылый пейзаж. Иногда дорога вела вдоль железнодорожных путей, подчас она проходила мимо скопищ пыльных зданий, выстроенных вокруг ничтожных площадей с неизбежными мечетями, иногда с фонтанами и полицейскими будками. Мы проезжали мимо бедных фермеров с тяжело груженными ослами (или, еще чаще, женами), повстречали два или три британских армейских грузовика, машины под флагами Франции, Италии и Великобритании – из них на нас смотрели белые суровые лица. Я надеялся, что нас может остановить полиция, но чем глубже мы въезжали в Анатолию, тем меньше европейцев нам попадалось. Сначала у полицейских постов были и итальянские, и турецкие офицеры, позже я видел только турок. Мимо проехали турецкие кавалеристы под знаменем султана. Мой спутник нахмурился:
– Думают, что они патриоты. А на деле поддерживают самого худшего врага Турции.
Я задумался о том, принимал ли этот бимбаши участие в недавних попытках убийства правящего султана, который, по моему мнению, мыслил реалистичнее большинства своих предшественников. Время от времени Хакира приветствовали полицейские, которые, казалось, узнавали его, и я понял, что должен сохранять осторожность. По внешнему виду никак нельзя было догадаться, кто здесь кемалист, а кто нет.
Мы остановились только однажды, в сельском доме, чтобы купить немного хлеба и маслин и оправиться. Днем мы снова въехали в прохладную холмистую местность, а дорога стала гораздо хуже – нам не раз приходилось останавливаться и объезжать ямы. Бимбаши иногда предупреждал шофера, иногда приносил мне извинения. Он всю дорогу сидел прямо, время от времени зажигая сигарету или дергая шелковый шнур на окне. Дважды он сообщал мне названия городов, о которых я прежде не слышал. Он указал на руины античного храма, башни крестоносцев, более современные остатки недавно уничтоженной деревни. К вечеру мы спустились в узкую скалистую долину, где текла река и росли чахлые дубы. Автомобиль остановился на узкой дороге. Бимбаши повел меня сквозь облака комаров вниз по течению реки, затем по дрожащему, скрипящему мосту к деревянному дому, напоминавшему захудалую российскую дачу. Первоначально дом был белым, но большая часть краски стерлась. Столбы веранды выглядели такими же непрочными, как мост, и когда мы вошли внутрь, я подумал, что постройка вот-вот рухнет. Пыльные комнаты были обставлены очень бедно – казалось, здесь много лет никто не жил. Проходя по дому, мы слышали голоса, доносящиеся с другой стороны здания, потом оказались в низком крытом внутреннем дворе, в центре которого находился кирпичный колодец. Неподалеку я увидел конюшни, занятые лошадьми, а у самого колодца сидели на земле или на корточках трое прихвостней бимбаши. Я их прекрасно узнал. Если немного изменить лица и одеяния, они могли бы сойти за бандитов Григорьева, тех самых, которые именовали себя казаками. Внешне они чем-то напоминали огрызающихся волков. Когда мы с бимбаши вошли во внутренний двор, они не потрудились встать, хотя всячески выражали уважение человеку, который как раз выходил из конюшни, улыбаясь Хакиру и вскинув бровь при виде меня, как будто мы были старыми друзьями. Судя по тому, как держался предводитель разбойников, он когда-то был солдатом, а теперь выглядел почти таким же оборванцем, как и все прочие, третьесортные бандиты, самозваные «бойцы нерегулярных войск», башибузуки. Они носили овчинные шапки, нагрудные патронташи висели крест-накрест, мешочки с патронами были у каждого на груди и на бедрах. На поясах у них болтались ножи, сабли, пистолеты, большей частью ржавые. Приседая, как обезьяны, они пытались разжечь огонь под стоявшей возле колодца кастрюлей. Вожак что-то проворчал, предложив нам разделить трапезу, но мы покачали головами. Потом мы все-таки взяли по куску хлеба, обычного серого хлеба. Вода неслась по камням с таким шумом, что мне показалось: она вот-вот затопит и смоет дом, но это усиление звука объяснялось просто особенностями внутреннего двора. Как только майор Хакир и главный башибузук отвели меня в другую комнату, наступила относительная тишина.
Хакир и бандит некоторое время беседовали на своем языке. Я смог разобрать лишь несколько слов, главным образом связанных с войной. Наконец Хакир обернулся ко мне:
– Мы отдохнем пару часов, а потом двинемся дальше, хотя темнеет здесь очень рано. Вы умеете ездить верхом, мсье Пятницкий?
Я неохотно сказал, что умею, хотя мой опыт весьма невелик. Автомобиль, по словам Хакира, должен был вернуться в Скутари. Здесь он слишком заметен. Кроме того, машина все равно не смогла бы проехать по этим дорогам. Я почувствовал настоящий упадок сил, поняв, что разрывалась еще одна важная связь с цивилизованным миром. Теперь, как и на Украине, я унизился до езды на пони. Я утешал себя, вспоминая о греческом наступлении в Анатолии. Вполне вероятно, что Кемаль и его бандиты завтра-послезавтра будут схвачены. Меня могут спасти очень скоро. Важнее всего не испугаться при звуках выстрелов и не попасть под шальную пулю. Я заставил себя позабыть обо всех проблемах и погрузиться в транс, почти в кому – в прошлом это умение сослужило мне добрую службу. Мне фактически удалось отключить мозг, я едва осознавал, что делаю и говорю. И в то же время я не утратил желания сбежать – и смог бы это сделать при первой же возможности. Вскоре я стал действовать автоматически – ехал вместе с остальными по дну долины: мы преодолели узкий проход и снова оказались посреди ужасной, бесплодной равнины.
Под луной пустыни, верхом на тощем, ужасно пахнувшем пони, я ехал по земле столь отвратительной, грязной и никчемной, что никак не мог представить, что кто-то желает за нее сражаться, не говоря уже о том, чтобы за нее умирать. Возможно, думал я, людей ввели в заблуждение, и они видели богатейшие земли там, где простиралась лишь безжизненная пыль.
В ответ на мои вопросы бимбаши Хакир повторял, что мы в некотором отдалении от Карагамуса. Для меня эти слова звучали абсолютной бессмыслицей. В любом случае мое внимание скоро отвлеклось на кое-что другое – я почувствовал первые укусы вшей. Я снова испытывал все знакомые прелести бандитской жизни. Как нелепо все выходит, думал я. Я вновь устремился к просвещенному будущему и оказался в невежественном прошлом. В моем чемодане лежали чертежи изумительного нового аэроплана, который мог изменить всю историю XX века. И тем не менее сейчас я ехал рядом с мужчинами, привычки и склонности которых не менялись тысячу лет, которые во всех отношениях (за исключением более современного оружия) напоминали своих диких предков, Очевидно, Кемаль попал в ту же ловушку, что и Ленин, – он объединил примитивные силы, крестьян и бандитов, чтобы повернуть ход войны в свою пользу. Поэтому теперь вся власть целиком принадлежала людям, которые противились переменам. Меня слегка утешило, что бимбаши Хакир сидел в седле немногим лучше, чем я. Он испытывал страшные неудобства, пытаясь держаться подальше от своих нерегулярных воинов, по возможности избегая прямого соприкосновения с их невероятно грязными телами. Их, в свою очередь, явно удивляла наша неловкость. Они поглаживали сальные усы, посматривали на нас из-под густых черных бровей, перешептывались и усмехались. Однажды мы остановились среди скрюченных карликовых сосен и увидели, как огромный локомотив, громко гудя и сверкая огнями, пронесся в ста ярдах под нами. Я заметил, что бандиты старались не смотреть прямо на поезд, они отводили глаза, как будто верили, что поезд на них набросится, если они на него взглянут.
Ночью, когда мы дали лошадям отдохнуть, я с надеждой подумал, что обещание повстанческого золота было для этих головорезов важнее, чем содержимое моей сумки. Мы проехали еще несколько миль до рассвета и натолкнулись на маленькую зловонную деревушку. Здесь мы позавтракали хлебом и мясом на глазах у жителей, силуэты которых были едва различимы на фоне зданий цвета испражнений и бледно-желтых улиц. Все, включая собак и коз, казались созданными специально для того, чтобы сливаться с окружающей местностью. Я смог более-менее спокойно вздремнуть, пока османы возносили свои молитвы, но вскоре мы снова двинулись в путь. Теперь за копыта наших пони цеплялись желтая трава и липкая грязь, продвижение вперед иногда становилось почти невозможным. Некоторое время накрапывал дождь, потом под серым небом все стало сырым и холодным. Несколько раз мы проезжали мимо загадочных древних руин, сильно пострадавших от непогоды. Равнина казалась бесконечной. Мы натыкались на одиноких пастухов со стадами черно-белых овец. Большие желтовато-коричневые собаки подбегали к нам, лаяли и скалили зубы, пока хозяева не отзывали их. Той ночью мы на несколько часов разбили лагерь на открытой местности, у нас не было никакой еды, кроме фиг и маслин. Потом мы снова двинулись в путь. Я не понимал, как можно в этой дикой местности отыскать дорогу без карты или компаса. Несколько раз мы пересекали железнодорожные пути, но бандиты не использовали их, чтобы определять направления. Скорее рельсы причиняли им неудобства. Меня, однако, всегда радовал вид железной дороги. Это означало, что связь с цивилизацией все-таки сохранилась, хотя мятежники, очевидно, предпочитали путешествовать более осторожно. На третий день, когда мы поили лошадей на берегу маленького озера, на небольшой высоте над нами пролетел «де хэвилленд» с полустертыми знаками, французскими или американскими. Бимбаши с трудом остановил своих товарищей-бандитов, которые уже готовились вытащить винтовки и открыть огонь по самолету. Я мигом вспомнил, что мы находимся в стране, до сих пор пребывающей в состоянии войны.
Во второй половине дня уровень почвы начал резко подниматься, затем вдалеке появился высокий горный хребет, а за ним огромные вершины. Майор Хакир, казалось, успокоился и улыбнулся мне (теперь я полагаю, что он и сам боялся заблудиться). Хакир указал вперед.
– Анкара, – сказал он.
Город вырисовывался на вершине горного хребта – изломанная линия пострадавших от непогоды крыш, над которой вздымалось несколько минаретов. Эта линия резко обрывалась на юге, где стояла огромная квадратная невыразительная крепость. На крутом горном склоне я увидел опаленные огнем руины и счел их свидетельством недавнего нападения. Когда я высказал свое предположение, Хакир удивился. Он покачал головой.
– О нет, – сказал он. – Это были проклятые армяне. Они от нас не ушли.
За горным хребтом высокие вулканические пики создавали яркий синий фон для охряно-коричневого жалкого города. Анкара оставалась такой же неизменной, как и все прочие поселения, которые нам встречались по пути. Тут и там в предместьях виднелись руины, очевидно, римские. В другой части поселения сохранились остатки древней греческой Анатолии. Чуть ниже старого города располагались современные здания, но и они на самом деле были двухэтажными лачугами. Над самой большой развевался красно-желтый флаг, штандарт современного Ганнибала, который теперь собирал новую орду с равнин и гор Малой Азии, готовясь еще раз выступить против Рима и всего, что он воплощал. Я увидел артиллерийские батареи, траншеи, мешки с песком. Очевидно, город был хорошо защищен. Половину орудий, охранявших новый Карфаген Кемаля, совсем недавно изготовили христиане. Я видел ровные ряды армейских палаток, импровизированные убежища, большие шатры, палатки из шелка и хлопка, доставленные, возможно, прямо из какой-то аравийской пустыни. Здесь стояли грузовики, легковые автомобили и по крайней мере два разобранных самолета. Но все-таки лошадей по-прежнему было больше всего.
В лагере царил хаос – очевидно, шла подготовка к сражению. Многочисленные конные башибузуки, одетые в яркое тряпье, скакали во все стороны, крича и визжа. Их голоса заглушали завывания имамов и редкие выстрелы в воздух. Несмотря на кажущийся беспорядок, лагерем неплохо управляли. Здесь чувствовалась аура дисциплины, которую я замечал до этого только раз, в крепости анархистов, у Нестора Махно. Запах горящих дров разносился над биваком, смешиваясь с вонью нефти и кордита, сотни маленьких костров горели в землянках в предместьях Анкары. Бимбаши Хакир неуклюже пытался расхваливать свою цитадель, но армия выглядела еще слишком ничтожной, чтобы противостоять грекам. Я вновь утешил себя: возможно, все, что мне нужно делать, – выжидать, пока нас не захватят в плен. Охранники пропустили нас через первую линию обороны. Мы въехали в город и в северной его части обнаружили неописуемую деревянную виллу, украшенную знаменем Кемаля. Она стояла наособицу, на некотором расстоянии от скопления бараков, была, очевидно, недавно покрашена и находилась в гораздо лучшем состоянии, нежели все прочее. Мы спешились. Ухватив меня за локоть, Хакир шагнул внутрь.
У входа нас остановили охранники в мундирах. Выпрямившись, они отсалютовали бимбаши Хакиру и с любопытством посмотрели на меня. Они были похожи на мужчин, которые сражались слишком долго, но все-таки изнывали от нетерпения, стремясь снова броситься в бой. Мое темное пальто покрылось толстым слоем пыли и грязи. Моя фетровая шляпа пришла в негодность. На то, что осталось от моих гетр лакированной кожи, было страшно смотреть. Я выехал в роскошной одежде, чтобы встретиться с крупным бизнесменом, но здесь больше подошел бы другой наряд – лохмотья и фригийский колпак. Меня не радовало состояние одежды, хотя я по-прежнему сохранял спокойствие. Я был готов восторженно улыбаться любому, с кем меня познакомят, кивать и кланяться, когда понадобится. Мы, наверное, пожали руки половине бимбаши кемалистской армии, прежде чем достигли небольшой приемной и затворили за собой дверь. Над головой крутился большой вентилятор с желтыми лопастями. Сначала я удивился, предположив, что здесь есть электричество. Потом мне стало ясно, что вентилятор вращает находящийся в укрытии раб: подходящий символ их новой «современной» Турции. Комната была побелена, на окнах я заметил только решетки, но не стекла. На дальней от двери стене висела большая карта Анатолии, один угол которой покачивался в такт вращению лопастей вентилятора. Уже начинало смеркаться, но все еще было ужасно жарко. Перед картой стояли столы, как в школе. За ближайшим из них, повернувшись к нам лицом, сидел высокий, стройный человек, куривший сигарету в мундштуке. Он отказался от фески ради французского кепи, но во всем остальном его форма, хотя и элегантно скроенная, была, несомненно, турецкой. Он заговорил с парижским акцентом, извинился, что никогда не изучал русского, и иронически улыбнулся, признавая древнюю вражду наших народов. Потом он быстро встал, пожал мне руку и предложил стул. На меня произвели благоприятное впечатление его манеры, и в других обстоятельствах я, возможно, счел бы его очаровательным. В его зеленых глазах я заметил свет интеллекта куда более значительного, чем у бимбаши Хакира, который отдал салют, пробормотал что-то по-турецки, а затем, поклонившись, сказал, что он всегда к моим услугам, а пока оставляет меня с этим джентльменом. Майор аккуратно прикрыл за собой дверь, и я оказался наедине с элегантным турком.
– Вы хотите есть или пить, сэр? – спросил тот.
Я покачал головой:
– Не особенно. Но у вас есть преимущество. Передо мной Кемаль-паша, не так ли?
Это его позабавило:
– К сожалению, великий генерал все еще на пути в Анкару. Он все больше и больше занимается светской политикой, а не военными вопросами. Я Орхан-паша. Наверное, вы знаете моего друга, графа Синюткина?
Я признал, что знаком с графом.
– Мне весьма льстит ваш интерес к моим проектам.
– Вынужден извиниться за то, что вам пришлось проделать долгий путь в такой грубой компании. Но война сейчас в самом разгаре, мсье. Я уверен, вы понимаете, что приезжать в Константинополь и уезжать мне не так легко, как хотелось бы. Наши друзья в городе еще не слишком влиятельны. Однако, подобно нашему президенту и главнокомандующему, я занят модернизацией родной страны, отсталой в экономическом отношении. Когда Турция вернет себе надлежащее положение, мы сможем пригласить людей науки со всех континентов, чтобы помочь нам воплотить великую мечту.
Я от всей души признался ему, что разделяю эту мечту. Я не добавил, насколько скептически относился к тому, что Кемаль и все его лейтенанты когда-нибудь воплотят свою мечту в жизнь, – и неважно, насколько хорошо скроены их мундиры. (Случившееся подтвердило мою правоту. Право голоса для женщин – это не обязательно признак прогресса.)
– Вы хотите, чтобы я показал свои чертежи командующему? – спросил я.
– Интерес к вашему изобретению, мсье Пятницкий, проявляет, помимо меня, и некий Черкес Этем, который командует самым большим отрядом наших нерегулярных войск. Я думаю, вы поймете: мы куда более типичные представители националистической партии, чем сам Кемаль.
Покачиваясь на скамье, он придвинулся к окну, как будто ожидая обнаружить, что там кто-то подслушивает. Его ботинки были отполированы так же ярко, как и вся прочая амуниция. Я узнал настоящего денди – и почти тотчас же учуял внутренние трения, взаимные подозрения и заговоры в лагере. Я мог бы использовать все это в своих целях.
– Вы дальновидный человек, Орхан-паша. – Я колебался. – Удивлен, что крестьянин-повстанец вроде Черкеса Этема решился поддержать вас и ваши идеи.
Турецкий офицер пожал плечами, закуривая новую сигарету:
– Вероятно, правильнее было бы сказать, что он поддерживает меня, а не мои идеи, мсье. Он прежде всего солдат. Он хочет видеть, что дело движется быстро и эффективно. Вдобавок… – он смутился и откашлялся, – …ваши самолеты будут построены на его деньги. Наверное, нам нужно обговорить подобные вещи. У меня, боюсь, вообще нет никаких способностей к бизнесу. А вы практичный человек? Мне никогда не случалось заниматься коммерческими аспектами военного дела.
Я столкнулся с типичным турецким отношением к окружающему миру. Сама мысль о заключении сделки и обсуждении финансовых вопросов была неприятна турку. Происходя из благородного казацкого рода, я отчасти разделял это отношение.
– Не нужно ничего обсуждать сейчас, Орхан-паша. Я предпочел бы принять ванну, если это возможно. Также я хотел бы, чтобы почистили мою одежду. Произошло недоразумение, и в результате я не захватил с собой никаких вещей.
Он тут же успокоился и проявил участие:
– Превосходно. А потом мы будем обедать.
Он хлопнул в ладоши. Когда появился денщик, Орхан-паша быстро дал ему указания на турецком.
– Очень хорошо, мсье. Надеюсь, мы вскоре насладимся вашим обществом!
Меня отвели в прилично оборудованную ванную, отделанную мрамором и золотом. Денщик унес мою одежду. Я провел некоторое время в ванной, собираясь с мыслями и обдумывая новую информацию. В те дни большинство бандитов и мятежников считали хорошего инженера или механика слишком ценным приобретением, от него не стали бы так просто избавляться. Я снова стал товаром, как в банде Григорьева, и по крайней мере знал, что не должен опасаться произвола мелких военачальников. Я закончил купание. Денщик вернулся с моим костюмом и новым европейским бельем нужного размера. Чувствуя себя достаточно отдохнувшим, я пошел за провожатым по коридору, спустился по короткой лестнице в длинную комнату на втором этаже, где горячую еду подавали на больших блюдах, стоявших на каком-то массивном буфете. Похоже, здесь располагалась офицерская столовая. Сейчас, кроме меня, в комнате находился только один человек, и он уже поглощал ароматные колбасы, тушеное мясо и соусы, которые могли оказаться самыми вкусными в мире, если их должным образом приготовить. Я сглотнул слюну и приветствовал незнакомца. Это, очевидно, и был бандитский главарь, Черкес Этем, которого Синюткин назвал турецким Сапатой: один из тех харизматичных Робин Гудов, которые неизменно появлялись во время национальных революций. Смуглое монголоидное лицо, блестящие узкие глаза, темная борода и грубая, скотская манера поведения – все выдавало его истинный нрав. То, что подобное существо вообще задумалось об использовании самолетов, было уже удивительно. Орхан-паша появился вскоре после моего прихода, подвел меня к предводителю бандитов и познакомил нас. Затем он мягко взял тарелку из рук Черкеса Этема и указал нам обоим на стол, накрытый на троих на европейский манер. Он хлопнул в ладоши и подал сигнал слугам, выстроившимся наготове у дальней стены. Орхан-паша что-то быстро сказал Черкесу Этему, а затем, обернувшись ко мне, заметил по-французски:
– Официанты расстроятся, если мы откажемся от их услуг.
Черкес Этем пожал плечами и уселся на стул так, будто оседлал полудикого коня, однако тоже улыбнулся. Он говорил по-турецки медленнее и понятнее. Он думал, что эти люди должны сражаться, а не стоять здесь у столов. Вскоре выяснилось, что его ненависть к Мустафе Кемалю была сильнее любой неприязни, которую он испытывал к грекам, армянам, болгарам, грузинам, англичанам или албанцам. Очевидно, Кемаль пытался установить в войске дисциплину, а бандита это злило.
Его люди жили за счет военной добычи. Частью их награды были женщины из всех захваченных деревень, неважно, турчанки или нет. Кемаль по своей глупости не понимал этой традиции. Вдобавок он требовал немалую долю от всей добычи бандитов. Выслушивая эти замечания, я начал подозревать, что Этем, скорее всего, и нес ответственность за недавнее уничтожение армянского квартала Анкары. Его искреннее презрение к этому преследуемому народу было почти совершенно – как безграничная, чистейшая ненависть казака к евреям. Во время обеда я наслаждался обществом бандита – возможно, он мне нравился больше, чем искушенный денди, сидевший рядом. Орхан-паша откинулся на спинку стула, он мало ел, много курил и с удивлением выслушивал бредовые замечания своего союзника. В других обстоятельствах я, возможно, мог бы посочувствовать Этему, несмотря на его веру в Аллаха и решительную ненависть к христианам. Как я узнал позже, в среде националистов Этем считался куда большим героем, чем сам Кемаль. Если бы Черкес Этем добился власти, то окончательно покинул бы Константинополь. Он сказал, что город ему не нужен и он готов обменять его на обещание союзников отозвать греков. Он знал о плане лорда Керзона выслать всех турок из Стамбула, Галаты и Перы, плане, поддержанном Уинстоном Черчиллем и горсткой других провидцев в английском Кабинете министров. Против этого плана Этем, по его словам, ничего не имел.
– Тогда эти люди принесут все свои богатства и знания в Анкару. Кажется, это единственный способ, который поможет вытащить их из гаремов, да?
Он продемонстрировал знание немецкого и французского и поверхностное владение русским, оставшееся от довоенных «частных экспедиций» за границу. Я не испытывал затруднений в разговоре с ним. Орхан-паша, с другой стороны, иногда строил очень замысловатые фразы, вдобавок говорил с явным парижским акцентом. Я часто не мог понять смысла его слов. Однако сама ситуация была достаточно ясна. Пока Кемаль готовился к большой кампании против греков, эти двое намеревались строить самолеты по моему проекту. В критический момент они хотели бросить машины на врагов, доказав, что они не только лучшие турки, чем Кемаль, который им не нравился из-за его прозападных симпатий, но также и люди, умеющие на практике воплощать современные идеи. Они хотели произвести впечатление и на солдат, и на политиков. Я тотчас осознал, что, построив самолеты, смогу вбить клин между двумя фракциями националистов и таким образом ослабить все их движение.
Я мог с чистой совестью помочь Черкесу Этему, если пожелаю. Я увижу, как мои машины пройдут испытание в воздухе, и в то же самое время нанесу удар по движению кемалистов.
Орхан-паша спросил, когда я могу начать работу. Я сказал, что приступлю тотчас же, как только получу подходящие материалы. Я развернул свои чертежи и объяснил, сколько примерно будет стоить один аппарат и какие проблемы могут возникнуть, но меня прервал отдаленный гул, донесшийся с запада. Приблизившись к окну, Орхан-паша распахнул ставни и посмотрел наружу. От огненных вспышек лицо его стало красным, а глаза засверкали ярко, как у дьявола.
– Греки атакуют с воздуха, – сказал он. – Они прослышали о мобилизации и пытаются остановить нас. Теперь вы сами видите, как срочно нам нужен ваш самолет, мистер Пятницкий.
– Проклятые трусы! – Черкес Этем провел куском хлеба по пустой тарелке, собирая остатки соуса. – Как и все греки. Они не хотят сражаться честно. Но чего можно ожидать от британских дворовых псов? – Он усмехнулся. – Вряд ли сейчас нас атакуют греки. Вы думаете, эти летчики родились в Афинах? – Он сунул хлеб в рот, быстро прожевал и проглотил. Он затрясся от смеха – собственная шутка его порадовала. – Грек может подняться в воздух в одном-единственном случае – если его подхватит стервятник!
Турецкие орудия открыли ответный огонь, но это была полевая артиллерия, в противовоздушной обороне она не могла принести никакой пользы. Я услышал, как свистят бомбы. Я надеялся, что никогда в жизни больше не окажусь столь близко к полю боя. На миг мне стало дурно. Я заставил себя подойти к окну. Это нападение происходило совсем рядом – гораздо ближе, чем атаки, которые я видел в России. Среди разрывов бомб и снарядов, в свете огненных полос, расчертивших небо, в грязном дыму мчались во весь опор всадники. Я так и не понял, чего они рассчитывали добиться, – разве что надеялись, что в них врежутся самолеты. Турки любят умирать. Полагаю, большинству из них смерть кажется желанной участью.
Орхан-паша закрыл ставни и отвернулся от окна, пожав плечами.
– У нас есть несколько самолетов, – сказал он мне, – но нет подходящей площадки для взлетов и приземлений. Вот почему нас заинтересовала ваша идея. – Он изящно взмахнул обеими руками. – Человек, который несет летную машину у себя на спине, человек, который может подняться в воздух и спуститься по собственному желанию, как птица, – именно то, что нам необходимо. Конечно, он может сбрасывать бомбы и следить за передвижениями войск, но в его силах сделать гораздо больше. Такие люди смогут проникать в крепости, занимать целые города изнутри.
Его взгляд стал мечтательным. Я предположил, что он подмешивает гашиш в свой табак.
Черкес Этем без колебаний перешел к финансовым вопросам:
– Сколько потребуется денег, чтобы экипировать, скажем, тысячу мужчин таким образом? Вам нужен собственный завод?
– Я изготовил бы машины в тайне. По частям. Скажем, в мастерских Скутари. Вот, посмотрите на эти расчеты. Склонен предположить: если мы сделаем оптовый заказ на двигатели, то получим их приблизительно по пятнадцать соверенов за штуку. Вдобавок нужны пропеллеры и крылья. Их должны изготовить опытные инженеры и из определенных сортов древесины. Еще пятнадцать фунтов, если будет большой заказ. Итого тридцать соверенов каждый аппарат.
Черкес Этем начал хмуриться. Орхан-паша наклонился вперед. Он потер брови, смахнув капельку пота. Он почти с отчаянием смотрел на своего товарища, надеясь, что тот заговорит, и чрезвычайно обрадовался, когда бандит сказал:
– Тридцать тысяч золотом. Дешевле, чем обычный самолет. Они стоят приблизительно по тысяче каждый. – Он распахнул кафтан и вытащил небольшую сумку с кисточками, висевшую на поясе. – Здесь хватит на четыре самолета! – Он задрожал от удовольствия. – Греки дадут нам больше. А если не дадут – тогда, конечно, нам помогут армяне. – Он подмигнул мне. – Это позволит запустить ваше производство. Мы вскоре предоставим все остальное и, конечно, убедимся, что вы не предадите нас, христианин. Договориться о поставках достаточно легко. Мы довезем самолеты на лодках до Эрегли, а потом доставим их по суше на мулах. Но сначала, я полагаю, нам нужно увидеть в действии одну из ваших машин.
– Естественно, следует изготовить опытный образец. – Я взял деньги. – Но уверен, что мы сможем соорудить его довольно скоро.
Орхан-паша положил руку мне на плечо и улыбнулся:
– И мы хотим посмотреть, как вы будете им управлять. Вы сами. – Он негромко и вежливо рассмеялся, этот звук удачно дополнил фырканье Этема и другой, громкий и куда более пугающий рев. – Тогда мы узнаем, насколько вы уверены в себе.
Их недоверие меня возмутило:
– Достаточно уверен, чтобы управлять своей первой машиной. Я не сомневаюсь, что у меня хватит сил проверить и следующие. Где я могу начать? У вас здесь есть механические цеха?
Орхан коснулся лба кончиками пальцев:
– Друг мой, я верю вам. Есть несколько сараев, в которых занимаются ремонтом. Но в Анкаре работать не слишком удобно. Черкес Этем отвезет вас в место получше.
Я успокоился, поняв, что этот заговор должен был остаться в тайне от их так называемого президента. Гнев помрачил мой разум. Теперь мне приходилось отправляться еще дальше, во внутренние районы Анатолии.
Небритый Черкес Этем навис надо мной:
– Ты даже поможешь нам раздобыть денег. Ведь так, а, христианин?
Он то и дело возвращался к этой теме (видимо, считал ее забавной) в течение, по крайней мере, следующей недели. Спустя три ужасных дня, пока мой пони хромал по скалистой горной тропе, я уже осознал, что пропал навсегда. Мои брюки износились, на пальто в трех местах появились дыры, шляпа стала практически бесформенной, по рубашке и нижнему белью ползали паразиты. Мои башмаки развалились и были перевязаны тряпками и полосами кожи, так что я, вероятно, напоминал неудачливого бандита, прокаженного или нищего раввина-хасида. Я был погружен во мрак. Золото, которое дал Этем, лежало в моем поясе. Башибузук оставался, на свой манер, исключительно дружелюбным, когда время от времени возвращался в конец колонны. Я ехал на самом старом животном, за фургоном с припасами. Этем явно наслаждался моими страданиями.
– Христианин, это поможет тебе поскорее построить аэроплан!
Больше никто не называл меня христианином (или, иногда, неверным). Я думаю, что он, подобно многим другим бандитам, представлял себя романтическим персонажем, героем популярных романов. Люди Этема, конечно, любили его за это, вероятно, настолько же сильно, насколько полюбили бы Дугласа Фэрбенкса или Рудольфа Валентино[95], если бы у них была возможность посетить кинематограф. Этема отличали картинные жесты, цветистый язык, бравада, умение натягивать поводья белого жеребца, чтобы скакун почти мгновенно останавливался. Сомневаюсь, что он умел читать, но уверен, что кто-то когда-то забавлял его теми же приключенческими историями, которыми я наслаждался в детстве. Его удивительный нрав, однако, почти наверняка помогал поддерживать боевой дух отряда – подчиненные были готовы ради него переносить какие угодно трудности и опасности. Понятно, почему очень многие предпочитали его весьма суровому Кемаль-паше, с его прославленными многоречивыми проповедями, строгой моралью и склонностью обсуждать туманные политические последствия. Полагаю, Этем поддерживал его, осознавая, какое впечатление он производит на своих людей, заигрывая с ними и веселясь, как будто ухаживая за капризной женщиной.
С этой точки зрения я был идеальной мишенью для его остроумия. Он часто просил Аллаха спасти бедного неверного, называл меня воплощением упадочной городской жизни, тем самым развлекая своих тупых подчиненных. Со своей стороны я очень радовался, что полезен ему. Пока все так и шло, мне не следовало опасаться за свою безопасность. Тем не менее Этем по-прежнему не сообщал мне, куда мы направляемся, и даже отказывался называть число и день недели. Я начал подозревать, что у него не было вообще никакого плана, он просто блуждал по дорогам, надеясь наткнуться на то, что ему необходимо. Дважды он оставлял меня среди женщин и телег, а сам отправлялся с мужчинами в ближайшие деревни. Он возвращался с довольным видом, а клубы черного дыма поднимались над разрушенными домами у него за спиной. «Я только что оплатил пять новых аэропланов!» – объявил он в первый раз, а во второй сказал: «Еще три самолета, христианин!»
Деревни он называл «прогреческими» или просто «армянскими». Это служило достаточным оправданием для нападения. Я подозревал, что деревни ни греческими, ни армянскими не были. Я снова задумался: неужели моя судьба навеки такова – оставаться рабом каких-то бандитов. Аттила, как рассказывали, держал при себе философов ради развлечения. Но я проводил время с пользой. Я чуть лучше изучил разговорный турецкий, хотя большинство людей Этема были по меньшей мере необщительными. Но теперь я уже мог сказать не только «Agim» или «Susadim»[96], когда был голоден или хотел пить, окружающие стали понимать и более сложные просьбы. И я начал объяснять Этему, что время идет. Просто невыгодно таскать меня за собой.
Отправившись в поселение в третий раз, бандит не возвращался дольше обычного. Я мог расслышать выстрелы и что-то похожее на артиллерийский огонь: шло настоящее сражение. Несколько раз мужчины поспешно возвращались, чтобы погрузить на лошадей новые ящики с боеприпасами и отвезти их обратно, за холм. Этем, очевидно, стал очень честолюбивым и напал на людей, занимавших более-менее удобную позицию. Потом, примерно через два часа после того, как стрельба прекратилась, прискакали бандиты. Один из них спешился и подбежал ко мне, ведя лошадь на поводу. Он знаком приказал мне сесть в седло. Я подчинился весьма неохотно, уцепившись за уздечку и гриву. Лошадь поскакала вперед вместе с другими по болотистой желтой земле. Я чувствовал себя нехорошо, думал, что вот-вот упаду, но вскоре мы достигли настоящего города с несколькими ровными улицами, высокими зданиями, железнодорожной станцией и телеграфом. Половина домов уже лежала в руинах, по-видимому, после предшествующих сражений, а другие еще только начинали гореть. Повсюду виднелись трупы. На сей раз я с трудом сдерживая рвотные позывы.
На главной улице стояли на коленях испуганные горожане: их выстроили рядами у красивого фонтана, который все еще работал. Черкес Этем умылся и, усмехаясь, встал на постамент в центре фонтана, приняв одну из своих мелодраматических поз. Из большой православной церкви, стоявшей между несколькими горящими зданиями, мужчины и женщины выносили ящики и свертки. Эти люди были или греками, или армянами, а может, здесь оказались и те и другие. Они покорно разложили свои сокровища вдоль края фонтана, к явному удовольствию Этема. Его подручные все еще приходили и уходили, скрываясь в дыму среди руин, стреляли, вбегая в здания, и кричали, выходя наружу. Как раз в тот момент, когда слезая с лошади, я увидел молодую девушку, которую насиловал на улице жирный башибузук, – ему, кажется, было труднее стянуть штаны, чем удержать добычу. Я отвернулся.
Черкес Этем заметил мое беспокойство:
– Взгляни, с каким удовольствием твои единоверцы платят за твои машины, христианин!
Он находился в своей стихии. Он прокричал что-то на своем диалекте одному смеющемуся лейтенанту, а затем выбрался из фонтана и обхватил меня за плечи.
– Эти люди – неверные. Тебе не нужно о них беспокоиться. Теперь я покажу тебе, почему мы так упорно сражались за этот город.
Он вывел меня с площади и свернул в запыленный переулок, а потом великодушным жестом указал на то, что осталось от какого-то гаража. На скамье за порогом лежал маленький бензиновый двигатель, очень похожий на тот, который я изображал на своих чертежах.
– Вот твой шанс. Ты задержишься здесь на пару дней и спокойно построишь самолет. Они побоятся тебя тревожить. Я оставлю здесь несколько человек.
Позади нас снова начались крики и стрельба. Я был испуган и молча кивнул в знак согласия и признательности. Я отчаянно, всем своим существом, желал оказаться подальше отсюда и избавиться от этого ужаса. Как я мог сбежать из ада России и снова попасть в такой же ад в Турции, где у меня было еще меньше шансов выжить? Как я ненавидел Восток и все, что с ним было связано!
Этем потрепал меня по спине.
– Скажи Хассану, что тебе нужно. – Он жестом подозвал мальчика лет четырнадцати, стоявшего у стены мастерской. Хассан ухмыльнулся мне. – Через три-четыре дня я вернусь. Нужно убить кое-каких греческих солдат. – Странно взмахнув рукой, он отправился на площадь.
Чтобы заглушить ужасные звуки, которые в течение дня становились все разнообразнее и интенсивнее, я приказал Хассану закрыть хлипкие двери механического цеха. Я сказал ему принести лампы и отыскать людей, чтобы они прибрались в помещении. На полу были насыпаны промасленные деревянные стружки, на стойке у дальней стены стояло несколько устаревших инструментов. Это место, вероятно, было единственным на многие мили, где можно было отыскать механика. Кому бы ни принадлежала мастерская, он погиб или сбежал. Осталось очень немного запасных частей, но маленькая наковальня и мехи еще стояли в углу, тут и там валялись кузнечные орудия, объяснявшие назначение мастерской.
К счастью, я был способен делать то, чему научился в минувшие годы, – оставаться слепым и глухим, не обращать внимания ни на что, кроме работы, которую предстояло выполнить. Для начала я сосредоточился на двигателе, чтобы понять, как подсоединить его к пропеллеру. Теперь я знал об аэродинамике гораздо больше, чем во время строительства первого аппарата. К вечеру, когда вернулся Черкес Этем, я уже составил некоторое представление о проблемах и их решении.
– Работай хорошо, христианин, – сказал бандит. Он положил на скамью большую сумку, украшенную вышивкой. – Это поддержит твои силы до моего возвращения.
В сумке лежала дичь, кусок ягненка, козья нога – все совсем свежее, окровавленное. Я вздрогнул от отвращения. Хассан, напротив, пришел в восторг.
Бандит уехал, как всегда, ухмыляясь. Я слышал, как он что-то кричал своим людям. Потом послышался знакомый волнующий звук – быстрый цокот копыт, а затем наступила столь же знакомая тишина. Вскоре раздались стоны и плач.
Немного позже мое настроение значительно улучшилось, внезапно в голову пришла одна забавная мысль: при всей своей хитрости Черкес Этем не учел очевидного факта. Как только я построю самолет, смогу убраться прочь от его отвратительных всадников и их винтовок, волшебным образом подняться к облакам, подобно багдадскому вору[97], насмехаясь над всеми оставшимися внизу, и вернуться в Константинополь через несколько часов! Эта радостная мысль заставила меня трудиться с большей уверенностью и энтузиазмом. Теперь я строил не военную машину для исламских солдат – я создавал средство собственного спасения.
Следующие два дня я работал практически без перерыва, поддерживая силы остатками кокаина. Хассан оказался добросовестным, хотя и весьма неловким помощником. Охранники, которых оставил при мне Этем, привели дрожащих резчиков по дереву и плотников. Нашлись и швеи. Целый город, по крайней мере все уцелевшие жители, был в моем распоряжении, и в результате потребовалось совсем немного времени, чтобы собрать практически все детали аппарата. Части, которые не удалось отыскать или переделать, изготовили на наковальне. Пропеллер вырезали из какого-то местного сорта дерева и идеально отполировали, именно так, как я указал, – крыльям позавидовал бы сам Дедал. Просто удивительно, как эти горожане, особенно греки и армяне, отдавались работе, – словно смутная наследственная память заставляла их помогать мне в бегстве от этого современного эквивалента критского чудовища. Аналогии производили на меня все большее впечатление, я думал: как Дедал построил лабиринт для Миноса, так и я построил для своих похитителей лабиринт из иллюзий и абстракций, в котором они могли заблудиться.
Я уже понял, что без труда мог бы сбежать еще до возвращения бандитского главаря. Машина, которая едва не погубила меня, стала бы моим спасением. Конечно, я доказал бы ее эффективность! С золотом Этема в карманах я не просто улетел бы подальше от этих пустынных мест, но по возвращении произвел бы настоящий фурор в Константинополе! Я проскользнул бы между минаретами Айя-Софии и Голубой мечети, опустился бы на Галатскую башню, на башню Леандра, на все башни Византии. И тогда воздух наполнился бы голосами удивленных людей, оборачивающихся на шум моего блестящего пропеллера. Я прославлюсь и добьюсь своей цели. Передав ценную информацию британцам, я получу открытую визу во все страны Европы. И конечно, с огромным удовольствием расскажу всем о том, что граф Синюткин – предатель и шпион.
К утру третьего дня не поступило никаких новостей о возвращении Этема. Безнадежное молчание, в которое погрузился город, постепенно сменялось обычными звуками повседневной жизни, хотя на лицах людей застыло равнодушие. Эти лица напоминали мне маски из какой-то древней аттической трагедии. Я тщательно проверил все детали машины, потом собрал ее на скамье и приказал Хассану запить топливо. Двигатель легко заработал; пропеллер крутился очень ровно, словно стальные лопасти рассекали масло. На меня нацепили крылья и раму, к которой следовало прикрепить двигатель и винт. Я был уверен, что смогу полететь куда захочу. Я значительно модифицировал конструкцию. То, что случилось со мной в Бабьем Яре, в Турции не повторится. Удостоверившись, что все готово, я приказал группе местных отнести аппарат на крышу соседнего шерстяного склада, расположенного возле фонтана и греческой церкви, – самого высокого и внушительного здания в городе.
Я не мог поверить в свою удачу! Когда мы выбрались на широкую плоскую крышу, с которой открывался вид на невыразительную анатолийскую равнину, я с трудом сдержался и не выдал своего восторга Хассану и прочим бандитам. Мальчик вместе с мужчинами помог привязать двигатель мне на плечи. Пропеллер на этой машине был установлен выше, чем на предыдущей, так что я не сомневался: на сей раз контузии удастся избежать. Крылья в этой модели стали немного больше, но, по существу, я построил тот же самый самолет, который испытывал в Киеве. Конечно, он на полвека опередил свое время. Сегодняшние мощные дельтапланы – всего лишь модификации моих оригинальных технических находок (но, разумеется, обо мне никто не упоминает, заговор молчания продолжается). Я думал о том, как повезло этим бандитам и городским обывателям. Они станут свидетелями первого подобного полета за пределами России. Я старался стоять как можно ровнее, но слегка наклонялся под тяжестью машины. Этот вес, конечно, уменьшится, как только я оторвусь от земли, но пока удержаться на ногах было довольно трудно. Теперь я был готов взлететь к небесам и показать своим врагам, насколько они глупы и невежественны!
Конечно, я не принял в расчет турецкой хитрости. Заняв нужное положение и приготовившись пробежать по всей крыше, прежде чем взлететь в воздух, я приказал Хассану раскрутить пропеллер. Но двигатель лишь слабо фыркнул. Я сказал, чтобы мальчик снова крутанул лопасти. Я начинал потеть – солнце поднялось уже довольно высоко.
– Хассан, ты идиот! Что случилось?
Он покачал головой и что было сил крутанул пропеллер. Я едва не потерял равновесие от этого толчка. Мужчины что-то бормотали себе под нос и усмехались. Я приказал им убираться подальше. Они неохотно ушли с крыши. Теперь я остался наедине с Хассаном, который стоял молча, выпучив глаза.
– Еще!
На сей раз пропеллер повернулся дважды. Я побежал, но успел продвинуться только на ярд – двигатель снова заглох.
Я был потрясен, ведь все прекрасно работало. Я спросил Хассана, залил ли он бензин в бак. Тут челюсть у мальчика отвисла, и он пожал плечами, как будто я сказал что-то удивительное:
– Конечно нет, господин!
Я выругался:
– Ты кретин. Тащи сюда канистру.
Он тотчас покачал головой и взмахнул руками, глаза его виновато забегали:
– Я не могу.
– Она в лавке, в задней комнате. Ты знаешь где! – Я разозлился. – Поторопись, мальчик!
– Там ничего нет, эфенди.
Хассан отвел взгляд, потом посмотрел в сторону железнодорожной линии. На горизонте появился дым. Хассан нахмурился.
Солнце пекло мне голову, а двигатель, который должен был уже поднять меня в воздух, врезался в спину и причинял жуткую боль. Едва ли не в обмороке я бросился к мальчику, умоляя его принести бензин, угрожал ему тысячей наказаний, кричал, что его поджарят в аду. Но на Хассана все это не подействовало. Он только отошел от меня подальше и стоял, качая головой и иногда повторяя:
– Там ничего нет!
Разумеется, в итоге до меня дошло. Этем оказался совсем не таким дураком, каким я его считал. Он оставил Хассану особые указания, мне не позволили бы зайти слишком далеко. Бензина не будет, пока Этем не поверит мне.
– Бензин! – умоляюще прохрипел я. – Соверен всего лишь за одну канистру! Никто не узнает.
Шатаясь под тяжестью двигателя, ковыляя и наклоняясь, как горбатый пингвин, я отодвинулся от края крыши. Внизу на площади собралась толпа. Люди смотрели на меня, некоторые оживились, почти как зрители в цирке. Кто-то закричал: «Давай же! Начинай!» Они сгорали от нетерпения. Я ожидал, что они зааплодируют. Но как я ни кричал на Хассана, он неизменно повторял одно и то же: «Ничего нет, эфенди».
Я спроектировал машину так, что не мог освободиться самостоятельно. Ноги мои начали ныть – я все-таки допустил просчет. Я дрожал всем телом, едва не рыдал, мой голос охрип, пока я просил мальчика о помощи. Взгляд Хассана все чаще устремлялся к горизонту. Дым становился заметнее. Где-то ехал локомотив, хотя в поле зрения он еще не появился. Именно тогда мне показалось, что издалека слышны пулеметные очереди. С трудом, морщась от боли, я обернулся на звук и заметил на горном хребте над болотистой равниной то, что могло быть только танковым подразделением. На корпусах машин виднелись сине-белые греческие флаги, но сами танки были британскими – «марк III» во всей красе. И по обе стороны от них бежало около трехсот греческих солдат, штыки блестели на их винтовках, и солдаты стреляли на бегу.
Оставшиеся в городе бандиты пытались построить нечто вроде баррикады. Очевидно, они не ожидали такой атаки. Они двигались поспешно и нервно, проклиная друг друга и грозя кулаками грекам. Двое или трое уже вскочили на лошадей и помчались в противоположном направлении.
Теперь я задыхался, боль усиливалась с каждым вздохом. Меня как будто распяли, распяли на кресте моего собственного воображения. Хассан тупо уставился на меня. Потом, жалобно скривившись, отвернулся. Он побежал к лестнице, но на мгновение задержался, чтобы взглянуть на меня. Я просил его вернуться хотя бы для того, чтобы перерезать несколько ремней. Я ничего не добился, изо всех сил пытаясь освободиться от летающей машины и с каждым движением запутываясь все больше. Я пришел в отчаяние. Не было никаких гарантий, что греки или британцы не примут меня за предателя, сознательно продававшего оружие туркам.
Хассан исчез внизу.
Я завыл от ужаса, который в моем подсознании обрел форму песни. Когда греки в конце концов обнаружили меня на крыше, я исполнял «Иерусалим» Блэйка.
Глава девятая
Я с успехом развлек турок, а теперь стал источником бесплатного веселья для греков. Солдаты были одеты в британские куртки цвета хаки и оловянные шлемы и в то же время в белые брюки и зеленые краги. Завидев меня, они засмеялись и опустили винтовки. Я перестал петь и, все еще пытаясь высвободиться, сурово посмотрел на них. Они не стали мне помогать. Я едва не заплакал, из последних сил пытаясь встать на ноги. На английском и французском я умолял их о помощи. Они отказывались понимать. Они потирали небритые подбородки и насмехались надо мной, будто я был каким-то покалеченным теленком. Когда я начал выкрикивать немногие известные мне греческие слова, они развеселились еще больше и успокоились, только когда на крыше появился их офицер. Ему было лет тридцать пять, у него были темные глаза и черная эспаньолка. В отличие от своих солдат, офицер облачился в настоящую греческую форму оливкового цвета. В ножнах у него на боку висел длинный кривой меч, из кобуры у пояса торчал пистолет. Положив руки на бедра, офицер расставил ноги и наморщил брови, рассматривая меня. Он заговорил – сначала по-гречески, чтобы заставить своих людей умолкнуть, а потом по-турецки – со мной. Я покачал головой, стремясь немедленно переубедить его:
– Мсье, если вы позволите мне…
Слегка улыбнувшись, он произнес по-французски:
– Ага! Так это вообще не бандит, а голубь. Голубь, слишком толстый для полета!
Стараясь сохранять достоинство в этой ситуации, я поднял голову, чтобы посмотреть офицеру прямо в лицо:
– Мсье, я офицер русской добровольческой армии. Не будете ли вы так любезны освободить меня от этих ремней?
– Большевистский голубь, не так ли? Еще лучше. Пытался доставить весточку генералу Троцкому?
– Вы меня неправильно поняли, мсье. Я добропорядочный монархист. Моя жена – англичанка. Я живу в Константинополе. Я уже некоторое время находился в плену у этих турецких бандитов и как раз пытался сбежать, когда, благодарение богу, вы напали на них. Я еще и ученый. У меня есть документы. Самые настоящие. Из Санкт-Петербурга.
– Я слышал, что с националистами были и русские офицеры, – сказал капитан, как будто не замечая моих слов. – Вы уверены, что не лжете, мсье?
– Готов присягнуть как христианин и джентльмен, что говорю вам правду!
– Но как вы попали к этим националистам?
Люди капитана продолжали усмехаться, хотя я сомневался, что они могли понять его слова. Он не сделал им замечания, только подал двоим солдатам знак, чтобы они помогли мне подняться. Я ужасно вспотел, страшно болела спина.
– Я не присоединялся к ним, – терпеливо ответил я. – Меня заманили обманом. Их интересуют мои проекты.
Медленно, с возрастающим любопытством, капитан осмотрел меня со всех сторон. Он проверил крыло на моей правой руке. Он изучил хвостовое оперение сзади. Опустившись на корточки, он дернул за один из проводов, ведущих от моих лодыжек к рулю.
– И почему же вы не улетели?
– У меня не было бензина, – сказал я.
Офицер не смог удержаться и перевел это своим людям, которые тут же затряслись от смеха. Он подумал, что я просто забыл залить бензин в бак.
– Мсье, – произнес я, уже почти потеряв надежду, – мне очень больно. Будьте добры, отстегните эти крылья, чтобы я мог избавиться от двигателя!
Он указал на меня рукой и отдал приказ. Солдаты с удивительной осторожностью начали расстегивать ремешки. Я решил, что в будущем следует делать самолеты полегче. Я научился этому на собственном опыте. В проекте нужно кое-что изменить. Мне следовало изобрести механизм для быстрого освобождения от аппарата, чтобы избежать подобных случаев. Скоро греки сняли все части устройства и аккуратно сложили их посреди крыши. Я потер израненные плечи, а потом глотнул бренди из фляги капитана и представился:
– Меня зовут Максим Артурович Пятницкий, майор (в данном случае вряд ли следовало упоминать о звании полковника) Белой армии. Я служил летчиком и был в разведке. Недавно меня эвакуировали из Одессы на британском судне «Рио-Круз». Все это можно легко проверить, мсье.
Капитан слушал рассеянно, чуть заметно кивая в ответ, потом взглянул на аппарат:
– Эта штука летает?
Мне его вопрос совсем не понравился:
– Я как раз и собирался узнать, мсье!
Он внезапно развернулся ко мне лицом и твердо пожал мою руку. Очевидно, я прошел какую-то проверку.
– Приветствую вас, сэр! Я капитан Папарайопулос. Вы храбрый человек. Давайте выпьем!
Ковыляя за капитаном, который спускался на улицу, я услышал звуки, подобные тем, что доносились отовсюду всего три дня назад. Повторилась почти та же самая сцена, только на сей раз турки стояли на коленях на площади у фонтана, в то время как другие турки выносили сокровища из своих мечетей. Где-то еще греческие солдаты стреляли во все фески, которые попадались им на глаза, и вытаскивали из зданий сопротивляющихся женщин. И в глубине души я не мог осуждать их за подобную дикость. Турки преследовали греков в течение сотен лет, и теперь греки отомстили. Они мечтали об этом с самого падения Византии. Загорелось еще несколько зданий. Жар был ужасен. От густого дыма у меня слезились глаза. Когда мы пересекали площадь, появились двое солдат. Они поймали моего несчастного Хассана. Он сжался между ними, умоляюще глядя на меня.
– Говорит, что он ваш помощник. Механик, – сообщил мне капитан Папарайопулос, быстро допросив мальчишку по-турецки. – Это правда? Механики нам нужны.
– Он бандит, – сказал я.
Когда они его уводили, Хассан уже прекратил вырываться. На башне мечети поднимали греческий флаг. Это была очень трогательная сцена: белый крест на синем фоне, развевающийся на турецком ветру. Капитан Папарайопулос устроил штаб в ковровой лавке, окна которой выходили на площадь. Здесь мы пили крепкую прозрачную жидкость – по его словам, это была местная водка. В голове у меня зашумело. Он предложил мне немного хлеба и колбасы.
– Турки забрали почти всю еду.
Я понял, что практически ничего не ел уже два дня, настолько меня захватило строительство машины. Я догадывался, что Хассан продал мясо, которое оставил нам Черкес Этем.
– Мятежники прошли к северу от нас, – сказал капитан. – Полагаю, разыскивали наши позиции. Мы в свою очередь прятались среди холмов, пытаясь найти их базу. – Он разочарованно пожал плечами. – Я был уверен, что она именно здесь.
Отряд всю весну пробивался вперед из Смирны. Капитан предсказал, что к концу года вся Анатолия окажется под контролем греков.
– Кемаль хороший солдат, но у него нет подходящих людей. Бандиты сражаются за себя. Они служат нам, если им это выгодно. Их не интересует, кто правит. Вероятно, они думают, что греки – недурная замена туркам.
Он без всякого выражения следил за происходящим на площади. Его люди казнили мусульман. Трое солдат, несомненно пьяных, гнали нескольких обнаженных девушек от одной полуразрушенной лавки к другой.
– Люди здесь привыкли к жестокости, – сказал капитан, как будто я осуждал его, потом зевнул и начал сворачивать себе цигарку. – Мы вернем вас к цивилизации, мистер Пятницкий, не волнуйтесь.
Французы и итальянцы предали их. Греция только недавно вспомнила о былой гордости. Она подняла знамя Христа в сердце ислама. Она несла меч мести. Византия была в руках христиан! Турция едва не прекратила свое существование. Она исчезла бы, поглощенная более благородной греческой империей, чудом мироздания. Но французы и итальянцы, опасаясь блистательного слияния греков и британцев, объединили силы, чтобы помешать этому союзу старого и нового Эллинизма. Они использовали самые легкие средства. Они дали оружие Кемалю. Они поощряли Захарова и его евреев продавать туркам орудия и танки, когда сам Захаров в Афинах обменивался рукопожатиями с Венизелосом[98] и клялся ему в вечной дружбе. Марсельские брокеры, которые никогда не слышали об Анкаре, посылали туда оружие и получали огромную прибыль, в то время как люди на нью-йоркской фондовой бирже, спокойно поговорив по телефону, убивали тысячи греческих воинов. Торговцы в Риме и Берлине, не служившие ни Кресту, ни Полумесяцу, богатели, потому что Крест и Полумесяц сошлись в смертном бою в Анатолии. Ллойд Джордж, лорд Керзон, Уинстон Черчилль, Венизелос, Вудро Вильсон – все политические деятели, исполненные прекрасных намерений и идеалов и приветствовавшие каждую греческую победу, сами были сбиты с толку и не сумели ничего добиться.
Они слишком долго рассматривали карты, обсуждая новые границы, тревожась о пакистанцах и арабах, чувства которых могли бы пострадать, если бы ислам был повержен во Фракии. Когда речь зашла об их собственных египетских и палестинских владениях, они дрогнули. Дети Афин и Спарты уходили в бесплодные просторы Малой Азии, нагие и беззащитные, укрытые лишь Христовым знаменем. Они наивно верили сентиментальным утверждениям старых болтунов. Им было нечем воевать. Ллойд Джордж послал их в бой безоружными, Уинстон Черчилль не дал им кораблей. Лорд Керзон испугался того, что, отдав Турцию грекам, он может потерять Индию. И таким образом не была достигнута важнейшая цель мировой войны – единственное реальное преимущество, которое обеспечило бы нам вечный мир, было упущено, а завоеватели-крестоносцы ссорились и теряли время, как уже много раз случалось прежде.
Эти благородные греки умирали в анатолийских пустынях и армянских болотах. Их кровь поливала исламскую землю, и всходы, которые поднимались из этой земли, давали пищу исламским солдатам. Тем временем английский король провозглашал: «Преклоните колени, Захаров!» и «Встаньте, сэр Бэзил!» Он касался плеча этого демонического еврея тем великим мечом, который на протяжении многих столетий служил защите чести Христовой. В палате общин и палате лордов, в горностаевых одеждах и золотых коронах, новоявленные бароны бездельничают на скамьях, поднимая украшенные драгоценными камнями чаши и провозглашая лживые тосты за государственный флаг Соединенного Королевства, за три креста, которые являются одним. Самодовольные восточные владыки проникли в самое сердце Англии. Точно так же они прежде пробрались ко двору Византии. Они управляют судьбами миллионов христиан. Они даже притворяются, что молятся в христианских храмах. Они сделали этот остров главным логовом международной преступности. Они хуже обычных пиратов, потому что не рискуют сами и крадут жизненную силу других стран. Разве их добыча помогает славе Англии? Нет! Она остается в Швейцарии, где маленькие розовощекие женщины каждый день приходят в хранилища с ведрами мыла и дезинфицирующих средств, чтобы чистить золотые слитки до тех пор, пока они не заблестят, как зеркала. Где были английские джентльмены? Что случилось с империей, которая послала лордов Байрона и Шелли на верную гибель в Геллеспонт, когда они повели отважные маленькие армии против всей мощи Османа?
Какие безумия поразили британцев после Первой мировой войны? Жадность и социализм, скрепленные ложной гордостью. Я видел, как во всем мире гибнут империи, и всегда по вине красных и евреев. «Смотрите, – кричит Гарольд Уилсон, – вы богаты. Вы можете плясать. Вы можете присоединиться к общему рынку. Вы можете отдать свои дома пакистанцам». Я слышал его по телевизору. «Вам нужна конкуренция, – говорит он, – как американцам. Вы должны занимать больше денег. Вы должны стать лучше, чем ваши соседи». И когда рабочий отказывается работать, потому что его место может захватить афроамериканец, на него бросается этот великий социалист, защитник толпы. Он непатриотичен, если хочет попросить больше денег. Ему напоминают о духе Дюнкерка, о национальной чести и гордости. Но Гарольд Уилсон говорит, что честь и гордость – это старая чушь. Деньги важнее всего. И они приходят ко мне в магазин со своими плакатами и уверяют меня, что лейбористская партия заботится о моей выгоде! Она ни о ком не заботится, кроме банкиров и членов партии. Все точно так же, как в Москве. Сталин разрушил страну, а затем воззвал к призракам великих национальных героев, к призракам тех, кого он сам убил, чтобы сплотить людей против Гитлера. Честь ничего для них не значит. Это только звонок, который вызывает у людей слюноотделение, как у собак, но, когда он звонит, никто не отвечает. Люди отчаянно тоскуют об утраченной гордости и вере. Былая гордость ненадолго пробудилась в Греции, и тогда красные, евреи, картографы явились и украли ее, купили за фальшивые деньги, насмеялись, как будто унижая Самого Христа. Именно социалисты, а не тори, поставили прагматизм выше чести. Национальную гордость продали в розницу в свингующих шестидесятых. Ее продавали на Карнаби-стрит и в Брюсселе, торговали трусами с изображением государственного флага Соединенного Королевства и сумками с портретом лорда Китченера. Национальная гордость покидала страну вместе с зонтиками, корзинами, пепельницами и пластмассовыми гвардейцами, которых увозили в Америку и Японию. Когда она им понадобилась и о ней вспомнили – ничего не осталось. Национальная гордость стала тающим мороженым в нескольких шагах от галереи Тейт, сломанной безделушкой на полу гигантского сингапурского авиалайнера, смешной шляпой-котелком на голове у саудовского школьника. Четвертьвековой юбилей[99] станет просто распродажей остатков. Остатки чести, как фальшивые святые реликвии, будут по дешевке продавать азиатские оборванцы пьяным иностранцам на Пэлл-Мэлл. Если Великобритания, предав греков, предала свое прошлое, то она предала и свое будущее, а это величайшее безумие. Они послали в бой беззащитных греков. Британцы смотрели, как русские бегут с Украины и из Грузии, и ничего не делали. Они смотрели, как польские кавалеристы вторгались в Галицию и Молдавию и захватывали вожделенные в течение многих столетий земли. Они смотрели, как социалисты шагали по улицам Мюнхена и Гамбурга. Они беспомощно поднимали руки, когда Ганди бросал свои диссидентские армии против короны, когда ирландские республиканские гангстеры взрывали полицейские казармы и почтовые отделения. И привередливая Америка отвернулась от хаоса, который сама же и помогла сотворить. Она заявила, что испытывает отвращение к Европе, и выбрала президента, который повернулся спиной к духовному наследию и повел свою страну к мечте, почти уничтожившей великие идеалы.
Они давали женщинам право голоса, слушали по радио Нелли Мельбу[100] и думали, что видят путь к Утопии. Кое-где дальновидные люди пытались идти против течения. Адмирал Хорти[101] боролся против коммунизма. Венгры знали, что такое бояться турок. Тем не менее великие державы самодовольно посмеивались, подписывая документы, которые обрекали целые христианские страны на гибель и подчинение тирании. Но самое главное, самое яркое выражение этого предательства – их отказ поддержать греков против турок. Христа раздели донага. Его высекли. Его снова пытали. Не фарисеи, нет. Его предали римляне, те самые люди, которых Он пытался спасти. Иегова был евреем, но Христос был греком. Пусть евреи забирают себе своего слюнявого Иегову, забирают Иуду Бен-Гура, Иону, Иеремию, Иосифа и Иуду. Мы сохраним Иисуса. Мы защитим Его. Славься, Боже! Крест – греческий. Византия – наша столица. Wann werden wir Zurück sein?[102] Мы поднимем наши копья, чтобы прогнать красноглазого волка, злобного шакала и тараторящую обезьяну! Наша честь воссияет золотом, как солнце. Наш путь озарит наша решимость и наша храбрость, мы станем похожи на ангелов, спустившихся на землю, чтобы возродить гордость христианского мира и поставить в центре мироздания крест. Ни один человек не сможет причинить мне вреда, ибо щит мой крепок. Он отразит всю ложь. Меня не смутит их клевета. Они пытались сбить меня с истинного пути, они шептали о моей крови. Моя кровь – кровь казака и христианина! Ни один металл не очернит ее. Ни один металл не пропитает ржавчиной мои вены! Я – ртуть. Я – серебро. Мой живот крепок. Они попытались ослабить меня, молясь надо мной, когда я был еще слишком мал, чтобы сопротивляться. Этот псевдо-Авраам! Чего он хотел добиться? Мой отец взял нож и обрезал меня. Во имя прогресса он заклеймил меня печатью Иуды. Но я посмеялся над всеми своими врагами. Взмахивая серебряными крыльями, я пролетаю над их головами и сопротивляюсь призывам их шлюх. Я избегаю их стрел так же легко, как их угроз! Моя честь цела. Они не погубят меня так, как погубили греков.
Я сидел и пил с капитаном Папарайопулосом, вскоре позабыв о боли в спине. Время от времени один из его солдат заходил в коверную лавку и требовал новых указаний. Через некоторое время капитан равнодушно отмахнулся от своих подчиненных – он выпил не меньше, чем я. Но один, казалось, имел отношение ко мне – ближе к вечеру капитан вцепился в мое плечо, указав на крышу склада. Хихикая, он передал мне свой полевой бинокль. Так я смог получше все разглядеть.
Они привязали мой опытный образец на спину несчастного Хассана. Я беспомощно смотрел, как они заливали бензин в двигатель, раскручивали пропеллер и готовились сбросить кричащего и вырывающегося мальчика с крыши на верную смерть. Капитан Папарайопулос был чрезвычайно удивлен:
– Я хочу помочь вам испытать машину.
Я попытался объяснить ему, что механизм требовал осторожного обращения, но он отказался слушать. Он заявил, что это шанс Хассана улететь на свободу – или в рай.
Машина разбилась вдребезги. В бинокль я разглядел, как дергалось изломанное, окровавленное тело мальчика. Он, конечно, большего не заслуживал, потому что обманывал меня, – и все же это было неприятное зрелище, и оно запечатлелось в моей памяти. Еще одна упущенная возможность!
День спустя меня доставили обратно в Скутари, сначала на бронированном поезде, затем в автомобиле «кроссли», со всеми почестями. В поезде меня ожидал греческий полковник, он записал все сведения, которые я сообщил. Он заверил меня, что графа Синюткина арестуют, как и всех, кто с ним работал, – и турков, и иностранцев. У полковника было веселое лицо, покрытое бронзовым загаром, и моржовые усы. Он напоминал добродушного грузинского патриарха. Он сказал, что мне следует поехать в Афины. Греки ценят отвагу и знания. Мне стоило прислушаться к его словам. Полковник заверил, что, когда греки завоюют Турцию, они займутся Балканами и Кавказом, а потом смогут бросить вызов и самому Троцкому. Он обещал, что моя мать будет спасена. Я верил ему. Откуда мне было знать, что тайные соглашения в Уайтхолле и Вашингтоне уже утвердили гибель Греции, ей остались только никчемные обещания – а что они значили против пушек Захарова? Греческие юноши гибли от турецких штыков, на которых стояли штампы «сделано во Франции», падали на колючую проволоку, изготовленную женщинами-католичками на туринских фабриках. Когда-то про лорда Пальмерстона[103] сказали: если бы так, как поступила страна под его руководством, поступил человек, общество тут же подвергло бы его остракизму. Пальмерстон унизил английскую политику, превратил ее в корыстную и недальновидную возню, а затем нанес последний удар, сделав своим преемником еврея! Его тень пала на столы переговоров и осудила на смерть половину нынешней Европы. Политики думали, что гораздо важнее выжать еще несколько немецких марок, чем сохранить идеалы, за которые умирали их кровные родичи.
«Кроссли» отвез меня прямиком к Хайдур-паше, и британские офицеры почти сразу отпустили меня. Я попытался передать им свои сведения, но они сказали, что уже получили отчет греческого полковника. Мне пришлось возвращаться домой с небольшим багажом. Я выбросил свой изорванный деловой костюм и облачился в греческую армейскую рубашку и бриджи, британские башмаки и краги, французское пальто. Я напоминал тех русских, которые бежали от большевистской угрозы. Спустившись на Скутари-сквер, к причалам, чтобы сесть на паром, я оказался в компании нескольких бедолаг, только что эвакуированных из Ялты. Они спросили, где и под чьим началом я сражался. Я сказал им, что был в Киеве, служил офицером связи с союзниками, был в плену у красных и зеленых. Эти люди выглядели полумертвыми от усталости и совершенно сбитыми с толку. Они надеялись добраться до Южной Америки и присоединиться к аргентинцам, так как, очевидно, в Константинополе рассчитывать было не на что. Об этом они узнали от родственников, живших в городе, и теперь собирались как можно скорее завербоваться на корабль. В письмах, полученных от товарищей, они прочли о больших возможностях и спокойной жизни солдат в Южной Америке. Когда мы сошли с парома, я пожелал им удачи, а потом, дрожа, пешком пробрался по крутым улицам Галаты и наконец достиг Гранд рю. Я почему-то ожидал, что улица сильно переменилась. Как ни странно, я отсутствовал не больше десяти дней. А мне казалось, что прошли месяцы, и я очень боялся, что с Эсме что-то стряслось. Лишившись моей защиты, она могла стать жертвой любого сутенера, шнырявшего по «Токатлиану». Разве граф Синюткин не сделал это место своим штабом? Я был уверен, что кое-кто из белых работорговцев уже оценил ее красоту. Поэтому меня переполняли самые мрачные предчувствия, когда я крался в «Токатлиан» через черный ход и подходил к дверям нашего номера. Я был убежден, что граф не отправил мою телеграмму.
Где-то между Скутари и Анкарой я потерял свои ключи. Я постучал в дверь нашего номера, не ожидая ответа. Мое сердце неистово билось. Я вспотел от волнения. Хотя было всего четыре часа, снизу, из ресторана, доносились звуки музыки и гул голосов. После всех приключений у меня остались только несколько соверенов и раны на спине. Мой опытный образец погиб, а все чертежи сгорели.
Дверь открылась. Передо мной стояла Эсме. Она замерла, потом заплакала и, наконец, рассмеялась. После секундного колебания (несомненно, из-за моего странного костюма) она обвила маленькими нежными ручками мою шею и с восторгом расцеловала меня, не обращая внимания на небритые щеки. Я содрогнулся от внезапного облегчения. Мои страхи были безосновательны, все хорошо. Получила ли она телеграмму? Эсме ответила, что ничего не получала. Она считала, что ее бросили. Потом предположила, что я умер. Мне не следовало ездить на азиатский берег, сказала она. Турки – просто звери.
Я помылся, переоделся и поведал кое-что о том, что произошло. Эсме все еще была необычайно взволнована, но слушала, открыв рот от удивления и живо откликаясь на все детали моего рассказа. От такого внимания, выдававшего ее искреннюю радость, я буквально ожил. Развалившись на подушках, я попросил Эсме принести немного кокаина и послал ее вниз за кофе и едой. Она приготовила порошок именно так, как я ее научил. Я обнаружил, что наши запасы практически закончились – кокаина осталось гораздо меньше, чем я рассчитывал. Я снисходительно улыбнулся:
– Ты была жадной маленькой обезьянкой!
Эсме вспыхнула. В своих белых кружевных юбках она выглядела такой же очаровательной и милой, как любая русская девочка хорошего происхождения. Сгорая от любви, я поднял Эсме на руки и поцеловал. Я сказал, что очень жалею о том, что не смог привезти ей подарок. Она, запинаясь, попыталась что-то ответить. Тогда я вытащил кошелек с золотом Этема и бросил его Эсме, тут же подхватившей деньги.
– Теперь мы можем уехать, как только захотим.
Ее радостный ответ меня удивил:
– В таком случае нам придется уехать очень скоро. – Она была очень серьезна. – В Константинополе с каждым днем все хуже. Убивают все больше. Исчезают самые разные люди. Не только девочки. Баронесса сказала, например, что пропал ее друг граф Синюткин. Как сквозь землю провалился, по ее словам.
– Ты видела баронессу? Это хорошо.
Эсме отвлеклась, сосредоточившись на кристалликах кокаина. Она кивнула, продолжая необычайно внимательно рассматривать белые полоски.
– У нее все хорошо?
– Думаю, да. – В ее голосе звучало пренебрежение.
– А Китти?
– Да, у нее все хорошо, – произнесла Эсме почти шепотом.
– Вы играли вместе?
– Довольно давно.
– Я вскоре увижусь с ней. Как только мы раздобудем что-нибудь поесть.
Эсме подала мне декоративное зеркало, на поверхности которого протянулись очень ровные дорожки кокаина. Она, как обычно, проявила чрезвычайную аккуратность в этом деле. Я взял серебряную трубочку, вложил ее в правую ноздрю и глубоко вдохнул. Как прекрасно было вновь получить столь нужное лекарство! Я тотчас почувствовал новый прилив воодушевления и удовольствия. Еда была готова, но мы к ней почти не притронулись. Эсме пожелала заняться любовью.
Время приближалось к полуночи, когда я поднялся по служебной лестнице отеля «Византия» и чуть слышно постучал в дверь баронессы.
Она немедленно отворила, но очень испугалась, увидев меня. Леда Николаевна выглядела нехорошо. Ее лицо вытянулось, кожа огрубела, веки набрякли. Волосы были зачесаны назад – баронесса готовилась ко сну.
– Ты одна? – прошептал я. Китти обычно спала на кушетке у окна. Я сделал шаг вперед, но Леда преградила мне дорогу. Она покачнулась. – Тебе плохо? Надеюсь, ты не подхватила сыпной тиф? – Я предположил, что баронесса почувствовала слабость, потрясенная тем, что я вернулся живым и невредимым. – Ты думала, что я попал в беду, Леда?
Ее ответ меня поразил.
– Я хотела, чтоб так оно и было, – произнесла баронесса громким, почти истерическим шепотом и взмахнула рукой, будто пытаясь оттолкнуть меня.
Я заглянул в комнату через ее плечо. Китти ворочалась на кровати матери. Я решил, что Леда боится потревожить ребенка.
– Я пытался послать телеграмму, но меня держали в плену. – Заговорив, я почувствовал, что выбрал неверный тон – я как будто извинялся. – Мы сможем увидеться завтра?
Она сказала тихо, но более отчетливо:
– Я пошлю вам письмо.
Слегка озадаченный, я тем не менее шагнул вперед, чтобы поцеловать ее в щеку, но она поспешно отступила, свирепо взглянув на меня. В ее шепоте зазвучали стальные нотки:
– Меня предупреждали, что вы ужасный лжец, но я не верила. Я даже подумать не могла о таких мерзостях!
Я был изумлен:
– Граф Синюткин говорил с тобой? Если так, то должен предупредить: он уже обманул меня…
– Я не видела графа Синюткина. Возможно, его арестовали турки. – Она дернула дверь, чтобы закрыть ее. – Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я не хочу тревожиться из-за такого ничтожества, как вы.
– Леда!
Я не собирался отступать. Тогда она вышла в коридор, накинув то самое синее шелковое кимоно, которое я купил ей на Гранд-базаре.
– Ты так красива, – сказал я.
Баронесса закрыла за собой дверь. Она густо покраснела. Я впервые видел до такой степени разъяренную женщину. Она прошипела:
– Максим Артурович, я больше никогда не желаю видеться с вами. Я не собиралась вас предупреждать, но всерьез подумываю, что следует сообщить о ваших похождениях властям. Даже в этом омерзительном городе должны остаться порядочные люди. Вы обманули мое доверие, заставили Китти играть с вашей шлюхой – и это ужасно само по себе, но вы обольстили это существо и – прямо у меня под носом – изобрели такую мерзкую фантазию… И это нельзя простить!
Я наконец все понял, и сердце у меня ушло в пятки. Я начал слабо возражать:
– Я ее не совращал. Она была шлюхой, когда я ее нашел. Я ее спас. Ты себе противоречишь, Леда!
– И вы хотели втянуть нас с Китти в этот ужасный спектакль, в эту пародию на семью! Какие мерзости вы себе воображали?.. Что вы задумали?!
Это было слишком близко к моим подлинным фантазиям. Я отступил. То, что я считал прекрасным и удивительным, сумасшедшая, злобная, ревнивая пуританка представила в худшем свете.
– Надеюсь, что вы как минимум заплатите высокую цену за свою подлость. – Теперь баронесса приблизилась ко мне. Я отступил насколько мог и наконец уперся в перила. – Я думала, что у вас хватило мужества покончить с собой. Я надеялась, что вас пытали и убили. Я мечтала о том, что полицейские найдут ваше тело в Босфоре и попросят меня опознать труп. Я думала, что откажусь или заявлю им, будто тело не ваше, – хотела удостовериться, что вас бросят в общую могилу со всеми прочими мерзавцами этого грязного города. Но вот, пожалуйста, кошмар стал явью! Вы целовали меня теми губами, которыми касались ее. Самые худшие рассказы о вас оказались правдивыми. Я не посмела спросить Китти, чем вы занимались, когда меня не было рядом! Моя бедная, невинная девочка!
– Я люблю Китти как отец! – Я тоже перешел на шепот. – Леда, ты должна понять: я не хотел никого обидеть. Я сделал это ради тебя. Как ты узнала?
– Неужели эта маленькая шлюха вам ничего не сказала? Она была убеждена, что вас убили. Вы давали ей наркотики. Она не знала, что с нею станется. Она была слишком пьяна, когда встретилась со мной. Я сказала, что помогу ей добраться до дома. Именно так я обнаружила ваше омерзительное убежище. Вы жили с ней в нашем особом отеле! О, как вы, должно быть, насмехались надо мной! Вы не человек. Вы самый мерзкий из дьяволов. В ту ночь мало-помалу все разъяснилось. Она, по крайней мере, раскаивалась. Но вы… вы не испытываете никакого раскаяния! Только ярость, ведь я узнала правду и расстроила ваши планы. Вы просто позор своего народа!
– Все не так плохо, как кажется. – Я старался говорить как можно спокойнее. – Просто неудачное стечение обстоятельств…
– Из-за вас моей дочери угрожала опасность! Вы отрицаете, что занимались любовью с девочкой, которая была не старше Китти? Вы предали все мои лучшие чувства, цинично использовали мою любовь для того, чтобы добиться своих извращенных целей! И как вы можете лгать? Вы до сих пор лжете! О, как я мечтала, чтобы вы умерли медленной и мучительной смертью!
– Все это просто нелепо. Поверьте, Леда Николаевна, мои чувства также были самыми возвышенными. Любимая, я испытываю к Эсме отцовские чувства, как и к Китти. Клянусь, это исключительно платонические отношения. Если она сказала что-то еще – это просто детское заблуждение или ее собственная нелепая фантазия.
– Максим Артурович, с каждым словом вы становитесь все отвратительнее. Я видела вашу одежду! Постель! Записочки, адресованные ей!
– Это совсем не то, о чем вы подумали. Вы осудили меня слишком поспешно. Полагаю, вы пожалеете об этом. – После пережитых ужасных испытаний я больше не мог терпеть. Я решил отступить. – Я не стану спорить с вами здесь, на лестнице. Я намерен уйти. Если вы придете в себя и пожелаете поговорить со мной, будьте добры, сообщите об этом заранее письмом. – Я приподнял шляпу. – Прощайте, Леда Николаевна.
Кажется, эта женщина унизилась до того, что плюнула в меня, но я сделал вид, что ничего не заметил. Я спокойно спустился по лестнице. Очень неприятно видеть благородную даму, которая переняла манеры и выражения, более уместные в сточной канаве.
Обрадовавшись, что мне удалось избавиться от бессмысленных обвинений старой ведьмы, я возвратился в свой относительно спокойный номер в «Токатлиане». Там ждала напуганная и виноватая Эсме. Она знала, что поступила неправильно, но как я мог на нее сердиться? Еще не придя в себя после недавних потрясений, я сидел на стуле, поглаживал плачущую Эсме по голове и пытался разобраться в собственных мыслях. Мне срочно требовался новый план. Меня тревожило то, что озлобленная баронесса могла рассказать обо мне властям. Я, вероятно, сумел бы доказать, что не совращал несовершеннолетних. Я надеялся, что Эсме могла бы признаться, что до меня спала по крайней мере с одним мужчиной. Я мог настоять, что был просто ее опекуном, что спас ее от греха, но скандал наверняка помешал бы получить английскую визу. Время шло, и мое беспокойство усиливалось. В ту ночь я не спал – обдумывал немногочисленные варианты. Казалось, что весь мир снова сговорился против меня. Неужели меня ожидает наказание только за то, что я великодушно отдавал всего себя двум женщинам, делая их обеих счастливыми? Я предполагал, что ревность баронессы может стать угрозой. Теперь справедливость моих суждений была доказана. Леда притворялась светской женщиной, но я всегда подозревал правду. Если бы она начала действовать тотчас же, то могла бы причинить мне огромные неудобства. Возможно, я лишился бы свободы. И никакие мои угрозы не заставят ее замолчать, она не примет ни одного моего предложения. Я погрузился в бездну отчаяния. Рядом со мной в постели мягко посапывала маленькая Эсме, из-за которой все это и началось.
Вопреки всему, я заставил себя следующим утром отправиться в британское посольство. Мне каким-то образом удалось пробраться через собравшуюся снаружи толпу. Я в панике ворвался в коридор. Я оказал немалую помощь британцам. Благодаря полученной от меня информации они смогли арестовать важного шпиона. У меня в Англии осталась жена. Я служил с австралийцами. Все это я объяснил румяным мальчишкам-полицейским, которые преградили мне путь. Стараясь перекричать доносившиеся снаружи мольбы, я обрисовал в общих чертах свое затруднительное положение: я участвовал в серьезной шпионской операции в Анатолии. Я мог сообщить имена всех людей, связанных с Синюткиным. Но теперь моя жизнь в опасности. У меня есть чертежи, сказал я, представляющие огромную важность для британского правительства. К тому времени, когда я умолк, мой коричневый костюм пропитался потом. Полицейские спокойно посоветовали мне предоставить заявление в письменной форме. Я начал требовать встречи с кем-то из начальства. Именно тогда один из солдат заявил, что мне лучше убраться в ту крысиную нору, из которой я вылез. Теперь меня оскорбляли не только офицеры, но и стоявшие сзади русские и иностранцы, отчаявшиеся и впавшие в истерику. Стараясь добиться каких-то привилегий, они превратились в настоящих зверей. Мне не оставалось ничего другого, кроме как отправиться в доки и отыскать своих армянских друзей. Мне следовало встретиться с одним знакомым. Армяне посоветовали мне зайти в грязную кофейню около Карантинной гавани.
Я тащился вверх и вниз по сотням ступеней в переулках, проходил под веревками, на которых висело поношенное белье, уворачивался от собак, ослов и турок. В конце концов я отыскал лавочку в подвальном помещении большого полуразвалившегося сооружения из дерева и кирпича, некогда зеленого цвета. Потускневшая надпись на французском сообщала, что здесь располагался «Знаменитый магазин тропических птиц Альфазяна». Изнутри время от времени доносились пронзительные крики или бормотание длиннохвостых попугаев – судя по всему, заведение Альфазяна не процветало. Ступени, ведущие к кофейне, были гнилыми и скользкими. Я поспешил и едва не провалился в подвал. Внутри было полно армян и албанцев, они курили длинные пеньковые трубки и смотрели на меня то ли задумчиво, то ли настороженно. У стойки, покрытой клеенкой, я спросил про капитана Казакяна. Огромный коренастый человек в грязном американском кепи вышел из тени и сделал шаг ко мне, дымя сигаретой. Я узнал капитана и подошел к его столику.
– Вы – грек, который хорошо починил мою лодку, – сказал он по-русски. – Итак, друг, чем я могу быть полезен?
Я сказал, что запомнил его слова о том, что он часто возит туристов в Венецию и обратно. Что если он захватит еще одного пассажира, у которого, возможно, нет всех необходимых документов для въезда в Италию? Он уклончиво кивнул:
– У вашего друга проблемы, господин Папанатки?
– У меня и у моей сестры. Мы должны уехать немедленно. Когда вы планируете отплыть?
Он вздохнул:
– Конкуренция в этом сезоне просто ужасная. И вдобавок эта проклятая война. Самые крупные корабли забирают всех туристов. Я смогу вернуться из Венеции разве что с десятком пассажиров. Их денег едва ли хватит, чтобы оплатить расходы. – Он скорбно посмотрел на меня. – Поэтому все обойдется в сотню за двоих.
Он имел в виду золото. У меня была такая сумма в соверенах.
– Вы сможете взять наши сумки и все прочее? – спросил я.
– Конечно. – Он радушно взмахнул рукой. – Сумки. Чемоданы. Котики и собаки. Никакой доплаты. – Он рассмеялся, завидев мое облегчение. – Мне не нужно место на борту. Корабль сейчас наполовину пуст.
Мы договорились, где встретиться и как я должен действовать. Корабль будет стоять на малом причале у доков Тифана. Я покинул кофейню с предчувствием, что мое спасение уже совсем близко. На улицах воняло сыростью и гниющими специями. Я словно опьянел к тому времени, когда достиг своей следующей цели, винной лавочки около Башни, за которой располагалась контора моего болгарского знакомого. Еще за пятьдесят фунтов я получил выездные визы и более-менее прилично изготовленные паспорта для меня и Эсме. Эти документы не годились для того, чтобы проникнуть в Англию, но могли оказаться полезными в странах, где не так хорошо знакомы оригиналы. Я назвал фамилию Корнелиус и снабдил болгарина необходимыми подробными сведениями, включая фотографии, которые сделал заранее. Пока я ждал, он изготавливал паспорта, всматриваясь в гигантскую лупу в свете керосиновой лампы, потом с восхищением полюбовался результатом своей работы, склонившись над старым столом красного дерева, покрытым пятнами от химикатов.
Я вернулся домой ближе к вечеру. Эсме явно была в отчаянии, волосы ее растрепались. Она испугалась еще сильнее, чем тогда, когда я покинул ее. Баронесса приходила довольно рано. Узнав, что меня нет, она оставила записку. Когда Эсме отдавала мне конверт, ее рука сильно дрожала. Я притворился храбрым и попытался успокоить ее. Все уже готово, ей нужно только упаковать вещи – все, что она хотела взять. Тут Эсме залилась слезами и обо всем рассказала.
– Она говорила, что меня арестуют. Моих родителей арестуют. Тебя расстреляют!
В глубине души я злился на эту женщину, которая трусливо угрожала невинной девочке, но внешне сохранил сдержанность и просто пожал плечами:
– Она безумна. Ревнует.
Я вскрыл письмо. Оно, без сомнения, отражало непостоянство баронессы. Леда писала, что, возможно, поспешила с выводами. Она обдумала то, что я сказал накануне вечером. Теперь она полагала, что меня ввела в заблуждение «маленькая турецкая шлюха». Эсме, по всей видимости, связана с бандой, которая похитила меня. Если бы я избавился от девчонки тотчас, это, вероятно, спасло бы меня, и баронесса подумала бы о том, чтобы меня простить и, быть может, даже поехать со мной в Берлин и заодно избежать скандала и возмездия. Я должен встретиться с ней в ресторане в десять часов вечера, чтобы мы смогли обсудить, как поступить. Я счел эту резкую перемену скорее неблагоприятной, но решил, что еще одно свидание не повредит. Успокоив баронессу еще на двадцать четыре часа, я наверняка сумею избежать проблем с властями. Я показал записку Эсме. Она не умела читать по-русски.
– Разумеется, это шантаж. Но я пойду к ней, чтобы выиграть время.
Эсме попыталась успокоиться.
– Что же мне делать, Максим?
– Как я тебе сказал, нужно сложить вещи в сумки и чемоданы. Завтра нас заберет автомобиль. Все устроено. – Я обнял ее. – Не волнуйся.
Будь храброй маленькой обезьянкой. Мы уже на пути в Венецию. Ты всегда хотела путешествовать. Оттуда мы можем добраться до Парижа, если захотим. И до Англии. Там ты будешь в полной безопасности, моя любимая. Это по-настоящему цивилизованные страны. Не то что Турция.
Но убедить ее мне так и не удалось. Когда наше спасение стало реальным, она, по-моему, начала нервничать. Ведь ей был знаком только Константинополь. Здесь она могла выжить. А как она будет существовать в другой стране? Я понимал ее тревогу. Я чувствовал то же самое, покидая Одессу.
– Все будет в порядке. Мы будем счастливы. – Я пытался ее приободрить.
– У баронессы есть друзья в этих странах. – Эсме явно беспокоилась. – Нас арестуют, Максим.
– У нее нет никакого влияния. Это бессмысленно. Она может причинить только мелкие неприятности. Она напрасно решила, что способна навредить. Подобные люди никогда не доставляют больших проблем. Мы будем путешествовать как Максим и Эсме Корнелиус, британские подданные. Она об этом не узнает.
Эсме вновь попыталась взять себя в руки, хотя настроение ее оставалось далеко не радужным. Я рассмеялся и поцеловал ее:
– Через неделю мы отправимся на прогулку по Елисейским Полям. У тебя будет новое парижское платье.
Она сказала:
– Может, лучше сначала поехать в Афины? Или в Александрию?
Это меня позабавило:
– Ты настоящее дитя древнего мира. Неужели тебе так трудно расстаться с ним? Малышка, нам нужно думать о Лондоне и Нью-Йорке. Тебе не следует ничего бояться. Я всегда буду защищать тебя.
Она покачала головой и снова чуть не разрыдалась:
– Однажды тебя уже схватили. А если такое случится в Венеции…
– В Венеции ничего подобного не случится. Там по-настоящему цивилизованная страна. Тебе, может, до сих пор неизвестно, что это означает, но ты должна верить мне.
Я потратил остаток вечера, успокаивая ее. В конце концов Эсме начала аккуратно доставать одежду из ящиков и шкафов и осматривать ее, как разумная маленькая хозяйка. Потом она медленно уложила свои шелковые платья. Около десяти я поцеловал ее и спустился, чтобы встретиться со своей непостоянной баронессой.
В «Токатлиане» собралась огромная толпа. Солдаты в разных мундирах сидели вместе за столами, обнимая девиц за мягкие голые плечи. Оркестр, как обычно, играл отвратительный джаз, а официанты с трудом проталкивались сквозь толпу, отыскивая своих клиентов. Арабы в бурнусахш турки в фесках, албанцы в овчинных куртках, черногорцы в войлочных накидках, черкесы в кожаных тужурках собирались и пели вместе или по отдельности прятались по углам. Русские в великолепных царских мундирах, все как один напоминавшие покойного императора, пробирались с места на место, отыскивая друзей, справлялись о пропавших родственниках, доставали из карманов кольца, ожерелья, маленькие иконы и предлагали их на продажу надменным левантинцам. Эти аристократы научились просить милостыню. На протяжении многих поколений их предки, презиравшие всякую торговлю, смотрели свысока на влиятельных финансистов и великих бизнесменов. Теперь, опустившись до уровня базарных мальчишек, они повсюду носили свои жалкие товары, потому что не могли заплатить даже за аренду прилавка на рынке. Сначала, в тусклом свете, я не разглядел баронессу, которая уже сидела за столиком у окна. Потом снаружи проехал трамвай, и в ярком свете его фар я увидел Леду. Она надела свое лучшее красно-черное платье и все оставшиеся драгоценности. Ее спина казалась неестественно прямой – баронесса явно нервничала. Она увидела меня и взмахнула рукой. Добравшись до столика, я отметил, как сильно накрасилась Леда в этот вечер. Она плакала.
– Не надо плакать, – сказал я. – Страх помрачил твой разум. Ты сделала слишком поспешные выводы.
– Не думаю, что упустила что-то важное, – твердо сказала она. – Ты не должен лгать мне, Максим. Если хочешь спастись, поклянись, что с этих пор будешь говорить мне правду и только правду.
Я расслабился, изобразив оскорбленную гордость:
– Моя дорогая Леда, я не желаю, чтобы кто-то расспрашивал меня о моих планах! Я полагал, что моего слова вполне достаточно. За последние дни я вытерпел уже достаточно допросов!
– Но ты должен сказать мне правду, – настаивала баронесса. – Ты клянешься?
Я склонил голову:
– Если тебе угодно, хорошо, клянусь.
– Я должна точно знать, на каком крючке она тебя держит. Ты такой впечатлительный! Она могла завлечь тебя в любую ловушку, пойми. Ты боишься ее?
– Конечно нет.
– Ты говорил, что скажешь правду.
Я неохотно сообщил баронессе то, что она хотела услышать. Зачастую людям только этого и надо.
– Я немного побаиваюсь, – признался я. – У нее есть родственники в Константинополе. Возможно, они преступники.
– Она намекала на что-то подобное. Несомненно, они связаны с турецкими мятежниками. Они угрожали выдать тебя?
Она ничего не знала об участии Синюткина в моем похищении. Я думал, что лучше не сбивать ее с толку.
– Я отправился в Скутари, чтобы встретиться с графом. – Подошел официант, и я понизил голос. Леда заказала легкие закуски. – Там меня связали и засунули в автомобиль. А потом повезли вглубь страны!
– И ты не заподозрил ее?
– Мне это даже в голову не приходило.
На лице Леды теперь появилось выражение, которое мне было плохо знакомо: смесь высоконравственной настойчивости и развращенности. Видимо, я не был далек от истины, когда предположил, что она безумна. И теперь мне еще сильнее, чем прежде, захотелось разыграть ее.
– Выходит, вот как они узнали, где меня искать… – пробормотал я удивленно.
– Именно! Она второразрядная мелкая Мата Хари. Вероятно, она была их агентом в течение многих лет. Она притворяется невинной жертвой. Это самая лучшая маскировка. Признаюсь, меня она тоже поначалу обманула. Но когда вчера вечером я увидела, насколько ты потрясен, обо всем догадалась.
Я не думал, что сама баронесса в полной мере поверила этому объяснению. Но, как говорится, русский, найдя разумное обоснование, готов действовать. Теперь, предположив, что меня обманули, баронесса смогла все объяснить. Она искала злодея – и нашла. Леда не хотела со мной расставаться, и в итоге Эсме пришлось стать чудовищем, которым еще вчера казался я.
– Мне нужно соблюдать осторожность, – пробормотал я, – если хочу от нее сбежать.
– Ты должен немедленно пойти к англичанам. Они пожелают узнать о мятежниках. Я сомневаюсь, что они доверяют информации, полученной от султана. В нынешнем правительстве половина чиновников – младотурки, уже поддержавшие националистов. Все прочие на содержании у французов и итальянцев. Мне доподлинно об этом известно.
Ты должен пойти завтра в гавань и узнать, на месте ли «Рио-Круз», или когда он вернется. Капитан Монье-Уилльямс сведет тебя с нужными людьми.
Леда забыла, что наш корабль совершил последнее плавание в этих водах. «Рио-Круз» уплыл навсегда. Но я снова промолчал. Бедняжка наполовину обезумела, в значительной степени, подозреваю, от недостатка сна и кокаина, поскольку я больше не снабжал ее наркотиками. Баронесса нахмурилась. Она почти ничего не ела.
– Миссис Корнелиус что-то знала об этой девчонке?
Кажется, она заранее подготовила список вопросов.
– Немного. Она тоже пыталась меня предупредить.
Баронесса покровительственно вздохнула:
– О Симка… Ты еще совсем ребенок. Тебя ввели в заблуждение. Как ты мог позволить ей подобное?
– Она напомнила мне Эсме Лукьянову, девушку, на которой я должен был жениться.
Из расшитой бисером сумочки Леда достала надушенный носовой платок и приложила его уголок к глазам.
– Ты слишком романтичен, мой дорогой. Но посмотри, куда это тебя привело. Она попросила у тебя защиты. Наверное, это означало знакомство с влиятельными людьми?
– У нее ничего не было, понимаешь…
– Ничего! – Баронесса расхохоталась. – Она, вероятно, зарабатывает больше самого султана, продавая наши тайны своим хозяевам в Анкаре. Вот почему она попыталась меня обмануть, когда решила, что тебя заманили в ловушку и увезли навсегда. Она хотела добраться до графа Синюткина. Она, возможно, даже добилась успеха. Бедняга просто исчез.
– Так я и понял.
Упоминание о графе заставило меня внезапно развернуться, как будто он мог оказаться у меня за спиной. Но вместо Синюткина я заметил у бара щегольски одетого бимбаши Хакира, поглощенного беседой с французским офицером. Турок мельком взглянул на меня, а потом продолжил разговор. Я по-настоящему заволновался, поняв, что поймана не вся банда. Они знали, кто их разоблачил, и могли отомстить.
– Здесь я не чувствую себя в безопасности, – сказал я Леде. – Зайдем ненадолго ко мне. Мы сможем поговорить как следует – там меньше вероятности, что нас подслушают.
Она согласилась без всяких колебаний. Я оплатил счет, и мы медленно вышли, покинули душный ресторан и окунулись в относительно прохладный воздух Гранд рю. Мимо нас проехала процессия закрытых конных экипажей. Повозки заполонили улицу. С обеих сторон шагали турецкие солдаты в парадной форме. Этот таинственный караван скрылся у Галатской башни, и на улице снова появились обычные трамваи, телеги, легковые автомобили, как будто внезапно открылись невидимые ворота. Яркий свет газовых и электрических фонарей, завывания ужасной музыки, аляповатые вывески и постоянный скулеж нищих – все это внезапно пробудило во мне ностальгию. Я мог понять нежелание Эсме покидать этот город, в котором она выросла. Я был бы рад остаться здесь ради своей же пользы и чувствовал, что непременно вернусь, когда турки исчезнут и править будут греки или русские. Возрождение Православной церкви приведет сюда паломников со всех континентов. Но уменьшит ли новый порядок восточную притягательность Константинополя?
Когда мы с баронессой проходили мимо небольшого кладбища, поблизости от нас прозвучало несколько пистолетных выстрелов. Я услышал свистки полицейских. Это были вполне обычные звуки для ночной Перы, и никто из нас никогда не обращал на них особого внимания, но в тот раз я отреагировал куда более нервно, чем обычно. Я начал озираться по сторонам, изучая переулки, мимо которых мы проходили. Из одного выглянул мрачный майор Хакир. Турок выставил вперед револьвер. В другом месте я увидел выпрыгивающих из темноты башибузуков. Со всех сторон нас подстерегали опасности. Ночь была теплой и сырой, но на моей шее выступил холодный пот. Я несказанно обрадовался, когда мы добрались до квартиры. Здесь Леда буквально бросила меня на кушетку, не в силах справиться с наплывом внезапной жадной похоти:
– Я люблю тебя, – заявила она. – Я не могу видеть, как ты страдаешь, Симка.
Когда мы разделись, я решил, что это вполне разумная плата за двадцать четыре часа отсрочки. Я задумался: не сменит ли она пластинку, если я поступлю в соответствии с ее планами. От трудностей жизни в этом городе ее ум помутился. К счастью, я понял это прежде, чем предложил ей отправиться в путешествие вместе со мной и Эсме. Леда могла бы причинить гораздо больше вреда, если бы решила осудить меня на Западе, в другой стране. Я с меньшим восторгом, чем обычно, подчинялся ее желаниям, объясняя отсутствие интереса тем, что боялся Эсме и ее друзей-националистов. «Токатлиан», очевидно, стал рассадником революционеров, безжалостных авантюристов и отчаянных мужчин и женщин самых разных типов. Я не мог больше там оставаться. Я сказал, что перееду в эту квартиру. Потом я сообщу властям о наших подозрениях касательно Эсме.
– Но что если она догадается?
Я по-настоящему развлекался, позволяя баронессе обсуждать множество вариантов предательства моей любимой Эсме. Если бы я был циничен, то мог бы подумать, что все женщины – бессовестные предательницы. Очень многие из них рассуждали об этике и порядочности только для того, чтобы поддержать свой авторитет, когда им это требовалось, чтобы добиться власти или, как в данном случае, чтобы угрожать другим людям. В Константинополе все цеплялись за самую ничтожную власть и, как следствие, все продавались. Женщины, рабы, слуги – все плели заговоры и ссорились в тени султанского дворца. Уже за несколько лет до того Абдул-Хамид, последний истинный османский император, обладал неограниченной властью, и все же постоянно носил при себе пистолет. Если беспокоили его, злили или пугали, он зачастую просто стрелял. Миллионы душ находились в его полном распоряжении. Такая абсолютная тирания приводит к тому, что подданные жаждут власти над каким-нибудь слабым созданием, будь то животное или ребенок. И в результате Константинополь стал городом, в котором обитало великое множество собак. И чем меньше власти было у людей, тем больше псов они держали.
В ту ночь, возвращаясь к Эсме, я с трудом оправился от потрясения: на какое лицемерие способна женщина, одержимая ревнивым желанием удержать мужчину! И все-таки я немного восхищался баронессой, даже несмотря на то, что она производила забавное впечатление – как человек, хитрости и отговорки которого прозрачны и поэтому безопасны. Когда я пришел, застал Эсме в состоянии ступора. Повсюду была разбросана одежда, чемоданы остались несобранными. Эсме сидела посреди груды платьев, она казалась бледной и напуганной. Ее прекрасные волосы спутались, глаза покраснели.
– Я не знаю, что делать, – сказала она.
Ее потрясла перспектива отъезда. Я спокойно начал сворачивать плащи и платья и укладывать их в чемоданы. Эсме беспомощно наблюдала за мной, как будто я собирался ее бросить.
– Я не верю, что это разумно, – произнесла она.
Я объяснил, что баронесса намерена выставить ее шпионкой. Я посмеялся над этим.
– Мы уедем прежде, чем она успеет нам навредить.
Тут Эсме снова начала негромко всхлипывать. Я едва не разозлился по-настоящему. Она вела себя как капризный ребенок.
– Послезавтра, – обещал я, – ты станешь Эсме Корнелиус. Они будут искать румынскую девочку по фамилии Болеску. Даже твои родители не узнают, где тебя найти.
– Но им нужно знать! Мы должны послать им денег.
– Я уже все подготовил. Теперь они будут получать еще больше. – Я решил сказать и сделать все возможное, лишь бы успокоить ее.
– Я смогу их повидать, прежде чем мы уедем?
Я заколебался. Я не хотел рисковать и снова разлучаться с Эсме.
– Так и быть, мы навестим их завтра утром.
– Лучше я пойду одна.
– Это слишком опасно.
Кажется, она все поняла и несколько оживилась, даже помогла мне упаковать кое-какие вещи. За полночь мы были готовы бежать в любой момент. Мы проспали до восьми, а затем отправились на квартиру, которую снимали ее родители. Было светлое, хотя и туманное, утро. Константинополь излучал свое знаменитое сияние – чудесное, тусклое, пастельное. Улицы казались приятными в этом свете. Мы несли два чемодана с одеждой, от которой Эсме отказалась. Она хотела отдать вещи своей матери. Хотя я и боялся, что мы останемся без денег, прежде чем доберемся до Венеции, я согласился дать ее родителям еще пару соверенов. Дряхлая пара приняла нас с обычным равнодушием. Господин Болеску уже купил себе новый костюм, который быстро запачкал в какой-то местной сточной канаве. Мадам Болеску разделывала рыбу на столе. Эсме поцеловала мать.
– Мы уезжаем в отпуск, – сказала она по-турецки. – Я хотела оставить тебе эту одежду.
Женщина кивнула и вытерла рот рукавом. Внезапно она посмотрела на меня и усмехнулась. На меня это произвело отвратительное впечатление – каменное лицо оказалось невероятно подвижным. Оскалились клыки, желтые и черные, из горла вырвалось что-то похожее на птичий свист.
– Доброго пути, мсье, – сказала она.
Эсме хотела остаться. Она попыталась заговорить с отцом, но тот дремал в углу и не мог ее услышать. Она обняла мать. Мадам Болеску потрепала ее по спине, продолжая улыбаться мне:
– Она хорошая девочка.
– Она очень хорошая девочка. Она получит образование в Париже.
Гротескное существо сочло эту фразу еще более забавной. Очевидно, я казался ей большим шутником. Женщина по-французски посоветовала Эсме повеселиться. Жизнь коротка. Ее не следует тратить впустую. Мы кажемся очень милой парой. Она должна слушаться, потому что вряд ли найдет еще такого же доброго джентльмена, как мсье. Потом мадам Болеску что-то добавила по-турецки. Эсме кивнула и поклонилась, прикусила верхнюю губу и ненадолго оживилась. Вскоре приступ сентиментальности прошел, и она покорно вложила свою руку в мою, как будто мы собирались позировать для фотографии. Мы на некоторое время застыли в этой позе, а женщина, не переставая аккуратно потрошить рыбу, разглядывала нас. Солнечный свет пробивался в комнату, его лучи касались пыльных некрашеных полов и кровавого, зловонного стола. Рыбьи глаза сверкали, как алмазы.
На обратном пути мы остановились, чтобы купить Эсме фисташек и миндального печенья. Она вела себя так, будто я тащил ее в тюрьму. Продавец пожал плечами, притворяясь, что ищет сдачу, постучал по своему прилавку, подзывая мальчика, а я посмотрел на маленькую тенистую площадь, где бананы, как огромные грибы, росли вокруг позеленевшего медного фонтана. Там на деревянной скамье сидел смуглый турок. На нем были строгий европейский костюм и феска. Турок пристально посмотрел на меня. Я потянулся к бедру. В тот день я захватил с собой револьвер. Не следовало изображать идиота и бродить без оружия, учитывая, что друзья графа Синюткина были повсюду. Я ни разу в жизни ни в кого не стрелял и поэтому сомневался в том, что смог бы точно прицелиться. Я оставил продавцу сладостей несколько монет и поторопил Эсме. Она с тревогой обернулась ко мне, и я сказал, что за нами следят.
Когда мы вернулись в «Токатлиан», Эсме начала дрожать от страха. Она умоляла, чтобы мы поехали на поезде. Ей становилось дурно всякий раз, когда поднималась на паром. Неужели нет другого способа покинуть Константинополь?
– О да, – жестоко ответил я, – есть несколько других способов. Но чтобы ими воспользоваться, нужно умереть! Ты хочешь присоединиться к «невестам Босфора»?
Всего несколько дней назад англичане отправили водолазов на поиски потерпевшего крушение корабля. Те сообщили, что на дне огромное количество тел, все они замотаны в мешки и опутаны цепями. Тела в основном принадлежали девочкам, которые разонравились Абдул-Хамиду, и вряд ли в этом подводном лесу обратят внимание на еще несколько таких же тел.
Попросив меня не повышать голос, Эсме заявила, что я напугал ее еще больше. Я смягчился. Я усадил ее к себе на колени. Я рассказал ей о прошлом Италии, радостях Франции, монументальных достопримечательностях Великобритании.
– И все эти страны – христианские, – сказал я. – Все они католические. Тебя никогда больше не будут преследовать. Никто не сможет угрожать тебе, не сможет продать тебя в гарем или заставить работать на миссис Унал.
Эсме вытерла слезы и посмотрела на меня, удивленно вздохнув:
– Это вроде бы скучно.
– Ты плохая, плохая девочка! – Я поцеловал ее. – Мать сказала тебе правду. Ты вряд ли отыщешь кого-то добрее меня. Ты должна слушаться!
Казалось, это подействовало. Она развеселилась и начала собирать свою косметику, которой у нее скопилось великое множество, аккуратно укладывать разнообразные флакончики и баночки в плетеную корзину, которую я купил у Симсамяна на Гранд рю.
К вечеру мы уже окончательно собрались. Я помчался в «Византию», где встретил баронессу, сидевшую за стойкой администратора.
– Все устроено, – сказал я. – Сегодня вечером я встречаюсь с офицером из британской разведки.
Она пришла в восторг:
– Ты хочешь, чтобы я отправилась с тобой?
– Я должен пойти один.
– Когда я тебя увижу?
– У тебя в комнате, сегодня поздно вечером или завтра утром.
Когда я уходил, она меня поцеловала – взволнованная заговорщица, неопытная леди Макбет. Я едва сдержался.
Не зная, объявлен ли комендантский час, я заказал автомобиль сразу после наступления сумерек. Два нанятых мной албанца отнесли наши вещи к ожидавшему внизу «мерседесу», а Эсме, бледная и дрожащая, в совершенно неуместном коротком шелковом платье и отороченном мехом зимнем пальто, стояла, спрятав руки в горностаевую муфту. Вдобавок она надела одну из своих самых больших и самых безвкусных шляп. По крайней мере, с облегчением подумал я, она выглядит вдвое старше своих лет. Я нес свой чемодан с чертежами. В нем хранилось мое будущее и мое состояние. Автомобиль едва протиснулся в узкий мощеный переулок, и все же его почти тотчас же окружила толпа беспризорников. Некоторые из них явно были не местными, они свободно говорили по-русски. Я уже привык к этой новой породе светловолосых нищих. Как раз в тот момент, когда Эсме наклонила голову, чтобы сесть в автомобиль, я посмотрел на другую сторону переулка, решив, что к нам движется потенциальный убийца. Но оказалось, что это всего лишь маленькая турецкая девочка лет шести. Она только что облегчилась прямо у крыльца и теперь поправляла одежду. Она обернулась с радостной улыбкой, как будто услышала знакомый голос, потом увидела меня, и выражение ее лица изменилось. Девочка тихо заплакала.
Я сел в машину вслед за Эсме. Оставалось еще несколько часов до нашего отъезда в Венецию, но я думал, что следовало поторопиться. Шофер нажал на газ, и дети разбежались в разные стороны. Когда мы выехали на Гранд рю, я посмотрел назад. Нас не преследовали. Опустив занавески на стеклах автомобиля, я заметил, что Эсме, сидевшая рядом со мной на широком кожаном сиденье, начала дрожать. Я заволновался – неужели она в самом деле была больна? Похоже, у нее немного поднялась температура. Как только мы приедем в Венецию, подумал я, нужно будет показать Эсме хорошему доктору, даже если на это придется потратить последние деньги.
К тому моменту как мы достигли малого причала и заставили шофера остановиться как можно ближе к ограждению, моя девочка совсем побледнела. Я гладил ее по руке. Шофер по моей просьбе принес ей шербет из ближайшего кафе. За барьером до сих пор стояли таможенники, но они уже начинали собираться по домам. Они болтали, курили, обменивались шутками. Скучающие британские и французские военные полицейские блуждали тут и там, причина их присутствия оставалась тайной даже для них самих. Темная вода была покрыта нефтяной пленкой, отражавшей свет керосиновых ламп и вспышки газовых фонарей, из соседнего бара доносился глухой стук турецких барабанов. Появилось немало моряков, их заинтересовал наш лимузин. Я опустил занавески. Эсме по-прежнему дрожала рядом со мной, потягивая шербет и не отводя пустого взгляда от шеи сидевшего впереди безразличного шофера. Один из моряков небрежно потянул дверь на себя, но я придержал ее изнутри. Когда я выглянул наружу в следующий раз, корпуса нескольких больших судов загородили от меня значительную часть гавани. Нам с Эсме следовало пройти через большие железные ворота, чтобы добраться до причала. На посту стоял один охранник, итальянец, и капитан Казакян попросил его не слишком внимательно изучать наши бумаги.
Через некоторое время я увидел вспышки карманного фонарика в нескольких ярдах от причала. Охранник-итальянец прислонил свою винтовку к воротному столбу и повернул ключ в замке. Еще через несколько минут на другом конце улицы появился большой гужевой шарабан. Он, подобно катафалку, проехал по мощеному тротуару и остановился прямо у ворот. Прибыли другие пассажиры Казакяна. Он устраивал ночные рейсы в Венецию якобы для того, чтобы справиться с конкуренцией со стороны больших кораблей. Нам следовало выходить из автомобиля. Я приказал водителю ждать на месте, пока не заберут на борт наш багаж, потом перешел через дорогу. Эсме цеплялась за мою руку. Она едва не упала в обморок, когда итальянец притворялся, что осматривает наши документы и печати. Наконец он позволил нам пройти. Когда он обратился к Эсме по-английски, она ничего не поняла и в панике уставилась на охранника. Я потащил ее к причалу. К тому времени у меня по-настоящему скрутило живот. Я никогда прежде не испытывал подобного страха. Я все еще ожидал, что в любой момент из темноты может появиться легковой автомобиль и в нас начнут стрелять. Такие убийства в Константинополе в то время были совершенно обычным делом. Аль Капоне не придумал ничего нового. Лишь когда мы присоединились к группе пассажиров, направлявшихся к кораблю, я немного расслабился. Двигатели медленно работали, корабль приблизился к причалу. Спустили трап. Судно Казакяна оказалось колесным пароходом девятнадцатого века, на верхней палубе которого под дырявым тентом стояли деревянные скамьи. На нижней палубе обнаружилось несколько более-менее пристойных спальных мест. Пароход мог делать не больше трех-четырех узлов и вряд ли предназначался для морского плавания. Но на самом деле корабль был гораздо лучше, чем казалось на первый взгляд. Это, по крайней мере, я узнал еще во время работы на нем. Капитана Казакяна нигде не было видно. Как только мы заняли места на верхней палубе, я отправился его разыскивать. Сидя у рулевой стойки на мостике, он ел колбасу и пил вино. Капитан подмигнул мне, когда я передал ему сотню соверенов, и почти расчувствовался, осмотрев монеты. Он зевнул и посмотрел на небо.
– Похоже, будет хорошее путешествие, мистер Папандакис. Сейчас самое лучшее время года.
Я попросил его удостовериться, что наш багаж доставили на борт и переправили через таможню.
– Все сделано, – сказал он. – Я видел, как вы приехали. Ваши вещи среди вещей пятнадцати других пассажиров! – Он весело рассмеялся. – Вы на самом деле контрабандист оружия, который использует мою маленькую лодку в качестве транспорта? Или вам принадлежит магазин готового платья? Не волнуйтесь, вещи проверять не будут. Все это чистая видимость. Таможенников не заботят люди, которые уезжают. Их интересуют только те, кто приезжает. И все получают неплохую прибыль.
Я услышал, как на улице взревел мотор, затем раздались свист и выстрелы из револьвера. В переулке вспыхнули карманные фонари. Кто-то закричал по-турецки. Потом еще кто-то взвизгнул и бросился бежать.
– Что там такое?
Казакян отмахнулся:
– Кто-то, возможно, не сумел найти денег на проезд в Венецию. Смотрите! – Он выпрямился и вытянул руку. – Ваш багаж.
Я с облегчением увидел, что полдюжины греческих и албанских моряков прошли по трапу с нашими чемоданами.
– Есть ли шанс, что мы сможем занять одну из кают? – спросил я капитана. – Моя сестра нездорова. Нет, ничего заразного.
Он огорченно пожал плечами. Все каюты давно заняты. Но сейчас теплое время года, море спокойно. Мне понравится путешествие. На скамьях можно прекрасно поспать.
Успокоенный, я вернулся к Эсме. Но она куталась в свою одежду и в отчаянии смотрела на причал.
– Не думаю, что нам следует ехать, – шептала она. – У меня предчувствие.
Я посмеялся над ней:
– Ты просто расстроилась из-за нашего отъезда, вот и все. Тебе станет лучше, когда мы доберемся до Венеции.
– На корабле меня тошнит. – Она встала. – Правда, Максим, мне нужно сойти на берег!
Я схватил ее за руку, стараясь не привлекать внимания других пассажиров и опасаясь, что мы можем заинтересовать полицейских, все еще стоявших на причале. В панике я прошипел ей:
– Сядь, дурочка!
– Ты сломаешь мне руку. – В ее глазах сверкнули злобные огоньки.
– Так сядь же!
Корабль покачнулся. Двигатели разразились громким ревом. Ветер взметнул навес. Он поднялся, как будто в приветственном жесте. Винты закрутились, и брызги внезапно обрушились на нас со стороны правого борта. Я услышал стук машины и шипение поршней. Едва не потеряв равновесие, Эсме вскрикнула и тут же упала на скамью. Другие пассажиры, закутавшиеся в пальто, были шумными и веселыми, они рассматривали экзотические виды обширной панорамы Стамбула. Дворцы и мечети казались бледно-серыми силуэтами в иссиня-черной ночи. Я заставил Эсме сесть на место. Она начала вырываться и стонать. С ней случилась истерика. Когда другие люди на палубе отвернулись, чтобы посмотреть на огромные очертания мечети Сулеймана, нависшей над портом, я собрался с силами и нанес своей малышке точно рассчитанный, но сильный удар в челюсть. Она немедленно свалилась без чувств ко мне на руки и задышала глубоко, как усталая собака. Мы отходили прочь от причала. К тому времени, когда мы вышли в Мраморное море, паровой катер резко завибрировал. Любопытные ночные чайки пронзительно кричали где-то в вышине, зловещие голоса звучали в гавани и над темной водой. Невидимые корабли подавали неистовые сигналы. Воздух пропитался тяжелым, жарким дыханием Византии: морской водой, ароматами сладких фруктов, пальм и экзотических садов – такой запах мог исходить от дикого зверя, которым и была Азия.
От Галатского моста со стороны Перы по-прежнему доносились выстрелы и взрывы, все громче звучали свистки полицейских и вой сирен. Ревели машины. Потом послышались крики – внезапно начинавшиеся и столь же внезапно прерывавшиеся. Наш двигатель загрохотал, как дешевая механическая игрушка, когда катер взял курс на Геллеспонт. Полагаю, что я спас жизнь Эсме, так же как и свою, когда заставил девочку замолчать. Если бы она закричала, нас могли бы арестовать.
Теперь катер раскачивался не так сильно, и винты легко рассекали воду. Уровень суши понижался со всех сторон, мы направлялись к Галлиполи и узким проливам, за владение которыми совершенно напрасно отдали свои жизни многие подданные Британской империи. За Галлиполи простиралось Эгейское море, самое священное из морей – там зародилась цивилизация и там было создано учение Христа. Именно Эгейское море взрастило Средиземноморье и Италию, именно здесь Закон и Порядок возникли из Хаоса языческого варварства. Я жалел, что Эсме не может разделить мою радость. Катер скрипел и звенел, двигатель хрипел и визжал, но меня все это не волновало. Я знал: Одиссей возвращался домой!
Эсме несколько раз вздрогнула, а потом погрузилась в глубокий, естественный сон. Гораздо позже, когда мы почти достигли Геллеспонта и море стало менее спокойным, Эсме проснулась. Сам я к тому времени задремал. Я услышал, как она стонет и захлебывается. Я не успел понять, что произошло, но тут узнал знакомый запах и почувствовал что-то влажное у себя на груди. Эсме вырвало прямо на меня. У нее было мало общего с миссис Корнелиус, но эта особенность оказалась присуща им обеим. Я счел возникшее неудобство вполне понятной местью за нанесенный удар, поэтому привел себя в порядок, насколько смог, а потом уложил ее голову к себе на плечо и погладил Эсме по лбу, надеясь успокоить. Наверное, такова моя судьба – влюбляться в женщин, которые не отличались крепостью желудка. Звуки и запахи моря чуть заметно изменились, когда мы проскользнули в Эгейское море и прошли поблизости от Лемноса, где располагался большой лагерь русских беженцев. Я с некоторым ехидством подумал, что баронессе с Китти не миновать этого места. Будет жаль, если пострадает девочка, но Леда заслужила ненадолго оказаться в таких условиях. Я подумал, что только тогда она поймет, от чего я. хотел ее избавить и чего она лишилась по причине собственной истеричности и безумной ревности. Я с большим вниманием относился к ее чувствам. Теперь, когда я уехал, она сможет подумать о моих!
На следующее утро стало очевидно, что капитан Казакян был не таким уж хорошим моряком. А днем я совершенно ясно осознал, что ни капитан, ни его лодка не готовы к путешествию. Колесный пароход оказался в приличном состоянии, в том смысле, что почти все детали были в полной исправности. Но едва ли это сооружение подходило для морского плавания – оно могло служить только паромом во внутренних водах. Я дважды видел, как капитан разглядывал карты и в старый телескоп смотрел на побережье. Мы никогда не теряли из вида берег. На катере теперь воняло горящей нефтью, и я несколько раз просыпался в тревоге, думая, что начался пожар.
Я сделал все возможное, чтобы о моем открытии и моих страхах не догадалась Эсме, которая едва не впала в кому. Чаще всего она лежала на скамье, достаточно редко вставала и, пошатываясь, подходила к краю палубы. Ее постоянно тошнило. Она ничего не ела с самого Константинополя. Пусть мои слова прозвучат эгоистично, но я был этому рад, хотя все сильнее и сильнее беспокоился за нее. Я не мог представить, что человек может так страшно реагировать на самое обычное волнение. Иногда она оборачивалась ко мне и еле слышным голосом спрашивала, не добрались ли мы до места назначения. Мне приходилось качать головой. Все, что я мог ответить: «Скоро». Потом я обычно отправлялся в рулевую рубку и обнаруживал там огромного армянина – он возился с чертежами, хмуро изучал инструменты и вытирал пот со лба грязной кепкой. В ответ на мой вопрос он обычно ворчал что-то, а потом невнятно сообщал, что мы «недалеко от Греции». Признаюсь, мои собственные географические познания также были не слишком обширны, ведь я поверил капитану Казакяну, когда тот заявил, что до Венеции не больше дня пути. Потом, когда я потребовал более определенного ответа, армянин признал, что мы находимся «где-то около Смирны», – а это было самое последнее место, в котором мне хотелось бы оказаться. Он попытался отвлечь меня, показывая на свой, очевидно, неисправный, компас: «Но мы уже на пути к Микенам». Он объяснил, что Микены – греческая территория, остров «неподалеку от Афин». Тем вечером, когда солнце опускалось за таинственную линию мрачных утесов, а Казакян что-то бормотал в унисон со своим двигателем, все еще ломая голову над морскими картами, Эсме спала, а я страдал от голода. Мне не пришло в голову захватить с собой еду.
Позже один из пассажиров предложил мне тонкий кусок колбасы и питу. Я с благодарностью принял угощение. Этот крупный человек в черном пальто и черной каракулевой шапке был дружелюбнее и самоувереннее прочих попутчиков (теперь они напоминали собратьев-беженцев, а не туристов). Он назвался мистером Киатосом и выразил полнейшее удовлетворение тем, как идет путешествие. По его словам, он уже несколько раз переправлялся на катере. И всегда все проходило легко. Он был бизнесменом, занимался главным образом сухофруктами, и его кузены жили в Константинополе. Мистер Киатос сообщил, что сам проживает в Ритемо. Обычные пароходы туда никогда не заходили. Если бы он путешествовал по стандартным маршрутам, ему пришлось бы делать несколько пересадок и из-за этого терять много времени. Я спросил его, где находится Ритемо. Оказалось, что на Крите. Капитан Казакян, заметил я, вроде бы настаивал, что мы направимся прямиком в Венецию. Услышав это, мистер Киатос беззлобно улыбнулся:
– Думаю, что капитан поплывет куда угодно, если ему заплатят, сэр. И каждому пассажиру говорит, что направляется как раз туда, куда нужно. – Мистер Киатос с удовольствием продолжал жевать колбасу, рассматривая спокойную поверхность моря, а я в это время растянулся на одной из пустых скамеек и погрузился в сон.
Я проснулся от ночного холода. Мы медленно двигались вперед в свете великолепной желтой луны. Неподалеку виднелись скалистые утесы, о которые разбивались волны. Море было еще относительно спокойным, но я мог расслышать, как буруны врезались в берега. Фонари на нашем катере покачивались взад-вперед, и человеческие фигуры замирали, склоняясь у поручней. Эсме сидела прямо, вцепившись обеими руками в спинку скамьи, как измученная кукла. Я поинтересовался, стало ли ей лучше. Она попросила немного воды. Я спустился в камбуз, где корабельный повар, болгарин, не говоривший ни на одном языке, играл в карты с матросом весьма неприятной наружности. Я знаками объяснил повару, что мне нужна вода из бочки. Он широко взмахнул рукой, словно предлагая мне угощаться. Вымыв кружку, я принес Эсме воды. Моя девочка сделала глоток, поперхнулась, а потом спросила, не тонем ли мы. Я расхохотался:
– Они сейчас высадят пассажира на берег, вот и все. Незначительная задержка. Пройдет немного времени, и мы будем в Венеции.
Она закатила глаза, как богооставленная мученица, а затем опять забылась сном. Похоже, Эсме лихорадило. Я смочил ей лоб остатками воды и заметил, что моя рука дрожит. Я заставил себя успокоиться.
Под вопли и проклятия капитана Казакяна матросы подвели корабль поближе к берегу. Они спустили на воду одну из шлюпок. Поставив на палубу кожаный саквояж, мистер Киатос шагнул ко мне, чтобы на прощание пожать руку. Я был погружен в свои мысли и не сразу заметил его.
– Здесь я покидаю вас, сэр. – Он сочувственно улыбнулся. – Надеюсь, что вскорости вы прибудете в Венецию.
Он наклонился и положил на скамью рядом со мной оставшуюся еду и небольшой пакет сушеных фиг.
Я увидел, как он изящно перебрался через бортовое ограждение, потом я очнулся окончательно и смог дойти до поручней. Матрос по неспокойному морю вез его к берегу. Я помахал мистеру Киатосу, но он меня не заметил. На мгновение я задумался о том, почему мы не подошли к городской пристани. Потом мне пришло в голову, что мы, вероятно, находились недалеко от дома мистера Киатоса, и Казакян не хотел платить портовый сбор. А может статься, мистер Киатос был контрабандистом.
Утром корабль, дрожа и скрежеща, плыл по спокойному морю под чистым синим небом, а я пытался заставить Эсме съесть несколько бисквитов и выпить молока – все это мне дала одна итальянка. Земля почти скрылась из поля зрения, и поэтому капитан Казакян прилагал безумные усилия, чтобы приблизиться к тому, что, по его предположению, могло оказаться Гидрой[104]. Он поддавался панике, если земля хоть на несколько минут исчезала из вида. Я, со своей стороны, погрузился в особое оцепенение, которое за эти годы помогло мне перенести немало приступов скуки, а иногда и страха. Я сидел, положив себе на колени горячую головку бедной маленькой Эсме. Я смотрел вперед, следил за облаками и молился, чтобы не начался шторм. К тому времени я уже убедился, что корабль не перенесет ничего сильнее шквалистого ветра. Капитан Казакян не зря боялся. Он снова и снова высаживал пассажиров, обычно в загадочных бухтах на безымянных островах. Иногда человек возражал ему, утверждая, что не узнает берега или что перед ним не совсем то место, которое ему нужно. Тогда капитан Казакян пожимал плечами, спорил, мял грязными пальцами окурки, предлагал довезти пассажира до следующей остановки или доставить его в Константинополь. В конце концов обиженные и встревоженные люди все-таки высаживались на берег. Конечно, стало совершенно ясно, что мы не приплывем в Венецию по Большому каналу. Нам еще повезет, если он высадит нас на каменистом пляже меньше чем в десяти милях от города. Такая вероятность, впрочем, меня не слишком беспокоила – важно было избежать внимания властей. Меня также утешало понимание того, что почти все на борту тоже хотели остаться незамеченными. Между нами не возникало никаких конфликтов, но очень немногие попутчики пытались общаться друг с другом. Казалось, мы одинаково воспринимали наше тяжелое положение. Что бы мы ни сказали, это не улучшило бы нашей ситуации, поэтому мы ничего не говорили.
Самая сложная проблема, которая встанет перед нами по прибытии в Италию, – это доставка наших вещей в город. Ни на одной из пристаней капитана Казакяна не было носильщиков. Я не хотел рассказывать о своих треволнениях моей маленькой девочке. Ее лихорадка ослабела после того, как мне удалось заставить Эсме принять немного кокаина. Укрепляющие свойства зелья проявлялись почти всегда, и в этот раз кокаин помог привести мою Эсме в чувство. Теперь мне удалось заставить ее съесть немного фиг и колбасы мистера Киатоса. Мы могли рассчитывать только на пищу, которую удавалось выпросить у других. Если бы не доброта наших спутников, мы бы погибли от голода. У Казакяна и его команды были какие-то запасы, но они не собирались их делить с теми, кого явно считали балластом. Они гораздо лучше относились бы к скотине.
На следующий день Эсме снова полегчало. Она выглядела слабой, ее глаза оставались мутными, как у раненого животного, но она уже могла двигаться и говорить.
– Где мы сейчас, Максим?
– Неподалеку от Венеции, – сказал я.
На небе виднелось лишь несколько почти незаметных облачков, море казалось каким-то декоративным озером. Двигатель ровно работал, вертя колеса парохода, и зеленые отблески вспыхивали на металлических поверхностях, когда брызги воды летели на пассажиров. Как будто боги благословляли нашу одиссею, по крайней мере в тот миг. Я сидел со своей возлюбленной под грязным навесом и держал ее за руку, бормоча полузабытые греческие легенды о тайнах и сокровищах венецианцев, о чудесах техники, которые мы отыщем в Европе. Тем временем капитан Казакян вышел на палубу и, покосившись на нас, растянулся на настиле в стороне от навеса. Раздевшись до пояса и закурив сигарету, он нежился в солнечных лучах. Иногда он поворачивал к нам свою массивную голову и ободрительно замечал что-то вроде: «Все под контролем. Осталось еще несколько часов». Эти слова были бессмысленны. Капитан расслабился, потому что узнал побережье Кефалонии и недавно заметил несколько больших кораблей. Каждый раз при виде крупных судов капитан Казакян приветствовал их веселым свистом. Чем ближе мы подплывали к земле, тем больше появлялось кораблей и тем счастливее он становился. Покидая Константинополь, мы шли под турецким флагом, но теперь подняли греческое знамя. Тем вечером, как только стемнело, мы высадили трех пассажиров и приняли на борт еще нескольких.
Все вновь прибывшие оказались мужчинами средних лет, они шагали широко и самодовольно – я подумал, что это преуспевающие бандиты или коррумпированные полицейские. До рассвета они стояли возле рулевой рубки, болтая с капитаном, а позже – с боцманом. Они не обращали внимания на других пассажиров и никогда ни на кого не смотрели прямо. Для подобных типов зрительный контакт – оружие, средство угрозы или убеждения. Они не тратили впустую сил на случайных знакомых. В конце концов к нашему кораблю приблизилось маленькое парусное судно, эти люди уплыли на нем по направлению к Корфу (так сказал Казакян, который, похоже, очень обрадовался их отъезду). Он заверил меня, что мы будем в Венеции завтра. Он кивал мне так, словно я был безмолвным ребенком. «Да, – повторял он с улыбкой. – Да».
На следующий день около полудня внезапно умолк двигатель. Я сначала предположил, что мы делаем еще одну остановку. Судно дрейфовало под медным небом, оставляя туманную землю по правому борту. Эсме лежала у меня на коленях, глубоко дыша, и мир был полон тишиной.
Я наслаждался этим ощущением, пока из рулевой рубки капитана Казакяна не донеслись крики – он отчаянно ругался на всех языках Леванта и Средиземноморья.
Я видел, что по палубе промчался механик. Он махал руками и вопил. Я поднялся. Густой черный дым повалил из небольшого машинного отделения, его клубы поползли к нам. Это выглядело угрожающе. Как будто некое разумное сверхъестественное существо готовилось сожрать нас, если мы пошевелимся.
Несколько мгновений спустя Казакян покинул свой пост и, не отводя взгляда от облака, как будто испытывая то же, что и я, медленно зашагал в нашу сторону. Он усмехался, качал головой и непрерывно жестикулировал – верный признак настоящего ужаса.
– Благодарю Бога, что вы с нами, мистер Пападакис. Вы – единственный, кто может помочь нам решить эту проблему. Вы гениальный механик. Все в Галате так говорят. Я это знаю.
Его похвалы были просто вступлением, и я мужественно их терпел, ожидая, когда Казакян перейдет к делу.
– Не взглянете на наш двигатель? – спросил он.
Эсме снова перепугалась. Хотя ярко светило солнце, она застегнула пальто и прижалась к спинке скамьи.
Я неохотно последовал за Казакяном в крошечное машинное отделение, прикрыв рот и нос платком. Я остановился, почувствовав, что упираюсь в почти осязаемую стену жара. Я приказал отключить все машины и попытался обнаружить проблему. Двигатель был типичным в своем роде – собрали его не на заводе, а работали с ним люди, которые относились к машине скорее с суеверием, чем с пониманием. Его столько раз чинили, что там, похоже, не осталось ни одной из первоначальных деталей. Я привык разбираться в той необычной логике, которая связывала отдельные части машины, – следовало приноравливаться к причудам чужого ума. Никакие инструкции, никакие книги мне помочь не могли. Через некоторое время выяснилось, что заклинило один из поршней. Я начал разбирать всю примитивную систему, прочищая все детали. Двигатель работал на любом топливе, которое удавалось найти, его латали тряпками, кусками металла, даже остатками банок из-под солонины. Паровой котел был настоящим кошмаром, его спаяли из разных металлических обломков. Я тщательно все собрал заново и отдал приказ запустить мотор. К моему огромному облегчению, двигатель заработал лучше прежнего. Я не собирался становиться каким-то мелким Дедалом для здешнего захудалого Миноса.
Восхищенный капитан Казакин настоял, чтобы я зашел к нему в каюту. Оказалось, что это всего-навсего небольшой закуток позади рулевой рубки. Пахло здесь еще хуже, чем в других частях корабля. Капитан хотел выпить немного арака. Но к тому времени я уже успокоился. Я тотчас сказал, что должен посмотреть, как дела у моей сестры. Темнело. Эсме, дрожа, сидела на скамье, на которой я ее оставил. Я уже измучился и переволновался. Я хотел добраться до Венеции, прежде чем с лодкой еще что-нибудь случится. Я возвратился в каюту Казакяна и сказал, что у Эсме, кажется, сыпной тиф. Его это поразило. Капитан застыл в нелепой позе – он как будто подозревал, что сам, лично заразил Эсме тифом. Потом энергично начал уверять меня, что она просто страдает от морской болезни. Тут я потерял терпение:
– Вы понимаете, я думаю, что могу не только снять проклятие, наложенное на двигатель, но и навести порчу. Я могу остановить корабль, не сходя с места.
Он посмеивался надо мной, но я, очевидно, произвел на него впечатление. Полагаю, он был слишком суеверен для того, чтобы рисковать. Вдобавок я оказался для него настолько полезен, что он решил меня утихомирить. Казакян позвал боцмана и приказал перевести Эсме в одну из недавно освободившихся кают.
– Без всякой дополнительной оплаты, – сказал он мне с таким видом, как будто проявлял чрезмерную щедрость.
В душной каюте стояла кровать с одной-единственной грязной простыней, но это все же было гораздо лучше, чем скамья. Уложив хрупкое маленькое тело Эсме на койку, я заставил всех остальных выйти, а потом раздел и вымыл свою девочку. Она проснулась и не сопротивлялась. Без всякого интереса она выслушала мои слова о том, что двигатель работает нормально и наше путешествие подходит к концу.
– Завтра мы увидим итальянский берег. У меня все под контролем.
Я сказал, что отыщу ей доктора, как только мы сойдем с корабля.
Ночью Эсме успокоилась. К утру лихорадка отступила. Я оставил ее одну на то время, которое потребовалось, чтобы выпить кофе в камбузе и напомнить капитану Казакяну о своей угрозе. Он взмахнул руками и пожал плечами.
– Туда мы и идем! – воскликнул он, как будто я был неблагоразумным требовательным ребенком. – Туда и идем. Разумеется!
Я оставался с Эсме до вечера, не давая себе заснуть с помощью кокаина. Примерно в девять в дверь постучали и вошел капитан Казакян.
Он широко улыбался. Его настроение совершенно переменилось. Я предположил, что он теперь разобрался, где находится корабль.
– Сегодня вечером, – сказал Казакян. – Да. Точно сегодня вечером. В Венеции. Ваша сестра сможет сойти на берег?
– Где вы нас высадите?
– Недалеко от Венеции. В деревне. Вы сможете сесть на поезд. Всего полчаса пути.
– У меня почти нет денег, капитан Казакян. Я не могу позволить себе новые расходы. Вы обещали доставить меня прямо в Венецию, помните?
Он поскреб затылок, явно смутившись, и сунул руку в карман засаленного жилета, когда-то украшенного красивой вышивкой. Поколебавшись, он извлек три соверена.
– Вот, возвращаю… За то, что помогли нам с двигателем. Денег хватит на проезд до Венеции.
Это была смесь задабривания и жертвоприношения богам, неохотное подношение духу, который следил за паровыми катерами. Я принял его золото. Оно было моим по праву.
– Мои люди отведут вас в эту деревню, – решительно заявил он. – Вы найдете там хорошего доктора. Итальянцы – превосходные доктора. Их там много. – Он с тревогой посмотрел на маленькое бледное личико Эсме. – Вы уверены, что это сыпной тиф?
– Мы спросим доктора.
Примерно в три часа утра турки и албанцы начали переносить наши чемоданы и сумки в лодку. В конце концов я решил, что перегруженное суденышко вот-вот утонет, – вода почти переливалась через борт. Мы с Эсме поплыли следом в другой лодке. Пока мы приближались к земле, волнение на море усилилось. Капитан Казакян стоял возле рулевой рубки, спокойно наблюдая за нами. Он не помахал нам рукой. На судне не зажигали огней, но светила полная луна. Мы с легкостью добрались до берега и вытащили на сушу обе лодки. Я обрадовался тому, что снова оказался на твердой земле, и с трудом сдержал восторженный крик. Ночь была теплой. Я чувствовал запах свежескошенной травы и аромат древесной смолы и слышал гудение насекомых. Где-то вдалеке заревел осел.
Один из турок внезапно оставил нас. Он пронесся по пляжу и скрылся за дюнами. Остальные продолжали выгружать и укладывать наши вещи, как будто ничего не заметили. Им, похоже, нравилось это занятие. Я благодарно улыбнулся матросам. Коротко простившись, они снова погрузились в одну из лодок. Матросы гребли обратно к катеру, очертания которого мы с трудом разглядели у дальней оконечности мыса.
Катер выглядел неуместно в этих водах, как будто он стоял у причала на каком-то курорте, а потом сорвался с якоря и внезапно очутился здесь.
Наконец сбежавший турок вернулся. Казалось, он гордился собой. У меня сложилось впечатление, что для всех этих людей подобные дела были в новинку. Неужели Казакян снова положился на удачу? С турком пришел крошечный старик – босой, в черной куртке и брюках, грязной рубашке без воротника. Старик казался удивленным, но весьма веселым.
– Buon giorno, signore, signora![105]
Он кивал нерешительно, но вежливо. Я хотел обнять этого бедняка. Я едва не разрыдался. Некоторое время я подозревал капитана Казакяна в том, что он собирался высадить нас на первом попавшемся греческом острове. Но теперь я знал, что это Италия! Мы были в безопасности. Осел снова заревел, теперь уже ближе. Старик обернулся и что-то крикнул в темноту.
Оставшиеся турецкие моряки и почтенный итальянец понесли наш багаж по пляжу. В конце процессии шагал я, поддерживая шатающуюся Эсме. Мы достигли узкой тропы и там обнаружили небольшую телегу и впряженного в нее осла. В телеге лежали сети и мешок, очевидно, с рыбой. Старик отодвинул мешок в сторону и начал укладывать чемоданы. Когда он закончил, для Эсме осталось место только на передней скамье. Мы помогли ей сесть в повозку. Она, казалось, прекрасно отреагировала на бормотание маленького рыбака. Нет ничего более успокоительного для нервов, чем звучание мягкой и душевной итальянской речи. Мы со стариком стояли рядом, наблюдая, как турки возвращаются к берегу, скрываясь в темноте. Потом, ткнув осла в бок, старик заставил животное сдвинуться с места. Я пошел рядом.
Старик говорил только на своем родном языке, я знал по-итальянски всего несколько слов. Я сказал, что благодарен ему за помощь, и выразил надежду, что мы не причинили большого беспокойства. Он ничего не понял, но улыбнулся и сказал, как будто успокаивая:
– Son contento che Lei sia venuto[106].
Я указал вперед, туда, где виднелось несколько освещенных окон, и решил, что мы находились ближе к цели, чем утверждал капитан.
– Венеция? – спросил я.
Он казался удивленным, но только пожал плечами. Я пару раз повторил вопрос, и он нахмурился.
– Si. Venezia? – Он добавил несколько фраз, которых я не мог понять.
Тогда я спросил:
– Dottore?[107]
Он вроде бы согласился:
– Dottore? Si, si. Dottore! – Он указал своей палкой в сторону горящих огней.
– В Венеции? – спросил я.
Это вызвало неожиданную реакцию. Он замер, обернулся ко мне, взмахнул руками и залился смехом, с трудом удержавшись на ногах:
– Ах! Ах! Венеция! Ах!
Он снова попытался указать мне на огни и развеселился настолько, что слова его прозвучали крайне невнятно:
– No! La capisco! La citta![108] – успокоившись, он вытянул палку, тыча куда-то вперед. – Отранто, – сказал он.
Я никогда не слышал об Отранто и счел ответ старика на свое ошибочное замечание чрезмерно веселым. Городок оказался гораздо меньше, чем я рассчитывал, – с извилистыми улицами, разрушенным замком и несколькими тавернами. Когда мы добрались до Отранто, на горизонте появилась тонкая линия света и с красной крыши донесся крик первого петуха. Судя по византийским очертаниям главной церкви, старый пыльный город мог бы быть греческим, но при взгляде на замок он казался мавританским. Я совсем не это ожидал обнаружить в Италии, этом строго определенном сочетании архитектурных стилей. Как будто тот, кто создал Отранто, желал описать национальные и исторические влияния минувших двадцати столетий. И все же в целом город выглядел вполне гармонично. Я счел его привлекательным. Я думаю, что назвал бы Отранто чудесным, если бы не испытал такого разочарования, обнаружив его на месте Венеции. Город был совсем небольшим, в нем обитали не больше двух тысяч жителей.
Однако вскорости мы сняли комнату в небольшой средневековой гостинице, где худощавая веселая женщина взяла на себя заботу об Эсме. Я заплатил старику несколько серебряных монет из тех, которые еще оставались у меня в карманах. Он пришел в восторг. Старик и хозяин гостиницы занялись нашими вещами. Сумок было так много, что они заняли половину крошечной комнаты с низким потолком. К тому времени когда все удалились, Эсме лежала в кровати, наслаждаясь такой роскошью, как свежевыстиранное белье. А я спустился, чтобы позавтракать с хозяевами, которые совершенно по-дружески задали мне множество вопросов. Отвечать я не мог, потому что не понимал ни единого слова. В конце трапезы мы просто улыбнулись друг другу и разными способами выразили взаимное расположение. Я возвратился в комнату, где мирно спала Эсме, ее прекрасное личико было ангельски чистым. Я задернул занавески, разделся, лег в постель, обнял свою возлюбленную и заснул до обеда.
Отранто показался мне приютом спокойствия. Я мог бы задержаться там гораздо дольше и даже сегодня хотел бы вернуться. Тогда, однако, я стремился добраться до большого города, где мы могли остаться незамеченными в пестрой толпе. Эсме еще спала. Я умылся холодной водой, оделся и отправился на поиски хозяина и его жены. Я отыскал их на скамье за гостиницей. Они ощипывали цыплят. Завидев меня, они громко заговорили. Я по-прежнему не понимал их итальянского, но снова спросил о докторе, объяснив с помощью жестов и нескольких латинских слов, что моя сестра больна. Худощавая женщина первой поняла меня. Она что-то пролепетала своему мужу, который аккуратно отложил своего цыпленка, поднялся и ушел. Головы мертвых птиц смотрели на меня так пристально, словно знали обо мне что-то, неведомое другим. Я спросил женщину, насколько далеко до Венеции. Она пожала плечами и произнесла: «Тreno?» Я решил, что это означает «поезд». Я кивнул. Меня не интересовало, как я доберусь до цели. Казакян сказал, что это займет полчаса, но его слова не вызывали у меня доверия. Женщина произнесла еще несколько фраз, в которых прозвучали слова «Рим», «Неаполь», «Бриндизи», «Фоджа» и еще полдюжины названий. Тогда я начал понимать, что мы могли оказаться гораздо дальше от Венеции, чем я предполагал. Капитан Казакян очень торопился высадить нас со своей лодки, и, по-моему, нам вообще повезло, что мы оказались в Италии. Похоже, что трех соверенов, которые он мне отдал, хватит только на дорогу до Венеции. Я даже пожалел о том, что не мог наложить проклятие на его двигатель. Подумав об этом, я закрыл глаза и попытался представить механизм. Никакого вреда от таких упражнений, конечно, не было.
Явился долговязый доктор, который казался слишком юным, несмотря на тонкую бородку, окаймлявшую его лицо. Я с удовольствием обнаружил, что он говорит по-французски. Доктор Кастагальи сообщил, что у Эсме нет ничего серьезного – просто нервное напряжение, оно почти наверняка исчезнет после небольшого отдыха.
– Вы долго путешествовали?
У доктора были орлиный профиль и большая лысина. Он напомнил мне орла-иезуита. Я сказал, что моя сестра Эсме раньше не уезжала из дома. Наша поездка оказалась довольно утомительной. Он кивнул:
– Ей нужно какое-то тихое место. По возможности стоит нанять профессиональную сиделку. – Он нахмурился и добавил: – Но не здесь.
Я обрадовался, что Эсме не больна ничем серьезным. Я предложил Кастагальи один из оставшихся соверенов. Он, улыбаясь, отказался от монеты. Он был сельским доктором и не привык к крупным вознаграждениям. Если у меня нет мелких денег, заметил он, то можно уговориться об обмене. Поскольку фигура доктора не слишком отличалась от моей, я отдал ему одно из своих пальто. Оно было на хорошем, толстом меху, вероятно, слишком теплым для здешнего климата, кроме того, рукава пальто оказались явно коротки, но доктор обрадовался. Вместо сдачи он предложил шляпу и шарф. Я сказал, что мне больше пригодилось бы расписание поездов из Отранто. Доктор улыбнулся. Он сделает все возможное. Вероятно, будет лучше, если я сам отправлюсь на станцию. Он спросил, куда я поеду. Я объяснил.
Доктор покачал головой. По его мнению, Венеция могла оказаться не слишком здоровым местом для больного ребенка, даже несмотря на то, что Эсме не страдала ничем серьезным. В такое время года в Венеции дурно пахнет и чрезвычайно шумно. Однако он узнает, как лучше всего туда добраться. Вероятно, потребуется пересадка в Фодже.
Чтобы предупредить его любопытство (и, возможно, помешать ему сообщить о нас местным карабинерам), я сказал, что был англичанином. Мы с сестрой ехали на Корфу пароходом из Генуи, когда Эсме заболела. По моему настоянию капитан высадил нас здесь. Возможно, поблизости от Отранто есть еще какой-то большой город, кроме Венеции?
Доктор Кастагальи ответил, что гораздо легче направиться в Рим или Неаполь, особенно с нашим багажом и с учетом того, что мы возвращаемся в Лондон. Он не думал, что Эсме в ближайшие несколько дней следует пускаться в далекое путешествие. Нужно поселиться в хорошей гостинице, где ей обеспечат все удобства и отдых. Тогда она скоро выздоровеет. Если мне понадобится консультация специалиста (что, по его мнению, маловероятно), то нужно, конечно, ехать в Рим, где «очень современная» медицина.
Я сожалел, что не увижу красот знаменитого древнего приморского города, но уже думал, что лучше поехать в Рим и оттуда в Париж. В Париже я смогу раздобыть настоящие документы и затем продолжить путешествие в Лондон. У меня еще оставалось достаточно денег, чтобы оплатить проезд и несколько недель проживания в недорогих отелях. Даже если средства кончатся – что ж, мы в законопослушной стране. Я могу заработать столько, сколько нам нужно.
Если Коля еще не уехал в Америку, я отыщу его в Париже. Он поможет мне. Там я встречу и других старых друзей: Санкт-Петербург снова оживет на берегах Сены! Почувствовав прилив оптимизма, я принял решение. Вопреки советам доктора, я поверил, что привычный комфорт, улицы, движение, переполненные кафе излечат Эсме гораздо лучше, чем сельское уединение. Однако я от души поблагодарил доктора Кастагальи – я знал, что он хочет нам добра. Он спросил, может ли еще чем-то помочь. Мне требовалось обменять деньги и купить билеты. Доктор отвез меня на своем пони в городской банк, и там мои соверены превратились в лиры: огромные, великолепные, яркие банкноты. Затем мы пошли к нему домой. Доктор настоял, чтобы я подождал в повозке, а сам бросился внутрь и возвратился с обещанными шляпой и шарфом. И то и другое оказалось хорошего качества. Хотя у меня и было несколько костюмов, пальто и других вещей (впрочем, большая часть нашего багажа принадлежала Эсме), я поблагодарил доктора. На небольшой станции, которая выглядела так, будто стояла в Отранто со времен Христа, я купил два билета первого класса до Рима.
Доктор настоял на том, чтобы купить бутылку вина и выпить на прощание. Удостоверившись, что Эсме все еще отдыхает и чувствует себя неплохо, я присоединился к доктору во внутреннем дворике маленькой гостиницы. Мы сели рядом. Старая мраморная скамья, возможно, первоначально стояла на римской вилле. В небольшом саду жена хозяина подрезала розы. Доктор Кастагальи вытянул вперед длинные ноги, его каблуки чертили криптограммы на пыльной земле всякий раз, когда он двигался. Кастагальи рассказывал о своей любви к этому небольшому городу, к месту, где он родился. До некоторой степени я завидовал ему. Все эти годы я мечтал о неприхотливости – единственном даре, которого не дал мне Бог. Однако я испытывал некоторое удовлетворение в тот вечер. Я внимательно рассматривал зубчатые стены мавританского замка и памятник жертвам турок. Османы совершили набег на Отранто в 1480‑м, они убили всех, кого смогли найти. Я успокоился. Теперь мне больше не следовало опасаться ислама, Израиля или, положим, большевиков. Я достиг надежной земли Западной Европы, я повсюду видел подтверждения прогресса, видел цивилизацию, которую всегда хотел изучить. Здесь к подобным вещам относились небрежно, как к капризам погоды, к неизбежным памятникам долгой истории.
Оставив прошлое позади, я почувствовал, что вступил в будущее. Я оказался среди этих древних холмов и виноградников и действительно готовился принять участие в величайшем приключении двадцатого века. Ведь эта цивилизация, в отличие от турецкой, не была упадочной. Она продолжала развиваться, она уверенно двигалась вперед, проявляя подобающее уважение к прошлому, но никогда не тоскуя о его возвращении. Я чувствовал огромный контраст между этим миром и рушащимися памятниками ислама, шумными, зловонными, убогими улицами Перы, жители которой отчаянно цеплялись за прогнившие обломки, уцелевшие после катастрофы, обломки, которые нельзя было очистить от грязи. А Италия возрождалась, как она возрождалась всегда! Она была новой, процветающей страной, и здесь с восторгом приветствовали наступление века машин! Возможно, такого не было больше нигде. Величайшим героем Италии стал ее прекраснейший символ: поэт-летчик д’Аннунцио[109] – фигура, достойная безоговорочного восхищения. Великолепный в своем мужественном величии, он разоблачал большевистских демагогов, демонстрировал их мелкую, отвратительную сущность. Д’Аннунцио поднял меч за дело нации. Он помешал картографам и финансистам, он отверг мелкие компромиссы. Он лично шагал впереди своих солдат в Фиуме и требовал город от имени Италии. Это место принадлежало Италии по праву – его пообещали Италии, как Константинополь пообещали царю. О, если бы отыскать еще десяток д’Аннунцио, чтобы взять завоеванные города, преданные города, благородные города, позабытые города мира – и отдать их Христу!
Доктор Кастагальи много говорил о д’Аннунцио, которым восхищался, и ко мне возвращалось вдохновение, совершенно необходимое в тот момент.
– Он воплощает новое Возрождение. Он – человек науки и притом великий поэт, дворянин, который провидит будущее. Он – человек действия.
Наконец появился кто-то, с кем я мог себя отождествить. Я видел, что д’Аннунцио во многом похож на меня. Я хотел когда-нибудь встретиться с ним. Вместе мы могли бы сделать очень много. Как утверждал простой сельский врач, на Западе начинался Ренессанс, здесь занимался рассвет. Греция процветала. Франция восстанавливала силы. Англия утверждала власть закона. И Германия также должна была вскоре оправиться от печального поражения, положив конец болезни социализма, от которой в настоящее время страдало несчастное государство. Америка отдыхала, но я знал, что она тоже возродится. И появится великое братство христианских стран, объединенное общей целью: загнать насмерть большевистского волка и вышвырнуть исламского шакала в пустыню, из которой он явился. Выпив немного терпкого молодого вина, я поделился этими мечтами со своим итальянским другом. Он с энтузиазмом поддержал меня и заговорил о возобновлении дружеских связей между нашими странами (он считал меня англичанином). У доктора была своя мечта: в будущем весь мир разделят между собой две великие империи, Британская и Римская, им предстоит гармонично развиваться и дополнять друг друга – у каждой будут свои, особые свойства.
– Они станут воплощением идеала эпохи Возрождения, – сказал мне доктор. – Идеала гармонии и умеренности. Наука будет процветать во всех формах, но она останется гуманной, подчинится мудрости Церкви.
Как будто в подтверждение этих слов с неба послышался громкий гул. Солнце, огромное и красное, повисло за замком Отранто. На фоне светила возник силуэт биплана «SVA5». Аппарат поднял нос над зубчатыми стенами крепости и затем, лениво развернувшись и обогнув красные черепичные крыши старого города, направился вниз, к темно-зеленой линии, где начиналось море. Биплан как будто возвращался в волшебный мир, где обычные правила природы не действовали, он так же легко мчался по воде, как и по воздуху. А потом он исчез.
Мы с доктором рукоплескали аэроплану. Мы снова выпили за д’Аннунцио. Мы выпили за Отранто. Немного поспорив, мы встали и выпили за папу римского.
Позже мне пришло в голову, что самолет, вероятно, принадлежал таможенникам, которые следили за доставкой контрабанды. Я подумал, видели ли летчики пароход капитана Казакяна. Может, они искали контрабандистов или тайных иммигрантов. Нам следовало скорее отправляться в Рим. (Я вскоре узнал, как сильно нам повезло. Итальянские прибрежные патрули в последние месяцы были удвоены. Начался приток не имевших гражданства беженцев, спасавшихся из разоренных стран Восточной Европы и Малой Азии.)
Той ночью я сказал Эсме, что мы едем в Рим, в колыбель ее религии, в город, который был древнее Византии. Сытная еда и нежный уход помогли Эсме восстановить силы. Услышав новости, она едва не подпрыгнула от радости. Она начала извиняться за свое поведение. Я сказал, что все понимаю. Это по-настоящему ужасно – совершенно оторваться от корней, даже если эти корни скрыты в отравленной почве.
Вскоре мы сели на римский поезд. Немногочисленные друзья из Отранто проводили нас в дорогу. Поездка оказалась исключительно спокойной, хотя и скучноватой. Тем не менее мы снова вкусили роскошь настоящего путешествия первым классом. Наши места, да и вид поезда в целом, поразили Эсме. Она оживилась и снова стала собой, ее глаза сверкали так же ярко, как прежде, когда наш поезд прибыл на огромный центральный вокзал.
Было воскресенье, 4 июля 1920 года. Мы с Эсме наконец приехали в Рим, город пышных садов и древних камней, город автомобилей, где, казалось, каждый второй гражданин – священник или полицейский и где, следовательно, Церковь и государство были не далекими и пугающими, а наоборот – знакомыми, простыми и успокоительными учреждениями. Услужливый таксист порекомендовал нам отель «Амброзиана» на Виколо Деи Серпенти, 14. Мы сняли там номер. Теплый солнечный свет струился через французские двери, которые вели на наш маленький балкон. Эсме пританцовывала от удовольствия. Она быстро позабыла все былые страхи и хотела жить полной жизнью, она хотела пройтись по улицам, побывать в кафе и магазинах.
– Здесь должны быть цирки, – сказала она. – Я о них слышала. И кабаре. И конечно, кино!
Нам открылся дивный новый мир. От него исходил запах свободы, которого никогда не было в Галате. Эсме поражалась строгости и чистоте улиц, почти полному отсутствию собак и нищих. Она сказала, что почти так же представляла себе Небеса, когда была моложе. И она, конечно, считала Рим настоящим раем.
Я спросил, чего ей хочется прежде всего. Она прижалась ко мне, ее рука была в моей руке, ее глаза улыбались мне.
– О, кино! – сказала она. – Конечно, кино!
Перекусив в приятном маленьком кафе у дворца Барберини, мы отправились на поиски кинотеатра. Мы прямиком ринулись в первый же, какой смогли обнаружить. Там показывали «Gli ultimi giorni di Pompeii»[110], и нас очаровала, почти поразила эпическая реальность фильма. Невозможно было отыскать лучшего места для просмотра этой картины. Эсме обнимала меня и прижимала к себе мою руку. Иногда, не в силах сдержать восторг, она целовала меня. Я не мог и вообразить ничего более прекрасного.
Мое возрождение наконец завершилось.
Глава десятая
Вечный город обольстил нас обоих. Очарованные, мы бродили повсюду, взявшись за руки. Среди случайных скоплений трех тысячелетий, среди бесчисленных символов древнего величия, руин, церквей и современных памятников римские граждане вели обычную жизнь, напоминавшую мне об одесской юности. Римляне зажигали спички о колонны Калигулы и вешали белье на балконах, с которых Микеланджело или Рафаэль могли рассматривать купол Святого Петра. Автомобили, трамваи, автобусы и поезда гремели и носились вокруг Колизея и Большого цирка, и тяжесть былой славы никого не пугала. Местных жителей только развлекали чужестранные паломники, которые замирали у языческих и католических святынь. Рим двигался вперед, он стал по-настоящему современным городом.
В маленьких барах, танцевальных залах и кафешантанах вокруг виа Каталана мы вскоре отыскали подходящее общество. Здесь собирались богемные интеллектуалы, футуристы сталкивались с социалистами, пили за д’Аннунцио и проклинали премьер-министра Джолитти[111]. Строились планы создания новой империи, легионы которой будут перемещаться в поездах и танках, останавливаясь, чтобы строить фабрики, а не крепости. Стены из желтого песчаника и розового мрамора были покрыты самыми разными политическими плакатами, без разбора смешанными с рекламами спортивных автомобилей, воздушных гонок и кинофильмов. Все они представляли равный интерес для римлян.
Их влекла романтика технологий, острые ощущения великих и простых дел. Их просто забавляли или раздражали мелкие свары коррумпированных либералов и раздражительных анархистов. Своей терпимостью и человечностью римляне напоминали одесситов. Они жили в теплом, дружелюбном мире своих кафе, с удовольствием ели и пили в ресторанах. На улицах они смеялись и танцевали под музыку небольших духовых оркестров и аккордеонов. Они даже одевались так же весело и ярко, как жители довоенной Одессы. Если они и восхищались большевиками, то делали это отстраненно и иронично, считали красных удачливыми бандитами, но при этом не кривили губы, а сардонически смеялись. Ленин был для них «благородным наследником Ивана Грозного» или «величайшим византийским монархом со времен Юлиана Отступника», а Троцкого они считали Иосифом или Аттилой. Художники, подобные Маяковскому, были «великолепными детьми Маринетти»[112], холстами им служили целые города, а орудиями – динамит, порох и разорванная плоть. Поэты нового апокалипсиса, настроенные против всего старого и служившие всему новому, родились в мире, где электричество, двигатели внутреннего сгорания и полеты в воздухе были совершенно обыденными явлениями, которые следовало использовать, а не исследовать.
Мы приехали утром, во время массовой демонстрации в центре Рима. Движение было парализовано. Мужчины в комбинезонах размахивали загадочными транспарантами, женщины в красных платках грозили кулаками и кричали, шагая под музыку собранных на скорую руку оркестров, которые играли громко и не в такт. Когда я позвонил из нашей комнаты, мне ответила жена управляющего. Она извинилась. Официанты в ресторане забастовали, и персонал отеля присоединился к ним. Она сказала, что может принести нам бутерброды и минеральную воду и надеется что-нибудь приготовить вечером. Однако она посоветовала поискать семейные рестораны – если нам повезет, они будут открыты. Забастовки стали настолько частыми, что люди считали их обычным делом. Как правило, меня злили неудобства, но я был очень рад оказаться в настоящем европейском городе. Я пожал плечами и улыбнулся, после чего она начала хихикать и отпустила несколько шуток на итальянском языке, которых я не понял, но все равно посмеялся над ними.
В итоге мы с Эсме провели первый день в Риме в поисках места, где можно поесть. Именно так мы обнаружили виа Каталана, где многие рестораны и впрямь были открыты. Нас радовало все новое, и мы, вероятно, даже не заметили, что проголодались. Мы дивились достопримечательностям и звукам этого цивилизованного древнего города. Даже политическая риторика, такая тревожная в России, была здесь просто частью восхитительной атмосферы. Эсме вдыхала этот воздух и чудесным образом оживала. Рим в это хаотичное лето, когда рабочие захватили фабрики, а д’Аннунцио выслали из Фиуме, казался приютом здравомыслия и порядка по сравнению с тем, что мы оставили позади. Во всяком случае, он был столицей свободной страны. Речь шла не о том, как дожить до следующего утра и укрыться от жестокости самозваных ополченцев, какие движения радикально изменят нашу судьбу, – нет, главный вопрос состоял в том, какое из правительств сможет лучше управлять государством. Прежняя культурная и интеллектуальная жизнь Санкт-Петербурга, существовавшая до разрушительной эпохи Керенского, повторялась в Риме в куда более ярких красках. Люди легко и весело рассуждали о том, что вся политика – просто никчемная фантазия, годная разве лишь на то, чтобы развлечь граждан по крайней мере на вечер.
Когда мы ложились спать в ту ночь, Эсме оказалась удивительно страстной и требовательной, ее сексуальные запросы показались мне необычными – я и представить не мог, что она питает подобные тайные желания. Тем не менее я отдался новому опыту с восторгом и почти исчерпал наши запасы кокаина. Следующим утром, уставший и предельно расслабленный, почти не спавший, я сказал ей, что нужно поскорее найти друзей, если мы хотим пополнить запасы наркотика. Она ущипнула меня за щеку и сказала, что я слишком устал, чтобы беспокоиться: все обязательно будет хорошо. Она жила настоящим, моя Эсме. Она была вечным настоящим, и, возможно, именно поэтому я так ее любил.
Я всегда был человеком многих миров, способным с легкостью перемещаться из одной социальной среды в другую. Вспомнив о богемном районе близ левого берега Тибра, где-то между Капитолием и островом Тиберина, рядом с дворцом Орсини, я в тот же день вернулся туда с Эсме. Пребывая в восхитительной эйфории, мы скоро выбрали кафе, уселись снаружи под красно-белым тентом, отгоняя москитов и потягивая лимонад из широких бокалов. Полчаса спустя мы разговорились со смуглым, уродливым и в то же время привлекательным маленьким человечком, который сначала принял нас за англичан. Узнав, что мы русские, он в самой экстравагантной форме выразил свое восхищение. Этот мужчина мог даже не говорить, что он художник – его выдавали широкополая фетровая шляпа и алый шелковый плащ. Он представился: «Фиорелло да Баццанно, живописец». Чудовищно широкий рот, полный желтых неровных зубов, придавал ему гротескный вид – голова казалась наполовину лошадиной, наполовину человеческой. Его маленькое истощенное тело, которое постоянно дергалось, совершенно не сочеталось с животным, почти языческим лицом. И все же это соединение было притягательным. Кроме того, Фиорелло продемонстрировал превосходное знание языков – почти такое же, как у меня. С нами он говорил на причудливом patois[113] русского, немецкого, итальянского, французского и английского. Он родился в Триесте, где пересекались пути почти всех этих культур. Фиорелло настоял, чтобы мы распили с ним бутылку тосканского. Примерно через час он поведал нам, что был мелким вором, уличным попрошайкой. Потом, в траншеях, он встретил своего героя, футуриста Умберто Боччони[114], и открыл более широкие горизонты. Я рассказал ему о своей жизни в Петербурге, о технических достижениях и летающих машинах. Он быстро обнаружил в наших историях немало общего. Вытащив большие золотые часы из кармана довольно грязной белой рубашки, Фиорелло сказал, что мы должны стать его гостями за ужином. Он оплатил счет в кафе и потащил нас вниз по улице к «Ресторану Мендосы» на виа Каталана. Отличительной особенностью этого заведения были черно-желтые полосатые зонтики, поэтому местные жители называли кафе «Осой».
– Для начала возьмите жареные артишоки. – Фиорелло ненадолго посерьезнел. – Это фирменное блюдо Мендосы, оно поднимает дух куда лучше, чем дюжина папских аудиенций.
За одним из стоявших снаружи столиков Фиорелло ждала женщина. Она была одета во все черное и казалась почти вдвое крупнее художника. У женщины были темные коротко стриженные волосы, черная блуза, черные чулки, черные туфли. Это однообразие нарушали только бледная кожа да еще алый поясок вокруг талии. Женщину звали Лаура Фискетти. Фиорелло, как будто извиняясь, сообщил, что она писала статьи для социалистических газет. Мы обменялись рукопожатием. Пухлая, по-матерински добрая женщина, Лаура постоянно осуждала и критиковала своего крохотного возлюбленного. Когда он заговорил, она отодвинулась в сторону, положив руку на спинку его стула, и улыбнулась нам, как гордая мать испорченного, но умного ребенка. Иногда она наклонялась к Эсме и задавала ей вопросы. Моя Эсме открылась Лауре и изложила ей, на мой взгляд, наиболее приемлемую в Европе версию своей истории: она была сиротой, плененной турками, ее хотели продать сирийскому торговцу, и тут появился я и узнал в ней свою давно пропавшую двоюродную сестру. Может, Лаура и сочла историю фантастической, но была слишком хорошо воспитана, чтобы спорить. Женщина ограничилась расспросами о жизни в Константинополе. Ее отец до войны служил там в консульстве, но сама она никогда не бывала в Турции.
Как и обещал Фиорелло, артишоки были восхитительны, но поданные следом всевозможные виды пасты и мясо оказались еще лучше. В течение этой замечательной трапезы приходили разные друзья, которые рассаживались вокруг нас. Когда стол стал слишком мал, они приставили к нему другой. В конце концов одна многочисленная группа заняла половину помещения; все говорили, пили, ели и жестикулировали с такой энергией и удовольствием, что меня нисколько не волновало, понимаю ли я хоть слово из сказанного ими. Двое или трое приезжали в Россию до войны. Они говорили, что были поэтами. Я подозревал их в связях с анархистами. Именно такие итальянцы производили огромное впечатление на петербургскую артистическую и политическую богему. Я ничего против них не имел. Они не были похожи на известных мне диких, примитивных анархистов. Они считали анархизм вполне логичным увлечением для художника, любого художника, и особенно итальянца. Итальянцы – величайшие индивидуалисты Европы, и анархия – просто формальная характеристика фундаментальных свойств этой страны. (Вот почему так мало людей по-настоящему поняли Бенито Муссолини, его философию и его проблемы.) Тем временем лишенный слуха гитарист бродил возле ресторана, напевая популярные сентиментальные песни за пару лир, а Фиорелло вспоминал о новых блюдах, которые нам следовало попробовать. Мы осушили великое множество бутылок вина. Я как будто попал в рай – сидел, поедая жареную рыбу и макароны, и наслаждался невероятной роскошью бессвязной беседы. Именно Лаура в ту ночь отыскала для нас хороший кокаин, «лекарство для всех истинных футуристов», а Фиорелло настоял на том, чтобы заплатить за наркотик: «Вернешь мне деньги, когда твой первый воздушный лайнер прибудет в Буэнос-Айрес».
Их друзья оказались столь же щедрыми. В первую неделю пребывания в Риме мы тратили деньги практически только в отеле. Мы каждый день отправлялись на виа Каталана, а оттуда – в рестораны, кафешантаны, на частные вечеринки. Богемные римляне жаждали послушать мои байки о гражданской войне, о турецких националистах и жизни в Константинополе. Этими историями, иногда немного приукрашенными, я расплачивался за еду и вино. Если я выпивал слишком много, то обращался к воспоминаниям миссис Корнелиус о частной жизни выдающихся большевиков. Я по-прежнему использовал ее фамилию, так как она стояла в наших поддельных британских паспортах. Я не хотел рисковать и беспокоить власти и до сих пор не знал, кто в этой компании работает на полицию. В каждой группе всегда был по меньшей мере один шпик.
Наши новые спутники, при всем их очевидном безрассудстве, серьезно относились к судьбе своей страны. Они могли злиться, устраивать истерики, набрасываться друг на друга по самым ничтожным поводам. Здесь собрались представители всех разновидностей анархизма, монархизма, социализма и национализма. Немногие римляне считали себя фашистами. «Фашист» в те дни означало просто «связка» или «букет»[115], это было просто жаргонное название группировки. Большевистская пресса придала обычному слову зловещий смысл. Многие из друзей Фиорелло да Баццанно, как и Коля, были одержимы навязчивыми идеями о будущем, которые в чем-то совпадали с моими мыслями. Они воплощали мои идеи в словах и картинах. Мой научный рационализм и их поэзия превосходно сочетались.
Однажды теплым вечером, сидя под разноцветными электрическими фонарями на террасе «Мендосы», Фиорелло рассказывал о том, что место прежних враждующих семейств, Борджиа и Орсини, в наши дни заняли производители автомобилей.
– Скоро нам придется присягать на верность, мой дорогой Макс, и в случае необходимости сражаться за своих избранников. – Он подпрыгивал на месте, то и дело приподнимая шляпу над тонкими темными волосами и стуча по полу тростью. – Avanti![116] Я – граф Фиорелло да Баццанно, приверженец Феррари! – Это так развеселило Фиорелло, что его губы неестественно изогнулись, обнажая желтые зубы. Посмеявшись, он снова сел за стол.
– И кто станет следующим папой римским? – Лаура погладила его по спине. Она говорила обычным спокойным насмешливым тоном. – Лянча? Фиат?
Фиорелло едва не задохнулся, услышав это. Он яростно тряхнул головой и, собравшись с силами, встал на ноги и положил руку мне на плечо.
– Он может быть иностранцем. В Ватикане уже есть сторонники Форда. Но французы поддерживают кардинала Пежо. – Он наклонился и с притворной серьезностью добавил: – Со своей стороны я ставлю на темную лошадку. На кардинала-младенца.
– Кто это? – Мы все вытянули шеи в его сторону.
– Как же! Не кто иной, как малыш Роллс-Ройс, друзья мои. Попомните мои слова, вы еще услышите о нем через год-другой. Он украл твои чертежи, Макс. Он хочет поднять святого Петра поближе к небесам. Весь папский город расположится на огромном дирижабле и будет парить над землей, свободный от временных ограничений, далекий от всей мелкой политики. И когда папа римский будет спускать воду у себя в туалете, его моча прольется и на католиков, и на протестантов!
– И на турок! – попросил я. – Пусть она льется и на турок.
Фиорелло был благодушен:
– Они получат всю ватиканскую канализацию. И если их землю покроет это святое дерьмо, на ней останется только христианская пища. И они обратятся в истинную веру так же, как обратились наши предки, – через желудки.
Выпив, Лаура становилась немного мрачной:
– Я думаю, что Форд и Остин уже достаточно влиятельны, чтобы действовать так, как пожелают. – В этом состоянии она весьма неодобрительно относилась к полетам фантазии Фиорелло. – В итоге на людей наибольшее впечатление производят наличные. Покупайте их бензин и давайте им денег, чтобы они могли предоставить нам машины.
– Триумф торговли! – заявил я, может, чуть более решительно, чем было необходимо. – Торговля делает всех людей друзьями. Мир богатых – это мир дружбы.
Лаура нахмурилась:
– Но у кого будет самая большая доля?
– Эта проблема уже решена в России. – Маленький человечек никак не хотел спускаться с небес на землю. – Когда будет известен результат, мы узнаем, куда двигаться дальше. Какой потрясающий мыслитель Ленин! Возможно, нам нужно попросить, чтобы его сделали папой римским? Тогда все будут относиться к нему гораздо спокойнее.
Во мне тоже вызвали протест социалистические идеалы Лауры.
– Мы просто перенесем летающий Ватикан-град в Москву!
– Но как быть с патриархом Константинопольским? – спросил один из их приятелей из-за плеча Фиорелло. – Куда деваться бедняге?
Фиорелло приподнял трость:
– У меня есть ответ. Триумвират: Папа Римский Генри Форд, Патриарх Греческий и Римский Владимир Ленин и диктатор д’Аннунцио. Ist es gut so?[117] Все оттенки авторитаризма представлены. Священный компромисс.
Эсме была очарована его странным личиком и резкими движениями. Время от времени она начинала хихикать в самый неподходящий момент, иногда она сидела, уставившись на него, на лице ее отражалась неуверенность, а глаза расширялись, как у играющего ребенка. Ей нравились его комические позы, мелодраматические жесты, невероятное красноречие и самодовольное хвастовство. Я не чувствовал ревности. Фиорелло был прирожденным клоуном, а я хотел лишь одного – чтобы Эсме была счастлива. Я знал, что это общество и эта атмосфера подарят ей веселье и хорошее настроение, и не мог не радоваться. Я надеялся, что мы встретим таких же друзей в Париже и Лондоне, ведь такова была моя естественная среда обитания, которая идеально подходила и Эсме. Здесь смешалось все: идеи и деньги, политика и искусство, наука и поэзия. Среди таких людей мне неизбежно удалось бы обнаружить тех, кто оценит мои изобретения и поможет воплотить их в реальность – именно так поступил бы Коля, если бы сумел подольше остаться в правительстве. (Вот почему я считал, что Ленин несет персональную ответственность за мои беды и страдания: Колю изгнали, когда свергли Керенского.) Теперь, однако, в Риме и в других местах можно ожидать наступления будущего, где эти молодые люди сумеют построить настоящую Утопию. Они умоляли меня стать ее архитектором. Риторика Фиорелло вдохновляла нас. Он говорил о насилии, которое запускает двигатель. Общество должно принять насилие, если ему нужен прогресс.
– Как поезд может двигаться без энергии, горящей в котле локомотива? Как изготовить сталь без доменной печи? Как самолет взлетит без топлива? Ich glaube es nicht![118] И точно так же страна не достигнет совершенства без крови и штыков. Из насилия рождается порядок – то замечательное спокойствие, которое наступает после сражения. Мои русские друзья, я подарю вам «Мир, рожденный войной!» и «Порядок, рожденный борьбой!».
Аплодируя его речам, мы еще не могли знать, что Фиорелло был подлинным глашатаем энергичного и реалистического нового века. Великолепное пробуждение итальянской гордости стало очевидно лишь два года спустя, когда Муссолини отправился в поход на Рим[119].
– Вы должны остаться с нами, мой дорогой Корнелиус! – В одной руке Фиорелло держал винную бутылку, а в другой – шляпу. – Останьтесь с нами и помогите создать… – Он рассмеялся. – Excusez-moi, der Motor ist überhitz![120]
И он опустил голову на колени терпеливой Лауре и громко захрапел, притворяясь, что спит. Я им восхищался, но не мог относиться к нему серьезно. И все же его поэтическое предвидение оказалось удивительно точным. Под руководством невероятного дуче Италия начала решительно отстаивать все то, что было жизненно важно, благородно и современно. Муссолини совершил лишь одну ошибку – поверил своим друзьям- ренегатам. В конце концов я решил, что больше похож на Муссолини, чем на д’Аннунцио. Инженер прекрасной возрожденной страны, он мечтал почти о том же, о чем и я. Я первым готов выступить против крайностей гитлеризма. Трагическая несправедливость состояла в том, что к Бенито Муссолини относились так же, как к Гитлеру. Иногда людям нужно показывать дубинку и бутылку касторки, как собакам показывают палку. Он страдал, потому что не мог разглядеть дурного в своих союзниках, в людях, которые называли его повелителем, замышляя низвержение. Сейчас в Англии меня ободряет то, что многие люди наконец начинают понимать достоинства тех лидеров. Даже несчастного защитника национальной гордости, сэра Освальда Мосли[121], наконец признали благородным патриотом, каким он всегда и был: его интеллектуальные способности и поэтическое дарование можно сравнить с моими. Но он, вероятно, чувствовал себя очень плохо, находясь в печальном изгнании в сельском французском замке и видя, как в мире совершается все то, о чем он тщетно предупреждал. Я смог пожать ему руку лишь однажды, на обеде, который устроили для панъевропейцев в конце сороковых. Мне тогда пришло в голову, что на его судьбу существенно повлияло физическое состояние. Когда он благодарил меня за поддержку, в его глазах стояли слезы, но прежде всего я обратил внимание на другое – к своему стыду, я отметил необычайно зловонное дыхание сэра Освальда. Я подумал, указывал ли ему кто-нибудь на это. Я поговорил с его верным помощником, Джеффри Хэммом[122], и высказал предположение, что обычная жидкость для полоскания рта, если ее использовать ежедневно, может значительно увеличить шансы лидера на успех. Но меня неправильно поняли. Хэмм приказал вышвырнуть меня из комнаты. Предупредил, что если я еще раз появлюсь, то он лично меня изобьет. Так всегда бывает с благими намерениями. Мы с Мосли могли бы вместе спасти Великобританию от медленного падения в бездну социалистических фантазий. У Муссолини не было проблем с запахом изо рта, а если и были, то я не замечал этого, так как интенсивное использование чеснока и оливкового масла в итальянской кухне, не говоря уже о томатной пасте и обо всем прочем, приводит к тому, что все пахнут одинаково. Гнев Хэмма не помешал мне проголосовать за Мосли в 1959 году, когда он выдвинул свою кандидатуру в парламент от нашего района, но к тому времени все уже пошло не так. Негры проголосовали и одержали победу.
Двадцатый век – кладбище благих намерений и непонятых мечтаний. Когда говорят о мифических шести миллионах, никогда не принимают в расчет настоящих жертв социалистического редукционизма – великолепных, благородных провидцев, проницательных борцов за Закон и Порядок, неутомимых, самоотверженных рыцарей христианства, которые, начиная с Деникина и кончая Рокуэллом[123], поднимали меч против большевизма, и их убивали трусы, обманывали изменники, предавали последователи, которые теряли самообладание в решающий момент. Именно они подтащили бедного Муссолини к черному дереву и повесили. Толпа, состоявшая из тех самых мужчин и женщин, которые поклонялись ему, терзала и рвала на части его тело, а несколько лет спустя эти люди продавали клочки его одежды туристам на виа Венето и площади Святого Петра. Муссолини не следовало доверять папе римскому и его кардиналам. Они притворялись, что поддерживают его, а затем, как только британцы и американцы начали выигрывать войну, отвернулись от Муссолини. Какая ирония! Страна Муссолини была истинным католическим государством, она в большей мере подчинялась Церкви, а не мимолетным политическим капризам.
Если бы не Гитлер, который зашел слишком далеко, Италия теперь была бы самой передовой страной в мире. Но Гитлер обезумел. Он восстал против Церкви. Ненависть к большевизму, сама по себе достойная уважения, помрачила его разум. Он попытался пойти на компромисс со Сталиным и лишился поддержки людей, до тех пор подчинявшихся его приказам. Силы, которые выступили против него, ополчились и против меня. Бенито Муссолини был одной из многих выдающихся личностей, признавших мои заслуги. Ничтожные, завистливые, низкие человечишки, перешептываясь, подстраивая презренные мелкие ловушки, плетя зловещие заговоры, подорвали тот фундамент, на котором мы строили свои видения. Вот они, герои большевизма: бледные, зловещие, косоглазые лица, которых никогда не касался солнечный свет. Я слышу, как они скулят возле магазина каждую субботу, и прогоняю их. Они разбегаются и визжат, как трусливые дворняги. Они и есть дворняги. Я слышу, как они сопят у меня под окнами по ночам, как дерутся за дверью и царапают стены. Они исчезают, когда я вызываю их на честный бой. Разве Муссолини или Хорти, Мосли или Гитлер испугались бы честного боя?
Нам было важно уехать из Рима и добраться до Парижа как можно скорее, прежде чем Коля продолжит свое путешествие в Америку или Берлин, но город раскрыл нам свои гостеприимные объятия. Каждый раз, когда я собирался уехать, он показывал что-то новое, способное удивить меня и отвлечь от цели. Например, однажды утром, после того как мы провели полночи, обсуждая, как лучше всего доехать до Парижа, мы перебирались из отеля «Амброзиана» в кафе «Монтенеро» через реку в районе Трастевере, чтобы встретиться с Лаурой, которая там жила. По центральной улице, ведущей к мосту, проехал большой двухэтажный старинный трамвай класса «империал», к нему были присоединены еще два одноэтажных вагона. Они ровно и очень медленно катились в сторону восточного пригорода. Трамвайный состав из трех вагонов не был таким уж необычным явлением в Риме, хотя двухэтажные вагоны, как я выяснил, чаще встречались в Милане и Лондоне, но этот был выкрашен блестящей черной краской, однообразие нарушали только деревянные детали, отполированные почти до золотого блеска. Корпуса и колеса следующих вагонов поражали обилием цветочных орнаментов, из которых сплетались разноцветные венки, лозы и завитки, а внутри, за полуприкрытыми черными занавесками, просматривались силуэты плачущих и скорбящих людей, одетых в черное. Я никогда не видел ничего подобного, но я понял, что это современная похоронная процессия – гроб, также покрытый большими букетами цветов, был ясно различим на верхнем этаже первого вагона. Трамвайные дуги жужжали и потрескивали немного беспечно, учитывая серьезность события. Вагоновожатый, неподвижный и мрачный, сидел впереди в особом черном костюме (в «империалах» было только одно место для водителя и одна лестница сзади). Увиденное потрясло меня, я снял шляпу, воздавая должное скорее чуду современной техники, чем бедному трупу, лежавшему внутри. С какой готовностью, почти без всякой суеты итальянцы приспособились к прогрессу двадцатого века и двинулись по новому пути! Когда я рассказал Лауре и ее друзьям о процессии, мое волнение их удивило. Очевидно, похоронные трамваи были обычным явлением во многих частях Италии и других странах. Я понимал, как отдалился от подлинной культуры во время гражданской войны и пребывания в Турции.
Несмотря на весь свой энтузиазм, вызванный передовой транспортной системой Рима, я и на сей раз не забыл упомянуть, что нам необходимо попасть в Париж. Я спросил Лауру, есть ли для меня какая-нибудь работа. Деньги еще оставались, но я почувствовал бы себя счастливее, если бы сам заработал на железнодорожные билеты первого класса. Лаура сказала, что постарается все обдумать. Тот маленький квартал в Трастевере, рядом с площадью Санта-Мария, был на удивление тихим, далеким от хаоса и шума, царившего на центральных улицах Рима. Нас окружали простые, почти деревенские дома. Выцветшие стены когда-то давно выкрасили в розовый, синий или зеленый цвета. Навесы над кафе напоминали древний пергамент – возможно, их натянули еще во времена правления Цезаря Августа. На многих крышах раскинулись сады, настолько запущенные, что казались дикими, местные обитатели лицами походили на фавнов. Здесь казалось, что ты вернулся назад, в языческое прошлое. Почти весь Рим заливал солнечный свет, особенно рано утром или в сумерках. Стоило взглянуть на окружающие холмы – и легко представлялось, что здесь можно навеки укрыться от земных проблем, терзающих всю остальную Европу. От Трастевере можно было прогуляться по полуразрушенному мосту на остров Тиберина. На этой крошечной полоске земли, у зелено-коричневых вод реки, стояло здание (думаю, монастырь), очевидно, строившееся на протяжении столетий. В нем сочетались детали архитектуры последней тысячи лет. Здесь римляне ловили рыбу, чинили лодки и просто бездельничали на каменных плитах, дымя трубками и разглядывая купол собора Святого Петра и другие крыши, видневшиеся сквозь заросли деревьев. Здесь жили несколько диких кошек и, вероятно, монахи (хотя их я никогда не видел). И даже кошки заметно отличались от тех, что нежились на солнце среди руин Большого цирка. Если Константинополь был городом собак, то Рим – городом кошек. Храм Бубастис[124] легко мог обнаружиться где-нибудь поблизости. Редко случалось увидеть здание, на окнах или ступенях которого не лежали бы кошки. Рыжие, черные, серые, коричневые, белые, пегие и имбирные, они умывались, спали, занимались любовью, совершенно не проявляя интереса к проходящим мимо людям, равнодушно глядя на того, кто подходил поближе, и выказывая настороженное любопытство, если возникала возможность получить от кого-то еду. Они бродили по мрамору, который некогда был залит кровью замученных христиан. Они вылизывали шерсть на гранитных плитах, покрытых надписями, прославлявшими империю. Они совокуплялись у подножий колонн, возведенных в честь богов и богинь, и в какой-то мере они воплощали сам устойчивый дух города и его жителей. Эсме считала кошек очаровательными. Бывали такие дни, когда она проводила практически все время, наблюдая за ними почти с таким же выражением, с каким они наблюдали за другими. Ее глаза широко раскрывались, она поглаживала свой маленький подбородок очаровательными пальчиками и дышала медленно, апатично, с непостижимым удовольствием. Это заметил не только я. Лаура часто смотрела на Эсме и хмурилась, ее взгляд был и понимающий, и удивленный одновременно. Даже футурист Фиорелло, поглощенный собственным красноречием и эгоцентризмом, иногда замечал странное поведение Эсме и улыбался мне, как будто дивясь необычным нравам женщин. И все-таки я ничему не удивлялся – мне казалось, я прекрасно понимал все ее чувства. Возможно, все дело в моем воображении – я представлял, что Эсме способна испытывать сильные и глубокие чувства, которых в реальности не существовало. Тогда я стал бы это отрицать, но теперь признаю, что она была, по крайней мере отчасти, моим творением, зримым воплощением моих желаний. Я об этом почти не думал, когда Эсме внезапно оборачивалась и на лице ее появлялась улыбка, словно в ответ на мою невысказанную просьбу. Но я не хотел отыскивать намеки и скрытые смыслы. Мне это было чрезвычайно неприятно. Мое мнение не изменилось, но я не могу вечно прятаться от правды.
Благодаря Фиорелло мы познакомились с молодым человеком, которому в дальнейшем предстояло сыграть роль нашего великого благодетеля. Кузен Баццанно, он жил и работал в основном в Милане, но часто путешествовал по всей Италии и по многим европейским городам. Он был настолько же красив и хорошо сложен, насколько был уродлив его кузен. Он гордился своими строгими, сшитыми на заказ костюмами и демонстирировал, как мы тогда говорили, слишком широкие манжеты. Его рубашки всегда были совершенно новыми, а шелковые галстуки повязаны просто безупречно. Наманикюренные руки украшали золотые кольца, белые зубы также иногда сверкали золотом. Его звали Аннибале Сантуччи. Этот яркий денди был на три-четыре года старше меня. Его стиль в Киеве называли черноморским – белые костюмы, черно-белая обувь и бледно-лиловые галстуки. Он мог одеваться и более традиционно, когда находило соответствующее настроение или выпадал подходящий случай. Мы впервые увидели его, точнее, его автомобиль, однажды туманным утром, проходя мимо фонтана на площади Санта-Мария. Машина громко ревела. Огромная красно-синяя скоростная «лянча», казалось, заняла всю площадь – так сильно грохотало эхо. Фиорелло шел вместе с нами. Он повернулся, чтобы обругать водителя автомобиля, но, увидев, кто сидит за рулем, издал восторженный крик.
– Бало! Бало! – воскликнул он.
Ответом стал выхлоп сизо-серого дыма, когда водитель переключил скорость и машина с ревом свернула в переулок, в который, казалось, с трудом смогла втиснуться. Фиорелло подпрыгивал от радости, размахивая тростью и подбрасывая шляпу, но Лаура, похоже, не испытывала особого восторга. Эсме просто удивилась. Она немедленно возвратилась к прерванному рассказу о платье, которое получила одна из ее подруг вскоре после того, как начала работать на госпожу Унал. Я попытался остановить ее, но это было бесполезно – она просто забылась. В итоге я пожал плечами, решив: пусть все идет своим чередом. Не особенно важно, что о нас думала Лаура Фискетти. Мы дошли до кафе «Монтенеро» и заняли свои обычные места. Маленький старичок, единственный официант, появился, чтобы вытереть совершенно чистый стол и принести кофе и булочки. Фиорелло не умолкал – он рассказывал о своем кузене:
– Он привез подарки. У него всегда есть подарки. Ты должен с ним встретиться, Макс. Он любит англичан. Он вел с ними дела во время войны. И с русскими тоже. – Он уже сочинил свою версию нашей истории и излагал ее всем подряд. Меня это вполне устраивало. – Интересно, где он был. – Фиорелло на миг помрачнел, но тут же оживился. – Он обязан отыскать нас прежде, чем уедет из Рима. Он настоящий ублюдок. Мерзавец. Чудовище. Лаура плохо к нему относится. Она считает его воплощением капиталистического зла. Но она тоже не может противиться ему, верно, Лаура?
Лаура пожала плечами:
– Да, он не лишен грубоватого очарования, если ты говоришь об этом.
Она улыбнулась своим мыслям. В этот момент вся площадь перед нами, казалось, затряслась и завыла, громкий визг и неистовый радостный рев донесся откуда-то из лабиринта улиц, как будто стая пьяных бабуинов напала на убежище траппистов. Красно-синяя «лянча» вырвалась из переулка, сделала резкий поворот, едва не врезавшись кузовом в наш маленький столик, и остановилась. С огромного переднего сиденья поднялся Сантуччи, стянул лайковые перчатки, пригладил волосы и вместо шлема надел серую мягкую фетровую шляпу. На плечи он накинул пальто из верблюжьей шерсти. Шляпу он носил набекрень, широкие поля прикрывали один глаз. Сантуччи коснулся губ серебряным мундштуком, поцеловал серебряный набалдашник своей роскошной трости и, как полубог, выпрыгнул на тротуар. Он был блестяще нагл и вульгарно романтичен, он наслаждался собственными выходками так же, как следовало наслаждаться ими всем нам. Аннибале совершенно отличался от столь же грациозного, но крошечного Баццанно, который с обезьяньим проворством перепрыгнул через ограждение кафе и бросился на улицу, чтобы обнять кузена. Шестифутовый Аннибале Сантуччи напоминал очаровательного подростка из мюзик-холла. Он мог бы стать кинозвездой. Он пожал мне руку, поцеловал кончики пальцев Эсме, сделал много общих комплиментов, которые буквально срывались у него с языка, и немедленно заказал нам вина и еды, хотя мы уверяли, что уже наелись, а для алкоголя еще слишком рано.
– Никогда не говорите «слишком рано», – резко предостерег он. – Если вы будете так говорить, то очень быстро обнаружите, что стало слишком поздно. – Эти фразы звучали как афоризмы, вероятно, он часто их произносил, когда хотел произвести впечатление на осторожных знакомых. И они действительно подейстовали на Эсме. Она громко рассмеялась и на мгновение удостоилась его царственного внимания. Он придвинул стул поближе и начал рассказывать нам о Неаполе. Он занимался бизнесом на Искье, острове в заливе близ Капри, там сейчас жили его мать и отец. Началась забастовка лодочников, и ему пришлось отдать целое состояние, чтобы добраться до Искьи. – Парусная лодка. Прототип Ковчега! – Потом, вернувшись, он не смог раздобыть бензин для своего автомобиля из-за забастовки на бензозаправочных станциях. Сантуччи рассмеялся. – Это – начало истинного анархизма, когда каждому придется заботиться только о себе. У нас будут свои бензиновые насосы, отдельное водоснабжение, собственные коровы и ремонтные мастерские. Если мы не остановимся, то вскорости познаем страшную скуку, у человека останется время только на то, чтобы заботиться о себе и о своих машинах. Фиорелло! Лаура! – Театральный взмах – и Сантуччи, достав из внутреннего кармана пальто два черных бархатных футляра, вручил их нашим друзьям. Внутри оказались отделанные алмазами наручные часы, мужские и женские. – Мой марсельский друг очень добр. Он сказал, чтобы я передал их матери и отцу!
– Ты почтительный сын, – иронически заметила Лаура, положив часы на свое крепкое запястье и с восторгом осмотрев их.
– И на что им такая вещь? Чтобы отсчитывать последние часы? Бессмысленно! – Он повернулся к нам в искреннем раскаянии. – Пожалуйста, пожалуйста, простите мою грубость!
Мы с Эсме готовы были простить ему все. Его улыбка казалась обезоруживающей, она его никогда не подводила. Фиорелло сказал, что мы собираемся в Париж, но у нас не хватает денег на билеты. Не может ли его кузен подыскать какую-нибудь работу по инженерной части?
Сантуччи перешел к делу. Он поднял руку и небрежно произнес:
– Тогда вы поедете со мной. Составите мне компанию, а? Я могу добраться туда меньше чем за день.
Я сказал, что у нас много багажа, но мысль о «лянче» вызывала у меня восторг. Я чувствовал тот трепет радости, с которым всегда ожидал автомобильного спасения.
Сантуччи не обратил на это внимания:
– Моя машина безразмерна. Ее спроектировал мой родственник Баццанно, чтобы преодолеть обычные ограничения пространства. Разве он вам об этом не говорил?
Я посмотрел на автомобиль, почти поверив Сантуччи. Фиорелло улыбнулся и ничего не сказал.
– Он слишком скромен! – Аннибале хлопнул своего кузена по спине. – Этот уродливый маленький карлик – величайший изобретатель-метафизик в Италии.
Лаура поцеловала его в щеку.
– Ты говоришь с настоящим ученым, Бало. Сеньор Корнелиус создал собственный самолет и управлял им. Он изобрел луч смерти, который использовали против белых в Киеве! Ты, разумеется, читал об этом в газетах.
Аннибале поклонился, не вставая со стула:
– Тогда вы должны непременно отправиться со мной в Париж. Я постараюсь по дороге поэксплуатировать ваши мозги!
Я согласился. Прекрасная возможность – это решало сразу несколько проблем и означало, что мы, вероятно, испытаем гораздо меньше затруднений на границе. Я обнаружил человека, привыкшего жить своим умом, ему приходилось бывать в том же положении, в которое могли попасть и мы. Не ожидая прямого ответа, я спросил Сантуччи, чем именно он занимается, заметив, что он, похоже, добился немалых успехов.
– Я покупаю и продаю. Я путешествую. Я приезжаю в нужное место в нужное время. Вот как сейчас! Я дешево покупаю овец в Тоскане и дорого продаю их на Сицилии, где на свою прибыль покупаю вино и продаю его за огромные деньги в Берлине. Но все это на бумаге, синьор Корнелиус. Я едва ли хоть раз сам видел свои товары. – Он продемонстрировал мне идеально чистые руки. – Никакой грязи и спекуляций, а? Ни единой мозоли. Я предприниматель. Во время войны я узнал секрет: как стать хорошим генералом. Никогда не знакомься с солдатами. Следи за происходящим издалека и воспринимай все абстрактно. Сам я был водителем. Я управлял грузовиками и бронемобилями. Конечно, представлялись возможности для торговых сделок. После войны я просто продолжал водить машину. Где бы я ни останавливался – что-то покупал и продавал. Сейчас у меня нет серьезных денег, но есть хорошие костюмы, замечательный автомобиль и много девочек. Я не респектабелен, но меня уважают. И еще лучше: я необходим. У меня есть квартира в Милане, в которой я почти никогда не бываю. В результате мне даже не нужно платить арендную плату за постоянный офис. Вот мой офис! – И он указал на свою «лянчу».
Капот был горячим, свежие краски сверкали под тонким слоем пыли.
Лаура сказала, слегка поджав губы, как будто улыбаясь:
– Он вам говорит, что он – бандит. На Искии он, вероятно, продал мать и отца.
– Что можно в наши дни получить за старика и старуху? Они вышли из моды. Я обычный бандит, если вам так нравится. Но я уникальный художник. Поручись за меня, Фиорелло!
Лаура энергично кивнула:
– Ты, несомненно, уникален, мой дорогой.
Фиорелло настаивал, что его кузен был самым лучшим художником из тех, которые появились после войны:
– Искусство – это действие. Действие – это искусство. Логика проста.
– И как всякая простая логика – это смехотворно. – Теперь Лаура рассмеялась по-настоящему.
– Как жаль, что я не могу поехать с вами в Париж. – Фиорелло с отвращением осмотрелся по сторонам. – Рим как черствый пирог. Укусишь его – и сломаешь зубы. Слишком мало событий. Его нужно сделать посвежее. С помощью динамита. Во всем виновато правительство.
– Правительство, – Сантуччи подмигнул, заметив случайного прохожего, – делает все возможное.
– Слишком много терпимости! Нам нужно кровопролитие на улицах! – Фиорелло оседлал любимого конька. Он говорил быстро и очень громко. – Где же казаки? Сеньор Корнелиус сражался в России. Он наполовину русский. Или наполовину еврей? Он наполовину кто-то. Он знает, какие замечательные развлечения обеспечивает истинная тирания. Где наши собственные тираны, где та страна, которая некогда поставляла миру прекраснейших деспотов? Неужели они слишком робки и не могут выйти из укрытия? Я поеду с вами в Париж и отыщу настоящего Наполеона. Nicht wahr?[125]
– Тогда будь готов к следующей среде. В среду я уезжаю. – Сантуччи бросил на стол несколько банкнот. Он сказал, что заберет нас прямо из отеля. Мы поедем через Милан и Швейцарию. Бывали мы в Альпах? Это чудесный опыт. – Пирог, может, и черствый. Но глазурь великолепна. – Погода была идеальной для автомобильного путешествия.
Я уже предвкушал путешествие, особенно вместе с Сантуччи. Я всегда любил большие дорогие автомобили; садишься в такой – и забываешь обо всех заботах. Немногие проблемы, которые у меня еще были, останутся позади, едва «лянча» отправится в путь. Даже если бы я с самого начала не собирался ехать в Париж, то, вероятно, все равно принял бы предложение, хотя бы для того, чтобы прокатиться в таком автомобиле. Эсме также волновалась, хотя уже привыкла к Риму, кошкам и кафе.
– Париж будет так же хорош? – спросила она.
Я обещал ей, что будет даже лучше. Фиорелло склонился над нами, смеясь от удовольствия:
– Ах, мои дорогие. Сегодня вечером у нас праздник – я поведу всех в кофейню «Греко» на виа Кондотти. Вам нужно найти новых друзей. В «Греко» все одновременно и иностранцы, и художники, так что вы будете как дома. Потом мы пойдем в кино. Вы слышали о Фэрбенксе? Изумительный комик. А Чаплин? А «Фантомас»? И все они вместе сегодня вечером! А завтра мы возьмем автомобиль или лошадь с повозкой и проведем день в Тиволи. Я хочу удостовериться, что вы повидаете все, – тогда вы захотите вернуться к нам как можно скорее!
– Но ты же поедешь с нами, Фиорелло, – сказала Эсме.
Он обнажил желтые зубы в усмешке:
– Моя дорогая малышка! Моя кузина меня знает. Я не могу жить без римского воздуха. Мы с ней одного поля ягоды. Мы симбионты. За пределами Тиволи я начинаю растворяться. Если бы я отправился в Милан – просто исчез бы, сгинул, обратился в ничто. Но вы поедете в Париж за меня. Я буду думать о том, как вы там живете. И вы мне напишете, так что я смогу насладиться вашими впечатлениями.
Он был странным маленьким созданием. Я почти поверил в то, что он сказал правду.
Тем вечером в кинотеатре в перерыве между фильмами я встал, чтобы сходить в туалет. Возвращаясь в полумраке на свое место, я разглядел знакомую приземистую фигуру в передней части secondi posti[126]. Я был убежден, что это Бродманн. Я провел остаток сеанса, озираясь на него и ожидая, что он повернется, и я смогу разглядеть лицо. Я испугался. Затем мне показалось, что я видел бимбаши Хакира и Ермилова. Я точно знал, что Ермилов мертв. Я чувствовал боль от ударов нагайки. Меня преследовали мстительные евреи. Карфаген плел заговоры против меня. Я обрадовался, когда все мы встали и вышли в теплую и светлую римскую ночь. Скоро мы уже поглощали огромные тарелки феттучине и оладий в «Пастарелларо» на виа Сан-Кризогоно, неподалеку от площади Санта-Мария.
Полагаю, мы так и не протрезвели до конца нашего пребывания в Риме. В последнюю ночь перед отъездом Фиорелло обнял меня. Он был по-настоящему опечален:
– Ты должен вернуться к нам в следующем году, Макс. Ты нужен Италии. Ты нужен мне и Лауре. В Риме ты точно найдешь все, что тебе нужно. Поверь мне. Возвращайся к нам!
– Как только уладятся мои дела в Англии, – пообещал я.
Мы расстались со слезами на глазах, оба немного пошатывались.
Наутро Эсме встала раньше меня. Я то зевал, то стонал. Она раздвинула занавески, склонилась над перилами небольшого балкона из кованого железа и помахала рукой:
– Смотри, Максим, дорогой… Он здесь!
Сантуччи сдержал свое обещание и приехал на огромном блестящем новом автомобиле, чтобы встретить нас, только это была не «лянчаЗ». Он где-то раздобыл американский «каннингем» размером почти с грузовик. Машина была вызывающего зеленого цвета с желтой отделкой. Гудок звучал так громко, что мог бы возвещать о наступлении Судного дня, а двигатель самой последней модели выдавал больше ста лошадиных сил. Сантуччи сидел за рулем, курил сигарету и дружелюбно болтал с толпой восторженных мальчишек. Другие машины на улице тормозили – все хотели получше разглядеть «каннингем». Сантуччи мог устроить пробку. Увидев нас на балконе, он сделал знак, чтобы мы поскорее спускались. Наш багаж был готов, и мы быстро оделись, пока швейцары забирали вещи и грузили в автомобиль. Мы обнаружили, что счет уже оплачен, по-видимому, нашим блестящим благодетелем. Все, что мне оставалось сделать, – это дать чаевые швейцарам. Мы сели на переднее сиденье, Эсме устроилась посередине. Сантуччи нажал на газ, и его огромная машина рванулась вперед на глазах у изумленных зрителей. Похоже, ему очень нравилось привлекать внимание. Он не объяснил, почему сменил автомобиль, и я решил, что было бы бестактно спрашивать об этом. Мы вскоре снова проехали через Тиволи. Сантуччи остановился на несколько минут возле небольшого коричневого домика, вошел внутрь, а затем появился, удовлетворенно улыбаясь. (В Тиволи произошли очень важные для меня события, когда я вернулся в Италию по личной просьбе дуче. Сначала я был настолько наивен, что думал, будто это пивная под открытым небом вроде тех, которые я видел в детстве в Аркадии.)
После Тиволи дороги стали ухабистыми и зачастую очень пыльными, но иногда попадались превосходные участки. В конце концов, именно в Италии построили первую настоящую автостраду. Мы чудесно проводили время. «Каннингем» мог развивать скорость более восьмидесяти миль в час, и Сантуччи разгонял машину до предела при каждом удобном случае. Он говорил не умолкая в течение первых двух-трех часов, когда мимо нас проносились уютные солнечные деревни и обширные желтовато-коричневые поля. Иногда я отвечал, и он поднимал голову и внимательно вслушивался в мои слова. Мы беседовали главным образом об автомобилях и о транспорте вообще – эта тема интересовала нас обоих. Эсме, казалось, не возражала. Она смотрела вперед, спокойная и счастливая, наслаждаясь деревенскими видами и ощущением скорости. Около полудня Сантуччи попросил нас достать корзину, стоявшую на заднем сиденье. Оттуда мы вытащили цыплят, колбасы, хлеб, вино, мясную нарезку и бутылки зукко из Палермо – это вино не уступало лучшим произведениям французских виноделов. Теплый итальянский ветер овевал нас и успокаивал, как легкий алкоголь. Шелковые шарфы защищали наши рты от пыли, а очки, выданные Сантуччи, прикрывали наши глаза.
– Совершенные автомобили! – сказал наш хозяин, всматриваясь вперед: он подумал, что там стоит полицейский (тогда в Италии действовало ограничение скорости – не более тридцати миль в час). – Лучшее, что создала война, а? – Аннибале разделял некоторые взгляды Баццанно. Он тоже дружил с Боччони и был рядом с художником, когда того ранили. – Боччони не должен был умереть. Это нелепость.
Он ничего не добавил. Сантуччи, казалось, все в жизни драматизировал и превращал в некий словесный капитал, у него было сильно развито чувство осторожности, которое я назвал бы джентльменским. Позже я начал отмечать подобные качества у людей его типа, но тогда мне это было еще плохо знакомо. Я не понимал, зачем он хотел отвезти нас в Париж. И когда я задумываюсь об этом теперь, то обычно прихожу к выводу, что Сантуччи просто проявлял великодушие и альтруизм, – ему хотелось, чтобы мы стали его спутниками в долгом путешествии. Я по-настоящему полюбил этого человека, хотя тогда еще не привык к людям, которые видели положительные стороны войны.
Возможно, потому, что в самой Италии боевые действия почти не велись, бывшие солдаты-итальянцы смотрели на вещи по-другому. Конечно, Баццанно и Сантуччи были не единственными итальянцами, которые вернулись с фронта и надеялись отыскать новые миры для завоевания, новые стимулы для вдохновения. Италия двинулась вперед, в то время как другие страны бессильно пали. В крови у итальянцев было что-то такое, что позволяло находить плюсы в самой мрачной ситуации. Они сохранили свой идеализм, они имели право торопиться, завоевывать Африку и уничтожать угрозу Карфагена, о котором итальянцы знали больше всех прочих. Их ахиллесовой пятой осталась римская католическая церковь. Если бы не она – итальянцам, возможно, принадлежала бы империя, от Атлантики до Красного моря. Сын – Сын Света, но Отец – Отец Неведения; он стирает слюни с подбородка декоративным посохом, его митра опускается на глаза и слепит его, а конечности дрожат от старческого паралича. Вот как старики высасывают жизнь у молодых. Они мешают нам обрести власть, они ревнуют к нашей энергии, быстроте наших умов, радости наших тел. Проклятие латинских стран – неблагоразумная верность устаревшим папским учреждениям и явная готовность к компромиссу с иудаизмом. Патриарх Константинопольский никогда не стал бы даже думать о таких компромиссах.
Эта земля поражала нас тысячей оттенков золота, янтаря, старой слоновой кости, она потягивалась в солнечных лучах, как ленивая львица. Наши ноздри заполнял аромат бензина и диких маков, лимонов, горчицы и меда, наши сердца бились все чаще от ощущения простой, невинной свободы. Никто нас не преследовал. Бродманн стал призраком, изобретением моего утомленного сознания, как и Хакир. Турки и красные остались где-то за миллион миль от нас, они сражались в другой вселенной. Самодовольство Европы в те дни походило на подлинный оптимизм – все были готовы отвергнуть былые пороки и принять новые добродетели. Я даже обрадовался, когда неподалеку от Милана увидел у дороги ярко разукрашенные повозки цыганского племени. Я вспомнил о Зое, о своей первой любви. Эти цыгане воплощали продолжение романтической традиции, они были элементом прошлого, которое никому не угрожало, которое напоминало мне о постоянстве без упадка. Цыгане расположились лагерем у густой живой изгороди, их лошади ели траву у края дороги, а худые собаки носились взад и вперед в поисках объедков. Этот кочевой народ пережил тысячу европейских войн. Они говорили на языке, более древнем, чем санскрит, они прибыли с Востока не как завоеватели и не как торговцы, жаждущие власти, не как прозелиты темной религии, но как прирожденные странники, исполненные древней, простой мудрости. Я никогда не понимал предубеждения, с которым относились к этим людям. Так называемые цыгане, блуждающие вдоль автострад, – просто беспомощная вороватая шушера. Они слишком ленивы, чтобы работать, слишком неряшливы, чтобы содержать в порядке постоянное жилье. Эти дегенераты просто не в состоянии справиться с обычными проблемами городской жизни. Истинные цыгане, с темными кудрями и золотыми серьгами, со скрипками и шестым чувством, всегда вызывали у меня симпатию. Женщины-цыганки, смелые и агрессивные, были одними из первых красавиц на земле. Я обрадовался им. Я махнул им рукой из машины и очень огорчился, когда они не ответили. По-моему, Гитлер зашел слишком далеко, когда включил в свой список кочевников-захватчиков безвредных цыган.
Сантуччи заранее извинился за Милан, который, по его словам, не мог сравниться с Римом, но для меня этот город стал настоящим открытием: фабрики и огромные офисные здания, рост промышленности – я следил за всем этим, затаив дыхание. Бесчисленные трамваи, ровно бегущие по переплетающимся рельсам… У нас в России не было ничего настолько величественного, даже Харьков казался гораздо меньше. Милан пропах химикатами и раскаленной сталью, тлеющей резиной и пылающими углями; улицы заполнял грохот металла, рев машин; здесь жили великолепные, энергичные люди. Почти все здания были современными, Милан, кажется, возник очень быстро. Мне говорили, что город уродлив; я, напротив, находил волшебство в его грязном промышленном блеске. Здесь инженер мог работать и творить, используя находящиеся под рукой материалы и богатый опыт. Мне Милан казался землей изобилия двадцатого века, эдемским садом безграничных возможностей. Неудивительно, что именно в этом городе по-настоящему зародилось новое активное движение, которое возглавил Муссолини. Милан – пульсирующее ядро поразительно нетерпеливой страны, динамо-машина, способная привести в действие могущественную мечту, которая стала бы воплощением истинной промышленной революции. Как и в Риме, я мог бы задержаться здесь подольше, вдыхая дым так, как другие вдыхают озон, заполняя легкие эссенцией металла и нефти. Но Эсме возненавидела Милан. Она сказала, что он пачкает ее кожу. Город был пугающим и слишком мрачным. Он был шумным. Я посмеялся над ней:
– Ты должна привыкнуть к этому, моя красавица. Здесь твое будущее, как и мое.
Она снова погрузилась в транс до самого вечера, пока Сантуччи не повез нас дальше. Мы провели ночь в крошечном пансионе у швейцарской границы. Мы смогли разглядеть вершины Альп. Сантуччи сказал, что горы были зубчатыми стенами крепости: крепости спокойствия, нейтралитета, буржуазной безопасности.
– Самые великолепные горы в мире защищают самых унылых в мире людей. Вот парадокс, который занимает меня. Если вы, синьорина Эсме, цените чистоту и мир, то вам больше нечего искать. В Швейцарии люди жалуются, если колокольчик на шее у коровы звенит чуть громче положенного и если тюльпаны вырастают на дюйм выше обычного. Такова сущность тупого равноправия – средний класс стремится добиться комфорта любой ценой. Для искусства это – смерть. Больше нигде скука не отождествляется с добродетелью!
Мы пересекли границу следующим утром. К нам отнеслись с неодобрительной любезностью. Как бы вскользь, но очень внимательно швейцарцы изучили наши документы – они не искали преступных намерений или радикализма, а им требовались свидетельства бедности. По-видимому, они сочли нас достаточно богатыми для того, чтобы допустить на денек в свою горную твердыню. Быть бедным в Швейцарии – самая грубая безвкусица.
Мы вели машину по ровным, прекрасным и чистым дорогам. Эсме восхищалась опрятными клумбами, безупречным однообразием аккуратных городков, свежестью красок на стенах шале и ровными соломенными крышами ферм. Я уже почти ожидал увидеть мужчин, которые стоят возле сараев со щетками в руках и моют коров, как сегодня обитатели пригородов моют свои автомобили. Как ни странно, в Швейцарии три могущественных и жизнеспособных культуры объединились, породив настоящий вакуум. Лишенная жизненных сил и устремлений, Швейцария стала символом одного особого будущего – будущего, к которому стремились те самые мелкие умы, в конечном счете уничтожившие плоды моих усилий и таким образом сохранившие статус-кво. В тот вечер, на закате, мы пересекли французскую границу близ маленького городка под названием Сент-Круа, и Эсме обернулась и с грустью посмотрела назад – жена Лота, изгнанная из некоего чистенького Содома.
Когда мы оставили позади гнетущую аккуратную Швейцарию, Сантуччи, похоже, почувствовал такое же облегчение, как и я. Он начал напевать какую-то популярную песню громким, немелодичным голосом. Как и большинство итальянцев, он полагал, что музыкален от природы, – точно так же негры пребывают в заблуждении, что им присуще естественное чувство ритма. Ветер нес нам прохладу, и в белом свете автомобильных фар по обе стороны дороги вырисовывались силуэты массивных дубов. Не осталось никаких явных признаков недавней войны, но мои географические познания были несколько смутными, и я не знал точно, велись ли боевые действия в этой части Франции. Благоуханный воздух и тихие маленькие города… Ипр и Верден произвели бы совсем другое впечатление, а здесь, казалось, все оставалось неизменным и гармоничным в течение многих столетий. Запыленные очки, которые все мы носили не снимая, также смягчали окружающий ландшафт.
Сантуччи уверенно вел машину по узким дорогам, он как будто узнавал все крутые внезапные повороты и постоянно что-то напевал. Когда мы проносились мимо деревень, он произносил названия, смутно знакомые из газет. По словам Аннибале, он очень хорошо знал Францию.
– Именно здесь я получил начальное коммерческое образование. – В 1916 году, когда его призвали в армию, Сантуччи служил здесь на аэродроме и сделался основным поставщиком виски и джина и для союзников, и для солдат Оси[127]. – Я не ограниченный националист, а практикующий международный анархист!
Он рассмеялся и передал Эсме бутылку с вином, из которой только что пил. Моя девочка, казалось, позабыла о том, как не хотела покидать Швейцарию, и сделала большой глоток, вытерев рот кончиками прекрасных маленьких пальчиков. Сантуччи подмигнул ей. Эсме попыталась подмигнуть в ответ. Она сжала мою руку. Аннибале попросил, чтобы я вложил для него сигарету в мундштук. Я исполнил просьбу и поднес спичку к «Гарем леди» – ему нравилась эта марка.
– Зачем вы едете в Англию, синьор Корнелиус? Вы, кажется, предпочитаете путешествовать, как и я. Собираетесь навестить семью?
– У меня там жена. И еще дела. Я хочу зарегистрировать множество патентов. Все говорят, что лучше делать это в Англии.
– Вы должны отправиться в Америку. Большинство моих братьев и кузенов уже там. Правда, полагаю, теперь это стало гораздо сложнее. Официально туда не попасть. Не попасть, если ты итальянец. Они думают, будто мы все – поджигатели!
Я улыбнулся:
– Я слышал, что так оно и есть.
– По натуре, разумеется. Но мы учимся быть законопослушными. Мы верны Церкви и нашим семьям. Люди часто этого не понимают.
Тем вечером мы остановились в Дижоне, где Сантуччи настоял на том, чтобы купить дюжину различных сортов горчицы. Он оделся более консервативно, возможно, из уважения к французам. «Горчицу нужно покупать только в Дижоне, а колбасу – в Лионе». Очевидно, маленькой женщине, которая управляла пансионом, Аннибале был хорошо известен. Она провела нас через низкий дверной проем в зал с белой штукатуркой и черными балками. На этом полированном деревянном полу мог валяться сам Вийон, держа в одной руке перо, в другой – кувшин грога. Когда мы уселись за резной стол у камина, хозяйка подала нам самые настоящие французские блюда. Даже худшие критики Франции прощают ей высокомерие и неуместную гордыню, когда сталкиваются с местной кухней. Эсме чмокала алыми губами и набивала живот до тех пор, пока не объелась. Ее глаза затуманились. Она снова оказалась на небесах. Наша хозяйка, убирая тарелки, улыбалась как победительница. Сантуччи обменялся с ней несколькими вежливыми фразами, а потом все мы медленно поднялись по узкой лестнице в свои комнаты.
В наших безопасных покоях Эсме начала готовиться ко сну. Я потешался над ней. Со своими папильотками и притираниями она походила на маленькую девочку, которая притворялась женщиной.
– Это волшебство продлится вечно, – сказала она, устроившись на кровати под балдахином, – но какова его цена, Симка?
Это было не похоже на нее – задумываться о подобных вещах, Я несколько удивился, почти рассердился. Казалось, она проявляла неблагодарность, хотя я никак не мог понять, в чем причина. Я обнаружил, что расстроился, даже почувствовал раздражение. Конечно, это всего лишь неуместный пессимизм… Я все-таки справился с приступом плохого настроения.
– Думаю, что цена уже заплачена. Тобой. Мной. – Кровать была белой и мягкой, мы нежились в теплой темноте маленькой комнаты с низким потолком. Я наслаждался почти детским ощущением безопасности. – Все это – награда за мои страдания. И ты разделяешь ее со мной. Ты тоже страдала.
Я опустился на подушки со вздохом удовольствия. Наволочки украшала сложная вышивка. Эсме усмехнулась и прижалась ко мне – она снова успокоилась. Казалось, я достаточно легко переубедил ее – и себя. Эсме не имела права так говорить. Крепко обняв ее, я заснул.
Сантуччи уже за завтраком очень торопился – нужно было отправляться. В Париже он собирался встретиться с другом.
– Великолепный солдат с небольшой армией на продажу. На обратном пути мне понадобится автомобиль побольше.
Мы поняли, что это шутка. Сантуччи надел строгий шелковый костюм пшеничного цвета. Я завидовал его элегантности, поскольку моя собственная одежда мало подходила для этой части света. Я решил купить себе и Эсме новый гардероб, как только мы обоснуемся в Англии. Я стал стесняться своей русской одежды, которая казалась такой модной в Одессе и оригинальной – в Константинополе. Здесь, однако, она выглядела тяжелой, бесформенной и неряшливой. Я снова почувствовал желание надеть форму, но осознавал, что она вряд ли подошла бы человеку, путешествующему с британским паспортом. Можно было продать часть моего багажа и на полученные деньги купить один приличный костюм. Такие детали я мог уладить в Париже. Я решил, что снова назовусь своим русским именем и состряпаю для Эсме документы, в которых будет сказано, что она моя сестра из Киева.
Когда я обдумал все трудности и объем предстоящей работы, мне почти расхотелось ехать в Париж. Я утешал себя тем, что окажусь в Лондоне через неделю-другую. Я все еще не мог поверить, что всего лишь несколько сотен миль отделяли меня от миссис Корнелиус и ее любимого Уайтчепела. Лондон, как и многие огромные города, казался далеким и знаменитым, таким же оторванным от реальности, как мои непонятые мечты. Теперь Рим и Париж обрели реальные очертания, а Одесса и Константинополь стали просто туманной фантазией, из которой я шагнул в действительность. Во время путешествия я экономил кокаин, не желая остаться в Париже без порошка. Я использовал не больше пары щепоток по утрам. Кокаин всегда помогал мне спуститься с облаков на землю, заставлял обратиться к житейским проблемам. Я решил заняться делами, как только мы устроимся в городе. Я отправлюсь на поиски Коли – возможно, он еще не уехал. Коля поможет мне все решить. Я также пытался вообразить, на что будет похожа жизнь в Уайтчепеле. Меня охватывало волнение, я чувствовал даже какой-то трепет. Я вспоминал свою последнюю неловкую встречу с миссис Корнелиус, ее отрицательное отношение к моей связи с Эсме. Моя верная подруга изменит свое мнение, когда встретится с моей маленькой девочкой.
Мы отправились в путь. Стояло прекрасное тихое утро, солнечный свет пробивался сквозь ряды сосен, позади оставались живописные улицы Дижона. А радостный Сантуччи описывал новый автомобиль, который он хотел купить, как только тот появится на рынке. Электрическая гоночная модель, рассказывал он. «Ситроен» уже создает ее. Теперь мы ехали среди холмов, покрытых редким лесом, мимо ярко-желтых горчичных полей. Иногда мы видели старые замки, деревеньки с каменными коричневыми домами и фермы. Равнодушные коровы паслись в полях, создавая то же ощущение бесконечного постоянства, которое господствовало в сельских районах Украины до революции. Сможет ли моя Украина когда-нибудь вернуться к своему былому совершенству? Конечно, думал я, трупы и разбитые пушки скоро исчезнут среди трав. Все позабудется… Откуда мне было знать? Мог ли я ожидать от Сталина такой жестокости и ненависти? Он вынес смертный приговор всей стране. Большевики заморили голодом русскую житницу! Они минировали луга, леса, целые деревни, чтобы взорвать местных жителей вместе с захватчиками. Я многократно замечал: люди настолько привыкают к войнам, ужасу и смерти, что начинают цепляться за них как за нечто неоспоримое – так более удачливые представители рода человеческого цепляются за древние мирные ритуалы. Почему люди в большинстве случаев сопротивляются переменам, даже если те обычно означают для них выживание? Сантуччи спросил, что я думаю о «Ситроен электрик». Я поделился с ним некоторыми из своих идей, которые касались автомобилей. Машины не должны зависеть от бензина. Их можно приводить в действие с помощью ракет или радиолучей. Я даже работал над проектом автомобиля, в котором движущей силой будут взрывы небольших зарядов динамита.
Естественно, Аннибале это понравилось больше всего.
– Динамит! Вот ваш ответ, синьор Корнелиус. От динамита наша новая Европа взлетит как феникс. Все это… – он взмахнул рукой в перчатке, указывая на небольшие холмы и ручьи, – …должно исчезнуть. Работа была сделана только наполовину, когда они ее прекратили, заключив злосчастное перемирие.
Я никак не мог понять причин для такого разрушения.
– В моем будущем найдется место всему. – Это звучало немного ханжески.
– Чтобы создать по-настоящему новый мир, нужно уничтожить все воспоминания, все признаки, все ключи к разгадке прошлого. История должна исчезнуть!
Он рассмеялся. Мы переезжали горбатый мост и на вершине подпрыгнули так, что несколько секунд парили в воздухе. Длинный капот «каннингема» блестел на солнце, как дуло пушки Круппа. Сантуччи обращался с машиной, как с оружием. Он испытывал радость, управляя ею.
– Так вы – большевик! – Я пытался перекричать рев двигателя. – Вы должны побывать в России. Поезжайте туда поскорее. Они уже воплощают ваши теории!
Он благосклонно выслушал это, качая головой и усмехаясь.
– Но им не хватает стиля, мой друг. Если делать дела как следует, то делать их нужно с изяществом! Это вам скажет любой француз.
Я встречал таких разряженных нигилистов в Питере. Почти все они умерли или попали в тюрьмы в первые дни триумфа Ленина. Мало того, я не относился к Сантуччи серьезно, даже немного жалел его. Если бы он когда-нибудь столкнулся с настоящей революцией, то стал бы, конечно, одной из ее первых жертв. Он был скорее плохим поэтом, чем плохим политиком, а плохие поэты всегда заслуживают прощения. Власть – это последнее, чего они хотят. Они обычно слишком боятся ответственности. Иногда власть им достается – тогда последствия могут оказаться самыми ужасными. Наш добрый водитель, однако, во всех отношениях был и забавным, и интересным. Его очарование оставалось очень сильным. Я хотел, чтобы он отправился в Лондон или Берлин. Пока человек движется, он не застывает. Автомобиль – лучшее средство побега от действительности, когда человек не находит своего истинного предназначения.
И все же, когда Париж появился на горизонте, моя неуверенность исчезла. Мы проезжали через пригороды, иногда поднимаясь на небольшие холмы, иногда спускаясь в неглубокие долины. Я никак не ожидал, что так скоро увижу Эйфелеву башню. Она возвышалась над городом: восхитительная пирамида из стали и чугуна, приветствие девятнадцатого века нам, жителям будущего. Передо мной был город Жюля Верна, который прежде всего и указал мне путь в область науки и техники. Совсем рядом оживали гравюры из моего старого «Пирсона», а неподалеку виднелись монументы Наполеона, арки, гробницы, музеи и великолепные дворцы великих французских королей, почти неземные соборы и церкви. Все они казались порождениями чистого разума восемнадцатого столетия: чрезмерно рациональные, возможно, слишком холодные, но отличавшиеся превосходной чистотой и простотой. Мы проезжали по пригородным улицам в вечернем тумане, огромное красное солнце висело над нами. И всему этому порядку противостояли трущобы, неотремонтированные здания, невыразительные многоквартирные дома, узкие переулки и постоянное хаотичное движение, сильно отличавшееся от римского. Здесь все перемещались с ужасающей скоростью, как в прежнем Петербурге. Париж в сумерках озарялся электрическими лучами. Он был городом света, городом тонкого стекла и прекрасных каменных узоров. Его газовые лампы сияли ярким желтым светом. В уличных печах темно-красным пламенем горел древесный уголь. Я думал, что мог расслышать музыку, расслышать биение сердца, когда Сантуччи мчал свой чудовищный «каннингем» все ближе к центру города. Париж пах розовой водой, кофе и свежим хлебом. Он пах моторным маслом и чесноком, шоколадом и вином. Я посмотрел на Эсме и увидел в ее глазах слезы. Теперь она узрела подлинные небеса.
Неверные существа, мы тотчас позабыли Рим. Париж немедленно стал нашей новой любовью. Сантуччи по-прежнему насвистывал мелодию Россини, но это уже нас не тревожило. Звон колоколов разносился от Нотр-Дама. Над Сеной звучали гудки лодочных сирен, когда мы преодолевали мосты острова Сите. Париж был настоящей симфонией упорядоченного движения и цвета. Алые и золотые крылья «Мулен Руж» напоминали спицы космического колеса. «Каннингем» быстро пронесся по рю Пигаль и вернулся вдоль бульвара Маджента к площади Республики. Сантуччи клялся, что никогда не мог освоиться с улицами Парижа. А потом мы внезапно оказались у зеленых, золотых и фиолетовых дверей Зимнего цирка, небольшого амфитеатра на бульваре дю Тампль. Как всегда, возле Сантуччи собрались дети, игравшие на тротуаре у платанов, они разглядывали огромный автомобиль, как будто это было видение Мадонны. Он прервал их молчание приветствием и гудком клаксона – тогда все начали задавать вопросы. Сантуччи послал одного мальчика в небольшой отель, вывеску которого освещала одна-единственная красная лампочка. Появился пухлый швейцар. Он вытирал губы пальцами руки, которая немного напоминала крыло пингвина. Француз, кивая и покачиваясь, приковылял к нам, выражая радость по поводу прибытия Сантуччи. Наш друг назвал его сержантом, пожал ему руку и заговорил об окопах. Сантуччи, казалось, существовал в сети отношений – деловых, личных, семейных. Он никогда не имел дел с незнакомцами. Даже человек, который наполнял ему бензобак, называл его мсье Сантуччи, жаловался на боль в спине и рассказывал о новом лекарстве, о котором прочитал в «Фигаро». Теперь я слушал, как швейцар справлялся о своих кузенах в Америке и погоде в Неаполе. Нам с Эсме его представили. Судя по церемониям, с которыми происходило это знакомство, мы оказались едва ли не близкими родственниками Сантуччи. Мы также обменялись рукопожатиями. Сержант сказал, что он всегда к нашим услугам. Не желаем ли мы поужинать? Сантуччи ответил, что у нас назначена встреча в другом месте. Швейцар громко свистнул. Появился мальчик, который встал на страже автомобиля, а нас повели в номера. В комнатушке были только старая двуспальная кровать, умывальник и несколько стульев, но жилье нам вполне подошло. После того как доставили багаж, мы вымылись и переоделись, но вскоре Аннибале Сантуччи постучал в нашу дверь и попросил поторопиться. Мы вернулись к лимузину. Клаксон загудел, и мы с невероятной скоростью помчались по очаровательным улицам обратно к Нотр-Даму – туда, где очертания громадного собора отражались в черной воде. Мы вновь проехали по мосту, потом по Сен-Мишель, а затем свернули в узкий переулок поблизости от Сен-Жермен. Остановив «каннингем» (половина корпуса оказалась на тротуаре, другая – на проезжей части), Сантуччи сказал, что мы приехали. Выйдя из машины, мы вошли в слабо освещенный ресторан, окна которого были занавешены с улицы. В газовом освещении интерьер казался теплым, как желтая слоновая кость. Белые льняные скатерти и серебряные приборы, пальмы в горшках, тишина и покой – это место было храмом еды, одним из тысяч, которые мне предстояло обнаружить в этом городе. В дальнем конце, в занавешенном алькове расположился худощавый пожилой человек. Он поднялся и протянул нам руку, тонкую, как умирающая орхидея. Его волосы и усы были превосходно подстрижены. От него пахло цветами. Старик печально улыбался и скорее напоминал не солдата, а священника. Он жестом пригласил нас за столик, хотя, казалось, наше присутствие его огорчило. Сантуччи представил нас как своих английских кузенов. Он сказал, что мы поедим вместе, а о делах можно поговорить потом. Старик отнесся к этому достаточно спокойно, хотя подобное изменение планов явно пришлось ему не по вкусу. Скрестив пальцы, он снова невозмутимо и терпеливо поклонился нам. Вероятно, он пользовался какими-то притираниями: где-то кожа казалась темной, где-то – неестественно розовой. Волосы его поредели. Только английский твидовый костюм и превосходный галстук выглядели не потертыми, а, напротив, почти противоестественно новыми. Он носил их, словно взятые взаймы доспехи. Мужчина нам не представился, хотя у меня сложилось впечатление, что он был аристократом, высокопоставленным генералом. Всякое любопытство, которое у меня оставалось на его счет, исчезло, когда подали еду. Началась превосходная трапеза. Сначала принесли говядину в винном соусе, потом мясное ассорти, сыр нешатель и крем-брюле. После ужина мы с Эсме остались за столом, слишком сытые, чтобы говорить, способные только глупо усмехаться, а Сантуччи и его клиент перебрались в бар и заказали коньяк. Деловые переговоры завершились, едва начавшись. Когда разговор подошел к концу, солдат не присоединился к нам, а быстро удалился. Сантуччи сел за стол и заказал арманьяк, «чтобы отпраздновать».
– Все устроилось, – сказал он. – И, как видите, мне не пришлось осматривать армию лично. Деньги не переходили из рук в руки. Однако же все довольны. В этом суть международных финансов.
– Куда пойдет армия? – Эсме редко задавала такие прямые вопросы.
– Пойдет? – Сантуччи притворился удивленным. – Ну как же, на войну, конечно, голубка! Детали не важны, уверяю вас. Это солдаты. Им знакомы только сражения. Кто-то предоставляет услугу – в данном случае войну, – которая поможет им удовлетворить жажду крови и помешает причинить вред честным гражданам. Но все это уже решается по телеграфу и телефону. Сейчас меня ожидают в Бенгази неплохие комиссионные. Весь секрет в том, чтобы хранить деньги в разных частях мира и путешествовать из одного места в другое. Денежные запасы нужно по возможности разделять. Пусть люди переводят плату в Лондон или Лахор. Это дает возможность побывать в таких местах, в которых я никогда бы не оказался. Там я обычно нахожу новые возможности. Если кто-то ищет биржевого маклера, то я – биржевой маклер. Если кто-то хочет купить зерно, я становлюсь торговцем зерном. Быть посредником достаточно легко. Все полагаются на нетерпение, жадность, подозрительность. Люди скорее пожелают иметь дело с мастером на все руки, который хорош собой и готов говорить о грязных делах вроде денег и перевозок, а не с надменным и равнодушным специалистом. Товары редко проходят через мои руки, и я не несу ответственности за какие-то злоупотребления и мелкие нарушения закона. Мне никогда не добиться таких заработков, как у настоящего предпринимателя, но я живу хорошо, и, что самое важное, – он подмигнул Эсме, – у меня есть девочки в каждом порту.
– Я не могу понять, почему другие люди не живут так, как вы. – Эсме была по-настоящему озадачена. Его спокойная речь казалась ей убедительной. Она не заметила иронии.
Наш друг разгладил свой великолепный жилет, а потом небрежно махнул рукой:
– Дело в том, что они – не Аннибале Сантуччи, голубка. – Он просто сожалел об этом. Он сочувствовал всем остальным людям. – Я отвезу вас в отель. Сейчас у меня есть кое-какие личные дела. Извините, что вас не приглашаю.
Счет был оплачен банкнотами удивительной красоты.
Мы ненадолго увидели Аннибале следующим утром, когда он расцеловал нас обоих на прощание и шепнул Эсме, что счет в гостинице оплачен на две недели вперед.
– К тому времени вы уже уедете в Лондон. – Он обернулся ко мне. – Желаю вам удачи с вашими изобретениями, профессор. Пришлите мне открытку. Пригласите меня в гости, когда у вас будет возможность. Я наверняка найду чем заняться в Лондоне. Это ведь город воров – страна воров, богом клянусь!
Смеясь, я сказал, что у меня нет его миланского адреса. Куда же я ему напишу?
– Мендосе в Рим. Он всегда отыщет меня. В «Осу». В любую кофейню, куда я обычно захаживаю. – Он остановился у двери, вытащив из внутреннего кармана лист почтовой бумаги из отеля. – Это адреса некоторых друзей. Чудесные люди. Тебе они понравятся. Они здесь в изгнании. Я написал письмо. Навести их, если сможешь.
Мы наблюдали, как гигантский зеленый автомобиль выехал на бульвар дю Темпль. «Каннингем» напоминал церемониальную баржу, которая двигалась по течению быстрой реки. Клаксон гудел. Двигатель бушевал, как миллион демонов, когда Сантуччи, набирая скорость, мчался мимо скульптур на площади Републики. Было чудесное утро. Мы не вернулись в отель, а, взявшись за руки, как всегда, двинулись по рю дю Тюренн по направлению к Отель-де-Виль. Мелкие капли дождя падали в потоках осеннего солнечного света. У всех, кроме нас, были зонтики, но мы в них не нуждались – мы приветствовали этот прекрасный дождь с тем же энтузиазмом, с каким приветствовали все, что предлагал нам Париж. Почти все листья еще были зелеными, но кое-где виднелись и золотые, и коричневые. Все казалось таким странным – в воздухе смешались сладкая меланхолия и праздничное волнение. В Париже с ноября 1918 года проходила грандиозная вечеринка – двадцать четыре часа в день.
В ближайшее время мы должны были к ней присоединиться. Мы не колебались ни секунды. Пожалуй, в Париже для нас началась эпоха джаза.
Глава одиннадцатая
Париж – не просто шлюха. Это настоящая королева шлюх, презирающая сутенеров, отгоняющая поклонников небрежной лестью, знающая: пусть красота увядает понемногу с каждым годом, но можно сохранить изящество и привлекательность, ведь то, чего лишает природа, легко вернет косметика. У Парижа, конечно, нет никакого золотого сердца. Этот город – как холодная продажная богиня, оценивающая секс точно так же, как взвешивают сладости. Богиня может быть удивительно чопорной, но, по сути, остается провинциальной матроной. Она придает большое значение внешности. Она знает точную цену всем добрым чувствам, и она продает романтику в розницу по граммам. Она – кружева, накрахмаленные до каменной твердости. Она – корсет, стягивающий кости. Она – ароматная приманка для мух; иллюзия наслаждения, способная лишить вас всех наличных денег с нежной девичьей улыбкой. Одна улыбка – сто франков. Очарование имеет свою рыночную цену, ее назначали бы на фондовой бирже, если бы кто-то когда-нибудь осмелился раскрыть правду. Но никто не решится, а если и посмеет, его все равно не услышат, ведь Париж, больше чем любой другой город, увлечен путаницей, маскировкой, обманом. Всем известно: где двусмысленность, там и деньги. Немногие парижане готовы согласиться с банальной мыслью: чем больше человек рассуждает о любви, флирте, проявлениях бессмертного чувства, тем чаще он демонстрирует жадность, продажность и необоримую жестокость. Ласковые слова зачастую неразрывно связаны с жадностью, которую они маскируют.
Париж играл роль великой куртизанки на протяжении сотен лет. Город терпел поношения (а каким шлюхам не приходится от них страдать?) и даже иногда переживал эпохи вынужденной добродетели, домашней скуки, нерешительного раскаяния. Но шлюха очень скоро возвращалась к своему ремеслу, приподнимала алые юбки, надевала роскошные шляпы, являлась во всем блеске кокетства со слабым намеком на вульгарность и похабными гримасками. Но как она злилась, когда возникали сомнения в ее добродетели! Как она вопила и взывала к закону! Кроме того, не получая ответа на свои просьбы, она окончательно забывала обо всех претензиях на благовоспитанность. Она переходила в наступление. И все же случалось, что человек, которому она угрожала, ничего не пугался – тогда она снова начинала говорить нежным голосом, смирялась, потупляла глаза, смягчалась, бормотала извинения и выражала дружелюбие, распахивая свои утешительно-роскошные объятия. Позже, почувствовав, что может безнаказанно достичь цели, шлюха убивала своего предполагаемого завоевателя, когда он спал, раздевала его донага и выбрасывала тело из экипажа в реку.
Париж задумчив и жаден. Это шлюха, способная изображать добродетель и высокомерие. Она сберегает свою красоту любой ценой, готовая отдаться и другу, и врагу. Сдаваясь врагу, она оглядывалась на него через плечо, имитируя достойную капитуляцию: мол, это тяжело, но что мне еще остается делать? Я беспомощна и не могу защититься. Эта проститутка – экран, на который мужчины проецируют свои величайшие фантазии, наделяют ее свойствами, которыми она в реальности не обладает, которыми не может обладать ни женщина, ни город. Эта шлюха также сбивает с толку и женщин. Она берет их за руки, она показывает им тайны своей красоты, она притворяется, что сделает их своими наперсницами, но на деле готовит их погибель. Иногда, если ее планы рушатся, она как будто опускает руки. Ее волосы выпадают. Она резко сдает. Ее поношенное платье свидетельствует о благородной бедности, она безнадежно и цинично поет о предательстве, смерти и конце романа. И вновь, прикидываясь уязвимой, она завоевывает сентиментальных союзников, покоряет новых жертв, а потом может безнаказанно стать прежней – бойкой и жадной. Она знает, сколько выпить и сколько съесть. Она ценит внешность превыше принципов, она радостно приветствует удобную ложь и решительно осуждает наивную честность. И как она любит развлекать солдат! Она предпочитает своих – но сгодятся любые. У нее есть склонность к золотым аксельбантам и серебряным медалям. Когда она видит раны и с безопасного расстояния вдыхает запах пороха, то сразу чувствует прилив волнения; марш боевого отряда, взмах запятнанного кровью знамени, горделивая поступь жеребца на плацу так же хороши, как наличные в руке, ведь она знает слабости солдат и может оценить их до последнего су. Она любит славу. Она охотится на львов. А если львов не найдется – что ж, она изготовит их из подходящих материалов. Там, где есть большие претензии, есть и бумажники, способные их подкрепить. Интриги ее влекут ничуть не меньше; чем больше тайн – тем больше золотых луидоров понадобится, чтобы купить молчание. Так что она ведет свою политику в потайных комнатах, в спальнях, в переулках и хорошо охраняемых зданиях, а риторика ее представителей поистине чрезмерна и поражает великолепным идеализмом, словами о чести, славе и этике. В Париже мы не отыщем мелкого цинизма страдающих молодых людей; зачастую эта шлюха напоказ ужасается цинизму, протестует, утверждает превосходство эмоций и человечности, но в своем поведении, как любая успешная проститутка, она цинична до кончиков ногтей, и единственная ценность, которой она по-настоящему дорожит, – это содержимое ее личного сейфа. Париж ограбит незнакомца гораздо изящнее, чем любой другой город. Сначала эта шлюха возьмет ваши деньги, а потом, если решит, что игра стоит свеч, заберет ваше сердце, ваш талант и, наконец, вашу жизнь. По сравнению с Парижем все прочие города наивны. Шлюха относится к соперницам с презрением или ненавистью. Если они нахальны, вульгарны или грубы, она обижается, опасаясь, что их дурная слава может прилипнуть и к ней. Она не хочет уступать в игре. Ее называли аристократкой, мадонной, ангелом. Она верит, что однажды проснется и обнаружит: ей больше не нужно притворяться. Она быстро станет настоящей дамой, достойной вдовой, подобно Вене или Праге, способной изящно стареть и добиваться власти не с помощью шантажа и лести, а на основе общего уважения. Это невозможно, и шлюха знает об этом, но цепляется за надежду, как иные цепляются за религию.
В Париже, а не в Риме можно найти совершенное воплощение идеального католицизма. Всем известно, как небрежно итальянцы относятся к своей истории. Когда-то они правили миром и теперь знают, что смогли бы вернуть себе власть, если б они того пожелали, но она вызывает у них скуку. Даже Муссолини, едва получив бразды правления, сразу выпустил их из рук. Его смерть была трагедией. Он просто хлопнул дверью. Он мог бы окончить жизнь в тишине и покое, управляя магазином рядом с моим, возможно, маленьким рестораном или химчисткой. Но Рим – жестокая мать. Пытаясь продать свою благосклонность, она поднимается на разбитый постамент, задирает юбки и криками подзывает клиентов, как будто торгуя горячими каштанами или мороженым. Ей недостает терпения и разума, скромности и благородства. Ей следовало бы оставить это занятие и вспомнить о былых счастливых временах. Рим всегда считался скорее языческим, чем католическим. Религия здесь ничего не стоит без энергии и страсти. Французские священники прославились своим интеллектом, хитрыми манипуляциями, расчетливостью и жестокостью. Их совершенное воплощение – кардинал Ришелье, который опередил Ленина, фанатик, готовый уничтожить любого, кто самой своей индивидуальностью угрожает абстрактной идее государства, его подлинной религии – лично ему. Истинный католик по определению жаждет власти: все законы, на которые опирается католическая церковь, свидетельствуют об этом. Требование непрерывного размножения приводит к двум результатам: порабощение жен и увеличение числа детей, которыми можно управлять. Как эффектно французы подчинили религию своим потребностям! Эта религия ничего не требует от верующих, за исключением одного – соблюдать внешнюю обрядность. Есть определенная цена, которую приходится платить за сохранение видимости: осторожная епитимия. Но Бог им кажется гран-сеньором восемнадцатого столетия, закрывающим глаза на все преступления, пока не нарушают Его покой. Он практичный и разумный торговец, как и многие французские философы, и Его счета всегда в порядке. И Он предпочел бы, чтобы соборы восстановили и украсили как подобает, а органы заиграли в лад. Ему не нравится, когда вульгарные люди валятся на пол в Его доме, охваченные непристойной истерией. Французы усовершенствовали свою религию до предела. Итальянцы погрузились в полуязыческое одиночество, а испанцы, до сих пор так и не отвыкшие от человеческих жертв, с трудом удерживаются от того, чтобы залить Его алтари кровью быков и коз.
Как холодно и высокомерно Ришелье уничтожил гугенотов! Вероятно, его лицо оставалось бесстрастным. Кардинал понимал их точку зрения. Но испанская инквизиция устроила свою бойню с подлинным энтузиазмом, с ненавистью и жестокостью, удовлетворяя стремление к ритуальным убийствам, услаждая слух своего темного Бога криками миллионов замученных душ, радуя его зловонием горящей плоти. Ибо имя этого бога – Молох. Вот кто скрывается под маской испанского Иеговы. Здесь укрылся Карфаген и все сыны Шема, отпрыски Вавилона, Ассирии, Ханаана, Арамеи, Аравии, Эфиопии и Израиля. Боги в обличье быков до сих пор бродят по улицам Барселоны.
Ножи французов – иглы, которые могут высосать из человека жизнь, проникая под кожу дюйм за дюймом. Французы изображали дружелюбие.
Они провозглашали тосты за свой город. Я на некоторое время стал знаменитостью. Но парижане только притворяются, что понимают смысл прогресса, для них все это – игрушки. Чтобы их впечатлить, нужно что-то яркое, шумное, красочное. Вкусы Парижа – вкусы шлюхи. Сантос-Дюмон[128] стал местным идолом, потому что его воздушные шары и дирижабли были безвкусны и роскошны, а его попытки взлететь казались такими эффектными. О нем столько говорили – ведь его аппараты были изготовлены из чудесных разноцветных шелков! Почти то же можно сказать обо всех тамошних летчиках. Они прекрасно выглядели в хорошо скроенных мундирах, но сделать могли немного, как парадные кавалеристы девятнадцатого века. Как всегда, их интересовала внешность, а не подлинная наука. Чтобы им понравиться, мне пришлось стать кем-то вроде Барнума[129], одного из их любимых американцев. Меня очень быстро оценили на Левом берегу. Я познакомился со всеми художниками и интеллектуалами, достойными такого звания. За мной ухаживали и мужчины, и женщины. Я курил опиум в модных публичных домах и нюхал кокс в лесбийских притонах. Все меня обожали. Я был их, мсье П, их «professeur russe»[130], их «petit colonel»[131]. Мы с Эсме были как Бензель и Гретель, блуждающие по Версальскому дворцу. Мы испытали настоящее потрясение. Друзья Сантуччи, ссыльные анархисты по фамилии Перонини (они оба красили волосы в рыжий цвет и всегда носили смокинг), ввели нас в общество преступников и радикалов. Я пожал руку самому Ламонту. Я сидел за одним столом с Антуанеттой Ферро и Вандой Сильвано[132] в «Лаперуссе»[133]. Великий астроном Лаланд регулярно обедал с нами в кафе «Ройал», и там я встретил его кузена Аполлинера[134], только что вернувшегося домой после четырехлетней службы в Иностранном легионе. Но хотя все они клялись в вечной дружбе и восхищались моим творческим гением, никто не мог нам помочь добраться до Англии.
Через две недели мой оптимизм угас. Британское посольство отказалось предоставлять мне какую-либо информацию, организации русских эмигрантов ничего не могли пообещать и не располагали никакими новостями о Коле. Париж наводнили русские, многие из которых предъявляли верительные грамоты куда внушительнее моих, и власти были сыты нами по горло. Эсме, надо сказать, начала во мне сомневаться, особенно когда нам пришлось выехать из гостиницы и занять две ничтожных комнаты на улочке, которая ничем не отличалась от темных подворотен Монпарнаса. На рю де ла Юшетт располагалось множество захудалых баров и так называемых дансингов, здесь находились дешевые рыбные и мясные лавки и лотки с заплесневелыми фруктами и овощами. Шлюхи наводняли это местечко. В переулке появлялись почти все клошары Левого берега. По крайней мере одно из зданий было абсолютно заброшенным, там обитали кошмарные бродяги и нищие. Наши комнаты располагались по соседству, на верхнем этаже полуразрушенного дома, и они были немногим лучше того нищенского убежища, из которого я спас Эсме в Галате. Я понимал, что она об этом думала. Единственное преимущество нашего обиталища состояло в том, что в комнаты не проникал уличный шум. Поначалу Эсме старалась как могла – подметала полы и убирала мусор, но ее быстро охватила апатия. Она очень хотела проводить как можно больше времени на улицах, в веселой компании наших новых друзей, завсегдатаев кафе Монпарнаса и Монмартра, которые, по крайней мере, всегда щедро угощали нас вином. Думаю, они хотели нам добра – те люди, которые клялись, что смогут раздобыть для Эсме нужные документы. Они сделали фотографии, изучили мои русские бумаги. Они утверждали, что дружат и с высшими, и с низшими – и с мошенником с Сен-Жермен, и с секретарем английского посла. Но ни от кого из них не было толку. Я не хотел зависеть от них, но не мог отыскать в Париже работу по технической части, как в Киеве или Пере. Французская армия обеспечила страну многими тысячами кое-как обученных механиков, и большинство из них осталось без работы. Я мог надеяться только на то, что отыщу покровителя для одного из своих проектов. Я знал, что изобретение может подействовать на легкомысленных парижан, если покажется им сенсационным, и заявил, что намерен построить большой авиалайнер, способный с максимальной скоростью доставить в Америку сто пассажиров.
Эсме просила меня соблюдать осторожность:
– У тебя же нет чертежей такого корабля, Максим! Мы не должны привлекать внимание полиции.
Я успокаивал ее. Я громко смеялся:
– Что может сделать полиция? Доказать, что я не настоящий изобретатель? Моя маленькая голубка, если отхвачу свой кусок, понадобится лишь несколько часов, чтобы подготовить проект. Что ж, раз уж тебе так хочется, я готов приступить немедленно.
Я начал рассказывать о своем изобретении в кафе. Я говорил о неизбежном успехе предприятия, о том, какие огромные состояния можно на нем заработать.
– В самом деле, к этому нужно относиться как к солидному коммерческому проекту, – утверждал я.
Американские туристы практически оккупировали Монмартр и Елисейские Поля. Чем чаще они будут приезжать и чем в большем количестве, тем лучше для всех, говорил я. Туризм к тому времени стал одним из главных источников дохода для всех крупных городов.
Сдав в ломбард шубу, я оплатил новые визитные карточки, рекламирующие «Франко-американскую аэронавигационную компанию». Карточки я старался раздавать при всякой удобной возможности. Слухи обо мне медленно распространялись по Парижу. Многие говорили, что им уже известно о профессоре Пятницком, русском эксперте по самолетостроению, гениальном юноше, который создал в Киеве фиолетовый луч и в одиночку остановил красную конницу. Один журналист, приятель Лаланда, взял у меня интервью для своей газеты, через некоторое время появилась большая статья. Там многое было преувеличено, но в мою пользу. Меня называли донкихотствующим казаком, человеком науки и человеком действия, авантюристом, подобным Мюнхгаузену. У меня до сих пор хранится вырезка – «Ревью Куку»[135] от 15 сентября 1920 года. И это не единственное свидетельство общественного признания. Меня прославляло множество газет.
Больше всего я страшился не того, что не смогу выжить, а того, что Эсме заскучает и разочаруется. Я так и не смог, к сожалению, сдержать свои чудесные обещания. Наши развлечения зависели от щедрости других. Еще в Риме она полюбила кино, а чтобы заплатить за билет на новый фильм Пикфорд или Сеннета[136], денег хватало не всегда. Мои дела шли хуже, а я, как ни парадоксально, все толстел благодаря бесплатным обедам, которые обеспечивали мои богемные друзья. Но что еще хуже, Эсме стыдилась своей одежды. Даже парижских художников отличал определенный стиль, и их женщины выглядели изящными независимо от того, насколько эксцентричными оставались их платья. Эсме, как ни старалась, не могла подражать им. Я уверял, что мне она кажется восхитительной и привлекательной, но женщины в подобных делах никогда не верят своим возлюбленным.
Тем временем я продолжал расспрашивать о Коле, и мне стало ясно: в Париже полно людей, которые просто не могут признать, что они чего-то не знают. Очень многие притворялись, будто слышали о нем. Несколько русских эмигрантов утверждали, что встречали его на улочках по соседству или ужинали с ним пару дней назад, но почти все они оказались жуликами, которых интересовали только мои деньги. Возможно, из-за того, что наши русские дворяне в своих манерах и языке всегда ориентировались на Францию, в Париже собралось почти столько же эмигрантов, сколько в Константинополе. Русские рестораны вошли в моду. Русские художники устраивали выставки своих аляповатых картин. Русские танцоры шокировали весь мир причудливой хореографией, костюмами и отвратительной музыкой. Те самые элементы декаданса, которыми сопровождался триумф Ленина, теперь, как опасные споры, распространились во Франции. В результате парижане стали нас опасаться – и кто мог их в этом обвинить? Я с самого начала ошибся, открыв свою национальность. Я добился бы большего, если бы утверждал, что я еврей или египтянин! Иногда меня осаждали «синие чулки», которые бесконечно повторяли, как они сочувствуют стране, попавшей в ужасно тяжелое положение, а иногда ко мне и моим товарищам относились как к артистам какого-то гигантского цирка, приехавшим в город просто для того, чтобы развлечь скучающих обывателей.
Париж цеплялся за все модное. Совсем недавно я услышал, что последнее повальное увлечение – американские комиксы. Министр культуры присудил премию иллюстратору «Маленькой сиротки Энни»[137], а муниципальные власти Парижа переименовали авеню Рузвельта[138]. Теперь она называется бульваром Бэтмена. И куда же подевались претензии современных французов на культурное превосходство? Они подражают худшей американской и английской поп-музыке, худшей дешевой литературе, худшим фильмам. Они, по-видимому, отождествляют этот хлам с той жизненной энергией, которую они утратили более полувека назад. Я надеялся, что де Голль сплотит свою страну (хотя он показался мне напыщенным тупицей, когда мы повстречались в 1943 году). Его правление отмечено только студенческими беспорядками и распространением порнографии. Он не смог подчинить Алжир и не смог поставить на место свою блудливую столицу. (Более зловещие слухи о его происхождении и истинных привязанностях я отвергаю из-за отсутствия доказательств. Очень важно, однако, что он не сумел совладать с мусульманами за границей и не возражал против появления арабов и турок в собственной столице. Я разумный человек и не желаю верить в теорию заговора, получившую в наши дни такое распространение у западных красных. Дело в том, что подлинный заговор готовился в течение многих столетий, и в результате христианский мир изменился настолько сильно, что его стало трудно узнать!)
Наши дела шли все хуже и хуже. Эсме плакала при виде серых простыней и грязных окон. Она говорила, что нам не следовало уезжать из Рима. Итальянцы, конечно, были щедрее французов. Из России приходили ужасные новости. Верные присяге армии постоянно отступали и почти не получали помощи от союзников, теперь занятых турецкими делами. Я расспрашивал людей, приезжавших с юга России, о своей матери и друзьях, но ответов не получал. Бедолаги все еще не могли прийти в себя, все еще находились во власти кошмара. Казалось, тормошить их настолько же опасно, как пытаться разбудить сомнамбулу. Выходило много русских газет всех политических мастей, от яростно-монархических до крайне нигилистических, в них сообщались не факты, а мнения. В русских издательствах и русских информационных центрах, как и в отдельных кафе, которыми управляли русские, в основном все ограничивались сплетнями и нелепыми фантазиями. Эти эмигранты, подобно их берлинским коллегам, были удачливыми беженцами. В других местах сотни тысяч людей попадали в гражданские концентрационные лагеря, умирали от болезней или от отчаяния. И даже среди этих несчастных беженцев встречались сторонники Ленина и Троцкого. Ужасные последствия социализма стали всем очевидны, и все-таки французские социалисты готовили подобную судьбу своей собственной стране! Возможно, сопротивление оказалось бы гораздо мощнее, если бы наши газеты не печатали правдивые рассказы о злодеяниях настолько отвратительных, что обычные парижане не могли поверить прочитанному и отвергали подлинные истории, считая их лживой пропагандой. Я настаивал, что в газетах пишут правду, – я видел такие вещи собственными глазами. Я пострадал от рук красных добровольцев, и только бегство спасло мою жизнь. Но я вскоре понял, что лучше ничего не говорить. В те дни непрерывного, лихорадочного послевоенного веселья люди могли возненавидеть тех, кто говорил о смерти и ужасе или даже о чем-то менее значительном. Вот что им было нужно: новейший американский джаз, модные танцы, эксцентричные наряды. О героях войны уже забыли. Их место заняли потные негры, игравшие на банджо. И когда цена этих новых ощущений оказалась слишком высокой, они потребовали денег у разоренной Германии! (Разумеется, немцы устали. от таких требований. Они снова заняли город, после чего парижане просто пожали плечами, вдвое подняли цену на выпивку для немецких солдат и стали танцевать дальше.)
Эсме была готова присоединиться к великой вечеринке. Ее стремление к хорошей жизни вызывало у меня беспокойство. Она была молода, ей хотелось посещать разные места, но, конечно, я никак не мог найти наличных. Вскоре мне пришлось продать ценный патент за несколько сотен франков. Моим агентом стал одесский еврей по фамилии Розенблюм. Я заставил себя вежливо побеседовать с ним и даже не отдернул руку, когда он протянул мне липкие пальцы, предлагая заключить союз. Он сказал, где я должен встретиться с его клиентом.
Это случилось на Монмартре, в туристическом «Бал дю данс», в пасмурный день, когда колокол Савояр на башне Сакре-Кёр звонил «Ангелюс»[139]. Мне нравилась эта церковь. Казалось, ее перенесли откуда-то издалека, с Востока. Обычная толпа посетителей рассосалась. Эстрада опустела, стулья сдвинули, бар закрыли, и все-таки в помещении еще воняло дешевыми духами и молодым вином. Я вошел внутрь. Дверь за мной запер человек, с которым я согласился встретиться. Он тоже оказался украинцем, но из Марселя – он жил там с 1913 года. На мсье Свирском были яркий костюм в тонкую полоску и белая фетровая шляпа. Его руки были увешаны тяжелыми золотыми кольцами с грубо ограненными полудрагоценными камнями, главным образом темнокрасными. Он сказал, что работает брокером на серьезных южных промышленников, имеющих отделения в Париже. Он был лет на десять старше меня, но кожа на его лице казалась дряблой, как у ищейки, – словно что-то сушило его изнутри. Из-за этого Свирский выглядел печальным. Но его глаза напоминали твердые коричневые камни. Он расспросил меня об изобретении, которое я хотел продать. Он меня выслушал, и глаза его сверкнули, лицо сморщилось, губы искривились, как будто он считал себя обязанным проявить глубокомысленный интерес к моему отчету. Этот странный, нервный маленький субъект немедленно расслабился, когда я сказал, что добавить мне нечего. Тогда он озабоченно посмотрел в сторону бара. Свирский явно чувствовал неловкость – возможно, он хотел вести себя правильно, но не вполне понимал, чего от него ожидают. Он напоминал мне кое-как выдрессированного спаниеля. И все же в бумажнике у него лежали деньги вместе с листком бумаги, который мне следовало подписать: контракт на бланке марсельской проектной фирмы. Там упоминались лицензионные выплаты, которые я должен получить, когда мой тормоз безопасности начнет приносить доход. (Это устройство присоединялось к акселератору автомобиля. Оно автоматически срабатывало, когда водитель полностью отпускал педаль.)
Мы болтали об Одессе и о хороших временах, которые мы там пережили. Он знал некоторые из моих любимых кафе. Он вспомнил «У лохматого Эзо», вспомнил имя аккордеониста, который постоянно играл в заведении. Я произвел на него впечатление, когда упомянул своего дядю Сеню. Семена Иосифовича знали все.
– Так вы его племянник! Как тесен мир! – Он усмехнулся. – Мне лучше еще раз взглянуть на этот контракт. Вы слишком быстро его подписали. Почему вы не вошли в семейный бизнес?
– Дядя Сеня послал меня в технический институт. Он хотел, чтобы я стал адвокатом, но у меня не было к этому призвания.
Свирский воспринял это спокойно:
– У вашей семьи нет особой склонности к юриспруденции.
Я спросил, знал ли он моего кузена. Свирский сказал, что, по его мнению, Шура может находиться в Марселе.
– Нет, – возразил я. – Говорят, его убили.
Но Свирский был уверен, что Шура жив.
– Он явился несколько лет назад и просил дать ему работу. Наверное, дезертировал. Его бы, наверное, устроило, если б люди решили, что он мертв, а? Вероятно, обменялся с кем-то документами и сел на корабль. Так обычно и делается.
Неужели весь мир воскрес? Меня эта мысль просто потрясла. Да, все было очень похоже на Шуру. Я попросил Свирского передать моему кузену, чтобы тот связался со мной, если захочет. Мы поссорились из-за девушки. Я сожалел о случившемся. Я был уверен, что и он чувствует то же самое. В такие времена родственники должны быть вместе.
– Да, верно, – сказал Свирский. – В Марселе все еще очень много украинцев. Разумеется, с начала войны прежняя торговля с Одессой таки почти прекратилась. Это большой позор. Нам всем было очень хорошо.
Он зевнул. Теперь, заполучив мою подпись, Свирский чувствовал себя гораздо спокойнее. Мы согласились, что дела в Одессе уже никогда не пойдут так хорошо, как прежде. Золотой век миновал. В 1918 году только Париж вопреки всему пытался жить на широкую ногу. Апокалиптические политические идеи угрожали всей европейской жизни, предвещая новые войны и новые режимы. Свирский все еще надеялся, что большевики «немного расслабятся», как только окончательно победят в гражданской войне.
– Они обязаны открыть морскую торговлю. Они ведь не сошли с ума.
Но Свирский никогда не сталкивался с этой особой формой безумия.
Я сказал, что настроен не так оптимистично. Эти люди готовы уничтожить все страны, которые угрожают их безумным мифам. Он настаивал, что все устаканится. Я поблагодарил Свирского за деньги и, пожав ему руку, покинул «Бал дю данс». В следующий раз мы встретились лишь через несколько лет. Тогда Свирский мог бы назвать меня пророком.
Мой автоматический тормоз помог нам продержаться больше двух недель. Мы купили новую роскошную одежду. Мы посмотрели «Кабинет доктора Калигари»[140], и нас испугало его безумие. Этот модернистский экспрессионизм явственно свидетельствовал о том, что после поражения Германия стала нервной, почти психопатичной. Даже более обычные, менее иррациональные фильмы отражали ту же болезненную навязчивую идею смерти и психического заболевания. Эсме очень понравился «Полукровка». Никак нельзя было предположить, что этот фильм создал человек, который позднее подарил нам «Метрополис», «Нибелунгов» и «Женщину на Луне»[141]. Я в то время предпочитал «Пауков»[142] – эта картина казалась более понятной. Нам обоим, однако, нравился Чарли Чаплин, мы несколько раз смотрели «Тихую улицу» и «Иммигранта». Моей фавориткой стала Мэри Пикфорд, которая во многом напоминала Эсме. Мы посмотрели «Маленькую американку», «Ребекку с фермы Саннибрук» и «М’лисс». После просмотра мне захотелось перечитать рассказы Брета Гарта и отправиться в Калифорнию. Наверное, из всех фильмов Мэри Пикфорд мне больше всего нравился «Длинноногий папочка». Я сказал Эсме, что, если бы не любил ее, Мэри Пикфорд завладела бы моим сердцем. Эсме сказала, что, на ее взгляд, Мэри слишком хороша и мила. Я рассмеялся:
– В таком случае она – твоя идеальная конкурентка!
В Париже Америка стала для меня гораздо важнее, чем прежде, благодаря Д. У. Гриффиту, который так эффектно показал свою страну в величайшем из всех фильмов. Мы оба были просто одержимы «Рождением нации». Мы посмотрели фильм по меньшей мере двадцать раз. И в результате я начал понимать, что потенциал социального и научного прогресса сосредоточен в Соединенных Штатах. Если бы я сам снимал кино, то сделал бы именно таким. Один только Гриффит показал миру, что его страна населена не только колонистами, дикарями и гангстерами. Идеалы режиссера так напоминали мои собственные! Я обещал себе: как только моя компания по производству дирижаблей добьется успеха, я немедленно отправлюсь в США и лично поблагодарю его. Я хотел, чтобы он обратил свое внимание на проблемы России. Достаточно одного фильма, в котором ужасы большевизма будут показаны так ярко, как Гриффит показал злодеяния северян и саквояжников, подстрекавших негров столь же цинично, как Ленин подстрекал монголов, – и целый мир бросится на помощь моей стране. (Как ни странно, сами большевики это осознали. Проявив почти невероятную хитрость, они наняли плагиатора Эйзенштейна, чтобы тот представил их дело в искаженном виде. Хитрый еврей, способный подражать гениям, украл труд Гриффита, создав хвалебную оду своим кровожадным хозяевам, представив их в нелепом героическом образе: ненавистная Гриффиту толпа в свете прожекторов представлялась поистине благородной. Это доказывает: средства не могут быть хороши сами по себе. Все зависит от того, кто их использует. Именно поэтому изобретатель всегда должен сохранять осторожность. Я и теперь держу свои изобретения при себе. За последние полвека на них слишком часто покушались.)
Париж продолжал танцевать. На всех улицах работали кафешантаны, публичные дома, бары. Пресыщенные люди приезжали со всех континентов, они мечтали поучаствовать в вечеринке. Американцы встречались повсюду. У них были деньги, хотя, как правило, они притворялись бедными. В своих любимых кафе на Левом берегу я встречал приезжих журналистов, живописцев, поэтов. Я спрашивал прибывших из США о Мэри Пикфорд и Лилиан Гиш, но они могли сообщить мне гораздо меньше, чем я сам узнал из киножурналов. Некоторые из них (главным образом жители Нью-Йорка) даже не имели представления, кто такой Дуглас Фэрбенкс! Прямо как русские, не слыхавшие о Стеньке Разине и царе Салтане! Их глубочайшее невежество вызывало у меня жалость. Они приезжали в Париж, отчаянно стараясь выглядеть интеллектуалами, читали невозможные французские романы Жида, Уиды и Мориака, пускали слюни над грязными выдумками Вилли-Коллетт, изданными под видом литературы. И в то же самое время они с восторгом рассуждали о массовом вкусе и дрыгали руками и ногами, изображая темнокожих собирателей хлопка, страдающих от предсмертного паралича. Я знал, что они смеялись надо мной, и все же я гораздо лучше чувствовал пульс эпохи, чем они. Они на самом деле воплощали прошлое, сами того не понимая. А я был истинным человеком своего времени. Они просто пытались повторить ностальгическую, невозможную фантазию конца века. И тем не менее некоторые из них снисходительно приобретали выпущенные мной акции «Аэронавигационной компании». Именно на эти средства, которые я тщательно учитывал в особом блокноте, мы и жили. Эсме снова начала страдать от головной боли, у нее повторялись приступы усталости, похожие на тот, что случился на лодке Казакяна. Сначала я сидел с ней, работая за нашим единственным столом, рисуя чертежи и сочиняя письма всем, кто мог бы нам помочь добраться до Англии. Постепенно я стал уходить все чаще, оставляя ее с керасиновой лампой и подержанными романами, купленными на соседних развалах. Деньги нужно было как-то добывать, а нам не всегда удавалось оплачивать самое необходимое. Один только кокаин в Париже стоил огромных денег. Он неожиданно вошел в моду в полусвете, официанты открыто продавали его в ночных клубах и ресторанах. Я впал в панику, понимая, что Эсме вскоре захочет бросить меня, – она не была создана для бедности или тяжелой работы. Лондон оставался недосягаемым. И мне приходилось тратить все больше и больше времени на поиски нового партнера, готового профинансировать строительство огромного дирижабля. Люди все сильнее опасались тех, кто проявлял интерес к их деньгам, – неважно, насколько убедительно выглядели проекты. Парижане в основном занимались тем, что брали деньги у других. Я страдал от страха и усталости, одна неудача следовала за другой. Эсме все глубже погружалась в себя, даже кокаин уже не действовал на нее.
Я надеялся разыскать Колю. Я оставлял сообщения повсюду. Я прикреплял их на доски объявлений в эмигрантских общежитиях, передавал клочки бумаги незнакомцам. Я печатал объявления в русских газетах. И еще я писал миссис Корнелиус, майору Наю, мистеру Грину, умоляя их прислать нам денег на проезд до Англии и использовать свое влияние на английских чиновников в Лондоне и в Париже. Русские потешались надо мной. Они ехидно спрашивали: «Ваш князь уже появился?» или «Дирижабль полетит сегодня?» Это было отвратительно. Наконец, только чтобы избежать подобных унижений, я начал отрицать, что я русский.
Однажды я стоял возле Зимнего цирка, перед отелем на рю дю Тампль, в котором мы жили после приезда в Париж, и ждал, когда артисты выйдут после дневной репетиции (я слышал, что многие русские теперь выступали в цирке в качестве наездников). И тут я явственно увидел Бродманна, одетого по последней моде в черную фетровую шляпу и пальто. Он быстро шагал по направлению к площади Республики. Взмахнув зонтиком, он подозвал такси и жестом пригласил еще какого-то человека присоединиться к нему. Этот мужчина был одет менее презентабельно, в коричневый костюм, – мне он показался французским интеллектуалом. Под мышкой незнакомец держал пачку газет. Я сразу догадался, что он придерживался радикальных убеждений. Бродманн улыбался и шутил, не обращая внимания на окружающих. Он явно преуспел, как это свойственно людям такого сорта. Несомненно, он изображал героя революции. Почти наверняка он стал агентом ЧК в какой-то небольшевистской организации. Дрожа от страха, я немедленно поспешил домой. Эсме была бледна, она что-то ела и пыталась читать Готье. Я ничего ей не сказал – не хотел тревожить ее еще сильнее. Но остаток вечера я провел дома, а на следующий день не стал бриться, решив отрастить бороду.
Я сел на трамвай, следовавший на Монпарнасское кладбище. Поблизости от него располагались театр и кафе, кажется, под названием «Пеле Нала». Некогда там собирались итальянские актеры, но теперь это место стало прибежищем русских анархистов. Я пал так низко, что вынужден был общаться с отребьем. Я делал все ради Эсме. Я пошел бы на что угодно, лишь бы спасти ее от нищеты. Спрыгнув с подножки трамвая, я пересек улицу и вошел в кафе. Ограда кладбища осталась позади меня. Стоял холодный осенний день, было довольно светло.
Кафе только что открылось. Внутри официанты еще отодвигали стулья от столов. Немногочисленные клиенты собрались в баре, они пили кофе из маленьких чашек и угощали друг друга сигаретами. Некоторые говорили на диалекте, который был мне знаком, – речь поселенцев, полурусских, полуукраинцев из Екатеринославской губернии. Я немного владел этим языком – по крайней мере, представлял общие правила – и смог приветствовать собравшихся. Однако они посмотрели на меня неприветливо и подозрительно. Эти люди, вероятно, провели в Париже несколько месяцев, но вид у них был до сих пор какой-то волчий. Я решил, что подобные люди не меняются нигде. Почти все носили обычную дешевую рабочую одежду, хотя у некоторых еще сохранились остатки мундиров – головные уборы, брюки или обувь. Я сказал им, что родился в Киеве, – это не произвело впечатления. Они немного расслабились, когда услышали, что я служил у Нестора Махно. Маленький батько все еще считался в их кругу великим героем. Высокий худощавый хромой мужчина, левая рука которого безжизненно висела, задал несколько вопросов, явно для того, чтобы проверить меня. Мои ответы его удовлетворили.
– И кем вы были? – спросил он. – Зеленым? Или вы один из тех городских анархистов, которые пытались нас учить, как сражаться с красными?
Я инстинктивно принял решение сказать им правду.
– Нет, – произнес я. – Моя сестра была санитаркой в армии Махно. Может, вы ее знали? Эсме Лукьянова.
– Знакомое имя, – сказал высокий мужчина. – Симпатичная блондиночка?
– Да, она.
– Так чем же вы занимались?
– Я учитель. И инженер. Я был в агитпоезде, когда меня захватили белые. Они заперли нас в синагоге на верную смерть. Потом прорвались какие-то австралийцы и забрали нас в Одессу. Услышав, что белые наводнили город, а красные расстреливают анархистов, я сел на корабль вместе с беженцами.
Они не хотели слушать рассказы о подвигах, эти мужчины. Многие из них оказались так называемыми «казаками» из Гуляйполя. Их не слишком интересовали истории других беглецов.
Раненого звали Челанак, очевидно, он был немецким колонистом с примесью еврейской крови, поэтому я его и заподозрил. Он сказал, что его сочли мертвым после того, как большевики напали на Голту[143] в сентябре 1919 года.
– Мы тогда тоже побеждали. – Он сделал паузу и отступил от меня на шаг, как будто осматривая картину. Потом он продолжил: – Я отполз в небольшой лесок, где греческие пехотинцы по обрывкам кителя приняли меня за белого офицера. Меня послали в Одессу, где находился плавучий госпиталь. Он направлялся в Болгарию, думаю. Но я остался в какой-то маленькой рыбацкой деревне, в которой мы остановились непонятно зачем. Я попытался вернуться – это случилось у самой границы. Меня схватили дезертиры, но не успели пристрелить – их поймали красные. Я снова сбежал, сначала в Польшу, потом в Вену и, наконец, во Францию. – Он нахмурился и понизил голос: – Но я тебя знаю, я уверен, знаю.
Я его раньше никогда не видел.
Кафе начали заполнять ветераны. Челанак прислонился к стойке и потягивал кофе. Его следующие слова были как будто совсем не связаны с предшествующими. Но говорил он очень многозначительно:
– Я был с Махно, когда мы казнили Григорьева на виду у его собственной армии. Помнишь? Чубенко выстрелил первым, Махно – вторым, а я – последним. Мы сделали это из-за погромов, думаю. Я точно тебя знаю! Ты был одним из связных боротьбистов, которых мы обнаружили в отряде Григорьева. Бродманн!
Ничего более ужасного он сказать не мог. Мне тотчас стало дурно. Я попытался улыбнуться. Он отбросил журнал, который держал в руке, и щелкнул пальцами:
– Бродманн. Кто-то сказал, что ты в Париже. – Он осмотрелся по сторонам.
Я едва не закричат:
– Я не Бродманн! Ради бога, дружище! Меня зовут Корнелиус! Меня действительно схватил Ермилов, но я сбежал. Я был пленником Григорьева несколько дней, вот и все! Потом я встретился с сестрой в Гуляй-поле. Клянусь, это правда.
Я был потрясен. Я видел Бродманна всего днем раньше. Это само по себе пугало. Но то, что бывшие бандиты приняли меня за ужасного предателя-еврея, было гораздо хуже.
– Я встречал человека, который носил эту фамилию. Он был большевиком, хотя какое-то время притворялся боротьбистом. – Я пожалел об этом признании, едва слова сорвались с моих губ.
– Товарищ Бродманна, так? Я знаю твое лицо. Я тебя знаю.
Он не проявлял особой враждебности. Как будто он лично не испытывал ненависти к своим старым врагам. Но было непохоже, что все остальные разделяли его терпимость. Наверное, я вспотел. Я почти умолял его не продолжать разговор о нелепом сходстве. Я простирал к нему руки. Я никогда не видел этого полумертвеца прежде и не мог поверить в глупое совпадение, приведшее к тому, что он спутал меня с человеком, которого я боялся и презирал сильнее всех на свете. Я с трудом покачал головой:
– Который Бродманн? С рыжей бородой? Из Александровска?
Челанак засмеялся:
– Нет-нет! Я видел тебя на митинге! Позавчера. Неподалеку от улицы Сен-Дени. Я тогда подумал, что ты и есть Бродманн.
– Я не был на митинге, товарищ. Пожалуйста, не надо об этом!
Неужели Бродманн в конце концов принесет мне смерть?
– Ты знаешь, что Бродманн утверждает, будто помог убить Григорьева? Ты не убивал Григорьева, верно?
– Конечно нет.
– Извини. Сюда часто заходят чекисты. Должно быть, у тебя есть двойник, товарищ. Неприятно, да? Двойник, который служит в ЧК!
Казалось, опасность миновала, но я никак не мог успокоиться. Я пришел туда только потому, что надеялся узнать новости о Коле, в прошлом связанном с кем-то из анархистов. В душном помещении собиралось все больше изгнанников, одни говорили на русском, другие – на французском, немецком, польском. Они держали в руках смятые газеты так же небрежно, как некогда мечи и винтовки. Я начал проталкиваться к выходу. Челанак ухватил меня за пальто:
– Но ты, несомненно, друг Бродманна? Может, до сих пор боротьбист? Скажи хотя бы, зачем ты сюда пришел!
– Из-за князя Петрова, – сказал я.
– Какого черта ты ищешь здесь князя? – Он снова подошел ко мне. – Мы немного побаиваемся шпионов, друг Бродманна.
– Я не друг Бродманна. Единственный Бродманн, которого я знал, пойман и расстрелян белыми в Одессе в прошлом году. Что касается Петрова, он сделал так же много, как и любой из нас, – и тоже пострадал. Разве для нашего движения существуют классовые ограничения? Если так, то вы, наверное, собираетесь исключить Кропоткина! – Я с ужасом осознал, что все глаза теперь устремлены на меня. Я заговорил более решительно: – Ты дурак, Челанак. – Я придвинулся к нему, ударил по высохшей руке, которая начала качаться, как маятник. – Не могу понять, почему ты выбрал меня. Я не причинил тебе вреда. Мы еще недавно вместе служили общему делу.
Он ухватился за раненую руку здоровой, чтобы она перестала качаться. Потом он посмотрел в землю.
– Прошу прощения, товарищ. У нас здесь нет никакого Петрова – разве что он сменил имя и звание. Не знаю, почему я так заговорил. Может, есть в тебе что-то такое…
Мы оба тяжело дышали. Мы теперь стояли возле кафе и смотрели на кладбище, находившееся за железной оградой по ту сторону дороги.
– Ты, по-моему, немного похож на Бродманна, – сказал он, пытаясь смягчить оскорбление. – Но я вижу, что ты – не он. Ты ни одеждой, ни выражением лица не напоминаешь чекиста. При дневном свете это очевидно. Я еще раз извиняюсь. Что я могу для тебя сделать?
– Я надеялся отыскать князя Петрова, вот и все.
– Сюда приходят только измученные и побежденные анархисты. Нас связывают страдания и жалость к себе. – Он улыбнулся, поправив кепку. – Возможно, именно поэтому я принял тебя за чекиста. Ты выглядишь не особенно подавленным. Иди с миром, товарищ. Но будь осторожен. Твое лицо не очень подходит для этих мест. – Он слегка расслабился. – В твоих глазах слишком много будущего. А эти кафе – цитадели утраченного прошлого. У нас нет сил, чтобы сделать еще шаг вперед.
Я не могу вспомнить, попрощался ли с ним. Я помчался по рю Фруадево, мимо театра. Я бежал не от Челанака, а от Бродманна. Я был уверен, что анархист прав. Бродманн – наиболее подходящий кандидат в агенты ЧК. Он очень обрадовался бы, если бы представилась возможность меня уничтожить. В тот момент я был готов бежать обратно в Рим. Какую же глупость я совершил, когда бездумно принял приглашение Сантуччи! Я думал, что отсюда легче добраться до Лондона. Лучше бы я остался в Константинополе. Я решил, что совершенно необходимо поскорее выбраться из Парижа, возможно, уехать на юг или в Бельгию, а оттуда перебраться в Голландию или Германию. Я продам всю свою одежду. Все ценности, какие у меня остались. Я зашел в Люксембургский сад с его тонкими, неприятными с виду деревьями. Место казалось слишком открытым. Я помчался на улицу Сен-Мишель и постарался затеряться в толпе, едва не попал под трамвай и наконец добрался до нашего переулка. Он стал моим убежищем. Я сильно запыхался к тому времени, когда поднялся по лестнице на верхний этаж. Внутри, как всегда, было сумрачно. Эсме сидела на нашей грязной кровати и читала старый номер «Парижской жизни». Она просто кивнула мне. Я немедленно бросился к нашим запасам кокаина, чтобы поддержать свои силы. Эсме до сих пор не вытащила из волос вчерашние папильотки. Она становилась неряшливой, и в этом была моя вина. Мог ли Бродманн, подумал я, явиться в Париж специально для того, чтобы отыскать меня? Большевистские убийцы находились во всех столицах. Они занимались тем, что истребляли людей, избежавших расправы в России.
На сей раз я обрадовался, что Эсме не отрывалась от журнала и не замечала, благодарение богу, моего волнения. Как я мог сказать ей, что нам нужно бежать? Ей стало бы только хуже, и тогда я просто не сумел бы скрыться: по пятам шел Бродманн, а Эсме и так находилась не в лучшем состоянии. Бродманн, конечно, знал о моем присутствии в Париже – я повсюду оставлял свой адрес, надеясь, что сведения в конце концов дойдут до Коли, и Бродманн или один из его агентов-чекистов могли в любой момент все узнать. Я молился, чтобы они пощадили Эсме. Сначала я решил взять свои драгоценные грузинские пистолеты и отнести их в дорогие магазины на набережной Вольтера, где туристы покупали старинные стулья эпохи Людовика XV и медали времен Наполеона, деревянные статуи святых, украденные из разрушенных во время осады церквей. Мне следовало совсем немного пройти по берегу Сены, чтобы достичь набережной. Я просто обязан был раздобыть денег на железнодорожные билеты. Однако я медлил. Я чувствовал, что откажусь от последних остатков своего наследия, если продам самое ценное и предам друга. Но у меня не осталось выбора. По всему Парижу беженцы принимали в точности такие же решения.
Наверное, меня в те дни сберег некий яркий развратный ангел-хранитель, тот самый, который ввел меня в мир богемного Петербурга и познакомил с Колей. Он появился, крича и размахивая длинными пухлыми руками, на Пон-Неф, в том месте, где он выводил на набережную Конти. Человек как будто сошел с одной из гротескных башен Нотр-Дама – облаченный в ярко-желтый плащ, зеленый шейный платок, синий бархатный жакет и белые «оксфордские мешки»[144]. Я по привычке хотел сбежать от него, но потом остановился, а он перелетел через дорогу (плащ и брюки взметнулись, как оболочка сдувшегося воздушного шара) и обнял меня. Он прижимал меня к чудовищной груди и дышал мятной водкой мне в лицо. Он по-прежнему сохранил свое преувеличенное очарование и склонность к театральным фразам и жестам. Не вызывало сомнений и то, что его страсть ко мне (впервые проявившаяся в поезде, когда я был мальчиком, путешествовавшим из Киева в Санкт-Петербург, в Политехнический институт) ничуть не угасла. Это был артист балета Сергей Андреевич Цыпляков.
– Твой дорогой Сережа, мой любимый Димка! – Он поцеловал меня в обе щеки, а потом в лоб. – О Димка! Ты не умер! И я не умер! Разве это не чудесно? Ты давно в Париже? Ты выглядишь не очень хорошо. – Он крепко схватил меня и внимательно осмотрел. – Я сказал тебе, что Париж – прекрасное место, и ты запомнил! Разве я не прав? Я приехал сюда в шестнадцатом с некоторыми другими артистами «Фолина», чтобы развлекать армию. И с тех пор я здесь. Какая удача, тебе не кажется?
Мне казалось, что он когда-то решительно настаивал на том, что ни в коем случае нельзя покидать Петербург. Я хотел узнать, как ему удалось попасть в Париж, – для русских граждан это почти невозможно.
– Мой дорогой, Фолин – гений. Бессердечный, эгоистичный, беспечный, но гений. Он убедил кого-то, что наши выступления повысят моральный уровень войск, сражающихся во Фландрии. И они позволили нам проехать. Примерно половина артистов – здесь. Дорогой, им не удалось завлечь меня в армию. И я по этому поводу не переживал. Очень повезло! В Париже нас все любят. Мне поступали предложения от Дягилева и от этого плагиатора Фокина. Мало того, что он украл имя Фолина, он украл и почти весь наш репертуар. Но это не имеет значения. Здесь сотни изумительных композиторов, как тебе известно. Куда ты направляешься, дорогой Димка?
Я пришел к выводу, что дела у Сережи шли хорошо, и решил обдумать план действий. Возможно, я сумею занять нужные мне деньги или по крайней мере продать ему немного акций моей «Аэронавигационной компании». Я сказал, что просто вышел прогуляться, и он настоял, чтобы мы зашли в соседнее кафе, «Л’Эперон».
– Как раз туда я и шел. Просто изумительное место. Там все так солидно и красиво. Ты не хочешь омлет? У них просто замечательные омлеты.
Мы прогуливались мимо ящиков с подержанными книгами, которыми была заставлена тогда вся набережная до бульвара Сен-Мишель, переполненного, как всегда. Сережа, похоже, лично знал половину людей, встречавшихся нам на улице. «Л’Эперон» оказался одним из тех огромных современных заведений, которые вошли в моду после войны. Стеклянная стена занимала большую часть здания, а за ней виднелись фигуры грязных, длинноволосых, грубых самозванцев – художников, писателей и музыкантов. Я очень обрадовался, что на сцене не играет неизбежный джаз-банд. Нам пришлось сесть за столик с двумя явными гомосексуалистами, которые, к моему огорчению, немедленно предположили, что я был мальчиком на содержании у педераста Сережи. Но я готовился стерпеть даже это – лишь бы спасти себя и Эсме. Сережа начал хвастаться своими достижениями на танцевальной сцене: что говорили о нем парижские критики, как его пытался переманить у Фолина сам Дягилев. Рассказы Сережи слышал не только я, но и еще половина посетителей. Я терпел, кивал и улыбался – именно так я расплачивался за омлет, который оказался большим, но посредственным. Мой спутник заказал целую бутылку анисовой и настоял, чтобы мы ее распили. Я забыл о его пристрастии к алкоголю. К тому времени, когда мы встали из-за стола, я уже опьянел и согласился вернуться с Цыпляковым в его квартиру на рю Дофин. Когда мы, пошатываясь, шагали по булыжной мостовой, я спросил, не имеет ли он каких-нибудь сведений о Коле.
– О да, – сказал Сережа, – я с ним довольно часто встречался с полгода назад. Он всегда обедает в «Липпе» на бульваре Сен-Жермен. Ты знаешь, где это? Не в моем вкусе. В основном деревенская кухня. Но, как тебе известно, он испытывает сентиментальную склонность к крестьянам.
Сережа остановился, вынул ключ, отворил огромные ворота во внутренний двор и пропустил меня вперед. В другом конце двора располагалась лестница, ведущая к двери его квартиры. Там было просторно и светло, но у Цыплякова сохранились кулацкие вкусы. Повсюду стояли мелкие безделушки: фарфоровые свиньи, фарфоровые розы, подсвечники, золотые вазы с яркими цветами. Все пропахло несвежими духами.
– Возьми те японские подушки, – сказал Сережа. – Так будет удобнее всего.
Я надеялся, что надолго не задержусь. Я снял пальто и уселся на подушки, протянув руку к бокалу желтого перно, который держал Сережа.
– Как я понял, ты по-прежнему не прочь нюхнуть? – спросил он.
Интересно, догадался ли он, что я украл его кокаин тогда, в поезде.
Я кивнул.
– Главнейшая потребность в моей жизни, – ответил я.
Я наблюдал за ним, когда он уселся за черный с золотом лакированный столик и начал готовить «снежок».
– Надо заметить, – сказал Сережа ровным голосом, – что мы с Колей больше не поддерживаем отношения. Я считаю дурным его образ жизни, а его выбор спутников… Ну, Димка, дорогой, это же просто ужасно! И ему еще достало наглости оскорблять меня при нашей последней встрече. Он стал уж очень респектабельным. Не хочет знать старых приятелей. – Толстые губы, огромные глаза, раздутые ноздри – Сережа обернулся и бросил на меня загадочный, многозначительный взгляд. Он принес мне кокаин на небольшом мраморном блюде, и я вдохнул порошок через длинную золотую трубочку. Кокаин был гораздо лучше, чем у моих поставщиков. По крайней мере, мне следовало до отъезда узнать, где Сережа достает порошок.
И тут он внезапно прыгнул – сделал настоящий балетный пируэт – и приземлился рядом со мной на подушках. Остатки вина пролились, и я попытался куда-то поставить бокал, но Сережа с громким смехом вырвал его у меня из рук и отбросил назад.
– Ах, Димка, дорогой! Это было так грустно! Ты тоже тосковал? Я вспоминал те дни, вспоминал наш поезд. Ты был так молод и очарователен. Иногда, засыпая, я все еще чувствую твой запах. Ничто не сравнится с этим ароматом. Ни один химик не смог бы воссоздать его. И он у тебя еще сохранился. Сколько тебе лет?
– Мне двадцать один год. – Я разбрасывал подушки, неловко пытаясь выбраться.
– Наконец-то повзрослел. Хо-хо! – Он коснулся губами моего плеча и посмотрел на меня карими коровьими глазами. – А что ты делаешь в Париже?
– Ищу работу, мне нужны деньги. Меня преследует ЧК из-за моих дел в Одессе.
– У тебя нет денег?
Меня поразило, как легко он вскочил на ноги. Сережа почти мгновенно выдвинул ящик стола и извлек оттуда несколько крупных купюр. Он снова уселся рядом, прижав деньги к моей рубашке.
– Этого тебе хватит на некоторое время. Купи костюм. Тебе нужен хороший костюм.
Я не хотел ссориться с ним и поэтому сказал:
– Я расплачусь с тобой, Сережа. Слава богу, этого хватит на оплату счета от доктора!
– Ты болен? Чахотка?
– К сожалению, нет. Лобковые вши. Я подцепил их на Монмартре, полагаю.
Он снова вскочил и начал инстинктивно почесывать бедра:
– Ты еще от них не избавился?
– Надо сказать тебе правду. Я как раз собирался узнать, вылечился я или нет.
– О, я не стану тебя задерживать!
Меня удивило, насколько эффективной оказалась эта уловка.
– Я хотел бы увидеться с тобой снова, – сказал я, поднимаясь на ноги и спускаясь с кушетки на пол. Мне трудно было стоять прямо, хотя кокаин частично разогнал туман в голове. Вероятно, именно его мне следовало благодарить за ту находчивость, с которой я изобрел свое ужасное заболевание.
– Непременно, Димка, любимый. Завтра. Давай помолимся всем святым, чтобы это ужасное испытание для тебя закончилось.
Кажется, я заметил, как он осмотрел подушки, указав мне дорогу к выходу. Сережа послал мне воздушный поцелуй:
– До завтра, Димка, мой дорогой.
Я не был уверен, смогу ли выдержать еще одну встречу с огромным танцовщиком, но он был для меня единственной связью с Колей и источником денег, которые, в свою очередь, означали, что я смогу возвратиться домой с конфетами и цветами для Эсме. Это ее подбодрило. Она едва не заплакала, увидев мои подарки:
– Неужели мы снова богаты, Максим?
– Мы на пути к богатству, моя голубка. Думаю, что мне известно, где найти Колю.
На Эсме это не произвело большого впечатления. Мой Коля казался ей мифом, символом надежды, а не реальности. Она, как правило, расстраивалась, стоило мне упомянуть его имя. Ей требовалось что-то более конкретное.
– Обещаю тебе, Эсме, что мы скоро избавимся от всего этого. – Я сидел на кровати и стискивал ее руки, а она жевала конфеты. – Коля поможет мне реализовать проект «Аэронавигационной компании».
Вот и все, что я мог ей сказать. Теперь требовалось срочно подыскать какое-то укрытие, где нас не найдут Бродманн и его чекисты. Даже Эсме заметила, с какими предосторожностями я в тот день запирал дверь. Я снова вышел на улицу в шесть часов вечера, наказав ей сидеть дома и открывать только мне по условному сигналу.
К тому времени как я пришел к «Липпу», начался дождь. На улице было пасмурно, но декоративные медные панели и зеркала в ресторане ярко блестели. Это было старомодное двухэтажное семейное заведение, его посещали самые разные люди, в том числе и евреи. С некоторой нервозностью я толкнул вращающуюся дверь, вошел внутрь и обратился к метрдотелю. Зал уже был переполнен. Метрдотель спросил, заказывал ли я столик. Когда я ответил отрицательно, он покачал головой. Мне показалось, что он мог бы впустить кого-то другого, но моя внешность ему не понравилась. Подавленный, я вышел на Сен-Жермен. Я заходил во все магазины подряд и подолгу стоял у дверей, следя за входом в ресторан и надеясь увидеть Колю. В конце концов я отправился домой. Моя одежда уже поистрепалась, но если бы я облачился в один из своих мундиров, то стал бы ходячей мишенью для убийц из ЧК. Я решил, что должен купить себе новый костюм.
Назавтра, ближе к полудню, я вновь отправился к Сереже. К тому времени я уже обдумал, как сопротивляться его домогательствам. Он отворил дверь, сонно моргая, но сразу оживился, завидев меня. Сережа накинул цветастое шелковое кимоно, затянуть пояс он не потрудился. Несомненно, Сережа надеялся, что вид его обнаженных бедер и гениталий подстегнет мой интерес. Мне уже было знакомо и то и другое. У меня сохранились самые подробные воспоминания о происшествии в поезде, когда он занимал верхнюю полку, а я – нижнюю. Однако я не смог ему помешать, когда он поцеловал меня в губы (от него разило перегаром) и обнял за талию. Потом Сережа потянулся к бюро и достал оттуда кокаин, предложив мне нюхнуть с той же легкостью, с какой обычно предлагают выпить кофе. Разумеется, я согласился. Он постепенно припомнил наш последний разговор:
– Что тебе сказал доктор, Димка? Ты уже окончательно вылечился?
– Почти. Лучшее лечение – какая-то примочка, но доктор говорит, что эта штука дорого стоит. Все прочие способы гораздо медленнее.
– Ты спал с кем попало, Димка. Я всегда подозревал, что у тебя задатки маленькой шлюхи. – Вернувшись к столу, он открыл ящик и вытащил еще несколько купюр. – Этого хватит на примочку?
Я с трудом овладел собой: подобное унизительное предположение пробудило во мне ярость, но эта же ярость помогла мне без зазрения совести принять его деньги. Пусть извращенец думает что угодно! Я никогда не стал бы спать с ним. Да, существует такая вещь, как любовь между мужчинами. Я не отрицаю, что испытал подобное. С любой красивой женщиной можно заняться любовью, пусть это будет всего лишь увлечение на час, но мужчина, который вызывает подобное желание, должен быть выдающимся во всех отношениях, и мне за всю жизнь встретился только один такой человек, а женщин, которых я по-настоящему любил, было две. Я провел у Сережи немного времени, поговорил с ним о труппе и его гастрольных планах, о его ссоре с администратором («Говорят, что я слишком много пью. А я отвечаю: кто сможет не пить, имея дело с такими тупыми деревянными балеринами, с трудом ползающими по сцене!»). Он спросил, где я живу. Не было никакого смысла ему лгать, и я сообщил, что живу на рю де ла Юшетт.
– Но это – убогое место! Тамошние забегаловки кошмарны! Туда нужно приходить со своим хлебом, ножом и вилкой! О мой дорогой Димка, это ужасно!
Было неблагоразумно упоминать об Эсме.
– Я ехал в Англию, – сказал я. – Путешествовал с другом. Друг решил поехать дальше без меня, прихватив почти все мое имущество, включая документы.
Он пришел в ужас и начал шумно выражать свое сочувствие. Это обеспечило мне еще порцию кокаина. Сережа старался не прикасаться ко мне.
– О мой дорогой. Как только твоя проблема будет решена, ты переберешься ко мне. У меня очень много комнат, как ты сам видишь. У тебя будет отдельная спальня. И особый гардероб. Я буду тебе очень рад. Сам же знаешь, что ты всегда нравился мне, Димка.
Я притворился, что эта перспектива меня восхищает:
– Как замечательно, Сережа! Я сейчас вернусь к доктору и узнаю, есть ли у него примочка. Это, должно быть, займет всего несколько дней.
– Бедняжка! Я понятия не имел, что ты так ужасно страдаешь. Что произошло? Ты цеплял женщин? Или бельгийцев? Судя по моему опыту, они никогда не знают, есть у них вши или нет. Вот мое правило, милый Димка: никогда не связывайся с женщинами и бельгийцами и будь осторожен с американскими трансвеститами. Они не меняют нижнее белье. Но ты ведь знаешь все про Пигаль, не так ли?
– Не волнуйся. Я с ними никаких дел не имел. В этом случае, однако, я полагаю, во всем виноват турок.
– О, ну конечно, турки! – Сережа вздрогнул. Я понял, что турецкие вши по какой-то невообразимой причине кажутся ему самыми отвратительными. – Бедняжка! Тебя изнасиловали?
– Когда-нибудь я расскажу тебе о своих приключениях в Константинополе, Сережа. Ничего, если я вернусь завтра в это же время?
– Конечно, мой дорогой. Или сегодня вечером, когда я вернусь домой. Нет! Не сегодня вечером. Да, утром. Сразу после двенадцати. Чудесно.
Я пошел прямо в магазин одежды на улицу Тюренн. К счастью, моя фигура, за исключением некоторых округлостей, всегда оставалась прекрасной: настоящий мужской стандарт. У меня не возникло ни малейших трудностей при выборе костюма-тройки, новой рубашки, нескольких воротничков, галстука и ботинок. Сережиных денег – включая то, что осталось с прошлого раза, – хватило на оплату счета. Я вышел из магазина уже в новой одежде, прочие вещи я нес в аккуратном свертке.
Когда я вернулся на рю де ла Юшетт, местные клошары посмотрели на меня с любопытством. Я вошел в убогий подъезд и поднялся по лестнице. Эсме уже встала с постели. Она сидела в халате за столом, медленно заполняя бланк, вырванный из журнала.
– Это конкурс, – сказала она. – Приз – поездка на двоих в Египет.
Я не стал ей говорить, что журнал старый. Ей не следовало терять надежду, пока надежда оставалась у меня. Она не обратила внимания на мой новый костюм, и я этому даже обрадовался.
Тем вечером, отправившись в «Липп», я взял такси и обнаружил, что, хотя ресторан заполнен так же, как и днем раньше, теперь для меня нашелся уголок за одним из длинных столов наверху. Это не совсем меня устраивало, так как постоянные и привилегированные клиенты сидели в ресторане на первом этаже. Я немного поел, еда оказалась скорее немецкой, чем французской. Я уже привык к их спарже. Хотя счет был и невелик, но я оставил щедрые чаевые. Такие вещи производят впечатление на официантов, которые стремительно передают новости своим товарищам. Я хотел быть уверенным, что в следующий раз получу место внизу. Уходя, я поискал взглядом Колю, но его в заведении не было. Во время следующего визита я решил поговорить с метрдотелем. Но для того чтобы возвратиться в «Липп», следовало пережить неприятную встречу с Сергеем Андреевичем. Моей истории о докторе и его чудесной примочке не могло хватить больше чем на два визита, потом придется либо уступать, либо бежать. Я снова некоторое время простоял возле входа в ресторан. Когда я отправился домой, было уже за полночь. Эсме спала и не проснулась, когда я лег рядом. Я немедленно погрузился в сон.
Еще три посещения все более и более нетерпеливого Сережи, еще три ужина в «Липпе»… Сережа предупредил меня, что не может и дальше давать мне деньги на лечение: доктор, похоже, меня попросту обманывает. Сережа знал очень хорошего доктора, своего собственного, – он верил, что этот специалист, несомненно, поможет мне. Во время четвертого визита я вынужден был сказать ему, что вылечился, но, оправдываясь сильным воспалением, смог удержать его от проявлений страсти, хотя его самообладание, которым Сережа никогда не отличался, подверглось сильнейшему испытанию. Больше я сделать ничего не мог. Мне нужны были деньги, чтобы найти Колю. Если я и впрямь отыщу своего друга, жизнь снова обретет смысл. Вскоре, примерно через неделю, главной моей проблемой стал способ отказаться от переезда к Сереже. Вдобавок он очень хотел посмотреть, где я живу.
Однажды вечером я сидел в ресторане «Липп» за столиком внизу, у двери, думая о своем тяжелом положении и пытаясь изобрести оправдание, чтобы не ходить к Сереже, когда он вернется из театра. Поднося ко рту первый кусок спаржи, я увидел, как отворилась стеклянная дверь и вошел высокий красивый мужчина, одетый во все черное, за исключением белой рубашки. Рядом с ним шла столь же прекрасная женщина. Метрдотель приблизился к ним с очевидной радостью. Обернувшись в мою сторону, мужчина сначала слегка нахмурился, а потом улыбнулся широко, как школьник. Мое сердце едва не выскочило из груди. Метрдотель уже указывал на меня (я к тому времени справился о своем друге). Князь Николай Федорович Петров никогда не выглядел так хорошо. Я пришел в восторг. Все мое тело сотрясала дрожь. Я с трудом встал. Моя спаржа упала на пол. Я плакал. Он смеялся. Мы обнимались.
– Димка! Димка! Димка… – Он гладил меня по плечам. Он целовал меня в щеки.
Я настолько переволновался, что раскраснелся и слегка вспотел.
– О Коля, я везде искал тебя…
Мы немного успокоились, хотя все еще плакали и улыбались. Коля представил меня своей спутнице:
– Княгиня Анаис Петрова, моя жена.
Я не ревновал. У нее были черные бархатные глаза и такая же белая, как у Коли, кожа, подобная свежей слоновой кости. Его волосы остались бледными, почти молочного цвета, а ее локоны были цвета воронова крыла. На Анаис было желтовато-коричневое вечернее платье, а поверх него бежевая летняя накидка. Они были невообразимо прекрасны: возлюбленные, сошедшие со страниц книги, принц и принцесса из волшебной страны. Я поцеловал ей руку и, к своему превеликому смущению, вывалил на пол остатки спаржи. Коля, улыбнувшись, подозвал официанта, чтобы тот прибрался.
– Ты ужинаешь один?
– Я ужинал тут постоянно, надеясь, что ты придешь. – Я пожал плечами, немного смущенный чудесной встречей. – Моя спутница нездорова.
Он был полон сочувствия:
– А она русская?
– По происхождению – да. Но я встретил ее в Константинополе.
– Так ты был в Турции, а? Много приключений, Димка? Садись к нам за столик!
Мы перебрались в дальний конец ресторана, в более уединенное место. Мне принесли новую тарелку спаржи. Коля заказал закуски. Он сказал Анаис, что я его старый друг и драгоценный спутник еще с дореволюционных времен, что я пробудил в нем поэтическое вдохновение и открыл ему будущее. Я вновь ощутил, как кровь прилила к моим щекам. Не было ничего дурного в том, чтобы любить мужчину, особенно такого, как Коля, – человека, которого Бог послал в мир смертных, чтобы указать им путь к совершенству. Он спросил, какие у меня новости. Я кратко рассказал, что со мной случилось после возвращения в Киев, о том, что ЧК, вероятно, до сих пор разыскивает меня в Париже.
– А я‑то думал, что сильно пострадал! – Коля жил в Париже уже пару лет. Год назад он встретил Анаис, происходившую из старинного французского рода, и женился. Он все еще надеялся перебраться в Америку, но пока не мог решить проблемы с визой. Коля подозревал, что это связано с его службой у Керенского или, скорее, с его политическими взглядами в то время, когда он входил в правительство. – А чем ты занимаешься в Париже, Димка?
– В основном ищу кредитора для новой компании. И часто хожу в кино.
– Мы тоже страстно полюбили кино. Только что смотрели «Отца Сергия». Знаешь такой фильм? Уверен, режиссер сейчас в Париже.
– Его фамилия Протазанов. – Анаис говорила по-французски со слабым, не парижским акцентом. Ее голос звучал мелодично и насмешливо. На губах ее всегда была улыбка. Очевидно, она преклонялась перед Колей так же, как и я. Возможно, потому, что у нас была одна общая страсть, мне Анаис очень понравилась.
– Сейчас я почти не смотрю русские фильмы, – признался я. – Это слишком тяжелое испытание.
Коля налил нам белого вина.
– Понимаю. Есть у тебя любимый режиссер?
Это мог быть только Гриффит. Я заговорил о «Рождении нации». Когда речь шла о других фильмах, я обсуждал актеров и актрис. Лилиан и Дороти Гиш, Дуглас Фэрбенкс, Чарли Чаплин, Бастер Китон, Мэри Пикфорд. Я видел их всех.
– Вам, наверное, нравится Гарольд Ллойд! – Анаис пришла в восторг. – Разве он не чудесный! Такой нелепый! Такой забавный!
– И Ферн Андра или Пола Негри? Разве ты не находишь их столь же привлекательными, как все эти американцы? – Коля сардонически усмехнулся. – И впрямь, Димка, ты становишься поклонником американцев! Я думал, что ты ненавидишь эту страну. Ты туда собираешься?
– Мне вполне хватит Лондона. Помнишь миссис Корнелиус? Она согласилась помочь мне, когда я приеду. Но у меня тоже проблемы с визой. Возможно, если бы я был один, все прошло бы легче, но у моей подруги Эсме вообще нет документов. – Коля знал о моей первой Эсме. Я немного рассказал ему о встрече в лагере Махно. – Точная копия прежней. Эсме, которая очистилась.
Анаис сказала:
– Может, ее смогла бы удочерить приличная английская семья.
Коля рассмеялся:
– Ты слишком жестока, Анаис. Мы подумаем вместе и отыщем какое-нибудь решение. У твоего отца есть деловые связи в Англии. Он сможет помочь? – Коля обратился ко мне: – Отец Анаис – промышленный магнат, кавалер Легиона чести[145] и бывший член Палаты депутатов. Видишь, в какие влиятельные круги я теперь вхож, Димка? И все-таки не могу получить разрешение на выезд в Соединенные Штаты, чтобы преподавать там русский язык. Вместо этого я – альфонс.
Анаис неодобрительно поморщилась:
– Когда военные действия в России закончатся, ты сможешь вернуть по крайней мере часть своего состояния.
Коля подмигнул мне.
– Ты так думаешь, дорогая? Русские везде стали нищими гостями. Бедными родственниками всех остальных народов мира. Люди скоро перестанут нас терпеть.
Официант подал основное блюдо.
– Как далеко зашла ваша «Аэронавигационная компания», мсье Митрофанич?
Анаис толкнула Колю, который фыркнул от смеха, и наклонилась ко мне. Естественно, она называла меня именем, под которым я жил в Петербурге.
– Некоторые кредиторы заинтересовались проектом, но ничего конкретного пока нет.
– Вы думаете, это хорошее деловое предприятие?
– Мы используем в своих интересах рост туризма после войны. Количество пассажиров, путешествующих из Нью-Йорка в Париж, значительно возросло – и это только одно направление. Мое судно будет перемещаться гораздо быстрее круизных лайнеров, путешествия станут спокойнее и безопаснее. Конечно, мои проекты совершенствуются, я изучил все сведения о строительстве дирижаблей, которые удалось собрать за время войны. Теперь немцы обогнали всех. Британцы планируют начать коммерческие перевозки через год или два. За несколько месяцев мы сможем опередить и тех и других, если корабль привлечет всеобщее внимание. Например, если во время пробного полета он пересечет Атлантику за рекордный срок.
– Это восхитительно, мсье. – Анаис аккуратно отрезала кусок мяса. – И весьма убедительно. Что ты об этом думаешь, Коля?
– Он – гений, – просто ответил мой друг. – Я верю, что он способен на все.
Разговор перешел на общие темы. Я внезапно испытал прилив абсолютного счастья. Вечер прошел очень успешно, я был в ударе. Мы ушли из ресторана едва ли не последними. Оба чудесных создания расцеловали меня на прощание, и Коля записал адрес, поклявшись, что очень скоро свяжется со мной.
– Мы больше никогда не расстанемся!
Насвистывая веселый мотив, я зашагал по рю Сен-Сюльпис и только тут понял, что забыл сообщить Коле о смерти его кузена, Алексея Леоновича, пилота, который едва не погубил меня, разбив свой самолет. Возможно, подумал я, было бы нетактично сразу заговаривать о таких вещах. Я мог все рассказать Коле в ближайшем будущем.
Когда я вернулся, Эсме, как обычно, спала, но в тот вечер ее дыхание было быстрым и неровным. У нее начался жар. Я держал ее потное маленькое тельце на руках и укачивал ее, когда она стонала:
– Не оставляй меня, Максим. Не оставляй меня.
Я дал Эсме немного воды и аспирин, чтобы ослабить жар, а потом лег рядом с ней и попытался рассказать о своей встрече с Колей, но она вновь погрузилась в беспокойный сон.
На следующее утро я отправился на поиски доктора. Ближайший жил на бульваре Сен-Мишель. Доктор Гюлак насквозь пропах табаком и розовой водой. Его моржовые усы пожелтели от никотина, кожа, покрытая пятнами, напоминала панцирь черепахи. Я помню седые редеющие волосы, до блеска отполированные ботинки и старомодный сюртук. Осмотрев мою девочку, он твердо сказал, что Эсме нужно хорошенько отдохнуть. Он дал микстуру и потребовал, чтобы Эсме принимала ее три раза в день. У нее анемия, сказал доктор. Она страдает от нервного истощения.
– Но она очень молода, – сказал я старому дураку. – В ней полно жизненных сил. Она – ребенок!
Доктор Гюлак недоверчиво посмотрел на меня:
– Она употребляла слишком много алкоголя. И мне трудно перечислить все наркотики, которые она, несомненно, принимала. Кто-то должен следить за вашей сестрой, мсье, если вы сами не можете этого делать.
Я не стал говорить ему, что Эсме употребляла наркотиков и спиртного не больше, чем я сам.
– Она страдает от обычных в наше время симптомов, – неодобрительно заметил доктор. – У вас нет родителей? Лучше бы ей остаться с ними.
– Мы сироты.
Он вздохнул:
– Не стану вас осуждать. Но вам нужен кто-то, способный направить вас по верному пути, мсье. Я советую вам уехать из Парижа. Поживите в провинции месяц-другой. Измените свой образ жизни.
Я вызывал доктора, а не священника. Поучения меня раздражали. Тем не менее я вежливо поблагодарил его, сказал, что обдумаю это предложение, и отдал наши последние деньги. Когда я сел на стул у кровати Эсме и сжал ее теплую, мягкую руку, мне в голову пришла мысль: а не был ли я чрезмерно эгоистичен? Почему я настаивал, чтобы она вела такую же жизнь, как и я? Я всегда отличался невероятной активностью – я полагаю, это свойство живого ума. Другим людям редко удавалось за мной угнаться. Вероятно, я был несправедлив, ожидая от Эсме такой же энергии. Она слишком молода, она еще не имела представления о пределах собственных сил. Это погружение в коматозное состояние, возможно, стало для нее формой отдыха. Я решил ухаживать за ней, пока она окончательно не придет в себя. За это время я обдумаю положение. Я верил: теперь, когда для нас открылись новые возможности, дела пойдут лучше. У Эсме были все основания для беспокойства. Она, вероятно, инстинктивно чувствовала, что меня тревожит ЧК. Кроме того, я говорил ей, что мы поедем в Англию, а мы все еще оставались в Париже. Она по-прежнему слабо владела языком. Вероятно, Эсме начала тосковать по дому и не хотела мне в этом признаваться. Наверное, нет ничего хуже такой беспомощности – смотреть, как рядом кто-то бредит и дрожит в лихорадке, от которой не помогут никакие медицинские средства. Как бы то ни было, я совладал с паникой. Я подумал, что стоит проконсультироваться у кого-нибудь еще, и решил, что при первой же встрече с Колей попрошу его порекомендовать более знающего доктора, чем этот местный шарлатан. Как ни прискорбно, это почти наверняка означало, что мне придется посетить Сережу.
Неужели Эсме всегда страдала от этой болезни? Что это было? Какая-то форма эпилепсии? Возможно, именно поэтому ее родители так обрадовались, узнав, что девочка отправится со мной. При первой же возможности я посетил ближайшую библиотеку и просмотрел медицинские книги. Не нашлось никаких описаний подобных случаев, Эсме не получала кокс в течение нескольких дней. Возможно, она страдала из-за этого? Мне удалось заставить ее принять немного кокаина, но ничего хорошего из этого не вышло. Я по-настоящему разочаровался в медицине, которая и по сей день остается какой-то средневековой. Иногда я сожалею, что судьба помешала мне стать врачом. С моими аналитическими и творческими способностями я смог бы, наверное, добиться куда больших результатов в медицине, чем в инженерном деле. Прежде всего я хотел помочь роду людскому, принести пользу, вытянуть человечество из болота невежества, приблизить его к небесам. Я так и не сумел преодолеть заблуждения своего времени, я верил, что общественные условия – главная причина всех бед. Я думал, что технологическая Утопия избавит человечество от страданий. Теперь я полагаю, что большинство людей страдает от значительного химического дисбаланса. Нам нужно отыскать идеальное сочетание веществ, питающих мозг. Увы, даже меня самого нельзя назвать нормальным и здравомыслящим. Вероятно, все дело в еде.
Мы много знаем о калориях и витаминах, но как быть с микроэлементами, с мельчайшими частицами, которые мы глотаем? Крошечные кусочки металла, никогда не оказывающие физического воздействия, могут проникать в мозг, реагировать на магнитные поля, взаимодействовать со случайными электрическими импульсами. Эти металлические атомы, возможно, влияют на нашу повседневную жизнь куда сильнее, чем сама водородная бомба. Мы желаем жить в дружбе со всем миром, а через мгновение уже хотим взорвать его. Вот почему, например, лица людей так сильно меняются во время грозы. Очень жаль, что никто не обеспечил меня средствами для обстоятельного изучения этого вопроса. А ведь я очень старался. Несколько лет назад я обратился в Лондонский университет, перечислил все свои регалии и приложил статью «Эмиссия электронов в атмосфере и их влияние на высшие мозговые функции людей». Я надеялся, что они, по крайней мере, позволят мне поговорить со своими медиками. В итоге пришлось пойти на унижение и заплатить еврею-печатнику, чтобы сделать несколько сотен копий статьи, которые я разослал по больницам в Кенсингтоне и Челси. Я получил пару ответов, но они пришли от сумасшедших, от хиппи, которые утверждали, что электрические колебания – на самом деле послания от летающих тарелок! Отвечать на такое было ниже моего достоинства. Связан ли недуг Эсме с электричеством или с какой-то другой, до сих пор не открытой причиной, мне неведомо. Тогда я мог только ухаживать за ней. Я нанял сиделку, которая готовила суп и убирала постель до самого выздоровления моей девочки. Сережа, не ведая о том, оплатил все расходы.
Несколько дней спустя я получил записку от Коли. Он снова приехал в город и пожелал встретиться и пообедать. Он назначил встречу на час дня в «Лаперуссе». Эсме свернулась калачиком под одеялом. Я оставил ей стакан с водой и записку, в которой сообщил, куда отправляюсь. Облачившись в новый костюм, я пошел на встречу с другом. Не стану утверждать, что шагал легко, – я все еще опасался, что могу повстречать на улице Бродманна. Кроме того, у меня не было особого желания сталкиваться с Сережей. Казалось, мое положение вот-вот переменится – но все могло рухнуть, если один из этих людей узнает правду.
Коля, как обычно, был одет в черное. Он встал, чтобы приветствовать меня, когда я вошел в прохладное уютное помещение, расположенное над рестораном. В двубортном пиджаке он выглядел как успешный банкир – правда, чрезмерно бледный. Он извинился за то, что пришел без жены:
– Думаю, неплохо бы нам поговорить наедине.
Я очень обрадовался такой возможности. Есть особая любовь, которая возникает между мужчинами, любовь, которую знали и описывали греки, любовь, которая не терпит присутствия женщин. Она благородна, это спартанская любовь, очень далекая от омерзительных свиданий в общественных туалетах и нелегальных пабах на Хэмпстед-Хит и Лестер-сквер. Мы с Колей были частями одного существа. Не стану отрицать, что поклонялся ему. И я уверен, что он тоже меня любил. Мы стали единым целым. Коля сказал, что счастлив со своей женой. Она поразительно умна и очень обаятельна, как я, несомненно, заметил. К сожалению, безумно любя его, она хотела за все платить, а эта ситуация не была идеальной для человека, всегда управлявшего собственной судьбой. Однако она проявила немалый интерес к моей «Аэронавигационной компании», и если сумеет убедить своего отца и некоторых его друзей поддержать проект, то Колю, как ему казалось, могли назначить председателем. Не стану ли я возражать? Конечно, я согласился:
– Лучше не придумаешь!
В полумраке гостиничного номера мы откупорили шампанское, чтобы отпраздновать чудесное воссоединение. Я чувствовал запах Колиного тела, пробивавшийся сквозь роскошную одежду. Я невероятно сильно хотел его, но до того момента мои эмоции оставались подавленными. Коля сказал, что тоже скучал по мне. Нет ничего неправильного. Христос говорит, что нет ничего неправильного. Это, прежде всего, духовное состояние. Они обвиняют меня в том, что порождают их извращенные умы. Моя жизнь принадлежит мне. Я не их порождение. Как могут эти двуличные карлики понять мои муки? Они вложили в меня кусок металла. Они водят магнитом по карте, пытаясь заставить меня двигаться туда, куда хочется им. Но я сопротивляюсь. Я презираю их мелочность, их тупую мораль. Она не имеет никакого отношения к истинной морали. Я выше этих судов и судей. Никогда не бывало более чистой любви. Не бывало более чистой радости. Я не могу противостоять этому. И кто станет меня винить? Их металл шевелится и движется внутри меня, но я никогда не поддамся этому зародышу-демону – неважно, что они скажут или сделают. Ich vil geyn mayn aveyres shiteln. Ich vil shitein mayn zind in vasser. Ich vil gayn tashlikh makhen[146]. Что они знают? В чем они обвиняют меня? Я любил его разум даже больше, чем тело, я отдавался нам обоим, как ныне я отдаюсь лишь Богу. Я отрицаю все. Я не сделал ничего дурного. Я сам себе хозяин. Моя кровь чиста. Я не позволю им сделать меня мусульманином. Я силен, я выдержал все удары. Я не бросал вызов их лжи, только противостоял ей своими делами. Я хранил молчание и был верен себе. И пусть они верят во что хотят. Они не смогли удержать меня в своих лагерях. Они знали, что это несправедливо. Они называли меня мерзкими именами, они унижали меня, потому что я, по их словам, извращен и испорчен. Но откуда им знать? Слов не было: слова слишком глупы, а я сгорал от спасительного пламени. Я одержал победу силой своего разума, даром, доставшимся мне от Бога. Коля знал, что это означало. Он никогда не обвинял меня. Он был посланником Христа, ангелом. Он был Меркурием. Он был благородным мыслителем, настоящим русским дворянином – и все-таки оказался такой же жертвой, как я. Они забрали его силу. Нас сбили так, как дождь сбивает зерно. Но взращенное степью зерно нелегко погубить – оно прорастает снова, прежде чем развеется пепел пожара. Коля говорил, что наша встреча определена судьбой. Мы должны были отыскать друг друга. Крылья трепещут, белый металл поет. Все эти города обманули меня, и все же я не могу их ненавидеть.
В течение недели были готовы все необходимые документы для создания новой компании. Собрались культурные люди с безвольными ртами и серьезными глазами, они склонили головы и поставили свои подписи – и я вновь стал профессором Максимом Артуровичем Пятницким, главным проектировщиком и ведущим акционером «Трансатлантической аэронавигационной компании Парижа, Брюсселя и Люцерны». Председатель – князь Николай Федорович Петров, президент – мсье Фердинанд де Грион. Мои рассказы произвели сильное впечатление на отца Анаис. Франция, серьезно заметил он, получит выгоду, воспользовавшись глупостью и злобой большевистского зверя.
Мы с Эсме переехали в чудесную квартиру неподалеку от Люксембургского сада. Теперь мы одевались как хотели, обедали в старинных ресторанах и ходили на танцы в самые лучшие заведения. Моя любимая роза сразу расцвела. Тот доктор был дураком. Ей требовалось нечто противоположное сельскому воздуху. Ее, как и меня, питал город. За его пределами она начинала чахнуть. Однако, заботясь об Эсме, я не водил ее за собой повсюду, а старался, чтобы она отдыхала или развлекалась как-то иначе, когда я посещал клубы, где встречался с наиболее преуспевающими деловыми людьми Франции. Иногда я приносил свои огромные чертежи в небольшой отель в Нейи, где мы с Колей безмятежно обсуждали подробности нашего приключения. Регулярно получая зарплату, я позабыл о прежних проблемах, хотя Бродманн и Цыпляков еще иногда преследовали меня. Теперь у меня появились влиятельные друзья, они стали осмотрительны, те двое, и уже боялись меня беспокоить. Эсме советовала мне чаще гулять в одиночестве, говорила, что от этого мне становится лучше. Она оставалась дома и могла в это время читать или шить. Теперь я покупал кокаин высшего качества. Коля, по его словам, воздерживался от порошка с петербургских времен, но всегда был готов возобновить свой роман с «холодной чистой лунной возлюбленной». Он утверждал, что очень скучал все эти годы, что в моем обществе он словно возрождался. «Дирижабль еще не построен, а я уже чувствую, что лечу!» Коля продолжал писать стихи, но, по его словам, по-прежнему сжигал их раньше, чем успевали высохнуть чернила: «Поэзия слишком откровенна, она выражает чувства, которые не следует проявлять деловым людям». На участке земли на севере Парижа, принадлежавшем отцу Анаис, появился гигантский ангар. Были наняты механики и все необходимые специалисты. И я стал знаменитостью.
В газетах появлялись объявления о нашем предприятии, иллюстрированные журналы печатали причудливые описания огромного воздушного лайнера, который пересечет под парусом Атлантику, – на рисунках изображались приемы в главном салоне, номера для новобрачных и бильярдные залы (наш аппарат будет идеально устойчивым!). У нас с Колей часто брали интервью. Нас называли русскими инженерами, гениями, на самолете спасшимися от ужасов революции. Я собрал огромную коллекцию вырезок, которые вклеивал в особую книгу. Эсме с восторгом разглядывала свое очаровательное маленькое личико на фотографиях, иногда она смотрела на картинки по несколько часов, как будто не могла поверить, что они настоящие. Наши апартаменты располагались на двух этажах, у нас появились горничная и повар. Мы могли приглашать в гости самых разных людей. Романтическая история моей прекрасной сестры произвела фурор в парижском обществе: нас разлучили в Киеве, в детстве, потом ее вывезли в Румынию и, наконец, в Константинополь, откуда я ее спас, на воздушном шаре мы пролетели над Балканами и прибыли в Италию. Рассказы об этом так часто появлялись в журналах, что, мне кажется, Эсме и сама поверила в них. Конечно, наши гости хотели услышать подробности. И что гораздо важнее, мы приобретали подтверждения своего особого положения – когда нам понадобились паспорта, у нас уже не возникло никаких проблем. Моя девочка очень быстро получила временное удостоверение на имя Эсме Пятницкой, родившейся в Киеве в 1907 году. Люди замечали, как мы похожи и как мы заботимся друг о друге. Только Коля знал всю правду. Мы хранили общую тайну и от этого получали еще большее удовольствие друг от друга. В прессе не появлялось никаких намеков на наши отношения. Мне кажется, следует соблюдать тайну частной жизни. Пусть пишут, что хотят. Легенды защищают, а не вредят.
Огромный ангар для дирижаблей, очень быстро построенный в Сен-Дени, часто фотографировали, но репортерам никогда не разрешали входить внутрь. Промышленный шпионаж придумали не сегодня. Сооружение алюминиевого корпуса началось под моим личным наблюдением. Параллельно я обсуждал с инженерами, какой тип двигателей подойдет нам лучше всего. Мы решили использовать дизели, но были не уверены, стоило ли производить собственные или нужно заказывать где-то на стороне. Ни один завод не выпускал таких машин, которые нам требовались. Все этапы плана казались одинаково важными. Как только алюминиевые детали привезли с литейного завода, их взвесили с точностью до грамма. Вес корабля следовало уменьшить до предела. Мы обратились к крупнейшим производителям гелия и запросили их расценки. Мсье де Грион поначалу надеялся, что мы можем получить дополнительные средства от французского правительства, но в конце концов пришлось вывести акции на рынок. Наши затраты, конечно, были астрономическими, но мы знали, что доходы, вероятно, будут еще больше. Однако финансовые вопросы меня теперь почти не интересовали. Когда я стоял посреди тысячефутового ангара и следил, как лучи света из широких стеклянных окон на крыше падали на медленно строящийся каркас моего великолепного корабля, – я чувствовал, что столкнулся с силой, одновременно таинственной и пугающей. Уверен, именно такие чувства испытывали строители средневековых соборов. Моя самая драгоценная мечта вот-вот должна была воплотиться в жизнь. Сделан первый шаг к воздушному судну размером с небольшой город, в ближайшие два десятилетия я, несомненно, достигну поставленной цели. Вскоре появятся целые флоты таких громадин, они будут перевозить по небу грузы и пассажиров так же небрежно, как паромы перевозят людей через проливы. Кто-то другой, добившись такого успеха, мог бы (и это вполне понятно!) испытать эгоистическое ощущение власти и могущества. Я, однако, чувствовал только непостижимое смирение.
Работа продвигалась так быстро, что мне приходилось уделять все больше времени Сен-Дени и все меньше – Эсме. Я брал ее с собой, когда удавалось, но не мог оказывать ей внимание, которое ей было необходимо. Я просил ее сближаться с женами наших деловых партнеров, ходить в кинематограф. Но иногда она чувствовала себя несчастной. Лишь изредка она жаловалась и говорила о своих страхах:
– Я боюсь, что ты больше не любишь меня.
– Конечно, это ерунда. Ты для меня – все. Я делаю это, потому что люблю тебя.
Она говорила, что мой дирижабль – просто оправдание для того, чтобы ее бросить так же, как я бросил баронессу. Я это решительно отрицал (включая предположение, будто я бросил свою ревнивую и коварную любовницу!). Она, Эсме, была моей сестрой, моей дочерью, моей невестой. Сейчас она должна доверять мне больше, чем прежде. Неужели она не может представить, какой нам окажут прием, когда корабль прибудет в Нью-Йорк? Она уже наслаждалась плодами популярности. Вскоре она сделается мировой знаменитостью и получит огромное богатство. Но это не всегда успокаивало Эсме.
– Ничего не будет, – говорила она. Ей не хватало фантазии, чтобы представить мой дирижабль в завершенном виде. – Это тянется слишком долго, – жаловалась она. – Должен быть какой-то более быстрый способ.
Я смеялся над ее naïveté[147]. Мы работали с почти невероятной скоростью. Стоимость материалов росла практически каждый день, таким образом, в наших интересах было закончить строительство как можно скорее. Во-вторых, до нас доходили слухи и о британских и немецких планах по созданию больших коммерческих авиалайнеров. Немцам официально запретили строить цеппелины по договору с союзниками, так что я отмахнулся от этих рассказов. Построенные ими корабли были реквизированы британцами и американцами и переименованы. Шли, однако, разговоры о создателях цеппелинов, которые отправились работать в Америку, и это меня тревожило (я предполагал, что американцы станут нашими самыми опасными конкурентами). Фирма самого Цеппелина производила в Германии алюминиевые горшки и кастрюли. Прошли годы, прежде чем они получили разрешение на строительство воздушных кораблей. (Когда это время наконец настало, они украли почти все разработки, которые я осуществил во Франции, и заявили, что они принадлежат им. Я всегда признавал огромное влияние графа Цеппелина на развитие дирижаблестроения. Его преемник Эккенер, однако, не предложил никаких оригинальных идей. Вся репутация этого лакея – непосредственный результат его прежних связей с графом Цеппелином. Но не стоит напоминать о его позоре и о махинациях его еврейских хозяев.)
В Рождество 1920 года я решил, что мой час наконец пробил. Прошло немногим более года с тех пор, как я сбежал от большевиков, убежденный, что все пропало, – и теперь я пил лучшее шампанское вместе со своим лучшим другом Колей и своей возродившейся сестрой Эсме, глядя, как монтажники в защитных очках, синих комбинезонах и огромных рукавицах, сидя наверху в люльках, забивают раскаленные красные стержни, соединяя основные части моего первого лайнера. Изамбард Кингдом Брюнель[148], наблюдавший, как обретает форму «Грейт Истерн», должно быть, испытывал такую же радость, как и я тогда: тепло в животе, яркий свет в глазах, вера в бессмертие.
– Как ты собираешься ее назвать? – Коля поднес стакан к наполовину построенному носовому отсеку.
У меня была дюжина предложений, но по-настоящему важным казалось только одно. Я положил укутанную в меха руку на маленькие плечи Эсме и нежно посмотрел на нее сверху вниз. Я знал, что на глазах у меня выступили слезы. Но я не стыдился их.
– Я назову ее «La Rose de Kieff»[149].
Глава двенадцатая
Я достиг совершеннолетия в тот день, когда выпал густой белый снег, заваливший ангар с моей «Розой Киева», и тогда же наконец получил письмо от миссис Корнелиус. Она снова поселилась в своем старом доме на Сидни-стрит в Уайтчепеле. Я и представить не мог, как же это хорошо – вернуться на родину. Она продолжала делать все возможное, чтобы помочь мне перебраться в Англию. Что еще важнее – майор Най обещал заняться моим делом. Он теперь получил постоянное место в Военном министерстве. Миссис Корнелиус была уверена, что они смогут вызвать меня в Англию самое позднее к весне. Тем временем добрый старый Лондон жил весело, и она была очень рада вернуться домой. Она посетила множество представлений. Она снова выступала на сцене, пока только в хоре, но ей предоставлялась возможность получить большую роль, если она правильно разыграет все карты. Я обрадовался, что она смогла продолжить карьеру. Я не собирался срочно отправляться в Лондон, но не видел никаких оснований мешать ее хлопотам. Я послал ей одну из своих вырезок в доказательство того, что и сам добился успеха. «Скоро, – написал я, – я смогу предложить вам работу – развлекать пассажиров на борту моего первого воздушного лайнера».
Черный ангар, огромный квадрат, возносившийся над чистым снегом, в тот день пустовал – у рабочих был выходной. Я поехал в своем новом 3 1\2-литровом «хотчкисс турере» в Сен-Дени прежде всего для того, чтобы показать машину Эсме. Она решила, что это самый красивый автомобиль на свете. Я заподозрил, что наибольшее впечатление на нее произвело то, как синий корпус автомобиля сочетался с цветом ее глаз.
Она завернулась в белую горностаевую шубку и стала почти невидимой – только пар от дыхания белым дымком поднимался в воздух. На мне, как обычно, была медвежья шуба, в карманах по-прежнему лежали казачьи пистолеты, которые я считал счастливыми. Все Рождество и новогодние праздники мы провели в бесконечных походах по вечеринкам. Мы встретили всех светских персонажей Парижа, включая странную негритянку Джанет Бейкер[150], мужеподобное высокомерие которой казалось мне порочным. Я был удивлен, что она оставалась звездой оперы, хотя, наверное, этот вид искусства, в котором ценятся крайности и преувеличения, всегда готов принять новое и непривычное. Мы подружились с мсье Делимье, одним из лучших французских министров, частным акционером компании и сторонником проекта коммерческих воздушных перевозок при участии правительства. Его заинтересовало мое происхождение. Он сказал, что у него много хороших друзей в русской среде. На той же вечеринке я встретил псевдоинтеллектуала, коммуниста и еврея Леона Блюма[151], который привел Францию к гибели в 1930‑х годах. В те дни было невозможно избежать встречи с евреями в любой сфере, будь то бизнес, искусство или политика. Они растили козлов отпущения и простофиль, на которых можно свалить вину, если дела пойдут не так, как надо.
Поездка по снегу в Сен-Дени в мой день рождения остается одним из моих самых светлых воспоминаний. Тогда все шло прекрасно. У меня были признание, известность, работа и друзья. Немногие молодые люди в двадцать один год могли похвастаться такими достижениями. Прямые голые деревья, как салютующие солдаты, выстроились по обе стороны от дороги, стаи черных птиц выкрикивали свои приветствия, несколько снежинок упали с веток и теперь таяли на дрожащем капоте моего автомобиля, Эсме прижималась ко мне, когда водитель нажимал на газ. Из домов выбегали дети, они махали руками и кричали от восторга, церковные колокола пели, и даже овцы поднимали головы, чтобы проблеять нам «ура!». Я приподнял свою внушительную шляпу, приветствуя семейство, ехавшее в тележке, которую тащили две лошади серой масти. Я потянулся и нажал на клаксон, когда крестьянин с семейством пробирался по дороге от одного поля к другому. Я кричал от радости, видя в стальном небе летящих гусей, которые поднялись над большим ангаром и двигались все выше и выше, пока не скрылись с глаз: «Знамение!» Я приказал водителю остановить автомобиль и заставил Эсме выйти. Сторож, стоявший у ворот, узнал меня. Он пропустил нас, и мы прошли по свежему снегу в ангар. Отворив маленькую дверцу, мы проникли внутрь. Окна в крыше замерзли и приобрели волшебный вид. Лед в холодном прозрачном воздухе сверкал так, что опоры и леса мерцали, как серебро.
– Это сказочная страна! – Эсме стояла в лучах света. На ее меха падал иней, похожий на маленькие звездочки.
– Это сказка наяву. – Морозный воздух меня бодрил. Когда я говорил, снег приглушал эхо. – Подожди, мы еще взлетим выше облаков, ты и я, потягивая коктейли и слушая оркестр. Мы полетим в Америку.
– Ты должен пригласить Дугласа Фэрбенкса – пусть он полетит первым! – Она стояла прямо под массивным корпусом дирижабля. – Он так любит приключения!
Я сказал, что напишу ему в тот же вечер.
По пути домой Эсме пожаловалась, что снег ее ослепил. У нее ужасно разболелась голова. Днем девушка легла в кровать и не смогла вечером пойти к де Гриону. Она настояла, чтобы я не отказывался от приглашения и пошел один. Я ушел, Эсме осталась одна. Она лежала, приложив к голове лед, – крошечная, нежная фигурка в постели, среди кружев и белого белья. Я чувствовал, что подвел ее. Возможно, переход от трущоб Галаты к парижскому высшему свету оказался слишком внезапным? Она часто тушевалась в обществе более искушенных людей старшего возраста, которые, конечно, предполагали, что она принадлежит к их классу. Она затруднялась в выборе слов, хотя все ценили ее скромное очарование. Считая Эсме моей сестрой, за ней ухаживали красивые молодые люди. Я не осуждал их. Меня это нисколько не огорчало. Я никогда не сомневался в искренней привязанности Эсме. Я уже говорил, что с удовольствием разрешал ей принимать приглашения на прогулку в парке или даже на обед, хотя и предупреждал, что намерения молодых людей не всегда будут благородными. Ей следовало принимать меры против тех, кто приглашал ее в мюзик-холлы или на частные ужины. Она доверчиво, не возражая, приняла мой совет. Она сказала, что я знаю о мире гораздо больше, чем она. В таких вопросах я был ее наставником, истинным старшим братом. Иногда казалось, что она принимала наш обман за чистую правду. Часто она и наедине называла меня братом. Когда мы занимались любовью (а это по целому ряду причин случалось довольно редко), Эсме говорила, что совокупление приобретало восхитительный оттенок греха, кровосмешения. Она оставалась моей свежей, прекрасной, чистой розой, лишенной недостатков, – как будто девственная невеста, перед которой открывался весь мир. Сам я наконец повзрослел и знал, что ей еще долго предстояло расти. Не стоило спешить. Ее девичество прекрасно – пока оно есть. Мою юность забрали война и революция. Я завидовал людям, которые могли наслаждаться юношеской свободой. Если бы у меня были дети, я обеспечил бы им абсолютную безопасность, долгое и хорошо спланированное обучение. Раннее столкновение с миром ни к чему хорошему не приводит. Я чувствовал, что за спиной у меня уже целая прожитая жизнь, но я не пожелал бы такого никому.
К счастью, я смог уйти с вечеринки Гриона пораньше, вместе с Колей. Мы сказали, что должны обсудить некоторые технические проблемы. В Нейи, когда мы приняли немного свежего кокаина, Коля справился об Эсме. Если приступы будут продолжаться, то мне, по его мнению, следовало пригласить специалиста, которого он рекомендовал.
– Но, возможно, она просто страдает от malaise du papillon. – Я не понял, что он имел в виду, когда говорил о «болезни бабочки»[152]. Он не захотел уточнять и добавил: – Димка, ты должен быть готов к тому, что она вскоре пойдет своей дорогой.
Это проявление Колиной ревности показалось мне неожиданным.
– У нее есть все, чего она хочет! Свобода, какой только она пожелает. Она получит все что угодно. Ты это знаешь, Коля. Она – ребенок. Я обязан защищать ее. Возможно, когда ей тоже исполнится двадцать один, я женюсь на ней. Это все, чего я жду.
Похоже, мои слова произвели впечатление на Колю. Он согласился, что брак предоставлял определенные удобства. Он всегда с нежностью говорил о жене. Он любил ее так же сильно, как я – Эсме. Но мы слишком распереживались. Он встал и оделся.
– Идем, мой милый Димка. Теперь мы отправимся на настоящую вечеринку.
Мы поехали в моем «хотчкиссе» в ночной клуб на рю Буасси д’Англа, хотя уже было два часа утра. Здесь Коля чувствовал себя непринужденно. Нас окружали живописцы и поэты. Яркие зеленые, красные и фиолетовые фрески были выполнены в новейшем кубистском стиле. Музыка казалась лихорадочной, высокой, нервной и прерывистой, как в новых русских балетах. Я с тревогой ожидал появления Сережи – здесь было полно русских из Колиного прошлого, изгнанных призраков, отдавших свои антисоциальные таланты всеобщему хаосу. Мужчины открыто танцевали с другими мужчинами. Многие женщины носили фраки и обнимали своими похотливыми руками податливых молодых девушек. Танцуя, все целовались, обнимались, гладили и ласкали друг друга. Коля смело заказал у официанта «Ш и К», и нам тут же принесли «коктейль» – бутылку шампанского и небольшой пузырек с кокаином. Нас почти немедленно окружили знакомые, которые возникали у нашего стола из полутьмы. Некоторых я знал очень хорошо, еще со времен «Алого танго» и «Привала комедиантов». Они как будто перенеслись прямо из петербургского клуба в его парижскую версию, даже не сменив свою эксцентричную одежду. В прежние времена они казались достаточно безвредными, но среди них скрывались политики и гангстеры. Я предположил, что в Париже положение не изменилось. И конечно, некоторые люди, выглядевшие простыми клоунами, вскоре попытались задушить былую защитницу, мадемуазель Свободу.
Из этого небезопасного логова мы перебрались на частную вечеринку, где Мистангет[153] и половина артистов из «Казино де Пари» устраивали импровизированное представление. Я как раз слушал смешную песню о полете на аэроплане – и тут кто-то коснулся моей руки. Хорошо одетый человек, темноглазый и смуглый, улыбнулся мне, как будто узнал старого знакомого. К моему удивлению (он казался французом), мужчина заговорил со мной по-русски. Он был из Одессы, но я никак не мог его вспомнить.
– Ставицкий, – представился он, пожимая мне руку. – У нас был небольшой бизнес несколько лет назад. Вы тогда были еще мальчиком. Вы не изменились.
Я тотчас вспомнил нашу единственную встречу. Этот человек с помощью моего кузена Шуры покупал кокаин у голландского дантиста, в приемной которого я и познакомился с миссис Корнелиус. Ставицкий был одет очень вычурно, как одесский денди, хотя теперь жил в Париже, а не в Одессе.
– Вы, похоже, преуспеваете. – Я был рад его увидеть.
Он усмехнулся:
– Не стану жаловаться. Да и вы тоже кое-чего добились. Этот дирижабль, ваша афера, – удачная идея, а?
Мне не понравилось, что он назвал мой проект аферой, но я привык к снисходительному жаргону парижан и поэтому не очень обиделся. Мы вместе пили водку и гренадин, как в старые добрые времена. Ставицкий сказал, что надеется повидаться со мной снова. Если у меня появятся другие патенты, следует ему сообщить. Когда Ставицкий уже возвращался к своему столику, я спросил, нет ли каких-нибудь известий о Шуре.
– Я могу точно вам сказать, где он. Ведет небольшую операцию в Ницце. Я видел его неделю назад. Передать ему что-то?
– Только то, что я в Париже. Он может найти меня через мастерскую по созданию дирижаблей в Сен-Дени.
– Я ему скажу. – Ставицкий подмигнул. – Вам не стоит платить за это такие деньги. – Он указал на остатки нашего кокаина. – Приходите в следующий раз ко мне. Для друзей у меня особые цены.
Он взмахнул рукой и исчез в волнующемся людском море, окружавшем нас. Он был добрым человеком, в следующие несколько лет добился заслуженной известности, но – увы – его использовали ленивые политиканы, которые, сами будучи евреями, выставили евреем и его. Ставицкого убили в маленькой хижине в швейцарских горах[154]. До некоторой степени, полагаю, мне следовало радоваться тому, как потом пошли мои дела, хотя тогда я никакой радости не испытывал. Если бы я задержался в Париже подольше, то и сам мог бы разделить судьбу Ставицкого.
Поначалу ничто не предвещало беды. Но 30 января случилась забастовка в ангаре для дирижаблей. Все инженеры и монтеры потребовали более высокой заработной платы. Это было ударом хотя бы потому, что я считал наши отношения с рабочими просто превосходными. Мы стояли плечом к плечу, стремясь к общему идеалу. Во всем был повинен, несомненно, какой-то агитатор-социалист. Состоялось экстренное совещание совета. Мсье де Грион сказал, что мы, несомненно, должны отклонить все требования. Эти саботажники коварно подрывали самые основы французского общества. Речь шла не просто о наших непосредственных интересах, но об интересах всех приличных людей. Понимая его принципы, я был тем не менее обеспокоен смыслом его слов. Наш график оказался под угрозой. Мы обещали закончить проект через год. В нашем проспекте говорилось о первом путешествии в ноябре 1921 года и о регулярных рейсах с января 1922‑го. Остановить работу теперь было бы просто безумием. Мы не могли позволить себе нарушить ритм нашей работы. Мы не просто потеряли бы неделю или две: следовало поддерживать взаимодействие проектировщиков и инженеров на всех уровнях. Де Грион сочувствовал мне, но его аргументы были сильнее. Только мы с Колей проголосовали против резолюции, которая запрещала вести переговоры с рабочими.
С этого момента я стал удивленным свидетелем безумной, не поддающейся описанию лавины событий. В течение месяца половина наших людей перешла в другие конторы. Мы не могли продолжать работу, не имея полной команды, наем и обучение нового персонала заняли бы очень много времени. Мсье де Грион оставался непреклонным. Я сказал, что его упрямство угрожает нам гибелью. Я видел, что мои мечты снова рухнули, в тот самый момент, когда я уже поверил в их осуществление. Постепенно в сомнительных газетах стали появляться разные истории. «Трансатлантическая аэронавигационная компания» попала в сложное положение и пыталась добиться финансирования от правительства. Акционеры начали продавать свои акции. К апрелю некоторые даже заговорили о предъявлении исков. По крайней мере, в одном скандальном листке нас с Колей назвали парочкой русских шарлатанов, обманувших французскую общественность своими мошенническими прожектами. У моей двери ночью и днем дежурили репортеры, которые пытались выяснить, была ли доля правды в этих слухах. Неужели компания на краю банкротства? Я приходил в бешенство. Я не мог ничего ответить. Я объяснял, что всегда был только ученым, а не финансистом. План представлялся исключительно убедительным, потому что мое судно – самое современное в своем роде. Я предъявлю миру свои достижения, если смогу закончить строительство. Я обвинял забастовщиков в близорукости. Это, конечно, стаю красной тряпкой для большевистской прессы. В заголовках красных газет появились обвинения, адресованные половине выдающихся бизнесменов Франции (а также «белогвардейским агентам»), – нас обвиняли в преднамеренном мошенничестве. Акции «Аэронавигационной компании» очень быстро упали в цене. Мсье де Грион с грустью сказал мне, что ему придется выйти из совета. Только Коля поддерживал меня, пытаясь убедить людей остаться, поскольку без них компания, несомненно, рухнет.
– Зачем закрывать золотой рудник, когда нужно лишь продолжать копать?
Но они не слушали. Они вызывали у меня отвращение.
Эсме, похоже, совсем не поняла, что я имел в виду, когда речь зашла об этом предательстве и наших трудностях. Зачем нам снова нужно переезжать, отказываться от автомобиля, увольнять слуг? Я попросил ее относиться к нашим финансовым делам серьезнее. Ранее, чтобы найти Эсме какое-то занятие, я попросил ее озаботиться покупкой еды и одежды. Она плакала и говорила, что ничего не понимает. Это я должен был решать, что делать. Я вышел из себя. Ей надо взять себя в руки. У нас чрезвычайная ситуация! Я излил свой гнев на этого ребенка. Я выскочил из дома и в течение получаса прохаживался взад-вперед по улице, пытаясь успокоиться. Но когда я вернулся, ее не было. Слуги сказали, что она уехала на автомобиле, – вот и все. Я всерьез обеспокоился.
Мы с Колей вместе поужинали. Он счел новости печальными, но с виду воспринял все несколько лучше, чем я. Он показал мне пакет, который доставили в офис в тот день. Коля вложил его в мою руку.
– Что это?
– Спасение, – сказал он. – Если нам оно нужно. К счастью, я ожидал, что это понадобится, если мы полетим на «Розе».
Вскрыв конверт, я обнаружил совершенно новый французский паспорт на свое имя с визой на въезд в Соединенные Штаты.
– Все практически чисто, – заверил Коля. – Помог мсье Делимье. Ты не помнишь, как заполнял анкету перед самым Рождеством?
Я подписывал так много разных бумаг… Вообще, я серьезно относился к тем документам, на которых ставил подпись, потому что не знал, в какой степени несу ответственность за дела фирмы. Но я не смог ничего припомнить.
– Ну, мы все были очень заняты тогда… – сказал Коля.
– А есть ли паспорт для Эсме?
– Она несовершеннолетняя. В отличие от тебя, у нее поначалу не было никаких бумаг, которые могли бы подтвердить национальность или, в конце концов, личность. Но ее паспорт скоро прибудет, я уверен.
Новые документы, уложенные в нагрудный карман, казалось, теперь защищали мое сердце.
– Но как же мы сохраним компанию, Коля? Все директора ушли в отставку. Теперь ни у кого нет акций, в том числе и у твоего тестя. Мы – единственные акционеры.
– О, это правда. – Коля двумя бледными пальцами отодвинул тарелку и глотнул кларета. – Неглупо сделано, а? Интересно, а они вообще думали, что дело с кораблем зайдет так далеко?
Я ничего не мог понять и просто кивнул. Он улыбнулся мне дружески, но слегка насмешливо, и вздохнул:
– Димка, я полагаю, нас с тобой подставили, устроив мошенничество с акциями. Иначе почему нас никто не предупредил? Нам никто не посоветовал продать акции. Нам никто не предложил уйти в отставку.
– Но вся катастрофа произошла из-за забастовки, – заметил я.
Коля погладил меня по руке:
– Забастовку, мой дорогой, легко организовать. А организовав, устроить все в пользу управляющих, а не рабочих.
Все еще пребывая в недоумении, я пожал плечами и покачал головой:
– Неужели забастовщиков подкупили?
– Дьявол не всегда ходит с красным флагом, Димка. Иногда он посылает доверенных лиц. Агитаторов можно купить, особенно если они профессионалы. Когда ситуация накаляется, рабочие твердо стоят на своем. Капитал стоит на своем, и кто-то наживает состояние на дирижабле, который никогда не полетит.
– Но кто? У меня неоплаченные счета. Нет доходов. Арендная плата. Разные долги. Слуги. У меня практически нет наличных.
– И здесь то же самое, малыш.
– Но мсье де Грион кажется достаточно обеспеченным, верно? И его друзья. Конечно, он тебя не подведет. Он побоится скандала. Ведь его дочь может пострадать.
– Совершенно уверен: его вполне устроит, если банкротство компании мне серьезно навредит. Моя жена потом получит подарок. У меня больше не останется собственного капитала. И все снова будут довольны. Для него – просто идеальная ситуация. Возможно, он все это детально распланировал. Однако я склоняюсь к мысли, что решение нашлось случайно. Он надеялся получить крупные правительственные гранты, другие контракты. А так он может просто списать все потери.
– И пострадают только обычные акционеры.
Он пристально посмотрел мне прямо в глаза, как будто пытаясь передать телепатическое сообщение:
– И ты, дорогой Димка. Есть еще огромные счета компании. Заработная плата, не выплаченная служащим и инженерам. Проекты, сырье, аренда. Все вместе, вероятно, не меньше миллиона.
У меня закружилась голова. Я на миг лишился дара речи. Разумеется, заметил я, личной ответственности за все долги я не несу! Коля сжал мою руку:
– Но скандал, связанный с банкротством, прежде всего коснется тебя. Желтая пресса уже обвиняет иностранцев. И они найдут прекрасную жертву – тебя. Иностранный жулик? Возможно, большевистский агент. У антисемитов тоже будет настоящий праздник.
– Я не еврей! И не коммунист!
– Как ты это докажешь?
Слова Коли звучали очень убедительно. Он пытался объяснить мне реальное положение дел. Я понял: если люди, которые пожелают выставить меня лжецом и вором, займутся изучением моего прошлого и доберутся до одесских историй, то у недоброжелателей появятся убедительные для многих доказательства. И тем не менее я решил бороться с подобными инсинуациями. В конечном счете, это было в моих интересах.
– Я знаком с адвокатами. Я докажу свою невиновность, Коля!
Князь Петров не выразил ни малейшего восторга:
Тебе для этого понадобятся деньги. Я помогу, но я теперь ограничен в средствах. Кто-то сможет ссудить тебе крупную сумму?
После этого я пал духом. Несколько месяцев я избегал единственного человека, готового дать мне деньги (пусть он и требовал от меня слишком много). Во всем Париже больше никто не протянет мне руку помощи. Я снова оказался в проигрышном положении. В каком-то смысле оно было еще хуже, чем раньше. ЧК может пронюхать о моей уязвимости. Во мне вновь ожили старые страхи. Я поклялся, что никогда больше не сяду в тюрьму. Большевики однажды уже обвиняли меня в мошенничестве, в Киеве, а теперь самые настоящие мошенники хотели засадить меня в тюрьму, доказав, что я большевик! И все-таки я по-прежнему верил в свой дирижабль. Это был прекрасный проект. Реальный. Он, несомненно, меня спасет!
– Британцы, как и голландцы, инвестируют средства в коммерческие воздушные перевозки. Почему бы не обратиться за поддержкой к ним?
– Это невозможно с политической точки зрения, – очень спокойно ответил Коля. – Нам нужны частные средства. А те, у кого есть деньги, ненавидят скандалы.
– Большая часть каркаса уже построена. У нас есть расчеты по газу, ткани и двигателям. Мы вот-вот определим стоимость гондолы. Все сработает, Коля!
Мой друг расстроился еще сильнее. На глазах у него выступили слезы.
– Димка, я советую тебе оставить надежду на постройку корабля. Спроектируй другой дирижабль. Найди нового покровителя за границей. Воспользуйся этим паспортом при первой возможности!
– Мне придется уехать в Константинополь?
– В Америку, разумеется. Там настоящие деньги. Там действительно заинтересованы в новых идеях. Да, если бы я мог выбирать, то отправился бы в Нью-Йорк.
– Коля, это невозможно. Бумаги Эсме еще не готовы.
– Они могут прийти в любой день. Ты не сумеешь ей помочь, если тебя арестуют.
– У меня нет денег на билет.
– Я смогу найти деньги на билет первого класса.
Коля изо всех сил умолял меня спасаться, и я восхищался им все больше. Но я никак не мог собраться с силами. Жизнь казалась такой легкой и безопасной, перспективы – радужными, и вот в одно мгновение все рухнуло.
– Мне нужно время, – ответил я. – Я не могу покинуть Эсме. Ты знаешь, как много она для меня значит.
– Никто не заставляет тебя ее покидать, Димка. Она последует за тобой почти немедленно. Я позабочусь о ней. Она может жить у нас.
Я знал, что он прав. Мне нужно было уехать раньше, чем выдвинут обвинения. Тогда, по крайней мере, я не окажусь в положении разыскиваемого преступника.
– Слава богу, у меня есть друг, на которого можно положиться. Но что, если тебя тоже попытаются обвинить?
– Ничего не случится. У меня есть семейные связи и титул – это прекрасные гарантии. Я боюсь, что пострадать можешь только ты один, Димка. Не стану божиться, но с виду похоже: они сознательно все устроили так, чтобы ответственность пала на тебя.
Как простые люди могли совершить такое предательство? Я преодолел великое множество опасностей, я часто рисковал и терпел лишения, лишь бы проникнуть в ясный, простой, гармоничный мир, а в итоге меня предали, более тонко, более хладнокровно, чем в России. Франция, мать современного правосудия, собиралась пожертвовать мной, чтобы удовлетворить жадность и амбиции своих великих людей. Идеалист, человек разума беспомощен в поединке с силами пятого измерения, измерения тайной власти. Нечестивые радуются, когда побеждают поэтов и ученых, когда их бросают на алтари Гога и Магога и окровавленными ножами вырезают невинные сердца. Пятое измерение – земля Сиона, пространство, лежащее за пределами географии, темный мир темных мужчин и женщин, которые решили проникнуть в наши страны и захватить их, заменить всех нас двойниками, в которых вселятся духи мертвых карфагенян. Именно так Карфаген добивается успеха – используя деньги и человеческое безумие. Остались в прошлом слоны и бронзовые гонги, блестящие металлические орудия и крики бородатых красногубых солдат. Больше нет рабов, скованных цепями, бредущих под ударами кнутов и склоняющихся под палящим солнцем. Теперь рабы сидят за столами в идеально чистых офисах, они ползают в угольных забоях с современными безопасными лампами, они работают в клубных шоу и не могут понять, что душой и телом принадлежат невидимым существам, владыкам пятого измерения. Сион – это Карфаген, и Карфаген не умрет. Он принимает тысячу обличий, и его жертвы – честные, разумные, невинные и святые. Война продолжается, но нас слишком мало. Я могу расслышать их смех, далекий и беспощадный, дразнящий и жадный, отдающийся эхом из-за барьера, отделяющего одно измерение от другого. Смех Карфагена придает мне сил. Я сопротивляюсь. Они не могут понять. Они избивали меня своими прутьями. Они вынудили меня преклонить колени. И все-таки я продвигаюсь вперед. Im darf men keyn finger in moyl nit araynleygen![155] Армии Турции и Израиля объединяются против меня, но я продолжаю борьбу. У меня мало друзей, но они сильны. Мне очень жаль, что их не было рядом со мной в Париже, в те ужасные часы моего падения. Но настанет время для мести. Мы двинемся вперед, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.
Первого апреля 1921 года город начал зеленеть и расцветать. Ранние утренние зори светлыми пятнами покрывали изящную поверхность Люксембургского сада, и люди, освобождаясь от зимних коконов, ходили по улицам все быстрее и легче. Симпатичные девочки оборачивались и смотрели на мой солидный автомобиль, когда я проезжал мимо, но я почти никого не замечал. Меня тревожили неприятности. Когда начали приходить письма от кредиторов, а люди на улицах возле наших опустевших контор стали меня оскорблять, я решил, что больше не могу ждать. Бродманн и его чекисты вот-вот поймут, что я беззащитен и слаб, а французская полиция арестует меня за мошенничество. С каждым днем дела шли все хуже. Не осталось никаких сомнений, что де Грион и его друзья из высшего общества решили принести меня в жертву, – так они смогли бы заявить, что иностранный авантюрист обманул их. Некоторые газетные статьи в консервативной печати, несомненно, были основаны на сведениях, полученных от де Гриона. Мы с Колей, как и большинство обычных акционеров, оказались единственными по-настоящему пострадавшими, но никак не могли это доказать. Все было на стороне де Гриона – все средства информации, в моем случае. Я читал статьи: там писали, что я большевистский агент, мошенническим способом добывающий золото для Москвы, что я представлял интересы немецких сионистов, что меня разыскивали за преступления в Италии и Турции. Я уже достаточно знал о таких кампаниях и мог предсказать результат. Я был превосходным козлом отпущения, как заметил Коля. Мне следовало позабыть о продолжении борьбы во Франции. Все могло кончиться только тюремным заключением. Мне нужно отправиться за границу и там очистить свое имя. С французским паспортом я без особых затруднений мог добраться до Англии, но я все еще находился бы слишком близко к источнику опасности. Коля, как всегда, дал самый лучший совет. Я проведу некоторое время в Америке, встречусь там с Эсме и Колей, а затем, когда всю эту историю позабудут, поеду в Англию.
В тот день, возвращаясь домой, я решил рассказать Эсме о своем намерении сесть на корабль, идущий из Шербура в Нью-Йорк. Коля будет оберегать ее до тех пор, пока она не последует за мной. У меня не осталось выбора. В Америке я мог быстро вернуть себе честное имя. К тому времени, когда Эсме приедет, я снова добьюсь успеха. Наивность и оптимизм американцев теперь казались привлекательными. Очевидно, у них были деньги на разработку новых проектов. Они еще не поняли, какую выгоду им принесла война. Теперь Америка, впервые в истории, стала основным международным кредитором, все еще не осознавая той огромной власти, которую она приобрела в мире, где почти все страны столкнулись с угрозой банкротства. В Соединенных Штатах прежние газетные вырезки окажутся очень полезными и подтвердят мои претензии. У меня скопилось много статей и интервью, в которых в основном шла речь о моих первых успехах в Киеве и Константинополе.
Я приехал домой и обнаружил, что там никого нет. Неделю назад ушли слуги, но теперь исчезла и Эсме. Когда компания начала разваливаться, Эсме стала часто отлучаться из дому. Сначала ей приходилось появляться в обществе, чтобы в мое отсутствие справляться со скукой, а теперь она использовала выходы в свет, чтобы забыть об ужасах возвращающейся бедности. Я пообещал себе как следует растормошить ее накануне отъезда. Мы должны провести вместе несколько чудесных дней, прежде чем я сяду на «Мавританию», лайнер, который я избрал для путешествия. Это уже был не самый большой в мире корабль, и там нередко оставались свободные места, но все говорили, что этому судну свойственна довоенная элегантность, которой недоставало новомодным лайнерам «Кунард» с их современной отделкой и пастельными красками. Сев за стол, я написал письмо миссис Корнелиус. На мое последнее сообщение, в котором речь шла о достигнутых успехах, ответа не последовало. Теперь я должен был рассказать ей о перемене своего положения. Я не смогу оказаться в Англии в ближайшее время. У меня была виза на шесть месяцев пребывания в Америке, и я мог ее продлить в случае необходимости. Сначала я намеревался задержаться в Нью-Йорке, а потом отправиться в Вашингтон. Там я рассчитывал встретиться с правительственными чиновниками и предъявить им свои патенты. Я пожелал ей удачи на сцене, предположил, что ее таланты могут полнее раскрыться в кино, и попросил передать наилучшие пожелания майору Наю.
Эсме не вернулась домой к восьми. Я оставил ей записку и отправился на встречу с Колей. Он настоял на том, чтобы посетить ночной клуб на рю Буасси д’Англа и попробовать хот-доги: «Так ты узнаешь, какую еду подают в Америке, и не будешь ничему удивляться!» Казалось, мой друг находился в приподнятом настроении, но я считал, что он просто притворяется, желая подбодрить меня. Расставание с ним было почти так же болезненно, как и расставание с Эсме. Он сказал, что, вероятно, приедет через несколько месяцев, как только утихнет скандал. Судя по всему, он сам привезет ко мне Эсме. Только на это я и надеялся. Я боялся снова окунуться в бездну кошмара и с трудом мог думать о самых важных вещах. Я не хотел покидать двух своих лучших друзей и уезжать из Европы. Соединенные Штаты до сих пор казались мне очень далекими. Огромная страна находилась где-то за краем мира. Но это придавало ей привлекательности.
Сидя за небольшим столом под аркой, разукрашенной ярко-желтыми и темно-красными гротескными узорами, мы с Колей смотрели, как балерины танцевали под музыку негритянского оркестра, пародируя классические движения. У моего друга появились новые сведения:
– Остановишься в отеле «Пенсильвания». Все говорят, что там великолепно. Отель настолько современен, что подземная железная дорога ведет прямиком в подвалы, просто для удобства гостей. Я заказал тебе номер через агентство Кука. В паспорте указано, что ты инженер, так что у тебя не возникнет проблем. Инженеры в Америке – национальные герои. В следующий раз ты явишься в Париж на своем собственном пассажирском самолете. Не бойся, Димка, ты докажешь, что все обвинения лживы!
Мы выпили за мой успех, но я все еще боролся со страхом. В России моими действиями управляли великие исторические силы, но во Франции судьбу творил простой финансовый обман. (Все же теневой мир Карфагена, пятое измерение, живет по собственным правилам, он готовится завоевать нас, и его нынешнее оружие – деньги, фондовая биржа. Он находится на Востоке, и в то же время повсюду, ибо это измерение пересекает наш мир в тех плоскостях, которые пока еще не подвластны обычной науке.) Той ночью я попрощался с Колей. Отказавшись на сей раз от номера в Нейи, мы заняли комнату на рю Бонапарт. Это было чудесное прощание, мы плакали. Нам с Колей было суждено быть вместе, так же как и с Эсме. Тонкие черты моего друга в свете фонарей, пробивавшемся с улицы, напоминали призрачный, трагический лик Пьеро девятнадцатого века. Конечно, мы еще встретились до моего отъезда в Шербур, но тот вечер стал подлинным моментом расставания.
Я пришел домой и обнаружил, что Эсме еще не разделась. Ее волосы были взъерошены. В белом с серебром вечернем платье она напоминала безумную рождественскую фею, порхающую по пустым комнатам. Эсме была пьяна. Она сказала, что вернулась и увидела, что меня нет. Уверенная, что я ее бросил, она взяла такси и решила искать меня на улицах. Я показал ей свою нераспечатанную записку, лежавшую там же, где я ее оставил. Она бездумно посмотрела на бумагу, молча качая головой. На мгновение глаза ее стали плоскими, как у марионетки, лишенными выражения и разума. Потом она опустила веки и осела на стул, как будто все ее тело свернулось в комок и ее рассудок втянуло в какую-то потаенную бездну. Я испугался, что вызвал подобную реакцию. Когда я попытался растормошить Эсме, она задрожала, взглянув на меня с испугом и ожиданием. Я отстранился от нее:
– Что случилось?
Она не могла пошевелиться. Губы девушки сжались, потом безвольно приоткрылись. В итоге я подхватил ее, отнес в спальню, уложил в постель и раздел. Она лежала, до подбородка укрытая простыней, ее глаза следили за мной, когда я готовился ко сну. Эсме не отвечала на мои вопросы. Я решил, что переволновался. Причина ее поведения – выпивка и позднее время. Я заснул, решив посвятить ее в свои планы утром.
За завтраком Эсме снова стала собой – она была остроумна, весела, счастлива, как канарейка. Она договорилась пообедать с подругой Агнес на Елисейских Полях. Про Агнес я ничего раньше не слышат. Не пожелает ли Эсме, чтобы я ее сопровождал? Но у Агнес был какой-то секрет, который следовало обсудить в отсутствие мужчин.
– У меня тоже есть важный секрет, Эсме. Тот, который я хотел рассказать вчера вечером.
Эсме склонила голову набок, ее голубые глаза застыли, кусок тоета повис в воздухе на полпути ко рту.
– Ты покупаешь новый автомобиль? Проблемы с дирижаблем?
Небрежная и легкомысленная, она стала истинной парижанкой, которая не относится серьезно ни к чему, кроме только что купленной туши для ресниц. Я не завидовал ее счастью, но был немного раздражен и в итоге не сумел сдержать гнев и невесело рассмеялся:
– Новости дурные, дорогая. Наша компания просто уничтожена. Стервятники уже близко, и я – единственное мясо, которое осталось им на поживу. Все остальные сбежали.
Она неожиданно захихикала – словно птица запела во время похорон.
– Они не смогут навредить тебе, Максим. Ты неуязвим. Ты придумаешь новый план.
Я рассчитывал на сочувствие или, по крайней мере, на понимание. Эта уверенность меня не ободрила, а рассердила.
– План довольно смелый, – сказал я. – Выслушай меня, Эсме.
Она уже встала. Думаю, что она хотела укрыться от правды, сбежать от тревожных вестей. Вот почему она вела себя так странно накануне вечером. Она быстро и нервно направилась к двери, по-прежнему похожая на маленькую девочку.
– Тогда, конечно, нам нужно поговорить, Максим. Я буду дома к вечеру. Давай выпьем чаю около четырех. Встретимся здесь?
– Я хочу поговорить сейчас.
– В четыре. – Она развернулась, подбежала ко мне, обвила руками мою шею, поцеловала в нос и улыбнулась. – Если новости дурные, то четыре часа – самое подходящее время, чтобы их услышать. Если хорошие – мы сможем сегодня вечером отпраздновать.
Я посмотрел на груду писем, которые все еще боялся распечатать. Все они были связаны с крахом компании. Я так и не прочел их. Я вернулся в постель, пролежал там до обеда, пытаясь обдумать сложившуюся ситуацию. Я никак не мог поверить, что стал нищим. Я лежал в своей огромной чистой кровати, разглядывая декоративный потолок, а парижская весна проникала в роскошную комнату вместе с солнечными лучами. Моим единственным имуществом, за исключением счастливых пистолетов, оставался «хотчкисс», который следовало продать, а деньги передать Коле для Эсме. Было бы глупо отдавать деньги ей. Эсме распоряжалась ими, как правило, экстравагантно и могла все истратить за пару дней. Дом был оплачен только на месяц вперед, большая часть мебели распродана. Осталось решить всего несколько вопросов. Я мог положиться на Колю – он позаботится обо всем остальном. Единственное, чего я боялся, – что мои новости могут слишком сильно потрясти Эсме. Я опасался, что она снова впадет в ступор. Я не смогу ее покинуть, если случится припадок. Помня об этом, я попытался отрепетировать предстоящий разговор. Но одна половина моего мозга не могла как следует отвечать на вопросы другой. Я никак не хотел принять неизбежное: мне приходилось расставаться с девушкой, которую я считал частью себя. Но, по крайней мере, я уже привык к разочарованиям и предательствам. Со дня нашей первой встречи она видела только свет и свободу. Как тяжело ей придется теперь, когда она останется беззащитной!
Я съел бутерброд и выпил стакан пива в баре за углом, а потом спустился по Сен-Мишель к Сене. Стояла сырая весенняя погода, легкий туман висел в воздухе и над водой. Книжные киоски на пристани по большей части закрылись, но несколько терпеливых стариков сидели, словно взъерошенные псы, и стерегли свои лотки. Звуки, доносившиеся с моста, были такими тихими и приглушенными, что мне показалось, будто время застыло и я остался единственным живым человеком в целом городе. Звуки становились все глуше и слабее. Люди, мимо которых я проходил, казались нереальными, как на кинопленке, хотя мое внимание то и дело привлекали яркие цветные пятна. Я двинулся по мосту к Нотр-Даму, остановился и осмотрел массивные двери собора. Они казались надежной баррикадой, защищавшей храм от разрушительного воздействия внешнего мира. Париж окружал меня всей своей чувственной прелестью, его деревья, на которых только начали распускаться почки, росли на большом расстоянии друг от друга. Париж был наименее сострадательным из городов, в основном занятым собой. Он неохотно награждал за успех и быстро карал за неудачи. Глядя на тогдашний надменный Париж, сложно было представить, на что походил город во время революции или осады, когда по улицам с криками носились буйные толпы. Я думал, что мог понять, как на город обрушились его же обитатели, обезумевшие существа с воспаленными глазами, пытавшиеся сжечь Париж и убедиться, что он смертен. Если их намерения были и впрямь таковы, они потерпели неудачу. Париж остался безразличным. Бедность и тревоги вызывали у него лишь отвращение. Шум оскорблял этот город – и он отворачивался.
К тому времени, когда я повернул назад, начался сильный дождь. У небольшой круглой церкви Сен-Жюльен-ле-Повр я услышал почти механический стук капель воды и почувствовал запах сырости, доносившийся с церковного кладбища. Завеса дождя медленно надвигалась на меня. Я укрывался в проулках и дверных проемах. Я не мог допустить, чтобы меня обнаружил Бродманн или Цыпляков. Но Париж знал, где я, он намеревался выбросить меня, как будто я – чужеродное тело. Я мечтал о теплом хаосе Рима, даже о грязи и нищете Константинополя. Я не мог вообразить, на что похож Нью-Йорк. В других городах, в своих башнях из мрамора и гранита, все еще трудились картографы мира. Торговцы оружием и зерном щупали пульс доведенной до отчаяния планеты. Греков отдали на растерзание туркам, русских – полякам, украинцев – русским, а итальянцев – югославам. Достоинство и честность были хитроумно опозорены. Джазовая музыка заглушила все протесты. Может, в Америке, которая во многом несла ответственность за всеобщее смятение, еще хуже, чем здесь? Я сопротивлялся своему страху. Еще оставались русские колонии в Венесуэле, Бразилии, Перу и Аргентине. Если Соединенные Штаты не оправдают моих ожиданий, я могу отправиться на юг. Оттуда было бы легко вернуться в Европу. С этой утешительной мыслью я зашел в маленький кинотеатр «Одеон» и снова посмотрел фрагмент из «Рождения нации». Небо очистилось, и надежда вновь ожила.
Я пришел домой в четыре, но Эсме не возвращалась до шести. Она очень мило извинялась, проклинала автобусы, такси и движение на Южном берегу, непрерывно целовала меня, рассказывала о подарке, который она мне купила. Эсме оставила его в трамвае. Она непременно раздобудет другой в понедельник. Было уже слишком поздно для чая, но, поскольку Эсме находилась в таком чудесном настроении, я решил с ней поговорить:
– Эсме, я собираюсь уехать из Франции.
– Что? – Она перестала рыться в своей сумочке. – В Рим?
– Они посадят меня в тюрьму, если я не уберусь как можно дальше. Так что я поеду в Америку.
Эсме слегка улыбнулась. Она подумала, что я шучу.
– Но я хочу поехать в Америку с тобой.
– Ты присоединишься ко мне, как только у Коли появится для тебя паспорт. Пока возникла заминка, потому что у тебя нет нужных документов. Очень многие эмигранты находятся в такой ситуации, и потому требуется время. Это займет не больше нескольких недель. А потом мы снова будем вместе.
– Где я буду жить? – Она поморщилась, отложив сумочку в сторону. – Комнаты оплачены только на месяц.
– Коля предложил тебе комнату в их парижской квартире. Они с Анаис бывают там редко, и тебе это жилище достанется в полное распоряжение. И слуги. Все, чего ты хочешь. Возможно, Коля и Анаис смогут привезти тебя в Нью-Йорк. Они собираются туда поехать в скором времени.
Эсме побледнела и прикусила нижнюю губу. Она вертела головой, как будто что-то потеряла.
– Тебе не нужно бояться, – мягко произнес я. – Ты скоро встретишься с Дугласом Фэрбенксом.
Она улыбнулась:
– Максим, ты любишь меня?
– Всем сердцем. – Этот вопрос меня слегка обеспокоил. – Ты – моя жена, моя сестра. Моя дочь. Моя роза. – Я шагнул к ней.
– Почему ты меня любишь?
– Увидев тебя впервые, я что-то почувствовал. Как будто узнал. Я всегда искал тебя. И я нашел тебя снова. Я уже говорил тебе это.
– Я тоже тебя люблю, Максим. – Она, казалось, все еще думала о чем-то другом – возможно, никак не могла смириться с новостями, которые я сообщил.
– Я останусь, моя любимая, если тебе так хочется.
Она была отважной, моя маленькая девочка.
– Нет. Это неправильно. Я хочу, чтобы ты поехал. Я скоро присоединюсь к тебе. Ты должен следовать своей судьбе. Теперь она ведет тебя в Америку.
– Ты просто великолепно все восприняла.
Я ожидал рыданий.
– Все к лучшему, – решительно ответила Эсме.
Я протянул руку и коснулся пальцами ее губ. Эсме поцеловала кончики пальцев, глядя на меня со странным, почти трагическим выражением. Потом она вздохнула и опустила голову. Я сжал ее плечо.
– Ты даже не заметишь, что я уйду. Ты будешь знать, что душой я всегда рядом с тобой. Я люблю тебя, Эсме.
– Я всегда чувствую, что ты со мной. – В ее негромком голосе, как ни странно, слышалось смущение. Ее ответ был загадочным и в то же время трогательным.
– Постарайся не скучать по мне, – сказал я.
– Ты ведь не покинешь меня навсегда, правда, Максим?
– Ничего подобного! Когда-нибудь мы поженимся. Когда ты станешь достаточно взрослой с точки зрения закона. – Я улыбнулся. – Возможно, в Америке – там брачный возраст меньше. Так будет даже лучше. Хочешь, поженимся на Диком Западе? А в гостях у нас будут индейские воины? В маленькой деревянной церкви посреди прерий?
– Это будет так чудесно и романтично! – Эсме встала. Внезапно смутившись, она взяла меня за руку. – Пойдем в постель!
Наш вечер прошел прекрасно, любовные ласки были нежными и спокойными. Повторилось то, что пережили мы с Колей. Когда любовники собираются расстаться на время, происходит своего рода освобождение.
О Эсме, моя сестра. Моя вечная спутница. Мой идеал. Я никогда не хотел, чтобы ты стала женщиной. Они взяли тебя и окунули твое лицо в грязь и ужас мира. Ты сказала, что наконец проснулась. Но что дурного в снах? Они никому не вредят. Они не оставляют следов. Зачем говорить о смерти, когда она неизбежна? Что вынуждает этих людей распространять печальные новости, как крысы распространяют чуму? Зачем нам нужно терпеть страх? Меня лишили красоты и надежды. Кнутами и пистолетами они изгнали меня из детства в эту невыносимую, холодную, непроглядную пустыню. Дети бредут по грязи двадцатого века. Они бредут по разрушенному миру, бездомные и лишенные любви. Questo dev’essere un errore. Non mi dimentichi[156]. Men ken platsn![157]
Дождь лил до самого Шербура: волны дождя летели, как дым, над лугами и лесами, французские цветы цвели и листья на деревьях трепетали. В поезде было тепло. Там пахло углем, чесноком и старушечьими духами. Моя отважная маленькая девочка стояла рядом с Колей на платформе, махая носовым платком, оборачиваясь и то и дело улыбаясь моему другу, как будто в ответ на его удачные шутки. Коля явно замерз – он надел тонкую черную шляпу из камвольной ткани, руки засунул в карманы, на его бледном лице ничего не отражалось, он с каким-то напряжением ожидал отхода поезда. Эсме, в красном и белом, порхала, как праздничный флаг. Она, кажется, все еще подпрыгивала, махая мне платком, когда поезд повернул и я потерял ее из виду. В тот момент я не очень беспокоился. Перспектива путешествия, как обычно, отодвинула на задний план все прочие мысли. Я не хотел размышлять о том бедствии, которое лишило меня первого настоящего шанса на успех. Если бы я сосредоточился на подобных мыслях, это кончилось бы в лучшем случае ненужной меланхолией, а в худшем – безумием. Так что я откинулся на сиденье, приподнял шляпу, приветствуя трех старых дев, собиравшихся в гости к сестрам, и благонравного школьника, державшего в руках томик Золя, а затем стал смотреть в окно.
Я видел лишь светлую сторону событий. Я был, в конце концов, Максимом Артуровичем Пятницким, гражданином Франции, деловым человеком, собиравшимся сесть на гигантский пароход. О скандале позабудут. Мои достижения запомнят. Теперь я носил прекрасную одежду, в багаже у меня лежали патенты вместе с грузинскими пистолетами. Не было нужды впустую тратить время на извинения. Я стал свободным человеком. Мне исполнился двадцать один год. Я уже пережил больше, чем большинство людей переживает за много лет. А в Америке мои дипломы и достойный военный опыт произведут еще более внушительное впечатление, чем в Европе. Старые девы, беседуя со мной, явно восторгались моими манерами и внешностью. Когда поезд достиг конечной станции, я помог им сойти на платформу, а потом уже занялся своими делами. Окруженный множеством носильщиков, я прошел от станции к докам. Мой корабль нельзя было не заметить. Это судно затмевало все здания и все прочие корабли, стоявшие в порту. Я никогда не видел такого большого лайнера. Я смотрел вверх, пытаясь разглядеть обстановку на палубах. Маленькие белые лица поворачивались ко мне издалека. «Мавритания» предстала массивной стеной из темного металла, увенчанной белыми с золотом уступами: «монстр девятипалубный», как описал ее Киплинг[158]. Надежно отслужив всю войну, теперь она вновь вернулась в частные руки и тем не менее осталась кораблем, к которому большинство путешественников испытывали сильнейшую привязанность, особенно теперь, когда трусливые подводные лодки потопили ее сестру, «Лузитанию»[159]. Опередив носильщиков, я поднялся по трапу, приготовленному для пассажиров первого класса. У высокой арки (такая могла вести во дворец) меня приветствовал одетый в форму стюард, который осмотрел мой билет, а потом проводил меня на шлюпочную палубу первого класса. В гавани навязчивые гудки буксирного судна грубо и резко разносились в тающем тумане. Медь, дерево, краска и посеребренный металл моего корабля излучали внутреннее сияние, как будто «Мавритания» была живым созданием. Я никогда не испытывал такого ощущения безопасности, как в тот момент, когда входил в свою каюту.
Дав стюарду и швейцарам чаевые и задержавшись, чтобы выглянуть в иллюминатор и осмотреть крыши и шпили Шербура, я улегся на широкую кровать и зажег сигарету. Я не беспокоился о том, сколько времени займет мое путешествие – пусть даже целый год или больше. На мгновение меня неожиданно пронзила острая боль. Я понял, что ни Эсме, ни Коли здесь не будет и они не смогут разделить мой восторг. Но потом я принял немного кокаина и вскоре взял себя в руки. Я решил, что буду мыслить позитивно и наслаждаться каждым мгновением, проведенным на борту плавучего города. В конце концов, у меня до сих пор не сложилось ясного представления о том, что делать по прибытии в Америку. Я вымылся и переоделся.
Два часа спустя суматоха на судне внезапно прекратилась. Не желая отказываться от новых впечатлений, я вышел из каюты как раз в тот момент, когда мы отчаливали от берега. Я присоединился к другим пассажирам, уже стоявшим у поручней на носу корабля. Буксиры медленно вытягивали нас в открытое море. Солнце светило слабо, мутные оранжевые отблески виднелись у горизонта. Море было серо-белым, вокруг летало множество птиц. Взревела корабельная сирена, восторженно прощаясь с берегом. Буксиры, шипя и гудя, отошли от корабля и помчались прочь, рассекая волны и втягивая невидимые лебедки. Нос «Мавритании» опустился, затем изящно поднялся. Мы с восторгом приветствовали брызги морской воды, которые приносил к нам легкий бриз.
Между нами уже возникло ощущение товарищества, как и должно быть всегда на таком судне. Мы уходили в волшебные сумерки. Медленно, один за другим, на корабле зажигались ряды электрических ламп. «Мавритания» была великолепна. Она казалась невероятным, неземным чудом. И этот благородный, аристократический корабль поворачивал на закат, к западу. Я спустился в каюту – хотел перед обедом добавить еще несколько штрихов к своему костюму.
Я внимательно осмотрел отражение в зеркале, повязывая галстук. Увиденное меня вполне удовлетворило – я был бесспорно красив. Фигура оставалась превосходной, высокий лоб свидетельствовал о серьезности и благородном происхождении, выдающийся нос подчеркивал агрессивную, но вполне обоснованную самоуверенность, в темных глазах светилась романтическая чувствительность. Я мог с легкостью войти в круг дворян и интеллектуалов. Выпрямив спину, я послал последний привет Франции. Я с превеликой радостью покидал эту землю надменных воров с мягкими руками и древними именами. Теперь я вдыхал чистый воздух океана. Впервые после отъезда из Одессы я мог не скрывать своего имени и не опасаться ревности, зависти или убийства. Я предположил, что в первый вечер из соображений хорошего тона не стоило облачаться в мундир, но его можно надеть на следующий день.
Через некоторое время я, в накрахмаленном, превосходно сшитом смокинге, спустился по широкой бело-желтой лестнице в кают-компанию. Звуки оркестровых барабанов и скрипок доносились из далекого обеденного салона. Играли вальс. Я едва не заплакал от умиления. Хриплый джаз, яркие цвета кубистов, умные глупости, конструктивистские изыски – всего этого здесь как бы не существовало. Я окунулся в мир благородства и богатства, к вступлению в который готовился всегда, с самых первых лет в Киеве. До сих пор меня всегда лишали такой возможности – либо невежественная толпа, либо хитроумные буржуа-банкиры. Признаюсь, я пребывал в приподнятом настроении. Я испытывал чувство, которое могу описать только как благоговение. Я чувствовал, что приблизился к блаженству.
На плавучем острове «Мавритании» теперь я смогу добраться до своего мира. Я наконец обрел истинное духовное пристанище!
Глава тринадцатая
«Мавритания» была настоящим городом-государством, созданным в соответствии со строгими научными принципами. Она воплощала лучшее будущее. Здесь сделали все для пользы и удобства обитателей. Метрополисы грядущего также обеспечат людям защиту от стихий, роскошь, безопасность и возможность перемещаться, но вдобавок они еще и полетят по воздуху. Город расположится там, где будет удобно его гражданам. Он будет согрет, освещен и обеспечен энергией из центрального источника, который сохранит в идеальном состоянии великодушный главный инженер. Дисциплина станет совершенно добровольной. Граждане будут знать, что нарушение кодекса приведет к изоляции и, возможно, к изгнанию в менее гостеприимный окружающий мир.
«Мавритания» – это красота и свобода, мир, где почитают искусство, разум и деловые успехи, где здоровье, красота и остроумие – это норма, где все действительно равны хотя бы потому, что заслужили право подняться на борт. Поэтому здесь каждый мужчина – лорд, а каждая женщина – леди. Это будущее уже победило природу, но продолжает уважать ее, оно рассталось с ошибками и нелепостями прошлого, но все же сохранило человечность. Новый мир станет полностью самоуправляемым. В центральном совете будут работать специально избранные чиновники, и всем позволят жить и трудиться ради общего блага. Великий патриарх Константинопольский станет главой воссоединенной церкви. Черно-желтые орды Карфагена рассеются через несколько поколений, это произойдет из-за постоянного кровосмешения. Светлокожие спортивные юноши и девушки посмотрят вниз сквозь облака и увидят нежные сады Индии, обширные поля Китая, охотничьи заказники Конго – свое наследие. Человеческая натура не изменится, но определенные искушения и угрозы исчезнут: голос Карфагена умолкнет навсегда, ислам и Сион погибнут, как погибнет все языческое и невежественное. Лишившись поддержки, наш древний враг сгорит в лучах истины. Кришна и Будда станут занятными легендами былых эпох. Евреев, негров и татар будут считать какими-то чудовищами из доисторических легенд. Мир Византии, мир свободных городов-государств отправит своих посланников к новым планетам. Они преодолеют тьму межзвездного пространства, даруя блага человечества иным солнечным системам, заполняя Вселенную любовью к Христу. «Velocita massima!»[160] – таков будет девиз наших мудрых пионеров.
Наши лайнеры не зря носят имена римских провинций, современных городов, областей, иногда целых наций – названия, которые больше не связаны с определенными точками на карте. Свободные от уз пространства, мы преодолеем и ограничения времени. Национальность станет делом личного выбора – так, моряки смогут выбирать корабли, на которых пожелают служить. И выбор огромен: Умбрия, Кампания или Лузитания, Нью-Йорк, Париж, Стокгольм, Рим, Сент-Луис, Глазго, Бремен, Орегон, Миннесота, Калифорния, Бургундия, Ланкашир, Саксония или Нормандия, Великобритания, Соединенные Штаты, Франция или Германия. Заменив прежние, привязанные к точкам на карте государства, они освободят нас от устаревших взглядов, бесполезных экономических теорий, ветхой морали. Так мы обретаем подлинную свободу – свободу передвижения. Мы гуляем по террасным паркам и пышным лесам, как я гулял по галереям и проходам «Мавритании». Мы обедаем в удобных помещениях, под сенью фонтанов, играет нежная музыка, а мы смотрим на мир, остающийся внизу. Огромные подводные туннели соединяют континентальные массивы, по автоматическим железным дорогам перемещаются грузы, за садами ухаживают механические слуги, стада животных обитают в контролируемой окружающей среде. Болезни побеждены. Мы избавляемся от прежних страхов, от голода и безнадежности. Возможно, побеждена сама смерть. В юности я прочитал роман Жюля Верна «Плавающий город», в котором он изобразил мир, очень похожий на «Мавританию». Я, в свою очередь, изобразил преемников «Мавритании». Здесь, среди равных, я чувствовал, что разум мой свободен и может решать самые сложные проблемы.
Меня всегда окружала восторженная аудитория. Очарованные моими видениями, некоторые люди даже просили у меня автографы. На этих образованных, богатых мужчин и женщин нелегко было произвести впечатление. На второй день я ужинал за капитанским столом. Я надел свой казачий мундир с неприметными знаками отличия. С тех пор почти все пассажиры, говорившие по-английски, называли меня полковником Пьятом. Некоторые дружелюбные развязные американцы именовали меня Максом Питерсоном. Русские слова звучали для них слишком странно, но американцы все-таки приняли меня, сочтя одним из своих. Я нисколько не возражал против такого английского варианта имени. Как всегда, я прежде всего старался приспособиться к культуре господствующей нации. Имена никогда не имели для меня особого значения. Важнее всего то, что представляет собой человек, – мудро заметила во время путешествия одна английская дама. Она была виконтессой, связанной родственными узами с благороднейшими семействами Европы.
«Мавритания» стала совершенным воплощением английского стиля: резной дуб и красное дерево, металлические лифты, открытые камины и кожаная обивка. Пассажиры с легкостью представляли, что они переселились в благородное прошлое Англии. Атмосфера безопасности сохранялась даже на палубе в открытом море, когда корабль легко мчался вперед. Нос «Мавритании» поднимался на шестьдесят футов, а потом опускался в бушующие волны, раздвигая огромные массы воды. Лайнер грохотал и гудел, он ревел, наслаждаясь собственной неимоверной силой.
Меня приветствовали в рулевой рубке как человека науки. Капитан Харгривз гордо рассказывал о военном прошлом судна, о рекордной скорости, которую «Мавритания» показала в Атлантике. Он говорил о прискорбной гибели другого подобного лайнера, «Лузитании», – его поразили предательские торпеды у побережья Ирландии, и это стало сигналом для всей Америки – страна взялась за оружие и бросилась на борьбу с кайзером. На меня произвели впечатление огромные паровые турбины. У лайнера было только два основных паровых конденсатора, но они могли вырабатывать миллион фунтов пара в час. Двадцать пять котлов круглые сутки топили крепкие, покрытые потом мужчины, которые, казалось, никогда не уставали.
– Ливерпульские ирландцы, – сказал Харгривз. – Единственные кочегары, которые могут с ними сравниться, это венгры. Конечно, у нас только британские матросы, так как британское судно – по закону часть нашей страны. Именно поэтому «Кунард» никогда не использовал иностранные средства, даже в дурные времена. «Кунард» и Англия – синонимы.
Это был гордый старый морской волк, человек, на которого нелегко произвести впечатление. Мне льстил его интерес к моим описаниям больших скоростных судов. Позже я узнал, что капитан Харгривз вернулся домой из последнего плавания. Он настолько сильно был привязан к судну, что умер в тот момент, когда «Мавритания» бросила якорь в Саутгемптоне.
Моими добрыми друзьями (кажется, именно они и прозвали меня Питерсоном) стали молодые американцы, такие же бывшие военные, как и я. Капитан Джеймс Рембрандт (почти как Ван Дейк) и майор Люциус Мортимер, модно одетые, представительные и красивые, – американские джентльмены до самых кончиков ногтей. Мы познакомились в курительной первого класса. Они приобщили меня к «ромовому джину» и покеру. Я легко выиграл первую партию, и американцы сказали, что я, очевидно, прирожденный игрок, а потом предложили дать им шанс отыграться следующим вечером. Я согласился, хотя потом мне пришлось отменить нашу встречу: я встретил миссис Гелдорф. Дама путешествовала одна, и ей требовался партнер для танцев в бальном зале. У миссис Гелдорф были темные вьющиеся волосы, ей было около сорока. Она поклялась, что я – самый красивый юноша, которого ей приходилось видеть. Она представила меня Тому Кэдвалладеру («Я беру мясо в Миссисипи, но в Аризону я беру шестизарядный»). Он рассказывал мне о своей молодости, о сражениях с апачами и с интересом выслушивал истории о моем казацком прошлом. Он предложил мне познакомиться с Джорджем Стоунхаузом, адвокатом из Атланты, у которого были деловые связи по всему миру. Миссис Гелдорф сказала, что Стоунхауз – один из самых богатых и влиятельных миллионеров на Юге. Аккуратный маленький джентльмен с мягким голосом и глазами, как у терьера, жующий сигары, как старые комнатные туфли, мистер Стоунхауз оказался замечательным, очень веселым попутчиком. Наши взгляды во многом совпадали. Стоунхауз как-то раз сказал при мне Тому Кэдвалладеру, что с такими людьми они могли сделать на Юге гораздо больше. Сам Кэдвалладер был невысоким и толстым, краснолицым (так обычно выглядят пьющие люди), но стоило заглянуть в его маленькие голубые глазки – и первое впечатление развеивалось. Они со Стоунхаузом рассуждали о проблемах, начавшихся после войны. Все переменилось, и появилось очень много новых трудностей. В основном они, похоже, были связаны с агитаторами с востока, которых присылали, чтобы будоражить рабочих.
Почти все, что говорили новые знакомые, казалось мне бессмысленным: «Саквояжники пытались пролезть черным ходом, после того как мы остановили их у передней двери». Только поездка на Юг могла просветить меня.
Миссис Гелдорф была родом из Бостона. Она посмеивалась над своими спутниками. Гражданская война закончилась, но «глупые старые чудики продолжают сражаться с пустотой». Ее, казалось, веселили эти споры. Мужчины называли ее «чертовой янки», и все-таки она им нравилась. Их соперничество, похожее на борьбу украинцев и великороссов, было просто шуткой. Все соблюдали правила вежливости и никогда не переходили на личности – такой тон был принят на борту нашего судна, беседовал ли я с лордом и леди Купер из знаменитого пивного концерна или с сэром Хамфри Тин-Гарбеттом, королевским консулом. Миссис Гелдорф называла здешнее неформальное общество «нашим кланом», в него также вошли сэр Джеймс Мэггс, член парламента от Керри, и его очаровательная жена и дочь, мистер и миссис Уилкинсон, кутюрье с Саут-Одли-стрит, сэр Лоуренс Лейн, актер, игравший в шекспировских пьесах, и его прелестная невеста Глория, тоже актриса, Уильям Браун, продюсер кинофильмов, мистер и миссис Дьюхерст, землевладельцы из Кройдона, миссис Гладстон, вдова знаменитого канцлера, мистер и миссис Стинсон, специалисты по устройству садов из Чикаго, и мистер Фред Т. Хэлперт, который, по его словам, нажил состояние на новой модели винта. Мы с ним вели долгие интересные беседы, но мои идеи казались ему слишком сложными, что он часто и с восхищением признавал. Мистеру Брауну я дал адрес миссис Корнелиус, сообщив, что это одна из лучших актрис на лондонской сцене. Он пообещал, что по возвращении в Лондон немедленно ей напишет и предложит пройти прослушивание, и поблагодарил меня за любезную рекомендацию.
Тем временем, страдая от разлуки с Эсме и недостатка женского общества, я нашел утешение в объятиях миссис Хелен Роу. Эта худая рыжеволосая дама, которая совсем недавно развелась с теннисистом, возвращалась теперь в Нью-Йорк. Она хотела пожить с родителями перед поездкой в Калифорнию, где собиралась, по ее словам, долго отдыхать. Впрочем, она могла поехать и во Флориду. Хелен испытывала ко мне более чем платонический интерес, и мы провели несколько ночей вместе, хотя ее привычка громко сопеть и одновременно орать: «Вставь сильнее, ты, заморский ублюдок!» меня немного смущала. Однако миссис Роу дала мне свой нью-йоркский адрес, и это, вместе с другими полученными приглашениями, означало, что я не останусь в полном одиночестве после прибытия в Америку.
«Мавритания» была великой страной, в которой недоставало только лесов и рек, но когда-нибудь ее тезки восполнят этот пробел. Там имелись магазины и все необходимые гостям заведения – кинотеатры, театры, спортивные залы, лектории и выставки. Работали, конечно, и бары, американцы с особым удовольствием их посещали, так как алкоголь в Штатах находился под запретом. Дни тянулись размеренно, еду подавали точно по графику, все жили в бесконечной и роскошной грезе, и каждое требование пассажиров спешили исполнить воспитанные стюарды, старавшиеся предугадать наши малейшие желания. Корреспонденты плавали на «Мавритании» туда и обратно, почти никогда не сходя на берег, разве только для того, чтобы сдать в редакцию статью: на корабле происходило много замечательных событий. Вдали от берега зачастую раскрывались интересные секреты. Дела граждан «Мавритании» представляли огромный интерес для менее успешных людей, которые никогда не смогли бы себе позволить путешествия на борту огромного лайнера. Эти яркие, живые миры, способные выбирать себе орбиты, воплощение очарования и воспитания – идеальные символы успеха. Общество, которое отказывается от таких символов, утрачивает традиции и способность к развитию. Они обещают будущее, которое может стать общим для всех. В этих мирах, в прекраснейших комбинациях современных технологий, почти все таланты творческих людей достигают наивысшего расцвета. Неудивительно, что значимость страны измеряется количеством больших лайнеров, которые плавают под ее флагами. Именно поэтому мировые правительства оказывают столь значительные почести ведущим судовладельцам. Престиж не так легко заслужить. Престиж – и мера власти страны, и та польза, которую страна извлекает из этой власти. Прошлое и будущее соединяются. Лучший из миров может в конце концов стать нашим. Слабые, тихие, злобные голоса Карфагена не потревожат нас здесь. Мы – граждане свободной страны. Мы поднимаемся к небесам, оставляя землю жестоким, невежественным и развратным. Пусть поубивают друг друга. Усталые руки облаченных в доспехи мужчин станут подниматься и опускаться, и под ударами будут падать все новые и новые люди; черный дым скроет долины, и заполыхают церкви. Не останется зеленых деревьев и чистой воды. Голодные дети будут ползать в грязи, воняющей кровью и мочой, а их умирающие матери станут раздвигать больные ноги для коченеющих солдат, рыдая об утраченной жизни. Мы, однако, избежали апокалипсиса благодаря нашему благородству и дару предвидения. Россия содрогается в смертных муках, Германия стонет в цепях, Англия страдает от незалеченных ран, а Франция наконец-то смотрится в зеркало и видит, что ее косметика осыпается, обнажая отвратительные язвы. Но мы нашли небо и населили его благородной сталью, серебряными крыльями и золотыми куполами. Мы можем только оплакивать оставшихся внизу, пойманных в ловушку ужасного безумия. Мы рыдаем над ними. Больше ничего поделать нельзя. Толпа нанесет удар, если учует слабость (а великодушие будет воспринято как слабость).
Толпа не сможет добраться до корабля. Здесь мы в безопасности. Но нет никакой безопасности в тех летающих цилиндрах, которые до отказа забиты людьми, не способными ходить и обеспечивать себя, пассивно ожидающими зловонных подносов. Неудивительно, что они жалуются, злятся, паникуют. Вот полет, которого заслуживает толпа: если дать им что-то лучшее – они этого не оценят. Но такой полет ничего не дает людям утонченным. Именно поэтому я больше не путешествую. Что там осталось в Атлантике? Единственный большой «Кунард»[161], на котором, как я слышал, даже не переодеваются к обеду? Одно польское корыто, пара жалких советских чудовищ, построенных в Германии, полных крыс и дырявых спасательных шлюпок, гротескных пародий на великолепных предшественников? Голландские грузовики? Какие-то южноамериканские банановозы? Один-единственный регулярный перевозчик? А тем временем небеса, в которых могли бы парить мои великолепные воздушные города, замусорены вонючими стальными трубами, которые куда хуже, чем туристические автобусы. Золотые города исчезают и падают, как осенние листья. Унылая зима покрывает мир нечистым белым снегом, кровь и грязь, поднимаясь вверх, поражает пространство, как рак. Когда снег тает – появляется нечто уродливое и мерзкое. Приземляются серые самолеты, из них выползают ошеломленные, еле волочащие ноги скоты. Самолеты снова принимают такой же груз и как можно скорее перевозят его в другое столь же грязное место. Некоторые из этих существ «путешествуют по делу», некоторые находятся «в отпуске». Что они могут сказать друг другу? И как? Знаки рисовать будут? Red tsu der vant![162] И это все, что осталось? Наши пророки изгнаны. Наши дети стали рабами. Наши города завоеваны, и нас гонят прочь.
О Карфаген, ты одержал победу одним лишь предательством! Ты сокрушил нас своей хитростью и злонравием. Ядом и клеветой. И мы лишились места и имени. Наши лица скрыты, наша одежда порвана. Захватчики взяли наших дочерей в наложницы и унесли наше золото на свои алтари. О Карфаген, ты плюнул на наши святыни, разрушил наши храмы и рассеял по ветру пепел наших книг. Мы плакали о твоей участи, Карфаген, а ты обратил наши слезы против нас. Мы не узнали грека, когда Он заговорил с нами. Мы не послушали Его. Мы изгнаны в бесконечную ночь. И мы больше не можем отыскать грека. В ужасной навозной куче современной России свинья тупо разглядывает огромные портреты своих хозяев. Возможно, грек придет туда и принесет сострадание тем, которые все еще взывают к Нему. Карфаген похитил наше будущее. Наши крылья усохли. Враги вырвали наши глаза, и мы поднимаем окровавленные глазницы к небесам, слыша лишь звуки наших утраченных городов. Постепенно мы забываем о будущем. In shut arein![163] Скоро мы все позабудем. Карфагену никто не будет угрожать. Они не позволят мне летать. Я не приму их yiddishkeit[164]. Они вложили кусок металла мне в живот. Они пытались удержать меня, но доктора ничего не смогли найти. Я искал грека в Спрингфилде, но Он отправился в Лос-Анджелес, и я больше не могу следовать за Ним. Я не стану путешествовать в их грязных цилиндрах. Зачем становиться порохом в пуле, которая направлена мне прямо в сердце? Я видел истинные чудеса, я бродил по сияющим коридорам воздушного города, на многие мили выше облаков, и слушал музыку невидимого оркестра. Вот танцуют люди. Я слышу, как они смеются и беседуют. Они изящны и учтивы, они – обитатели новой «Мавритании», воплощения красоты и разума. Им не нужно искать грека. Он уже пришел к ним. Взлет – как будто набежала огромная волна, и город дрожит, белые башни мерцают под покровом огромного защитного купола. Город летит по воздуху, плывет по облакам, которые катятся к вершинам Гималаев. Потом корабль с невообразимой скоростью поворачивает и плывет к яркому пламени Солнца. Он движется на запад так же, как катер мог бы плыть по воде. Корпус качается и вибрирует, из труб со свистом вырывается пар, и этот звук кажется похоронной песнью, в которой говорится о потерянных мечтах и утраченном будущем, Они забрали мое дитя, meine einiklach[165].
Из четырех черно-красных труб «Мавритании» поднимаются в синее небо столбы дыма. Море спокойно, от горизонта до горизонта, и здесь мы в безопасности, пока не появится свобода и террасы Вавилона, желтые, кремовые и оранжевые, не предстанут перед нами в лучах заходящего солнца. До тех пор я стану бродить по полированным палубам, кивая знакомым, снимая шляпу, вдыхая морской воздух, а в это время мелкие капли воды будут освежать мою кожу, а Хелен Роу – хватать меня за руку и кричать:
– Ты видишь дельфинов? – Мы где-то у берегов Вест-Индии. Хелен уверена, что вчера видела чайку. – Или, по крайней мере, птиц, похожих на них.
Палубы простираются перед нами, мы, негромко беседуя, прогуливаемся вдоль множества арок. Мы – избранное общество. Мы целиком отдаемся благостному и волшебному торжеству, мы склоняемся перед духом практической науки, воплощенном в самом корабле. Тысячи кубических футов металла и механизмов – и их поддерживают и направляют сложнейшие двигатели. Еще сто лет назад ничего подобного и представить было нельзя.
История не меняется, потому что люди всегда предпочитали ложное спасение повторения. В минуты кризиса они ищут знакомое, они возвращаются к известному, и неважно, насколько это уместно в их положении. Неофобия – великая разрушительная болезнь человеческого рода, она распространяется посредством истеричных жестов, тревожных фраз, возбужденных голосов, посредством запаха, наконец.
Наш корабль скользит к красным и золотым куполам и шпилям: впереди – Москва и Кремль. Мы церемонно приветствуем царя, конституционного монарха в этой благородной демократии. В ответ он передает привет нам. Великие державы пребывают в мирном равновесии. Они снова взяли на себя ответственность за мир. Корабль качается, как старый дом на ветру. «Они заб’рут тя, Иван, если так бу’ет ’род’лжаться». Миссис Корнелиус хочет добра. Возможно, она смотрит на вещи иначе, гораздо проще, чем я. Америка должна была взять на себя ответственность. В этом больше нет ничьей вины. Мы видали хорошие времена, говорит она. «’омнишь Лос-Андж’лес, да?» Она хохочет, вспоминая анекдот. Она лучше запоминает мелкие детали. Я все еще могу представить, как огромный белый гидроплан отходит от Лонг-Бич и делает вираж в сторону острова Каталина. Блестящая вода льется с его поплавков. На миг гидроплан скрывается за высокими бледными пальмами. Потом он появляется снова, двигатели ревут, когда гидроплан делает резкий поворот и наконец скрывается из вида. Звук стихает, прибой остается. Я не уверен, что могу вынести такой яркий бесконечный свет. Я никогда не принимал их лекарств. Возможно, мне следовало остаться в седле. Белые безликие головы оборачиваются к Кресту. Христа вспоминают в огне и лунном свете. В Теннесси Христос отмщен в крови и стали.
Миссис Корнелиус говорит, что в конце концов все обычно к лучшему. Это – подтверждение ее терпимости и оптимизма. Лично я больше не в силах держаться, я пал духом. Слишком многие пострадали. Слишком многие потерпели неудачу. Маленькие девочки поют песни в церкви. Христос воскрес! Мы попрали смерть смертью и даровали жизнь сущим во гробах! Я не вижу доказательств. Почти все покинули нас. Теперь вокруг нас только Judenknechte[166], и нам приходится с этим мириться. В четверг днем я закрываю свой магазин. Я прогуливаюсь неподалеку от тихих монастырей в северной части Портобелло-роуд. Здесь торговцы металлическим ломом развешивают свои рекламы, они сообщают, сколько заплатят за свинец, медь, цинк, на сальных досках, стоящих возле дверных проемов, занавешенных старыми пальто и грязными тряпками. В четверг днем создается ощущение мира и покоя, конфликт как будто прекращается. Звук автомобильных двигателей становится приглушенным и отдаленным, как жужжание пчел в летнем саду. В июле и августе можно увидеть на улицах бабочек, которые танцуют над стенами монастырей. Дети бегают туда-сюда по обочинам и тротуарам, с их грязных губ срываются сокровенные слова, их нелепые лица искажаются странными гримасами. Монахини бессмысленно улыбаются. Мусорные пакеты шуршат на ветру. Беспокойные псы, поджимая хвосты, тщательно обнюхивают кучи, надеясь отыскать что-то съестное. Если им это удается, они стремительно мчатся прочь, всегда виноватые, всегда ожидающие нападения. Они рычат и вертятся в переулках и подворотнях. Здания наклоняются и оседают под бременем вырождения и бедности, старухи выискивают гнилые фрукты в сточных канавах, тяжело дыша и медленно сгибаясь. Самодовольные мальчишки, глядя на прохожих, кривят губы. Они держат руки в задних карманах и перекрикиваются друг с другом, как вороны, слетевшиеся на падаль. Маленькие накрашенные девочки устремляют на мужчин похотливые, презрительные взгляды. Облачные горы поднимаются над стенами и крышами, ослепительно белея в солнечном свете, голоса ангелов и Девы Марии сливаются в едином хоре. Чтобы поселиться в городе под прочным золотым куполом, мне потребовалось бы вернуться почти на пятьдесят лет назад. Тогда все это казалось возможным. Сыновья миссис Корнелиус называют меня никчемным старым фашистом, но они говорят это всем. Я – провидец, не больше и не меньше. Они не могли понять, как плохо все было. Они считают этот ужас вполне естественным. Мы надеялись на лучшее. В 1959 году я написал, что почти все наши возможности утрачены. Что осталось от империи? Что осталось от закона? И неужели из-за этого можно утверждать, что я – luftmentsh[167]?
В 1964 году я обратился к Гарольду Уилсону, я умолял его заняться важнейшими проблемами этой страны. Он, должно быть, рассмеялся, выбросил мое письмо и возложил свои руки на руль, повернув наш корабль в сторону миража. Они говорили, что мы зарабатывали легкие деньги. Они говорили, что мы наслаждались новым веком свободы и надежды. Я видел только безвластие и проклятие. Они говорили, что я занудливый старый еврей. Они готовы были сказать что угодно, лишь бы заглушить мои пророчества. Сегодня некоторые из них, конечно, уже поняли, как жестоко обманулись. Ничтожные создания скрываются среди руин, смеясь и издеваясь, они заползают в трещины, прячутся под разбитыми плитами. Это – наследие Карфагена. Неужели социалисты до сих пор не избавились от своей эйфории? Неужели они добились того, на что надеялись мы? Khob’n in bod![168] Эти герои рабочего класса открыли новые методы имущественных спекуляций, они продали всю страну омерзительным красногубым покупателям из Карфагена.
Я не надеюсь прожить еще много лет. Я был слишком откровенен, и все мои предсказания оказались бесполезными. Миссис Корнелиус говорит, что я трачу свои силы впустую. Я совершил ошибку, назвав вам свое настоящее имя. Вчера вечером мы ходили в кино. Мы смотрели «Этих великолепных мужчин на их летательных аппаратах»[169]. Теперь все наши достижения кажутся людям смешными. Рты разеваются, пустые головы запрокидываются. Самолеты – просто подпорки для комических клоунских трюков. Тогда я был истинным luftmensch. Дождь стучит по крыше. Электрический свет мерцает, отражаясь от стропил. За моими машинами нужно следить. Мне нужно их как следует соединить. Вот о чем я молил – об ученике, которому я мог бы передать свои идеи, но мне его не послали. В сороковых и пятидесятых я встречался с разумными людьми. Их было немало в барах и винных клубах Сохо и Челси. Дилан Томас[170] говорил мне, что я истинный гений. Он носил костюм на несколько размеров больше, чем следовало, но прислушивался к моим словам. Таким даром наделены поэты. Я знаю, что теперь он делает звукозаписи. Суперзвезда. Однажды в «Мандрагоре» мы говорили о том, что могли бы вместе написать пьесу. Уши поэта могут слышать глас Божий. Томас пил, потому что слышал слишком много. Но то, что он сейчас творит на радио, – это просто шум. Он просто оглушил себя. Генри Уильямс, дрессировщик выдр и успешный романист, говорил, что мои политические теории – самые значительные из тех, с которыми ему приходилось сталкиваться. Он отрастил бороду и волосы, как Иегова, лицо его было округлым, румяным и здоровым. Его подружки красились под блондинок, потому что он так просил. В шестидесятых, однако, я оказался в Спрингфилде. Это была другая эпоха. И те же самые люди, которые превозносили меня как выдающегося ученого, потом рассуждали о химической нестабильности моего мозга и травили меня ларгактилом и транксеном[171]. С’ trappo rumore[172]. Эти наркотики производят в Швейцарии. Их создали, чтобы подавить индивидуальность. Такова основная задача. Они только этим и занимаются. Они выслали Муссолини. Они выслали бы и меня. Они продают наркотики Карфагену, который наживается на несчастьях всей Европы. Я планировал построить город, занимающий все Альпы, но из этого ничего не вышло. «Мавритания» – мирная страна. Я хотел бы стать ее вечным гражданином. Капитан Рембрандт говорил, что пересекал Атлантику почти двадцать раз. «Но вам не обогнать старую добрую „Мавританию“». Ее рекорд так и не был побит. Рембрандт отыграл свои деньги за карточным столом, но я, по его мнению, слишком часто пасовал. Он пожаловался, что игра из-за этого стала скучной. Я извинился и сказал, что мне нужны наличные. Отказавшись играть со мной в карты, он и его неразлучный спутник Мортимер купили мне выпить и расспросили о моих патентах. Они были мужественными, обаятельными молодыми людьми, очень опрятными и аккуратными – типичные выпускники Гарварда или Йеля, такие гладкие и чистые. Они сказали, что мои идеи, несомненно, принесут немалый доход. Я без всякого труда смогу их продать, как только приеду в Нью-Йорк. Инвесторы выстроятся в очередь. Однако если мне потребуется помощь, то они всегда к моим услугам. Они сообщили мне нью-йоркский почтовый адрес на случай, если я захочу с ними связаться. Они говорили, что почти все время путешествуют.
Я прогуливался по галереям магазинов «Мавритании» вместе с Хелен Роу, осматривая огромные стеклянные витрины, полные платьев, пальто и духов, мехов, драгоценных камней и золота. Здесь было доступно все самое лучшее. Я купил Хелен немыслимо огромную коробку французского шоколада. Она поцеловала меня в щеку. Она сказала, что я сам конфетка. Море успокоилось, и судно, казалось, еле двигалось, но на самом деле мы неслись вперед очень быстро. Угольные турбины были мощнее любых корабельных двигателей на жидком топливе. Позднее, после пожара на борту, «Мавританию» перестроили под нефтяное топливо, но корабль еще восемь лет оставался самым быстроходным океанским лайнером – такая долгая жизнь казалась просто невероятной. Я недавно читал, что «Кунард» финансировал эксперименты некоего молодого человека, который пытался развить новаторский проект дирижабля. Я обрадовался – моя мечта не умерла, хотя человек, который продавал идею, казался каким-то шарлатаном. Тем не менее я написал в его компанию и предложил свои услуги. Я не получил ответа. Конечно, я ничего об этом не слышал с тех пор. Подобные люди позорят идеи подлинных провидцев. Nit gefіdlt[173].
Когда «Мавритания» медленно поворачивала к гавани, Том Кэдвалладер предложил мне одну из своих гаванских сигар и сказал, что будет рад сойти на берег, хотя путешествие ему очень понравилось. «Самая худшая часть поездки – это путь через весь Нью-Йорк к железнодорожной станции». Он надеялся, что корабль бросит якорь в положенное время, так как ему не хотелось проводить ночь в «городе-синагоге». Я спросил, хорошо ли он знает Нью-Йорк и что он думает об отеле «Пенсильвания». Он слышал об этой гостинице хорошие отзывы. «Я никогда не задерживался в этом городе больше чем на восемь часов. И большую часть времени я проводил в квартире у приятеля. Не знаю Нью-Йорка и не желаю узнавать. Там почти нет настоящих американцев». Он решил, что допустил оплошность, и добавил: «Не то чтобы я имел что-то против иностранцев. Нью-Йорк – это дурные ирландцы и отвратительные евреи. Если этого мало, то вот вам неаполитанские отбросы, крестьяне из беднейших частей Сицилии. Здесь – главный рассадник анархии. И этот город уверен, что он выше всей остальной страны. Нью-Йорк, полковник Пьят, это не Америка. Никогда не путайте одно с другим. Приезжайте в Атланту, если хотите узнать настоящую Америку». Он мне уже дал свой адрес. Я поблагодарил Кэдвалладера и решил, что попытаюсь навестить его, когда спланирую свой маршрут. В первую очередь я собирался побывать в Вашингтоне. Мистер Кэдвалладер понял, что я не собираюсь навсегда поселиться в Америке, и от этого, мне кажется, стал гораздо приветливее. Он уже убедил меня, что закон об ограничении иммиграции был лучшим нововведением с начала войны. Но, как обычно, терпимые христиане слишком поздно спохватываются. Евреи уже входят в ворота и начинают заниматься своими делами. Они говорят, что хотят только жить и работать и не собираются никому вредить. Ikh kikel zikh fun gelekhter![174]
Огромный плавучий город замедляет ход. Дважды звучит долгое, громкое приветствие сирены. Снаружи сердито бьется вода, которую рассекают огромные винты, офицеры отдают команды матросам, шум сигналов из рулевой рубки не дает расслышать голоса, уже искаженные мегафонами. Деревянная обшивка на внутренних переборках качается, дым становится гуще. «Мавритания» останавливается, она дрожит и переводит дух, пока капитан ожидает новых приказов. Нью-Йорк сразу за горизонтом. Сотни пассажиров, некоторые с биноклями в руках, вышли на палубу, желая первыми бросить взгляд на конечный пункт нашего путешествия, но пока это было невозможно. Стюард посоветовал нам пообедать. Он заверил всех, что пройдет несколько часов, прежде чем мы войдем в Гудзон.
Нетерпеливое волнение охватило весь огромный корабль. Во время еды люди внезапно оживились. Они заказывали икру, они пили шампанское – они уже праздновали прибытие. Женщины были так красивы в своих изумительных одеяниях, в шелках и горностаевых накидках, мужчины были так спокойны и изящны! Выпрямив спину, я стоял на верхней шлюпочной палубе, горделиво облачившись в свой белый мундир, в форму истинного сына Дона. Я курил сигару и следил за матросами, которые быстро разматывали канаты, готовя наши якоря и лини. Я остался один. Меня переполняло ощущение благополучия. Свежий воздух заполнял мои легкие. Кокаин очищал разум и обострял чувства. Я был спокоен и бесстрашен. Меня приняли аристократы англосаксонского мира, великие мужчины и женщины, предки которых, храня веру в могущество закона, распространили свой язык, свои нравы и верования на половину планеты и продолжали, даже сейчас, продвигаться дальше. Горизонт темнеет. Тонкая линия. Весь корабль словно бы говорит: «Это – земля». Медленно преодолевая милю за милей, мы входим в широкую гавань, пока там, прямо перед нами, не поднимаются из самого океана невероятные башни. Восхитительно! Это – Манхэттен, город без прошлого. Город, у которого есть только будущее. Мечта.
С правой стороны, серо-зеленая, с виду намного меньше, чем я мог вообразить, стояла Свобода, грандиозный дар Франции Новому Свету. Она слепа. Она держит каменный факел, который, теперь во всяком случае, ничего не освещает. Хелен Роу с удовольствием наблюдает за мной, когда я восторгаюсь этими новыми достопримечательностями.
– Ее голова пуста, – говорит Хелен. – Ты сможешь туда зайти, если захочешь.
Глава четырнадцатая
Прекрасное чудовище, великодушная машина, Нью-Йорк спокойно терпит орду дураков и жуликов, которые ищут безопасности в его глубоких каньонах и среди утесов арендованных квартир. Однако то, что некогда было достоинством, теперь превратилось в недостаток. Со времен голландских основателей Нью-Йорк перестал опасаться тех католиков и евреев, которые укрывались в его тепле, высасывая жизненные силы и ничего не предлагая взамен. В 1921 году все еще удавалось удержать их в Нижнем Ист-Сайде, Гарлеме, Чайнатауне, Бауэри и Бруклине, и все-таки ньюйоркцы не хотели замечать, что Карфаген растет во чреве города, который все называли Новым Вавилоном. Карфаген пожирал своего породителя изнутри. Вот что пытался нам показать Д. У. Гриффит в своей оклеветанной притче под названием «Нетерпимость». Изысканный шедевр стал финансовым провалом из-за вмешательства тех самых евреев и католиков, о происках которых режиссер пытался нас предупредить. Компания Гриффита обанкротилась, его голос умело заглушили, и его собственные работники спокойно смотрели на мучения великого человека. Слишком многое отвлекало внимание: Таммани, Сион, Ватикан, Татария разбрасывали золото, устраивая зловредные интермедии, строя бордели и казино, обеспечивая все мыслимые развлечения, выдуманные не столько для того, чтобы эксплуатировать бедных, сколько для того, чтобы обольстить богачей, из тех старых патрицианских семейств, которые создали благосостояние Америки. Их сыновей и дочерей тем временем соблазняли симпатичными безделушками, негритянским джазом и самогоном.
Гриффит создал величайшее в своем роде произведение. В каждой фразе, в каждой сцене, даже в самой прекрасной, можно было уловить одно и то же важное сообщение: «Остерегайтесь слуг Рима и Сиона!!! Следуйте только за Христом!!! Вы отыщете врага в своих стенах! Опасайтесь жреца и раввина – ибо одну руку он дружески протягивает вам, а в другой прячет нож!!! Всегда будьте бдительны! Будьте глухи к лжепророкам и искушениям похоти, гордыни и жадности!!! JUDA VERRECKE![175] День твоего суда близок!» В современных декорациях мы видим молодого человека, ложно обвиненного и уничтоженного силами международных финансистов. Мы становимся свидетелями подлого предательства и истребления французских протестантов католичкой, королевой Екатериной де Медичи. Мы видим жрецов Вавилона, разрушающих собственную цивилизацию изнутри и открывающих ворота вторгающемуся персидскому тирану! А еще мы видим Иисуса из Назарета, дарующего нам и надежду, и спасение от всего этого ужаса. И они еще жаловались, что это неясно! Неясно! Er macht die Tür auf! Lassen sie ihn hereinkommen![176] Просто они отказывались замечать очевидное. Они не хотели задумываться. Все та же старая история. Как ни иронично, это и история Гриффита, это и моя история. Я иногда задумывался о смысле такого совпадения – его жизнь и деятельность зачастую напоминали мои. Я уверен, что всякий поймет, как много надежд и упований я возлагал на Гриффита и Америку, которую он воплощал. И вообразите мой ужас: едва преодолев последний таможенный барьер, стоя возле такси, пока носильщик грузил мои вещи, я прочел в «Нью-Йорк геральд», что компания великого режиссера вот-вот будет объявлена несостоятельной. Это стало ужасным ударом, ведь я собирался предложить Гриффиту свои услуги, как только закончу дела в Вашингтоне. Ошеломленный, я направился к себе в гостиницу. Я двигался к сердцу города по переполненным улицам между огромными небоскребами и перекрещенными металлическими лентами надземных железных дорог. Наконец, когда мой разум начал усваивать обильные новые впечатления, я отбросил газету, решив, что мистер Гриффит найдет способ справиться со всеми трудностями. Я не думал, что Нью-Йорк хоть в чем-то напомнит мне родину, и все же как будто вернулся домой. Конечно, этот город был намного больше и здесь все казалось предельно сконцентрированным, но мне он показался смесью Санкт-Петербурга, Киева и Одессы – он был гораздо понятнее, чем все европейские города, в которых я побывал. Я, например, не ожидал, что столкнусь с таким изобилием проявлений классического, старомодного хорошего вкуса в архитектуре и декоре. Такси наконец остановилось возле огромного здания отеля «Пенсильвания», и дверь передо мной распахнул темнокожий мужчина, одетый в форму и белые перчатки. Он приветствовал меня в самой благородной манере, и я почти поверил, что моя мать и капитан Браун ожидают меня по ту сторону массивной входной двери. Я так хотел, чтобы они, вместе с Колей и Эсме, оказались рядом и смогли разделить мои чувства. Швейцары снова занялись моим багажом. Внутри «Пенсильвания» была еще внушительнее, чем снаружи. Холл казался просторнее Нотр-Дама, по краям располагались магазины и рестораны. Один из ресторанов мог похвастаться огромным фонтаном. Высоко вверху, вдоль всего холла, тянулся тщательно спроектированный балкон. Легкие колонны и роскошь отделки придавали этому помещению вид языческого римского храма. Было бы вполне уместно, если бы персонал носил не со вкусом пошитые обычные костюмы, а тоги. Я порадовался тому, что облачился в свой самый роскошный мундир. В таком наряде мне не стыдно было войти в великолепный отель. Я направился по толстому узорчатому ковру к стойке администратора. Мой заказ подтвердил вежливый доброжелательный человек, сообщивший, что его фамилия Корниган и он помощник менеджера. Я мог обратиться к нему, если мне что-нибудь понадобится или что-то не понравится. Затем в лифте, который был так разукрашен позолоченным железом и резным дубом, что мог бы возносить на Олимп самого Зевса, я поднялся на восемнадцатый этаж и вошел в комнату, по роскоши и размеру не уступавшую лучшим номерам европейских гостиниц. И вновь мой дорогой Коля не подвел меня. Я тут же почувствовал себя в безопасности, даже несмотря на то, что мне никогда раньше не приходилось жить так высоко над землей. Швейцар был по-настоящему признателен за чаевые. Он сказал, что всегда к моим услугам. Так проявилась еще одна неожиданная особенность этого города: благовоспитанность и веселая любезность его жителей. Из окон своего номера я мог разглядеть улицу, оставшуюся далеко внизу. Там стояла крошечная готическая церковь, втиснутая между более высокими зданиями, по ее ступеням туда-сюда бродили миниатюрные фигурки. Я узнал, что на самом деле это собор Святого Патрика. Думаю, я обрадовался, увидев, как умалена здешняя цитадель папства.
Мне почти сразу стало ясно, что Нью-Йорк – город, вполне сознательно и энергично трудящийся ради будущего, нетерпеливо преодолевающий все преграды и угрозы, мешающие двигаться вперед. Он постоянно экспериментирует, он готов отбросить старое и заменить его чем-то новым и лучшим. То, что город все еще хранил традиции, было очевидно – многие интерьеры казались данью уважения нашей общей культуре, тем не менее он не боялся прогресса, как боялись его почти все европейские города.
Распаковав вещи, переодевшись и немного отдохнув, я по старой привычке отправился бродить по улицам, чтобы самостоятельно изучить чудеса и тайны Манхэттена. В 1921 году Эмпайр-стейт-билдинг был просто далеким идеалом, а Крайслер, красивейший из всех небоскребов, еще только строился. Именно эти башни окончательно затмили крупнейшего конкурента Нью-Йорка – Чикаго, так что он наконец отказался от дальнейшего соревнования. Ничего об этом не зная, я был по-настоящему поражен странными пропорциями двадцатиэтажного Флэт-айрон-билдинг и классической величественностью башни «Таймс». Я приплыл на Левиафане в город Бегемота[177], и хотя отчасти меня пугала невообразимая громадность этого места, прежде всего я радовался. Никакая фотография не могла подготовить европейца к восприятию таких масштабов и объяснить ему, на что похож город на самом деле: по-настоящему современное, беззастенчивое, невообразимое урбанистическое средоточие стали, камня и кирпича, беззаботно установленное на крошечной скальной плите посреди отмели в Атлантическом океане. Что касается того, каким стал Нью-Йорк, когда карфагеняне сокрушили его, – нет, я не хочу говорить об этом. В 1921 году город излучал подлинную, безграничную, поистине прекрасную уверенность в научном и общественном прогрессе. В городе объединились типические черты всех прочих городов Земли. Он был столицей, задуманной как нечто неповторимое, миллионы людей могли здесь жить и работать вместе ради победы человечества над природой, прошлым, самим нашим происхождением. В ту первую ночь я лежал с открытыми глазами и слушал, как бьется сердце Нью-Йорка, такое же сильное, как мое собственное. Я почти поверил, что мы с этим городом чувствуем некое непостижимое сродство, мы суть одно и то же, мы энергичны и разумны, мы хотим оставить след в мире и при этом не хотим ничего радикально менять.
Здесь объединились светлые надежды шести миллионов людей, их мечты о лучшем мире. Здесь технология человечества могла победить тех древних демонов, которые порабощали наших предков на протяжении бесчисленных поколений. Здесь делались состояния, превосходившие все предыдущие, здесь мечты возносились на недостижимые прежде высоты. Здесь открывались возможности, о которых люди до сих пор не задумывались. И уже нельзя было удивляться тому, что провинциальные умы, сельские умы, умы маленьких людей, могли отвергнуть этот мир и назвать его злым лишь потому, что он казался таким необычным. Многие американцы отказывались даже останавливаться на противоположной стороне нью-йоркского моста и смотреть на это чудо издалека. Им город казался не только новым Вавилоном, для них он был Содомом и Гоморрой, Римом и Иерусалимом вместе взятыми. Я не мог догадаться, что такое презрение к страхам других людей вскоре покажется глупым, – они понимали нечто такое, чего я поначалу понять не мог. Нью-Йорк был могущественной машиной. Как и все прочие машины, он лишен этики. Добро или зло полностью зависели от побуждений того, кто контролировал механизм.
Это была чувствительная и очень сложная машина. Все, чего ей недоставало, – способности перемещаться с места на место. Когда-нибудь, думал я, у нее появится и она. Удивительное геометрическое сочетание пожарных лестниц, водонапорных башен, надземных железных дорог, трамвайных проводов, причудливых железных украшений, телефонных линий, силовых кабелей, мостов, светящихся вывесок и арок в сочетании с самими зданиями создавало очень сложную, неповторимую систему знаков. Из бесконечного разнообразия кривых и углов, казалось, складывались буквы таинственного и едва понятного алфавита. Многоуровневый, как человеческий мозг, Нью-Йорк был наделен столь же безграничным творческим и интеллектуальным потенциалом. Он непрерывно двигался, словно кровь текла по лабиринту вен и артерий, и большинство ее капель были снабжены моторами, хотя встречалось еще очень много лошадей. Постоянно перемещаясь, эти трамваи, такси, автобусы, автомобили и фургоны неистово толкали друг друга, как бревна в бурном потоке. Огромные авеню и улицы, трубопроводы этой обширной машины, кипели и шипели, заполненные тысячами клапанов и решеток, и все же никто не стал бы утверждать, что граждане Нью-Йорка были автоматами с серыми лицами, созданными только для того, чтобы служить городу, как утверждал Ланг в своем фильме «Метрополис». Нью-Йорк тогда находился под жестким контролем граждан, которые по большей части были урожденными американцами или англоговорящими поселенцами. Они построили город, а теперь использовали его для собственного удобства. Это можно было понять – стоило посмотреть, как они вели себя на улицах, как легко, по-дружески обращались с современными технологиями. Я никогда не видел, чтобы к новым идеям относились с таким дружелюбным интересом, как в Нью-Йорке, и никогда уже больше ничего подобного не увижу. Все изобретения, выходившие с фабрик Эдисона, Форда, Теслы и других волшебников, героев Америки двадцатого века, все устройства и чудеса нашей машинной эры, были приняты жителями Нью-Йорка как доступные и естественные. Казалось, здесь в каждой семье имелся легковой автомобиль, патефон, пылесос, электрический утюг, электровыжималка, кроме того, самые обыкновенные люди владели телефонами, холодильниками и автоматическими стиральными машинами. Только у выродившихся иммигрантов, необразованных, ревнивых, отчаянно жадных сыновей и дочерей европейских сточных канав, азиатских наркоманов и африканских дикарей не было этих вещей (в таких количествах, по крайней мере), и это, конечно, объяснялось в значительной степени тем, что примитивные существа никак не могли с ними управиться: действительно, многие чужаки с суеверным ужасом относились, например, к стиральным машинам и не хотели их ставить в своих берлогах, даже когда власти предлагали это сделать.
Город ослепил меня блестящими вывесками, сотканными из тысяч крошечных цветных лампочек. Всюду я слышал скрежет металла о металл, жужжание двигателей, щелканье винтов, треск счетчиков, а с железных дорог, больших и маленьких, открытых и подземных, доносились визг колес, предупреждающие сигналы, рев пара и шум пневматических тормозов. Мне это казалось симфонией, темы которой возникали постепенно, как в творениях Вагнера, и в самый неожиданный момент складывались в единое целое. По улицам взад-вперед шлялись оборванцы. Они продавали газеты, безалкогольные напитки, мороженое, леденцы. Они вопили до невозможности искаженные фразы – поначалу я не мог разобрать ни слова. Кроме того, эта беспрестанная жизнь продолжалась в непривычном климате – жара становилась почти осязаемой, я взмок с ног до головы, едва отошел на несколько сотен ярдов от отеля.
В первое утро я бесцельно бродил по городу. Я просто прогуливался от одного квартала к другому, изучая окрестности, как делал всегда. Я наслаждался суматохой и своей анонимностью. Где-то в районе Девятнадцатой Ист-стрит я вошел в небольшое кафе и заказал чашку кофе. Жители Нью-Йорка, которых другие американцы обычно считают невоспитанными, оказались исключительно вежливыми по сравнению, скажем, с парижанами. Допив кофе, я их немного порасспрашивал. В итоге мне указали дорогу к большому ломбарду, располагавшемуся всего в паре кварталов от кафе. Здесь я смог сдать золотое кольцо с гравировкой, врученное мне мсье де Грионом в качестве рождественского подарка, и получить за него вполне приличную сумму. Затем я прошел еще немного, добрался до Шестой авеню и вскоре обнаружил недурной магазин мужской одежды. Там для меня очень быстро подобрали белый льняной костюм, белые короткие гетры, перчатки и панаму. Я теперь был одет по погоде – к сожалению, не следовало забывать о пыли и грязи. Впрочем, если говорить о стиле, у меня сложилось впечатление, что не имеет особого значения, какую одежду я выберу. За исключением Константинополя, я нигде больше не видел такого огромного разнообразия расовых типов и национальных костюмов. Некоторые выглядели странно (например хасиды или китайцы с косичками), но другие демонстрировали свое культурное происхождение более аккуратно, облачаясь в баварские шляпы, русские туфли, брюки модели «турин»[178]. Больше всего меня порадовало то, что не подтвердились рассказы о смуглых иностранцах, заполонивших улицы города. Их в центральных районах Нью-Йорка оказалось не больше, чем в других космополитичных городах. Нью-Йорк в этом отношении немногим отличался от Одессы.
В тот день я прошел по Седьмой авеню до Гринвич-Виллидж, до окруженных деревьями площадей и зданий восемнадцатого столетия. Эти относительно низкие многоквартирные дома и магазины напомнили мне своей респектабельностью Киев моего детства, хотя тогда в этот уютный и недорогой район уже начали переезжать художники, что придавало ему некое сходство с окрестностями Левого берега Сены. Мне то и дело казалось, что я перенесся куда-то за город. Изобилие цветов и листвы услаждало мои чувства. Я некоторое время просидел на Вашингтон-сквер, наблюдая за детьми, игравшими в знакомые игры. Я считаю, такие почти сельские районы должны быть в каждом настоящем городе. Там можно обрести спокойствие, которое не обрести и в деревне. Здесь я частенько ходил в сад на крыше «Универмага Дерри и Тома». Летом я бывал там два-три раза в неделю, находя такое же умиротворение. Случалось, туда доносился шум транспорта, но был как будто из другого мира, издалека. В погожий день я слушал плеск фонтанов и смотрел, как розовые фламинго перебираются из одного пруда в другой, – немногие удовольствия могут сравниться с этим. Но теперь, конечно, «Дерри» продан русской еврейке, но она превратила свой сад в заповедник для модных и богатых и не допускает туда одиноких стариков и старух. Кому интересно, что теперь мне негде присесть, негде покормить птиц, некуда бросить монетку, чтобы загадать желание?
В Нью-Йорке у меня выработалось очень сильное чувство владения ситуацией, инстинктивное понимание окружающей среды обеспечивало безопасность. Чем сложнее город, тем лучше я себя чувствую. Сельский житель в ужасе отступает, столкнувшись с видами и звуками города, не в силах справиться с миллионами переплетающихся впечатлений. Ему кажется, что город соткан из противоречий, тайн и угроз. Как и в Константинополе, в Нью-Йорке я немедленно расслабился. Городские опасности легко оценить или предугадать. За городом я беспомощен. Что значит для меня треск ветки, падение листа, глубина следов на земле? Если Нью-Йорк был, как говорили многие, джунглями, то я был зверем, созданным природой для этих джунглей. Я бесцельно прогуливался по городу и впитывал образы, звуки и ароматы. Через несколько дней я узнал практически все, с чем мне предстояло столкнуться, и что, в случае необходимости, предстояло преодолеть. Я пару раз встретился с Хелен Роу, но она торопилась уехать во Флориду. Она говорила, что Нью-Йорк – грязный город, а люди в нем – мусор. Наш корабельный роман почти тотчас же закончился, стоило ей сойти на берег. Теперь, когда Хелен встретилась со знакомыми молодыми людьми, которые водили ее на танцы и в ночные клубы, она утратила интерес ко мне. Я вздохнул с облегчением – мне тоже не хотелось продолжать эту интрижку. Я написал Эсме, сообщил о своем прибытии, об отеле и обо всем прочем. Я написал Коле и послал открытку миссис Корнелиус, упомянув об Уильяме Брауне, продюсере. Я очень хотел, чтобы все они оказались рядом, особенно Эсме. Многообразие города порадовало бы ее так же, как меня.
Должен признать, однако, что в первую неделю я меньше, чем обычно, думал о своих дорогих друзьях и почти не занимался карьерой. Я жил мечтами о волнующих открытиях. Я ел стейки, омаров и хот-доги, русские блюда здесь были столь же прекрасны и изысканны, как в Одессе. Я посещал итальянские, французские и китайские рестораны. Я ходил в кино на новейшие фильмы, смотрел водевили. Я ездил в трамваях, автобусах и поездах. В это время я довольствовался собственным обществом, спутники только отвлекали бы меня. Я плавал в водах, одновременно странных и очень знакомых, современных и все же полных ностальгии. Здесь встречались автоматы по продаже газированной воды; фантастические копии тех кафе, что я посещал в Киеве, пропахшие сиропами и леденцами, отделанные красным деревом и дубом, медью и хромом и украшенные роскошными зеркалами; рестораны, в которых, казалось, росли небольшие леса; кинотеатры, как будто перенесенные прямиком из древней Ассирии; особняки, достаточно огромные, чтобы стать обиталищами европейских императоров. Стоя на пересечении Пятой авеню и Четырнадцатой стрит, я наблюдал, как надвигались черные грозовые облака, как они заслоняли солнце, пока наконец меня не окружило дикое шипение дождя, рев и отблески молнии. Я укрылся в дверном проеме. Я прошел ночью почти весь Бродвей, посетил зоопарк, купил батат у продавца в Центральном парке, снял за гроши симпатичных проституток (некоторые из них знали по-английски еще меньше, чем константинопольские шлюхи). Я непринужденно болтал с незнакомцами – в Европе такое невозможно. Я говорил им, как чудесен их город. Истинный житель Нью-Йорка полагает, что не существует никакого другого мира, он редко интересуется, откуда вы, просто хочет услышать, нравится ли вам Нью-Йорк. Поэтому мне было очень приятно сохранять анонимность, наслаждаясь всеми преимуществами общения. У меня еще оставалось много хорошего кокаина, и я мог с легкостью раздобыть еще с помощью девочек, которым покровительствовал. Когда не было алкоголя, я бодро пил виноградный сок или кока-колу. Спиртное, конечно, оставалось популярной и несколько утомительной темой для разговоров. Газеты печатали бесконечные истории о подпольной торговле. Запрет и его последствия стали навязчивой идеей для целой нации. Но это мало значило для меня. Я был как ребенок на каникулах. Мне хотелось одного – стоять на берегу, смотреть, как приходят и уходят корабли, изучать самолеты, представленные на выставке военной авиации. Америка, ошибочно считавшая себя родоначальницей воздухоплавания, приняла самолеты с той же готовностью, с какой приняла свою родную модель «Т»[179]. Я не понимал парадоксов культуры, которая с подобной легкостью признавала технические новшества и в то же время подчинялась влиянию замшелых представлений религиозных экстремистов. В дни своего расцвета Нью-Йорк не интересовался мнением остальной Америки, он жил как независимый город-государство. Главными банкирами были Морган и Карнеги[180]. Восток властвовал только в лавчонках, где продавали ковры. Нью-Йорк сдался на милость Карфагена в 1929 году – это был самый большой трофей, захваченный врагами. Как Константинополь, центр христианского мира, сделался столицей Оттоманской империи, так и Нью-Йорк стал столицей Карфагена. Одолев его, они одолели Америку. В конечном счете это неизбежно позволит им захватить весь мир.
Не подозревая о грядущих бедствиях, я гулял, следуя за бродячими оркестрами в Бруклин и Квинс, и видел Джорджа М. Кохана[181], этого истинного американца, в его новейшем мюзикле. Я ел печеных моллюсков и свежих устриц у Шипсхэд-Бей. Я сидел возле Центрального вокзала, читая «Нью-Йорк таймс», в изложении которой все проблемы Европы казались далекими, мелкими, даже слегка нелепыми. Меня больше всего интересовали права ученых и их соблюдение в Америке. Я читал, что президент Хардинг вручил мадам Кюри[182] капсулу радия, стоившую сто тысяч долларов, в качестве подарка от американских женщин. После резкого спада продаж автомобили Генри Форда снова стали пользоваться спросом. Я также узнал, что компания Эдисона предложила анкету для всех соискателей. К своему отчаянию (поскольку я планировал в дальнейшем предложить им свои услуги), я не смог ответить ни на один вопрос. Помню, там спрашивалось: «Какой американский город занимает ведущие позиции в производстве стиральных машин?». Эдисон, как я узнал из газет, был крайне недоволен результатами этих тестов. Он решил, что университетские выпускники ужасно невежественны. Возможно, это и к лучшему: мне не пришлось унижаться, работая на идиотов.
Новости об обнаружении партии нелегального виски в самом сердце Бронкса очень быстро стали куда более интересными, чем истории об отказе Уоррена Хардинга присоединиться к Лиге Наций. Моей единственной реакцией на передовую статью, в которой осуждалось торговое соглашение Британии с Советской Россией, стала смутная надежда. Теперь я мог написать матери о том, насколько вдохновляющей оказалась Америка. Возможно, ей разрешат приехать ко мне и поселиться здесь. Очень многие из нас тогда хотели верить, что после окончания гражданской войны, когда иностранные правительства возобновят отношения с Россией, многие крайности уйдут в прошлое. Я чувствовал, что судьба России больше не представляет для меня особого интереса, разве что в связи с судьбой моей матери и капитана Брауна (кроме того, официально я считался французом). Не имело значения и поражение испанской армии от Абд аль-Керима в Марокко. Безусловно, самой лучшей новостью стала готовность американского правительства финансировать развитие внутренней авиации. Прочитав об этом, я изучил свои ограниченные ресурсы и занялся устройством дел. Мои каникулы в Нью-Йорке подходили к концу. Следовало отправляться в Вашингтон.
Примерно три недели спустя после прибытия в Нью-Йорк я купил чертежную бумагу, все необходимые принадлежности для рисования, заперся в номере с кокаином, кофе и запасом еды и начал тщательно копировать проекты и технические спецификации своих уже запатентованных изобретений. Я складывал их в большую папку. Затем я занялся незапатентованными проектами – трансатлантическими посадочными платформами для самолетов, дирижаблями-госпиталями, которые можно было разместить где угодно, межконтинентальными туннелями, дешевыми методами добычи алюминия из глины, способами производства синтетической резины, летательными аппаратами тяжелее воздуха и дирижаблями с ракетными двигателями. Все это следовало отправить для регистрации в американское патентное бюро. Другие чертежи я решил отослать непосредственно министру внутренних дел, который, как я понял, отвечал за научные проекты. Я также подобрал копии различных газетных статей, хотя они были в основном на французском языке. Корабельная газета поместила небольшую заметку на английском обо мне и моей работе – ее я тоже приложил.
Через несколько дней я был совершенно вымотан, но работу все же закончил. Я отнес оба конверта на почту и отправил заказные письма. Потом я заглянул в «Немецкое кафе» на Чемберс-стрит и заказал огромные порции колбасы, телятины, квашеной капусты и клецок. Резной мрамор и темный оникс, колонны, головы животных, полированные каменные стойки – этот ресторан был настоящим монументом стабильности. Позднее в обществе одной из молодых особ я отправился посмотреть мюзикл и какое-то кино в театр «Казино». К полуночи я зашел к ней домой, где-то в районе Девятой авеню и Пятьдесят третьей стрит (линия надземной железной дороги проходила всего в нескольких футах от ее окон). Там я оставался в течение двух дней, развлекаясь с Мэй и ее маленькой ясноглазой подругой Ирмой. Когда я вернулся в «Пенсильванию», меня ожидало сообщение. С немалым удовольствием я узнал, что звонил Люциус Мортимер. Он остановился в отеле «Астор». Он спрашивал, не желаю ли я с ним пообедать. Сообщение пришло только утром. У меня еще было время позвонить в «Астор» и принять приглашение. Я надеялся насладиться обществом респектабельного молодого майора. Я потратил остаток дня, купаясь, отдыхая и собирая различные документы. В семь я оделся. Решив, что вечер достаточно теплый, а на такси можно сэкономить, я прошел несколько кварталов к Сорок четвертой и Бродвею. Я уже превосходно изучил центр Нью-Йорка. Единая система, как и повсюду в Америке, была достаточно рациональна и могла существенно облегчить жизнь – стоило только разобраться в основах ее устройства. Der Raster liegt fest, aber die Vielfalt der Bilder ist unendlich. New York ist eine Stadt der nah beieinanderliegenden Gegensätze[183]. Воздух пропах маслом и специями, кофе, жареной ветчиной и сметаной. Дикая дневная суматоха поутихла, и движение стало умеренным, почти успокоительным. Я шел, посвистывая, к лучшему отелю в Нью-Йорке и думал о своей удаче. «Астор» оказался богатым и респектабельным заведением, но, на мой взгляд, не столь внушительным, как «Пенсильвания». Фасад был из красного кирпича, известняка, зеленого сланца и меди, а внутри отель выглядел очень строгим. Интерьер больше подходил для храма или музея. «Астор», с темными деревянными стенами и внушительными фресками, действительно напоминал и храм, и музей. Любезный швейцар вел меня мимо блеска ар-нуво, мрамора и золота, старинных ионических пилястр, разрисованных стен, гобеленов и трофеев в помещения, которые он назвал «холостяцкими квартирами». В комнате, стены которой были увешаны картинами на темы охоты, за столом у дальней стены меня ожидал друг. Светловолосый Мортимер, как и я, сменил мундир на вечерний костюм. Он встал и с доброжелательной улыбкой поприветствовал меня:
– Я так рад, что вы еще здесь, полковник Питерсон. Я боялся, что мне придется отправиться за вами в Вашингтон.
Когда мы поели, Мортимер сказал, что после нашей последней встречи пару раз пересек Атлантику. Теперь он решил некоторое время отдохнуть от морских путешествий. Во время круиза кто-то упоминал обо мне, и майор вспомнил о наших разговорах. Это сподвигло его отыскать меня. Аккуратно разрезая мясо, он сказал, что с огромным сожалением услышал о французском скандале. Я отложил нож и вилку и спросил, что он имеет в виду. Мортимер смутился. Прежде чем он смог что-то объяснить, появился официант, и мы заказали следующее блюдо. Тогда Мортимер достал из кармана пиджака сложенный газетный лист.
– Это из «Монд», – сказал он, передавая мне вырезку. Газета вышла почти месяц назад. – Вы ничего не видели? Это, пожалуй, к лучшему.
Чем дальше я читал, тем страшнее мне становилось. Заголовки были наглядны. В газете имелись фотографии – мои, мсье де Гриона, Коли – прежних, более счастливых времен. Странный эскиз моего законченного дирижабля. Закрытый ангар около Сен-Дени. Наша авиационная компания развалилась, и полиция подозревала мошенничество. Согласно полицейским отчетам, главный инженер сбежал из Франции, прихватив важные документы, доказывающие честность его партнеров. Зять мсье де Гриона, князь Николай Петров, был назван пострадавшим. Я его обманул. Якобы большая часть акций принадлежала мне. Я их продал с немалой прибылью и сбежал с этим состоянием, возможно, обратно в Константинополь, где меня будто бы разыскивали англичане за помощь мятежникам Мустафы Кемаля. Моя сестра, оставшаяся в Париже без средств к существованию, ничего не подозревала.
– Это бессмысленно, – сказал я Мортимеру. – Князь Петров – мой лучший друг. Его, очевидно, неверно поняли. Но это, черт побери, дурные вести для меня. Я ничего не знал!
– Сомневаюсь, что вас могут выдать на основании тех доказательств, которые у них якобы имеются. – Мортимер очень мне сочувствовал. – Похоже, вы не предвидели подобной ситуации?
– Петров предупредил меня, что в случае краха компании меня могут сделать козлом отпущения. Именно поэтому я приехал в Америку. Но я не представлял, как отвратительны эти газеты. Эти статьи просто бессмысленны. Они явно подтасовали факты и переврали слова Коли. Он мой самый старый, самый близкий друг. Должно быть, это мсье де Грион их надоумил. Он всегда меня недолюбливал. Эсме должна скоро приехать. Надеюсь, что она не пострадает!
– Она еще собирается приехать?
– Несомненно. Как и Петров.
– У них есть ваш адрес? Возможно, это хорошо, что вы поедете в Вашингтон.
Он, нахмурившись, поглядел на меня с каким-то подозрением, словно не мог поверить, что я столь невинен. Меня это оскорбило.
– Я всегда вел дела честно, майор Мортимер. К вашему сведению, в Турции меня тоже не ищут. Я помог задержать некоторых мятежных националистов и шпионов. Я покинул Константинополь исключительно по личным мотивам.
– Видимо, с вами дурно обошлись, полковник. Если бы скандал разразился здесь, могли быть серьезные и нежелательные последствия. Вы знаете, желтая пресса считает, что все иностранцы – анархисты и бандиты, пытающиеся уничтожить страну. – Он отодвинулся от стола, когда официант начал расставлять чистые тарелки, а потом внезапно усмехнулся. – Не хотите выпить?
Впервые с тех пор, как я прибыл в Америку, мне захотелось водки. Я энергично кивнул, и Мортимер подмигнул мне:
– Мы покончим с делами, а потом пойдем и навестим моих друзей. Они нам помогут. Что думаете на этот счет? – Он сложил вырезку и убрал ее в карман.
Я пришел в замешательство. Было не так легко очистить мое имя. Помочь мог только Коля. Эсме согласится выступить свидетельницей. Но где и когда пройдут слушания? Я спросил об этом у Мортимера.
– В Париже. Черт возьми, я уверен в этом. В Штатах вы в полной безопасности. Но шансы на продление визы, однако, существенно уменьшаются. Вам нужны друзья в высшем свете, старина! – Мортимер внимательным взглядом окинул сырную тарелку, его нож застыл в воздухе. Потом он со вздохом подцепил кусок «бостон блю».
– В Атланте есть мистер Кэдвалладер.
– Адвокат? Но это ваше слово против их слов. Я думал о другой стратегии поведения. Кого вы знаете в Вашингтоне?
Я никого не смог назвать и задумался. Майор Мортимер дожевал свой сыр.
– Вероятно, я сумел бы вам помочь. Я знаю нескольких человек, у которых есть хорошие политические связи. Понадобится ли вам рекомендательное письмо?
– Вы очень любезны.
Сомневаюсь, что мне удалось изобразить восторг. Мое будущее снова стало неопределенным. Я не мог возвратиться в Европу. Вероятно, придется бежать из Соединенных Штатов. Неужели Эсме навсегда потеряна для меня? Я не поддавался панике. Я отчаянно пытался сконцентрироваться, но теперь все казалось еще хуже, чем раньше. Я плохо помню окончание трапезы. В какой-то момент майор Мортимер помог мне выйти на тротуар и поймал такси. Через четверть часа мы вошли в синие вращающиеся двери одного из многочисленных подпольных баров Нью-Йорка. Внутри нас ожидало то же самое, что я уже видел в Париже: шумная джазовая музыка, дикие танцы и прочее. Именно в тот момент мне меньше всего хотелось находиться в подобном месте, но Мортимер потащил меня сквозь толпу в темную заднюю комнату. Он заказал напитки. Коктейли были не очень крепкие, но я с удовольствием выпил несколько. Подпольные бары посещали весьма приличные люди. Мы зашли не в обычное богемное кафе. Люциус Мортимер был здесь со многими знаком и, очевидно, являлся постоянным и популярным клиентом. С друзьями он беседовал на жаргоне, который я никак не мог понять. Я слышал, как они с Джимми Рембрандтом говорили на этом наречии на борту судна. Я быстро опьянел. Около часа спустя, когда я продолжал невнятно рассказывать о своих проблемах, Люциус сжал мою руку и посмотрел мне прямо в глаза.
– Макс, – сказал он, – я считаю себя вашим другом и попытаюсь вам помочь. Скоро сюда придет Джимми. Мы поговорим с ним. Что если мы поедем с вами в Вашингтон? Я могу представить вас своим друзьям. Вы же захватили с собой все свои патенты?
Я рассказал, что успел предпринять. В моих письмах говорилось, что я скоро буду в Вашингтоне и позвоню, чтобы подтвердить доставку чертежей. Это разумно, сказал Мортимер. Мне нужно расслабиться и сделать еще глоток. Как только я встречусь с нужными людьми, мои проблемы останутся позади.
– Вы можете положиться на меня, я никому и слова не скажу о скандале с дирижаблем. Но рано или поздно это может выйти наружу, вы должны подготовиться к такому повороту событий. Кто предупрежден – тот вооружен. Журналистам сейчас надо только одного: потребовать расправы над иностранцами. Только на прошлой неделе в моем родном городе в Огайо ку-клукс-клан линчевал двух итальянцев. Они были или анархистами, или католиками. Русских любят еще меньше. Так что вам нужно всем прямо заявить, что вы – француз. Называйтесь по-прежнему Максом Питерсоном. Вы можете быть наполовину англичанином. Это избавит от подозрений. Я вас прикрою. Скажем, что мы встретились во время войны, когда вы летали в эскадрилье «Лафайет». Все любят летчиков из «Лафайет».
Я не хотел участвовать в обмане, однако признал, что Мортимер лучше понимал положение дел. В итоге пришлось согласиться: пусть он решает, что сказать людям. Я готов был во всем следовать его советам. Меня по-прежнему поражало чистосердечие и великодушие американца. Какой европеец захотел бы столько сделать для едва знакомого человека? Я едва сдерживал слезы, когда появился Джимми Рембрандт в сопровождении двух молодых женщин, актрис из здешнего шоу. Он обнял меня крепко, как настоящий русский. Он похлопал меня по спине, сообщив, что сильно соскучился. Мы заказали бутылку весьма сомнительного шампанского. Джимми в основном угощал им леди, которые, кудахча и прихорашиваясь, в розовых и синих перьях и шелках скоро стали напоминать напуганных цыплят.
– Похоже на большое приключение! – Рембрандт явно обрадовался. – Мы завтра же поездом отправимся в Вашингтон. Вы сможете уехать так скоро, Макс?
Мы выпили за нашу удачу, за нашу общую судьбу, за нашу счастливую встречу на «Мавритании». С такими чудесными компаньонами у меня не возникнет никаких трудностей, когда я приеду завоевывать американскую столицу. Они шутливо предлагали мне «вспомнить» мать-англичанку, отца, замечательного французского солдата, и его отца, который сражался на стороне южан в годы гражданской войны. Мы даже поговорили о предке, руководившем полком добровольцев в Войне за независимость. К тому времени, когда мы вышли из бара, я снова развеселился, уже наполовину поверив в свою новую личность. Мои приятели нашли самый удачный компромисс, особенно с учетом нашей общей цели. Их друзья были южанами и считались только с теми иностранцами, которые поддерживали Юг шестьдесят лет назад. Мать Джимми Рембрандта, по его словам, родилась в Луизиане, а отец, родом из Пенсильвании, был активным членом Демократической партии до несчастного случая на скачках, который произошел перед самой войной. Вскоре после полуночи мы заказали такси до моего отеля, а мои спутники поднимали воображаемые бокалы за Макса Питерсона, французского джентльмена, и пытались научить меня насвистывать «Дикси». Мелодия очень важна, серьезно говорили они, но если я хочу завоевать привязанность их друзей, то следует выучить все слова. Что до моих политических взглядов, то, по мнению Рембрандта и Мортимера, они были просто идеальными.
По-дружески шутливо Джимми и Люциус помогли мне войти в лифт, а потом направились в «Астор», пообещав встретить меня в холле на следующее утро. Наше сотрудничество должно было принести всем огромную выгоду. Мои французские авиационные проекты, по их словам, покажутся картонными моделями в сравнении с новыми замыслами, которые будут реализованы в Америке. Я вернулся к себе в комнату и попытался собрать вещи. Но как только я остался один, мной неожиданно овладела меланхолия. Я лежал в постели и оплакивал Эсме. Сколько еще времени пройдет до нашего воссоединения? Чем я провинился перед Богом, за что меня карают так строго, тогда как циничные богачи и безжалостные властители остаются безнаказанными?
Уехать из Нью-Йорка было мудрым решением. Здесь меня подстерегали все те же знакомые враждебные силы, хотя я едва ли мог это предположить. Бродя по городу, я видел темных эмиссаров Карфагена, занятых своими черными делами. То тут, то там появлялись признаки опасности, но они оставались незамеченными. В некоторых домах Гарлема, занятых приличными немецкими семьями, которым угрожали со всех сторон афроамериканцы и выходцы с Востока, я видел в окнах плакаты: «Keine Juden und keine Hunde»[184]. Но прошел год-другой, и эти надписи исчезли. Потом и сами семейства покинули город, а смеющиеся негры превратили удобные здания в запущенные трущобы. Нью-Йорк попытался принять их – это был вопрос гордости. Но Нью-Йорк совершил ошибку – все зашло слишком далеко. Город столкнулся с немыслимой ересью: все эти темнокожие мессии и иудействующие лжепророки расплодились во множестве. Христиан учат все терпеть, и мы терпим – но мы не можем и не должны терпеть зло. Лицемерие и воровство не останутся безнаказанными. Те евреи-сефарды – они утверждали, что были испанскими донами, как будто этим стоило хвастаться. Испанскую империю создало карфагенское золото, она была пропитана языческим стремлением к разрушению. Американцы уже разгромили врагов в нескольких героических войнах. Но теперь враги возвращаются под тысячами разных масок. Их не остановить. И их einiklach злорадствует в огромных башнях, стальных и бетонных крепостях, катается в «роллс-ройсах» по Уолл-стрит, управляет судьбами всего мира, в то время как доны Маленькой Италии, Бруклина, Бронкса и испанского Гарлема становятся богаче Морганов или Карнеги и не создают ни благотворительных учреждений, ни фондов, ни библиотек – они только разрушают.
Я не могу винить себя в том, что сталось с Нью-Йорком. Если бы я присмотрелся, то сразу бы увидел гниль и плесень. Меня ослепил невероятный потенциал города, его величие, его красота. И для меня он остался самым красивым городом на земле. Когда теплое утреннее солнце озаряло серые и желтые башни и садилось, подсвечивая алым Бруклинский мост, я задыхался от изумления – и неважно, сколько раз я уже это видел. Я слышал, что в Нью-Йорке уничтожают всю былую красоту, заменяют прежние небоскребы сооружениями из черного стекла и невыразительного камня. Они разбили вдребезги почти все, а то, что не разбили, распотрошили и испортили. Отель «Пенсильвания» теперь стал серым, неуютным кроличьим садком, лишенным стиля и вкуса. Его перекупила фирма «Хилтон» и превратила в машину для переработки путешественников, выходящих из этих нелепых летающих цилиндров. И все сделано во имя демократии. Идея всеобщего равенства – вредная идея. Мечты великих строителей Нью-Йорка, убитого архитектора Стэнфорда Уайта[185], становятся искаженными кошмарами. Призрак старого города нависает над новым. Уайта убили в саду на крыше Мэдисон-сквер, через дорогу от того места, где стоял мой отель. Он построил декорации для собственной смерти. И теперь эти декорации уничтожены. Он привез в Америку все лучшее, что отыскал в Европе, он создал архитектуру, которая была простой, истинно американской по стилистике и пропорциям. Теперь все над этим потешаются. В целом мире силы Карфагена подрывают нашу культуру, наши воспоминания, наши памятники, заменяя их одинаковыми зданиями, которые строятся теперь в разных странах. Они уничтожают наше наследие, они стирают наши воспоминания. Даже наши души находятся под угрозой уничтожения. В 1906 году враги Уайта замыслили его убийство. Убийцей стал еврей по фамилии Toy, который утверждал, что Уайт обольстил его жену. Надо отметить, что Toy в итоге признали невиновным, поскольку он совершил преступление в состоянии аффекта. Злодей избежал наказания. Карфаген произвел еще один выстрел – и остался безнаказанным. Поистине, Ich vil geyn mayn aveyres shitein![186]
В восемь часов утра, подкрепив свои силы кокаином и упаковав чемоданы, я позвал швейцара, а потом спустился в коридор, по которому разносилось эхо наших шагов. Когда я оплатил счет (это сильно уменьшило мои денежные запасы), ко мне приблизился Джимми Рембрандт. Он улыбался и был полон энергии. Пожав мне руку, Джимми заявил, что я выгляжу великолепно. Мортимер, по его словам, чувствовал себя нехорошо и с трудом мог говорить, но поедет вместе с нами поездом. Мы вышли из вестибюля и направились к Пенсильванскому вокзалу. Мои сумки везли на тележке позади нас.
– Люс боится, что у него грипп. Но мы-то знаем, откуда у него такие симптомы, Макс, верно?
Войдя в дорическую галерею, украшенную рядами изящных магазинов и столбами света, в которых танцевали пылинки, мы увидели, что у главной лестницы стоял Мортимер. Он был так же хорошо одет, как Рембрандт, но действительно казался бледным и жалким. Он попытался мне улыбнуться:
– А, полковник Питерсон, знаменитый французский летчик.
Джимми рассмеялся.
– Надеюсь, вам понравится красный цвет, полковник. – Мое смущение его удивило. – Они уже очень скоро расстелят для вас ковер в Вашингтоне.
Вокруг нас бесчисленные жители Нью-Йорка торопились по своим делам. Вокзал располагался под нами, и мы спустились по ступеням в сорок футов шириной (построенным из травертина на римский манер) в главный вестибюль, отделанный сливочного цвета камнем, который, очевидно, должен был напоминать о римских банях. На протяжении многих лет коренные жители Нью-Йорка считали себя наследниками традиций Древнего Рима. Сегодня, конечно, армии Ватикана сделали возможным неожиданное и нежелательное сравнение с более современным Римом.
– Положитесь на нас, – продолжал Джимми, – и через неделю весь Вашингтон будет есть из наших рук.
Наш багаж убрали, и мы отправились завтракать в один из прекрасных ресторанов, расположенных в здании вокзала. К полудню мы уже сидели в великолепном курьерском поезде – настоящей стальной симфонии, ведущую партию в которой исполнял массивный локомотив. Состав медленно выехал с Пенсильванского вокзала. Только прежние царские поезда могли соперничать с этим воплощением американской роскоши. Америка, как и Россия, зависела от железных дорог. Как и Россия, она тратила всю свою гордость и искусство на создание этих движущихся цитаделей комфорта.
Мы зарезервировали столики в вагоне-ресторане, но майор Мортимер не испытывал желания есть. Он предложил нам с капитаном Рембрандтом оставить его наедине с тяжкими страданиями и занять места у огромного окна. Небоскребы Нью-Йорка постепенно уступили место одноэтажным пригородам, а затем показались холмы и леса Нью-Джерси. Мы пересекали широкие железные паутины мостов, которые тянулись над такими же, как в России, широкими реками, мы двигались вдоль океанского побережья, а затем повернули на запад и миновали бескрайние поля, подобные которым можно было увидеть в моей родной украинской степи. Мы проносились мимо фабрик или электростанций, ярко сиявших в летних сумерках. И я внезапно подумал, что все эти леса, эти чудесные поля, эти сталелитейные заводы и генераторы демонстрируют не просто огромное богатство, но и огромный оптимизм. Я впервые осознал, как велика эта страна. Пространство казалось столь же безграничным, как в России, вдобавок здесь были столь же неисчерпаемые ресурсы, столь же безграничные способности к расширению. Проблемы Европы стали незначительными, как и ее ничтожные амбиции. Мне не следовало опасаться мелких стран с мелкими идеями. Здесь, в Америке, я смогу добиться того, чего когда-то надеялся достичь на Украине. Поглощая обед, я разглядывал равнины и луга Америки, ее большие серые города и золотые холмы и беседовал с Джимми о технологической Утопии, которую предполагал создать. Она будет истинно американской, она уничтожит древние традиции отсталой Европы, она сосредоточится на будущем. И на ней будет стоять ярлык «Сделано в США».
Джимми пришел в восторг, но в то же время мое рвение его как будто удивило.
– Это дело, – повторял он. – Это самое оно.
Он был абсолютно убежден, что в Европе мой гений растрачивался впустую. Я слишком талантлив для нее. Соединенные Штаты достаточно велики и достаточно могущественны, чтобы принять то, что я предлагаю, и заплатить все, что мне причитается. Америка готовилась двигаться вперед еще быстрее, чем прежде. Здесь делалось так много денег, что не хватало вещей, на которые их можно было бы потратить. Джимми сказал, что мне следует подумать о создании компании по примеру Эдисона. Нужно нанять сотрудников, технический персонал, различных экспертов, нужно построить мастерские:
– Вложите капитал в Америку, Макс, и вы покорите все сердца и умы, какие вам только понадобятся. Сейчас самое подходящее время.
Самый ритм движения поезда, ровный, устойчивый, поддерживал меня в убеждении, что Вашингтон обеспечит мне средства, признание, ресурсы, которые предназначались мне по праву. Парижское происшествие было мелкой неудачей. Теперь я стал осторожнее, я уже не доверял кому попало. Я молил, чтобы Коля поскорее выбрался из той ужасной паутины жадности и интриг, привез Эсме и присоединился ко мне в американской столице.
– Во Франции нет ни наличных, ни сил, чтобы устраивать по-настоящему большие дела, – сказал Джимми. Мы пересекали Делавэр. Вдалеке на крутых берегах реки виднелись высокие сосны, дымовые трубы, опоры. – Вот где вы ошиблись, Макс. Не имеет значения, насколько хорош план. Нужно принимать в расчет также время и место.
Я сказал, что по-прежнему виню социалистические профсоюзы, но Джимми не согласился со мной:
– Союзы устраивают забастовки потому, что им или их лидерам за это платят. Возможно, они хотели добиться более высокой зарплаты. Но скорее всего кто-то подсунул им деньжат. – Он сделал паузу и многозначительно посмотрел на меня, но я понятия не имел, что ему хотелось услышать. Он продолжил: – Это мог быть кто угодно. Ваши собственные руководители. Немцы. Британцы.
– Мне все еще трудно поверить, что люди способны на такие подлости.
– В этом вы похожи на американцев, старик. Мы потрясены этим. И именно поэтому мы решили отказаться от контактов с Европой. Пусть втыкают друг другу ножи в спину. Мы не дадим им шанса уничтожить нас.
Убедившись, что недомогание Люциуса не слишком серьезно, мы перебрались в глубокие шикарные кресла, стоявшие в вагоне-клубе. Здесь, среди блестящей меди и массивного красного дерева, мы курили сигары и пили крепкое пиво, в которое Джимми как-то ухитрился добавить скотч. Курьерский поезд с величественной, размеренной быстротой мчался среди холмов и долин, поросших лесом. Вагон был исключительно удобен: мягкие сиденья, просторные проходы, хорошо вышколенные официанты, способные исполнить практически любое желание. Я подумал о том, сможет ли Россия, вернувшись на истинный путь, достичь такого уровня железнодорожного сообщения. В конце концов, у России, как и у США, были почти безграничные запасы подходящих ресурсов. Вот модель, которой нам следовало подражать. Америка научилась бороться с большевистской угрозой. В отличие от Нью-Йорка, в остальной части страны осознали опасность и начали преследовать красных решительнее, чем когда-либо в Европе. Раньше, до войны, Америка отличалась почти безграничной терпимостью ко всем прочим странам – и в результате очень быстро узнала, как дорого обходится такое благородство. Теперь, когда она заперла свои двери, никто не мог ее обвинить. Америка пыталась изолировать себя от социальных и психических заболеваний, распространившихся по ту сторону Атлантики. Увы, она не смогла понять, что взялась за дело слишком поздно, – наступил 1929 год, и Карфаген нанес удар. Вся страна пошатнулась и в отчаянии позвала на помощь. И кто же явился на зов, улыбаясь и протягивая руку помощи? Самаритянин, назвавшийся именем великого американца? Франклин Д. Рузвельт. Друг большевиков и мишлинг[187] выступил вперед, взялся за руль, и с тех пор Соединенные Штаты были обречены. Страна стала самым большим трофеем, доставшимся Карфагену. Но когда я сидел в пульмановском вагоне рядом с Рембрандтом и курил сигару, борьба еще не окончилась. И я готовился принять в ней участие. Я приложил все усилия, объединившись со множеством благородных американцев, но над нашими страданиями посмеялись – власти преследовали нас. А в это время Восток терпеливо ждал. Nito tsu vemen isu reydn…[188]
Они посадили еврея в Белый дом точно так же, как полвека назад посадили еврея на Даунинг-стрит, 10. Еще один управлял Францией. Целый комитет управлял Германией. Об Испании и говорить нечего. Португалия? Дания? Кто знает? Они скажут: «Ver veyst?»[189] И, что ужаснее всего, вероятно, будут правы. Восточный фатализм одолевает их. Они валятся прямо посреди улицы, держа в руках трубки с опием. И они называют меня дураком? Они – зомби, одурманенные таинственными хозяевами, а затем отправленные в бой против президента. Их не убивают. Полиция гуманна. Полицейские знают, что губит этих еле движущихся, грязных существ, сыновей и дочерей почтенных граждан. Но что они могут сделать?
Поезд приближался к Вашингтону, и Джимми привел меня обратно в купе, где лежал, заняв сразу три сиденья, Люциус Мортимер. Он внезапно проснулся, впился взглядом в Джимми, как будто решив, что мы собирались на него напасть, потом узнал нас и заулыбался. Когда мы справились о его здоровье, Мортимер сказал, что чувствует себя намного лучше. Мы собрались выходить.
В вагонах работали вентиляторы, и я не был готов к жаре. Мне стало очень трудно дышать, едва только я вышел на платформу. Я думал: раз в Нью-Йорке тепло, то моя легкая одежда подойдет и для Вашингтона, но влажность здесь оказалась слишком высокой. Я как будто упал в озеро и судорожно пытался дышать под водой. Я не думал ни о чем другом, пока мы не сели в такси и не отправились в отель. Я, задыхаясь, откинулся на спинку сиденья, а Джимми и Люциус смеялись над моими мучениями. Они знали, чего ожидать, и уже привыкли к этому. Я спросил, кто перевел правительство в самый центр настоящего тропического болота. Поначалу за окнами я видел только густые заросли, но потом появились лужайки, кирпичные и каменные здания, стоявшие поодаль друг от друга. Я испытал некоторое неудобство, так как уже успел привыкнуть к тесноте Нью-Йорка. Пока мы ехали к отелю, я боролся с желанием сорвать занавески с окон такси. Уже наступали сумерки, и все-таки воздух был горячим и влажным. Город казался мне практически заброшенным, как будто это и не город вовсе.
– Или со временем станет полегче, – сочувственно заметил Джимми, – или погода доконает вас.
Теперь снаружи появились смутные очертания широких, усаженных деревьями улиц, больших белых зданий, освещенных вывесок. Дома стояли все теснее, они стали немного повыше к тому времени, когда мы остановились, но я все еще чувствовал неловкость, и физическую, и психологическую, когда мы вошли в тускло освещенный вестибюль старомодного отеля, выбранного моими друзьями. Он назывался «Уормли» и считался, очевидно, очень респектабельным. Мы, похоже, были самыми молодыми постояльцами. В отличие от мира снаружи, отель показался необычайно тесным и переполненным. В моем маленьком номере на обоях виднелись изображения летящих беркутов. На потолке висел большой вентилятор. Он достаточно охладил воздух, чтобы я смог прийти в себя, помыться и переодеться к обеду. Джимми и Люциус уже договорились о встрече со своими друзьями-политиками, так что я хотел произвести наилучшее впечатление.
К тому времени, когда мы вышли на улицу, стало совсем темно. Улицы были хорошо освещены, но слишком широки, и электрические фонари светили среди густой листвы дубов, каштанов и вишен. Вашингтон производил впечатление полугорода, полулеса. Я снова почувствовал себя неловко, как будто по глупости покинул знакомый мир, где мог доверять своему разуму, и удалился в мир, в котором не получится принимать тщательно взвешенные решения. В этом месте было что-то одновременно искусственное и сельское. Вашингтон казался еще менее естественной столицей, чем Санкт-Петербург. Возможно, единственный вид промышленности здесь – это политика? Я спросил об этом своих спутников, и они удивились.
– Главная здешняя продукция – жара и черномазые, – сказал Джимми, – и в темноте вы всего этого не увидите.
Пенсильвания-авеню была такой же широкой и зеленой, как и все прочие улицы, которые я видел в этом городе. Чуть в стороне от дороги стоял колониальный (англичане используют слово «георгианский») неогреческий особняк, в котором располагался ресторан «Покок». Внутри царила такая же атмосфера, как в лучших лондонских клубах. Женщин туда не допускали, и почти все комнаты заполняли состоятельные, уверенные в себе мужчины, по большей части, очевидно, хорошо знакомые друг с другом. И снова мы трое оказались самыми молодыми гостями. Я предположил, что большинство клиентов заведения занимались политикой. Они держались с уверенной любезностью мужчин, привыкших к власти. Преобладали седые волосы и белые бакенбарды, большие сигары и негромкие шутливые замечания. Кажется, я никогда раньше не бывал в заведении, которое до самого узора на ковре отличалось бы такой непроницаемостью. Можно с уверенностью сказать, что все собравшиеся были настоящими коренными американцами. Я думаю, это помогло мне расслабиться. Когда мы втроем вошли в ресторан («Как три мушкетера», – заметил Джимми), нас приветствовал почтительный негр, указавший на стол, за которым уже сидели двое пожилых людей. Стол располагался в алькове, укрытом кружевными занавесками и тяжелыми портьерами. На стенах ресторана «Покок» висели застекленные полки, заполненные старинными книгами, украшениями, бесчисленными антикварными безделушками. Все они, как заверил меня Джимми, представляли историческую ценность. Это было мое первое настоящее столкновение с навязчивой идеей, которой одержимы все американцы: любая вещь старше двадцати лет уже считается старинной. Джимми извинился за то, что назначил встречу в «Пококе», – он считал ресторан душным и «сухим». В Вашингтоне почти невозможно было получить выпивку – только в частном доме. За обедом нам придется ограничиваться виноградным соком и шипучкой. Меня такое положение дел скорее удивляло, чем расстраивало, хотя я привык к вину, но многих американцев этот запрет просто бесил.
За столом меня представили мистеру Чарльзу Роффи и мистеру Ричарду Гилпину, которые приветствовали нас весьма изысканно и благородно. Они сказали, что рады знакомству.
– Счастлив приветствовать такого выдающегося гостя в нашей столице, – произнес мистер Роффи.
Мне следовало называть их Чарли и Диком. Я сказал, что также очень рад нашей встрече и буду польщен, если они станут называть меня Максом. Они заулыбались, рассмеялись и потрепали меня по руке, заявив, что они оба люди открытые и не любят формальностей. Они рады, что их грубые нравы мне подходят. Это самоуничижение, как я понял, отличало в Америке людей по-настоящему благородного происхождения. Чарли Роффи был высокого роста, большой мягкий живот едва не разрывал пуговицы на его жилете. Он дышал тяжело, как многие толстые мужчины, и красноту его лица лишь подчеркивали синевато-серые глаза, копна песочного цвета волос, начавших редеть, и седеющие усы. Он слышал, что моя мать англичанка. Его предки из Йоркшира. Бывал ли я в Йоркшире? Я сказал, что редко бывал на севере, только в раннем детстве. Это, очевидно, удовлетворило Джимми Рембрандта, который поглядел на Люциуса Мортимера с видом учителя, наблюдающего за успехами любимого ученика. Дик Гилпин оказался чуть старше, с суровым лицом военного, которое могло бы быть у викторианского генерала, с густыми белыми моржовыми усами и довольно длинными белоснежными волосами. С виду он представлялся выдающимся государственным деятелем. Он внимательно посмотрел на меня и шутливо заметил, что его собственные предки были несколько более сдержанны, когда говорили о своем происхождении. Он полагал, что некоторые из них воровали рогатый скот в Кенте. Вполне возможно, мои предки повесили кого-то из его предков. Это была еще одна особенность американских аристократов – они часто рассуждали о невероятных совпадениях в некоем неясном прошлом. Меня подобные заявления слегка смутили. Позже я встречал мужчин, рассказывавших романтические истории о своем индейском происхождении, при этом их деды, которые были первопоселенцами, весело описывали, как перерезали почти всех аборигенов. Кроме того, я дивился тонкому юмору, изысканности и вежливости этих двух южных дипломатов. В России американцев всегда считали грубыми, наивными людьми, одетыми в оленьи шкуры или вульгарные клетчатые костюмы, поедающими сырое мясо буйвола, громко требующими у официантов пирога. А эти американцы называли меня уважаемым сэром и с некоторым сожалением обсуждали ухудшение меню в «Дельмонико»[190].
Эти два очаровательных джентльмена сразу завоевали мое расположение. Они открыли мне мир, о котором я не мог и мечтать, продемонстрировали истинно южную элегантность и силу. На время это компенсировало мне утрату Эсме. Чарли Роффи сказал, что они с Диком из Мемфиса. Их деньги вложены в хлопок – отрасль сейчас быстро развивается. Однако они предвидели скорое снижение оборотов. Мемфису нужны новые деньги. Это означало, что Мемфису необходима промышленность, Река всегда способствовала торговле хлопком. Возможно, она поможет и некоторым другим предприятиям, но он и его партнер склонялись к более высоким скоростям. С самого начата войны он верил: будущее принадлежит авиации. Дик Гилпин с энтузиазмом согласился. Оба джентльмена опасались, что если не удастся как можно скорее привлечь инвестиции для развития южной авиационной промышленности, то Север, как они выразились, еще раз разобьет их в пух и прах, на сей раз в области коммерческих воздушных перевозок. Югу необходима авиационная промышленность, с собственными марками машин, собственными аэродромами, собственным управлением. Сотни летчиков, вернувшихся из Европы, были южанами. Так что опытных сотрудников легко отыскать. Он знает многих политических деятелей, близких к правительству Хардинга, они разделяют эти взгляды и могут помочь в получении правительственных контрактов.
– Прежде всего мы должны придумать, Макс, самый лучший самолет, а также несколько убедительных проектов аэродрома. Тогда мы обсудим перечень услуг, которые будем оказывать. Самое главное – машины должны строиться в Теннесси. Только солидное производство обеспечит нам успех. Пусть нас перестанут считать фермерами. Мы вложим в заводы прибыль, пока она у нас еще есть. Деньги – это не вклады и акции, это – кирпичи и известковый раствор. Мы надеемся, что вы поможете нам осуществить эту мечту, сэр.
Меня обрадовала его прямота. Я сказал, что уже имею некоторый опыт в организации фабрик за границей и, конечно, располагаю самыми передовыми проектами самолетов различных видов, и легче воздуха, и тяжелее воздуха.
– Мы должны убедить в этом правительственные департаменты, вы же понимаете, – заметил Дик Гилпин. – Хорош с виду – хорош на деле, как говорится. В этом городе у нас много конкурентов, это вам тоже должно быть ясно.
Надеясь, что это не преждевременно, я отважился показать им некоторые из своих газетных вырезок. В конце концов, именно они были моими верительными грамотами. Я принес с собой и диплом Санкт-Петербургской академии, различные письма и все документы, которые сумел вывезти из России. Конечно, все они были на иностранных языках, кроме статьи из корабельной газеты, но увиденное, казалось, удовлетворило обоих мужчин. Только российские газеты их обеспокоили. Желая произвести впечатление, я сделал глупую ошибку.
– На каком это языке, сынок? – спросил Чарли Роффи, поглаживая седые усы.
Меня спас не кто иной, как Рембрандт:
– На греческом. Как вам известно, сэр, многие европейские университеты все еще выдают дипломы на этом языке.
Дик Гилпин успокоился:
– Так это не русский! Я не хотел бы внезапно узнать, что вы были большевиком, мой мальчик!
Я ответил совершенно серьезно:
– Я посвятил себя уничтожению большевизма во всех его видах.
Это их успокоило и вызвало сильнейшее одобрение. Дик Гилпин поднял руку, быстро кивнул, его подбородок коснулся груди, губы расплылись в улыбке:
– Вы были в Европе и видели, во что они могут превратить страну. Простите наши дурные манеры, сэр.
Джимми Рембрандт сказал, что завтра он получит перевод моих дипломов и общий список моих достижений. Тем временем некоторые из моих чертежей уже лежали на столе министра внутренних дел и в патентном бюро. Это также вызвало прилив энтузиазма у наших хозяев, хотя их немного удивило, почему я послал патенты в Министерство внутренних дел. Я сказал, что, по моему мнению, для них там лучшее место. Мои изобретения, в конце концов, были очень разными – от самолетов до плугов.
– У нас много хороших друзей в этом департаменте. – Дик Гилпин закурил сигару. – Если мы можем быть вам полезны – пожалуйста, только дайте знать.
Мы условились встретиться через день. Тогда мы смогли бы обсудить планы на будущее более подробно. Джентльмены выразили сожаление, что деловые обязательства мешают им провести с нами весь вечер. Прежде чем уйти они настояли на том, чтобы оплатить счет. Они оставили нас за кофе. Капитан Рембрандт искренне радовался.
– Вы попали в яблочко, – сказал он. – Эти двое скряг – самые хитрые старые лисы в Вашингтоне. Они знают всех и могут получить почти все, чего захотят. Теперь они будут проверять вас, Макс, Но не волнуйтесь, они не станут заглядывать в иностранные газеты.
Я был немного удивлен этим очевидным цинизмом, ведь раньше он говорил о Роффи и Гилпине с куда большим восторгом. Капитан ответил, что это не цинизм:
– Это практический взгляд на вещи, Макс. Мы в городе политиков. Они должны быть в вас абсолютно уверены.
– Я до сих пор не понимаю, чего они хотят.
– Опыта, – сказал Люциус Мортимер. – Серьезности. Им нужен по крайней мере один настоящий ученый, подлинный авторитет, способный развить и доработать проекты. Только тогда они смогут рассчитывать на правительственную поддержку. А это означает, что они получат первые лицензии на коммерческие полеты из Мемфиса. Гилпин ничего не говорил вам, но его сын был пилотом. Мальчик так и не вернулся из Франции. Он часто размышлял о том времени, когда пассажирские самолеты заменят поезда. Именно поэтому Гилпин хочет войти в дело как можно скорее. Взгляните на состояния, заработанные на железных дорогах. И на Форда с его автомобилями. В следующий раз куш сорвут в воздухе.
Я сказал, что редко сталкивался с таким отношением к делу. Но я не мог понять, зачем компаньонам нужен новый самолет.
– Роффи верит, что человек, который управляет производством самолетов, в итоге будет контролировать все воздушное сообщение, Макс. – Мортимер извлек следующую сигару. – Моргану не просто принадлежали составы. Он купил фабрики, на которых производили локомотивы. Роффи хочет вывести Юг из промышленного кризиса. Вы часто говорили о «Рождении нации» – значит, понимаете, что я имею в виду. Пока экономика Дикси остается сельскохозяйственной, южане не смогут бросить вызов крупным финансовым интересам Севера. Роффи сталкивается с сопротивлением более консервативных людей в Мемфисе, но он точно знает, чего хочет. Его двоюродный дед владел пароходом в те времена, когда в водах Миссисипи до самого Нью-Орлеана практически не было кораблей. Но Мемфис слишком долго полагался на реку и хлопок. Гилпин видит, что этому приходит конец. Не через десять лет, наверное. Но через двадцать. А пока, можно сказать, они покупают себе страховку.
– Вы говорили, что он хитер. – Я был осторожен, быстрое развитие событий меня смущало. – Я не хочу, чтобы Гилпин впутал меня в еще одно мошенничество.
– Это не мошенничество, старик, это симфония, – сказал Люциус Мортимер.
– Он имеет в виду, что предприятие это не только финансовое, но и в какой-то мере идеалистическое. Оно принесет всем участникам только благо.
Джимми Рембрандт заметил мое замешательство. Я так никогда и не сумел овладеть американским сленгом, хотя мои познания, конечно, увеличивались. Но все же, когда они говорили одновременно, я многого не понимал.
Поздно вечером мы выехали из города и направились в Арлингтон. Джимми и Люциус сказали, что нам нужно отпраздновать событие. Взятый в аренду автомобиль оказался одним из лучших созданий Форда, хотя по сравнению с теми машинами, к которым я привык, он был вполне обыкновенным. В лучах лунного света мы свернули с главной дороги и медленно поехали по лесной тропе, которая вывела нас к большому дому. Он походил на старый южный особняк, с каменной верандой и мраморными столбами, хотя большая часть стен была изготовлена из красного кирпича. Окна прикрывали белые ставни. Здесь, по словам моих друзей, мы могли раздобыть приличную выпивку.
Дом оказался чем-то вроде закрытого клуба, несомненно предназначенного для богачей. В нем, за исключением холла, не было общих помещений. Строго одетая леди средних лет проводила нас в комнаты, стены которых были задрапированы красным бархатом и темными сосновыми панелями.
– Все оплачено, – загадочно сообщил Джимми. – Можете заказывать, что захотите.
Я в очередной раз смутился, не вполне поняв, что значили эти слова. Помещение было красиво обставлено в стиле, напоминавшем о Франции эпохи Империи. Я обнаружил две или три небольших передних, из которых можно было пройти в главный зал, отделанную мрамором ванную и туалет. Окна не открывали, поэтому мир оставался где-то далеко, а в доме царили тишина и спокойствие. Я до сих пор не мог прийти в себя.
Очевидно, мои друзья решили на некоторое время сохранить тайну – я был уверен, что они заметили мое смятение.
– Полагаю, надо выпить шампанского. – Люциус ослабил узел галстука. – Даже если это немного преждевременно. Что скажете о приятном женском обществе, Макс? Только самое лучшее. Нам оказали честь, допустив сюда, знаете ли. Вообще-то, чтобы пройти в эти двери, вы должны быть сенатором или адмиралом лет шестидесяти.
До меня наконец дошло, что мы оказались в дорогом публичном доме. Я слышал, что в Америке существовали места, куда деловые мужчины могли приехать, не опасаясь помех или скандалов. Предусмотрительность и ловкость современных американцев продолжали меня удивлять. Во всякой культуре есть особые тонкости, которые сложно постичь, пока сам с ними не столкнешься.
Я провел свою первую ночь в американской столице, нюхая превосходный «снежок» и распивая посредственное игристое вино с восхитительной шлюшкой, румяной блондинкой в зеленом атласном белье. Она называла меня «милым» и говорила, что я «просто очаровашка». Девочки из Нью-Йорка – всего лишь обычные проститутки, которых можно найти в любом большом городе. Эти вашингтонские шлюхи были игрушками генералов и конгрессменов. Они находились на более высоком уровне. An oysnam fun der velt![191] Я никогда не испытывал такого наслаждения в борделе. Следующим утром Джимми Рембрандт спросил, понравились ли мне девочки. Sind die Russen und Polen Freunde?[192] Я узнал, как вознаграждается успех в Америке. Это помогло мне освободиться от бремени меланхолии. Мне было почти невыносимо думать об Эсме или о трудностях, с которыми бедному Коле приходилось сталкиваться в Париже, где он до сих пор отчаянно трудился, чтобы очистить мое имя. Но подобные мысли ни к чему не вели. Чем больше я буду развлекаться сейчас, тем лучше смогу действовать, когда придет время воссоединиться.
Есть цена, которую нужно платить за такой способ выживания.
Ich habe es dreifach bezahlt[193].
Глава пятнадцатая
Ветер из Татарии разносит споры разрушения по всему миру. Сидя во дворцах, ужасно далекие от реальности безвольные султаны вызывают фантастически злобных духов, которые влияют на судьбы миллионов конкретных людей. Хорошо обученные гурии, вечно сосущие и ласкающие члены своих господ, подтверждают иллюзию абсолютной власти. Этот восточный ветер одурманил многих, однажды вдохнувших его. Ароматные потоки носятся по самым богатым торговым городам мира, убеждая людей в том, что им достаточно лишь заговорить об удаче, чтобы немедленно стать богатыми, достаточно только устроить причудливый заговор, чтобы тотчас обрести политическую власть. Сотни других людей могут увлечься этими фантазиями и таким образом обрести иллюзорную реальность. В Вашингтоне я вознесся на седьмое небо.
Джимми Рембрандт и Люциус Мортимер сами слегка оторвались от земли, потому и не могли меня сдержать. Даже Чарли Роффи и Дик Гилпин вдохновляли меня, рассуждая сначала о тысячах, затем о миллионах и даже о миллиардах. Речь шла об издержках или о базовых расходах. Мои деньги, как они часто повторяли, не пригодятся. Ведь именно в Вашингтоне, месте настолько нереальном, что оно почти не казалось городом, я узнал: «кусок» – это валютная единица. Все говорили о «кусках» и «половинах кусков». «Куски» – это нечто неизмеримое. Они нужны, чтобы покупать мечты и впечатлять других величием этих мечтаний. Валюта стала настолько распространенной, что мысли об обычных долларах и центах представлялись почти вульгарными. Став служащим «Хлопкового консорциума Миссисипи и Теннесси», я обзавелся собственным банковским счетом, но практически не пользовался им: почти все делалось за чужие деньги.
Вашингтон – скорее мираж, нежели город. Его почтенные памятники так тщательно сохраняются, внешность так важна для него, что все остальное кажется несущественным. Политические деятели и народ, который они якобы представляют, придают огромное значение внешнему облику. Иногда Вашингтон казался менее реальным, чем Вавилон Гриффита. Здесь я постиг истинный смысл политического лицемерия: в то время как федеральные агенты преследовали производителей самогона, заключали в тюрьму фермеров, неспособных заплатить налоги, и осаждали публичные дома, сенаторы Америки, конгрессмены, генералы и промышленники, финансисты и предприниматели упивались виски высшего качества и трахали разных девочек дважды в день. Они передавали друг другу неимоверные суммы, в то время же публично восхваляя бережливость и тяжелую работу, здравый смысл, справедливую оплату поденного труда. Они заполняли правительственные залы звучной риторикой, превращая самые невнятные эвфемизмы в железные истины. По вечерам они хвастались дружбой с бутлегерами и содержательницами публичных домов и продавали свои голоса тому, кто предлагал самую высокую цену. А тем временем Уоррен Хардинг (его убили, как только он начал понимать всю опасность коррупции) слепо улыбался, гордясь чистотой и благородством учреждений своей страны.
Вашингтон – это грандиозные сооружения из белого мрамора, главная задача которых – производить впечатление и вызывать благоговение у тех невинных, чьи деньги пошли на постройку. Этот город – и опровержение демократии, и ее завещание. При всем богатстве строительных материалов, при огромном весе гранита и штукатурки Вашингтон иллюзорен. Почти у каждого наблюдателя в какой-то момент могло возникнуть ощущение, что город вот-вот пустится наутек, что он готов исчезнуть в любой момент.
Я, по крайней мере, на время поддался чарам. Округлые ляжки хористок вздымались вверх, крошечные юбчонки разлетались в стороны, коротко стриженные волосы поражали почти так же, как яркие прекрасные улыбки девиц, хриплые стоны саксофонов заполняли залы, автомобили мчались из Монреаля, а катера прибывали из Мэна. Американцы узнали у европейцев, что можно противопоставить деньгам. Сделки могли совершаться в атмосфере двусмысленности; там, где были абстракции, были и кредиты. Разговоры стоили дешево и приносили огромные дивиденды. Ветер из Татарии проник в Новый Свет. Германия переступила черту – Вашингтон даже не обратил на это внимания. Вот какую цену страна заплатила за собственное безумие. Мы видели, как пухлые губы Рудольфа Валентино сжимали сигарету, мы пели слезливо-сентиментальную «Подержанную розу», мы изображали горе и отчаяние, которых большинство не понимало. Здесь никто ничего не понимал. Едва осознав это, Америка стала «великой державой» и все же ушла от ответственности. Экспортные товары отправлялись за границу, а капитал оставался дома, и выходило, что Европа оплачивала удовольствия Америки, а сама слабела и разрушалась. Прошло почти десять лет – и Америке был предъявлен счет. Прошло еще двадцать, прежде чем она этот счет оплатила.
В своих огромных храмах, построенных в подражание грекам, но с египетским размахом, эти политиканы изображали римлян, но жили по принципам Карфагена. Их город – центр экономических преимуществ, окруженный внешними кольцами уменьшающегося богатства, кольцами, расходящимися все дальше и достигающими в конце концов огромных масс негров, населяющих полуразрушенные здания девятнадцатого века, лачуги и хижины, расположенные так далеко от лужаек и монументов, что они неким странным способом становятся невидимыми. Негры напоминали армию, бесцельно осаждавшую город, для нападения на который не было ни храбрости, ни сил. Их нельзя было нанять, от них нельзя было откупиться, их нельзя было изгнать. Они не изменились: они погрязли в выпивке и наркотиках, скулили свои ужасные блюзы, иногда посылали нескольких калек или женщин и детей в центр – просить милостыню. Большинство, как я выяснил, отказались от хорошей работы на Юге, решив, что здесь они получат гораздо больше. Обнаружив свою ошибку, они оказались слишком трусливыми, чтобы возвратиться к работе, которую могли исполнять лучше всего, – к ручному и механическому труду, такому, как сбор хлопка или монтаж автомобилей. Как бестолковые гунны, отставшие от орды, они жили за счет милостыни, поданной слишком добросердечными или слишком встревоженными людьми, не способными отказать им. Эти ленивые существа всегда казались мне загадочными. Они достаточно спокойны, но до тех пор, пока на них не подействует какой-то циничный белый, преследующий собственные цели. Если нужны еще какие-то подтверждения возрастающей слепоты и эгоизма Вашингтона, то вот самое главное – отказ принять меры для решения проблемы негров. (В конечном итоге они стали авангардом карфагенской атаки, пушечным мясом восточных командиров. Немногочисленные истинные патриции, наследники старинных южных семейств, предупреждали о последствиях, но общество было настроено против этих людей и против таких, как я, – нас осмеивали, изгоняли, грабили, пророческие видения чернили и уничтожали.)
Я не претендую на звание великого пророка. Я никогда не верил в грядущую погибель. Да, я был оптимистом в те дни, я искал подтверждения собственной веры в цивилизацию. И найти их было довольно легко. Я верил, что, если люди доброй воли объединятся, справедливость в итоге одержит победу. Волна гедонизма, накатившая на Запад, непременно схлынет, когда люди позабудут о войне. Неужели могло быть иначе? Откуда я мог знать о разветвленном, сложном заговоре, главной целью которого было не что иное, как полное порабощение белой расы? Конечно, кое-кто уже обо всем догадался. Я читал статьи о растущей силе Рыцарей Огненного Креста. Меня увлекли их романтичные костюмы и ритуалы, но я предположил, что все общество – легенда времен Реконструкции, которую Гриффит использовал, чтобы оживить и наполнить смыслом свою изумительную аллегорию. Новость о том, что общество до сих пор существует, воспламенила мое воображение. В Вашингтоне немногие открыто разделяли мой энтузиазм, но немало людей в конфиденциальных беседах поддерживали клан. Эти политики, сидевшие в башнях из слоновой кости, с готовностью позволяли другим мужчинам облачаться в боевые одежды, садиться на коней и отправляться на битву. Но они только что предоставили право голоса женщинам (как всем известно, существам близоруким и терпимым) и теперь не желали высказываться публично. Они боялись потерять голоса и, как следствие, лишиться прав на безбедную жизнь в коридорах власти.
Тем временем, впечатленный энтузиазмом своих молодых друзей, я решил использовать радиоволны на определенных частотах для управления аэропланами с центральной станции. Если направлять электрические импульсы к двигателям, запас энергии будет практически безграничным. Не нуждаясь в дозаправке, самолеты могли легко преодолевать расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, не приземляясь и перевозя более сотни пассажиров за один рейс. Возможно, самолет мог бы даже облететь весь мир без единой остановки!
Когда вечерами мы расставались с компаньонами, я работал в своем гостиничном номере до двух часов ночи. Иногда я почти не спал, постоянно поддерживая силы кокаином и другими стимуляторами. Я не чуждался женского общества – нужно было как-то справиться с ужасным ощущением утраты, которое возникало всякий раз, когда я вспоминал об Эсме. Пока я не получил ни единого ответа из Парижа. Я думаю, что это и заставляло меня так усиленно работать. Мои мемфисские друзья, по их словам, делали успехи, добиваясь поддержки конгресса и частных вкладчиков. Приходилось дергать за ниточки и давать «на лапы», но они вскоре надеялись добиться желаемого результата. Кроме того, если мне станет скучно в Вашингтоне, я могу переехать в Мемфис. Они постоянно путешествовали туда-обратно. Я, однако, хотел остаться в столице. Джимми и Люциус повстречали политических деятелей, которым нравилось играть в карты, так что они тоже решили задержаться. Они всегда с готовностью знакомили меня с молодыми женщинами из офисов и магазинов, скучающими замужними дамами и восхитительными проститутками. У меня появилось множество непристойных партнерш, готовых на самые необычные сексуальные излишества. Я узнал, что в пуританской стране личное удовольствие прямо пропорционально общественной нравственности. Например, я провел Рождество в небольшом отеле близ Арлингтона совершенно голым в обществе шестерых других мужчин и более чем дюжины молодых женщин, две из них были квартеронками. К тому времени мои патенты подтвердили и зарегистрировали (но из Министерства внутренних дел пришел только вежливый ответ, а от министра торговли я не получил ничего). Чтобы хватило денег на особые расходы, которых не обеспечивали мои покровители, я продал коммерческие права на одно из своих мелких изобретений, беспроводной генератор для лечения ревматизма. Он достался бизнесмену-северянину, который позднее вывел мою машину на рынок и нажил состояние. Впрочем, я уехал из Америки к тому времени, когда появились его рекламные объявления. (Я случайно их увидел потом в старом журнале.)
На следующий день после Рождества я отправился с Люциусом и Джимми на шоу Зигфельда[194]. Их беспокоило то, что я был слишком нетерпеливым, так как события развивались медленно. Я постарался переубедить своих друзей. Я уже научился ждать. В глубине души я считал, что авиакомпания – первый шаг на пути к тому, чтобы занять место Эдисона в пантеоне самых знаменитых и успешных изобретателей Америки. Джимми спросил, удобный ли у меня номер и обеспечен ли я всем необходимым.
Я не хотел демонстрировать свой восторг:
– О, все в полном порядке. Я – человек простых вкусов.
– И, разумеется, у вас нет никаких финансовых проблем.
Люциус рассмеялся:
– Это должно беспокоить Макса меньше всего!
Я был благодарен им за гостеприимство и не спешил разуверять в том, что обладаю собственными средствами. Даже с самым благодушным бизнесменом легче иметь дело, если производишь впечатление обеспеченного человека. Нехватку средств я объяснял весьма туманно, упоминая о проблемах с обналичиванием чеков, выписанных на иностранные банки. Из этого мои друзья сделали вывод, что я держу свои деньги в основном в Швейцарии. Я не стал их разочаровывать. Эти сведения, несомненно, дошли до мемфисских партнеров. Когда настанет время обсуждать доход и распределение акций, я буду в выигрышном положении. Все слышали историю металлургической компании, которую владельцы решили продать Дж. П. Моргану за пять миллионов, захотели сначала запросить десять, а затем услышали, что он даст им двадцать, прежде чем успели открыть рты. В Вашингтоне мне пришлось изучить основы бизнеса. Нужно было приноровиться к новому окружению, и поэтому не следовало забывать об условностях и правилах. Отцы-пилигримы приравняли набожность к материальному богатству. Сказать янки, что ты беден, почти так же плохо, как признаться отлученному от Церкви, что ты католик. Вдобавок почти все считают, что богатый иностранец существенно отличается от бедного. Возможно, благодаря моей осторожности и сообразительности, а также любезности Роффи и Гилпина я не испытал затруднений, когда понадобилось продлить мою визу.
Канун Нового года и мой день рождения стали одной непрерывной вечеринкой где-то в Мэриленде. Меня окружали известные светские люди, политики и военные. Я мало что могу вспомнить, за исключением того, что занимался любовью с одной леди, в синем кружевном платье, за диваном и с другой, в желтом платье, на ковре в библиотеке. После недавнего радиовыступления президента Хардинга с Арлингтонского кладбища все заинтересовались моими идеями насчет радио. Потом началось что-то вроде протеста против воздушных путешествий – все началось с катастрофы «ZR‑2»! в Англии, когда судно рухнуло и в огне сгорели, помимо прочих, шестнадцать американцев. Люди заговорили [195] о том, что коммерческие перелеты – дело далекого будущего. В настоящее время они слишком опасны. Я возражал. Мои проекты были настолько передовыми, что подобные несчастные случаи попросту исключались. Радиоуправление позволило бы повысить уровень безопасности моего самолета. В те недели, на рубеже 1922 года, я рассказывал о принципах действия радиоволн десяткам выдающихся людей. Я приобрел известность в Вашингтоне, меня часто приглашали на вечеринки или тихие обеды, чтобы поговорить о науке и ее будущем. Меня упоминали в светской хронике как Макса Питерсона. Меня считали авторитетом и цитировали во многих статьях о будущем, подобные которым, кажется, всегда появляются в газетах в начале года. Обычно меня описывали как профессора Макса Питерсона, известного французского летчика и изобретателя. У меня до сих пор хранятся эти статьи из «Джексон экзаминер», «Вашингтон уорлд», «Делавэр диспатч», «Ист-Тексес дефендер» и многих других ведущих журналов. Цитаты не всегда были точными, мое имя иногда писали с орфографическими ошибками, но это доказывало и мне, и другим, что я добился определенного положения в Америке. Чарли Роффи и Дик Гилпин порадовались моей растущей известности, когда вернулись из Мемфиса в конце месяца. Это могло им помочь. Они также пострадали после крушения «ZR‑2». Но полет Стинсона и Берто1 на моноплане и рекорд непрерывного пребывания в воздухе (более двадцати шести часов) существенно улучшили положение, как и новый рекорд высоты. Мы теперь с огромной скоростью приближались к финалу, сказал Роффи. В любой момент из Капитолия мог поступить сигнал. Мне следовало серьезно подумать о том, чтобы собрать вещи и переехать в Мемфис.
Я был готов расстаться с Вашингтоном. У меня все еще оставалось несколько сотен долларов в запасе после продажи патента, но Джимми Рембрандт остался без средств раньше меня, и я ссудил ему пять сотен. Вдобавок некая замужняя дама, жена сенатора из Новой Англии, начала преследовать меня в отеле – она звонила в неподходящее время и угрожала, что обвинит меня в изнасиловании и потребует моей высылки, если я не соглашусь с ней встретиться. Я не хотел оказаться жеребцом, которого могли использовать как угодно, вопреки его воле. Покинув город, я избавился бы от всех затруднений. Женщина перестала бы [196] мешать моей работе, которая уже подходила к завершению. Я подготовил технические спецификации и схемы будущего передатчика радиоволн. Во время следующего визита Чарли Роффи спросил, получится ли у меня выехать в Мемфис к третьему февраля. Я заявил, что буду в его распоряжении. Казалось, он очень волновался. Все было улажено, кроме незначительных документов. Наше авиационное предприятие могло стартовать меньше чем через месяц.
Мне не понадобилось много времени, чтобы привести в порядок дела. Я зарегистрировал свое новое изобретение. Я еще раз написал Эсме и Коле. Было опасно связываться со мной напрямую, но сообщение можно передать через миссис Корнелиус. Я написал своей подруге-кокни, сообщил, как идут дела, и пожелал ей удачи. Моя звезда вот-вот взойдет в Теннесси. В ближайшее время у меня, несомненно, появятся собственный особняк и плантация. Она может разыскать меня под именем полковника Питерсона в «Адлер апартментс», Линдон-стрит, Мемфис, Теннесси, где Дик Гилпин снял для меня комнаты.
Тем вечером я в последний раз поужинал со своими юными благодетелями. Сами они возвращались в Нью-Йорк по делу. Они сказали, что при первой же возможности попытаются увидеться со мной в Мемфисе. Мы неизбежно встретимся в ближайшем будущем, заверил Джимми. В конце концов, мы по-прежнему оставались «тремя мушкетерами». Пятьсот долларов он мне обещал прислать через несколько дней.
Третьего февраля 1922 года я сел в пульмановский вагон, который обслуживала Южная железнодорожная компания. Всего через сорок пять часов я оказался в «городе Нового Нила» – так его назвал Марк Твен. Падал легкий снег. Завернувшись в медвежью шубу, чувствуя прилив уверенности, когда моих бедер касались казацкие пистолеты, я сидел в отдельном купе. Я воображал себя первопроходцем девятнадцатого века, собирающимся исследовать девственный континент. Я устал от Вашингтона и его декадентских радостей. Я с нетерпением ждал более суровых удовольствий Мемфиса. Прозвенел звонок. Поезд зашумел. Позже, в сумраке, я прошел в технический вагон. Позади меня как будто рушились огромные памятники и колонны. Колея превратилась в две тонких черных линии в неясном пространстве, которое постепенно становилось все более хаотичным. Вскоре перед глазами у меня остался только движущийся занавес снежной бури, он скрывал одну мечту так, чтобы ее могла заменить другая.
Глава шестнадцатая
Река Миссисипи, столь же судоходная и широкая, как Волга, столь же важная для американской истории, как Днепр для нашей русской, вилась среди невысоких холмов. Увидев ее, я вздрогнул, словно мне открылась давно знакомая картина. Я как будто никогда не уезжал из России. Когда я поднялся с постели и выглянул в просвет между шторками, едва не поверил, что еду на поезде в Киев. Все пережитое с 1917 года показалось одной долгой лихорадочной галлюцинацией. Потом появились рекламные щиты и вывески на английском, и в сиянии рассвета мы свернули к предместьям Мемфиса. Ряды жалких, некрашеных лачуг внезапно сменились пустыми пространствами, посреди которых возвышались грандиозные викторианские здания, украшенные резьбой по дереву в подражание готическим соборам и французским замкам. И все тонким слоем покрывал снег. По-прежнему сохранялось впечатление, что я находился в предреволюционной Украине. Здания в пригородах были низкими, а улицы – широкими. Трамвайные вагоны, элегантно отделанные медью и неброско покрашенные, ровно катились вдоль рядов голых деревьев. Ярко расцвеченные фронтоны и ставни были бы уместнее в маленьком поселке, а не в большом городе. И вот среди тумана в лучах восходящего солнца появились более высокие здания. Когда поезд сделал поворот, я увидел ряды огромных пароходов с боковыми и кормовыми колесами, пришвартованных к причалам, на которых лежали горы товаров. Я мог бы поверить, что оказался в Нижнем Новгороде, если б не острые баптистские шпили, занявшие место наших православных луковичных куполов. Кроме того, машин здесь было гораздо больше, чем в русских городах. Следовательно, больше было и шоссейных дорог.
Клубы темного дыма растворялись в тумане. Тишина постепенно уступала место звукам оживленного торгового порта, который готовился к началу трудового дня. Потом иллюзия дружелюбия исчезла – появились бригады негров, которые дымили короткими трубками и перебрасывались шутками. Они направлялись к пристани от железнодорожных путей. Я к тому времени уже привык к черным лицам, но иногда они все-таки появлялись в неожиданных местах и обстоятельствах. Все слуги на Юге были темнокожими, от проводника в поезде до аккуратного извозчика, которого послали, чтобы довезти меня от станции до гостиницы. Он сказал, что его зовут Гибсон. Извозчик носил старомодное коричневое пальто с медными пуговицами и белые перчатки. Говорил он низким, ровным голосом, который удивительным образом отличался от монотонного ритмичного скулежа швейцаров, разносчиков газет и других бездельников, которые носились повсюду, подпрыгивая почти по-звериному. На северо-востоке негры так себя не вели. Я решил, что они какой-то другой породы. Экипаж проехал по Мэйн-стрит, через весь город, оказавшийся куда современнее, чем я ожидал; повсюду продолжалось строительство. Хотя здешние небоскребы и не достигали такой высоты, как в Нью-Йорке, но я увидел несколько зданий в четырнадцать этажей. Трамваи, электрическое освещение, яркие вывески, автомобили, универмаги и многочисленные рестораны – все производило то самое успокоительное впечатление, которого мне не хватало в Вашингтоне и которое ярко проявилось в Нью-Йорке. Относительно небольшой Мемфис был все-таки настоящим городом. Коляска остановилась возле «Адлер апартментс» на Линден-стрит. С одной стороны от входа располагался офис «Вестерн Юнион». Увидев его, я очень обрадовался. Здесь мои вещи передали двум швейцарам, а белый управляющий приветствовал меня и показал номер, расположенный на втором этаже. На мистере Бэскине был темный габардиновый костюм, в руках он держал шляпу и пальто. Он пояснил, что у него назначена встреча. Управляющий продемонстрировал мне все удобства, пожелал приятного пребывания в Мемфисе и вежливо заметил, что он всегда к моим услугам, если что-то понадобится. К полудню горничная приготовила одежду, и я смог вымыться и привести себя в порядок. Потом я надежно спрятал свои чертежи и решил позавтракать.
Мемфису недоставало нью-йоркского блеска и вашингтонского скромного обаяния, но у этого города была своя привлекательная атмосфера, которая мне показалась очень приятной после нескольких месяцев ирреального существования в столице. Свернув с Линден-стрит на Мэйн, я прогулялся мимо кинотеатра, театра, крупных магазинов и общественных зданий. Это успокаивало меня, как и сеть знаков и вывесок, рекламировавших все – от табака до красок, от лекарств до электротоваров. В очаровательном недорогом ресторане с немецким названием я попробовал местные блюда, которые ничем не напоминали европейские. Так я впервые отведал коровий горох и кукурузный хлеб, что было неизбежно. Сладковатой густой белой подливкой полили и цыпленка, и картофель. После еды я почувствовал себя кораблем, до самых бортов загруженным балластом. С трудом переводя дух, я вернулся в «Адлер». Швейцар приветствовал меня, назвав полковником Питерсоном. Эти цветные слуги были невероятно трудолюбивы, добросовестны и исполнительны. Самое ужасное, что могли сделать люди, – это пробудить в них недовольство (как показал Гриффит в «Рождении нации»). Статус-кво действовал превосходно. Кроме того, я не испытывал предубеждения по отношению к жителям Мемфиса. У меня не возникло затруднений в ресторане, хотя мой акцент было трудно распознать. Здесь еще сохранилось старомодное южное гостеприимство. В ближайшие недели я обнаружил, что люди готовы признать мой акцент каким-нибудь местным вариантом английского или французского. Конечно, надо мной иногда подшучивали, замечая, например, что я говорю так, будто держу яйцо во рту, но я почти не сталкивался с подозрительностью, которую проявляли на юге ко всем иностранцам. Южане были так же любопытны, как и прочие американцы, но никогда не обижались, если слышали в ответ, что вы не сможете ответить на какие-то вопросы. Я почти всегда с готовностью отвечал им, пускай и не всегда правдиво. Мне пришлось принять предложение Джимми и Люциуса, хотя, возможно, их стремление выдумать для меня более подходящую маску и привело к некоторым нежелательным результатам. Я не хотел их смущать.
Вернувшись в «Адлер», я улегся в кровать и просмотрел «Мемфисский коммерческий вестник». Большая часть материалов мне показалась непонятной. Однако я с интересом обнаружил, что в городе уже шли разговоры о необходимости постоянного аэродрома. Я не совсем понимал, что делать в Мемфисе, но решил, что лучше подождать, пока я не получу новостей от мистера Роффи или от мистера Гилпина. Номер был достаточно удобным, хотя немного старомодным по нью-йоркским стандартам. В моем распоряжении находились спальня, гостиная, ванная и гардероб. Набор услуг оказался невелик, но можно было питаться самостоятельно. Я впервые столкнулся с таким явлением, как самообслуживание. Меня это вполне устроило, хотя я был не очень опытен в приготовлении чая, кофе и прочего. Все-таки я умел приспосабливаться и потому быстро всему научился. Горничная, заверил меня мистер Бэскин, за небольшое вознаграждение охотно приготовит завтрак.
Теперь, когда первоначальное волнение улеглось, мое настроение снова начало портиться. Вновь появились мысли об Эсме, Коле, матери и капитане Брауне. В качестве утешения я принялся сочинять письма, излагать обстоятельства своего путешествия через Ноксвилл в Мемфис, рассказывать о знакомстве с рекой Гекльберри Финна и с южанами. Я написал несколько таких писем, и тут в дверь номера постучали. Я встал из-за стола, чтобы открыть дверь. Передо мной стоял Чарли Роффи, восторженный и извиняющийся. Его живот поднимался и опускался, лицо раскраснелось после подъема по лестнице.
– Мне так жаль, что мы не смогли встретить вас на станции, полковник. Вы, должно быть, считаете нас невоспитанными проходимцами. Мы с Диком возвращались из Джексона и немного задержались. Я очень надеюсь, что вам все понравилось.
Я ответил, что всем доволен. И предположил, что могут возникнуть некоторые незначительные трудности, связанные с квартирой, и, вероятно, позже мне понадобятся советы по мелочам, но сейчас я был уверен, что через пару дней почувствую себя настоящим аборигеном.
– Конечно, так, сэр. Если нужно, мы подыщем для вас слугу. Еще что-нибудь вам требуется? Наличные?
– У меня сейчас вполне достаточно средств. – Я замялся. – Было бы недурно, если бы вы указали мне, где можно найти… общество.
Он был удивлен.
– Мы не такие отсталые, как хотят думать некоторые. Нужно соблюдать осторожность, и, я уверен, вы это оцените. Чем меньше город, тем больше в нем глаз, да? Но, конечно, все можно устроить. Теперь, скажите мне, привезли ли вы свои проекты?
– Они в этом ящике.
– Роскошно! – Чарли Роффи опустил подбородок и надулся, как петух, а потом посмотрел на меня искоса. Его розовые губы изогнулись в улыбке. – Я по-настоящему рад нашей встрече, сэр. Это истинная удача. Это судьба. Мемфис скоро будет на подъеме. Он стремится двинуться в будущее как можно быстрее. Это самый лучший момент для нашего объединения. Скажите, сэр, не хотите поужинать со мной и Диком Гилпином чуть позже?
Я сказал ему, что с удовольствием приму приглашение. Я заметил, что подражаю любезности пожилого человека. Его поведение было волнующим напоминанием о моем прошлом. Южная вежливость очень убедительна и зачастую, как ни странно, агрессивна. Она свидетельствует о тщательно сохраняемой культуре и о стремлении к поддержанию порядка. Она становится вызовом посторонним при том, что кажется чем-то совершенно противоположным. Как я обнаружил, южане могли порицать собственные грубые нравы, и это самоуничижение свидетельствовало о подлинном высокомерии. Такое часто встречалось в культурах, которые со всех сторон подвергаются нападкам, – я тотчас признал это свойство. Южане разделяли нашу русскую привязанность к колоритной речи и красочным выражениям, и поэтому здесь я мог чувствовать себя более непринужденно. Мне редко приходилось высказывать свое мнение – они как будто всегда заранее принимали мое согласие, и это, конечно, оказалось очень удобно. (Как выяснилось, разногласий между нами вообще практически не было.)
– Я зайду за вами около шести, – сказал Чарли Роффи перед уходом. – А пока вам стоит осмотреться. Снаружи стоит такси.
На меня вновь произвело впечатление его южное гостеприимство. Я решил отложить оставшиеся письма на потом.
Как и во многих городах, основу жизни которых составляла речная торговля, истинным центром Мемфиса были пристани. У реки стояли склады, затем располагались конторы, потом магазины, отели, разные заведения, общественные здания. И поодаль находились жилые районы, от бедных черных до богатых белых. Я осмотрел захудалую Билл-стрит и соседние улочки, с их ломбардами, убогими кафе и магазинами подержанной одежды, – здесь не было для меня ничего интересного. Вида волочащих ноги чернокожих и воплей каких-то ужасных младенцев оказалось вполне достаточно – я удержался от дальнейшего изучения этих мест. Я не мог (и до сих пор не могу) разделить сентиментальное восхищение исполнителями дикарских песнопений и рабских причитаний, которые свободно и безнравственно живут на омерзительных улицах. Еще в сороковых я встречал людей, которые интересовались, встречал ли я Мемфис Минни или У. К. Хэнди[197]. Я отвечал им, что никогда не видел и не слышал ни этих, ни других крикливых негров. Только поколение, пресытившееся всеми мыслимыми и немыслимыми ощущениями, могло сделать своими героями и героинями несчастных наркоманов и алкоголиков, которые (по большей части вполне заслуженно) умерли в молодом возрасте. А что касается их белых подражателей – они предали свое прошлое. А теперь я вижу, что они поставили статую какой-то Слепой Дыни на городской площади и назвали улицу в честь женоподобного дервиша Пресли[198]. Когда я был в Мемфисе, он воплощал все лучшие свойства Юга. Теперь, очевидно, он вобрал все худшее. Там, где белые подражают черным, Карфаген одержал победу.
Неужели современный Мемфис пал под давлением восточного shmaltz[199]? Он пошел по пути других? Неужели они устроили декорации из пластика и штукатурки, чтобы воплотить какие-то ностальгические фантазии, и ради этого уничтожили величественный камень и роскошный мрамор? Те огромные кирпичные дома свидетельствовали о заслуженном успехе и древнем богатстве, о национальной гордости и общественном статусе. По центральным улицам тянулись телефонные провода, электрические линии рассекали небо повсюду, куда ни бросишь взор. Трамваи пели, как колокола Нотр-Дама, а огромные пароходы выводили на реке свои печальные мелодии. Хлопку, основе жизни Мемфиса, угрожал искусственный шелк. Некогда Мемфис кормил докеров Ливерпуля и рабочих Манчестера, и те, в свою очередь, вознаграждали его. Самый большой отель в Мемфисе назвали в честь английского филантропа Пибоди, имя которого до сих пор красуется на лондонских домах Пибоди. Мемфис не был провинциальным поселением, которое можно разрушить одним-единственным дуновением экономического ветра. Мемфис пережил один долгий период процветания и теперь готовился пережить следующий. Здесь могли построить первый муниципальный аэропорт. В конечном счете в результате таинственных исторических и географических процессов город стал бы медицинской столицей Юга, здесь появились бы десятки больниц, медицинских училищ, клиник и исследовательских центров. В путеводителях написали бы, что деятельность основных предприятий Мемфиса когда-то была связана с хлопком, а теперь – с болезнями и их лечением. Мое объяснение связано с целебными свойствами грязи Миссисипи и ее сходством с грязью, обнаруженной в лиманах старой Одессы до революции. Иногда я представляю, что Мемфис превратился в тысячу невыразительных белых небоскребов, окружающих несколько акров идеального негритянского города, заключенного в герметичную оболочку. Туристы приезжают туда, чтобы послушать играющих на банджо негров, которые стенают о своих печалях за сто долларов в день. В других случаях я воображаю, что ничего не изменилось, что я снова иду по Мэйн-стрит так же, как в первый раз. На улице оживленное движение. Гудят клаксоны, ржут кони, грохочут и лязгают трамваи и автобусы, а полицейские из последних сил пытаются справиться с потоком автомобилей и экипажей.
Я помню, как мой возница, спокойно пожимая плечами, удерживал свою лошадь. Он сказал, что такое скопление необычно, но его никак нельзя предвидеть. Он предложил мне пройти несколько кварталов до отеля пешком, если я спешу. Время шло к шести. Так как вознице уже заплатили, я дал ему хорошие чаевые и пожелал удачи. Мне нравилось пробираться по этим переполненным городским улицам. В отличие от Вашингтона, Мемфис был естественным городом. Он вырос спонтанно, как только возникла экономическая необходимость. Если Нью-Йорк воплощал будущее, то Мемфис – знакомое настоящее. Я двигался среди крикливых водителей и увертливых пешеходов, и меня переполнял восторг. Слишком долго я жил в одних только столицах. И вот наконец передо мной город, основу которого составляет не древняя сила, не монументы, а жители. Здесь я не чувствовал подавленности. Действительно, казалось вполне возможным, что я завоюю Мемфис. Возможно, здесь я смогу найти новую отправную точку, как нашел ее в Киеве. Я родился в городе, обязанном своим существованием реке. Поэтому я легко мог добиться успеха в Мемфисе.
Тем вечером я ужинал со щедрыми джентльменами, Роффи и Гилпином, в ресторане под названием «Янсенс», неподалеку от моей гостиницы. Пища была самой обыкновенной, но здоровой и, похоже, очень нравилась моим хозяевам. С ними пришла молодая особа, и я поначалу подумал, с некоторым восхищением, что она станет моей спутницей. Пандора Фэрфакс была ясноглазой темноволосой невысокой женщиной, которая отличалась дерзостью и самоуверенностью. Она немного напоминала Зою, девочку-цыганку из моего детства. К своему удивлению, я узнал, что она была летчицей. Она недавно приехала в Мемфис, чтобы выступить с показательными полетами. Теперь миссис Фэрфакс хотела поселиться здесь. Она и ее муж были летчиками.
– Мы гастролировали в провинции, – сказала она, – но думаем, что пора с этим кончать.
Чарли Роффи просиял:
– Иначе ваши зубы могут очень скоро расшататься. – Он тотчас пояснил: – Самый известный трюк мисс Пандоры – она висит в воздухе, сжимая зубами трапецию, которая крепится к самолету ее мужа. Она также совершает прогулки в воздухе по крылу самолета и прыжки с парашютом.
Это произвело на меня впечатление. Мисс Фэрфакс была привлекательна и интересна. Она пожелала услышать мои собственные рассказы о полетах. Чем я управлял, какой машиной? Я постарался ответить как можно обстоятельнее. Она сказала, что завидует моему опыту с «эртцем» («Хотя это, судя по всему, та еще болванка»). Я мог полетать на их «де хэвилленде DH‑4», если захочу. Тронутый ее великодушием, я сказал, что заберусь в кабину в мгновение ока, если когда-нибудь представится возможность. Гилпин уже рассказал ей о новом аэропорте и о самолете, который я спроектировал. Миссис Фэрфакс захотела посмотреть мои чертежи.
– Вы сможете изучить их, как только пожелаете, – сказал я.
Она и ее муж как раз пытались создать частный аэродром, но наши планы идеально дополняли друг друга.
– Чем нас больше, тем веселее, – произнесла она.
Миссис Фэрфакс ушла рано. Пожимая мне руку, она тепло улыбнулась:
– Надеюсь, что мы сможем помочь друг другу, полковник Питерсон.
Когда миссис Фэрфакс удалилась, Дик Гилпин с восторгом заговорил о ней. В этой части страны ее знали все. Она начала работать машинисткой, но выучилась летать всего через несколько дней офисной работы.
– Она оказалась прирожденной летчицей. Ее муж – военный ас. Вы, возможно, даже встречались с ним.
Я сказал, что не могу вспомнить никого по фамилии Фэрфакс.
– Прекрасный человек, – сказал Чарли Роффи, предлагая мне большую сигару. – И здравого смысла у него побольше, чем у других летчиков.
Дик Гилпин сказал, что, если я не возражаю, они договорятся об интервью для «Коммерческого вестника». Газета была лучшей в Мемфисе. Журналисты, возможно, захотят поместить мою фотографию в мундире. Я с готовностью согласился. Чарли Роффи сказал, что это очень поможет их делу. Он спросил, можно ли зайти ко мне около девяти следующим утром. Я предоставил себя в его распоряжение.
– Я здесь ваш гость, – сказал я, – и хочу делать то, что лучше всего послужит нашим общим интересам.
Мои друзья высадили меня возле «Адлер апартментс», а потом уехали. Впервые за много месяцев я отправился прямиком в постель и немедленно погрузился в сон. Мне снился Мемфис, возносящийся над рекой на серебряных облаках, а я был капитаном, который прокладывал курс над прериями Канзаса и Дакоты. Старый Шаттерхэнд[200], охотник на буйволов, облаченный в оленьи шкуры, стоял рядом со мной, держа в руках свое длинное ружье. Прерии будут снова принадлежать странствующим городам Америки, и смерти не станет. В Мемфисе я не мог увидеть Бродманна, не мог принять его за Берникова. Берников мертв, его искалеченное тело лежало на мощеном причале в Батуме. Как Бродманн может догнать меня? Он был евреем и коммунистом. Ему никогда не позволили бы проникнуть сюда. Бород снижается и разворачивается, когда я направляю его к солнцу. Свет слепит меня. Что такого обнаружил я в городе собак, чего так хотел Бродманн? Снова виден горизонт. Saat kactir? Jego widzialem, ale ciebie nie widzialem[201]. Мечта всегда уводит на Запад, она всегда совсем рядом. Конечно, все кончится у моря. Я отважный человек. Я могу вести корабль. Я понимаю наше положение. Но что же это за поиски? Я должен сосредоточиться. Мы падаем. Я чувствую слабость. Ich will nicht Soldat werden![202] Как Бродманн мог мне навредить? Они думают, что кусок металла сделает меня их рабом? Я не стану мусульманином. Я враг султанов. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein[203]. Gibt es etwas Neues?[204] Я не поеду в Берлин.
После завтрака я отправился в редакцию газеты. Журналист, который брал у меня интервью, сказал, что статья выйдет в следующем номере. Что я думал о Мемфисе? О Юге? Они прекрасны, заявил я, и люди здесь очень воспитанны. Он спросил, где я жил в Англии. В Уайтчепеле, сообщил я (я был почти уверен, что знаю эти места, так часто о них говорила миссис Корнелиус). Он спросил, похож ли Уайтчепел на Мемфис. Я ответил, что есть некоторые примечательные общие черты. Река, конечно, и количество негров. Репортер хотел, чтобы я уточнил. Но мне пришлось ограничиться заявлением, что наши негры вели себя прилично и работали в основном в доках и общественных туалетах, которые широко распространились в Лондоне, – это часто отмечали путешественники, Все было достаточно близко к правде, в конце концов. Мои фантазии зачастую предвосхищали реальность. Интервью утомило меня сильнее, чем я предполагал, и после обеда я с превеликой радостью сел в машину Пандоры Фэрфакс и поехал знакомиться с ее мужем. Он оказался высоким человеком с орлиным профилем, небольшие шрамы на правой щеке только подчеркивали его обаяние. Как и многие ветераны-летчики, он был не слишком разговорчив и вел себя достаточно скромно. Это вызывало симпатию и в то же время подчеркивало его значительность. Мы поговорили об ужасных боевых вылетах во время войны. Он управлял главным образом английскими самолетами, а также парой французских и американских машин. Он выразил надежду, что я останусь на ужин. Тем вечером сам я говорил очень немного, но старался побольше вытянуть из Генри Фэрфакса. Точнее, я задавал ему вопросы, на которые в основном отвечала Пандора. Он был родом из Миннесоты и больше всего на свете любил те края. Жители Мемфиса относились к самолетам без всякого предубеждения. Во время войны неподалеку располагалась авиабаза, и местные обитатели уже повидали самые разные летающие машины. Он недолго преподавал на авиабазе. Капиталовложения в Мемфис – это очень хороший выбор. Здесь люди куда прогрессивнее, чем думают многие чужаки.
Было бы глупо рассказывать ему, что инвестировать мне нечего, за исключением таланта. Если местные жители решат, что я приехал, чтобы вложить деньги в их город, они будут относиться ко мне гораздо дружелюбнее. Фэрфаксы спросили, как давно я знаю Гилпина и Роффи. Я упомянул, что мы познакомились в Вашингтоне в прошлом году. Генри Фэрфакс проявил интерес к моим друзьям. Мистер Роффи связался с Фэрфакеами совсем недавно. Он хотел, чтобы они поддержали проект аэропорта. Некоторые думали, что его можно устроить на Мад-Айленде, который находится поодаль от причалов. Я ничего об этом не знал, но высказал сомнение:
– Не знаю, достаточно ли велик остров. Расширение аэропорта в будущем может оказаться почти невозможным.
Они согласились.
– Но земля в Мемфисе не очень дешевая, – сказала Пандора. – Есть проекты строительства нескольких крупных отелей и других зданий. Вы, вероятно, видели, как идут работы. Все говорят, что Мемфис будет быстро расти. По крайней мере, все этого ожидают.
– Мы и сами так думаем, – заметил ее муж.
Она рассмеялась:
– Я называю это просто – воспользоваться случаем.
Небольшой деревянный дом в пригороде Мемфиса казался почти деревенским. У Фэрфаксов было электричество, но сейчас кабель порвался, и они освещали комнаты керасиновыми лампами. Это было очень приятное чувство – я как будто вернулся назад в прошлое, чтобы побеседовать о чудесах будущего. После ужина зашел знакомый хозяев, еще один летчик, майор Александр Синклер. Вел он себя очень просто, говорил прямо, но причины его визита показались несколько загадочными. Он недавно приехал из Атланты. Я спросил, знает ли он Тома Кэдвалладера. «Только по слухам», – сказал он. Майор вел себя слегка отчужденно, хотя, очевидно, прилагал все усилия, чтобы выглядеть общительным. Позже, после порции хорошего самогона, он проникся ко мне теплыми чувствами. Майора заинтересовало, что я был авиатором во Франции. Он, очевидно, успокоился, когда речь зашла о католической церкви, и я заявил, что, по-моему, папе римскому придется за многое ответить. Только очень сильный человек, вставший на антиклерикальные позиции, мог спасти Италию. Синклер упомянул о собственных приключениях в Европе и спросил, знаю ли я кого-то из его уцелевших товарищей. Я честно ответил, что летал преимущественно на Восточном фронте. Я находился в Экспедиционном корпусе союзников во время русской гражданской войны. Майор проявил огромный интерес к тому, что я думал о большевиках и евреях. Я довольно долго и откровенно высказывал ему свои суждения, оправдываясь, что он задел меня за живое. Но Синклер пришел в восторг:
– Вам не следует сдерживаться в разговоре со мной, полковник. Я полностью разделяю ваши взгляды.
Задумывался ли я когда-нибудь о выступлении перед обширной аудиторией на тему опасностей католицизма и большевизма? Я сказал, что любое предупреждение, которое я могу дать американскому народу, будет искренним и основанным на реальном опыте.
– Но я скорее человек действия, а не слова, майор Синклер.
Уже было очень поздно, и я заметил, что хозяева устали. Майор настаивал на том, чтобы отвезти меня в Мемфис, несмотря на то, что он собирался остаться у Фэрфаксов. Я несколько эгоистично принял его предложение. Мы сразу привязались друг к другу – подобное иногда случается с людьми, которые не имеют как будто ничего общего между собой. Мы оба, однако, были интеллектуалами, которые «верили в действие вместо плача», как выразился Синклер. Он высадил меня возле «Адлерс апартментс» в два часа утра, записал мой адрес и сказал, что будет ждать нашей следующей встречи.
На сей раз я ложился в постель в гораздо лучшем настроении, чем прежде. Новые друзья произвели на меня превосходное впечатление, особенно майор Синклер. Это были люди, с которыми очень удобно работать: проницательные молодые американцы, готовые к столкновению с опасностями современного мира и в то же самое время способные использовать в своих интересах огромные возможности, которые им открываются. Потом я снова оказался в положении какой-то светской знаменитости. В ближайшие дни я познакомился с другими жителями Мемфиса, молодыми и старыми, проявлявшими серьезный интерес к будущему своего города – и к будущему всего христианского мира. Сложившееся на Севере впечатление, что в южных областях люди старомодны и медлительны, оказалось совершенно ложным. Жители Дикси могли придавать огромное значение историческим традициям, но они верили в современные технологии и новые идеи. Все, чего им до сих пор не хватало, – это финансы, ведь с самого начала гражданской войны северные промышленники систематически обирали Юг. Американской экономикой до сих пор управлял Север, центром которого был Нью-Йорк. Владельцы плантаций, которых принуждали выращивать огромное количество хлопка, в самые урожайные годы узнавали, что их цены слишком высоки. Таким образом Нью-Йорк и Чикаго получали дешевое сырье. Но я прекрасно знал: если побежденной стране иногда недостает материальных богатств, то их недостаток зачастую компенсируется глубокой духовностью и величественной гордостью. Эти качества могли показаться нелепыми негодяям и саквояжникам, так точно изображенным мистером Гриффитом, но в итоге они всегда намного важнее бесчисленных предприятий с потогонной системой и вертящимися машинами. Эти качества дают людям способность ждать. Исключительное упрямство позволяет им определять сроки, выбирать нужные моменты, отыскивать особые методы действия. Я начал понимать, в какой мере это относилось к Мемфису. Не забывая о принципах, во имя которых местные жители участвовали в великой войне, город теперь готовился к тщательно продуманному движению вперед на всех фронтах. Мне это напомнило об Италии, которая очень долго страдала от папской тирании, а теперь готовилась ровным, спокойным шагом войти во вторую четверть двадцатого века.
Адские фабричные города с Севера, городская беднота, нищенские условия, которые, как и в русских городах, стали причиной анархии и волнений, – все это не для Мемфиса. Мемфис собирался перейти от хлопка и мулов к инженерному делу и сфере услуг. Здесь малочисленные рабочие силы могли существовать в идеальной окружающей среде, производя то, за что охотно заплатит весь мир. Я пользовался доверием самых влиятельных людей города. К моим мнениям прислушивался «Босс» Крамп[205], которого все признавали важнейшим человеком в Мемфисе: харизматичный человек, наделенный огромной политической энергией и блестящей способностью вникать в суть дела. Его единственная ошибка заключалась в том, что он повернулся спиной к людям, которые очень хотели ему помочь. Но, если б не эта единственная ошибка, он мог бы стать настоящим южным Муссолини. Суждения «Босса» по негритянскому вопросу были просто гениальными. Они существенно расширили мой кругозор. Его планы на независимость Юга намного опередили свое время. Еще один дальновидный человек был тогда ведущим бизнесменом Мемфиса, создателем сети современных супермаркетов «Пигли Вигли». Он возводил для себя великолепный мраморный особняк розового, как свиная кожа, цвета возле Овертон-парка и однажды днем пригласил меня осмотреть наполовину построенный дворец. Евреи погубили его прежде, чем он успел поселиться в своем особняке. Звали этого человека, разумеется, Кларенс Сондерс[206]. Я помню, что он проявил особый интерес к моим проектам автоматического магазина самообслуживания с электрическим управлением. Я полагаю, в конце жизни, продолжая отважно сражаться с объединенными силами Карфагена, которые к тому времени почти уничтожили страну, он попытался реализовать мою мечту. Однако его силы были подточены Великой депрессией. Люди, казалось, думали, что это какая-то природная катастрофа, вроде засухи или землетрясения. Спросите любого украинца, был ли землетрясением Сталин.
Но то были мои золотые деньки, и даже бремя страданий, вызванных разлукой с Эсме, стало значительно легче. Я делился своим видением будущего со множеством сочувственно настроенных людей. Я никогда не испытывал прежде ничего подобного. Я всегда чувствовал себя изолированным, одиноким пророком, окруженным лишь несколькими добрыми друзьями, которые, подобно Коле, поддерживали меня, не до конца понимая мою мечту. Мы хотели построить более крупный, более роскошный, более рациональный Мемфис, создать центр культурного и финансового возрождения Юга. Мемфис должен был стать городом, где железная дорога и автомобили выйдут из моды; городом электросамолетов и дирижаблей, движущихся тротуаров, многоуровневых торговых рядов, картинных галерей, в которых будут выставлять лучшие в мире работы; городом, где преступления и бедность исчезнут, где не понадобятся услуги черной расы. Всю ручную работу будут исполнять машины. Мы не собирались бросать негров на произвол судьбы. Им можно было построить особый городок, где они жили бы своей жизнью, посещали собственные школы, храмы и театры. Южане сильнее всего чувствуют обязательства перед неграми (представление о южанах – бессердечных тиранах – еще одна ложь, созданная на Севере). Я всегда прямо заявлял: я охотно им услужу, но не собираюсь задерживаться в Соединенных Штатах надолго. Но, будучи идеалистом, я решил на время связать свою жизнь с главным городом Теннесси. Фэрфаксы стали моими верными друзьями. Они тоже считались чужаками, хотя гостеприимный Юг и принял их. Хотя я никогда не управлял их «DH – 4», я дважды летал с Пандорой Фэрфакс и получал интеллектуальное и духовное наслаждение от этого опыта. С воздуха открывался уникальный вид, который давал истинное представление о размере и очертаниях обширных равнин Дельты и широкой мелкой реки, которая, кажется, течет в бесконечность, а на самом деле – к Новому Орлеану. На меня произвели огромное впечатление люди, которые первыми достигли этой реки, преодолев огромные расстояния, чтобы их дети могли расти здесь и получить в наследство землю, речники, которые плавали на плоскодонках под парусами, перевозя меха, хлопок и золото, чтобы сделать Сент-Луис и Новый Орлеан самыми богатыми и оживленными городами своего времени. Иногда я жалею, что мой отец, при всей его революционной глупости, не стал одним из тех, кто эмигрировал в Америку. Тогда, по крайней мере, у меня появилась бы возможность расти без страха, без вечной угрозы погружения в кошмар. Я мог бы сделать куда больше для своей страны, если бы был коренным американцем, и в свою очередь получил бы заслуженную награду. Mein Vater kam bis an die Grenze. Wohin gehen wir jetzt?[207] Кто знает? Те же самые силы, которые уничтожили Кларенса Сондерса, могли уничтожить и меня. По крайней мере, я остался в живых и могу напомнить другим о времени, когда в мире еще были подлинная надежда и вера и люди еще могли опознать своих врагов. Но какое значение это имеет сегодня? Враг очень силен, он смеется надо мной. Даже люди, которые слушают меня в пабе, думают, что я шучу.
В Мемфисе я научился водить новый «бьюик», предоставленный в мое распоряжение мистером Гилпином: дело оказалось достаточно простым, хотя мне часто мешала глупость других водителей, не наделенных от природы ни умением водить автомобиль, ни достаточным воображением, чтобы понять пожелания (или хотя бы заметить существование) своих собратьев, также путешествующих по дорогам. На «бьюике» (а позднее, когда его пришлось сдать в ремонт, на «форде») я катался по усаженным деревьями пригородам Мемфиса или выезжал на шоссе, которое вело в Арканзас. Я очень скоро проникся любовью к городу и не проявил ни малейшего нетерпения, когда мистер Роффи объяснил, что центральные и местные власти решают вопрос о предоставлении необходимых для нашей работы грантов медленнее, чем он надеялся. По всей Мэйн-стрит я видел строительные площадки – здесь готовились возводить огромные роскошные здания. Скоро должны были запустить новые трамваи. Сложная паутина переплетающихся проводов, протянувшаяся по всем улицам города, в некотором смысле стала символом нашего неуклонного движения вперед. В один февральский день, более теплый и влажный, чем обычно, город внезапно заполнил запах свежей смолы и угля с поездов и кораблей – в холодной атмосфере запах почти сразу рассеивался. В тот день меня навестил желанный гость – майор Синклер. На сей раз он прибыл в Мемфис по воздуху. Он взволнованно рассказывал о своем новом судне. Маленький дирижабль стоял в углу аэродрома Фэрфакса. На боку виднелась реклама нового журнала, который стал еще одной навязчивой идеей моего друга. Майор был полон энтузиазма.
– Эти слова облетят всю страну. Это знамя величайшего крестового похода, который когда-либо видела Америка! В Соединенных Штатах дует новый ветер, Макс, и он рождается в Атланте!
Корабль, как и издание, которое он рекламировал, назывался «Рыцарь-ястреб».
В тот же вечер мы с Синклером отправились к причальной мачте. Мы оба курили сигары, царила спокойная, уютная тишина, которая всегда сопутствует старым товарищам, когда они просто наслаждаются обществом друг друга. Гондола небольшого дирижабля почти касалась земли. Она была сделана из легкого металла, слегка помята и оцарапана и покрыта тонким слоем белой краски. Большой красный мальтийский крест красовался с обеих сторон гондолы. Хотя судно удерживало сразу несколько канатов, оно все равно покачивалось под дуновением умеренного юго-западного бриза. Иногда доносился слабый скрип, как будто распорки где-то подвергались перегрузке. Гондола была открытой. Я увидел три кабины, напоминавшие кабины самолета, в одной из них располагался механизм управления. По словам Синклера, это был последний дирижабль, изготовленный в британском классе 882, большую часть таких кораблей продали в Америку. Британцы называли их «блимпами» в честь легендарного полковника Блимпа[208], одного из их величайших патриотов. В задней части стоял двигатель – «роллс-ройс» на семьдесят пять лошадиных сил. Майор Синклер, очевидно, гордился своей машиной.
– Это только начало, – говорил он. – Я уже планирую построить усовершенствованную модель. Мне хотелось бы услышать ваше мнение. Но это не главная причина моего приезда в Мемфис. Мне поручено задание. Есть пара мест, которые нужно посетить до возвращения в Атланту. Нужно рекламировать журнал. Попытаться привлечь подписчиков, если смогу. – У него здесь было и другое дело, но майор пока о нем не хотел говорить. Он планировал провести в городе по крайней мере неделю. – В любом случае посмотрите машину. Я хотел бы узнать, что вы думаете.
Синклер помог мне подняться по короткой лестнице в главную кабину и осмотреть средства управления. Я изучил рулевой механизм, переключатели, измерительные приборы. Майору Синклеру не следовало знать, что это было мое первое близкое знакомство с обычным дирижаблем. Меня просто зачаровала работа руля и элеронов. Я сказал, что, по-моему, это превосходная машина.
– Конечно, она слегка примитивна. – Он как будто извинялся. – Но нам нужно с чего-то начать.
Я согласился с ним. Я до сих пор не понимал, к чему он клонит.
– Была мысль построить навесы для кабин, – сказал майор. – Но я пришел к выводу, что они будут почти бесполезны большую часть времени. Здесь можно укрыться от дождя не хуже, чем в обычном самолете или воздушном шаре.
Стоя в качающейся кабине, я ухватился за один из шести тросов, которыми гондола крепилась к основному корпусу. Слабо пружинивший баллон был изготовлен из какой-то простой серебристой ткани. Хотя дирижабль был гораздо меньше моего будущего воздушного корабля, он тем не менее оставался реальным и абсолютно надежным воздушным транспортным средством. Я радовался, как школьник, попавший на петушиные бои. Майор Синклер с удовольствием выслушивал мои похвалы. Скоро он взобрался в одну из двух задних кабин. Наклонившись надо мной, пока я сидел перед панелью управления, он рассказывал об особенностях полета на этом дирижабле. Я изучил ножные педали, которые управляли и высотой, и углом полета, и быстро освоился с машиной. Это было куда проще, чем летать в аппаратах тяжелее воздуха. Я вообразил, что поднялся на тысячу футов над землей и мог лететь куда угодно, и удовлетворенно вздохнул. Я верил, что пройдет совсем немного времени, и моя мечта воплотится в жизнь. Тогда я поведу гораздо большее судно. Я стану адмиралом собственной воздушной армады!
Свет погас, когда я спустился по небольшой металлической лестнице на землю. Майор Синклер последовал за мной, а потом сделал странный жест, который я никак не мог истолковать. Он опустил голову, провел затянутой в перчатку рукой по тонким прямым губам и нахмурился. Я выжидал.
Через некоторое время летчик поднял голову. Он казался очень серьезным – не то не хотел говорить, не то не мог подыскать нужные слова. Он молча взял меня за руку. Мы в сумерках направились к тем деревянным лачугам, в которых теперь располагался офис Фэрфакса. Было очень тихо. Ветер стих, и воздух стал теплее как раз тогда, когда солнце зашло. Майор Синклер заговорил негромким, спокойным голосом, обращаясь ко мне не только по фамилии, но и по званию, как будто его слова выражали какую-то официальную точку зрения:
– Полковник Питерсон, сэр, я знаю, что в ваших жилах течет и французская, и английская кровь. Полагаю, вы намерены когда-нибудь возвратиться в Европу.
– Так и есть, майор.
– Я понимаю, что вы протестант. Мы можем считать это само собой разумеющимся. Надеюсь, вы простите мне нарушение правил хорошего тона. Скажите, сможете ли вы отправиться со мной и рассказать о нынешнем тяжелом положении уроженцам этой страны, истинным англосаксам?
Я решительно ответил:
– Я не боюсь высказывать свои суждения, майор. Полагаю, что над англосаксами нависла смертельная опасность. У меня есть все основания считать, что им все сильнее угрожает объединенная армия большевистских евреев и папистов, которые неустанно готовят заговоры, натравливая на белых людей черные и желтые расы. Я видел насилие и беззаконие, которое эти силы устроили в России. С ужасом ожидаю, что этот кошмар может распространиться по всему миру.
Майор задумчиво кивнул, соглашаясь со мной:
– Вы подтвердили то, что я понял уже давно. Что бы вы сказали, если бы кто-то предложил вам сыграть важную роль в этой битве?
– Я не сторонник насилия, майор.
– Это вполне очевидно. – Майор поджал губы. Он внезапно остановился в полутьме, прямо у входа в дом. – Я хочу попросить вас о небольшом одолжении. Прошу, не считайте, что вы будете мне чем-то обязаны, если решите отказаться. – Он застегнул свою летную куртку. – Не могли бы вы выступить перед группой друзей и единомышленников и рассказать им о своих впечатлениях от красной революции? Вы сослужили бы великую службу им и всей Америке.
– Вы хотите, чтобы я произнес какую-то речь?
– Скорее это будет неформальная беседа, Макс, с заинтересованными людьми, которые имеют немалый вес в обществе и разделяют ваши взгляды.
Во-первых, я прежде никогда не выступал с речами на английском языке – разумеется, это меня беспокоило. Во-вторых, я не испытывал особенного желания привлекать ненужное внимание. И все же предложение майора обеспечивало немало преимуществ. Кроме того, тогда, как и теперь, я осознавал: все случившееся в России должно стать страшным предостережением для остального мира. Конечно, я считал своим долгом принять предложение. Я спросил, как все будет организовано.
Майор Синклер по-прежнему говорил негромко и значительно:
– Через несколько дней некий пароход отойдет от пристани в Мемфисе и двинется вниз по реке к Виксбургу. В определенный час он вернется в Мемфис, и все пассажиры сойдут на берег до рассвета. Все на борту поклялись хранить тайну. Той ночью будут приняты решения, которые повлияют на судьбу всей страны.
Я был и заинтригован, и впечатлен.
– Майор, я польщен, что вы так верите в мои силы.
– Вы сможете уделить нам несколько часов и выступить на том корабле в следующую среду, Макс?
Я заверил его, что непременно найду время для столь важного дела.
Он выпрямился и твердо пожал мне руку, посмотрев на меня серьезнее, чем когда-либо:
– Спасибо.
Стоило нам вернуться к дороге и «бьюику», как майор снова стал таким же доброжелательным, как обычно. Казалось, он никогда не обращался ко мне ни с какими просьбами. Я сказал ему, что хотел бы однажды увидеть, как «Рыцарь-ястреб» ведет себя в воздухе. Он обещал взять меня в полет, как только я пожелаю. К тому времени, конечно, мне стало ясно: майор Синклер был куда более значительной персоной, чем он сам утверждал. Он явно представлял какую-то важную политическую силу. Я мысленно поздравил себя, что мне удалось найти такого друга. И все-таки даже тогда я не понял до конца смысла его вопросов и предложений. Уже не в первый раз люди подобного типа инстинктивно осознавали, что я заслуживаю доверия. Я никогда не мог понять, что же они во мне находили. Вероятно, это как-то связано с моей постоянной ненавистью к лицемерию и нетерпимости, прямотой, с которой я обыкновенно рассуждал о важнейших проблемах. Я всегда ненавидел компромиссы.
В тот вечер я сел за стол и при свете газовой настольной лампы написал Эсме еще одно длинное письмо, содержавшее описание всех моих успехов. Америка приняла меня с куда большей готовностью, чем я смел надеяться. Я собирался приложить все усилия, чтобы Эсме присоединилась ко мне как можно скорее. В короткой записке, адресованной миссис Корнелиус, я рекомендовал Америку как страну огромных возможностей. Если она приедет в Штаты, то сможет достичь таких высот, каких только пожелает. Что до меня, то, судя по всему, мое имя скоро будет известно в каждой семье, как имена Маркони или Веллингтона. Скоро она услышит о самолете Питерсона, домашней стиральной машине Питерсона и радиоуправляемом автомобиле Питерсона. Для меня не имело особого значения, будет ли в названии использоваться мое настоящее имя. Я не отличался эгоизмом и не стремился к славе. Вполне достаточно просто делать свое дело, и неважно, если о Пятницком позабудут навсегда.
Мемфис прижал меня к своему большому и доброму сердцу. И этот город в прессе северян называли «столицей убийств США» всего лишь потому, что были подтасованы статистические данные, которые якобы доказывали, что здесь высокий уровень убийств! Мемфис был самым дружелюбным городом, который я повидал со времен отъезда из Одессы.
Количество убийств стало непосредственным результатом здешней терпимости – в бедные пригороды Мемфиса впустили слишком много темнокожих и иммигрантов-католиков. Вдобавок раненых зачастую отправляли в больницы Мемфиса, пользовавшиеся заслуженно высокой репутацией. Если пострадавшие умирали, ужасные цифры становились еще ужаснее! Мемфис развивался, как всегда говорили мои политические друзья, а развитие и рост невозможны без боли и страданий.
В тот вечер я ужинал с мистером Роффи и миссис Трубшоу, худощавой, но очень привлекательной руководительницей местного женского клуба. Я с энтузиазмом рассказал о дирижабле майора Синклера. Нам нужно задуматься о постройке нескольких таких небольших судов, которые могли стать вспомогательной авиацией в нашем воздушном флоте, состоявшем из аппаратов с жесткими крыльями. Чарли Роффи идея показалась очень интересной. На миссис Трубшоу она произвела большое впечатление. Женщина заметила, что мне, очевидно, свойствен огромный научный и политический размах. Она завидовала полной приключений жизни, которую я вел, – ей казалось, что моя история напоминает историю графа Пулавского[209].
Я был совершенно сбит с толку.
– Простите, мадам, но вынужден сознаться в своем невежестве.
– Вам нужно прочесть о нем в библиотеке. Он приехал из Европы. – Миссис Трубшоу говорила твердо, внушительно и возвышенно. – Чтобы принять участие в нашей Войне за независимость. Величайший защитник свободы. Польский дворянин, солдат. Истинный американец во всем, кроме национальности. Он дал свое имя городу Пуласки в Теннесси, где родился мой отец, умер он, служа Вашингтону. Вы могли бы оказаться реинкарнацией графа Казимира. Вы случайно не верите в прежние жизни, полковник Питерсон? – Миссис Трубшоу тряхнула головой, и ее темные кудри всколыхнулись.
Мне пришлось сказать, что я не поляк и не католик, а обычный христианин, поэтому, разумеется, я верю в искупление и воскресение. Если это одно и то же, то я разделяю ее убеждения. Миссис Трубшоу, как и многие женщины, с которыми я встречался в подобных обстоятельствах, отличалась особым сочетанием деловой хватки и безумного романтизма. Мы возвращались вместе в такси. Едва сев в машину, она начала целовать меня, потом несколько неловко сжала мой член и заявила, что я герой, перед которым она не может устоять. Я тоже посчитал сопротивление неуместным, поэтому такси отправилось в «Адлер апартментс», где мы быстро выразили взаимное восхищение. Почти все мои партнерши в те времена принадлежали к тому же классу, что и миссис Трубшоу. Полагаю, они считали меня привлекательным по двум причинам: я был экзотическим партнером и вряд ли мог задержаться в Мемфисе надолго. Меня в свой черед интересовали желания и ограничения американской буржуазии. Я периодически посещал с мистером Гилпином и другими джентльменами, которые именовали себя «охотниками», знаменитый и процветающий городской квартал красных фонарей, но предпочитал более оригинальные и познавательные авантюры, которые зачастую предлагали почтенные матери семейств; как ни странно, почти все они родились не в Мемфисе. Общепринятое объяснение сводилось к тому, что послевоенная жизнь уничтожила ограничения, и люди пытались обрести то, чего им якобы не хватало в мире «викторианской морали». По-моему, все было гораздо проще: из-за недостатка мужчин многие женщины вели себя так, будто попали на распродажу одежды. Они тотчас стали соперничать друг с другом и позабыли о прежней разборчивости – зачастую на распродажах женщины покупают вещи, на которые они обычно даже не посмотрели бы. Это положение дел меня вполне устраивало, так как я хранил верность далекой Эсме, экономил деньги и мог почти не опасаться венерических заболеваний. (Однако именно в публичном доме я впервые провел время с чистокровной негритянкой.)
Как и многие американские города в те времена, Мемфис представлял удивительный контраст исключительного общественного пуританизма и необузданного частного разврата, гораздо более заметный, чем в Европе. Америка получила ужасное наследство – англиканскую мораль – и попыталась сдержать врожденную активность и веселость, создав законы, никак не связанные с природными и историческими свойствами страны. Это только усилило лицемерие и хаос. Законы нации должны всегда отражать национальный характер. Америка часто нарушала это правило. Здесь царствовали холодные английские законы, которые стали фактически бессмысленными, скажем, в Калифорнии. Пытаясь воплотить в жизнь мечты отцов-основателей и забывая о потребностях ныне живущих граждан, Америка ослабила себя, стала шизофреничной. Конечно, этой стране по-настоящему угрожали. Поселенцы, которые страдали и умерли, чтобы создать Соединенные Штаты, совершали подвиги во имя великого англосаксонского эгалитарного идеала. В 1922 году этот идеал эксплуатировали и искажали иммигранты, требовавшие для себя благ, за которые они не хотели платить. Уже прошло время, когда можно было управлять этими людьми с помощью методов отцов-основателей. Большинство вновь прибывших даже не признавали веру, на которой базировались исходные принципы. Они хранили верность главному раввину, папе римскому, Карлу Марксу и В. И. Ленину, они служили космополитическим идеалам. Неудивительно, что сколько бы ни находилось баптисток, пытающихся запретить алкоголь, всегда обнаруживалось столько же итальянцев и евреев (не говоря об изменниках-ирландцах), готовых продавать его. Американцы отчаянно пытались сохранить порядок и стабильность под угрозой хаоса, который надвигался со всех сторон. Тот, кто осуждает их, просто не может понять их страхи. Я тоже участвовал в последней битве с врагами Америки – это была благородная и обреченная на поражение оборона, защита последнего рубежа Юга от наступления Севера. В трудном бою проявили отвагу, благородство, порядочность и здравый смысл простые люди, отважные потомки Кита Карсона, Буффало Билла и Джесси Джеймса[210]. Их попытка сражаться с врагами моральным оружием протестантизма вполне понятна, хотя они не всегда правильно выбирали цели. Настает время, когда только политическая активность и сила духа могут принести победу; такова горькая, жестокая истина. Христос – наш владыка, это благородный греческий пастырь. И все же агнца следует защищать от волков и шакалов другим оружием, а не текстами Ветхого Завета и запретами немногих радостей, которые облегчают бремя нашего странствия по сей юдоли слез. Я не хочу обижать достойных пасторов и прихожанок, которые видели доказательства торжества зла в злоупотреблении удовольствиями жизни, но я никогда не считал, что нужно законодательным образом запрещать эти удовольствия. Я видел немало пьяных на улицах Киева (у нас в России запрет был введен задолго до Вольстеда[211]), ибо необразованным людям, как правило, не хватает самообладания, и я не стану возражать против того, что нужна строгая, отеческая забота. Но всеобщие запреты приводят только к росту преступности. Демократия не может справиться с выродившимися беженцами, которые всю жизнь знали только тиранию.
В последующие дни я несколько раз встречался с миссис Трубшоу и наслаждался нашим общением, хотя иногда было трудно справляться с разными деталями нижнего белья, которые она никогда не снимала, подчиняясь собственным представлениям о морали. Как-то около полудня она принесла мне бутерброды и номер «Коммерческого вестника» с ужасными новостями, которые повлияли на мою дальнейшую жизнь куда сильнее, чем я мог предположить. «Рома» рухнул на Хэмптонскую военную базу. Этот полудирижабль, только недавно приобретенный в Италии, потерпел крушение, когда сломался рулевой механизм. Корабль взорвался при столкновении с землей, погибли тридцать четыре из сорока пяти членов команды. Я не смог даже доесть цыпленка под майонезом. Я оплакивал бедных летчиков. Величественная история воздухоплавания была написана кровью этих храбрых пионеров, которые, предвкушая радостные открытия, бросились в верхние слои атмосферы, не ведая, какая судьба их ожидала. Миссис Трубшоу поправляла бледно-голубые лямки комбинации.
– Что случилось, дорогой?
Я заплакал. Разочарованно вздохнув, она начала неловко успокаивать меня.
Финансисты настолько непостоянны, что почти любое мелкое изменение общественного климата может их напугать. Вот что я понял, когда окунулся в складки душистого шелка, хлопка и плоти и начал (поначалу с некоторыми затруднениями) искать утешение в женском очаровании миссис Трубшоу. Это случилось незадолго до того, как нас прервал громкий стук в дверь. Раздался голос, повторявший мое имя. Миссис Трубшоу узнала мистера Роффи. Она собрала свою верхнюю одежду и скрылась в маленькой гардеробной.
Роффи напоминал индейку, для которой уже купили топор к Рождеству, как говорили на Юге. Он, похоже, обезумел. В руке он держал смятую газету.
– Я не задержу вас надолго, полковник Питерсон. Вижу, вы уже прочитали отчет. Что вы собираетесь делать? Это может как-то нас коснуться?
– У нас есть аэродром и готовые самолеты. Вряд ли тут возможно какое-то сравнение. Вдобавок та машина была изготовлена даже не в Америке.
Он слегка успокоился, но не окончательно.
– Я все еще думаю, что это может серьезно повлиять на наш план. Если наши люди в Вашингтоне потеряют самообладание, то мемфисские партнеры тоже струсят. И с чем мы останемся?
– С солидным, практичным и ценным планом, мистер Роффи. – Я отыскал пояс своего халата. – Конечно, я понимаю ваши страхи. Но подозреваю, что это в худшем случае приведет к небольшой задержке.
– Вы куда спокойнее, чем я, сэр. – Невидящим взором он посмотрел на мою измятую постель. – И куда спокойнее, чем будут люди в Вашингтоне, учитывая, как разворачиваются события.
– Тогда нам нужно возродить их оптимизм.
Я был уверен в себе, его страхи не вызывали во мне сочувствия. Думаю, что после моих замечаний он попытался взять себя в руки.
– Проблема, полковник, состоит в том, как мы это сделаем. Они сохранят самообладание, если мы сами продемонстрируем его. Мы должны показать, что абсолютно уверены в будущем нашей компании.
– Может, еще одно интервью в газете? – предложил я.
Он безнадежно улыбнулся:
– Это может помочь. Но слов недостаточно. Не сейчас. Теперь нам, возможно, придется выложить деньги на стол.
– Я не понимаю вас, мистер Роффи.
Он вздохнул, пригладил пальцами шевелюру и откашлялся:
– Я готов достать сто пятьдесят тысяч долларов наличными прямо сейчас. Если бы каждый из нас инвестировал в компанию столько же, это показало бы, что мы совершенно серьезны. Это также помогло бы нам сохранить кредит. То, чего мы не получим от Конгресса, сможем раздобыть на месте. Тогда никаких потерь не случится. В этом городе очень многие зависят от нас даже теперь.
– Я понимаю, мистер Роффи. – Конечно, его слова поставили меня в тупик. Я заставил их поверить, что так же богат, как они, и теперь никак не мог отказаться от предложения, которое выглядело вполне разумным. – Мои деньги вложены в иностранные акции и банки.
Уверен, вы это осознаете. Я никак не смогу быстро раздобыть ту сумму, о которой вы говорите.
Он явно огорчился:
– Это может стать единственным нашим спасением, полковник, поверьте.
Когда он ушел, я вернулся в постель. Ко мне присоединилась миссис Трубшоу, с которой я разделил небольшую порцию кокаина из своих убывающих запасов. Она слышала только часть беседы и, конечно, была последним человеком, которому я мог довериться. Я осознавал, что положение мое не просто сомнительно, но также и, до некоторой степени, опасно. Во многих кварталах Мемфиса шестизарядный кольт все еще считался лучшим средством для решения вопросов чести.
– Мистер Роффи беспокоится из-за крушения дирижабля? – спросила позже миссис Трубшоу. – У вас был в этом деле финансовый интерес?
– В некотором роде.
Я не мог никому признаться, что фактически не имею средств. Все зависело от моих проектов, которые воплотятся в металле и дереве. После этого деньги, без сомнения, появятся. До тех пор я буду разлучен с Эсме. Я не мог смириться с этой мыслью. Эсме верила, что я скоро пошлю за ней. В Мемфисе от меня тоже многого ждали. Мой гигантский шестимоторный пассажирский самолет с четырьмя крыльями и четырьмя отдельными шасси должны были запустить в производство в следующем году. Местные фабрики ожидали заказов. Мой энергетический проектор радиолуча через несколько месяцев собирались представить в качестве опытного образца, а моя радиоуправляемая автоматическая посадочная система непременно украсила бы главную башню аэродрома, который следовало разместить в Парк-филде. Все модели сделаны, все проекты подготовлены. Все распланировано, и многие жители Мемфиса ожидали доходов. Как только мы получим новости из Вашингтона, как только подтвердится федеральное финансирование, основные финансовые игроки в Мемфисе непременно вложат средства, недаром город находится под контролем «Босса» Крампа. И вот теперь, похоже, все это может рухнуть, если мне не удастся раздобыть ничтожную сумму. Мне следовало, по крайней мере, попытаться собрать деньги.
Как только миссис Трубшоу отправилась на какую-то деловую встречу, я пошел в офис «Вестерн Юнион» и послал телеграмму в Париж Коле, единственному человеку, на которого я мог надеяться. Не осталось времени для тайн. Я написал: «Нужно сто пятьдесят тысяч долларов для важного предприятия, дело серьезное и безотлагательное. Питерсон». Я рискнул и в качестве обратного адреса указал почтовое отделение «Вестерн Юнион», Мемфис, Теннесси. Оператор заверил меня, что сообщит, как только последует ответ. Он дал мне копию телеграммы. Она позволила бы мне доказать мистеру Роффи, что я действительно хочу получить средства. Я позвонил своему партнеру в арендованный им дом на Поплэр-авеню, около Овертон-парка, – это был также наш рабочий адрес. Я сказал, что у меня есть кое-какая информация. Мистер Роффи предложил встретиться вечером в частном клубе «У Мэй» на Фронт-стрит.
В течение часа я бесцельно бродил по центру Мемфиса, разглядывал витрины, изучал столбы из кованого железа на тротуарах с покрытием – в наши дни таких, кажется, уже нигде не осталось, но они были очень удобны. Я купил шоколадных конфет в бумажном кульке, рассмотрел множество вывесок на Мэйн-стрит и в конце концов оказался в нескольких шагах от восьмиэтажной крепости, настоящей Новой Аркадии, которая на самом деле именовалась вокзалом Юнион. Войдя туда, я взял несколько листков с расписанием поездов, молясь о том, чтобы мне не пришлось покидать Мемфис так же поспешно, как я покидал некоторые другие города. Прошло еще слишком мало времени – Коля не успел бы ответить. Я сел в экипаж и поехал в Овертонский зоопарк. Там я провел впустую еще час, разглядывая нескольких несчастных представителей американской и африканской фауны. В сумерках я возвратился в «Адлер» и зашел в офис «Вестерн Юнион». Ответа на мою телеграмму не было.
Решив не падать духом, я облачился в свой лучший вечерний костюм и на такси отправился на Фронт-стрит. Клуб располагался в частном доме, в котором когда-то находился офис пароходной компании, в нескольких кварталах от здания почты. На железных мостах над рекой и на пароходах возле дамбы горели огоньки, но в остальном местность казалась совершенно пустынной. Я вошел в клуб и передал пальто и шляпу симпатичной цветной горничной, одетой в очень короткое платье, напоминавшее греческую тунику. Я почувствовал себя чуть лучше. В подобных заведениях царил уют, как будто стиравший все мирские заботы. Мистер Роффи тоже попытался привести себя в порядок. Он снова выглядел как достойный южный джентльмен, каким и был. Он улыбнулся, поднявшись с кушетки в углу помещения, которое Мэй называла своим танцзалом, и направился ко мне. Мы пошли наверх, в частные апартаменты, стены которых были покрыты темно-желтыми и красными бархатными драпировками, а обстановка ограничивалась огромной кроватью, позолоченным креслом и умывальником. Я показал копию своей телеграммы. Он просиял от облегчения.
– Все получится, я уверен. Мне очень жаль, что пришлось причинить вам такое неудобство, полковник. Но следует сохранять доверие. Это крайне важно, вы же понимаете. Как только получите подтверждение, телеграфируйте в Первый национальный банк. Тогда мы переведем все в наличные.
Я удивился:
– Ведь это привлечет нежелательное внимание!
– Нам нужно все внимание, какое мы можем привлечь, полковник. Мистер Гилпин в Вашингтоне прямо сейчас, он получает свои деньги, а мои уже в банке, в сейфе. Стоит сложить все эти средства – и я тут же появлюсь перед фотографами. Верьте мне, полковник, ничто не производит на людей такого впечатления, как вид настоящих долларовых банкнот. В этой части света куча долларов – это лучшее доказательство искренности и серьезности, лучше, чем письмо о неограниченном кредите от Государственного банка Англии.
– Что ж, мистер Роффи, надеюсь, вы правы. Это чрезвычайно утомительно и немного сложно для меня – сделать телеграфный перевод на такую сумму, притом внезапно. Вы знаете, как французы относятся к подобным вещам.
Я ни на секунду не поверил, что Коля мог раздобыть такую большую сумму, но даже если бы он прислал шестую часть денег, это уже подтвердило бы мою финансовую состоятельность. Через несколько дней римская катастрофа позабудется, и все придет в норму. Американские газеты непрерывно требовали новых сенсаций. Несомненно, какой-то ужасный пожар или обрушение здания отвлекут внимание публики от катастрофы дирижабля. Тем временем я объясню, что мои средства очень медленно освобождаются из-за особенностей финансовой политики французского правительства, а потом они больше не понадобятся. В эти рациональные размышления вторглось некоторое беспокойство. На следующий день, когда никакой телеграммы от Коли не пришло, я отправил другое сообщение: «Срочное финансовое дело. Пожалуйста, ответь». Я не стал показывать эту телеграмму мистеру Роффи, когда он заглянул ко мне, направляясь на обед с мистером Гилпином («Вернулся из Вашингтона с саквояжем, полным банкнот»), остановившимся в отеле «Гайозо». Мне пришло в голову, что я ничего не дождусь от Коли, потому что у меня нет его нового адреса. Возможно, он как раз ехал в Соединенные Штаты вместе с Эсме.
Я очень волновался из-за того, что не мог сообщить Коле всю правду, но я не хотел втягивать его в свои проблемы и вдобавок не собирался выдавать свое местонахождение французской полиции. Возможно, я уже зашел слишком далеко. Коля мог подумать, что прикроет меня, если не ответит. К следующей среде я по-прежнему ничего не получил. Я успокаивал мистера Роффи, объясняя ему, что мой французский банк – просто отделение швейцарского банка. А в швейцарском банке заявили, что в Мемфисе нет отделения Первого национального. Тогда я отправил телеграмму за подписью «Питерсон» в свой прежний банк, «Кредит лионез» на бульваре Сен-Жермен, сообщив адрес банка в Мемфисе и указав, что они должны как можно скорее переправить оговоренную сумму. Копия этой телеграммы удовлетворила мистера Роффи, хотя он по-прежнему оставался мрачным и нервным. С мистером Гилпином я столкнулся лишь однажды, около Корт-сквер, небольшого парка в центре города. Встреча была случайной, и он странно на меня посмотрел, как будто полагал, что я уже обманул его доверие. Я, изображая полное спокойствие, сказал, что все в порядке. Он ответил: «Рад слышать», – и поспешно удалился. Он, казалось, переживал неудачу не так мужественно, как его друг.
Желанное успокоение пришло, когда я в тот же вечер сел в большой лимузин и отправился с майором Синклером к дамбе. Пароход, по его словам, зафрахтован «Ли компани», которой владел тот самый Роберт Э. Ли из песни[212]: «Когда-то по этой реке плавало более сотни больших лодок. Теперь осталось не больше десяти». Плавучие театры и частные туристические поездки приносили основной доход немногочисленным мелким бизнесменам. Майор спросил, говорил ли я кому-нибудь о предстоящей встрече. Я уверил его, что никому не сказал ни слова.
– Сегодня важная ночь, – произнес он и повторил это несколько раз по дороге к пристани. – Будут приняты важные решения.
Я подумал, что стоило бы попросить его о помощи в решении моей финансовой проблемы, но вовремя сдержался. На данном этапе подобная просьба была совершенно неуместна.
Последние лучи заходящего солнца касались поверхности воды, река была спокойной и грязной. Пробиваясь сквозь густые облака, они скользили по железным опорам огромных мостов и причалов. В этом тусклом свете все выглядело нереальным, как на плохой кинопленке. У пристани стояло четыре корабля, два совсем маленьких, а один – очень большой. Белые корпуса в свете солнца казались то коричневыми, то красными. Мрачные толпы негров, двигавшиеся к Фронт-стрит, напоминали индейцев чикасо[213], возвращающихся из охотничьей экспедиции, – я словно вернулся в те дни, когда Дэви Крокетт[214] пил в таверне Белл. Славный герой пограничья, конгрессмен, мыслитель и человек дела – как и я. Как и меня, его бросили друзья. Крокетт стал мучеником, он погиб в одном из самых первых сражений со сторонниками папы римского.
Несколько черных автомобилей, похожих на наш, уже стояло на дамбе. Из них выходили мужчины в тяжелых пальто и широкополых шляпах. Лиц разглядеть я не мог. Все гости, казалось, предпринимали немалые усилия, чтобы их не опознали. Мужчины поднимались на борт огромного колесного парохода, возвышавшегося над другими лодками, пришвартованными поблизости. Совсем недавно на высоком кремовом борту корабля золотыми буквами написали название. В рулевой рубке готовились к отплытию одетые в форму моряки. Другие собирались отдать швартовы. «Натан Б. Форрест»[215] уже стоял под парами. Двигатель шумел, корабль вздрагивал, и его корпус бился о крепкие доски причала. Подняв воротники пальто, чтобы защититься от пронизывающего холодного ветра, мы пробрались мимо тюков и бочек к сходням, где присоединились к остальным гостям. В отличие от морских судов, к которым я привык, на пароходе было три палубы, а над ними возвышалась рулевая рубка. Первая палуба располагалась практически у ватерлинии: все подобные корабли строились с плоским днищем – так легче преодолевать речные отмели. На корабле пахло свежей краской. Когда я коснулся рукой деревянного столба, чтобы удержать равновесие, пальцы прилипли к поверхности. «Натан Б. Форрест» отремонтировали всего пару дней назад, покрасив все в красный, белый и синий цвета. Майор Синклер проводил меня по металлическим лестницам на верхнюю палубу, где располагались небольшие частные каюты.
– Мы займем вот эту. – Он открыл дубовую дверь и зажег керосиновую лампу, висевшую на цепи у потолка. – Будьте как дома.
Майор говорил с обычной любезностью, но было ясно, что он думает о каких-то других делах. Синклер продемонстрировал мне обстановку каюты, показал полку с безалкогольными напитками в маленьком шкафчике над единственной койкой. В каюте также преобладали национальные цвета: синие стены, красная ковровая дорожка, белые простыни и подушки. На стене над койкой висели скрещенные флаги Союза и Конфедерации. Теперь стало очевидно, что важное соглашение, которое следовало любой ценой скрыть от непосвященных, напрямую связано с государственной политикой. Я не мог представить, чего эти люди хотят от меня, – может, они собирались предложить мне официальную должность, например, место первого советника по науке штата Теннесси. В таком случае я мог бы следить за постройкой абсолютно новых аэродромов в Нэшвилле, Мемфисе, Чаттануге и в других местах. Теннесси стал бы образцом для всех Соединенных Штатов. Я предположил, что через несколько лет смог бы вернуться в Вашингтон, возможно, в качестве первого ученого секретаря. Я выстроил бы новые научные и технические схемы, объединив всю страну от Калифорнии до канадской границы, я создавал бы электростанции, аэродромы, фабрики, чтобы производить самолеты, автомобили и локомотивы, современные верфи, чтобы строить новые виды суперкораблей, о которых я мечтал. Я не Lügner[216], как этот высокомерный shnorer[217] Эйнштейн, так одурачивший всех американцев, что они сделали его национальным героем. Мои летающие города поднялись бы над Канзасом – сверкая и шумя, они помчались бы над прериями, где прежде кочевали сиу и пауни. Люди снова станут кочевниками, но по-настоящему цивилизованными. Но там, где прежде человек ограничивался вигвамами и travois[218], теперь он будет использовать электроэнергию. Люди смогут перемещаться туда, где погода хороша, а запасы велики. К 1940 году Соединенные Штаты станут цитаделью просвещения и научных чудес. Они воспротивятся наступающей Восточной Африке, принесут спасение Европе и даруют России новую Византию. Но мог ли я тогда догадаться? Карфаген прорвал нашу оборону, напал на наших самых бдительных стражей, когда они спали. Меня наделили даром пророчества, а я слишком много думал о себе и не сумел воспользоваться чудесной способностью. Они вложили кусок металла мне в живот. Он может вырасти. Эта угроза постоянна. Но я справлюсь. Я не рожу их чудовищное дитя. Я не их n’div Я истинный сын Днепра и Дона. Я – свет против тьмы. Я – наука и истина, и меня нельзя судить, как вы судите обычных людей. Но 1а febbre[219]. Я – Прометей, сошедший с гор Кавказа. Я несу слова грека и свет, который надобен, чтобы прочесть их и увидеть всех еретиков. Я пою «Начальника жизни нашея»[220]. Христос воскрес! Христос Сын и Единственный Бог одолел Отца, который предал Его. Он изгнал еврейского Иегову. Их бог блуждает по земле, плача и простирая руки. Авраам предал своего сына. Иегова предал всех нас. Передайте греку, что мы следуем за Ним. Пусть папа римский и все его легионы падут на колени с криком: «Kyrios! Мы признаем Тебя!» И в Риме появится новый хозяин, и Он будет могучим владыкой. Он посмотрит в будущее и увидит, что это хорошо. И Его избранниками станут люди знания, создатели чудес, капитаны летающих городов.
Должен признать, что я пребывал в возбужденном состоянии, когда майор Синклер предложил показать остальную часть корабля («можно убить немного времени»). Вторая палуба, со столами и скамейками, летом использовалась в качестве ресторана. Частично обитая деревом, а частично укрытая холщовым тентом, она пустовала. Мы спустились на первую, самую большую палубу. Это был один огромный зал, украшенный чудесными орнаментами, позолоченными свитками и резными фигурами муз. Меня окружали хрустальные, медные и серебряные детали, зеркала и колонны, похожие на мраморные, и везде преобладали красные, белые и синие цвета. Скрещенные флаги висели повсюду, особенно много их оказалось на огромной сцене в дальнем конце помещения. «Натан Б. Форрест», верно, когда-то считался одним из величайших плавучих театров, которые в годы расцвета ходили по всей Миссисипи. Майор Синклер стоял, сложив руки и прислонившись спиной к колонне. Он слегка улыбнулся, услышав, как я восхищаюсь богатством обстановки.
– Я бывал здесь в детстве, – сказал он, – и смотрел на артистов. – В его голосе звучала нотка печали. – Но теперь железные дороги и кинотеатры почти уничтожили этот вид транспорта и связанные с ним развлечения. И в этом виноваты как раз люди, подобные нам. Верно, Макс? Скоро значительная часть современного мира станет прошлым, как я полагаю.
Я согласился:
– Какая ирония – мы сами страдаем от наших собственных изобретений.
Мой друг посмотрел на часы:
– Нам нужно уходить отсюда.
Пробравшись между рядами широко расставленных сидений, он вывел меня через боковую дверь на открытую площадку, а потом на третью палубу. Уже стемнело. Я услышал приглушенный крик из рулевой рубки и увидел, что матросы внизу сматывают веревки и цепи. Свист пара показался мне долгим, низким стоном. Потом послышался скрежет, весь корабль содрогнулся, когда огромные лопасти колеса ударили по воде. Электрический свет отражался от белой пены. Машина заработала на полную мощность. Котлы гремели и стонали, поршни визжали. Внезапно мы отошли от причала. Мы двинулись, медленно и величественно, в темную бесконечность реки Миссисипи. Огни Мемфиса остались позади, мы выплыли на середину реки. В других частях корабля слышался топот ног. Тогда майор Синклер попросил меня вернуться в каюту. Весь корабль, казалось, заполнил механический ритм, решительный, почти военный. Время отмеряли медь, сталь и железо. Мой друг поднял маленькую сумку и попросил меня подождать некоторое время. Он сказал, что вернется, как только сможет. Я плеснул себе кока-колы и уселся на койку, задумавшись о предстоящей встрече с губернатором и его людьми. Решив поправить нервы с помощью кокаина, я нащупал в кармане пакет – и тут свист раздался во второй раз. Ритмичные звуки исчезли. Корабль снова погрузился в тишину, за исключением вибрации двигателей, ровного плеска и стона колеса. Я хотел выйти на палубу, но не мог обмануть доверие майора Синклера. Через несколько мгновений бледный летчик отворил дверь каюты – очевидно, он немного успокоился. Под мышкой Синклер держал какой-то сверток, а все его тело скрывало длинное синее шелковое одеяние. На груди, у самого сердца, был вышит желтый мальтийский крест в синем круге. Символ очень напоминал тот, который я видел на его дирижабле.
– Вы готовы, полковник? – негромко и серьезно, как прежде, спросил майор. Именно таким голосом он задавал мне таинственные вопросы и говорил о столь же таинственном приглашении.
Я почувствовал облегчение. Видимо, мне не придется встречаться с губернатором. Я войду в общество франкмасонов, что само по себе и полезно, и благородно. Длинное одеяние слегка шевелилось под дуновением речного бриза, высокий летчик выглядел в этом облачении несколько неестественно. Он отступил в сторону, приглашая меня выйти на палубу. В темноте он напоминал домовладельца, который вскочил с постели и по ошибке надел халат жены. Я последовал за майором на нижнюю палубу. Вода была черной, берега скрылись из вида. Если бы не брызги воды, можно было бы подумать, что мы дрейфуем в космосе, а не плывем по течению реки. Синклер открыл маленькую металлическую дверь на корме, и мы попали в помещение, где горел тусклый электрический свет. Мы, очевидно, проникли в гримерную, где в былые времена актеры приводили себя в порядок перед выходом на сцену. Здесь пахло плесенью, и мне показалось, что еще сохранились остатки несвежего грима.
Тогда майор Синклер поднял руки над головой, опустив ткань, которая скрыла его лицо. Потом он отворил дверь. Свет почти полностью ослепил меня, когда мы с майором вышли на сцену.
Я мигал, пытаясь разобрать, что происходит. Постепенно я разглядел сцену, освещенную гигантским крестом, состоящим из сотен крошечных лампочек. Передо мной был раздвинут занавес. Помещение было погружено в полумрак, свет исходил лишь от большого распятия, находившегося позади меня. Мне удалось разглядеть множество разноцветных капюшонов и одежд, на каждом из одеяний был вышит крест, заключенный в круг. Все люди приветственно поднимали правые руки, сжимая скрытые перчатками пальцы в кулаки. Вокруг меня на сцене стояли и другие фигуры в капюшонах и балахонах. Это был один из самых волнующих моментов в моей жизни. Я затаил дыхание. Как некий древний святой герой, представший пред чашей Грааля, я чувствовал желание немедля опуститься на колени. Теперь я понял, что повстречал тех легендарных Рыцарей Огненного Креста, всадников свободы, которые спасли свою землю от полного хаоса. До сих пор я видел их только на фотографиях в новостях и, конечно, на экране в «Рождении нации». Мои ноги начали дрожать. Ручейки пота потекли по коже. Из-под атласных капюшонов на меня смотрело несколько сотен пар глаз, как будто оценивая. Ich war dort![221] На меня неотрывно взирали святые воины Америки, верховные жрецы знаменитого ку-клукс-клана!
От людей, собравшихся в той комнате, исходило ощущение огромной власти. Это была психическая энергия, настолько мощная, что я на мгновение предположил: плавучий зал не сможет сдержать ее и взорвется, как взрываются солнца, и тогда берега Миссисипи и Арканзаса внезапно озарит яркий свет. В жутком блеске огненного креста, среди шелеста одежд – белых, зеленых, серых, темно-красных, черных и синих – и растущего ропота низких, мужественных голосов майор Синклер отвел меня к стулу, стоявшему в боковой части сцены. За крестом висело огромное знамя – летящий дракон с легендарным «Quod Semper, quod ubique, quod ab omnibus»[222], красно-черный, заключенный в равносторонний треугольник. Меня взволновало все происходящее, и особенно эффектное появление таинственной фигуры, которая теперь шагнула вперед. Сияющее пурпурное одеяние вырисовывалось на фоне креста в игре света и тени. Я осознал, какая огромная честь мне оказана, когда во всеуслышание объявили, что нас удостоит своим присутствием сам Имперский маг[223]. Затем начался приветственный ритуал.
Все склонили в молитве укрытые капюшонами головы, повторяя напев Великого кладца: простую и искреннюю просьбу, обращенную к Богу, который помогал и помогает хранить святые идеалы клана. Молитва закончилась, Имперский маг взмахнул руками, и в собрании воцарилась абсолютная тишина.
– Все гении, Великие драконы и гидры, Великие титаны и фурии, гиганты, Высокие циклопы и ужасы, и все прочие граждане ку-клукс-клана, во имя отважных и почитаемых мертвых, я приветствую вас и принимаю в этом особом и тайном клонверсе[224]. Вы собрались из всех сфер нашей империи по делу великой и ужасной важности, дабы обсудить будущее Соединенных Штатов Америки, которым все вы поклялись хранить верность до самой смерти.
Я очень смутно помню начавшиеся после этого ритуалы. Звучали песни и ответствия, речи и откровения, большей частью на тайном языке клана. Невозможно было понять крики «Ауаk!» и «Аkiа!» или «Kigy!» и «San Bog!», но «Присяга клансмена» никогда не сотрется из моей памяти, ибо в дальнейшем я слышал ее не раз:
«Я верю в Бога, и в истины христианской религии, и в то, что безбожная страна не может долго процветать. Я верю, что Церковь, не основанная на принципах морали и справедливости, – это насмешка над Богом и человеком. Я верю, что Церковь, которую не беспокоит благосостояние простых людей, не достойна веры. Я верю в вечное отделение Церкви от государства.
Я не присягал ни одному иностранному правительству, императору, королю, папе римскому и никакой иной иностранной политической или религиозной силе. Я верую лишь в Звезды и Полосы и верую в Единого Бога. Я верую лишь в законы и свободу. Я верую в предотвращение забастовок, устроенных иностранными агитаторами. Я верую в ограничение иностранной иммиграции.
Я коренной американец, и я верую, что в этой стране мне принадлежат исключительные права, превосходящие права иностранцев».
Звуки этих чистых голосов едва не довели меня до слез. Я как будто снова оказался в Александровском соборе в Киеве, снова слушал пение священников и имена героев Киева, помянутых в молитвах, хотя теперь собравшиеся говорили о Рыцарях Камелии, Рыцарях Полуночной Тайны, Ордене Американского Рыцарства, Рыцарях Великого Леса. «Перед Богом клянусь клятвой верною, клятвой тяжкою, клятвой страшною. Перед Богом клянусь клятвой страшною: на Руси государю, как пес служить. Спаси, Господи, люди Твоя!» О Боже, храни людей Своих! Боже, Царя храни! Как мы плакали и целовали Библию! А они называли дни, недели и месяцы согласно традиции клана: Смертельный, Кошмарный, Отвратительный и так далее. Даже годы они отсчитывали от начала третьей реинкарнации клана, с 1915 года, вскоре после премьеры «Рождения нации» под названием «Клансмен»[225]. Религия и мораль стали воинственными, их поддерживал праведный гнев. О, грек поднял свой меч! Христос воскрес! Христос воскрес! Эти благородные, отважные люди стояли и молча слушали речь Имперского мага. То было исповедание веры клана, напоминание всем присутствующим о благородных идеалах и истинной цели ордена. Лидер процитировал полковника Уинфилда Джонса[226], который, по его словам, был не клансменом, но объективным наблюдателем, написавшим историю клана. Имперский маг подчеркнул, как важно приобретать и сохранять таких друзей.
– Полковник Джонс, братья клансмены, поведал нам, что англосакс – это совершенный тип человека. Ему должны уступить эгоистичные евреи, культурные греки, благородные римляне и восточные мистики. Псалмопевец, должно быть, имел в виду именно англосаксов, когда ударил по струнам своей беззвучной арфы и пропел: «О Боже, не много Ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему»[227]. Ку-клукс-клан стремится к тому, чтобы в жилах всех правителей текла эта всепобеждающая кровь. Ку-клукс-клан поддерживает благородных, верных и добрых во имя торжества Закона и развития рода человеческого. Наш великий мистический орден, братья-клансмены, теперь насчитывает миллионы членов. Мы выступаем от имени большинства американцев, от имени потомков наших великих пионеров, настроенных против интеллектуальных полукровок-либералов. Мы, американцы, – наследники разных народов так называемой нордической расы, которая, при всех ее ошибках, даровала миру почти всю современную цивилизацию. И эти американцы сейчас страдают от множества бедствий и унижений. Святость нашей субботы, наших домов, целомудрия и, наконец, даже нашего права учить собственных детей в собственных школах основам нашего вероисповедания – все отнято у нас. Люди, которые хранят верность древним заветам, постоянно подвергаются осмеянию. Мы страдаем от лишений. Будущее наших детей под угрозой. Наши крупные города и промышленные и торговые предприятия находятся под контролем чужаков, которые подтасовали карты успеха и процветания. Они пришли, чтобы править нами.
Речь Имперского мага была одной из самых возвышенных, одной из самых правдивых из всех, что мне приходилось слышать. Он продолжал рассказ о том, как предвзято относились к коренным американцам бизнесмены, законники и правительственные чиновники. Он говорил, что мировая война показала: миллионы людей, которых допустили к наследию нордических американцев, на самом деле хранили верность другим идеалам. Нужно наконец понять, что чужак обычно остается чужаком, независимо от того, что с ним случилось и какое образование он получил. Смешение народов оказалось ужасной катастрофой. Само название – плавильный котел, тигель[228] – изобретено евреями, представителями расы, которая решительно отказывалась растворяться в чуждой среде. Американец мог работать лучше иностранца, но иностранец оказывался хитрее американца. Чужаки из Восточной и Южной Европы привыкли к нищете. И иностранные идеи были так же опасны, как и сами иностранцы, независимо от того, насколько убедительно они звучали.
– Клан взывает к американским расовым инстинктам, к здравому смыслу, который является важнейшим следствием этих инстинктов. Новейшие исследования научно подтверждают наши выводы. Три расовых инстинкта жизненно важны для целей нашего ордена, для создания Америки, которая исполнит мечты и оправдает героические подвиги людей, создавших страну. Эти инстинкты таковы: верность белой расе, традициям Америки и духу протестантизма. Они выражены в лозунге клана: «Владычество коренных белых протестантов!»[229].
И тогда весь зал в один голос повторил: «Владычество коренных белых протестантов!»
Как будто подхваченный этой волной откликов, Имперский маг поднял руки над головой. Он заговорил о патриотизме, о сохранении чистоты расы пионеров:
– Расовая целостность – это необходимое свойство истинных граждан. Человеческие расы и народы так же различны, как породы животных. Нельзя заставить бульдога пастись вместе с овцами!
Аплодисменты зазвучали вновь, но Имперский маг шевельнул рукой, призывая к тишине. Шум тотчас смолк.
– Клан не настроен против всех иностранцев, только против тех чужаков, которые пытаются управлять американцами! Западные евреи наделены большими способностями, но они далеки от нордической расы, и прежде всего нас разделяет религия. Еще хуже недавние иммигранты, восточные евреи, известные как ашкеназы, обращенные в иудаизм монголы, называемые хазарами[230]. Они настолько далеки от нордической расы, что надежды на их ассимиляцию не может быть. Белая раса должна остаться высшей не только в Америке, но и во всем мире! Мысль о том, что белые и цветные могут жить в гармонии, просто абсурдна. Вся история – один непрекращающийся расовый конфликт. Этот факт не согласуется со слезливыми теориями космополитизма, но он не подвержен сомнению.
Клансмен говорит, что белые не будут рабами! Негр – это особая забота и проблема белых американцев, негр здесь не по собственной вине. Однако нам не следует обещать социальное равенство, которое все равно невозможно. Клан с нетерпением ждет дня, когда проблема негров будет решена на рациональной основе, когда все государства примут законы, делающие сексуальные отношения между белыми и цветными преступлением! – Маг снова остановил аплодисменты. Он заговорил о попытках Рима управлять Америкой: – Наши первые колонии были созданы для того, чтобы освободить Америку от власти Рима. – Он объяснил, что протестантизм и нордическая раса едины. Все прочие народы хотели уничтожить эту расу, особенно католики. – Католики – самое крупное, самое сильное, самое цельное из всех враждебных объединений, они часто заключают союзы с другими группами чужаков, чтобы бороться против американских интересов; именно об этом они договорились сейчас с нью-йоркскими евреями. Долг клана – рассказать обо всем как можно большему числу людей. Наш долг – использовать демократическую систему, чтобы обеспечить участие кандидатов-клансменов во всех возможных выборах и добиться победы клана! Именно так мы спасем Америку. Не с помощью насилия или диктатуры толпы, а благодаря чистоте наших идеалов. Мы уже к этому близки!
Wie lange wir es dauern?[231] Недолго. Встал еще один клансмен, он заговорил о клокардах, действующих во всех слоях общества. Кладды настаивали, что клан и церковь – это синонимы. Друзья в высоких креслах, посторонние, поддерживающие взгляды клана, – все они готовы помочь. Выдающиеся заграничные гости поддержали устремления клана. Они отрицают злобные и лживые наветы тех газет, которые утверждают, что мы – ограниченные, неграмотные люди!
Когда шум стих, Имперский маг спокойно произнес:
– Один из таких гостей сегодня вечером с нами. Великий дракон сферы воздуха представит нашего гостя.
Несколько секунд продолжались вежливые аплодисменты, потом они стихли, и ровный гул корабельных двигателей остался единственным заметным звуком. Тогда вперед вышел майор Синклер, который решительно произнес:
– Братья Огненного Креста, нас почтил своим присутствием великий ученый и летчик, прибывший из Европы. Он сражался с турками, большевиками, католиками и евреями, и в его жилах течет кровь наших предков, которые открыли и обустроили эту землю. Его мать – француженка, его отец – англичанин. Он нередко высказывал в частных беседах собственные взгляды, которые можно назвать стопроцентно американскими, – думаю, вы согласитесь с этим. Он приехал к нам не для того, чтобы критиковать и угрожать, как многие чужаки. Он чтит наши традиции. Мы навсегда запомним, что именно англичане поддержали Конфедерацию. Но если мои суждения об истории Юга покажутся вам ограниченными, то я прошу у вас прощения, братья.
Я просто хочу показать, что не все чужаки – критики, фанатики или агитаторы.
Он рассказал, что я – ученый, инженер, авиатор и богобоязненный протестант.
– Противник всего, что мы боимся и ненавидим. Я пригласил на наш клонверс представителя тех, кто поддерживает нас разумно и свободно. Но, братья, этот человек вдобавок стал свидетелем ужасов неудержимого безумия. Мы приветствуем истинного рыцаря воздуха, который собственными руками сражался с кровавым большевизмом и спас тысячи людей от красного террора. Я представляю вам своего друга – знаю, что он станет и вашим другом. Полковник Макс Питерсон!
Аплодисменты, которые я услышал, были довольно громкими, но в то же время осторожными. Я не готовился к выступлению и потому сильно нервничал. И тем не менее теперь, оказавшись здесь, я решил высказаться от всего сердца. Все, что у меня было, – это искренность. Я едва не расплакался, когда начинал свою речь. И пока «Натан Б. Форрест» двигался вниз по грязным водам Миссисипи к Виксбургу, я рассказывал об ужасных опасностях, угрожавших Европе, и о том, как я был пленником большевиков. В каком-то смысле я изложил слушателям всю свою биографию. Постепенно я завладел их вниманием и добился расположения. Когда я почувствовал отклик, мое красноречие достигло высот, на которые я возносился лишь однажды, когда выступал с речью в университете в Петербурге. Я нарисовал им скорбную картину – отчаявшиеся женщины и дети пытались сесть на корабли, чтобы спастись от ревнивых и мстительных евреев. Католическая церковь ослабила Италию, Франция утратила силу, позволив евреям управлять экономикой и парламентом. Даже Англия подвергалась опасности со стороны тех же самых атеистов, социалистов и сионистов, которые напали на пострадавшую Германию. Я описал, как Муссолини и его люди сопротивлялись папе римскому и, следовательно, пытались создать страну, которая привлечет обратно многих американских иммигрантов. В Ирландии ложа оранжистов и другие протестантские организации подвергались атакам католиков-республиканцев, которые пытались установить тиранию в Ольстере. (Я знал, что многие клансмены пришли в орден из таких лож. Интерес к моей речи заметно усилился.) Потом я заговорил об угрозе ислама. Я объяснил, как еврейские деньги, католическое оружие и негритянская жажда крови угрожают всем нашим великим учреждениям. Я говорил в течение по крайней мере часа, описывая достоинства американцев, их достижения во всех областях, особенно в науке и инженерном деле. Я показал, какой опасности подвергались индустриальные центры, как иностранцы проникали в мир развлечений, как они завладевали газетами и создавали радиостанции. Только сильное законодательство могло одолеть соблазны джина и джаза. Россия разрушена, Европа застыла на краю. Если Америка не рухнет в бездну хаоса, то сможет подать пример другим. Слушатели вскакивали на ноги и размахивали руками в знак согласия. Я ликовал. Я закончил речь описанием своего видения американского будущего. Америка станет сильной и здоровой. Чистые, независимые города и плодородные земли прокормят великое множество людей. Американцы будут без страха ходить по ночным улицам и переулкам. Иностранцы, которые не смогут плодить детей из-за больших налогов на каждого ребенка, исчезнут в течение нескольких десятилетий. Развитие генетической науки позволит создать новую породу более сильных и здоровых нордических американцев, которые изменят мир.
– И наконец, – закончил я, стараясь перекричать непрерывные аплодисменты, – это будет Америка, где слово «клансмен» станет синонимом чести, достоинства и благородства. Ваши потомки снова возглавят эту страну. Только клансмены, как показал мистер Гриффит, поддерживают прогресс и нравственность. Они готовы до последней капли крови сражаться за христианскую чистоту, за веру, которая смогла породить прекраснейшую цивилизацию в мире: ее могучие герои поражали весь мир своей силой и отвагой еще в славные дни Афин и Спарты!
Мой идеализм, искренность и непосредственность произвели впечатление на всех присутствующих. Я сел под звуки несмолкающих аплодисментов. Мой акцент, обычно вызывавший подозрения, стал подтверждением откровенности и доказательством их христианской терпимости. У меня не было никаких эгоистических оснований для столь решительных суждений, и это придало всему сказанному особый смысл. Я чувствовал, что наконец обрел себя. Великий кладд принял мой завет. Я был настолько счастлив, что едва заметил, как он перешел к обычным делам. Клан рос чрезвычайно быстро во всех сферах, особенно на Западе и Среднем Западе, где клансмены или кандидаты, которых он поддерживал, занимали немало важных постов. Их недооценивали, местами они сталкивались с яростным сопротивлением, но их силы росли с каждым днем. Меня впечатлило доверие клана – мне позволили присутствовать при самых секретных выступлениях. Особенно важным был рассказ Великого клокарда о разных значительных людях, на которых можно было положиться:
– Выборы продолжаются постоянно. И мы побеждаем. В следующем году, например, когда выборы пройдут в Мемфисе, мы непременно получим большинство в правлении. Мы уже избрали кандидатов на выборы в штате. Нас просто невозможно остановить. У нас миллионы членов, вдобавок многие миллионы проголосуют за клан. Мы уже готовим кандидатов на пост президента от республиканской и от демократической партий. В ближайшие пять лет нашим национальным лидером станет клансмен.
Эти последние сведения показались новыми и волнующими не только мне, но и людям в зале. Я теперь понял, почему данный конкретный клонверс был столь важен. Следовало найти средства материальные и моральные, чтобы начать важный новый этап воплощения политической программы клана. Из толпы вышел Великий циклоп, который назвал свой ранг и сферу. Он был в основном согласен со всеми высказанными идеями. Однако его огорчала дурная слава, из-за которой клан мог потерпеть поражение на ключевых выборах. Некоторые члены ордена надели белые капюшоны только для того, чтобы добиться личных целей. В последнее время в Миссури клансмены дважды убивали членов семей, с которыми враждовали в течение многих лет.
– Даже у черномазых есть права. Мне известен случай, когда негритянку и ее отца убили из-за того, что у нее якобы был ребенок от клансмена. Подобные беззакония, хотя и редкие, привлекают внимание враждебной прессы. Наши политические враги бессовестно преувеличивают их. Я полагаю, что Имперский маг должен издать указ об изгнании правонарушителей из рядов клана. Если он этого не сделает, то мы лишимся поддержки как раз тогда, когда она нам больше всего нужна.
Имперский маг поднял руку в отороченном золотом пурпуре – он был готов ответить.
– Разве вы не согласны: то, что хорошо для Массачусетса, брат циклоп, не обязательно подойдет для Техаса? – Он говорил медленно, тщательно взвешивая каждое слово. – Там у людей есть некоторые серьезные проблемы. То же самое касается и Калифорнии с ее фермерами-япошками. Если некоторые из наших парней клеймят или избивают людей, переступающих черту, – и я не говорю, что одобряю их, – может статься, таков единственный разумный выход в той части страны. Я уверен, что никто из нас не желает людям зла, независимо от их расы, происхождения и убеждений. Но мы никогда не должны забывать о главнейших принципах нашего ордена, возродившегося в ту решающую ночь на Стоун-Маунтин в Джорджии семь лет назад. Нам нужно помнить о том, что привлекает обычных людей в наш орден. Мы показали, что готовы принять меры, на которые боятся пойти другие. Мы всегда должны быть готовы, если потребуется, поднять оружие в защиту достойного христианского образа жизни. Страх должен стать таким же оружием в нашем арсенале, как убеждение или вера. Наша обязанность – подавать людям пример.
Седовласый клансмен поднял руку, привлекая внимание:
– Мы не можем ставить под угрозу христианские принципы ради получения нескольких голосов либералов.
– Вот именно! – Имперскому магу это понравилось.
Потом заговорил Великий клаби из Айовы:
– Если клансмен станет следующим президентом США, мы осудим разгул насилия где бы то ни было!
Последовала пауза, и возникло некоторое напряжение, а потом Имперский маг со сдержанным достоинством ответил:
– Это тоже верно. Сегодня в нашей власти избрать половину губернаторов страны, а возможно, и больше. С тех пор как я организовал этот орден, мы за три года увеличили количество членов от нескольких тысяч до могучей силы, достаточно большой, чтобы заставить Вашингтон дважды призадуматься.
В дальнем конце плавучего зала раздался голос:
– Это правда!
Имперский маг любезно склонил голову, добавив:
– Нам также следует признать поразительные успехи миссис Моган в привлечении новых членов.
Со своего места на противоположном конце сцены поднялся Великий кладд. Когда он сделал шаг, корабль содрогнулся, как будто меняя курс.
– Я согласен. Имперский маг и миссис Моган придумали чертовски надежный метод расширения наших рядов. Деньги опускаются в сундуки наших кампаний. Нравится нам это или нет, но такова наша главная задача. До тех пор, пока мы не сможем выбрать кандидатов в президенты и от республиканцев, и от демократической партии, предпочтительно по открытому списку клана, нам придется рыться в дерьме.
– Мы – американцы! – Громкий голос Имперского мага заглушил общий ропот. – Мы верим в демократические порядки, такова одна из основ нашего государства. Это означает, что мы должны завоевывать голоса. Голоса стоят денег, особенно когда дело доходит до назначений.
У нас должны быть сильные кандидаты. Безупречные люди. Истинные белые, которые смогут отстаивать наши принципы и нашу веру. Люди, которые нам нужны, обходятся недешево. Нам пригодятся и пятицентовики, и десятицентовики от всех членов.
Великий клаби из Айовы решительно ответил:
– Люди, которые вам нужны, сдерживают конные налеты и суды Линча. Останавливая самых ретивых и грубых, мы скоро сможем заполучить собственных судей и начальников полиции. Они сделают то, что мы сейчас делаем в «комитетах бдительности». Нам не следует вести дела с этими лошадниками. Используйте свою власть, чтобы уничтожить или остановить их. Потом сообщите об этом газетчикам. Увидите, сколько людей присоединится к клану по коммерческим соображениям. Страховые агенты, владельцы магазинов, банкиры, хозяева фабрик – все солидные, респектабельные люди. Образованные люди. Надолго ли они останутся с нами, если решат, что слишком многие надели белые капюшоны потому, что они вне закона?
– Маски уравнивают нас, – произнес стоявший в тени Великий клалифф. – Страховой клерк чувствует гнев и желание бороться с несправедливостью точно так же, как всякий батрак. Банкиру острые ощущения от конных налетов нравятся не меньше, чем кузнецу. Вы не понимаете, сколько людей одобряет то, что наши парни устроили в Гаррисоне в прошлом году[232]. Но они никогда не скажут об этом прямо. Мы справились с проклятой забастовкой и вышвырнули так называемых методистов из города. Девяносто девять процентов жителей Арканзаса нас поддержали.
– Вашингтон важнее. – Еще один Великий циклоп вышел вперед, размахивая руками. – Кровь любит деньги, но деньги не любят крови.
Внезапно вскочил майор Синклер:
– Вспомните, почему мы существуем, сэр. Если мы позабудем, что мы – прежде всего защитники белой расы, то можем в тот же миг распустить орден. Мы настойчивы, сильны, разумны, и это легко заметить. Я присоединился к братству в первые годы, в Атланте, потому что нашим женщинам угрожали на улицах, на них косились черномазые и иностранцы. Я не хочу дожить до того дня, когда мои дети будут работать на завладевших деньгами евреев и вступать с ними в браки, когда они откажутся от своей веры, поддавшись уговорам каких-нибудь джазовых иезуитов. Больше мне определенно нечего сказать, джентльмены!
Его слова с энтузиазмом поддержали, и Имперский маг спокойно произнес:
– Спасибо, Великий дракон. Я думаю, вы говорите от имени всех нас.
Но даже после этого одобрительные крики и отдельные возгласы клансменов смолкли не сразу. Я испытывал искреннюю симпатию к этим людям, мне нравилось то, как прямо и честно они говорили и действовали. Я всегда сочувствовал идеалистам, где бы с ними ни сталкивался. Если бы это было уместно, уверен, я бы тоже вскочил на ноги и начал аплодировать.
Имперский маг был суров:
– Ни один человек никогда не подвергал сомнению мою верность и способность дать этому ордену власть, которая ему теперь принадлежит. Когда полковник Симмонс поручил мне управление кланом, он был прекрасно осведомлен о моей вере в наши идеалы. Он это подтвердит, когда возвратится после заслуженного отдыха и предстанет перед нами как Император. Полковник Симмонс написал книгу, которая стала для нас всем, наш великий «Клоран»[233]. Я клянусь этой книгой или самой Святой Библией: он поддержит все, что я сделал, и все, что я сделаю. А пока я прошу вас терпеливо относиться к нашим наиболее порывистым братьям. И я согласен, что нам следует использовать более изощренные методы везде, где только возможно.
Его поддержал еще один Великий дракон, говоривший с резким новоанглийским акцентом:
– Я не думаю, что кто-то из присутствующих станет подвергать сомнению веру полковника Симмонса в нашего Имперского мага.
Он хотел снять напряженность, хотя я не видел вреда в их спорах. При дворе короля Артура, в конце концов, тоже случались разногласия. Спор подошел к концу, и атмосфера улучшилась. Имперский кладд сказал:
– Пока Имперский клаби дает финансовый отчет, некоторые сановники должны ненадолго нас покинуть, чтобы обсудить определенные вопросы, затронутые сегодня вечером.
После этого майор Синклер подал мне знак, и мы последовали за Имперским магом через боковую дверь в небольшую гардеробную. Здесь лидер клана глубоко вздохнул, сняв свой высокий головной убор.
– В этих штуках ужасно душно, даже зимой. – Он улыбнулся и протянул мне красивую, ухоженную руку. – Спасибо, что пришли, полковник. Я много слышал о вас. Я Эдди Кларк[234]. Мне кажется, вы выпиваете.
Я сказал ему, что пью умеренно.
– Тогда давайте восстановим силы у меня в каюте.
Это был худощавый, изящный мужчина. Он вел себя интеллигентно, культурно, тем самым демонстрируя лживость представлений о клансменах как о небритых хамах. Очки в роговой оправе и темные вьющиеся волосы придавали ему облик академика из какого-то чудесного университетского городка, а не могущественного политического деятеля. Он вел себя непринужденно и был очень обаятелен, это во многом объясняло его успех. Он присоединился к клану в 1920 году в качестве Клеагла, а теперь стал опытным руководителем. Полковнику Симмонсу, романтичному и благородному старому южанину, недоставало политической воли, чтобы сделать клан подлинной силой, какой он стал теперь. Но та решающая ночь на Стоун-Маунтине, когда он собрал нескольких братьев по духу, чтобы возродить орден Рыцарей Огненного Креста, до сих пор считалась важнейшим моментом в истории движения.
Каюта Имперского мага располагалась на носу корабля, здесь качка была не так заметна. Он подошел к стене, нажал на потайную кнопку и открыл небольшой шкафчик, полный превосходного алкоголя.
– Разумеется, эти услуги включены в стоимость аренды корабля.
Я попросил простой водки. Мне никогда не нравилась американская привычка смешивать напитки так, что все они на вкус напоминали газировку с сиропом. Майор Синклер и мистер Кларк выбрали ржаное виски. Мы подняли рюмки.
– За долгое и выгодное сотрудничество, полковник. – Кларк не скрывал своего восторга. – Меня потрясло то, что вы сказали, и то, как вы это сказали. Из первых уст. Да, нам стоило рискнуть и пригласить вас. Этот клонверс, как вы, вероятно, понимаете, имеет особое значение. К тому же он предоставил нашим ведущим деятелям со всех концов страны возможность хорошенько вас рассмотреть. А вы, в свою очередь, теперь неплохо понимаете, к чему мы стремимся и какие проблемы перед нами стоят.
Он говорил спокойно, но многозначительно. Это была не просто вежливая беседа. Он почти ухаживал за мной, изучал меня, как мне казалось, с необычайным уважением.
– Вы знаете, как я восхищаюсь кланом, мистер Кларк. Еще в Европе я был поражен самоотверженностью и отвагой ваших рыцарей. В Европе нет ничего, что могло бы сравниться с вашим орденом, хотя там он, несомненно, необходим. – Я говорил искренне, и все же мне было интересно, чего он от меня хочет.
Кларк снова наполнил наши бокалы:
– Нас уже очень много, и наши ряды постоянно пополняются, полковник Питерсон. В некоторых штатах большинство составляют те, кого называют «белыми бедняками». Несомненно, вы заметили, что на меня оказывают давление, требуя призвать к порядку людей, которые немного перегибают палку в своем энтузиазме. Я отказываюсь. Я считаю, что нужно всеми имеющимися средствами привлекать представителей высших классов, которые сейчас поддерживают нас только мыслями, а не делами. Чтобы стать подлинной политической силой, мы должны добиться их поддержки, в том числе финансовой. Вы понимаете меня?
– Учитывая роль клана в борьбе с забастовками, я удивлен, что вас до сих пор не финансируют крупнейшие промышленники. У вас, несомненно, общие интересы. Возможно, только нелестные отзывы в прессе вызывают у них сомнения. – Я надеялся, что эта оценка покажется разумной.
– В яблочко, полковник Питерсон. – Мистер Кларк хлопнул майора Синклера по плечу. – Вы были правы насчет этого человека, Эл. Я вам благодарен. – Он снова обернулся ко мне. – Именно поэтому мы хотим пригласить вас, полковник. Устроить общенациональный лекционный тур. Все газеты во всех городах, которые вы посетите, напечатают ваши слова. Я читал статьи в мемфисских газетах. У вас превосходная репутация. Вы можете авторитетно рассуждать об ужасах неограниченной иммиграции. Вы респектабельный, разумный, привлекательный человек, люди вас послушают. Вы выдающийся ученый, у вас нет корыстных целей, вы не связаны с американскими политиками. Ваша скромная поддержка клана может оказать нам неоценимую помощь в деле пополнения рядов. Мы хотели бы финансировать вас, но не напрямую. Оплата будет щедрой, а все условия путешествия – первоклассными. Клан может быть не только опасным врагом, – он сделал паузу, и я подумал, не является ли это своеобразным предупреждением, – но еще и верным другом.
Разумеется, мне это понравилось. Предложение клана могло существенно повлиять на улучшение моего статуса. К сожалению, я думал, что оно противоречит моему желанию следить за постройкой мемфисского аэродрома и самолета. И все же присоединение к такой влиятельной политической группе обещало множество преимуществ. Оно могло означать полную безопасность для нас с Эсме и, вероятно, важную должность в правительстве, которую я вполне заслуживал. По этой причине я не стал сразу отказываться.
– Это очень лестно, сэр. Однако в настоящее время у меня есть неотложные дела. Я был бы признателен, если бы мне дали несколько дней, чтобы обдумать ваше предложение.
Имперский маг уже предположил, что мне потребуется время.
– Майор Синклер будет в Мемфисе через несколько дней. Он полетит обратно в Атланту на «Рыцаре-ястребе». Вы завтра собираетесь в Литл-Рок, не так ли, Эл?
– Если погода не испортится. Я мог бы в один перелет преодолеть все расстояние. Что бы я ни решил, я все равно проведу в Мемфисе еще немало времени.
Мистер Кларк просиял:
– Итак, когда примете решение, полковник Питерсон, просто сообщите майору Синклеру. Он передаст мне новости в Кланкресте, нашем штабе в Атланте.
– Надеюсь, что вскоре свяжусь с вами, сэр.
Между нами возникла сильная, почти сверхъестественная связь, когда мы стояли в этой красно-бело-синей каюте. Мистер Кларк рассказал майору Синклеру историю об одном федеральном шпионе, который попал в аварию. Если рассказ предназначался для моих ушей – в нем не было необходимости. Я уже знал, как клан наказывал шпионов и предателей, и полностью одобрял их тактику. Мы подняли бокалы в последнем тосте: «За Америку!». В глазах майора Синклера сиял свет идеалистического патриотизма. Майор напоминал тех отважных русских аристократов, которые обещали отдать жизнь за царя и Христа в борьбе против большевизма. Я вновь с трудом сдержал слезы.
– За Америку! – сказал я.
В первые часы холодного мемфисского утра «Натан Б. Форрест» медленно приближался к пристани. Я стоял у поручней рядом с майором Синклером, наблюдая, как вода в лучах рассвета постепенно приобретает ртутный цвет. За время, проведенное на борту, я свел знакомство с ведущими клансменами из разных концов страны. Мы все ликовали. С 1920 года силы клана стремительно росли. Все происходило очень быстро. Многие члены еще не понимали, какого могущества достиг орден. Клеагл Индианаполиса объяснил мне, что клан вынужден хранить тайну. Невидимая империя ку-клукс-клана была создана для борьбы с чужеродными группировками, имеющими отделения во всех странах: сионистами, «Рыцарями Колумба», анархистами, сицилийской «Черной рукой», мормонами, тонгами[235]. Мистер Кларк подчеркнул: если они открыто заявят о своих интересах и целях – то же сделаем и мы. В интересах демократии мы вынуждены использовать вражеские методы, пока у нас нет власти в Вашингтоне. А когда власть будет у нас в руках – мы вызовем их на открытый бой согласно закону. Они заплатят за долгие годы лицемерия и лжи. И неважно, идет ли речь о колдовских культах в Луизиане или о католиках в Таммани-холле. Подобно мне, мистер Кларк никогда не забывал о морали, каким бы окольным ни казался путь к ней.
Майор Синклер пребывал в наилучшем настроении, когда отвозил меня в «Адлер апартментс». Прежде чем расстаться, мы крепко пожали друг другу руки и немного постояли, любуясь восходом. Майор сказал, что я произвел прекрасное впечатление. Он искренне надеялся, что я захочу помочь делу, с которым связана его жизнь. Я поднялся в свою комнату, размышляя о всемирном клане. Я думал, сколько общего у греческого православия и протестантизма. Они выступали против Рима. Объединившись, рыцари ку-клукс-клана могли победить всех врагов христианского мира. Лежа в постели, я мечтал о будущем, когда победа наконец будет одержана. Свободные люди в свободном мире избавятся от масок, регалии будут нужны только на церемониях – так, к примеру, почтенные южане иногда облачаются в мундиры Конфедерации. Огромные сияющие города поднимутся к небесам, больше не опасаясь иностранной угрозы. Кажется, я еще немного побаивался. Приняв приглашение и взойдя на борт «Натана Б. Форреста», я сделал решительный шаг – пути назад не было. Где-то в тени прятался Бродманн, он усмехался и дразнил меня, грозя пальцем, намекая на тонкую и невообразимую месть. Я посмотрел вверх и увидел, что последний из городов удаляется. Я остался один.
Я проспал всего несколько часов. Я почти обрадовался, когда меня разбудил громкий барабанный стук в дверь. Поспешно натянув халат, спотыкаясь, я открыл посетителю. Это оказался мистер Роффи.
– Вы спите допоздна, полковник.
Вел он себя сурово, почти нетерпеливо. Он шагнул в темную комнату и сел в мое кресло. Я отдернул занавески и распахнул ставни – свет оказался неожиданно ярким и ослепил меня. Тем временем мистер Роффи пригладил волосы, поправил жилет и немного успокоился.
– Извините меня за вторжение. У меня есть кое-какие чрезвычайно хорошие новости, сэр. Я решил сразу приехать к вам, чтобы сообщить их.
Меня поразил контраст между внешностью мистера Роффи и его словами.
– Не хотите кофе? – Я потянулся за банкой.
– Спасибо, я уже позавтракал. Но я закурю, если вы не возражаете. – Он зажег большую сигару и втянул дым так, как изголодавшийся ребенок глотает материнское молоко. – Сегодня утром мистер Гилпин получил сообщение. Наша стратегия принесла плоды. Мы получили практически все необходимые подписи – Торговой палаты, Законодательного собрания штата, самого Конгресса. Они называют это «Мемфисским экспериментом», знаете ли. Вся страна будет следить за нами. Если мы добьемся успеха, Нэшвилл готов начать собственный проект, используя нашу компанию в качестве базовой.
Он явно был сбит с толку и расстроен, но я не мог понять, насколько это связано с его сообщением.
– Когда мы начинаем работу? – спросил я.
– В начале июня, если получим участок, который нам нужен. – Он тяжело вздохнул, возможно, пытаясь успокоиться. – Решающим для нас стало требование четырехсот пятидесяти тысяч долларов залога. Все, что нам сейчас нужно, – выложить наличные. Остальное пойдет как часы. Мы, несомненно, немедленно вернем наши деньги. Наша прибыль в первый же год будет стократной. Вы получили известия из Европы?
Я тяжело вздохнул и присел на край кровати. Конечно, я ничего не получал. Я изо всех сил старался сдержать дрожь.
Мистер Роффи уставился на меня сквозь завесу сигарного дыма.
– Что случилось?
– Я, в общем-то, надеялся, что за дверью мальчик из «Вестерн Юнион». Мои агенты сообщают, что инфляция в Германии вызвала панику по всему континенту. Именно поэтому дела движутся так медленно.
– Весь наш план зависит от вашего взноса, полковник. Возможно, в Нью-Йорке у вас есть какие-то средства, которые можно перевести в наличные.
– Недостаточно. – Я больше не мог придумать никаких оправданий. Вскоре, если Коля не ответит, мне придется признать, что я на самом деле беден. Я полагал (возможно, это прозвучит абсурдно), что в таком случае моя жизнь может подвергнуться опасности. Наконец я добавил:
– Сегодня придет ответ. А пока не поможет ли моя долговая расписка?
– Лучше, чем ничего. – В голосе мистера Роффи звучали одновременно и страх, и подозрение.
Извинившись, я удалился в ванную и принял немного кокаина. Когда я вернулся, руки по-прежнему дрожали, но мне удалось составить документ, в котором я пообещал передать сто пятьдесят тысяч долларов «Мемфисской авиационной компании».
– Наличные скоро будут, – заявил я.
– Сегодня или никогда, полковник. – Мистер Роффи аккуратно свернул документ и убрал его в нагрудный карман. Медленно поднявшись на ноги, посетитель повернулся к двери. – Все зависит от вас. Завтра мы втроем будем стоять у руля большого предприятия – или нас вываляют в смоле и перьях и вышвырнут из города. Мы с мистером Гилпином дали гарантии банкам, сенаторам, конгрессменам, чиновникам и кредиторам. Если не будет ваших денег, мы разоримся. Это, конечно, очень плохо и для мистера Гилпина, и для меня. Мы – люди чести. Насмешки и унижения, вероятно, погубят Гилпина. Но ведь вам тоже придется несладко, полковник. Тюрьма? Вас, разумеется, вышлют. Куда, как вы полагаете? – Его рука дрожала, когда он подносил сигару ко рту. – Во Францию?
Эта перспектива встревожила меня больше всего. Меня арестуют, как только я сойду на берег в Гавре. Я выпроводил Роффи. Вдохнув немалую дозу кокаина, я принял ванну, переоделся, выпил теплый кофе, который приготовил сам. Мне следовало рискнуть и послать Коле еще одну телеграмму. Какие оставались варианты? И тут меня внезапно осенило. Наш эксцентричный итальянский друг когда-то предлагал мне связаться с его кузенами, добившимися успеха в Америке. Я составил телеграмму на французском и пошел в «Вестерн Юнион». Я отправил послание Аннибале Сантуччи в Рим по адресу «Ресторан Мендосы, виа Каталана». Я объяснил, что мне нужно на несколько дней взять взаймы крупную сумму. Знает ли он в Америке человека, который мог бы помочь? Ответ нужно прислать на имя полковника Питерсона. Я в панике отослал еще несколько телеграмм Эсме, сообщив, что люблю и не забываю ее, а также миссис Корнелиус, которую попросил связаться со мной как можно быстрее. Я сделал все, что мог. Когда я поднимался по лестнице в свой номер, миссис Трубшоу, которой я назначил встречу, вошла через центральную дверь и спросила обо мне. Она меня отвлекла, а мне это было необходимо. Остальную часть дня я провел среди ее застежек и бантов, в изысканном греховном разврате. Я потратил остатки универсального лекарства, которое местные жители называли «конфеткой». Миссис Трубшоу отметила, что мистер Роффи и мистер Гилпин выглядят как-то нехорошо. Она боялась, что они прожигают жизнь. Если они не научатся осторожности, смерти от сердечного приступа им не миновать. «Два старых прохвоста так и не выросли», – сказала она. К вечеру, когда миссис Трубшоу помчалась домой, чтобы приготовить ужин мужу, я еще не получил ответов на свои телеграммы. Мне предстояло снова встретиться с партнерами и дать убедительное объяснение тому, что денег пока нет. Я подумал о неудачном вложении акций, о незадачливых брокерах, которые поместили капитал в какой-то сомнительный фонд. Но эта история требовала подтверждений и доказательств. Я вновь облачился в лучший вечерний костюм, затем сел и стал ждать неизбежного стука в дверь. Я решил: если они не появятся в течение часа, стоит отправиться в ближайший публичный дом хотя бы для того, чтобы пополнить запасы кокаина.
В семь тридцать я надел пальто и потянулся за шляпой и перчатками. В это время раздался стук. Открыв дверь и увидев мистера Гилпина, я был потрясен. Его обычно румяное лицо побледнело. Кожа, казалось, обвисла – теперь он походил не на бравого вояку, а на заключенного, поникли даже его усы. Он без единого слова переступил порог. Я тотчас сообщил, что пока не получил новостей.
– Мы так и поняли, полковник. – Он тяжело вздохнул. – Мы делаем все, что можем, лишь бы потянуть время. Я хорошо разбираюсь в людях. Я знаю, что вы не бросите нас в трудную минуту.
– Я целый день посылал телеграммы во Францию, Италию и Англию.
Он как-то странно кивнул:
– Вы понимаете, что последствия могут быть самыми серьезными?
– Наш план абсолютно надежен. Конечно, препятствия могут задержать нас, но мы преодолеем все трудности.
– Это не так просто, сэр. Мистер Роффи дал твердые гарантии. Наши триста тысяч не покрывают этой суммы. Ваше участие – дело жизни и смерти. Роффи уже на грани, сэр. Он думает о самоубийстве. Надеюсь, что вы не испытываете никаких подозрений на наш счет…
– Я вам целиком и полностью доверяю, мистер Гилпин. Все проблемы – из-за ситуации в Европе. Почти все правительства замораживают финансовые потоки – для них это нечто само собой разумеющееся.
– Но ведь сто пятьдесят тысяч долларов – не такие уж большие деньги для вас, сэр? – Он провел рукой по волосам, которые пару дней назад напоминали белую львиную гриву. Сегодня этот лев был похож на дохлую кошку.
– Средства вложены в основном в ценные бумаги. Мои агенты делают все возможное. Я надеюсь получить средства взаймы у своего банка. Но пока никаких подтверждений нет.
Погрузившись в размышления, мистер Гилпин затуманенным взглядом окинул мою комнату. Потом он трагически посмотрел на меня:
– Поймите, все дело в семье Роффи. Он – человек чести. Если он поймет, что не сможет сдержать слово… – Гилпин снова вздохнул и устремил взгляд на мой письменный стол.
Полагаю, он начинал относиться ко мне с подозрением, но все-таки еще не хотел выражать свои сомнения открыто. Мое положение с моральной точки зрения было ужасно. Все мои выдумки могли теперь привести к гибели человека.
– До этого не дойдет, мистер Гилпин, – сказал я.
– Я добился небольшой отсрочки.
Он смотрел на меня так, как будто я лично убил его старого друга. Он ушел, не подав мне руки. Вскоре я вышел из дома и зашагал по Мэдисон-стрит. Трамваи звенели и дребезжали на холодных улицах, свет из кафе и магазинов не мог рассеять темноту. Свернув за угол, я оказался возле довольно респектабельного бара, в котором завел роман с работавшей за стойкой молодой девушкой из Чаттануги. Я постучал и вошел внутрь. Почти на последние деньги я купил несколько больших пакетов «конфеток». Я был настроен сделать все возможное, чтобы избежать скандала и спасти Роффи от разорения. Я провел ночь у своей подруги и наутро вернулся в квартиру. К моему счастью, пришла телеграмма. Сантуччи ответил. Он не потрудился сократить свое сообщение. Он был столь же многословен, как и в личной беседе. Мне повезло, он оказался в Риме.
Обычно в это время Сантуччи находился в Милане. У всех наших друзей дела шли хорошо, они стали «серьезно относиться к государственным делам». Все посылали мне и Эсме наилучшие пожелания. Сантуччи дал два адреса, один в Чикаго, другой в Сан-Франциско. Фамилии у обоих его друзей были одинаковые – Потеччи, или Поттер. Сантуччи не был уверен, какой город ближе к Мемфису. Где на самом деле этот Мемфис? Неужели я попал в плен к пропавшему колену египетскому?
Этот многословный ответ, настолько доброжелательный и великодушный, настолько похожий на самого Сантуччи, меня очень обрадовал, даже несмотря на то, что я ожидал чего-то более полезного. От Коли, Эсме и миссис Корнелиус я не получил ничего. Я отыскал карту Соединенных Штатов. Взяв нитку, я попытался выяснить, какой из этих двух городов был ближе к Мемфису, но тут в мою дверь постучал швейцар. Он протянул мне записку. К моей превеликой радости, она была от Джимми Рембрандта! Он только что приехал в город и обедал в кафе Планкетта на Монро-стрит. Джимми просил, чтобы я присоединился к нему, если сейчас свободен. Он хотел срочно обсудить личное дело. Моя первая мысль была о том, что он получил новости от Коли. Потом мне пришло в голову, что он просто хотел вернуть взятые взаймы пятьсот долларов. Джимми мог бы даже помочь мне найти деньги, которые спасут меня и моих партнеров. Надежда во мне боролась с отчаянием. Я переоделся и поспешил в ресторан. Это было старомодное заведение с дубовыми кабинками, мраморными столиками и отделкой в стиле рококо. Джимми уже начал есть, когда я окликнул его. Он раздраженно огляделся. Выражение его лица не изменилось, когда он меня узнал, – Джимми остался мрачным и сердитым. Он почти неохотно встал из-за стола и вытер губы салфеткой, избегая моего взгляда, как будто я застал его за поеданием человеческой плоти. Я ничего не мог понять. Когда Джимми сел, я заметил, что он явно путешествовал всю ночь – его костюм был помят. Джимми как-то механически расправил плечи и улыбнулся. Он попросил, чтобы официант не приносил основное блюдо, пока я не сделаю заказ. Я сказал, что он выглядит очень усталым. Джимми прилагал усилия, чтобы сохранять обычную учтивость. Это встревожило меня еще сильнее.
Некоторое время мы вели светскую беседу, и все наши реплики звучали несколько натянуто. К тому времени, когда принесли мою еду, я уже хотел спросить Джимми, что не в порядке. Неужели он чувствует себя настолько виноватым из-за того, что до сих пор не смог мне вернуть пятьсот долларов? Доев свиную отбивную, он аккуратно положил нож и вилку на тарелку, вздохнул, а потом посмотрел на меня светлыми серыми глазами.
– Макс, я явился как друг и хочу тебя малость вразумить.
Он говорил совсем не так, как раньше: резче и как будто спокойнее – примерно как Сантуччи. Он использовал сленг, на котором раньше беседовал с Люциусом Мортимером. Теперь я мог лучше понимать его – прежде всего из-за близких отношений с проститутками, которые тоже говорили на этом диалекте. Я понял суть его первой фразы, но понятия не имел, что Джимми хотел сказать.
– Этот Роффи… – Рембрандт сделал паузу. – Он спятил и готов как следует врезать. Он думает, что ты – жульман. Именно поэтому я здесь. Чтобы ты все просек.
– Мистер Гилпин сказал, что мистер Роффи очень беспокоится.
– Он с ума сходит. Он сказал мне, что ты его подставил. От твоей налички зависит спасение проекта аэропорта. Что произошло, Макс? Ты собираешься сбежать? Ты думаешь, что они – просто парочка кидал, или что?
– Конечно, я им доверяю. Я сделал все, что мог, лишь бы получить деньги. Я ужасно беспокоюсь из-за этого, Джимми. Мистер Гилпин сказал мне, что мистер Роффи подумывает о самоубийстве.
– Скажем так: сейчас он немного не в себе, Макс. Похоже, Роффи достаточно разозлился и может в любой момент накапать.
– На кого?
– На тебя. Он говорит, что сдаст тебя полицейским. Может, натравит газетчиков. Расскажет, почему ты поспешно уехал из Франции. У него есть на тебя кое-что, приятель. Он всю твою карьеру знает.
Я удивленно уставился на Джимми:
– Как он мог узнать? Джимми, я настаиваю…
– Должно быть, кто-то подкинул ему информацию. Или он раскопал то же, что и я.
Я почувствовал себя совсем дурно. Я отодвинул свою тарелку.
– Ты знаешь, что эти обвинения совершенно ложны! Я объяснил это, когда мы впервые встретились в Нью-Йорке. И ты мне поверил!
– Для Роффи это не важно, по крайней мере теперь. Подумай о своих делах, Макс. Жулик и самозванец? Для властей этого достаточно. Тебя депортируют во Францию. И наверняка посадят в каталажку.
Я слабеющей рукой подал знак официанту, и тот унес мою тарелку. Я попросил стакан воды. Меня всего трясло. На сей раз я не мог справиться с дрожью.
– У него есть моя долговая расписка, Джимми.
– И что?..
Я наклонил к нему голову и многозначительно прошептал:
– Ты знаешь, что обвинения были ложными!
– Да, это обман. Но такие обвинения могут прилипнуть. Ты в это веришь – иначе тебя бы здесь не было. Они обвинят тебя, Макс, если ты не заплатишь свою треть. Что это для тебя? Сто пятьдесят несчастных кусков? Успокой их как можно быстрее. Рассчитайся с Роффи и Гилпином. Ты скоро все получишь обратно. Ты же не захочешь смотреть, как твои друзья идут на дно. По крайней мере, послушай моего совета. Я должен был это сказать. Роффи уже спятил, он способен на все. Если он не остынет, готов поклясться, что тебе не уехать из Мемфиса иначе как в ящике со льдом.
– Он убьет меня?
– Может, не сам Роффи. Но у него есть друзья, которые не слишком разборчивы.
Я поверил ему. Я уже вспотел. От внезапно нахлынувшего ужаса я едва мог перевести дыхание. Да, я был со смертью на «ты», но от того легче не становилось. Казалось, что-то сильно сдавило мне грудь.
– Разве ты не можешь поговорить с ним? Сказать, что я прилагаю все усилия?
– Макс, просто отдай Роффи его комиссионные. Что с того, если он и впрямь надувает тебя? Это лишь маленький кусочек твоего пирога. В газетах писали, что ты прихватил двадцать миллионов. Там всегда пишут ерунду, я знаю. Я скорее готов считать, что ты взял десять. Ты можешь себе позволить такие расходы.
– Джимми, я говорил тебе, что газеты врали! – К тому времени я весь покрылся потом.
– Так что, пять?
– Я ничего не крал. Я приехал в Нью-Йорк почти без гроша. Я жил за счет Роффи и Гилпина. В Нью-Йорке я продал кое-какие драгоценности, но теперь у меня нет ни цента!
С шепота я перешел почти на крик. Потом я попытался вновь понизить голос. Он стал совсем хриплым. По крайней мере, хоть кому-то я рассказал всю правду. Я почувствовал, как тяжкий груз падает с моих плеч. Но на его месте оказалось новое бремя, и я полностью перестал себя контролировать.
– Патент в Вашингтоне ушел за гроши. Вот как я смог ссудить тебе пять сотен. Если бы я сказал им, что сижу на мели, они бы мне не поверили. Ты же сам мне советовал: делай вид, что ты богат, – и только тогда люди начнут относиться к тебе серьезно – неважно, насколько хороши твои идеи. Я послушал твоего совета, Джимми!
Лицо Рембрандта стало совсем белым. Он закурил сигарету и настороженно посмотрел на меня:
– Макс, какая-то снежная буря просто… Откуда мне знать, что это не бред?
– Кокаин на меня так не действует.
– Ты хочешь сказать, что по-настоящему невиновен? Лягушатники действительно подставили тебя? Ты чист как слеза?
Я кивнул:
– Раньше ты мне верил.
– И ты не сможешь раздобыть даже пару сотен долларов?
– Ну, разве что если заложу свою одежду.
Джимми шепотом выругался.
– Но во всех чертовых газетах писали, что ты крупный жулик, Макс. Мошенник столетия! – Он посмотрел на меня как удивленный ребенок. – Господи Иисусе!
Неожиданно я почувствовал себя виноватым:
– Наверное, кто-то и получил деньги. Но это был не я.
Скептически поморщившись, он выдохнул дым:
– Выходит, ты чертово трепло! Подстава! Сбежал из страны, так и не поняв, что случилось. Здорово! Так, похоже, мы теперь выглядим как настоящие болваны! – Он покачал головой. – Значит, Рождества не будет, – добавил он, как будто обращаясь ко всему ресторану.
– Ты не прав, если ты думаешь, что Коля предал меня. Я подозреваю де Гриона. Мой друг – князь королевской крови. Он спас меня, Джимми. Он спас бы меня и теперь, если бы мог. У меня нет его нового адреса. Однако друг из Италии…
– Какое роскошное жульничество!
Джимми уже не слушал меня. Мне его реакция показалась странной. Он как будто восторгался преступниками, которые меня предали, а еще смеялся над собой. А ведь буквально несколько минут назад он предупредил, что моя жизнь в опасности. Возможно, ирония помогала ему скрыть собственный страх, но в любом случае это меня встревожило. На губах его появилась улыбка, затем он нахмурился:
– И какими же идиотами мы себя выставили! Нас надули, как малых детей! Все эти месяцы… Планы. Расходы. Мы все вбухали в дело. Это я заставил Люциуса уговорить тех старых хитрецов! О господи!
Хотя многие из его замечаний оставались неясными, можно было сказать, что он по-настоящему расстроен.
– Уверяю тебя, Джимми, я всей душой поддерживаю план. Я никогда не хотел никого обманывать, а меньше всего тебя и майора Мортимера. Я предлагал свои услуги, свои патенты, свои навыки, мозги. И ведь с этой стороны все в порядке. Если бы у меня были наличные, я немедленно отдал бы их мистеру Роффи! Я поставил на кон не меньше, чем он. Я не хочу, чтобы наш план рухнул.
Джимми явно расстроился. Он поручился за меня перед друзьями, а я его так подвел. Я не мог успокоиться и все извинялся и извинялся. Я попытался взять его за руку. Он как будто не заметил моего прикосновения. Джимми словно бы вообще ничего вокруг не видел. Он рассеянно смотрел на круглые лампы, висевшие вверху, и чему-то усмехался. Неужели мы оба сошли с ума? Я не мог тогда понять, почему он так реагирует.
Конечно, это был просто шок. Много раз я возвращался к этой встрече и ломал голову над тем, почему он совершенно неожиданно рассмеялся. Я изумленно уставился на него.
– О господи Иисусе! – Он был беспомощен. – Мы сами нашли приключения на свои задницы!
Ему не следовало брать всю вину на себя. Ответственность за случившееся лежала отчасти и на мне.
Я никогда не обманывался в подобных делах.
Biddena natla’ ila barra. Mashi yesma’[236].
Глава семнадцатая
Почему радуются другие люди? Этот вопрос зачастую ставил меня в тупик. Реакция Джимми Рембрандта на мои затруднения в течение нескольких лет оставалась для меня загадкой. Когда мы с ним расставались возле кафе Планкетта, он все никак не мог прийти в себя и иногда фыркал и морщился от смеха. Он пожелал мне удачи, «хотя мне кажется, Роффи и Гилпину она понадобится больше». Он еще раз взмахнул дрожащей рукой и, не сказав больше ни слова, быстро зашагал по Монро-стрит и скрылся среди теней.
Я видел мало забавного в своем тогдашнем положении. И совсем уж невесело стало на следующий день, когда я, приехав с пустыми руками из офиса «Вестерн Юнион», увидел Пандору Фэрфакс. Она выпрыгнула из автомобиля и бросилась ко мне. Миссис Фэрфакс спросила, видел ли я кого-то из своих партнеров. Похоже, оба исчезли, не оплатив аренду как своих квартир, так и моей. Они также задолжали значительные суммы различным типографам, проектировщикам, механикам, инженерам и рекламным агентствам. Ей самой пообещали наличные за аренду самолета. Рассчитывая на аванс за консультации, она уже сделала первый взнос за новый самолет.
– Ходят слухи, – сказала она, – что люди «Босса» Крампа получили приказ достать их живыми или мертвыми.
Тем вечером я оказался в необычайно затруднительном положении – мне пришлось объяснять, почему мои партнеры не оставили никаких координат. Я сказал, что, по-моему, они постоянно живут в Вашингтоне. Один из суровых подручных «Босса» Крампа пообещал проверить это. Он казался сердитым и подозрительным, но здравый смысл, вероятно, заставил его признать, что я говорю правду. Вдобавок он хорошо знал, какое положение я занимал в обществе, – очевидно, я ни в каком мошенничестве повинен не был. Тем не менее меня отвезли в небольшой офис над складом молочных продуктов на Юнион-авеню. Там я встретился с самим Э. X. Крампом. «Босс» был спокоен и вежлив. Он оказался выше, чем я ожидал, и носил бледно-синий костюм. У него были округлые, ровные черты лица, наманикюренные ногти и очки в роговой оправе. Он тоже почти сразу поверил, что мне ничего не известно о местонахождении партнеров и о деньгах, которые они задолжали в городе. Конечно, теперь Босс отрицал, что доверял этим двоим, и заявлял, что никогда ничего не слышал о залоге в четыреста пятьдесят тысяч долларов, который с нас потребовали. Было неблагоразумно говорить ему, что если бы требование не предъявили, то счета были бы быстро оплачены, и Мемфис к концу года стал бы гораздо богаче.
Надо признаться, я не хотел ни с кем делиться своими предположениями: мои партнеры, убежденные, что я предал их, в панике бежали. Не имея возможности раздобыть еще сто пятьдесят тысяч долларов, они забрали свои деньги и вышли из дела. Я не хочу возлагать вину за собственные неудачи на других. Я позволил им поверить, что я богат. Они поступили честно. Если бы они хотели мне отомстить, то могли бы разгласить сведения о моем прошлом. Так что я по-прежнему верил в их честность. Некоторые из нас просто сильнее других. Возможно, оказавшись в их положении, я продолжал бы стоять на своем и преодолевать затруднения, а они просто потеряли самообладание. Больше всего, конечно, я сожалел о том, что пришлось заморозить еще один многообещающий, смелый и коммерчески выгодный проект. Политическая машина «Босса» Крампа теперь работала против моих планов. Он об этом сказал прямо. Теперь мне понятно, что моя дружба с майором Синклером, возможно, как-то повлияла на это решение. К сожалению, Крамп противостоял ку-клукс-клану, и поэтому он так и не смог привести Мемфис к процветанию. Эта вражда, основанная на злобных слухах, распространявшихся прокатолическим «Коммерческим вестником», – единственная причина, по которой Крамп так и не достиг высокого положения, на которое мог рассчитывать благодаря интеллекту и характеру. Возможно, он считал клансменов своими соперниками. Союз с кланом обеспечил бы ему не местное, а национальное влияние.
Некоторое время я недоумевал по поводу исчезновения Джимми Рембрандта. Я подумал, что Джимми опасался моего гнева, потому что он в некотором роде бросил меня, а также Роффи и Гилпина. Возможно, он все еще переживал из-за пятисот долларов, которые задолжал мне. Узнав о состоянии Роффи, он мог подумать, что в случае моего убийства будет привлечен к делу. По-видимому, он возвратился в Нью-Йорк.
Мне не полегчало, когда майор Синклер высказал свое откровенное мнение: Роффи и Гилпин были парочкой саквояжников и попросту использовали меня в своих целях. Я не понимал, какой им от этого был прок. Я решил, что не стоит рассказывать майору о том, какую роль я сыграл в их затруднениях, но заверил Синклера: только самые ужасные обстоятельства могли вынудить этих двоих оставить меня. Я заметил, что не лишился наличных. Я не нес ответственности за долги авиакомпании и за личные долги моих партнеров. Я строил самые дикие предположения, я думал о том, что какие-то иностранцы, пожелавшие уничтожить наше великое предприятие, похитили моих партнеров или избавились от них как-то иначе. Мне давно уже очевидно, что все крупные катастрофы дирижаблей в 1920‑х и 1930‑х годах – это результат сионистского саботажа. Также вероятно, что мои партнеры попали в лапы еврейских или итальянских ростовщиков. Ростовщики, как известно, жестоко обходились с неимущими должниками, неспособными платить непомерные проценты. Это также объясняло, почему Роффи и Гилпин так отчаянно перепугались в самом конце, когда я не сумел раздобыть деньги. Я изложил эту теорию полицейским, которые ко мне обратились. Они пообещали во всем разобраться. Но все они были людьми Крампа. Они пришли к выводу, что городские жители, и я в том числе, стали жертвами пары первоклассных мошенников.
Конечно, в глубине души во всех неудачах я винил только себя и продолжал защищать своих партнеров даже в штабе полиции, куда меня пригласили, чтобы сделать официальное заявление. Потом у меня взяли интервью газетчики. Но заголовки на следующий день, само собой разумеется, выражали общее неблагосклонное отношение к Роффи и Гилпину. Я удостоился некоторого сочувствия, но их назвали «злодеями». По иронии судьбы, точно так же называли и меня во французских газетах. Полагаю, Коля защищал мое имя так же отчаянно, как я своих партнеров, и так же тщетно. Как только пресса находит козла отпущения, ее уже не остановить. Самый убедительный пример, разумеется, Адольф Гитлер. Никто никогда не пишет о пользе, которую он принес Германии, все просто повторяют разные дурные слухи. Подобные несправедливости становятся совершенно очевидными для человека, который прожил на свете так же долго и увидел столько же, сколько я. И уже не стоит о них рассказывать. Мир погружается в хаос. Правосудие – это фантазия, о которой скоро позабудут, как позабудут о белой расе, породившей эту фантазию. Любой подтвердит, что я – человек, наделенный интуицией, интеллектом, необычайными моральными качествами. Я не испытываю предубеждений по отношению к другим народам или взглядам. Но когда мне и моим собратьям угрожает омерзительный кровосос – что делать? Смолчать? Опустить руки? В решающий момент эти два старика сбежали. Если бы они остались, теперь считались бы героями, им поставили бы памятники в Овертон-парке. И все же их решение, как оказалось, принесло значительную пользу другим людям, хотя Роффи и Гилпин никогда не услышат за это благодарности. Они сбежали от разбитой мечты, которая вот-вот должна была стать реальностью. И у меня не осталось иного выбора, кроме как принять предложение Имперского мага. Я полечу в Атланту и там подниму свое знамя, я отправлюсь вместе с благородными рыцарями в великий крестовый поход, цель которого – спасение разума, справедливости, нравственности и свободы во всем мире. Я пришел к этому решению на следующий день после исчезновения моих партнеров. Похоже, кто-то в Мемфисе подвергал сомнению мои верительные грамоты, мою искренность, даже мое благородство. Меня дважды оскорбляли на улице. Мистер Бэскин в письменной форме предложил мне освободить квартиру. Даже миссис Трубшоу, которая, как я сначала подумал, приехала, чтобы утешить меня, предъявила какие-то смехотворные требования: она якобы ссудила мистеру Роффи две тысячи долларов и теперь настаивала на том, что мой моральный долг – выплатить ей деньги. Одно только время могло показать, кто лжесвидетельствовал и кто на самом деле пал жертвой обмана.
Древние святые и герои отворачивались от эгоистичных и материальных проблем, получив знак свыше. Я тоже воспринял все эти события как некий знак: мне следовало отправиться дальше, нужно было странствовать по Америке и нести новую весть во все концы этой великой энергичной страны. В течение года я добьюсь такой известности, что история о небольшой фабрике и незначительном муниципальном аэропорте покажется ничтожной мелочью. Мне предоставили возможность завоевать весь Новый Свет с помощью собственной гениальности. Могучая, с научной точки зрения прогрессивная Америка станет самой сильной страной на Земле. Одержав победу здесь, я смогу повлиять на судьбы всего мира. И тогда наконец Россия, моя древняя, духовно богатая Россия, будет спасена от большевистских мусорщиков. Степи снова станут зелеными и красивыми, пшеница заколосится, леса сохранят покой и тишину, и появятся новые золотые города, города возрожденной Византии.
Не стану утверждать, что сам Бог создал необходимые условия, изгнав бедных Гилпина и Роффи из Мемфиса, и дал мне возможность исполнить Его дело с помощью рыцарей ку-клукс-клана. Я не столь тщеславен. Однако не может быть сомнений: то, что поначалу казалось бедствием, помогло мне встать на верный путь и использовать дарованные Богом пророческие способности, чтобы послужить благу христианской веры. Как грек Павел был избран, чтобы стать посланником Христа в Риме, так и я, можно сказать, наследник греческого идеала, должен был стать апостолом в этом Новом Риме. Приняв решение, я тотчас почувствовал прилив радости. Все тревоги остались позади. Я больше не ждал новостей от Эсме, Коли или миссис Корнелиус. Я снова увижусь с ними через определенное время. Каждым атомом своего существа я осознавал, что наконец обрел истинное призвание.
Я покинул Мемфис на следующий день, поднявшись в небо со старой тренировочной авиабазы «Паркфилд». Я покинул и огорченных друзей, и суровых критиков, под шум огромной толпы, которая собралась, чтобы увидеть, как «Рыцарь-ястреб» снимается с якоря. Мы поднимались в пугающее небо – черные облака катились и мчались над землей, которая становилась все темнее и темнее. Надвигался шторм. Шторм шел с юга. Надвигался шторм, который охватит все Соединенные Штаты. И пророки Америки встанут на палубах летающих городов и на платформах гигантских дирижаблей и будут выкрикивать свои предупреждения, словно исходящие с самих небес: «Остерегайтесь еретика, неверного, язычника! Проснись, Америка, перед лицом ужасной опасности! Узри вражеский меч, который рассекает тебя, когда ты спишь! Услышь вражеский голос, который обольщает твоих детей, вражеские верования, которые отнимают у тебя твою религию! Проснись, Америка, во имя Христа, узри угрозу и спасение!» Шторм несет пророка Божьего на шумных крыльях, гром и молния возвещают о его прибытии. С Юга, из Мемфиса, который некогда располагался в Египте, он придет, как пришел Моисей, чтобы повести детей Нового Света к великолепному будущему, их законному наследию. От плодородной Флориды до холодной Аляски, где царь некогда поднял свой штандарт, где двуглавый орел окинул взглядом землю и обрел наконец союзника, с которым можно построить христианский мир заново, – повсюду услышат глас пророка. Проснись, Америка! Корабль пророка виден в небе, и его знак – пламенный крест, греческий крест Kyrios. И так грек даровал имя и силу Его рыцарям. Kuklos: круг[237]. Kuklos: круг Солнца. Круг и крест – Единое! Господи помилуй! Христос воскрес! Христос воскрес!
«Рыцарь-ястреб», освобожденный от тросов, ровно поднялся в воздух над полем. Сильные порывы ветра сотрясали корпус. Корабль дрожал и качался при каждом ударе. Я вцепился в стенку кабины, глядя, как скрывается внизу толпа. Ветер был очень силен, и я боялся, что мы разобьемся, но майор Синклер управлял такими аппаратами много раз, с самого начала войны. Он крепко держался за руль, изящно и аккуратно регулируя высоту и направление движения. Двигатель «роллс-ройс» ревел в полную силу. Мы двигались вперед, пока не оказались над большой рекой и стоявшими на якорях пароходами. Мемфис, с его центром из стали и бетона, кирпичными и деревянными пригородными домами, мостами и железнодорожными путями, постепенно утрачивал свои неповторимые очертания, становился неотличимым от других городов, построенных на берегах реки. Я склонился над краем кабины, наблюдая, как майор Синклер управляет дирижаблем. Ветер бил мне в лицо, трепал одежду, срывал с головы шлем и очки. Наша гондола дрожала так сильно, что мне казалось: вот-вот вылетят заклепки. Все, что не было прочно закреплено, грохотало с неимоверной силой, однако майор Синклер ничуть не беспокоился. Ему это возбужденное состояние казалось настолько привычным, что я сомневаюсь, замечал ли он вообще что-нибудь.
Позже, когда двигатель перестал работать в полную силу, а ветер немного поутих, майор крикнул мне:
– Этим маленьким дирижаблям не хватает мощности, они не могут держать курс так же хорошо, как большие суда. В спокойную погоду с ними намного легче.
Высотомер в моей кабине показывал, что мы уже поднялись на тысячу футов, а стрелка спидометра застыла на сорока пяти узлах. Сначала я чувствовал некоторую неловкость, но неприятные ощущения забывались, когда я сквозь ветровое стекло разглядывал огромные поля и ряды деревьев. Прямо под нами тянулись железнодорожные пути, вдоль которых, как было принято в те времена примитивных приборов, и летел майор Синклер. Вскоре мое внимание привлек длинный грузовой поезд – он, подобно огнедышащему змею, полз по желто-коричневой земле. Иногда на грунтовых дорогах появлялись крошечные автомобили или, чаще, запряженные лошадьми коляски, виднелись скопления лачуг, особняки, которые, несомненно, были центрами больших плантаций.
По-прежнему дул свежий ветер, солнце часто скрывали ослепительные изменчивые облака. Майор Синклер собирался заночевать в Литл-Роке. Там он мог заправиться горючим, закончить свои дела в Арканзасе, а затем отправиться на юго-восток, в Тускалусу, и раздобыть еще бензина. Оттуда, сказал майор, он почти наверняка полетит прямо в Атланту. С ним обычно летал механик, но несколько дней назад этого человека в пьяном виде задержали полицейские в Ноксвилле, теперь он находился в тюрьме. (Майор Синклер больше не собирался с ним работать: «Он мог подвести меня, и я дал бы ему шанс. Но я не позволю ему подставлять клан. Он знал, что его ожидает».) Наша работа в Литл-Роке в основном заключалась в том, чтобы «показывать товар лицом». Мы должны были прорекламировать журнал, сделать несколько кругов над городом и разбросать листовки, убедив всех в том, что клан – не сборище недовольных фермеров и отсталых рабочих, как утверждали некоторые. Потом мы должны приземлиться за городом и принять на борт денежные средства, предназначенные для центрального казначейства в Атланте. Лично я был бы рад снова отправиться на восток. В тот момент мы боролись со встречным ветром. Если он не утихнет, то поможет нам, когда мы наконец направимся в Джорджию. Майору Синклеру постоянно приходилось выравнивать курс, в то время как я, сверяясь с картой и компасом, играл роль летчика-наблюдателя. Обширные пространства моему непривычному взгляду казались неотличимыми друг от друга, и я надеялся, что верно определял те небольшие реки и леса, дороги и плантации, которые иногда появлялись внизу.
Мы долго летели над Арканзасом, вдоль западного берега Миссисипи, и я стал замечать, что обработанных земель становится все меньше. Казалось, почти всю территорию занимали девственные леса. Мы попали на территории мелких землевладельцев и сборщиков урожая. Определять направление становилось все сложнее. Ветер постепенно набирал прежнюю силу. Майор Синклер вынужден был уделять все внимание управлению судном, а я отчаянно осматривал землю в поисках ориентиров, хотя бы отдаленно напоминающих указанные на карте. Скоро пошел дождь, и я уже не мог разглядеть местность. Мы летели, полагаясь только на компас. Порывы ветра и дождь со снегом, рев двигателя, визг металлических деталей – из-за этого мы даже не могли расслышать друг друга. По стеклам моих очков текла вода. Я с трудом различал голову и плечи майора Синклера, сидевшего впереди. Крайнее неудобство и неуверенность – самые типичные особенности «романтики полета» тех времен.
Едва мне удалось как-то приспособиться ко всему этому, как на нас внезапно с новой силой обрушился ветер. Он налетел, как огромная волна. Наша гондола начала подпрыгивать на канатах. Я был уверен, что нас выбросит из кабин или разорвет на кусочки, когда взорвется газовый баллон. Я увидел, что майор Синклер качает головой и делает знаки рукой. Мы спускались. Я был уверен, что это катастрофа. Я перестал дрожать и спокойно приготовился к смерти.
Нос машины уже опустился к земле, гондола начала раскачиваться в стороны, как безумный маятник. Когда майор Синклер открыл газовый клапан для быстрого спуска, шум двигателя позади нас стих. Мы провели в воздухе не более пяти часов. Я подумал: как нелепо, что после всех мечтаний о великолепных летающих лайнерах мне предстоит погибнуть в этой ветхой посудине, списанной из правительственных запасов. Но потом судно стало спускаться медленнее, и я понял, что майор Синклер справился с управлением. Я надеялся, что мы находились близко к Литл-Року. Но больше было похоже на то, что мой друг хотел проникнуть в эпицентр шторма с намерением испытать наши силы. Проливной дождь продолжал терзать нас, и я все еще опасался, что тросы могут лопнуть. Постепенно спокойствие духа вернулось ко мне – и тут двигатель внезапно заглох.
Ветер отшвырнул наш беспомощный дирижабль назад и вбок. Я не мог понять, что Синклер пытается мне сообщить жестами, но было ясно, что нам не оставалось ничего, кроме как приземлиться. Я понятия не имел, как майор собирался это осуществить. Обычно на земле стояли люди, готовые подхватить наши швартовочные тросы. Мой друг, вероятно, надеялся отыскать маленький городок или большую ферму, где найдется достаточно здоровых мужчин, способных подтянуть аппарат к земле. Я на собственном опыте узнал, в чем маленький дирижабль уступает легкому самолету. Вдобавок на «Рыцаре-ястребе» не было радио, и летчик никак не мог попросить помощи.
Дождь постепенно слабел, ветер успокаивался. Нас несло вниз, к земле, и нам открывался мрачный вид: затопленные равнины и редкие тонкие деревья. В сером свете казалось, что весь мир превратился в грязную пустошь, заваленную экскрементами. На мгновение я поверил, что мы уже мертвы и брошены в преддверие ада. Но тут Синклер закричал и взмахнул левой рукой, указывая куда-то на горизонт. Из грязи поднимались здания, больше похожие на природные образования, мало отличающиеся по цвету от окружающего мира. И снова майор сосредоточился на своем двигателе, выкрикивая проклятия всякий раз, когда ему приходилось на несколько секунд прерывать работу, чтобы стряхнуть воду с рук или вытереть лицо. Через некоторое время мотор заворчал, неестественно зафыркал и, наконец, ожил. Синклер что-то прокричал, пропеллер завертелся, и мы с грохотом помчались вперед. Я не расслышал ни единого слова. Майор знаками показал мне, что нужно вытащить шлюпочный якорь из запасной кабины справа. Летчик объяснял мне ранее, что с помощью этого якоря он надеялся осуществить аварийную посадку. Я понял смысл его указаний – и тут же сжался в комок: гондола начала резко раскачиваться. Я испугался, что вот-вот упаду. Чтобы спастись, я развел колени, прижав их к стенкам кабины. Майор Синклер, занятый регулировкой мотора, не мог помочь мне. Свернутая веревка лежала на моих уцелевших чемоданах. Покрытый потом, охваченный паникой, я наконец ухватился за конец веревки и потащил ее к себе, когда гондола более-менее выровнялась. На пару секунд я расслабился, сделал глубокий вдох, а потом взял в правую руку шлюпочный якорь и приготовился его сбросить.
Оглянувшись назад и удостоверившись, что я готов, Синклер наклонил судно еще сильнее, ведя его вниз, как чудовищный снаряд, направленный на лачуги. Темнело так быстро, что я не знал, смогу ли рассмотреть, куда нацелить наш якорь.
– Ищите дерево! – кричал Синклер. – Или большую ограду. Заборы бесполезны!
Он снизил скорость, держа судно почти неподвижно против бушующего ветра, который все еще заставлял гондолу ужасно раскачиваться. Дважды, вглядываясь во мрак, я упускал возможность зацепиться за чахлое дерево. К тому времени уже наступили сумерки. Наконец, охваченный отчаянием, я швырнул якорь наугад в поле. Он во что-то вонзился, но нас протащило еще несколько ярдов, а потом, к моему огромному облегчению, машина резко остановилась. Майор Синклер отключил двигатель, кое-как отрегулировав угол наклона дирижабля.
Мы всматривались в полумрак. «Рыцарь-ястреб» повис меньше чем в пятидесяти футах от болотистой земли. Синклер потянулся назад и сорвал кожух с небольшой лебедки. Мы взялись за рукояти и, тщательно рассчитывая каждое движение, постепенно опустили «Рыцаря-ястреба».
К нам вернулось хорошее настроение, мы улыбались друг другу, как сельские дурачки. Лебедка была надежной. Майор Синклер крикнул мне, что нужно сбросить веревочную лестницу, спуститься и проверить, твердо ли закреплен якорь. Ветер все не стихал, наш газовый баллон гудел и слегка подрагивал, тросы скрипели. Я, по-прежнему улыбаясь, начал спускаться по качающейся лестнице. Примерно через десять футов мои летные ботинки погрузились в грязь. Я прошел вдоль троса и обнаружил, что якорь зацепился за камень. Я слегка подтянул трос, а затем обмотал веревку вокруг маленького дуба. Наша машина теперь была в безопасности до утра.
Нам, конечно, тоже следовало подождать до утра, прежде чем продолжить путешествие. В те времена из-за плохой погоды прекращались все полеты. Вот почему эксперты-авиаторы, такие, как я, изо всех сил старались разработать машины, способные летать по ночам, независимо от погодных условий. Мои идеи намного опережали те, которые были положены в основу конструкции дирижабля Синклера, – этот проект разработали в 1914 году, но дизайн за восемь лет не изменился. Дирижабли стоили гораздо дороже, чем маленькие самолеты.
Мы, конечно, поволновались, но такой поворот событий нас нисколько не удивил. Летчик обычно поздравлял себя, если ему удавалось совершить перелет без единой посадки. К тому времени, когда майор Синклер спустился на землю рядом со мной, уже совсем стемнело. Летчик покачал головой и пожал плечами. Он заметил, что был чрезмерно оптимистичен, когда ожидал, что северо-восточный ветер стихнет. Теперь у нас не оставалось выбора – приходилось обращаться за помощью к обитателям ближайших зданий. Я спросил, благоразумно ли оставлять судно без охраны. Он рассмеялся и взял меня за руку.
– Вы думаете, что его украдут какие-то ниггеры? Идемте, полковник. Посмотрим, сможем ли мы раздобыть горячую еду.
Мы пробирались по грязи, ориентируясь на тусклый, желтоватый свет керосиновых ламп. Облака стремительно проносились по небу. Время от времени в свете луны возникали здания: грубые, некрашеные лачуги, наскоро залатанные ржавым железом и досками разных размеров. Когда мы приблизились, в дверном проеме появилась какая-то фигура. Человек разглядывал нас из-под навеса в течение нескольких секунд. Затем дверь внезапно захлопнули. Из другого незастекленного окна на нас уставились маленькие черные лица. Я почувствовал некоторую неловкость. Майор Синклер засмеялся:
– Это всего лишь лачуги черномазых, полковник. Должно быть, дальше мы обнаружим что-то еще.
Мы пробирались по этому запущенному штетлю, слыша кудахтанье цыплят, странные, загадочные шумы, скрип ставней. Наконец мы выбрались на грунтовую дорогу. Чуть дальше мы наткнулись на скопление зданий по обе стороны колеи. Они были в почти таком же плохом состоянии, как и все прочие сооружения. Однако майор Синклер, кажется, был уверен, что здесь нам повезет больше. Он снял шлем и очки, посоветовав мне последовать его примеру.
– Люди здесь осторожны и малость суеверны. Мы же не хотим, чтобы какой-нибудь дурак выстрелил, приняв нас за грабителей или призраков.
Пока я ждал у разбитых ворот, он выбрал одно из ближайших зданий и вошел во двор, крича:
– Эй, привет! Есть кто дома?
Он подошел к ветхой решетчатой двери и постучал о косяк. Я увидел, что за дверью замерцала свеча. Майор Синклер начал объяснять кому-то, что нам не нужен хозяин дома. Мы просто проезжали мимо и хотели остановиться на ночлег.
– Благодарю вас, мэм, – произнес он наконец.
Майор возвратился ко мне, качая головой и улыбаясь:
– Они не намного умнее черномазых. Никто из мужчин еще не вернулся с поля, и она не станет открывать дверь незнакомцам. Дальше по дороге, примерно в полумиле отсюда, живет проповедник. Будем надеяться, что он окажется более гостеприимным.
Грязная колея вела мимо сломанных заборов, куч непонятных обломков, тонких, голых деревьев, курятников и загонов для свиней. Пару раз мы замечали молчаливых, нездорового вида детей и худых женщин в поношенной одежде. Никто с нами не заговаривал. В лунном свете все это печальное поселение казалось жутким и угрожающим, зловонным и погруженным в безнадежную нищету. Я никак не ожидал, что снова увижу нечто подобное, – мне хватило одного раза, когда я в 1919 году, к несчастью, странствовал по украинской степи. Ведь я считал, что здесь, в Америке, все были гораздо богаче, и только люди европейского происхождения явно страдали от этого бремени невысказанного, неотступного отчаяния. Но этим сельским жителям не хватало пищи физической и духовной, они проживали свои жизни в беспомощном забытьи. Трудно сказать, был ли их общий идиотический облик результатом стечения обстоятельств или кровосмешения, но такие же лица я видел и в России, и в трущобах Константинополя. Я обрадовался, когда мы заметили дощатое здание церкви, рядом с которым располагался захудалый дом проповедника. Во дворе играли дети, которые выглядели такими же отсталыми и голодными, как и все остальные. Женщина в дешевом платье подошла к двери. Она что-то проворчала. У нее были светло-серые глаза и землистая кожа. Ей вряд ли минуло сорок, но руки ее покрывали коричневые пятна, как у глубокой старухи. На учтивый вопрос Синклера она ответила вежливо, с усталой улыбкой: ее муж был занят в другой церкви, где он проводил молитвенные встречи по средам. Он вернется около девяти. Майор Синклер рассказал о нашей проблеме. Жена проповедника сказала, что нам нужно вернуться по дороге к дому мисс Бедлоу. Она сдавала комнаты. Мой друг поблагодарил женщину, сказав, что мы ей очень обязаны. Я снова вспомнил о грязных синагогах штетля, о ветхих храмах в украинских деревнях, о священниках, зачастую столь же невежественных, как их прихожане, но ничего не сказал об этом Синклеру: я смутно подозревал, что подобные сравнения могут его обидеть.
В конце концов мы заметили указатель, на который не обратили внимания, направляясь к церкви. Дом мисс Бедлоу когда-то был выкрашен в зеленый цвет. Кто-то пытался обрабатывать землю в палисаднике, и дорожка выглядела вполне ухоженной. Майор Синклер поднялся на крыльцо по деревянным ступеням. Он снова постучал. На сей раз я смог ясно разглядеть человека, который ответил на стук, – свет оказался более ярким. Человек был очень толстым. Я увидел красное, обветренное лицо, круглую голову, светлые волосы. Бровей практически не было. Толстяк носил розовую фуфайку и комбинезон, верхняя часть которого была расстегнута. Он что-то жевал, в углах рта я заметил пятна. Он вроде бы не проявлял особой подозрительности, но не пытался скрыть любопытство, переводя взгляд с меня на майора Синклера и снова на меня. Мой друг объяснил, в каком затруднительном положении мы оказались. Услышанное произвело на толстяка впечатление, хотя и не сразу, – он почти перестал жевать.
– Так вы, ребята, летчики?
Я с трудом мог его понять. Слова фактически звучали как: «Тавы ребя-я-я лета-а-а», с растянутыми гласными звуками. У меня хороший слух, я быстро имитирую чужие акценты и слова. Но в данном случае я был готов признать поражение. Мужчина вернулся в дом и позвал мисс Бедлоу, которая появилась почти сразу: аккуратная бесцветная женщина в старомодном шерстяном платье. У нее была одна комната, она могла пустить нас на ночлег, но нам придется спать вместе. Она сказала, что плата – доллар с человека плюс двадцать пять центов, если понадобится завтрак. Она могла приготовить нам и ужин. За свинину и зелень следовало заплатить еще тридцать центов. Майор Синклер серьезно заметил, что цена вполне разумная (думаю, что женщина запросила столько, сколько осмелилась), и мисс Бедлоу успокоилась и предложила нам войти. В доме пахло плесенью и горячей едой. Мебель, занавески и ковры были потертыми, но чистыми. За исключением некоторых внешних отличий, практически то же самое при подобных обстоятельствах можно увидеть в доме украинского мужика. Таково было мое первое реальное столкновение с американскими крестьянами, и опыт оказался очень печальным. Полагаю, я ожидал большего от Соединенных Штатов. Мы поднялись по скрипучей лестнице в нашу комнату, избавились от летного снаряжения, вымылись в ванне и снова спустились, чтобы познакомиться с другими гостями. Две пожилых вдовы, толстяк, мрачный батрак и молодой идиот – все они отнеслись к моему акценту с насмешливым удивлением. Когда майор Синклер сказал им, что я из Англии, выражения их лиц практически не изменились.
Сначала заговорил толстяк. Он служил во Франции больше года. Он слышал, что в Англии хорошо. Англия похожа на Францию? В некоторых отношениях, сказал я. В других она больше похожа на Мэриленд. Он никогда не был в Мэриленде. Он слышал, что там тоже неплохо. Он некоторое время хмурился, а затем высказал свою точку зрения: Франция могла быть еще лучше, если б не ужасы, которые там натворили боттти. Пожав плечами, он добавил:
– Но я считаю, что теперь она стала чище, чем была.
Я сказал, что раны Франции заживают.
Майор Синклер заметил, что мне трудно говорить, и взял беседу на себя. Я и правда понимал местных не многим лучше, чем они меня. Майор объяснил, где мы сели и почему. Ему также удалось немного рассказать о ку-клукс-клане, о проблемах белых, связанных с черными рабочими. Толстяк сказал, что у них никогда не возникало затруднений с местными черномазыми, разве что какой-нибудь парень перебирал самогона, и тогда за дело приходилось браться шерифу Карфагена.
– Вы сказали – Карфагена? – Я подумал, что ослышался.
– Именно, – подтвердил толстяк, которого удивила моя очевидная заинтересованность. Он вежливо ожидал от меня каких-то пояснений.
– Везде есть Карфагены, – улыбаясь, произнес Синклер. – И Лондоны, и Парижи, и Санкт-Петербурги. – Он обернулся к толстяку. – Тогда мы не слишком сильно сбились с курса. – Он развернул карту. – Вот Пайн-Блафф. А вот здесь – Литл-Рок. Да, теперь я вижу. – Он улыбнулся. – Мы наверняка будем там завтра к полудню, – сказал он мне.
Как и я, майор Синклер почти не притронулся к отвратительной тюре из жира и бесформенных овощей, которую нам поднесли. Мы пожелали всем доброй ночи и вернулись в комнату. Там мы легли не раздеваясь и кое-как проспали до рассвета. Я выглянул из узкого окна, посмотрел на голые деревья и дырявые крыши и с облегчением обнаружил, что ветер поутих. Серые тучи разошлись, утреннее солнце поднималось в небо, в котором повисли массивные кучевые облака, – все предвещало сухую погоду.
Позавтракав овсянкой и беконом, мы расплатились с мисс Бедлоу. Она сказала, что, судя по всему, сможет помочь с нашим аэропланом. Пройдя по грунтовой дороге мимо пары-тройки домов, во дворе, заваленном старыми покрышками и ржавым металлом, мы обнаружили двух жилистых молодых людей, которые бездельничали на крыльце, так сильно прогнившем, что половина ступеней провалилась. Это были Бобби и Джеки Джо Дэлли. Майор Синклер быстро договорился с ними, и мы вчетвером вернулись туда, где был пришвартован наш транспорт. К тому времени слухи о нашем прибытии распространились, очевидно, по всему селению. Мы оказались в центре внимания. Сначала белые дети, а потом женщины и старики столпились вокруг нас. Качающийся газовый баллон «Рыцаря-ястреба» мы увидели лишь тогда, когда оказались в негритянской части. Афроамериканцы, держась в стороне от белых, столпились поодаль, когда наша процессия вышла в поле.
Меня начинало тревожить количество этих людей, а также их молчание – оно казалось зловещим. Эти голодные нездоровые лица могли принадлежать каннибалам. Мне стало дурно. Черные или белые – я уже не замечал особой разницы. Они окружали нас, они стояли в рваном, чиненом тряпье, с тонкими неловкими конечностями, бессмысленными глазами, красными ртами. От них исходило ужасное зловоние. Я чувствовал, что вот-вот начнется истерика. Я очень хотел, чтобы небольшая порция кокаина помогла мне поправить нервы, но порошок лежал в моем багаже. Майор Синклер казался невозмутимым. Я ничего не говорил о своих страхах и все же сохранял уверенность, что эти люди никогда не позволят нам оторваться от земли, что они в любую секунду набросятся на нас, лишат всего имущества, сорвут самую плоть с наших костей и пожрут ее. Я чувствовал дрожь в коленках – все больше тощих тел собиралось вокруг меня. Синклер улыбался. Он шутил с ними. Неужели он не видел того, что видел я? Это был истинный Карфаген! Выродившееся отребье человечества, жаждущее забрать все, ради чего я трудился; невежественные, безнадежные, тупые враги цивилизации, столь же неспособные вообразить или создать лучший мир, как те негодяи, от которых я сбежал в Киеве, как те евреи, от которых я спасался в Александровской, или глупые дикари из внутренних районов Анатолии. Только огромным усилием воли я заставил себя пошевелиться. Во рту пересохло, колени подгибались, сердце стучало с ужасающей частотой. Синклер мог подумать, что я действую неразумно, но подобная нищета никогда не угрожала ему. А я знал: если мы как можно скорее не доберемся до дирижабля, эта толпа нас поглотит. Им нужно было все, что мы перевозили. Они ненавидели нас за то, что у нас был воздушный корабль. Они завидовали, потому что мне удалось создать нечто подобное. Они ненавидели каждого, кто отличался от них. Все новое несло перемены, угрожало отвратительному течению их жизней. Они готовы были защищать привычный порядок любой ценой. Кусок металла шевелился у меня в животе. Голова кружилась. Я не мог бежать. Desidero un antisettico![238] От них пахло болезнями. Масса увеличивалась, давление росло. Я не мог дышать. Меня окружали скелеты с огромными жадными глазами, они тянули свои кривые когти к тому, чего не могли даже назвать. Я отказывался присоединиться к ним в лагерях, хотя они говорили, что я – их брат. Именно так они вербуют людей. Я никогда не стану мусульманином. Я устою против соблазнов Карфагена. Я бился с Карфагеном хитростью и отвагой. Я знаю его уловки. Я слышал его завораживающее нытье, его рассказы о нищете, его мольбы о сочувствии, его льстивый шепот. Они были готовы на все, чтобы удержать меня. Они говорили, что я такой же, но это ложь. Один несчастный случай с ножом – и они уже говорят, что я – один из них! Нелепое решение моего отца – и я лишен своего наследия. Мое будущее похищено, я лишился своего места в мире. Карфаген рассеивался, как ядовитый газ. Бродманн искоса смотрел на меня, выглядывая из-за облаков. Мой живот сжимался.
Я едва сумел подняться по лестнице в кабину. Меня смущали эти ужасные глаза. Негры выкрикивали что-то нечленораздельное и подпрыгивали. Некоторые дети смеялись. Другие плакали. Майор Синклер говорил со мной, когда усаживался в переднюю кабину, но я не слышал его. Мое дыхание было неровным. Они все еще могли сбросить нас в эту желтую грязь. Я надел очки и прикрыл глаза – теперь им не увидеть моих слез. Майор Синклер взмахнул рукой. Он был спокоен и самоуверен. Эти негодяи подхватили наши веревки и потянули нас над полем. Вся толпа побежала следом. Они что-то вопили: странные, скотские завывания. Майор Синклер закричал мне: «Лебедка! Поднимайте якорь, дружище!» Меня мучила жажда. Я не мог ответить. Все еще дрожа, я повиновался. Я мог видеть, как разевались жадные рты, показывая гниющие зубы, как жадные руки проникали в самое мое существо. Я ничего не должен Карфагену. Я – истинный славянин. Во мне нет их крови. У меня нет перед ними никаких обязательств, нет ни жалости, ни милосердия, ни братства. Их дыхание воняло нищетой. Они были моими врагами. Я чувствовал это – в их одеждах, в их еде, в их хижинах, в их полях. Я кричал им вниз, чтобы они освободили меня и отпустили веревки. Они бежали, напоминая огромную волну, сметающую дамбу, – подлинное наводнение человеческого отребья. Грязные мальчишки все еще держались за якорь, отказываясь его отпускать. Их вопли заполняли мою голову.
Я не хотел ничего такого. Я не был ко всему этому готов. Они – несчастные слуги отчаяния, враги оптимизма, послушные рабы большевизма. Карфаген снова воскрес, не просто в Арканзасе, в Миссури или в Луизиане, но во всех частях Соединенных Штатов – словно симптомы рака. И в Европе тоже. На Востоке он уже завладел всем. Повсюду невежество, голод, фатализм, дурная кровь, слепота. Они сидели в своих штетлях, а потом начинали стучать большие барабаны и гудеть медные трубы, и тогда Карфаген поднимался и, улыбаясь красными губами, тянулся за копьем и щитом. Он облизывал толстые губы и смотрел уверенно и завистливо на плоды наших трудов, на урожай нашей цивилизации. Его черные глаза ярко светились, и из горла доносилось низкое рычание, когда он потягивался и испытывал свою силу, и его сердце переполнял гнев, обращенный против тех, кто пытался уничтожить его, кто сумел добиться преимущества за счет морали и храбрости. И его смуглые руки извивались в предвкушении. Его голодное, мерзостное дыхание слышалось в переулках города, среди лачуг и убежищ, среди шатров и палаток, оно разносилось над пустырями и полями – и в конце концов этот звук заглушал все остальные. Он заглушает гимны и молитвы истинных христиан. Наши прекрасные песни и наши стихи, чистые голоса наших маленьких девочек, наши клятвы – все исчезает в отвратительном реве. Смеющийся Карфаген стоит на руинах наших грез. Наша кровь бежит по его подбородку. Наши памятники обращаются в пепел под его ногами. Зверь победил! Бессмысленная толпа правит землей. Хаос становится единственно возможным состоянием человека. Я это предсказывал. И мы, узревшие знамения (как знамение Божье, ниспосланное, когда Он опустил дирижабль на землю), не утрачивали бдительности. Таков был наш долг – предупреждать всех, кто захочет слушать. Борьба не закончена, хотя мы проиграли очень много сражений. Они никогда не сделают меня мусульманином. Я не склонюсь. Я держу спину прямо. Меня не обольстить приятными фантазиями. Я справлюсь с самыми ужасными заблуждениями. Gehorsam nicht folgn. Ich bin baamter! Bafeln! A mol, ich bin andersh[239]. Разве они не понимают? Я не знаю их языка. Подол – ничто. Каждый должен работать, где может.
Они долго смеялись своим шуткам, но наконец отпустили веревки, и наше судно вырвалось на свободу. Они играли с нами, наслаждаясь властью. Руки, и белые, и черные, махали нам, качались, как чахлые тростинки. Я пытался вернуть самообладание. Майор Синклер все еще не понял, как близок я был к поражению. Мы все еще поднимались в серебристое небо. Я так радовался, что покидаю Карфаген. Литл-Рок ждал нас. Мне не верилось, что впереди могут подстерегать еще более ужасные испытания.
Они заперли меня в Спрингфилде, когда розы были в цвету. О Эсме, моя сестра, ты так и не приехала повидаться со мной! Они стерли мое имя из твоей памяти. Теперь я знаю, как они действуют. Они сказали тебе, что меня не существовало. Они хотели забрать тебя. Карфаген набросился на нас и унес тебя. Они погубили мою мать. Мать, они превратили тебя в пепел? Твои кости сгорели в их отвратительных ямах, где голодные солдаты бродили по тлеющей человеческой плоти, и автоматы трещали день и ночь, и звуки проклятий отражались эхом в ущелье, в котором мы с Эсме когда-то играли. Ты осталась с ней, Эсме, или ты была уже мертва, стерта в порошок непримиримыми машинами стального царя? Или ты искала утешения среди мусульман в карфагенском лагере для военнопленных? Я не видел тебя в Спрингфилде, но Спрингфилд – это дюжина различных поселений. Карты меняются, меняются и места. Мои летающие города будут знать, куда им лететь. В отделении полиции мне говорят, что ничего не могут поделать с афроамериканцами. Они сочувствуют мне, но у них связаны руки. Мы все боимся говорить откровенно. Великие движения были подавлены, наши герои умирают в цепях или уже убиты. Только посредственностям позволяют жить. Они – тени, оставленные Карфагеном, чтобы обмануть нас, чтобы заставить поверить, будто наш мир еще существует. Но меня не обманут. Я не сдамся. Они не смогут запереть меня в своих лагерях, в своих гетто, в своих городах среди черномазых и безродных, за колючей проволокой. Я не стану носить их печать. Я не такой, как они. Я достоин лучшего. Какое они имеют право называть меня мишлингом? Halbjuden?[240] Меня предали еще до рождения. Das Blut gerinnt. Das Blut gerinnt[241].
Как и обещал майор Синклер, мы прибыли в Литл-Рок к полудню. Наши красочные листовки падали на аккуратные борозды улиц, как семена на весенние поля. Малочисленная толпа приветствовала нас, когда мы пришвартовывались в небольшом парке в предместье. Мы приняли на борт деньги, за которыми, собственно, и прилетели, заправили горючим наш бак и быстро отправились дальше, в Тускалусу. Болезнь, которая одолела меня в Карфагене, казалось, отступила вскоре после того, как мы покинули Литл-Рок. Когда мы плыли над ровными крышами Тускалусы, я окончательно выздоровел. Я начал думать, что отравился, поскольку мой организм плохо принимал свинину. Ветер дул нам в спину, небо сияло синевой, а мы взяли курс на Атланту, главный город Юга, центр мира, который некогда считали сокрушенным и побежденным. Теперь он возродился, как огненный мстительный феникс. Атланта, сожженная дотла безжалостными врагами, истерзанная, разграбленная и брошенная на верную смерть, вскоре собралась с силами. Ее огромные серебряные башни поднимались над пустошами. Белые извилистые дороги протянулись в ее небесах. Я видел Атланту издалека, и она была восхитительна. В ее сердце сияла огромная золотая корона. Теперь, когда погода улучшилась, майор Синклер снова находился в превосходной форме. Сельская местность, простиравшаяся под нами, казалась все более уютной. Город, полускрытый рядами темно-зеленых сосен, выглядел чистым и современным – ничего подобного я не ожидал. Но, не достигнув золотого купола, мы повернули на север от Стоун-Маунтин и направились к обширным землям Кланкреста, обиталищу Имперского мага, центру ку-клукс-клана.
Мы прибыли к вечеру, пролетев над бровкой холма к широкой лужайке, окружавшей декоративное озеро, в котором бурлил фонтан. Аккуратные дорожки пересекали зеленые поля. Чуть выше стоял большой дом, настолько роскошный, что ему позавидовал бы сам царь. Это было воплощение изысканного южного вкуса, с мраморными колоннами и портиками – неогреческий особняк, внушительный и безмятежный, озаренный теплыми лучами февральского вечернего солнца. Представлялось, как какой-нибудь житель Джорджии прогуливался здесь верхом в золотые деньки накануне гражданской войны. Когда майор Синклер аккуратно посадил «Рыцаря-ястреба» у озера, негритянские слуги, облаченные в безупречные красно-бело-синие мундиры в колониальном стиле, выбежали из дома и ухватились за наши тросы, подтащив дирижабль к паре столбов, установленных около дома, очевидно, именно для этой цели. Затем нас постепенно опустили на землю с помощью лебедки, и судно твердо встало на якорь. Мы с легкостью спустились на траву. Майор Синклер, как обычно, доброжелательный и вежливый, поблагодарил негров и попросил их отнести наш багаж в дом. Осмотрев мраморные с синими прожилками полированные стены и высокие окна Кланкреста, я решил, что обиталище Имперского мага уже на равных соперничало с Белым домом, который я видел в Вашингтоне и счел не слишком внушительным.
Мы направились по широкой мраморной веранде к центральному входу в здание и как раз свернули за угол, когда навстречу нам вышел сам мистер Кларк. Для меня встреча с этим скромным, интеллигентным человеком была по-настоящему волнующей – я бы не так волновался, даже если бы столкнулся с самим мистером Хардингом. Мистер Кларк, одетый в легкий серый костюм, шел к нам легко и изящно. Он со своей семьей как будто жил в этом особняке всегда. Мистер Кларк вел себя спокойно и вежливо, как настоящий ученый, тем самым подтверждая мое мнение: он был прирожденным джентльменом, которому от природы свойственно спокойное чувство собственного достоинства. Он радушно пожал нам руки, спросил, как прошло путешествие, и выразил удовольствие, что я решил присоединиться к клану.
Майор Синклер с улыбкой рассказал о нашем вынужденном пребывании в Карфагене.
– Не думаю, что полковнику Питерсону понравились тамошние условия. – Он засмеялся. – Одни черномазые и нищее отребье. Не так ли, полковник?
– Да, этой стороной Юга никто гордиться не станет, сэр, – разумно заметил мистер Кларк. – Не так плохо, полагаю, как в нью-йоркских трущобах, но живо напоминает о временах саквояжников. Все переменится, особенно когда приезжих эксплуататоров наконец прогонят. – Он указал нам на главный вход. – В те времена, сэр, как вам, наверное, известно, клан сурово обходился с головорезами, которые использовали в своих интересах возрождение Юга. Куда суровее, чем сегодня.
«Рождение нации» это наглядно продемонстрировало. Я кивнул в знак согласия.
– Эта война началась по экономическим причинам, неважно, что там говорили янки. Положение рабов интересовало их не больше, чем Саймон Легри[242]. Южане постоянно заботились о благе негров. Когда мы были разбиты, эти несчастные мерзавцы пострадали первыми. Если бы нашу Конфедерацию оставили в покое, здешние края превратились бы в рай земной, настоящий образец для остальной Америки и для всего мира.
Мы остановились у стеклянных дверей с роскошными старинными металлическими украшениями. Майор Синклер, казалось, с особым удовольствием рассматривал высокие изгороди и аккуратную подъездную дорожку, посыпанную гравием.
– Наша страна слишком велика и разнообразна, чтобы ей можно было управлять как единым целым. Каждый штат прекрасно знает свои интересы. А вот федеральное правительство всегда доставляет неприятности.
Мы вошли в просторный зал, также отделанный мрамором и увешанный старинными холстами. В альковах стояли алебастровые урны, разукрашенные золотом.
– Вы хотите уменьшить влияние правительства и на местном, и на национальном уровнях, если я верно понял? – Я хотел произвести на него впечатление своим глубоким пониманием американской политики. Я положил руку на полированную крышку концертного рояля и посмотрел на широкую лестницу, украшенную огромным знаменем клана, Великим кленсайном[243].
– Права личности – важнейшая забота рыцарей ку-клукс-клана. – Мистер Кларк собирался обсудить эту тему подробнее, но тут на лестнице появилась высокая красивая женщина с волосами цвета воронова крыла. – Моя дорогая! Полковник Питерсон, это моя коллега, миссис Моган. Она не меньше моего сделала для укрепления нынешних позиций нашей организации.
На миссис Моган были строгое черное платье и украшения из серебра и янтаря. У нее был широкий лоб и массивная нижняя челюсть, а ее манеры впечатляли еще больше, чем манеры мистера Кларка. Я тотчас предположил, что она его любовница, даже в какой-то степени серый кардинал ордена. Они казались прекрасной парой. Спустившись с лестницы, миссис Моган протянула мне руку и мило улыбнулась:
– Вы – иностранный джентльмен, который поможет нам убрать чужаков туда, откуда они явились.
– Ну, Бесси, это не совсем так. – Мистер Кларк говорил с ней, как с ребенком, но я от души рассмеялся. Миссис Моган была женщиной очень ироничной, и я сразу оценил ее остроумие.
– Миссис Моган, – сказал я с поклоном, целуя ее руку, – если я смогу предотвратить в Америке то, что случилось в Европе, если мне удастся изгнать отсюда зло, – я буду более чем удовлетворен.
О, полковник Питерсон, я уверена, вы слишком воспитанны, чтобы злоупотребить гостеприимством. Я ценю ваши идеалы. И вдобавок можно неплохо заработать. – После этих слов она посмотрела на меня, чуть заметно подмигнув, как будто желая разрядить обстановку. Она немного напомнила мне баронессу. – Ребята, вы, должно быть, устали. Что вы хотите для начала? Выпить? Или умыться?
Мы выбрали последнее.
– Уилсон покажет вам комнаты. Мы встретимся здесь перед обедом.
Миссис Моган ответила на мой чуть заметный поклон столь же незаметной улыбкой, и мы расстались.
Уилсон, дворецкий, отвел нас на второй этаж. По мраморному коридору, покрытому коврами, мы прошли к своим комнатам. Мое помещение было куда роскошнее, чем номер в дорогом отеле. Я никогда не видел ничего подобного. Ощущение подлинного богатства, охватившее меня, напомнило чувство, которое я испытал в доме дяди Сени в Одессе, поняв, что в мое распоряжение предоставлена целая комната, в то время как многие считали вполне естественным спать в той же комнате, в которой только что поели. Я не смог удержаться и осмотрел все ящики во встроенных шкафах и изучил тщательно продуманное устройство уборной. Вся обстановка была подобрана с безупречным вкусом, в знакомых патриотических цветах, кое-где вдобавок виднелись золото и серебро.
Обои сначала показались довольно простыми – до тех пор, пока я не рассмотрел их поближе. Основной узор был выполнен в виде ромбов с инициалами ку-клукс-клана. Но центральное место в номере, конечно, занимала огромная кровать под балдахином в наполеоновском стиле. На ее спинке виднелись рисунки, напоминавшие о величайших победах Америки в борьбе за свободу и честь. Над ними красовался стилизованный капюшон клансмена с девизом, выведенным роскошным готическим шрифтом: «Suppressio veri suggestio falsi»[244]. Это упоминание о методах наших врагов было вполне уместным. Французские окна гостиной выходили на балкон, с которого открывался вид на лужайки и озеро. Я бы очень хотел, чтобы те дураки, которые даже сегодня пытаются меня уверить, будто клан – сборище невежественных бандитов, смогли посетить Кланкрест в дни его славы. Эти люди, которые даже не знают, какую вилку нужно использовать для рыбы, онемели бы от удивления. Мне открылось воплощение доброты и цивилизованности. Здесь никто не подвергал сомнению мое yichuss[245].
Глава восемнадцатая
Если я – мученик, страдающий за свои убеждения, то мне досталась превосходная компания, и жаловаться не на что. Иные современники пострадали куда больше. Их унижали, заключали в тюрьмы, пытали, вешали или сжигали заживо. Я потерпел поражение не из-за предательства отдельных людей. Я стал жертвой истории, но пережил немало прекрасных минут, созерцая мир во всей его красоте, занимаясь любовью с восхитительными женщинами, наслаждаясь благами долгой дружбы и общественного признания. Я не собираюсь ныть о своих неудачах и обвинять других в своих поражениях. Я отвечаю за свои действия. Пусть мне не оказывают уважения, на которое я мог бы претендовать! Что с того? Я, по крайней мере, был верен себе. Султаны приплывают из города собак. Они покидают Карфаген в потоках черной крови. Их корабли бросают якоря в гаванях, заваленных трупами. Пугала висят во дворах, насмехаясь над разрушенными городами Запада. Только славяне по-прежнему готовы сопротивляться им, но они все еще в цепях. Стальной царь умер и никому не открыл, где спрятал ключ. Эти светловолосые голубоглазые девочки так прекрасны; они роются в моей одежде, отыскивая шелковые чулки и атласные трусики, подобные тем, которые могла бы носить Эсме. Я не в силах удержаться. Я все отдаю.
Запад дышит на ладан, и я не смогу жить вечно. Султаны бродят по палубам мрачных военных кораблей, рассматривая истерзанные берега, уже павшие под гнетом собственного вырождения. Существа, которые управляли всего несколькими ярдами Бухенвальда или Освенцима, теперь хотят властвовать над целым миром. Но султаны – лжецы, они утверждают, что я их подданный. Во мне нет их blut. Ich habe langen geschlafen. Jesus erweckte die Toten[246]. Я не пожелал стать мусульманином. Я лишился матери. Я несколько раз подавал запросы, но никто не знал, что с ней произошло. Потом, после войны, в 1948 году в Лондоне я встретил Бродманна. Он был уже стар и, вероятно, болен туберкулезом. Он сообщил мне, что находился в Киеве, когда пришли войска СС. Он работал в их конторе и заметил ее имя в списке; он видел, как она спускалась в яр. Возможно, он сказал это только для того, чтобы задеть меня. Почему она оказалась в списке? Почему он не попал в яр? Он признался, что как раз там и работал. Он тоже находился в плену. У меня не было оснований доверять Бродманну. Он лгал даже тогда, пытаясь сбить меня с толку. «Зачем ты преследовал меня?» – спросил я. «Ничего подобного, – ответил он. – Я никуда не выезжал до сорок шестого. Меня послали в Чехословакию». Это было отвратительно – имя моей матери срывалось с бледных губ Бродманна. Я предположил, что он попал в немилость, но по-прежнему оставался чекистом и надеялся искупить грехи, заманив меня обратно. Но я был уже слишком опытен. Кто угодно мог узнать имя моей матери, которое, несомненно, сохранилось в моем деле, вместе с нашим старым адресом. Конечно, я не пользовался прежней фамилией. Я, по крайней мере, чувствую свою ответственность, я стараюсь обезопасить родственников, которые все еще живут в России. Кто-то мне сказал, что Бродманн умер в Испании в 1950 году. Несомненно, к тому времени он стал говорить, что был доном-сефардом! Католический псевдофашист Франко, наверное, принял его как брата! Интересно, как он объяснил, что случилось на аэродроме Темпельхоф 1939 году![247] Все они одинаковы. Они тоже стали бы султанами, если бы представилась возможность. Возможно, Бродманн как раз и был таким, он жил, предавая людей, подобных моей матери. Черные корабли размером с города, их носы рассекают желтую грязь, когда они завоевывают землю. Они неумолимы. Они поднимают разные загадочные флаги, но я всегда узнаю знамена Карфагена. Именно поэтому они так сильно ненавидят меня. И все же не подлежит сомнению: люди, наделенные этим даром, узнают друг друга без разговоров. Так случилось со мной и с майором Синклером, а позже с Эдди Кларком и миссис Бесси Моган.
Я думаю, это – некая форма телепатии. Одно духовное откровение – и устанавливается мгновенная связь. Мы – члены тайного братства, сокрытого от окружающих! Однако я никогда не подумал бы, что мне представится возможность столь удивительная, как та, которую обеспечил Имперский маг: обратиться к целой стране! В России со мной не могло случиться ничего подобного. Действительно, мистер Кларк в последнее время получал немало сообщений о надвигающемся ужасе – какой-то наемник не смог убить Ленина, и это дало Троцкому и остальным возможность с еще большей злобой обрушить большевистский молот на истерзанные останки одной из самых благородных наций в мире. В тот вечер за столом я пришел в ярость; я произнес целую речь против убийц России. К моему удивлению, хозяева и майор Синклер встали и начали аплодировать. Я произвел впечатление даже на слуг-негров.
Я гостил в Кланкресте больше недели. Майор Синклер возвратился в Дельту («по неоконченному делу»), оставив меня обсуждать стратегию и маршрут предполагаемого тура с мистером Кларком, миссис Моган и несколькими видными деятелями клана. Эдди Кларк рассказал, что у него есть противники внутри организации.
– Их негодование вызывает моя близость к полковнику Симмонсу – они считают, что я каким-то образом обогащаюсь. Это не соответствует действительности. Полагаю, всегда найдутся люди, которые замечают чужой альтруизм и считают его отражением собственной жадности. Мы скоро дадим им урок.
Я спросил, между прочим, где находится сам великий основатель. Естественно, мне очень хотелось с ним повстречаться.
– Он посвятил свою душу и тело клану, Макс. Он не какой-нибудь желторотый юнец. Он устал и отправился на отдых во Флориду. Он прекратит эти чертовски глупые слухи, когда вернется. Он знает, что мы сделали для него. Три года назад здесь радовались мелкой монете. Сегодня речь идет о миллионах.
Я очень высоко ценил то, что мистер Кларк уделял мне время в столь сложных обстоятельствах. Миссис Моган взяла на себя ответственность за мою подготовку, она разрабатывала планы и детали предполагаемых речей и предупреждала, в каких случаях следовало выражаться уклончиво, а когда можно было выступать решительно. Базовый текст я взял прямо у Гриффита (сценарий я помнил наизусть), и миссис Моган помогла мне его доработать. Первый тур начинался в Портленде, штат Орегон, и охватывал примерно полсотни городов на юге и западе. Миссис Моган думала, что мне понадобится передышка, прежде чем я пойду в атаку на северо-восточные крепости великой империи Карфагена. Мы были настолько заняты, что я не смог осмотреть Атланту; у меня нашлось время только чтобы позвонить мистеру Кэдвалладеру. Возможно, он уже прочитал парижские газеты, поскольку держался несколько сдержанно. Он неопределенно намекнул, что хотел бы пригласить меня на завтрак. Выход в общество в конце концов состоялся – мои хозяева устроили две больших вечеринки, чтобы развлечь самых богатых и влиятельных сторонников.
Вот так в сводчатом танцевальном зале, который мог сравниться с версальским, я повстречал многих выдающихся граждан Америки. Соблюдая строжайшую секретность, прибывали судьи, сенаторы, банкиры, профсоюзные боссы, промышленники и финансисты. Некоторые из них уже поддерживали наше дело, другие хотели узнать, чем клан сможет им помочь. Некоторые, как я подозреваю, просто следили, куда дует ветер, и раздумывали, какую прибыль сулит союз с новыми политическими силами. Мистер Кларк, образованный джентльмен старой закатки, производил на них впечатление, вдобавок никто не мог сопротивляться очарованию Бесси Моган. Поговаривали, что мое участие прекрасно демонстрировало беспристрастность клана.
– Мы не угрожаем людям. Только тот, кто называет себя нашим врагом, становится им, – объяснял мистер Кларк человеку с опухшим лицом, которого звали Сэмюэль Ральстон, кажется, индейскому политическому деятелю (хотя по виду этого сказать было нельзя). Благодаря голосам клана год спустя он стал сенатором в Вашингтоне. Интересно, сколько либералов проголосовали бы за Сидящего Быка[248] на выборах в палату представителей? Ральстон, по моему мнению, был всего лишь оппортунистом. Он проявил явную невежливость, когда я попытался заинтересовать его своими методами выращивания зерновых под толстыми стеклянными крышами в контролируемых погодных условиях. Любой человек, который принимал близко к сердцу интересы своих собратьев, понял бы, что я имел в виду. Однако меня внимательно выслушал огромный, волочащий ноги человек, примерно шести футов четырех дюймов ростом, толстый, носивший один из тех свободных пиджаков, которые зачастую предпочитают чрезмерно упитанные люди (они, наверное, полагают, что следует надевать все, во что только можно влезть). Ему было лет тридцать пять, у него было какое-то кроткое, почти детское лицо. Мужчина рассеянно осмотрел меня и, пригладив взъерошенные светлые волосы, спросил, не инженер ли я.
– Ученый-экспериментатор. – Я улыбнулся ему в ответ. – Изобретения – моя профессия.
Ему хотелось поговорить.
– Мне здесь неуютно. – Он извинялся. – Хочется сбежать от этого шума.
Он пожал мне руку. Его звали Джон Дружище Хевер; по его словам, жил он по большей части на Западном побережье. Хевер занимался нефтью, но, когда мы разговорились, выяснилось, что прежде всего его интересовало кино.
– Меня привлекает все, что касается кинематографа. А вас?
Больше часа мы обсуждали очарование Мэри Пикфорд и Лилиан Гиш, нашу общую любовь к фильмам Гриффита, нашу ненависть к людям, которые подстроили провал «Нетерпимости». Общество Хевера показалось мне куда более приятным, чем компания напыщенных, важных людей, которых привлек в Кланкрест «сильный запах капусты», как выразилась миссис Моган. Хевер, по его утверждению, ничего не знал о политике. Его интерес к клану казался сугубо романтическим, и я подозреваю, что он вступил в орден, чтобы получить облачение и разыгрывать маленького полковника из фильма Гриффита. В отличие от прочих американцев, Хевер знал имена многих европейских режиссеров, включая Груне и Мурнау. По правде сказать, он интересовался кино еще сильнее, чем я. Наконец миссис Моган увела меня от Джона Хевера, чтобы познакомить с судьей О'Грэйди из какого-то местечка под названием Тархил или Тауэр-Хилл, которое я и по сей день не могу отыскать на карте. Теперь мне кажется, что он был самозванцем, одним из многих агентов, частных и федеральных, нанятых, чтобы шпионить за кланом. Очевидно, он добился расположения Эдди Кларка, поскольку общались они очень душевно. Если у Эдди Кларка и была какая-то слабость, то исключительно склонность доверять слишком многим. Он от природы отличался добродушием и честностью; возможно, поэтому он был немного самонадеян и не сумел разглядеть подлость и хитрость некоторых людей из своего ближайшего окружения.
Остаток вечера оказался, возможно, наиболее интересным – я провел его с известным журналистом, родившимся в Сакраменто, но теперь работавшим в газете в Северной Каролине. Журналист написал книгу, в которой убедительно доказал, что Авраама Линкольна застрелили по прямому указанию папы римского. Благодаря Гриффиту я уже видел на экране, как Джон Уилкс Бут убил президента, а потом совершил безумный прыжок из ложи театра Форда на сцену и на сломанной ноге заковылял дальше. «Sic semper tyrannis!»[249] – кричал он на латыни. Вот одно из доказательств огромной власти Рима над человеческим разумом. Журналист рассказывал о тайном соглашении в Вероне, о решении «черного» папы римского, генерала иезуитского ордена, и «белого» папы римского уничтожить демократию. Убиты пять президентов, сказал он, и все по приказу этих двух пап римских. Папство очень тесно связано с Ротшильдами. Католики проникли в Японию, постоянно усиливая свое влияние, чтобы настроить желтую расу против Соединенных Штатов. Калифорнийцы уже заметили первые проявления японского вторжения. Эти скрытные и мрачные человечки быстро размножались. Они были авангардом восточной армады иезуитов.
– Инструменты иногда меняются, – сказал мне журналист, – но тактика – никогда. Будет ли у нас свой сэр Фрэнсис Дрейк, когда настанет наш черед?
Его доводы, а также очевидная эрудиция позволяли объяснить на первый взгляд необъяснимые события, особенно большое количество убийств американских президентов. Многих участников заговора против Линкольна так и не призвали к ответу. Подстрекатели, конечно, оставались в Риме и продолжали посылать все необходимое для дальнейшей борьбы, включая оружие и ящики с боеприпасами с личной подписью папы, подарки так называемым «Рыцарям Колумба», «Рыцарям Золотого Креста». Мне следовало использовать эти факты в своих лекциях.
На рассвете 15 марта 1922 года мы с миссис Моган в машине прибыли в пригород Смирны и там спокойно сели в роскошный синий пульмановский вагон, избежав таким образом нежелательной огласки и скрыв мою связь с Кланкрестом. Мы отправились в Портленд, через Канзас-Сити, Денвер и Солт-Лейк-Сити, проделав почти две тысячи семьсот миль с востока на запад. Безусловно, то была самая продолжительная поездка, которую мне приходилось совершать. Я был взволнован, задумчив и признателен за удобства; я наслаждался свободой железнодорожного путешествия в приятном обществе миссис Моган. Телосложением и внешностью она слегка напоминала баронессу фон Рюкстуль, и одновременно было в ней нечто общее и с миссис Корнелиус. Миссис Моган тоже пела мне эстрадные песенки, но не могла исполнять их живо и энергично, с неповторимым выговором кокни. В клубном вагоне мы присоединились к другим пассажирам и спели «Встреть меня в Сент-Луисе, Луи», «Свет полной луны», «Милую Аделину» и «Алло, Центральная, дайте мне Небеса». Я до сих пор скучаю по уюту и хорошему обществу тех старых американских клубных вагонов, в которых незнакомцы встречались, беседовали и веселились, как в поездах Российской империи. А огромные, огромные 2-6-6-2 локомотивы, верные, неутомимые, могучие, тянули нас вдоль пустынь, прерий, гор и болот, через бесконечные леса и глубокие туннели. Теперь все это исчезло. Я слышал, что некие темные силы национализировали американские пассажирские поезда. Как и в Англии, они стали грязными, невыразительными, ненадежными и совсем не романтичными. Теперь частные лица не могут даже арендовать пульмановские вагоны. Гибли тысячи индейцев и пионеров, трудились миллионы чернорабочих, рисковали многие финансисты – все ради того, чтобы обеспечить движение великой Железной Лошади. Теперь их жертвы оказались бессмысленными. Я часто думаю о том, как пошли бы дела, если бы Россия добилась успеха в колонизации Америки. Сан-Франциско все еще оставался бы Санкт-Петербургом. А вместо этого Санкт-Петербург – злосчастный городишко во Флориде, где еврейские матери семейств едят блины на молоке и селедку и запах пота отравляет сырой воздух. Почему они осушили одно болото и создали вместо него другое? Я все еще мечтаю о том, что Америка станет новой Византией, славянским оплотом нашего православия. Если бы славяне устроили свое государство только на западе и севере континента, со своим царем и своим древним законом, – тогда ни Гитлер, ни Хирохито не осмелились бы начать войну.
Миссис Моган говорила, что рада отойти подальше от борьбы. Она работала на мистера Кларка и его партнеров в рекламном агентстве в Джорджии, когда полковник Симмонс попросил их помочь в спасении гибнущего клана. Теперь орден обрел новые силы, и миссис Моган чувствовала, что могла с удовольствием его оставить и вернуться к более спокойной жизни.
– Проблема в том, что Эдди очень втянулся в это дело. Оно для него важнее еды и питья.
Она сидела в клубном вагоне, скрестив ноги под восхитительным темно-зеленым платьем. Я понимал ее истинно женское желание освободиться от бремени политики, но сочувствовал мистеру Кларку. Женщины редко понимают принципиальные проблемы. По мнению миссис Моган, ее задача состояла в том, чтобы организовать финансовую систему и сбор членских взносов.
– Теперь это становится слишком опасно. Иногда я боюсь, что кое-кто так меня ненавидит, что готов убить.
Она смеялась над своими собственными фантазиями. Я сказал, что она явно переутомилась. Я надеялся, что эта поездка станет чем-то вроде каникул. Она согласилась, но, когда мы подъехали к Орегону, постепенно стала вести себя более деловито.
– Сначала ты станешь килгрэппом королевских всадников в красных одеяниях. Это своего рода ответвление группы рожденных за границей стопроцентных американцев. Вот почему мы сначала едем в Портленд. Их орден очень влиятелен, там нужно выступить. Но настоящим дебютом станет Сиэтл.
Тепло ее тела и аромат ее духов пробуждали во мне похоть. Я думаю, она заметила это, когда мы сидели близко друг к другу в обитом бархатом углу купе, но возмущения не выразила. Однако любовниками мы стали уже после Сиэтла.
Те месяцы были для меня счастливыми. В Портленде церемония посвящения оказалась настолько волнующей, что я с трудом сдерживал слезы. Я поклялся поддерживать все истинно американское и защищать честь Соединенных Штатов прежде всего. Публичное выступление, как и предсказывала миссис Моган, имело ограниченный успех. Два дня спустя в Сиэтле, однако, я выступал с торжественной речью перед большой аудиторией. Я словно перенесся в тот чудесный день в Санкт-Петербурге, когда весь институт приветствовал мое дипломное выступление на тему онтологического подхода к науке. Я начал с цитаты из «Рождения нации»: «Былые враги с Севера и Юга объединились ради совместной защиты неотъемлемых прав арийцев». Я говорил о зависти, которую другие расы испытывали к белым протестантам, о нашей обязанности противостоять постоянной угрозе во всех ее обличьях. Я закончил еще одной цитатой из шедевра Гриффита, из той сцены, где Линч, одержимый жаждой власти мулат, собирался жениться на Лилиан Гиш. Это должно было стать примером всем нам: «Мои люди заполняют улицы. С ними я построю Черную империю, и вы, моя королева, воссядете рядом со мной!» Я сказал, что мечты Линча – это мечты тех, кто завидует нашим победам, достигнутым тяжелым трудом. Я напомнил о флаге, на котором алое пятно крови южной женщины, неоценимой жертвы на алтаре цивилизации, напомнил, как маленький полковник поднял древний символ свободного народа, огненный крест холмов старой Шотландии, и потушил его пламя самой сладкой кровью, какая когда-либо орошала пески Времени. На этом флаге – лозунг, сказал я. Лозунг, который нам следует помнить сегодня: «Мы победим, ибо наше дело справедливо! Победа или смерть! Победа или смерть!»
Слушатели все еще аплодировали и стучали ногами, когда я покидал зал, чтобы успеть на ночной экспресс в Чикаго. Позже, когда большой состав во тьме мчался по просторам Северо-Запада, большое, жадное тело миссис Моган опустилось на меня. Она резко сбросила одеяло с моей койки, решительно вставила в себя мой напряженный член и начала меня трахать. Бесси оказалась не только умной, но и похотливой. Когда посреди ночи я начал уставать, она достала маленькую коробочку – она назвала ее «крылышками». Это был чистый кокаин. Она стала моим лучшим поставщиком, а взамен пользовалась моим послушным телом. Тур продолжался. Я узнавал свою спутницу все лучше. Я понял, что она была серым кардиналом клана. Если Эдди Кларку не удастся справиться с конкурирующими фракциями, она подготовит меня ему на смену. Но я не собирался предавать своего друга. Я предал бы Бесси, если бы мне пришлось это сделать. Моя честь не позволила бы мне ничего иного. Забросив большинство клановых обязанностей, она посвящала большую часть своего времени мне, иногда исчезая по загадочным делам, когда у нас выдавалась передышка (думаю, она где-то скрывала ребенка). В других случаях Бесси проявляла интерес к особым удовольствиям. Иногда она находила в городе подругу, и мы втроем резвились, пока все простыни в номере не пропитывались нашими соками. Куда бы мы ни отправились – меня везде приветствовали с энтузиазмом. Я всегда пояснял, что выступаю прямо и чистосердечно, что мои услуги оплачивает агентство, именуемое «Ассоциацией юго-восточных лекторов», и что я никак не связан с политическими группами. Я был прежде всего ученым. Я давал интервью, даже выступал несколько раз по радио (тогда это считалось новинкой), и после моих выступлений ряды клана росли. Я вносил свою лепту в дело свободы. И естественно, находились люди, которые пытались остановить меня.
Я сначала испугался писем, в которых безумцы угрожали убить или искалечить меня сотней разных способов. Но миссис Моган просто посмеялась над ними. Это, по ее словам, было вполне нормально: верный признак того, что я попал в точку. Потом в меня выстрелили из дальнего конца зала в Балтиморе, пуля попала в одну из колонн, и мой костюм присыпало штукатуркой, но Бесси заверила, что это сделано ради рекламы. Стрелял клансмен, чтобы обеспечить газетам интересную историю и таким образом добиться публикации отчета о моем выступлении. Я успокоился. Мы долго посмеивались над этим происшествием. И когда нечто подобное повторилось в канзасском Уичито, я легко стряхнул пыль, улыбнулся и пошутил. Аудиторию мое хладнокровие впечатлило, даже несмотря на то, что план сработал не совсем удачно и местная женщина, которая меня представляла, была легко ранена в плечо.
Этот несчастный случай, однако, показался пустяком по сравнению с другой ложкой дегтя в нашей восхитительной бочке меда. Помимо зловредных фанатиков, большевиков и иностранных агитаторов, пытавшихся помешать моим выступлениям, которых решительно останавливали люди миссис Моган, мне пришлось столкнуться и с Бродманном. В первый раз я увидел его на вокзале Юнион в Чикаго во время пересадки на поезд, направляющийся в Цинциннати. Он держал руки в карманах кожаного пальто, широкополая шляпа скрывала его глаза; он стоял в тени каменной арки, рядом с табачным киоском. Бродманн внимательно посмотрел на меня, но не бросился в погоню. Я думаю, что он легко вышел на мой след в Париже. Чекист, казалось, играл в какую-то свою игру. Я никак не мог понять ее правил. Возможно, он рассчитывал сбить меня с толку. Я действительно начал волноваться, когда подумал о том, сколько агентов у него могло быть в поезде. К счастью, Бесси Моган всегда уделяла должное внимание безопасности, и в наше отделение входили только работники поездной бригады. Во второй раз я увидел Бродманна, когда мы стояли в Сент-Луисе на перекрестке. Внезапно мой взгляд коснулся знакомого злорадного лица – Бродманн, на сей раз без шляпы, сидел в проезжающем мимо трамвае и усмехался. После этого он затаился или, возможно, потерял след. Однако я по-прежнему чувствовал, что за мной шпионят. Наконец я принял это как должное и постарался больше не думать о слежке. Моя миссия была гораздо важнее, чем нелепая вендетта Бродманна. Мы предупредили американцев, и многие нас услышали, но Америка так и не очнулась. Она не желала думать о том, что творилось в Европе, она пребывала в состоянии эйфории. Она не желала участвовать в решении международных проблем; началось отчуждение. И в результате произошла катастрофа. Америка приняла меня, не стану этого отрицать. Она была щедра в те времена, до успешной атаки сионистов в 1929 году. И я сделал для Америки все, что мог.
Я выступал в городах, которые назывались Афинами, Каиром, Римом и Спартой. Я выступал в Санкт-Петербурге, Севастополе и Одессе, а позади меня стояли опытные вербовщики клана, которые подписывали контракты с новыми членами везде, где я появлялся. Я по-прежнему регулярно посылал письма и открытки Эсме и Коле, но только миссис Корнелиус ответила на мои послания. Она выступала в успешной театральной труппе. Она называла это концертными вечеринками. Она работала в основном в хоре, иногда представлялась возможность выступить с небольшим сольным номером. Менеджер был душкой. Он считал, что они должны попытать удачи в Америке, где английские шоу завоевали популярность. Шанс невелик, но кто знает? Она могла бы встретиться со мной. Я написал, что очень рад за нее, и спросил, удалось ли ей разыскать Колю и Эсме. Я сообщил, что моя собственная «актерская карьера» развивается успешно. В те месяцы 1922 года было легко поверить, что хаос удалось сдержать. Клан повсюду процветал. Вашингтон прислушивался к нам. Президент Хардинг дополнил закон об ограничении иммиграции. В Италии Муссолини добился успеха и решительно выступил против папы римского. Но я думаю, что пророческие знаки можно было истолковать, если б я пожелал их увидеть. Социалистическая Германия сблизилась с большевистской Россией, турки победили греков в Смирне, Мустафа Кемаль провозгласил себя президентом. Рим, казалось, одерживал победу в ирландской гражданской войне. Хардинг, ослабевший от яда, попытался запретить забастовки железнодорожников и потерпел неудачу. Карфаген приближался, просачиваясь сквозь наши заслоны, – опоры дамбы уже прогнили. Миссис Моган рассказала мне, что шахтеры избили, расстреляли и повесили двадцать девять штрейкбрехеров в Иллинойсе. Это, по крайней мере, позволяло мне во время лекций приводить красноречивые примеры, подтверждающие мои пророчества. Тем не менее клан собирал силы. Они готовились остановить грядущий потоп. Поддержанные кланом кандидаты победили на предварительных выборах в Техасе. Тысячи тайных сторонников ордена обещали поддержку на множестве клановых голосований под огненными крестами стофутовой высоты. Наемники лейбористов заправляли в Чикаго. Клан трудился неустанно, ночью и днем, чтобы одолеть их. Он наносил удары по бутлегерам и профсоюзным боссам. Все указывало на то, что победа будет за нами.
В дирижабле майора Синклера я вылетел из Хьюстона в Чарльстон – разумеется, инкогнито; считалось, что мне по-прежнему не стоит афишировать связь с кланом. Я летал во множестве других машин, но никогда не переставал размышлять о проекте собственного гигантского пассажирского самолета, который должен в конце концов подняться в небеса. Почти каждый день я думал о том, что мой час вот-вот пробьет. Обо мне писали крупнейшие общенациональные газеты. «Британский профессор предсказывает великое будущее Америки» или «Воздушный ас предостерегает США против большевистской угрозы» – гласили заголовки. При таком общественном признании у меня были все основания для оптимизма. Вскоре я рассчитывал получить в свое распоряжение неограниченные средства. Огромную политическую власть я хотел использовать во благо общества. В Нью-Мексико, когда я отправлялся на выступление, в меня выстрелил анархист. Пуля пролетела очень далеко от меня и убила какого-то юношу. В Техасе я удостоился чести поучаствовать в ночной конной поездке в тайную долину клана. Здесь, у пылающего креста, меня приветствовали более двух тысяч клансменов. Я был облачен в роскошные красные одеяния, и меня называли первым и лучшим посланником клана. Потом состоялся суд над двумя мужчинами. Белого обвиняли в супружеской измене. Приговор был таков: клеймо ККК выжгли у него на спине, согласно закону клана. Негра, который оскорбил белую женщину, забили до смерти плетьми у ног обиженной леди. Это не было решением жестоких, тупых людей. Нет, это была демонстрация безжалостного правосудия клана. Газеты, разумеется, все преувеличили. В России я видел и не такое. И те самые репортеры, которые защищали Троцкого, во весь голос осуждали клан. Больше добавить нечего.
Я с удовольствием окунулся в работу. Меня беспокоило отсутствие новостей от Эсме. Занятому человеку некогда раздумывать. Я презираю эту моду на самоанализ. Она идет рука об руку с самовлюбленностью. Если вы заняты делом, то вам некогда испытывать недовольство или подолгу размышлять о своих болячках. Настоящая боль, как однажды сказал мой приятель, никогда не длится больше пяти минут. Все остальное – только фантазии. Бесплодные размышления ведут к истерии и психическим заболеваниям. Идеи бесполезны, если они не воплощаются на деле. Но я не забывал об окружающем мире. Случай с мистером Роффи – показательный пример. В Варшаве, Индиане, где я уже однажды читал лекции, меня попросили выступить снова. Штат был «решительно клановым», и здесь готовились к выборам губернатора. Как обычно, местные члены ордена устроили нам с миссис Моган роскошный прием, и мы вернулись в отель «У Пакстона» довольно поздно, чтобы отметить визит в более интимной обстановке. На следующее утро меня разбудил швейцар. Закрыв дверь в спальню, где все еще отдыхала миссис Моган, я спросил, что ему нужно.
– Джентльмен говорит, сэр, что это очень срочно. Он сейчас внизу. – Швейцар передал мне послание.
Записку, как оказалось, написал Кларенс Роффи. У него были новости, которые представляли для меня интерес. Решив, что это брат Чарли, я попросил пригласить его; я подумал, что он хочет сообщить о желании Роффи вернуться к нашему проекту аэродрома. Я попросил швейцара подождать полчаса, а потом, когда придет джентльмен, подать завтрак. У миссис Моган испортилось настроение, и она отвернулась от меня. Я объяснил, что происходит, и попросил ее удалиться в другую комнату; она могла прийти к завтраку и встретиться с братом Роффи.
Я уже привел себя в порядок, когда Кларенс Роффи постучал в дверь. Он вошел в комнату, и я едва сдержал смех. Конечно, меня просто разыграли. Разумеется, это был Чарли Роффи, правда, выглядел он не слишком хорошо – мягкая фетровая шляпа и полосатый костюм явно знавали лучшие дни. Его красное лицо опухло, кожа утратила прежний здоровый вид. Он сел на стул, который я. ему пододвинул, и сказал, что не прочь позавтракать. Я крепко пожал ему руку, пытаясь показать, что не испытываю к нему ни малейшей неприязни. Его рука была мягкой и липкой. Бедняге нездоровилось.
– Почему вы назвались Кларенсом? – спросил я. – Не самый лучший псевдоним!
Он нахмурился.
– Я имел в виду Чарли, – сказал Роффи.
– Я очень рад вас видеть! Ужасно переживаю из-за того, что подвел вас. Если бы вы не уехали из Мемфиса так быстро, все было бы в порядке. Я думаю, что головорезы «Босса» Крампа представляли слишком большую угрозу, да? Вы попали в беду из-за этого займа? Как мистер Гилпин? И Джимми Рембрандт? Слышно что-нибудь о майоре Мортимере?
Он потерял с ними связь. Голос его дрожал. Что бы я ни говорил, он никак не мог успокоиться. В конце концов он вытащил из кармана несколько листков, копии переводов из французских журналов, в которых меня критиковали. Еще он показал мою помятую долговую расписку на сто пятьдесят тысяч долларов.
– Вы все это уже видели, я знаю. У меня есть оригиналы.
– Джимми мне об этом говорил. Вы приехали, чтобы предупредить меня? Мне угрожает опасность?
Его глаза расширились. Он стал вести себя менее сдержанно:
– Мистер Пятницкий, вас бы уничтожили, если бы общественность узнала, что вы – русский еврей, который имел отношение к науке разве что год назад, мошенничая в Париже.
– Несомненно, если бы поверили в это. Того же опасался и капитан Рембрандт в Мемфисе. Разумеется, все это неправда, и я не очень волнуюсь. – Я положил руку ему на плечо. – Что вы хотите мне сказать? Эти небылицы раскопали мои политические противники?
Роффи откашлялся. Он никак не мог заговорить, потом решительно кивнул.
– Да, нечто подобное возможно, сэр. – Он вздохнул, расправил плечи и с интересом посмотрел мне в лицо. – Из-за вас, сэр, я лишился денег и нахожусь в бегах. Я не могу вернуться в Вашингтон, где работал в течение многих лет. Теперь все знают, что я – мошенник. Вы мне кое-что должны, мой друг. Так что я готов продать все эти материалы, и мы квиты. Что скажете?
Я был потрясен: как низко пал джентльмен благородного происхождения! Я с состраданием произнес:
– Вам ничего не нужно мне продавать, мистер Роффи. Я всегда с уважением относился к вашей репутации. Вам нужно просто попросить о помощи. Я, как вы говорите, нес частичную ответственность. Сколько вам нужно?
– Десять штук.
Он пожал плечами и посмотрел в окно. Я печально улыбнулся:
– У вас до сих пор какое-то преувеличенное представление о моем состоянии. Мистер Роффи, в память о старых добрых временах могу ссудить вам тысячу.
Пока он обдумывал мое предложение, вошла миссис Моган, свежая и цветущая, одетая в красное бархатное платье. Она нахмурилась, когда я представил ей посетителя. Очевидно, ей не понравилась его потертая одежда. Она резко спросила, не встречались ли они где-нибудь прежде. Я объяснил, что Роффи был моим старым деловым партнером, которому нужна помощь.
Он нервно вскочил и быстро проговорил:
– Хорошо. Я согласен на тысячу.
– Вы голодны. Оставайтесь позавтракать.
Его это явно смутило. Я выписал чек. Он вручил мне конверт.
– Так вы – вымогатель, верно, мистер Роффи? – произнесла миссис Моган самым что ни на есть сладким голосом.
Я оценил ее юмор, но Роффи ее слова возмутили.
– Это, черт побери, не ваше дело! – Он приподнял шляпу и вышел, оттолкнув официанта, который принес нам завтрак.
Миссис Моган нахмурилась:
– Тебе следует ввести меня в курс дела. – Мы сели за стол. – И не бойся огласки. Ты знаешь, что я не стану на тебя стучать. У клана уже есть на тебя кое-что, и побольше, чем ты думаешь.
В итоге я изложил ей всю историю от начала до конца, объяснив, почему нельзя было ни в чем винить Роффи. Самое меньшее, что я мог сделать, – это дать ему немного денег. Миссис Моган сидела, не притрагиваясь к еде. Она качала головой и вздыхала, потом быстро поднялась, отбросила салфетку и сказала, что спустится в холл, чтобы позвонить. У меня все будет в порядке. Когда клан утверждает, что позаботится о своих друзьях, это означает, что все так и будет. Через десять минут миссис Моган вернулась. Радостно улыбаясь, она наклонилась и погладила меня по лицу.
– Если о тебе пойдут дурные слухи, будет плохо для всех. Я уже знаю, на что это похоже – пострадать от желтой прессы. Отмени выплату по чеку как можно скорее.
– Клан заплатит мистеру Роффи?
Она улыбкой подтвердила мое предположение. Вот оно – истинное великодушие!
Тем вечером, выходя на сцену, чтобы поведать полному залу о большевиках, кровопролитии и грядущей битве за Америку, я был уверен в своем будущем как никогда. После решения вопроса с моим долгом мистеру Роффи я сразу позабыл и о зловещем двойнике. Бродманн хотел завладеть моей душой с тех пор, как стал свидетелем моего унижения.
Американские окраины пробуждали во мне слишком много воспоминаний. Равнины казались родными степями, огромные леса – лесами средней полосы России. В Скалистых горах и горах Голубого хребта я мог избавиться от призраков Бродманна, Ермилова и Эсме. Эти массивные пики даровали мне неожиданное спокойствие всякий раз, когда мы, пересекая страну, миновали горы. В больших, современных, типично американских городах я избавлялся от прошлого, от терзаний, связанных с последними месяцами, проведенными в России. Они изнасиловали тебя. Они украли твою душу и твое сердце. Они забрали самое существо твое. Ровные кварталы Акрона, Питсбурга, Кливленда и Канзас-Сити укрывали меня, обещали анонимность. В Новом Орлеане и Сан-Франциско слишком многое было знакомо – отдельные дома, конструкции из кованого железа, кирпича и штукатурки напоминали мне о матери. Только дурак поддается страданиям. Для них нет оправдания, они не приносят выгоды, что бы ни говорили католики. Некоторое время я считал Чикаго самым красивым городом в Америке; массивные, изящные башни казались блестящими памятниками человеческому трудолюбию и оптимизму. Америка в 1922 году тревожно искала новых путей к будущему. Пусть ее энтузиазм иногда был чрезмерным, но он контрастировал с усталым цинизмом Европы, мрачным унижением России, хаотичным упадком Востока. Преодолевая провинциальное самодовольство, американский гражданин понимал свою силу. Возможно, в те дни он вполне естественно уклонялся от исполнения международных обязанностей. Я вспоминал историю Фальстафа, в которой Генрих сопротивлялся своей божественной роли и собрался с силами только в последний момент; он избавился от французской галантности, когда бросился вперед со своей «горсточкой счастливцев»[250]. Конечно, надо учесть, что ему не приходилось бороться с евреями.
Короткие юбки, вино, некоторые наркотики и многие другие вещи, вызывавшие отвращение у большинства моих слушателей, мне не казались явными признаками вырождения или неизбежного бунта. Люди, которые положили жизни на преследование проституток, бутлегеров и игроков, могли бы лучше послужить стране, если бы обрушились на воротил, эксплуатировавших граждан и управлявших обычными повседневными потребностями, занимались едой, одеждой, жильем и транспортом. Превращая удовольствия в преступления, пуритане передавали власть прямо в руки преступников. Пуританин кричит: «Это не должно существовать, поэтому оно не существует!» А богачам позволительно утверждать: «Это существует, потому что кто-то может получить от этого прибыль». Умеренность достигается не законом, а примером. Если поставки становятся редкими и ненадежными, товар приобретает более высокую стоимость на рынке. Это когда-то относилось к путешествиям, поездам, кораблям, самолетам, даже автомобилям. В Детройте, на вечеринке, устроенной майором Синклером для людей, занятых в авиабизнесе, я повстречал молодого Линдберга и подбросил ему идею беспосадочного перелета через Атлантику. Практически весь самолет нужно превратить в топливный бак, сказал я, нужно использовать все возможное пространство, даже крылья. Но он был одержим южноамериканскими маршрутами. Он так и не присоединился к клану, хотя позднее взял на себя мои обязанности и использовал свою репутацию для поддержки борьбы с чужаками. Многие инженеры, ученые, солдаты и летчики разделяли мои взгляды. Мы можем преодолеть социальные трудности, если обозначим их с предельной ясностью, недоступной философам и художникам. Только так мы в состоянии решить проблемы. Управление Америкой нужно было поручить Генри Форду и полковнику Линдбергу. И в результате сегодня мы увидели бы совсем другую страну.
На протяжении того года власть клана возрастала. Мои туры становились все более и более продуманными и масштабными. Когда я въезжал в город в открытом автомобиле, меня обычно сопровождали группы пеших поклонников, которые забрасывали мою голову и плечи лентами и конфетти. Перед началом речей выступали проповедники и пели хоры. Со мной фотографировались местные политики. Мое имя использовали в рекламных объявлениях и газетных заголовках. В то же время я никогда не позволял ни слушателям, ни самому себе забывать, что я прежде всего ученый, – не было ничего дурного в том, чтобы решать мои подлинные задачи именно таким образом. Я оценил американское искусство рекламной шумихи. Таким образом, по иронии судьбы я восторжествовал именно тогда, когда мои технические проекты временно потерпели неудачу. Трудно сказать, как я повлиял на социальные и научные представления будущих поколений. Идеями, которые я небрежно отбрасывал – атомные электростанции, телевидение и ракеты, – позже воспользовались другие. Известные журналы, такие как «Популярная механика», «Мир радио» и «Воздушные асы», хватались за мои пророчества, в то время как подражатели Верна и Уэллса переводили их на язык беллетристики. Между 1925‑м и 1940 годами порой издавались целые книги технических предсказаний, полностью заимствованных у меня! Тогда я не задумывался, как широко распространятся мои пророчества. Мне являлись поразительные видения, и я с готовностью делился ими со всем родом человеческим. Даже сегодня я не жалею о своем великодушии, но чувствую себя немного уязвленным, не получая заслуженного признания. Я был бы рад занять даже ничтожное место в истории. Возможно, приезд в Англию был ошибкой. Здесь всегда относились с подозрением к новому и странному. В последнее время, лежа в полуразрушенной гробнице, как всегда преисполненная самодовольства и самолюбования, Англия ведет себя так, будто ей есть чем гордиться, хотя Юнион Джек давно стал символом нарушенных обещаний и преданных идеалов. С мая по сентябрь приезжают туристы, они разглядывают гвардейцев, древние камни, королевские экипажи. Их обманывает британская иллюзия. Но в Ноттинг-Хилле и Брикстоне, в Миллуолле и Тоттенхэме рушатся здания, наклоняются и дрожат от самого легкого ветра непрочные башни, трескаются тротуары, переулки заполняют зловещие тени: вот на чем держится фасад империи. Мы – жертвы подлого обмана.
Англичане утратили гордость, позабыли о чести, отказались от самопознания. В богатой стране все это не обязательно показалось бы недостатком, в бедной – стало кошмарным бедствием.
Миссис Корнелиус, похоже, думала, что всегда повторяется одно и то же. Я говорил ей: это только кажется. Англия – раскрашенный труп; плоть гниет под коркой заблуждений. «Живи и дай жить другим, Иван», – говорила она. Но то, что некогда было благородной терпимостью, теперь стало просто низостью. Я мог бы их спасти. Когда мои летающие города украли, спасительная нить была перерезана. Способен ли я теперь не ненавидеть их? Jene Leute sind verarmt[251].
Наконец я посетил Лос-Анджелес. Друзья миссис Моган устроили для нас экскурсию по киностудиям. Я пожал руку Дугласу Фэрбенксу! Клара Боу поцеловала меня в щеку! Фэрбенкс воплощал все американские добродетели, хотя его настоящая фамилия была Ульман. У меня сохранилась фотография с автографом – он в костюме Робин Гуда. Я провел в Голливуде только одну ночь, потому что выступал с лекциями в Анахайме, но увиденное произвело впечатление. Все было изящным и культурным: идеальное сочетание богатства, вкуса, безопасности и приятной атмосферы. Я побеседовал с несколькими людьми и предложил новые техники киносъемки. Они сказали, что я опередил свое время. (После приезда в Англию я рассказывал о том, что помог становлению звукового кино. Я предложил свои услуги Корде, но, как обычно, натолкнулся на давно знакомую стену.) Я хотел вернуться в Лос-Анджелес и попросил, чтобы миссис Моган как можно скорее организовала там лекцию. Она сказала, что сделает все возможное, но в сфере развлечений у них серьезных интересов нет.
Мы решили не приезжать в Кланкрест на Рождество, так как миссис Моган больше не хотела встречаться с мистером Кларком. Он был одержим борьбой с так называемой «бандой Эванса». Эта группировка требовала, чтобы полковник Симмонс освободил Кларка от исполнения обязанностей и назначил на его место дантиста из Техаса. Я бы с удовольствием поддержал своего друга, если бы мог. Но миссис Моган сказала, что мое присутствие только усложнит и без того трудную ситуацию. Лучшее, что мы могли сделать, – держаться в стороне от внутренней политики и продолжать свою миссию во всем мире. Это показалось мне вполне разумным; в итоге мы прервали тур в Мичигане, остановившись в замечательном загородном отеле, который конфиденциально арендовал на праздники сенатор, друг миссис Моган. Он называл себя дядя Роско. Я так никогда и не узнал его настоящее имя, хотя полагаю, он был из Иллинойса.
Отель напоминал фантастическую Швейцарию, его окружали засыпанные снегом сосны и со всех сторон укрывали холмы. Мы провели истинное американское Рождество – именно таким оно и должно быть. Посреди танцевального зала стояло огромное дерево, увешанное мишурой и цветными блестками, яркими подарками и стеклянными безделушками. Наш сенатор, переодетый Санта-Клаусом, лично раздавал подарки своим гостям. Я объелся индейкой, мясным пирогом и другими прекрасными традиционными блюдами. Местные детишки в ангельских одеяниях пели гимны «О город Вифлеем» и «Тихая ночь». Мне не хватало лишь моей Эсме. Миссис Моган спела «Белые листья зимы покрывают землю», а я исполнил для гостей «Это старое железо». Молодые распутницы, нанятые сенатором, чтобы немного развлечь преимущественно мужскую аудиторию, тоже продемонстрировали во время праздника особые таланты. Мы с миссис Моган удалились в комнату с девочкой по имени Дженни. Но, конечно, сексуальное удовольствие и чувства – разные вещи.
После двух выступлений, в Сиу-Сити, Айова, и в Спрингфилде, Индиана, мы сели в поезд до Уилмингтона, Делавэр. Этот восхитительный город, основанный в семнадцатом столетии, был связан с именами величайших современных американских художников, таких, как Говард Пайл, реалистический талант которого как раз достиг расцвета. Мы стали гостями мистера и миссис Ван дер Клир, горнозаводчиков, и у них отпраздновали Новый год и мой день рождения (я настаивал, что он первого января) в традиционном американском свободном и в то же время формальном стиле. На следующий день, однако, наступило разочарование. В самом деле, это происшествие очень смутило всех участников и возродило многие страхи, о которых я как будто позабыл.
Мы только что закончили обед в красивой оранжерее под стеклянным куполом (сквозь стекло пробивались яркие лучи зимнего солнца), когда вошел дворецкий мистера Ван дер Клира. Он объявил, что кто-то желает видеть хозяина. Извинившись, наш друг вышел. Через пять минут дворецкий вернулся и попросил меня присоединиться к мистеру Ван дер Клиру и его гостю в библиотеке. Я вошел в уютную комнату и закрыл за собой дверь. Незнакомец был одет в дорогое твидовое пальто и самый обычный серый костюм. Он был невысок, бледен (такими бледными бывают только полицейские), с почти абсолютно лысой головой.
Из-за очков большие голубые глаза казались еще больше. Мужчина напоминал чекиста, однако показал мне значок, заявив, что он агент федерального министерства юстиции. Мистер Ван дер Клир сказал, что присоединится к своей жене и миссис Моган. Если мне потребуется какая-то помощь, я всегда могу пригласить его.
Федерала звали Харрис. Его вопросы были настолько туманными, что я с трудом мог понять, к чему он клонит. Все это имело какое-то отношение к моему бывшему партнеру, который был замешан, как утверждал Харрис, в каком-то мошенничестве с землей в Северной Дакоте. Мои ответы, казалось, его удовлетворили, и Харрис вскоре смягчился.
– Один из них теперь мертв. Возможно, самоубийство. Все его бросили как лишний груз после этой мемфисской аферы. А вы как-то связаны с ку-клукс-кланом, мистер Питерсон?
Думаю, он пытался обманом выманить у меня информацию. Но я хотел узнать, кто же умер.
– Вы не назвали мне имя, мистер Харрис.
– Как насчет Роффи? – спросил он.
– Конечно, я знал его. Бедняга покончил с собой? Конечно, он не был замешан в чем-то незаконном?
Харрис бесцеремонно ответил:
– Для вас все сложилось очень хорошо, мистер Питерсон. Во всяком случае, меня ваша история вполне удовлетворила. Думаю, вас тоже одурачили. – Он пожал мне руку, но его последние слова прозвучали не очень радостно: – Возможно, мы поговорим о клане в другой раз.
После этой встречи мое состояние ухудшилось. Я снова ощутил присутствие Бродманна. Северяне могли выслать меня, если пожелают. Моя виза была продлена на неопределенный срок, но ее могли отменить в любое время. Вернувшись за стол, я сказал, что уладил незначительную проблему с иммиграционным бюро, и подал знак миссис Моган. Я хотел поговорить с ней наедине. Час спустя мы прогуливались возле дома, наши ботинки пробивали снежную корку. Миссис Моган уверяла, что последние слова Харриса – это просто попытка запугать меня. Он хотел увидеть мою реакцию и, возможно, интересовался, как я поведу себя потом.
– Мы будем делать то же, что и всегда. Твои деньги переводятся в лекционное агентство, а оттуда в наши банки. Агентство платит налоги со своей прибыли. Все в порядке. Они не могут вышвырнуть тебя за то, что ты предупреждаешь Америку о ее врагах! И у тебя есть твои собственные счета; у тебя все в порядке. Расслабься, Макс. – Она поцеловала меня в замерзшую щеку. – Почти все люди держатся подальше от дерьма. Федералам нравится вынюхивать, пока они что-нибудь не учуют. Но ты чист. Ты сидишь на заднице ровно, как монашка в монастыре.
Я послушался ее, однако не мог окончательно избавиться от подозрения, что кто-то выжидает, не допущу ли я ошибку. Возможно, когда клан перестанет меня защищать, они нанесут удар. Кроме Бродманна, у меня не было явных врагов, но, конечно, я отважно выступал против злобных сил, угрожающих этой стране. Любое столкновение интересов – и может начаться вендетта. На меня бы напали, а я даже не догадался бы, кто мой враг и какие силы он представлял.
Следующие недели оказались еще более успешными, чем предыдущие. Воздавая должное моему красноречию, миссис Моган сказала, что в некоторых залах лекции фактически отменили, несомненно, под давлением организации, которую мы между собой называли АМОК – африканцы, метисы, ориенталисты, католики. Миссис Моган не испугалась. После этого тура, который закончится в начале весны, мне следует отдохнуть, сказала она. Мы собрали уже много капусты. Вопреки ее советам я положил все свои деньги на банковские счета и отказывался даже от самых заманчивых инвестиций. Я понял, что еще слишком наивен в финансовых вопросах. Если бы я принял участие в какой-нибудь новой кампании, то лишь после долгих консультаций с экспертами. Я все еще намеревался вернуться во Францию, чтобы очистить свое имя и в случае необходимости отыскать Колю и Эсме. Теперь меня беспокоило, что они стали жертвами ЧК, возможно, их уже посадили в тюрьму, вывезли в Россию или убили. Я надеялся снова посетить Италию, как только достигну своей основной цели. Моя привязанность к этой стране не ослабевала. Я с волнением следил за карьерой Муссолини и хотел увидеть все своими глазами, так как американские газеты давали крайне ненадежные отчеты о событиях в Европе.
К тому времени, когда мы добрались до Канзас-Сити, ко мне вернулось душевное спокойствие. Моя популярность достигла пика. Мы заняли весь верхний этаж небольшого отеля на улице у реки, а затем отправились пообедать в превосходный ресторан, который специализировался на местных блюдах. Когда мы в такси вернулись в отель, миссис Моган узнала, что на столе в номере ее ждет телеграмма. Она была от Эдди Кларка из Атланты. Миссис Моган внимательно прочитала сообщение; казалось, оно было зашифровано. Потом моя спутница расправила плечи и сделала глубокий вдох.
– Дурные вести? – спросил я.
Она склонила голову набок и подмигнула мне:
– Ну, это не так уж важно, Макс.
Мы легли спать. Утром, прежде чем подняться, Бесси призналась, что телеграмма от Кларка встревожила ее. Содержание не радовало, но еще хуже было то, что мистер Кларк счел необходимым отправить послание. Если он нуждался в ее поддержке – значит, он проигрывал сражение фракции Эванса. Она боялась, что в следующий раз могут напасть уже на нее.
– Это означает, что он нервничает, – сказала миссис Моган. – Как только мужество оставит его, все будет кончено.
Я сказал, что мы должны немедленно возвратиться в Атланту, но она покачала головой:
– Держись сейчас подальше от всего этого, тогда ты сможешь помочь ему позже. Насколько известно Эвансу и компании, тебя наняла организация, а не Эдди. Они могут вычеркнуть тебя из своих ведомостей, но не подумают, что ты представляешь реальную угрозу.
– Им, вероятно, известно, что мы путешествуем вместе.
– Если нас спросят, скажу, что Эдди был разъярен, когда я с тобой сбежала. Пойдет?
Я согласился, но при этом почувствовал себя несчастным. Это был особенно низкий обман, учитывая, что Кларку, моему благодетелю и ее бывшему возлюбленному, угрожали со всех сторон.
– Макс, тебе всегда следует помнить, – настаивала она, – что клан – это тот, кому принадлежит власть в настоящее время. Если это – Эванс, то сила у Эванса. Ему остается только крикнуть: «Предатель!» – и тебе чертовски хорошо известно, что в таком случае нас ждет. Если речь обо мне, то я не хочу оказаться там. Нам обоим есть что терять. Эдди пошел на риск. В лучшем случае газеты просто раздуют скандал. Они будут рады поставить на первые полосы меня в неглиже. Не всегда грязное белье следует стирать на людях, Макс.
Если она была уверена, что для нас это единственный способ остаться на свободе и помочь Эдди Кларку, когда мы ему понадобимся, – что ж, мне оставалось только принять ее аргументы. Мы решили продолжать тур, но оба чувствовали сильное волнение. В Денвере нас приняли неоднозначно, и местные члены клана, казалось, испытывали некоторую неловкость, но в основном нам сочувствовали. Мы сократили тур по Колорадо, направившись вместо этого в более дружественные Айдахо и Орегон, где я насладился уже привычным огромным успехом. Орегону навеки отведено особое место в моем сердце. Никто не мог сказать, что в этом штате существовали какие-то особенные расовые проблемы, но здесь осознавали потенциальную опасность, и в Орегоне клан насчитывал рекордное количество членов. Из Юджина мы должны были поехать в Реддинг, Калифорния, но в последний момент услышали, что ангажемент отменили.
Получив эти новости, миссис Моган погрузилась в размышления. Потом она сделала пару телефонных звонков и послала несколько телеграмм. Чуть позже, в спальне, она сообщила о нашем следующем выступлении.
– В Уолкере, штат Невада, – сказала она. – Местный клеагл согласился покрыть наши издержки и снять зал. После этого мы получим еще несколько больших заказов во Фресно и Бейкерсфилде.
Она выражалась туманнее, чем обычно. Я спросил, что пошло не так. Она призналась, что сомневается.
– Это инстинкт, Макс. Воняет тухлой рыбой.
– Нам угрожает опасность?
– Я не вполне уверена. Но мы должны быть готовы после Фресно залечь на дно, чтобы поглядеть, куда подует ветер. Ты сможешь поехать со мной в Нью-Йорк, если захочешь.
– Было бы недурно провести так какое-то время. Спасибо, Бесси.
– Не стоит благодарности. – Она внезапно усмехнулась и поцеловала меня, но смотрела настороженно, как олень у водопоя.
Ситуация ухудшилась на следующее утро, когда мы выезжали. Я услышал, как миссис Моган кричала на клерка:
– Что, черт возьми, вы хотите сказать? Нет подтверждения? Здесь же есть моя подпись! С каких это пор я должна выписывать в отеле заверенный чек? За комнату должно быть заплачено вперед. Нет, у меня нет чертовых наличных. Позовите менеджера. Как его зовут? Мистер Эйнсфилд. Так. Я дам вам номер. Наши чеки всегда гарантированы на местном уровне. Это есть в контракте.
Я поставил сумку и подошел к стойке, возле которой застыла пунцовая от гнева миссис Моган.
– Что случилось?
– Тупые ублюдки, которые организовали ваше выступление, полковник, забыли заплатить отелю или выписать гарантийное письмо, вот и все.
Обычно за наше проживание и поездки нес ответственность клан, менялись только имена. И вот впервые возникла проблема. Меня всегда впечатляла любезность и активность местных начальников. Мистера Эйнсфилда отыскали в его магазине. Он был клеаглом, ответственным за организацию моей лекции. Я услышал медовый голос миссис Моган, которая продолжала злобно сверлить взглядом смущенную женщину, сидевшую за стойкой в двух футах от нее:
– Так, может быть, вы сейчас приедете, мистер Эйнсфилд, и дадите им гарантии? – Она разозлилась еще сильнее, услышав его ответ. – Нет, мистер Эйнсфилд, нам нужно сесть в поезд. Как насчет немедленно? Вы не думаете, что будет очень стыдно, если мы явимся и вытащим вас из постели, ха-ха!
Ее угрозы сработали, и Фредди Эйнсфилд приехал на такси через десять минут. Он извинился перед нами и заплатил клерку наличными, даже дал чаевые швейцару, который отнес наш багаж в то же самое такси.
– Мы не получали никаких инструкций, – сказал он. – Мы не знаем, что происходит, миссис Моган. Все запуталось. Я слышал, что контракт мистера Кларка аннулирован. Якобы мистер Эванс обвинил его в безнравственности. Это правда? Федералы охотятся за ним? Или это всего лишь слухи, мэм?
– Нам ничего не известно, мистер Эйнсфилд, – холодно ответила она. – Мы никак не связаны с кланом, хотя, конечно, нас часто приглашают выступать перед такими чудесными людьми, как вы. Вам нужно связаться с Атлантой.
– Мы пытались. Все линии заняты. Кто-то сказал, что полковника Симмонса застрелили католики.
– Это для меня совершенная новость, мистер Эйнсфилд.
Она нырнула в такси, и я последовал за ней, обрадованный, что удалось избежать затруднений. Я сказал, что, по-моему, она неплохо справилась с этим делом. Миссис Моган покачала головой:
– Вонь становится все сильнее, Макс.
У нас оставалось время только на то, чтобы купить билеты в отделанном мрамором холле. Потом носильщик повез огромную гору багажа, а мы помчались за ним по платформе. Поезд оказался обычным составом эконом-класса без пульмановских спальных вагонов, но мы все равно обрадовались. В Рино предстояла пересадка. Переводя дух, я высунулся из окна, осмотрелся и увидел еще одного пассажира, который опаздывал сильнее, чем мы. Он промчался сквозь клубы пара и вскочил на подножку служебного вагона, когда мы въезжали в невыразительный пригород Юджина. Я снова расслабился. Миссис Моган изучала письменные приглашения. Скоро на горизонте появились скалистые, покрытые лесом холмы; по небольшим ущельям мчались реки. Уолкер располагался на краю пустыни. Раньше меня никогда не приглашали в бесплодную Неваду. Я подозревал, что причина – обособленная жизнь тамошних обитателей. Клонкавы[252], наверное, там редкость, подумал я. Когда миссис Моган убрала бумаги в сумку, я спросил, что она думает по этому поводу.
– Просто случайность, я полагаю, – сказала она. – Им нужен был кто-то для выступления через несколько дней, а мы внезапно оказались свободны. Не ожидай многого от Уолкера, Макс. Нам повезет, если мы покроем расходы. Если сто человек заплатят по пятьдесят центов, чтобы увидеть тебя, будет чудо.
Разгладив складки на своем темно-коричневом пиджаке, человек, запрыгнувший в поезд, шумно опустился в кресло напротив нас. На его вытянутом лице застыла улыбка. Я дружелюбно заметил:
– Это было непросто, да? Я видел ваш великолепный рывок. Браво!
Он порылся во внутреннем кармане пиджака и вежливо спросил:
– Вы джентльмен, известный как полковник Питерсон? – Он достал значок. Еще один федерал.
– Да, это мое имя, сэр. – Я скрыл свое беспокойство.
– Понадобится дьявольски хорошее объяснение, – сказала миссис Моган. – Какого черта вы выслеживаете нас, как настоящих жуликов? Что вам угодно, – она осмотрела значок, – мистер Джордж Г. Каллахан?
– Не преувеличивайте, миссис, – успокаивающе произнес федерал. – Я пытался поймать вас в отеле. Мне сказали, что вы сели на этот поезд. Вот и все. Мне поручили задать полковнику Питерсону несколько вопросов. Обычное дело.
Все остальные пассажиры проявили интерес к нашей беседе. Мы как будто стали актерами, игравшими для них бесплатный спектакль.
– Давайте немного отойдем, если позволите, – сказал Каллахан.
Мы последовали за ним через три вагона и наконец вышли на небольшую открытую наблюдательную площадку; здесь дул сильный ветер и было шумно, зато мы избавились от посторонних глаз и ушей. Становилось все теплее, солнце серебрило рельсы позади поезда, а мистер Каллахан, стараясь перекричать шум колес, спросил, могу ли я сообщить, кто организовывал мои туры. Он открыл блокнот, чтобы записать мой ответ.
– Ассоциация юго-восточных лекторов, – сообщил я.
– И что это такое, сэр?
Миссис Моган объяснила, как работает лекционное агентство.
– И кто руководит всем этим, сэр?
Она снова ответила:
– Я, офицер. Это мой бизнес. В чем же проблема?
Он записал и это, а затем попросил меня показать паспорт и визу. Я дал ему документы, объяснив, что Питерсон – профессиональное имя, которое легче воспринять местным слушателям.
– Я здесь не для того, чтобы мешать вам, сэр. – Он говорил так, будто я оскорбил его. – Насколько мне известно, в смене имени нет ничего незаконного. Если это не связано с преследованием за мошенничество, конечно. – Каллахан усмехнулся. Он ни в чем меня не подозревал. Он, в конце концов, просто осуществлял обычную проверку иностранца, привлекавшего много внимания. – У нас возникло подозрение, что ваши туры мог устроить ку-клукс-клан, – сказал он. – И знаете, почему мы так подумали, сэр?
– Клан часто нанимает залы и продает билеты на выступления полковника Питерсона. – Миссис Моган никогда не говорила неправды, если ее слова можно было легко проверить. – Наше агентство просто выполняет заказы. Очевидно, они поступают и от разных групп клана.
– А вы никак не связаны с ку-клукс-кланом, мэм?
– Нет.
– Теперь – нет?
– Если хотите. Господи боже, офицер, тут нет никакой тайны, мы с Эдди Кларком запустили это шоу, но я давным-давно ушла в отставку. Они меня не любят и никогда не любили.
– Но они использовали ваше агентство, – сказал он.
– Мое агентство абсолютно независимо. Мы беремся за любые заказы, хоть от бостонского дамского кружка кройки и шитья, хоть от «Рыцарей Колумба». – Это тоже было записано в блокнот. – Но мистер Эйнсфилд, например, входит в совершенно иную организацию.
– Он – видный член клана, мэм. Разве вы об этом не знали?
– Нас пригласила Протестантская лига защиты, мистер Каллахан. У меня в сумочке лежит контракт. А сумочка лежит на полке над моим местом.
– Интересно, сможете ли вы хотя бы примерно обозначить гонорары, мэм.
– Самые разные – от пятидесяти до пятисот долларов.
– Через ваше агентство, мэм, проходят кругленькие суммы.
– У нас успешный бизнес. Мы знаем свое дело.
– Уверен в этом, мэм. Мы проверили тех двоих, которые пытались вас надуть в Мемфисе, полковник. – Он снова внезапно сменил тактику. – Один ускользнул от нас окончательно. Другой называл себя Роффи. Вы с ним встречались, сэр?
– Нехорошо, Каллахан. – Миссис Моган говорила свысока, как будто обсуждала неудачную передачу на футбольном матче. – Роффи мертв. Один из ваших ребят сообщил нам об этом почти три месяца назад. Да, мы ничего не знаем о другом.
– Роффи был нездоров, – заметил я. Я чувствовал, что Бесси слишком рискует, обвиняя его. – В прошлом году один друг предупредил меня, что он склонен к самоубийству, но я не поверил.
– Конечно, – сказал мистер Каллахан, закрывая свой блокнот. – Спасибо, что уделили мне время, сэр. Могу ли я спросить, куда вы теперь направляетесь?
– Это поезд в Рино, – фыркнула миссис Моган. – Я думала, вам это известно.
Он спокойно улыбнулся.
– Я выступаю в Уолкере через несколько дней, – произнес я.
– Уолкер, – медленно повторил Каллахан. – Не слышал об этом городе. И кто же вас пригласил на сей раз?
– Большевистская революционная партия. – Миссис Моган развернулась и пошла обратно по составу. – Общество убийц президента. Ватиканская лига ветеранов. Чертов мерзавец, католическая ищейка. Не помогай ему, Макс. Он не имеет права.
Я перевел взгляд на Каллахана, и он покачал головой, как будто отпуская меня. Я пошел за миссис Моган. Каллахан остался в техническом вагоне, спокойно делая записи в блокноте, а мы возвратились на свои места. За окном мы теперь видели широкое спокойное озеро.
– Он гоняется за кланом, Макс, а не за тобой. – Миссис Моган была заинтригована и взволнована, она как будто наслаждалась этой схваткой. – Он просто рассчитывает, что ты окажешься простаком и выболтаешь что-нибудь полезное. У нас все в порядке. Налоговая служба не может нас достать. Мы зарегистрированы, платим налоги. В отчетах все идеально. Все кошерно. Но все это – серьезная причина для того, чтобы никогда больше не возвращаться в Атланту. – Она улыбнулась. – Мы ничего не признаем, хотя ему известно, что происходит. Ему пришлось бы нелегко, если б он захотел доказать преступное намерение. Я полагаю, что он хочет нас взять на испуг. Я не знаю почему. Нам нужно на некоторое время залечь на дно, поменять имена и задержаться в Нью-Йорке, пока все не закончится.
Я больше ни о чем не спросил, говорить что-то было бессмысленно. Думаю, мистер Каллахан вышел на следующей остановке, хотя подозреваю, что другие агенты остались в поезде.
Нам пришлось ждать около часа на обычной железнодорожной станции в Рино; в сумерках прибыл поезд на Уолкер. Кроме группы индейцев, возвращавшихся в свою резервацию, мы оказались единственными пассажирами. К тому времени как поезд тронулся, наступила ночь. Наш вагон был совсем новым, с яркой черно-желтой обивкой, напоминавшей тело гигантской пчелы. Мы медленно продвигались по земле, которая становилась все более и более невыразительной. Когда мы сошли в Уолкере, станция уже опустела. Было темно и холодно. Мы не смогли найти носильщика и сами потащили багаж к выходу. Контролера не оказалось. Улица за воротами станции была пустынна. Несколько огней и несколько маленьких электрических вывесок оживляли город вдалеке. Поселение оказалось не слишком достойным памятником энергичному, деятельному следопыту и борцу с индейцами Джиму Уолкеру. Я предположил, что местечко знавало лучшие дни. Мне стало неловко. Обстановка ничем не напоминала ту, к которой мы привыкли. Обычно нас встречали большие группы людей, мэры и другие видные граждане, делегации приходских или женских обществ. Даже по ночам нас выходили приветствовать представители местных организаций клана. Темной ночью, стоя на холодном ветру, я чувствовал смутную угрозу. Может статься, Бродманн повернул все против нас. Они часто действовали очень тонкими методами. Самое логичное объяснение заключалось в том, что все руководители клана временно смещены из-за борьбы за власть, которая продолжалась в Атланте. Но я все-таки не мог успокоиться. Вдруг послышался шум автомобильного двигателя. Потом вспыхнули фары, и «форд» модели «Т» появился на перекрестке и подъехал к нам. Машина остановилась у обочины.
– Полковник Питерсон? – Взволнованный водитель всматривался в темноту.
– Я – Питерсон.
Юноша лет восемнадцати вышел из автомобиля; он назвался Фредди Поулсоном.
– Простите, что я опоздал, сэр, мэм. Мой папа не смог. Важная непредвиденная встреча. Ребята из Рино должны были приехать сюда, но до завтра им тоже не освободиться.
Я сразу расслабился. Мое предположение оказалось верным.
– Поможете нам с багажом?
Мы обменялись рукопожатиями. У меня был только один чемодан, но миссис Моган везла немало вещей. Он постарался сделать все, что мог. Это был краснощекий, светловолосый симпатичный юноша, похожий на крестьянина, родившегося в русской степи. Ничего зловещего в нем я не заметил. Он проводил нас к зданию, располагавшемуся всего в нескольких минутах ходьбы от станции. Кирпичное, с необычной облицовкой, оно было украшено вывеской «Гранд-отель „Филадельфия“». Казалось, гостиницу заперли на ночь – в ней было темно. Едва миссис Моган начала возмущаться, как дверь отворил закутанный в халат старик с керосиновых лампой в руке. Мы вошли в неуютный холл и, по настоянию мужчины, расписались в книге постояльцев, прежде чем подняться в комнаты. Заведение напоминало большой частный дом, переделанный под гостиницу. Внутри было чисто. Оранжевые ковры и желто-белые обои с геральдическими лилиями, очевидно, появились недавно, и все же дом отчего-то казался запущенным. Мы привыкли к совсем другим гостиницам, но теперь оказались в Уолкере. Фредди Поулсон сказал, что заглянет утром.
Я зашел в комнату миссис Моган и увидел, что моя спутница хмурится. Ее настроение не улучшилось.
– Я сделала глупость, – сказала она. – Я поддалась страху. Если Юджин был сковородой, то эта дыра – просто адское пламя.
– Мы можем все отменить, – утешил я ее. – И утром уедем.
Она задумалась:
– Я не знаю, Макс. С другой стороны, Уолкер точно не в центре внимания. – Миссис Моган вздохнула. – Но если бы я искала чего-то подобного – могла бы взамен выбрать любой паршивый городишко. Я не пойму, зачем мы приехали в этот Уолкер. Слушай, я не очень хорошо знаю Хирама Эванса и не могу тебе сказать, кто за ним стоит, с кем он связан, каких парней он может вызвать и откуда. Кроме того, я не знаю, что у него есть против Эдди и насколько сильно он хочет навредить его друзьям.
– Никто не ожидал, что ты будешь все это знать, Бесси.
– Это была моя работа. Наверное, я думала, что смогу по-прежнему брать проценты, не пачкая руки. Ну, вот и расплата. Уолкер, Невада, два часа утра. Думаю, они пытаются нам что-то сказать, Макс.
– Кто? – спросил я. – И что?
– Вот об этом-то я и думаю. – Она прижала меня к себе, я вдохнул ее восхитительный аромат. – Лучше сделай все хорошо. – Она расстегнула мой пояс.
Следующим утром мы встретили Фредди Поулсона в холле. Яркий солнечный свет проникал в окна, создавая резкие тени. Снаружи виднелась сонная главная улица небольшого западного городка. Низкие здания казались вытянутыми, как будто город увядал: детали были неясны, словно на фотографии, которую слишком сильно увеличили. Город, возможно, стал бы гораздо лучше, если б уменьшился в размерах. Мы позавтракали в кафе «Новая Калифорния». В Неваде все было названо в честь других штатов, как будто люди в самом деле сомневались, что хотят жить именно здесь. От скуки миссис Моган раскладывала столовые приборы на красных и белых квадратах клеенки. Тонкий слой пыли и, возможно, песка покрывал белую эмалевую сахарницу и сливочник.
– Может, вы сумеете ввести нас в курс дела, мистер Поулсон. Какова программа на сегодняшний вечер?
Он извинился за город и за все неудобства. Он знал, как сказала миссис Моган, что мы попали в «дурной переплет».
– Я сам не очень разобрался. Они будут ждать вас в оперном театре. В восемь часов, кажется.
– А какую рекламу мы получим, мистер Поулсон? – спросила миссис Моган.
– Я так полагаю, что это выступление только для, как бы сказать, местного отделения?
Бесси нахмурилась:
– Вы слышали, что творится в Атланте, мистер Поулсон?
– Только то, что контракт с мистером Кларком расторгнут. Его место занял новый человек. Судя по тому, что я слышал, неплохой парень. – Он откашлялся. – Вряд ли я смогу вам много рассказать. – Фредди встал, чтобы оплатить счет.
Глядя, как он вытаскивает бумажник из заднего кармана и неловко улыбается женщине у кассового аппарата, миссис Моган сказала:
– Он знает, что оказался не на своем месте. – Она задумчиво потягивала кофе, глядя через стекло на тихую улицу. Мимо нас проехали несколько экипажей и автомобилей, силуэты которых резко вырисовались в ярком свете. Меня бы не удивило, если б мы увидели стадо коров. – Я полагаю, что его отец – один из немногих клансменов в городе. Они рассчитывают только на поддержку из Рино. В таком случае почему они захотели устроить здесь наше выступление? – Она приняла решение. – Подожди и возвращайся в отель с Поулсоном. Скажи ему, что мне нужно кое-что купить.
– Где ты будешь?
– В «Вестерн Юнион», возможно. Или в «Уэллс фарго». В общем, что-нибудь найду. – Она собиралась разослать еще несколько телеграмм.
К полудню беседа с мистером Поулсоном начала меня утомлять. Мы сидели в пустом гостиничном баре, потягивая кока-колу и сарсапарель. Я рассуждал об авиации, кораблестроении, инженерном деле. А он мог говорить только о рогатом скоте и горной промышленности, да и то не слишком много. Миссис Моган по возвращении показалась мне более оживленной; она снова стала собой. Ко мне вернулась былая уверенность. Бесси предложила: если у нас есть свободное время, почему бы не встретиться с прессой. Мистер Поулсон покраснел, услышав это.
– С Билли Стрэкером, который собирался написать статью для «Информанта»? Ну, ему пришлось уехать из города по другому делу.
Мы пошли в кино. Фильмы показывали в том же оперном театре, в котором я должен был выступать той ночью. Меня удивило, что нет никаких афиш, а потом я вспомнил, что выступление, кажется, предназначалось только для членов общества. На фасаде оперного театра кирпичная кладка причудливо сочеталась с резьбой по дереву, внутри красовались псевдогреческие украшения из штукатурки. Все карнизы когда-то были покрыты позолотой. Теперь золото облезло. Мы посмотрели эпизод «Алой маски», кинохронику, короткую комедию с Фэрбенксом, нелепую сексуальную мелодраму с Глорией Свенсон под названием «Мужское и женское» и два приключенческих фильма с Бронко Билли, которые показались практически одинаковыми. Я подумал, что на сеанс собрался весь город; было не продохнуть. При этом фильмы превосходили все, что можно увидеть в кинотеатрах сегодня. Тройные сеансы в «Эссольдо» напротив моего магазина – просто хлам. Монстры заняли место людей.
Когда мы возвратились в гранд-отель «Филадельфию», уже стемнело. Миссис Моган казалась очень нежной и романтичной после киносеанса, но как только я облачился в свой обычный смокинг, снова стала практичной. Бесси пристально меня осмотрела, расчесала мне волосы и поправила галстук.
– Чем хуже толпа, тем лучше ты должен выглядеть, – сказала она.
Мы спустились и встретили возбужденного мистера Поулсона, который отвел нас в ресторан, находившийся в двух кварталах от гостиницы. Заведение именовалось «Счастливый индеец». Мы заказали гамбургеры.
– Очевидно, индеец оказался несчастным, – заметила миссис Моган, оставив свою порцию недоеденной. – Слушайте, – добавила она. – Я знаю, как туда добраться. Вы, мальчики, бегите вперед. А мне надо кое-что сделать…
Она посмотрела на дверь туалета, и Поулсон покраснел еще сильнее. Бесси протянула мне руку под столом. В пальцах она сжимала небольшой бумажный пакет. Я взял у нее кокаин, хотя не мог им воспользоваться. Я предположил, что у нее появился план, возможно, как-то связанный с недавно отправленными телеграммами, так что уверил Поулсона, что с миссис Моган все будет в порядке, и мы направились в оперный театр. На фасаде не горел ни один фонарь. Возможно, предстояла тайная встреча вроде той, которую я посетил на пароходе. Я надеялся, что по крайней мере узнаю о судьбе Эдди Кларка. Мы свернули в проулок, освещенный фонарем, висевшим над служебным входом. Здесь было мрачно и тихо и пахло крысами.
– Сказали, что нужно идти прямо на сцену. – Поулсон вспотел.
Кажется, мне стало его жаль.
Слепящие огни рампы озаряли сцену, в зале горел тусклый электрический свет. Серебристый киноэкран висел на прежнем месте, и моя тень падала на светлый прямоугольник, словно я оказался в немецком экспрессионистском фильме. Я почувствовал редкий приступ страха перед аудиторией. В животе у меня бурлило и ныло. Когда огни рампы внезапно погасли, я, сбитый с толку, посмотрел на ряды пустых кресел. В центральном проходе, разделявшем передние и задние ряды, я наконец разглядел дюжину молчаливых клансменов в капюшонах и балахонах. Они застыли со сложенными руками, суровые и мрачные. Мне вспомнился эпизод из «Рождения нации», когда предателя Гаса приговаривают к смерти.
– Я очень рад вас видеть, – сказал я. – Я уже подумал, что остался один!
– Мы все собрались, маленький еврей. – Низкий, глубокий голос звучал знакомо. – Вперед. Давай послушаем, как ты свистишь.
Только тогда я понял, что никакие они не клансмены.
Глава девятнадцатая
Они отвезли меня в пустыню. Канюки устраивались на ночлег в То| тенбургене[253], и красная пыль забивала мне горло, делая речь неразборчивой. Одним из них точно был Бродманн. Я узнал его глаза – он ликовал, когда кнуты рассекали мой дорогой вечерний костюм. Я не верил, что она бросила меня им на растерзание. Откуда она знала? «Твоя любовница все правильно поняла. Тебе следовало сбежать с ней». Они преподали мне урок, заявил их предводитель, и мне следовало хорошенько это запомнить. Мне было плохо. Они оттащили меня в пустынное место, окруженное холмами, похожими на остатки разрушенных башен. Меня вырвало на песок. «Снимите с него штаны. Давайте его проверим». Конечно, это было единственное доказательство, которое им требовалось. Мой отец заплатит за каждый удар, за каждую рану и царапину. Луна и звезды были огромны и светили невероятно ярко. Я лежал один на скале посреди пустоты, а эти фальшивые клансмены били меня, и белые руки вздымались и опускались. Она была Иудой, не я. У женщин нет совести. Они всегда будут предавать мужчин. Меня оставили им на поживу, а она сбежала в поезде, следующем на север. Я поднял руку. Я хотел рассказать им правду. Кнут ударил меня по пальцам. Я видел, как кровь лилась из набухающих ран. Вот и все, что я видел, – blut[254]. Я знаю их адскую инквизицию. Я знаю их тайные уговоры. Они и сами не всегда понимают эти связи. Неужели они проникли в клан? Неужели Эванс – человек папы римского? С тех пор, с 1923 года, власть клана ослабела. Это, вероятно, был заговор. Пропаганда против Кларка стала ужасной. Nito tsu remen tsu reydn! Yidden samen a Folk vos serstert. A narrisch Folk. Sie hat nicht geantwortet. Ich habe das Buch gelesen und jene Leute sind verarmt. Wer Jude ist, bestimme Ich![255]
Wer Jude ist, bestimme Ich! Zol dos zayn factish. Fort tsurik. Vue iz mayn froy?[256] В их пустыне моя кровь и слезы исчезали среди песка под чистыми черными небесами. Они с безразличной жестокостью смотрели на меня из полумрака. Я страдал и терпел. Я не стану мусульманином. Карфаген может убить меня. Но Карфаген не может меня одолеть. Кусок металла в моем животе шевелится, и меня рвет, но диббук[257] снова побежден. Я всегда буду сильнее его. На рассвете я подполз к своему багажу. Сумки даже не открывали (враги были слишком брезгливы!), и все мои вещи остались на месте. Бумажник, паспорт, деньги. Все, что я оставил в «Гранд Филадельфии». Я нашел еще немного кокаина. Он придал мне сил – я смог сменить одежду, но не сумел стереть кровь, которая покрывала все тело. Я протащил вещи по кустам к грунтовой дороге, и вскоре подъехал грузовик. Он остановился. Мальчик, сидевший за рулем, почесался, засунув руку под комбинезон, но удивления не выказал. Он решил, что на меня напали и украли машину. Он сказал, что за доллар может отвезти меня в Карсон-Сити. Добрый самаритянин! Это за бензин, сказал он. Я дал ему доллар. Он предложил мне немного воды из своей бутылки, так что я смыл кровь с рук и ног. Он высадил меня на станции. В Карсон-Сити я взял билет на первый же поезд. Он шел в Сан-Франциско. Мне нужно было найти настоящие улицы, чтобы скрыться. Я удостоверился, что за мной никто не последовал. Я знал, что должен сохранять инкогнито. Бродманн, федералы, а теперь и сам ку-клукс-клан – все выступили против меня. Это был заговор, о котором, похоже, знал я один. Diesmal wollte der Jude gans sicher gehen[258]. Похоже, на некоторое время мне следовало взять другое имя.
Воспользовавшись удобствами в поезде и избавившись от сильной боли с помощью большой дозы кокаина, я немного успокоился к тому времени, как мы приблизились к Окленду. У меня было сломано ребро, но я смог наложить повязку. В любом случае следовало подождать, пока раны заживут. Теперь я был готов логически обдумать сложившуюся ситуацию. Я пришел к разумному выводу: различные группировки, которые выступили против меня, не подозревали друг о друге. Я подвергался опасности, потому что у меня больше не осталось защиты. Я, очевидно, стал более уязвимым для тех, кто и раньше угрожал моей жизни. Полумертвый после избиения, я не пережил бы новых атак. Я знал, что подлинные клансмены не могли быть моими противниками, и все же никаких доказательств этого не имелось. Следовало предположить, что в орден проникли шпионы. Сам Эванс, возможно, вражеский агент. Клан объявил войну папе римскому и большевикам, евреям и японцам. Наземное путешествие в Сан-Франциско, конечно, было равносильно попытке спрятаться в логове льва. Там всегда находился передовой плацдарм Востока в Америке. Огромная природная гавань сделала город лучшим и самым важным тихоокеанским портом, а золото и серебро из близлежащих шахт принесли богатство. Мои собственные предки могли бы обосноваться на этих крутых склонах, прибыв на парусных судах из Одессы и Порт-Артура, чтобы торговать сначала с индейцами, а потом с пионерами, охотниками, которые приносили им шкуры бобров, медведей, оленей и буйволов с отрогов Скалистых гор. Когда Сан-Франциско еще был частью мексиканской Калифорнии, российский посланник Резанов[259] влюбился в сестру дона Луиса Антонио Айгуеллы, но католическая церковь сыграла свою обычную разрушительную роль, и Консуэла Айгуелла закончила жизнь в женском монастыре. Потом славяне и англосаксы объединились и изгнали Рим за пределы Сан-Диего, установив главенство закона в краю, который сэр Фрэнсис Дрейк назвал Новым Альбионом. Панславизм никогда не был враждебен англосаксам, наоборот, он всегда помогал им найти потенциальных союзников.
Мой поезд медленно двигался к станции, расположенной на самом побережье. Я мог разглядеть мачты, синий океан, движущиеся корабли. Мы подъехали к заливу. Локомотив остановился на огромной насыпи из камня и бетона: то был Оклендский мол. Пассажиры толпой двинулись от вагонов к парому «Саутерн пасифик»; в те дни не существовало других способов проникнуть в Сан-Франциско. Я обрадовался: я снова чувствовал запах морской соли, я стоял на палубе парома и разглядывал чаек, летавших над нами, когда паром плыл по темно-бирюзовым волнам к горе и ее башням. Многие называли Сан-Франциско прекраснейшим городом Тихоокеанского побережья, западным Нью-Йорком. Густая растительность и сверкающие камни напоминали о Константинополе – и в то же время это был совсем другой город. На здешних холмах после великого землетрясения построили современную столицу, полную офисов и многоквартирных домов, зданий столь же великолепных, как в Чикаго. Издалека город казался прекрасным. Изменит ли что-то столетие жестокой истории, станет ли город другим к наступлению миллениума? Насилие и человеческая жадность в конце концов всегда приводят к одним и тем же результатам.
Наш паром наконец остановился у причала. Над ним возвышалось сооружение, которое поначалу показалось мне церковным шпилем, на самом деле это была башня Ферри-билдинг. Мы прошли по грязным сводчатым переходам, потом я вынес свой чемодан на обширную площадь, полную автомобилей, такси и грохочущих фуникулеров, маршруты которых начинались и заканчивались здесь. Подозреваю, что я до сих пор двигался и стоял на ногах исключительно за счет прилива адреналина; я не осмелился остановиться и тотчас же направился к ближайшему вагону канатной дороги. Он рванулся вперед, зазвенел звонок, массивная конструкция загудела, оконные стекла задребезжали, и мы поехали по Маркет-стрит, которая была, как всегда, переполнена людьми, машинами и разнообразными магазинами. Ошеломленный и уставший, я сделал не самый лучший выбор – этот транспорт на поверку оказался лишь странной разновидностью вагонетки. Я выскочил прежде, чем фуникулер совершил еще один отвратительный скачок. Я совсем не представлял, куда следует пойти. Возможно, стоило отправиться на Рашен-Хилл[260] (я слышал, что это квартал художников – именно такие районы я обычно выбирал), но теперь я боялся, что меня узнают. Интеллектуалы читают газеты, и некоторые из них сочувствуют либералам. Я прошел по двум или трем улицам, преодолевая невероятные подъемы и спуски, которые также могли соперничать с константинопольскими (хотя здесь недоставало каменных лестниц), и, к своему огорчению, снова оказался на Маркет-стрит с ее четырьмя рядами проводов, суматохой и разноязыким шумом. Я свернул на другую улицу и с ужасом осознал, что изумрудная, темно-красная и золоченая резьба по дереву была поистине варварской китайской поделкой. Я невольно забрел в печально известный китайский квартал Сан-Франциско, обиталище враждебных тонгов. Я чувствовал здешний запах, смесь специй, уксуса, древних ароматов, острой еды и опиума – поистине чуждый кошмар!
Я не знал, когда смогу добраться до своих денег, и поэтому берег небольшой запас наличных. Я не хотел ловить такси. Я старался как можно дальше убраться от желтой угрозы. К тому времени я ужасно устал, меня бил озноб. Я решил, что нужно попытаться снять номер в первом попавшемся недорогом отеле. Район был оживленный, но несколько запущенный: убогие ресторанчики и развлечения, реклама дешевой еды, пародийные шоу, кинотеатры и танцзалы. Многие из женщин, выходивших на улицу в конце дня, очевидно, были проститутками. Я не испытывал никакого предубеждения против них. Напротив, я почти сразу же успокоился, заметив их дружеское отношение. В этом районе я мог расслабиться и прийти в себя. Я поднялся по обветшалым ступеням в пятиэтажное здание из красного кирпича, которое именовалось «Отелем Голдберга „Берлин на Кирни-стрит“». Стойка располагалась в дальнем конце короткого неосвещенного коридора. Я с трудом разглядел смуглого человека, дремавшего по ту сторону барьера. Он что-то проворчал, обращаясь ко мне. Комнаты у них были. Я зарегистрировался под именем Майкла Фицджеральда, уверенный, что мой акцент легко спутать с медленным, раскатистым произношением жителей Зеленого острова. Я даже сообщил портье, что до недавнего времени состоял при католической миссии в Харбине, в Китае, и теперь с удовольствием снова могу поговорить на английском языке, после очень долгого перерыва.
В тот момент я чувствовал себя в безопасности. Я выиграл время для отдыха и размышлений. Мне следовало подольше задержаться в Сан-Франциско. По крайней мере, здесь были корабли, которые могли отвезти меня в любую часть Тихого океана и в любой крупный морской порт на американском побережье – неважно, на юг или на север.
Я слышал, что Аргентина – прогрессивная страна, готовая к экспериментам. В Буэнос-Айресе даже было представительство «Хэрродс»[261]!
Моя комната от пола до потолка была окрашена в тускло-оранжевый цвет. Мебель оказалась того же оттенка. Серые простыни и раковина с отбитыми краями очень резко выделялись на этом фоне. Я бросил чемодан на кровать и отправился в ближайшую бакалейную лавку, чтобы купить самое необходимое и запастись едой, которую мог проглотить, не повредив израненные губы. Мое лицо начало ныть, когда кокаин перестал действовать. Все тело захлестывали нарастающие волны боли.
Я купил газету в киоске на углу, как только увидел заголовки. Газетчики были вне себя от восхищения, повествуя о громком скандале в рядах клана. Какой-то сомнительный дантист из Техаса, Хирам Эванс, провозгласил себя, как писали в статье, Имперским магом и заявил о намерении избавить клан от предателей, людей аморальных и сомнительных. Несколько минут спустя после успешного переворота Эдди Кларк был обвинен согласно законам Вольстеда и Манна[262] в распутстве и аморальном поведении; речь шла о событиях, произошедших несколько лет назад. Миссис Моган описывали как женщину сомнительных моральных качеств, любовницу еврея-спекулянта. Полковник Симмонс вступил в конфликт с Эвансом. О майоре Синклере не упоминали. Я не знал, искалечили его, как меня, или же убили. Согласно репортерским отчетам, Кланкрест стал столь же зловещим, как двор Калигулы, заговорщики и убийцы прятались во всех коридорах. Клан, казалось, находился на грани распада. Я с недоверием отнесся к большей части прочитанного («Ножи для предателей клана», «Угроза смерти для Кларка и его сторонников»), но стало ясно: в Атланте у меня больше не осталось друзей.
Расследование моего дела Министерством юстиции могло быть частью большой атаки на членов клана. Несомненно, предатели внутри ордена поставляли федералам информацию, большей частью приукрашенную или просто ложную, надеясь избежать обвинения. Вот почему Каллахан преследовал меня. И Бродманн, конечно, притворяясь полицейским, мог помогать ему, одновременно сообщая клану лживые сведения обо мне. Ситуация прояснялась. Любой человек, связанный с Кларком, Моган или даже Симмонсом, становился идеальной жертвой для охоты на ведьм. Клан, расколовшийся на фракции, больше не мог ничем помочь. Миссис Моган бросили на растерзание волкам. Она, в свою очередь, выдала им мои тайны. Теперь было бы чистейшим безумием попытаться снять со счетов деньги. Если я получу по чеку наличные, вероятно, Каллахан вскоре об этом узнает и быстро выследит меня. Если он действительно работает вместе с Бродманном, моя Немезида обязательно попытается разжечь ненависть клана. Возможно, мне следовало пробраться в Канаду, а оттуда направиться в Англию.
Но пока я соблюдал разумные предосторожности, Сан-Франциско, несмотря на возможное возвращение нежелательных воспоминаний, оставался для меня идеальным убежищем. Густо населенные склоны заполняли представители разных стран, богачи и бедняки, чудаки, сумасшедшие, калеки, нищие и самые разные преступники. В трущобах не творилось таких ужасных злодеяний, как в Галате, особняки казались чуть менее роскошными, чем в Стамбуле, но во всех прочих отношениях это был столь же вызывающий и разноликий город. Я сидел в своей комнате, смазывая раны бальзамом и антисептиком, ожидая того момента, когда следы побоев исчезнут и я приобрету если не презентабельный, то хотя бы непримечательный вид. Я решил обратиться за помощью к кузену Сантуччи, Винсу Потеччи из ресторана «Венеция». Я изучил купленную карту и обнаружил, что заведение располагалось совсем недалеко, на Тэйлор-стрит. Я мог добраться туда в трамвае. Поскольку Синклер и «Рыцарь-ястреб» исчезли (через много лет я узнал, что майор сбежал на своем корабле в Мексику и закончил жизнь, приобщая даго к радостям воздушных путешествий), мистер Потеччи остался моим единственным надежным знакомым в Америке. Я хотел, пока дела не придут в норму, на время возвратиться к старой работе вольнонаемного механика, но в то же время рассчитывал и на получение ссуды. Я готов был положиться на милость кузена Сантуччи.
Как только мои лицо и руки зажили и следы избиения стали почти незаметными, я отправился на Тэйлор-стрит, улицу возле рыбацких причалов, где в промежутках между зданиями виднелись снасти небольших кораблей. Здесь витал аппетитный запах свежих даров моря и недавно приготовленных омаров. Облака чаек висели над причалами, птицы кричали и вертелись, сражаясь за отбросы. Я отыскал ресторан и вручил записку сонной старухе, которая крепко сжала конверт обеими руками. Она зевнула и заверила меня, что все будет благополучно передано по назначению, Потом я пешком пошел обратно. Меня окружал обычный утренний Сан-Франциско, сквозь сырой туман пробивались тонкие лучи света. Я, по обыкновению, решил исследовать город. Я не хотел проводить много времени в постели. Мне следовало упражняться. Продвигаясь по небольшим улицам и переулкам в сторону отеля, я в конечном счете оказался в трущобах, где собирались наркоманы и пьяницы. Иногда мне что-то шептали из приоткрытых дверей, но, в общем, никто меня не беспокоил. Я свернул на Клей-стрит, осмотрел небольшой запущенный театр и с удивлением обнаружил, что с афиши мне улыбается миссис Корнелиус. Она была одной из трех девушек на фотографии, участницей кордебалета, рекламировавшей шоу под названием «Красотки из Блайти. Самое новое сенсационное шоу из Англии». Я рассмеялся. Кошмар подступал все ближе, и я поверил, что уже начались галлюцинации. Я заставил себя пройти несколько футов и осмотреть выставленные за пыльным окном холодные закуски, в то же время пытаясь собраться с мыслями. Я медленно приходил в себя. Как и большинство зданий в этом районе, театр был невысоким сооружением, пропитанным сыростью, – кирпичи расслаивалась, белая краска шелушилась. По какой-то нелепой прихоти заведение именовалось «Русской комедией Страноффа». Я увидел рекламу фильмов и живых шоу. Мне пришло в голову, что, возможно, миссис Корнелиус смогла заключить контракт с киношниками: не приезжала в Сан-Франциско сама, а просто появлялась на экране. Я дернул дверь. Она была заперта, как и черный ход. Дневной спектакль начинался в половине третьего. Я в изумлении возвратился в отель Голдберга и уселся на узкую кровать, чтобы написать еще одну записку. Я предположил, что миссис Корнелиус работает в театре. Если мне не позволят пройти через служебный вход, то она, по крайней мере, сможет прочитать мое послание и впустить меня или передать ответ, когда освободится. Я еще раз порадовался спасительному инстинкту, который всегда приводил меня в большие города, где подобные совпадения были совершенно обычным делом. Миссис Корнелиус, мой ангел-хранитель, могла снова спасти меня. Надежда возродилась: мои теперешние обстоятельства – это просто мелкая неудача в карьере, которая при небольшом везении может снова пойти успешно.
Когда в два часа я подошел к служебному входу, меня никто не остановил. Я свободно блуждал по таинственному лабиринту заплесневелых, отделанных плиткой коридоров и наконец обнаружил раздевалки. Их было всего три. На одной висела вывеска «Актеры», на второй – «Актрисы», а на третьей – загадочные «Прочие». Я постучал в дверь дамской гардеробной и услышал знакомое английское хихиканье и повизгиванье.
Меня пригласили войти. Я повернул ручку двери и внезапно окунулся в хаос мишуры и дешевых ярких тканей, меня окутал запах пота, грима и резких духов. Держа в руке сигарету, еще не переодевшаяся для выступления, в великолепном розовом платье с несколькими зелеными деталями, миссис Корнелиус стояла, прислонившись к неоштукатуренной стене. Ее светлые волосы были по моде распущены, на губах – ярко-красная помада. От эффектной косметики она стала еще прекраснее, чем в Константинополе, во время нашей последней встречи.
Миссис Корнелиус узнала меня. Сначала она просто качала головой.
– Черт поб’ри, – сказала она. – ’лянь-ка, Иван! – Она захихикала. – Вовремя ты п’явился. Выгляишь не оч-то. А ты ведь го’орил, шо у тьбя ’се х’рошо, а! ’Ришел забрать мня в Голливуд?
Я нерешительно пробирался вперед – кругом царила суматоха. Я столкнулся с двумя другими молодыми женщинами. Наконец мне удалось поцеловать руку миссис Корнелиус.
– Вы остаетесь прекраснейшим созданием в мире!
Я был очарован, как всегда. Я не мог скрыть восторг. У меня за спиной хихикали и перешептывались тощие юные особы. Миссис Корнелиус наклонилась, чтобы поцеловать меня в щеку. Ее аромат пьянил.
– Да п’рестань, Иван. Нам на сцену через десять минут выхо’ить! Однак’ не м’гу ’казать, шо не рада тьбя ви’ить. Очень рада, ’де ты был?
Настала моя очередь улыбнуться.
– О, где я только не был. В прошлом году – на гастролях.
– Шо? Играл?
– Можно и так сказать. Здесь это называют чтением лекций. А как давно вы здесь?
Она прибыла в Нью-Йорк прошлым летом. Шоу было заказано агентством, которое обещало, что они выступят во всех главных театрах.
– А замест то’о мы пляшем меж черт’выми киношками, п’ка они м’няют пленку. Шобы ’роклятые ’сетители не сбежали из дрянных залов! – Она пожала плечами, как будто отмахиваясь от разочарований со своим обычным добродушием. – Но по крайности мы работам. Эти янки – недурные зрители по большей части. Здесь у нас самые большие сборы с Фили-черт-ее-задери-дельфии. Мы п’лутчам деньги раз в неделю, п’том дого’оор продлеват. Не знаю, шо нам делать, если его не продлят. Эт’ малый, к’торый был нашим менеджером, сбежал в феврале в Бразилию, со вторым премьером. Дрянной маленький гомик!
Разговаривая со мной, она начала, с бессознательной грацией, переодеваться.
– И кто твой администратор?
– Я тоже в затруднительном положении. Директор сменился, контрактов нет. Я сейчас не у дел.
Она оглядела меня, держа сигарету в углу рта, и неодобрительно нахмурила брови:
– Ты шо, скот воровал, шо ли? Как эт’ струслось, Иван?
– Ковбои, – сказал я. – Мое последнее выступление прошло не слишком хорошо. В одном из тех западных городов.
– Да, – согласилась она, – обычно они сообтщат, када выступление идет не очень х’рошо. Так ты без работы, а? Ты за’седа мож присоединиться к нам. Видно, в прошлый раз ты выбрал хуж’ некуда. Я про менеджера.
Она аккуратно поправила колготки и украшенный блестками лифчик. Костюм ничем не отличался от тех, что были на ее приятельницах.
Ничего другого мне не оставалось. Я очень хотел находиться рядом с женщиной, которая всегда была моей самой надежной подругой. А между тем я не имел никакого опыта театральных выступлений. Я не знал, какова оплата и как договориться с дирекцией. Но я и на этот раз не сомневался, что быстро научусь. Я сказал, что у этой идеи есть свои плюсы. Казалось, миссис Корнелиус была приятно удивлена.
– Угости мня ужином после шоу, – сказала она, когда из зала донеслись искаженные звуки музыки. – И мы еще об этом п’говорим. – Она исчезла в темноте.
– О, пожалуйста, помогите нам! – поспешно прошептала последняя девочка, обращая ко мне огромные испуганные глаза.
Потом все трое помчались на сцену. Девушка, шедшая сзади, мне улыбнулась.
Той ночью мы с миссис Корнелиус ужинали в «Гонконг Вилли» на Грант-авеню.
– Эт правда твоя вина, – сказала она. – Ты писал все эти черт’вы письма, рассказ’вая, как тут х’рошо. Вот я и уцепилась за эт дело, да? Тьбе лучше обдумать то, шо я предлагаю.
Она уже убедила меня (она всегда меня убеждала), что умение «трепать языком» делает меня идеальным менеджером «Красоток из Блайти».
– Нужно ’се’о-т’ несколько сотен долл’ров, шобы нам выпутаться. У тьбя ведь стольк есь, верн? П’пробуй, Иван, тьбе ’се одно делать больше нече’о. У нас и афишки, и тряпье есь. Ты мож эт сделать! Маленькая ставка – и ты владешь «Красотками».
Я был слишком смущен и не смог сказать ей, что мои деньги трудно «ликвидировать». Я обещал все решить поскорее. Я поверил, что смогу управлять труппой. Миссис Корнелиус объяснила, как важно удерживать внимание владельцев театров достаточно долго, чтобы они убедились в ценности представления. Но требовались деньги для развития шоу, для оплаты дорожных расходов и прочего. Это означало, что мне придется рискнуть и посетить банк. Тут я призадумался.
Когда я возвратился в отель Голдберга, в алькове у стойки меня поджидал молодой человек. Он был высок, модно одет и вежлив; ходил он, расправив плечи, как военный или спортсмен. Я подумал, что он из Министерства юстиции, и собирался спросить, как меня выследили, и тут юноша назвался Гарри Галиано и энергично пожал мне руку. Я с облегчением понял, что его прислал кузен Аннибале Сантуччи. Мое сообщение дошло до адресата.
– Если вы не очень заняты, босс мог бы с вами встретиться сегодня вечером, – серьезно и вежливо заметил Гарри.
Я сказал, что ненадолго поднимусь к себе в комнату. Там я воспользовался «крылышками» миссис Моган, чтобы не уснуть в ближайшие несколько часов. Когда я присоединился к Гарри, он внезапно улыбнулся с той же веселой беззаботностью, что и Сантуччи. Он гордо сопроводил меня за угол, на центральную улицу; там был припаркован большой синий «паккард».
– Будьте моим гостем, – сказал Гарри.
Он изящным жестом распахнул пассажирскую дверь.
Некоторое время мы ехали в тишине по разноликому, сияющему огнями ночному Сан-Франциско. Туман сгущался. Гарри сосредоточенно вел свою большую машину по запутанным дорогам Маркета, мимо конечной остановки канатной дороги, к причалу, который казался просто рядом желтых огней, уходящих в туман. Мы увидели с полдюжины мужчин в синих комбинезонах, указавших нам дорогу к трапу, потом въехали на паром, который с жалобным стоном отошел от причала и, набрав скорость, поплыл по невидимым водам залива. Только когда «паккард» остановился и мы вышли из машины покурить, Гарри разговорился. Они с Винсом, по его словам, были давними приятелями, сначала работали поварами в отеле, потом стали владельцами ресторанов. Сейчас босс управлял престижным загородным клубом неподалеку от Беркли. Туда мы и направлялись. Мне понравится клуб. Он был очень европейский. Высшего класса.
Мы покинули паром на Оклендской стороне. Темная вода осталась позади, городские улицы на склонах сменились отдельными домами, потом мы выехали на широкое и прямое шоссе, которое тянулось среди холмов. Наконец, свернув на усаженную кустами дорогу, мы приблизились к большому трехэтажному зданию, напоминавшему мраморную гасиенду. На нем красовалась освещенная вывеска: придорожная гостиница «Голд Наггет». Очевидно, ресторан считался модным, снаружи уже стояло не меньше двадцати автомобилей. Окна были закрыты плотными занавесками, снаружи разглядеть ничего не удавалось; только музыка и смех разгоняли ночной холод. Гарри припарковал «паккард» за домом, подвел меня к боковой двери и еле слышно постучал. Нас впустил другой итальянец, печальный и худой, в обтягивающей вечерней одежде. Он сказал, что босс наверху и ждет нас. По каменной лестнице мы поднялись на верхний этаж. Внезапно мы оказались в коридоре, роскошно отделанном в новейшем джазовом стиле. Я вспомнил Италию и тамошних футуристов. Мы миновали несколько комнат, оформленных в том же духе. Все кругом было серым, синим или розовым, включая стеклянные столы и настенные зеркала. Потом в дальнем конце обитого плюшем сводчатого прохода появился приземистый смуглый человек средних лет, также облаченный в смокинг. Он протянул мне руку.
– Мистер Петерс? Я Винс Поттер. Могу я вам предложить выпить? Это все настоящее. – Он решительно открыл откидную дверцу бара, напоминавшего огромный орган из какого-нибудь большого кинотеатра. – Вы в деле?
Когда я сказал ему: «Да», – Винс, казалось, задумался. Потом он пожал плечами и плеснул мне «Маккоя». На вкус он оказался в точности как виски.
Он явно хотел мне помочь и разговаривал весело, немного иронично:
– Так что у вас стряслось? Я получил телеграмму от маленького Аннибале из Рима, он просил присмотреть за вами. А потом ничего. Мы думали, что вы мертвы, понимаете? Где это было? В Миннесоте? В Сент-Поле? А теперь вам нужна работа или что? У вас есть опыт? Какой?
– Я прежде всего ученый и инженер.
Я немного рассказал о своей карьере, о том, как, ни в чем не повинный, столкнулся и с ку-клукс-кланом, и с Министерством юстиции. На некоторое время мне понадобятся работа и новое имя.
– Я могу заниматься самолетами, лодками, автомобилями. Любыми механизмами.
Я решил, что лучше не заострять внимания на моих лекциях; мне не хотелось оскорблять иммигранта, который почти наверняка получил католическое воспитание. Кроме того, это не имело никакого отношения к моему нынешнему положению.
Когда я закончил говорить, Винс нахмурился, но услышанное, казалось, произвело на него впечатление.
– Дайте-ка мне разобраться, – сказал он. – Вы сумеете запустить двигатель, к примеру. О’кей? Без ключей?
– Конечно. Это очень легко. – Я не мог уследить за ходом его мыслей.
Он пожал плечами и смешал мне еще один «Маккой».
– Всегда полезный талант. Но чем вы занимались в первую очередь? В другой стране? С Аннибале вы, наверное, продавали и покупали. Именно этим он чаще всего и занимается.
– Да, верно.
– Так вы были в Париже. И что вы там делали?
– В основном аэропланы. – Я не хотел упоминать о скандале с компанией по строительству дирижаблей.
К моему удивлению, он заулыбался:
– Господи Иисусе! Как, черт возьми, вы бросили Кертисса[263]? Нет, не говорите мне. Конечно, уверен, там, наверху, тоже правительства и революции и все такое. Как в Мексике и во всей Южной Америке. Ну, скажу я вам, контрабанда спиртного по сравнению с этим мелкое дельце, хотя, признаюсь, теперь весьма выгодное. Нам приходится защищать довольно большую территорию. – Он выразил легкое сочувствующее недоумение. – Что я могу вам сказать? Работа? Вы всегда можете ее получить. Но я не хочу вас унижать. Наши лодки и автомобили нуждаются в починке, конечно, но механиков много. Станьте водителем. Пожалуйста. Но вы этого не захотите. Через год мы сможем предложить что-то получше для человека вроде вас. Я расширяю дело и вхожу в законный бизнес. Не знаю, как еще вас выручить, разве что начать войну с Панамой.
Я прервал Винса, не дожидаясь, пока он начнет извиняться. Я мог легко найти работу. То, что мне действительно требовалось, – это новая личность, паспорт, предпочтительно американский. Он расслабился. Винс был радушным добросердечным человеком и очень хотел помочь другу своего кузена. Он не мог найти мне работу, достойную моих талантов, потому что это оскорбило бы других его служащих, но надеялся на практике показать свои добрые намерения.
– Невелико дело. Нужно какое-то конкретное имя? Или вам все равно? Несколько фотографий – и мы сочиним совершенно новую историю.
Я сказал ему, что в настоящее время использую псевдоним Майкл Фитцпатрик. Казалось, его удивил выбор ирландского имени. Немного подумав, он сказал:
– Вы не думаете, что это может настроить людей против вас?
Я его понял. Я лучше всех понимал, с каким подозрением относились к Таммани.
– Как насчет Мэнни Пасковица? – спросил он. – Я знал Мэнни Пасковица, он недавно скончался. Это было бы очень хорошо, потому что в морге на него нацепили табличку «Джон Доу».
– Я бы предпочел что-нибудь менее еврейское.
– Понимаю. – Он что-то промычал, глядя в пространство. – А как звучит Палленберг? Мэтт Палленберг, швед. Никто не питает ненависти к шведам, разве только финны и датчане. Но кого волнует, что они думают? Хорошее имя. Он проиграл бой с таможенным катером у островов Санта-Барбары несколько месяцев назад. Я знаю наверняка, что он никогда не носил при себе удостоверения личности, выходя на дело. Лет ему было столько же, сколько вам. По-моему, он родился в Стокгольме. Приехал сюда с семьей двадцать лет назад. В яблочко. Что может быть лучше?
– Я очень вам признателен, мистер Поттер.
– Даже не говорите об этом. Просто удовольствие. Оставайтесь на связи. Мы уверены, что для такого образованного человека, как вы, скоро откроются большие возможности. Когда-нибудь мы начнем совместный бизнес, я в этом уверен. Итак, нужно что-то еще?
Я спросил, не станет ли Винс возражать, если мою почту будут присылать в его ресторан на Северном пляже. Он сказал, что с радостью окажет мне эту услугу. Винс Потеччи, изображая радушного хозяина, к которому не вовремя пришел гость, похлопал меня по спине, выдал одну из своих гаванских сигар, а потом снова поручил заботам Гарри Галиано. Тот с ностальгией рассказал мне о своем детстве в Толедо. Гарри гнал машину очень быстро, чтобы успеть на последний паром в Сан-Франциско. Лишь когда мы подъехали к «Голдбергу», я понял, что мой спутник говорил о Толедо в штате Огайо. Гарри обещал приехать следующим вечером и забрать мои фотографии. Он заверил, понадобится самое большее три дня для решения всех проблем. Я спросил, как он возвратится в Окленд ночью. Гарри рассмеялся. У него дела на Северном пляже, пояснил он. Это в пяти минутах от дома. На прощание Гарри заметил:
– Поосторожнее. Берегите себя, пока я не вернусь. В этом городе нужно быть настороже. Никогда никому не верьте, проверяйте все, что вам говорят.
Думаю, он знал о том, что меня разыскивал Бродманн. Возможно, он даже слышал что-то о Каллахане, федеральном агенте. Не желая меня тревожить, Гарри все же пытался предупредить об их происках.
Вернувшись к себе в номер, я успокоился и решил все обдумать. Теперь я мог строить планы на будущее. Безусловно, предложение миссис Корнелиус было лучшим, но меня беспокоило получение денег по чеку. Короче говоря, стоило как можно скорее убраться из Сан-Франциско и позабыть о прежней личине, о Питерсоне. В любом случае вряд ли следовало оставлять преследователям подсказки, в какую часть страны (и уж тем более в какой город) я направляюсь. Без поддержки «Красотки из Блайти» непременно пропадут, а миссис Корнелиус и ее подруги останутся без средств. А если вложить несколько сотен долларов – у нас будет возможность раскрутиться как следует, и я смогу зарабатывать на жизнь вполне легальным способом. А главное – я заслужу благодарность своей старой подруги (в конце концов, сколько раз она спасала меня от смерти, не говоря уже о разных неприятностях?) и останусь рядом с одной из двух моих любимых женщин. Неужели ради этого не стоило рискнуть?
Следующим вечером миссис Корнелиус пригласила меня в меблированные комнаты, чтобы обсудить дела. Отдав фотографии Гарри Галиано, я почувствовал себя немного лучше. И вот я вошел в здание, по сравнению с которым заведение Голдберга казалось отелем «Ритц». Как отвратительно – такая прекрасная женщина, которая близко зналась с принцами и мировыми лидерами, унизилась до подобной тесной лачуги! Неудивительно, что ей требовалась финансовая поддержка! С нравственной точки зрения все это неправильно. Женщине, наделенной чувствительностью, талантом и красотой, женщине такого происхождения не пристало думать о том, как поддергивать повыше постельные принадлежности, чтобы паразиты, ползающие по полу, не перебирались по ночам на тело.
– Ох, – отважно сказала миссис Корнелиус, – знавала я и п’хуже, Иван. Однако, надо ’казать, цены тут невелики, зато черт’вы насекомые прост огромны!
Она рассмеялась и предложила мне джина, купленного как раз по случаю нашей встречи. Она спросила, подумал ли я о том, чтобы стать «главным акционером и менеджером нашей маленькой труппы». Я не стал обременять ее собственными проблемами, а просто сказал, что жду вестей от своего бухгалтера.
– Лучше п’торопись, Иван, – сказала она, – а то я отправлюсь в ближайший женский монастырь и приму там постриг!
Я испугался, представив, что ее поработит Церковь, и спросил, есть ли другие варианты.
– Нужно ’де-т выколотить деньжат, – ответила миссис Корнелиус, – или ’ридется стать побродяжкой, как в здешних м’стах г’в’рят. Бить или пить – ’от в чем вопрос, Иван!
За ее показным весельем, подумал я, скрывалось глубочайшее отчаяние. Я был единственным, кто мог ее спасти. Об этом она сказала той ночью, когда поцеловала меня в щеку и махнула рукой на прощание.
Я немного перебрал и всячески старался это скрыть, пробираясь по неровным незнакомым улицам в первые утренние часы. Каким-то образом я оказался на Стоктон-стрит, в нейтральной зоне между Маленькой Италией и китайским кварталом, и в голову мне пришла дурацкая мысль – куда же теперь идти, на север или на юг. Наконец, немного призадумавшись, я осознал, что следует направляться на восток. Я все-таки сориентировался – к счастью, на моем пути оказалась знакомая ночная аптека на Дюпон-стрит. Эта часть города была практически пустынна. Минуло три часа утра. Мелкая морось повисла в воздухе, и свет уличных фонарей стал неровным и тусклым. Я не надел ни пальто, ни шляпы; подняв воротник пиджака и опустив голову, я прибавил шагу и наконец свернул на Кирни-стрит. Я не поднимал головы до тех пор, пока не оказался в квартале от гостиницы Голдберга. Присмотревшись, я заметил фигуру в тяжелом кожаном пальто и широкополой шляпе, которая вышла из желтого круга газового света и с неестественной скоростью двинулась к Бродвею. Я как будто спугнул вора. И когда неизвестный ускорял шаг, удаляясь от меня под дождем, я внезапно понял, что вижу Бродманна! Он следил за отелем и не ожидал, что я подкрадусь сзади!
Закрыв входную дверь гостиницы и осторожно пробравшись в темноте по коридору, застеленному рваным линолеумом, я обдумал это новое осложнение. Если Бродманн работал один (или со своими товарищами-чекистами), у меня, возможно, осталось немного времени; если он действовал в союзе с Министерством юстиции или кланом, то следовало немедленно покинуть город. В любом случае теперь нечего было терять – мне предстояло найти способ поддержать миссис Корнелиус. Я усмехнулся. Я снова ускользну от них. Я стану актером-менеджером. Сэром Уильямом Шекспиром. Маленьким Фло Зигфельдом. Странствующим актером, идущим по стопам Диккенса и Оскара Уайльда! И восхитительная, вечно женственная миссис Корнелиус станет Джульеттой для моего Ромео и Фрэнки для моего Джонни!
На следующий день я вернулся в «Странофф», чтобы сообщить о своем решении. Миссис Корнелиус больше не следовало разрываться между притонами и монашескими орденами. Жалкое прозябание на службе у папы римского никогда не станет ее уделом, пока я жив и дышу. Она пришла в восторг, как Лилиан Гиш, спасенная в последнюю минуту от объятий злобного мулата; миссис Корнелиус обняла меня, сказав, что я «м’лодчага» и «счастье». Она немедленно начала планировать маршруты наших будущих выступлений. Я предложил ей пятьсот долларов, заметив, что она может потратить деньги на вещи, которые необходимы для существования «Красоток из Блайти».
– Х’рошо, – ответила она, не в силах усидеть на месте, – в первую оч’редь нам понадобится приличная машина! Не ’олнуйся, Иван. Ты об этом не пожалешь, клянусь.
Назавтра доставили мои новые документы, более солидные и убедительные, чем все предыдущие. По-прежнему опасаясь возвращения Бродманна, я поспешил в расположенное на Ноб-Хилл отделение Калифорнийского банка. Там я предъявил чек на семьсот пятьдесят долларов, выписанный на имя Мэтта Палленберга, и подписался как Макс Питерсон. По крайней мере, никто не мог предположить, что это один и тот же человек. При обмене чека на наличные мне сразу стало ясно, как делаются дела в Сан-Франциско. Надо признаться, я немного вспотел, когда клерк, узнав, что я послал чек из Милуоки (чтобы запутать следы), со значительным видом попросил совета у кого-то невидимого, сверился с какими-то бумагами, серьезно пошептался с несколькими коллегами, а потом вернулся, осмотрел мои документы (там даже был указан адрес в Олбани), счел их удовлетворительными и наконец решительно поинтересовался, в каких купюрах я хочу получить деньги, – как будто чек ему вручили лишь пару секунд назад. Я попросил пятьсот долларов крупными купюрами. Их я немедленно отдал миссис Корнелиус для нашей театральной компании. Остальные деньги я взял пятерками и десятками – на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая покупку высококачественного кокаина в китайском квартале. С деньгами я снова стал настоящим человеком; я почувствовал, что управляю собственной судьбой. Я теперь был не иностранцем сомнительного происхождения, а скандинавом, потомком викингов (как и все представители старинных семейств Киева), тех выносливых, предприимчивых людей, которые открыли Америку задолго до испанского еврея Колумба, вырезали свои руны на источенных морем утесах Лонг-Айленда и Нантакета, посвятив эти земли великим решительным богам – Одину, Фрейе и Тору. Именно они, живые, разумные боги, имели куда больше прав на эту энергичную страну, нежели мрачный Иегова бледных ограниченных пуритан.
Я расстался с ку-клукс-кланом. Эти дураки упустили свой шанс, потеряли лучших друзей и из-за мелких внутренних дрязг не смогли одержать победу. Они погибли после множества глупостей и ссор – вполне логичный финал. Индиана могла бы стать первым подлинным штатом клана, но еще один скандал положил конец и этой мечте[264]. Полковник Симмонс, Эдди Кларк, даже майор Синклер и я – все стали мучениками, погубленными недалекими осторожными людьми или ненадежными друзьями вроде миссис Моган. Мои дары, которыми так цинично злоупотребили политики и стяжатели, погубившие идеалистов, подобных Роффи и Гилпину, еще могли превратить Америку в мирового лидера технического прогресса. Если бы им в будущем понадобились мои услуги – следовало поклониться мне в ноги и попросить о помощи. Я решил отказаться от искушений их мира и посвятить себя сцене и частным научным исследованиям. Я не позволю им преследовать меня. Я сам решу, когда покинуть Америку, когда раскрыть мою истинную личность. Как они удивятся! Как я посмеюсь над ними, когда мой поразительный паровой дирижабль, моя собственная усовершенствованная модель «Авитора Гермеса-младшего», который вылетел из Сан-Франциско в 1869 году[265], проплывет в небесах над Золотыми Воротами, обгоняя огромные локомотивы «Саутерн пасифик». А потом, когда тысячефутовый огненный крест вспыхнет на горе Шаста, это станет сигналом: ку-клукс-клан очистился и вновь готов выступить в священный поход, дабы освободить Америку от завистливых цепей Востока! И тогда я окажусь во главе колонны!
Мы помчимся в машинах из золота, дерева и ослепительного серебра, и наши враги изведают беспомощность абсолютного ужаса. Мы отомстим, но наша месть будет благородной. Проснись, Америка! Твои небеса заполняет армия мстителей, и выживут только верные! Первая фаза моего Kampfzeit[266] подошла к концу. Скоро начнется вторая. А пока, став обычным странствующим актером, я смешаюсь с простыми людьми, обрету новые силы в самых корнях Америки. Я взлетел слишком высоко и слишком быстро, но в том нет моей вины. Теперь мне нужно восстановить силы, встать на твердую землю и начать все сначала. Америка, ты не услышишь моего плача! Twoje dzielo. Наша маленькая труппа вырастет, но не слишком, а я сохраню верность своим идеалам. На некоторое время, однако, их следует приспособить к требованиям музыкальной комедии. Erst waren es Sieben. Sie kämpften und blutetan für Amerikas Freiheit[267].
Миссис Корнелиус за бесценок купила старый «кадиллак», бывшую машину скорой помощи. Ее немного переоборудовали и написали с обеих сторон название нашей труппы – и автомобиль оказался просто идеальным. Миссис Корнелиус и две девушки – вот и все, что осталось от первоначального состава, но моя подруга была уверена, что нам следовало увеличить численность до семи актеров, наняв новых участников во время путешествия. Девушки закупили материал и изготовили новые костюмы, некоторые из них выполнялись по эскизам, которые я набросал для миссис Корнелиус в качестве своего первого вклада в театральный проект. В ближайшее время мы готовились двинуться на север вдоль Тихоокеанского побережья. Я, конечно, волновался; нервничал я больше обычного, потому что сомневался в своих способностях актера-менеджера. Миссис Корнелиус постоянно уверяла меня, что это просто пара пустяков, гораздо проще, чем кажется. Тем не менее я дважды едва не отказался от первоначального плана и уже почти решился сесть на первый же катер до Таити.
В конце концов я собрался с силами. Я написал Эсме, Коле и еще Сантуччи, которого поблагодарил за помощь. Я сообщил, что со мной можно связаться через ресторан «Венеция» на Тэйлор-стрит. Я оставил политику, потому что столкнулся с коррупцией и не смог преодолеть отвращение. Теперь я хотел вернуться к научной карьере.
Решение не стоило откладывать. Выходя из гостиницы на встречу с миссис Корнелиус, которая уже уложила мои вещи в багажник фургона, я увидел Бродманна, или, точнее, его кожаное пальто. Мой враг скрылся из вида, свернув за угол возле пекарни. Я побежал за ним, но он успел уйти довольно далеко. Я никак не мог понять, почему он так старается избежать встречи и узнавания. Нельзя было угадать, в какую сложную игру он играл со своими союзниками и противниками. Вместо того чтобы отправиться прямо к месту назначенной встречи, я двинулся в обход, пробираясь по переулкам и запутывая следы; в итоге я дошел до небольшой аптеки на Дюпон-стрит несколько позже, чем планировалось. Все остальные уже сидели в фургоне. Две девушки устроились позади, а миссис Корнелиус, которая немного выпила, ждала на переднем сиденье. Мотор уже завели, и мы, по ее словам, «могли катиться». Облегченно вздохнув, я опустил рычаг тормоза и нажал на педаль. Машина поехала по Маркет-стрит. Двигатель у фургона был превосходный, учитывая его возраст, но «кадиллак» оказался несколько перегружен. Миссис Корнелиус развеселилась, как в прежние времена; мы с девушками подпевали, когда она исполняла свои любимые песни.
К тому времени, когда машина двинулась в сторону Салинаса, мы спели уже большую часть репертуара миссис Корнелиус, и я научил ее «Старой, луне Кентукки», которую в свою очередь узнал всего месяц назад от двуличной миссис Моган. Иногда я оглядывался назад, чтобы удостовериться, не преследует ли нас человек, похожий на Бродманна. Я был по-детски счастлив, снова оказавшись рядом с моей дорогой подругой. Es dir oys s’harts![268] Я мог выбросить прошлое из головы и сосредоточиться на будущем. Я нежно поцеловал миссис Корнелиус в щеку.
Она захихикала:
– Так и бу’ет, Иван. Мы на пути к славе, парень!
Мгновение спустя, удивленно вздохнув, она потрепала меня по колену.
Глава двадцатая
Я не могу вернуться в Одессу. И даже если смогу – что я там найду? Оживший труп? Дурную копию? От моих городов ничего не осталось. Все, что осталось, – это будущее, но теперь недоступно и оно, ибо Карфаген уничтожил все, на чем оно основывалось. Настоящее омерзительно. Неужели они ожидают, что я смогу с этим что-то поделать? Эти пропавшие города, эти погубленные чудеса! Я обещал спасение. Они отвергли его. Разве еврей в Аркадии не предал меня? Я любил его. Кусок металла вложили в мое тело, когда я лежал, беспомощный, в их синагоге. Я знаю, кто еврей, а кто нет. Я знаю путь к безопасному, упорядоченному миру. Я знаю, где правда, а где вымысел. Не ограничившись победой в реальном мире, Карфаген объявил войну моим мечтам.
Карфаген выступил против Византии. Я сражался. Я отбросил врага. Мои мечты снова ожили. Черные руки больше не цеплялись за мои якоря. Черные глаза больше не следили за мной. С чего мне чувствовать себя виноватым? Я всего добился сам. Я – очень опытный инженер.
В том году, и в следующем тоже, мачты Карфагена не показывались на горизонте. Откуда мне было знать, что Карфаген по-прежнему преследовал нас? Я путешествовал в мире иллюзий. И не могу сказать, что сожалею об этом. Нет, я хотел бы увидеть, как моя фантазия возродится. Реальность сама по себе ничего не стоит. Но я не знал этого. Те нацисты были варварами. Как и большевики, они стали верными новобранцами в пехоте Карфагена. Они назвали Гитлера своим новым Александром. Какие города они оставили за собой? Какие памятники?
Заксенхаузен? Бухенвальд? Дахау? Двенадцать миллионов убитых lagervolk (пятьдесят процентов – евреи, пятьдесят процентов – славяне); еще двадцать миллионов разных трупов и одну недоделанную ракету? Почему все постройки Шпеера простояли только пятнадцать лет? Даже турки проявляли уважение к Константинополю, хотя бы в своих подражаниях. Карфаген творит только пепел и грязь, смешивает их, покрывает раствором гнутую колючую проволоку, а затем восторгается результатами, этими неуклюжими гротескными созданиями, похожими на Übermenschen[269] из их оскудевшей мифологии. Теперь у меня нет времени на самозваных врагов Карфагена. Их слишком легко обмануть. Мою баронессу фон Рюкстуль убили в Берлине. Этот город никогда не был хорошим убежищем для славян-филосемитов, и все же именно русская бомба отняла у нее жизнь. Ответ Сталина на все вопросы – самый простой. Если проблему не удавалось решить, он ее уничтожал. Nit problem. Вот основа философии Карфагена. Я не могу понять эту Liebschaft mit der Nazi. Er verfluchte die Zukunft. Er verlachte den Amerikaner. Er lachte laut! But was ist Amerika und seiner Venegurung in kontrast? Es ist kornish! Der Nazi er eine Wille. Um so besser. Begreifen sie das Problem?[270] Эти daytsh broynfel Lombard-tseshterniks[271] не лучше большевиков, которые занимаются теми же нелепостями. Освенцим? Треблинка? Бабий Яр? Я обещал им Александрию, которая парит в небесах! Там всегда светло и всегда тепло.
Я полагаю, что успех, которого мы добились на Тихоокеанском побережье, можно объяснить только новизной. Миссис Корнелиус была самой природой предназначена для шоу-бизнеса, основу ее таланта составляла бьющая через край жизненная энергия. Сама она всегда признавала, что лишена каких бы то ни было выдающихся дарований. Я организовал очень много выступлений в Калифорнии, потому что там чувствовал себя более непринужденно (раньше я практически не появлялся в этом штате). Мы снова стали невинными; Wandervögel[272], летящими из города в город. Это обеспечило нашей труппе определенные преимущества. Если не задерживаться подолгу на одном месте и быстро перемещаться по миру, то можно спастись от стрел критики – новизна и оригинальность зачастую заменяют талант. Почти все наши зрители радовались любому развлечению, и мы неплохо удовлетворяли их потребности. Мы перемещались от Кресент-Сити на границе с Орегоном к Сан-Диего. Мы даже хотели отправиться в Мексику, но сочли это неблагоразумным, учитывая проблемы, к которым могло привести столкновение с иммиграционными службами. Наша программа обычно состояла из нескольких номеров. Иногда, чтобы заполнить паузу или продлить представление, я даже возвращался к своему прежнему занятию и читал шахтерам лекции о чудесах будущего или рассказывал рыбакам об опасностях иностранного коммунизма. Мы также исполняли небольшую оригинальную пьесу. Сочинил ее я. Надевая форму донского казака и размахивая грузинскими пистолетами, я изображал русского князя, любовника большевистской комиссарши – миссис Корнелиус. В конце концов она решала отправиться со мной в изгнание. Я назвал пьесу «Белый рыцарь и красная королева». Мне очень польстило, что именно это сочинение оказалось самым популярным нашим номером. Зачастую ему аплодировали дольше, чем кинофильмам, которые показывали до и после представления. Мы именовались «Англичанами в сиянии рампы», а миссис Корнелиус избрала сценический псевдоним Шарлин Чаплин. Меня чаще всего называли Барри Мором. Многие директора полагали, что подобные имена привлекали публику. В глубине души я осознавал, что это обманчивое сходство с известными людьми могло смутить и разозлить зрителей, которых заставляли поверить в то, что их любимые кинозвезды выступали на дощатой сцене летнего театра в Редондо-Бич.
Я научился подыскивать дешевое жилье и торговаться с хозяевами карнавалов, оперных театров (до сухого закона они были салунами) и ветхих кинотеатров. Наш фургон оказался очень выгодным приобретением. Зачастую он служил нам убежищем. Цыганская жизнь была очень полезна и по-настоящему удобна для всех. Конечно, мы часто уставали и сидели на мели, но никогда не унывали. Хороший климат сильно меняет настроение. Солнечный свет – прекрасное противоядие от всех болезней. Англичане ценят его почти так же, как русские.
Двух других девочек звали Мейбл Черч и Этель Эмбси. Публика знала их под именами Глория де Курси и Констанция Бакингем-Фэйр-бенк. Обе они были простыми, веселыми созданиями, популярность которых во многом основывалась на том, что девочки довольно легко одаривали своей благосклонностью поклонников за кулисами. Мы наняли сильно пьющего жонглера и комика по имени Гарольд Хоуп: восторг аудитории чаще вызывала его неловкость, а не способность управляться с булавами. На некоторое время к нам присоединился молодой исполнитель негритянских песен, Уилл Олсен. Мы расстались с ним неподалеку от Монтерея после того, как он попытался навязать свое общество миссис Корнелиус. Потом мы наняли вождя по имени Бычий Нос, огнеглотателя из Бруклина. Его племя больше напоминало Plattfussindianern (как шутили в Германии в 1930 годах), чем Schwarzefussindianern[273]. Воздух, который он выдыхал, вспыхивал сам по себе. Меня всегда удивляло, как вечно пьяному вождю удавалось не сгореть.
То была настоящая идиллия. Меня почти всегда окружали женщины, я наслаждался дружбой и советами миссис Корнелиус, мало думал о будущем и еще меньше – о прошлом. Маленькие калифорнийские городки были, как правило, гостеприимны. Здесь царила невинность, которой так не хватает современным американцам. Репутацию этих мест не запятнали цветные пришельцы, не испортили безбожные идеологии. Люди там собирались возле автоматов по продаже газированной воды, в аптеках и парикмахерских, а салуны, когда они существовали, были такими же тихими, мирными и внушительными, как храмы. Я видел брошюры Диснейленда. Но вы же не сможете воссоздать Мейн-стрит как ностальгическую интермедию на нелепой ярмарке, которой заправляют мормоны, переодетые мышами из мультиков. Devo tornare indietro?[274]
Америка потеряла Мейн-стрит, когда повернулась спиной к Европе и оставила нас сражаться с Карфагеном. Она устремила взгляд вглубь себя, когда ее власть и идеализм достигли зенита. Если бы она посмотрела наружу, то сохранила бы все, о чем теперь тоскует. Я был там. Америка решительно шла по пути самоуничтожения. Она страдала от вечного заблуждения богачей: их богатство – это награда за некое врожденное моральное превосходство. Я, насладившись восторгами безответственной юности Калифорнии, увидел конец прекрасной золотой поры, эпохи веселья и радости. Но время, проведенное на гастролях, не было потрачено впустую. Я много узнал о простых людях, живущих на сущие гроши, сталкивающихся с реальностью мира, который многие европейцы все еще считают очаровательно наивным или испорченным. Я разочаровался в Америке позже, когда понял: она отказалась от подобающего лидирующего положения просто потому, что хотела любви, а не уважения. В двадцатых годах Америка еще сохраняла чувство собственного достоинства. Вот почему тогда можно было пройти по Мейнстрит, вдыхая запах содовой, солода, кофе и сиропа, в тех самых городках, где всего лишь пару поколений назад люди убивали друг друга из-за золотых самородков и участков земли.
Мы путешествовали по маршруту Лолы Монтес[275], которая танцевала в деревянных хижинах и палаточных лагерях всего лишь семьдесят лет назад. В деревянных домах Лост-Хилла и в новых кирпичных сооружениях округа Калаверас, в бескрайних пустынях и густых лесах, среди горных хребтов и пологих холмов, в мире золота, серебра и нефти мы пели наши песни и декламировали наши монологи. В городах, где дощатые настилы защищали наши ноги от грязи, мы могли повернуть за угол и увидеть посреди улицы огромную нефтяную скважину. Великая Материнская жила[276], которая принесла в Сан-Франциско богатство и безумие, была выработана, и все же по склонам холмов бродили разведчики. Мы проезжали по сверкающим ущельям Высокой Сьерры и по огромной долине Сан-Хоакина, когда сливы были в самом цвету; мы странствовали по полям, по равнинам, заросшим эвкалиптами, насколько хватало глаз. Мы останавливались и вдыхали почти наркотический аромат апельсиновых рощ, срывали с деревьев свежие персики, объедались форелью, выловленной в прохладных реках. Мы выступали в сараях, палатках и холлах обветшалых отелей. Мы добрались до Флагштока, Аризона, и однажды ночью разбили лагерь неподалеку от края Большого каньона. Этот дикий простор нельзя описать, нельзя передать словами или картинами. Мы проехали в старой машине скорой помощи по Цветной пустыне. В Долине памятников глаза индейцев смотрели на гибель всех мечтаний. На лицах детей навахо застыло выражение, которое я уже видел в Галате и еще раньше – в штетлях среди степей Украины. Эти люди родились в эпоху, в которой для них не было места. Их ритуалы и традиции утратили цель и смысл. Теперь безвинные индейцы стали изгоями. Они стали паразитами на своей собственной земле, как завоеванные армяне, палестинские евреи и российские кулаки. Они стали musselmanisch, как говорили в Бухенвальде. Они, по сути, разучились жить, эти образцовые граждане Карфагена.
Иногда дорога приводила нас в более крупные города или, по крайней мере, в пригороды. В Оберне, мирном северокалифорнийском городе, где телеграфные столбы были все еще выше большинства зданий, я снова увидел Бродманна. Я шел от кафе под названием «Гремучка Дика» к местному почтовому отделению. На широкой улице движение почти замерло, я видел только двуколку и пару-тройку велосипедов. День был сонным и солнечным. Похоже, что в Оберне началась сиеста. В руках я держал письмо для Эсме и открытку для Коли. Я, как обычно, интересовался новостями и выражал надежду, что скоро одно из моих писем дойдет до моих друзей, где бы они ни были. Я отказывался даже думать о том, что их насильно вывезли в Россию. Бродманн стоял на деревянном балконе старого отеля «Фриман», расположенного на самой вершине холма. Я смог хорошо разглядеть знакомую фигуру. Прежде чем скрыться в темноте своей комнаты, он взмахнул рукой. Я был абсолютно уверен, что Бродманн просто дразнил меня, однако он мог подавать кому-то знак. Я стал очень осторожным после этой встречи и, к раздражению миссис Корнелиус, настоял на том, чтобы покинуть Оберн: первоначально мы планировали там заночевать. В течение следующей недели мне было сложно играть на сцене, но я не видел смысла в том, чтобы пугать остальных своими открытиями. Я все еще не мог разгадать намерений Бродманна, однако очень обрадовался, когда мы повернули на юг.
Мы выступали на ярмарках и карнавалах, в деревянных сараях и великолепных театрах; их строили в расчете на прирост населения, которого так и не случилось; теперь роскошные здания медленно приходили в упадок. Мы играли на пирсах и дощатых настилах морских курортов, на местных ярмарках и цветочных праздниках. Мы стали цыганами и радовались каждому представлению, даже если иногда и мечтали о дне, когда Флоренс Зигфельд или Сесил Б. Демилль увидят нас и пожелают заключить с нами контракт. В глубине души все мы догадывались, что такого никогда не случится. Ближе всего мы подошли к успеху в Сан-Луис-Обиспо, когда услышали, что в зале сидит один из ассистентов Уильяма Рэндольфа Херста[277]. Очевидно, босс приказал ему подыскать какое-то местное шоу для вечеринки на ранчо Херста, расположенном среди холмов неподалеку от городка. Я пришел к выводу, что мы им не подошли. Контракта нам не предложили.
В ноябре 1923 года, в Хантингтон-Бич, мы показывали нашу русскую пьеску, несколько скетчей и попурри из песен, заполняя паузы между двумя кинодрамами и четырьмя другими шоу в Мэдисоне, небольшом пляжном мюзик-холле на окраине зоны развлечений. Подобно некоторым другим деревушкам на побережье океана в Южной Калифорнии, Хантингтон-Бич стал отчасти курортом с небольшими отелями, ярмарочной площадью, уличными аттракционами, а отчасти нефтяным городом. Среди почтенных семейств, пьяных нефтяников, скучающих стариков и других обычных посетителей выделялся дорого одетый, но неопрятный человек, сидевший в первом ряду; он не сводил глаз с миссис Корнелиус. Признаюсь, я почувствовал укол ревности. Мужчина просидел на наших выступлениях два дня подряд, и Этель предположила, что это театральный агент; но когда он появился за кулисами с букетом, который я счел вульгарным и по цвету, и по размеру, – я все вспомнил. Он, однако, меня не узнал, возможно, из-за грима. Я сумел преградить ему путь прежде, чем посетитель проник в нашу уборную. Он вел себя очень смирно, даже подобострастно. Огромный седовласый мужчина (ему не исполнилось и сорока), дрожа и всхлипывая, проговорил, что ему очень хотелось бы познакомиться с миссис Корнелиус и выразить искреннее восхищение ее игрой. Я встречался с ним в Атланте, на вечеринке в Клан-кресте. Джон Дружище Хевер, инженер-нефтяник, слегка вспотевший от жары, немного располневший, вероятно, все равно не вспомнил бы об этой встрече. В его глазах была только миссис Корнелиус. Он говорил только о ней. Хевер был очарован. Я постарался избавиться от него как можно быстрее. Последнее, чего бы мне хотелось, – чтобы о моем новом имени и местонахождении проведал клан. Не меньше меня пугало и то, что на след могут выйти враги клана. Кроме того, я не думал, что Хевер был подходящим поклонником для миссис Корнелиус. Я взял букет и карточку и отослал посетителя. Я отдал цветы миссис Корнелиус, но карточку ей не показал. Я сказал, что понятия не имею, кто принес букет. На следующий день, однако, Хевер вернулся снова, с розами и гардениями; он по-прежнему настаивал на знакомстве. К сожалению, мне приходилось избавляться от этого человека каждый вечер в течение всей недели. По крайней мере, я смог защитить от него миссис Корнелиус. Я вздохнул спокойно лишь тогда, когда мы снова отправились в путь, двинувшись вдоль побережья в Сан-Диего. Огромные белые буруны Тихого океана, пальмы и желтые пляжи скоро отвлекли меня от Джона Хевера, его нелепой страсти и беспокойства, зародившегося при столкновении с этим нежданным свидетелем моей былой карьеры.
Пока мы играли в небольших псевдоиспанских театрах у границы, жизнь становилась все легче и легче. У нас даже скопилось несколько долларов. Я часто задумывался о том, как сложилась бы жизнь, если я решил бы навсегда остаться актером. Вероятно, вскорости я бы стал беспокойным, как Джон Уэйн или Фрэнк Синатра, и вернулся бы в политику. Сейчас модно смеяться над амбициями губернатора Рейгана, но кто может сказать, развились бы его природные таланты, если бы он не использовал все возможности, если бы он не бросался на защиту старых обычаев с шестизарядным в руке? Он добился успеха, потому что искренне верил в слова своих героев. А разве не это нужно успешному политику? Я думаю, дело не в том, что ты играешь роль, а в том, что выбираешь роль по душе.
В конце 1923 – начале 1924 года у нас было достаточно работы, чтобы сводить концы с концами. Мы стали разборчивыми и начали отказываться от заказов похуже. Теперь мы выступали только в настоящих театрах и несколько раз появлялись на первом месте в программе. Жизнь была хороша. Мы не слишком оплакивали Уоррена Хардинга, еще одну жертву «черного» папы, когда он умер. Кальвин Кулидж[278] казался здравомыслящим человеком. Наше положение оставалось стабильным. Новость о смерти Ленина в январе 1924 года ненадолго подарила мне надежду – возможно, я снова увижу свою мать. Но ничего не изменилось. В Англии большевики усилили влияние, когда социалисты Рамси Макдональда захватили власть. Карфаген наступал, но я ничего не замечал. Я даже не задумывался об этом. Я согласился с миссис Корнелиус, которая сказала однажды утром, прочитав заметку о мюнхенской неудаче Гитлера: «Еж’ли спросишь м’ня, х’рошо, шо мы оказались далеко оттуда, Иван!»
Надежда на политическую стабильность сохранилась лишь в Италии. В России большевики ужесточали контроль. Стало ясно, что Ленин сдерживал восточные силы, теперь, очевидно, пришедшие к власти. В апреле 1924 года по настоянию миссис Корнелиус, но вопреки моим возражениям (хотя я с нетерпением ждал возвращения к городской жизни) мы направились в «Странофф» в Сан-Франциско. Они предложили нам утроить прежний гонорар. Мы не смогли отказаться. Театр стал еще чуть более ветхим, но в общем не изменился. Миссис Корнелиус даже отыскала кусок жевательной резинки там, куда она его прилепила во время своего последнего визита. Мы включили «Белого рыцаря и красную королеву» в афишу, на которой также значились «След Зорро» Дугласа Фэрбенкса и «Четыре всадника Апокалипсиса» Рудольфа Валентино. После нашего второго выступления в мою гримерную вошел Гарри Галиано. Он был в хорошем настроении; широко улыбаясь, гость пожал мне руку.
– Эй, – воскликнул Гарри, – вы тут большие дела делаете!
Он принес мне письмо. Оно пришло некоторое время назад и лежало у Винса Поттера на Северном пляже.
– Из Италии, – сказал Гарри.
Я, дрожа, протянул руку к письму. Оно должно было решительно изменить мою жизнь и напомнить о моем долге, моем lebensplan, моем изначальном пути. Прежде чем я успел открыть письмо, Гарри как-то неловко снял шляпу и со сдерживаемой грустью сообщил мне, что Винса предательски убили примерно за неделю до того, как пришло письмо. Гарри знал: Винсу хотелось бы, чтобы я получил послание. Я спросил, знает ли он, кто убил его босса. Гарри спокойно заверил меня, что правосудие скоро свершится. Он извинился за свои дурные манеры. Если бы оставалось время, чтобы меня разыскать, он непременно пригласил бы меня на похороны, ведь я стал «почти родственником». Я с удивлением услышал, что Винс внимательно следил за моей карьерой.
– Мы видели вас однажды ночью, когда вы выступали где-то возле Эврики. Но мы успели посмотреть только половину шоу, потому что направлялись в Вивервиль. Мы решили, что вы в высшей лиге. Просто класс. Винс хотел пригласить вас выступать в клубе. Он был одним из самых чудесных парней на свете. Но слишком мягким, знаете ли, слишком добрым. Это письмо было вложено в другое послание, от его кузена Аннибале. Я, понимаете ли, рассматривал афиши, вдобавок в «Экзаминере» написали, что ваше шоу снова в городе. И вот мы здесь.
Конверт был смят и надорван, как будто его выбросили, а потом подняли и расправили. Я едва осмеливался открыть его. Гарри усмехнулся:
– Кстати, вспомнил. Вы выписывали фальшивые чеки, Мэтт?
– О чем, черт возьми, вы говорите?
– Может, вы слышали о ком-то по фамилии Каллахан? Он ищет вас. Или, во всяком случае, Палленберга. Это связано с чеком. Вот и все, что мне известно.
– Вы видели Каллахана?
– Нет. Просто ходят такие слухи.
– Он из Министерства юстиции.
– Дело плохо, – сказал Гарри. – С федералами никак не справиться.
– А больше вы ничего не слышали?
– Вы думаете, я стал бы скрывать? Понимаете, к чему все это может привести?
– Это никому не повредит, Гарри.
– Уверен. – Гарри дружески потрепал меня по руке. – Оставайтесь на связи, ладно? У нас есть планы, как у Винса, подзаняться развлечениями. Мы всегда готовы дать работу старому другу.
Я поблагодарил Гарри, заверив, что свяжусь с ним снова, даже если больше ничего не услышу о Каллахане. Хотя Гарри и не был особенно симпатичным, природа наделила его природной грацией галантных Медичи эпохи Ренессанса. В дальнейшем он завязал с контрабандой спиртного и обратился, как и планировал, к шоу-бизнесу и разным проектам в Лас-Вегасе. По моим последним сведениям, он до сих пор жив и здоров.
Письмо, конечно, было от Эсме. У меня оно хранится до сих пор, но если бы я его и потерял, то смог бы вспомнить дословно. War Sie es. Ich gebe allmein Weltstädten weg; aber ich gäbe nicht alle meine Briefe[279]. Ее детский почерк, ее ошибки, ее бессознательный переход с одного языка на другой – все пробуждало глубокие чувства, которые я скрыл, оставив ее в Париже. Я всегда понимал, что найдется разумное объяснение. Наконец я узнал, почему она не смогла ничего написать или последовать за мной в Америку. Mäyn shvester, mayn froy![280] Она только недавно получила от меня весточку. Почти сразу после того, как я уехал из Парижа, она решила жить одна, так как жену Коли, Анаис, видимо, злило ее присутствие. Коля любезно помог ей подыскать квартиру. Некоторое время Эсме работала регистраторшей в офисе одного из деловых друзей Коли. Потом неожиданно что-то стряслось. Эсме выражалась неопределенно: «Глупая, бессмысленная ссора». Она ушла с работы и устроилась официанткой в ночной клуб. Потом, измученная приставаниями клиентов, она, к счастью, однажды столкнулась с Аннибале Сантуччи. Тот посочувствовал ей и предложил свою дружбу и защиту. Зная, что она была моей невестой, итальянец вел себя благородно, и она возвратилась в Рим вместе с ним. Там она жила у его кузины, леди исключительной христианской нравственности, и в конечном счете нашла работу официантки в клубе. Эсме изо всех сил старалась заработать денег на дорогу в Америку. Она писала мне, но письма возвращались. Никто не знал моего адреса. К сожалению, как раз тогда, когда она скопила достаточно денег на билет, ее ограбила женщина, снимавшая с ней квартиру. В итоге полиция арестовала ее за бродяжничество (жизнь в Риме становилась все сложнее). Наконец, снова встретив Аннибале, она увидела мои последние письма к нему и сразу написала по моему новому адресу. Она мечтала о встрече со мной, радовалась, что я преуспел в Америке; она приехала бы ко мне, если б у нее были деньги. Теперь она обзавелась настоящим итальянским паспортом благодаря друзьям Аннибале в правительстве, но чтобы приехать в Америку, ей понадобятся доллары. Могу ли я ответить как можно скорее? Эсме дала адрес отеля близ Тиволи, где она зарегистрировалась под именем синьоры Сильваны Растелли. На это же имя был выписан паспорт. Она надеялась, что я все еще не оставил мысли о свадьбе. Она была хорошей девочкой. Mayn freydik, mayn gut bubeleh![281] Она искренне любила меня, и ее сердце разбилось в миг нашего расставания. Wann kommen Sie wieder?[282]
Конечно, я был вне себя от радости. Я восхищался тем, что моя маленькая девочка смогла о себе позаботиться во время нашей долгой разлуки. Придя в восторг, я почти не обратил внимания на новости Гарри о Каллахане. Mayn froy. Sie fährt morgen![283] Я показал письмо миссис Корнелиус. Она внимательно прочитала его, сначала со сжатыми губами и хмурым взглядом, затем со странной улыбкой. Естественно, я совершенно не понимал того, что обычная женская ревность может исказить самую объективную информацию. Миссис Корнелиус в этом отношении оказалась типичной женщиной. Она многозначительно спросила:
– И ты шо, с’бирашься ей послать ’сю наличку, Иван?
– В том-то и проблема. У меня нет нужной суммы. И мне трудно раздобыть больше. Конечно, она должна получить билет первого класса.
– Лучше напиши и дай ей знать, шо ты не мож е ’о купить, верно?
– Я не могу так поступить, миссис Корнелиус. – Она меня удивляла. – Эсме – моя суженая. Мы собираемся пожениться. Я оставил ее только потому, что у нее не было паспорта.
– Она е’о шо-то очень легко п’лучила.
– Итальянский. Не французский. Вы можете представить, что ей пришлось испытать? Она даже не говорит об этом. Просто не хочет вспоминать. Я знал, что Коля ее не бросит. Все эти проклятые буржуа! Эта Анаис! Я всегда считал ее высокомерной. Злобная сука! Но, слава богу, Аннибале проявил великодушие. Я у него в долгу. Он был истинным другом для нас обоих.
– Ясно дело. – Миссис Корнелиус, похоже, ревновала. – И вдоба’ок идеальная леди, черт’ва монахиня. Остается чистенькой, нетронутой, б’режет сьбя для будуще’о мужа. Просто обрыдаться можно. – Миссис Корнелиус посочувствовала мне. – У тьбя доброе сердце, Иван, при ’сей твоей к’шмарной жизни. Если б у тьбя была хоть капля здравого смысла, ты бы сразу разорвал эт’ ’роклятое письмо.
Конечно, я не последовал ее совету. Миссис Корнелиус, как и в Константинополе, хотела только добра. Но она не встречалась с Эсме. Как только я познакомлю ее со своей избранницей, все разъяснится. Я изо всех сил пытался заработать денег. Миссис Корнелиус в итоге успокоилась. Наверное, она поняла серьезность моих намерений. Она больше не пыталась переубедить меня. Она согласилась, что я сам хозяин своей жизни. Все, о чем она просила, – чтобы я тратил свои средства, а не деньги труппы. Ей не следовало ничего опасаться. Я мог честно зарабатывать обычным способом. Мне нужен был только покровитель, способный заплатить за патенты. К счастью, я оказался в нужном месте. Лос-Анджелес и Сан-Франциско, не говоря уже о пятистах милях между ними, привлекли внимание состоятельных людей, таких как Хьюз и Дэвенпорт; многие крупные промышленные предприятия разместились в этом штате. Но я понятия не имел, к кому обратиться и с чего начать. Я находился в затруднительном положении, потому что никак не мог связаться с Вашингтоном или со своими старыми партнерами по клану, а рассказ Гарри Галиано о Каллахане просто испугал меня. Я не смел больше обналичивать чеки. Мне приходилось проявлять величайшую осмотрительность в поисках финансовой поддержки. Все патенты были выписаны на мое имя. Мне требовался сочувствующий слушатель и доверенный партнер с открытой чековой книжкой.
Поэтому я должен был предложить свои патенты кому-то, готовому сохранить тайну до тех пор, пока я не очищу свое имя и не стану гражданином США. Гарри Галиано, очевидно, еще не проявлял интереса к промышленности. У него, однако, могли быть друзья, которые занимались индустриальными проектами. Точно так же люди из мира кино, как всем известно, опасались вкладывать капиталы во что-то серьезное, за исключением фильмов. Я вышел на сцену в каком-то ошеломлении, я говорил и жестикулировал совершенно автоматически. Я мысленно перечислял фирмы: Гилмор, Кертисс, Локхид, Дуглас, Студебеккер, Мартин и так далее. В большинстве своем они занимались какими-то авиационными проектами. А я утратил веру в дирижабли и самолеты и не хотел с ними связываться. Они принесли мне слишком много бед. Нефть – вот о чем я подумал. Я доработал свой проект автомобиля, работавшего на газовом топливе, машины, использующей побочные продукты нефтедобычи. Такое топливо обошлось бы гораздо дешевле обычного бензина. Единственная серьезная техническая проблема заключалась в том, как хранить и подавать газ. Он был гораздо менее стабилен, чем нефть. Чтобы решить этот вопрос, я изобрел новый тип цилиндра и, попутно, безопасный метод зажигания, который используется и сегодня. Все знали, сколько стоит очистка калифорнийской сырой нефти, и понимали, чем все в конечном счете закончится. Обработка газа обходилась куда дешевле. В отличие от бензина его можно было производить, а не добывать. Казалось неизбежным, что мой газовый, а возможно, и динамитный, автомобиль в скором времени заменит обычные машины. Параллельно с этими проектами я создал новую конструкцию насоса и метод быстрой очистки, которые радикально уменьшили бы затраты на обслуживание и обеспечили бы миллион баррелей в день на каждую нынешнюю тысячу. К тому времени, когда мы закончили вечернее выступление, я пришел к выводу, что вскоре раздобуду более чем достаточно денег.
Я направился из театра в ближайший офис «Вестерн Юнион» и телеграфировал Эсме: «Получил письмо, все понял и в ближайшее время пришлю билет». Я вернулся в свою берлогу примерно в три часа ночи, отпраздновав чудесные новости в дешевом притоне, где подавали джин. Я проживал в «Апартаментах Мальвани» на Джонс-стрит, неподалеку от театра. Там была необычная стеклянная дверь, укрепленная проволочной сеткой; стойка располагалась в вестибюле между этой и другой такой же дверью. Когда я забирал ключ у ночного портье-японца, он мне что-то прошептал. Я подумал, что он интересуется, не нужна ли мне женщина (тогда все ночные портье по утрам задавали подобные вопросы). Я сказал ему: «Нет». По другую сторону второй стеклянной двери я увидел чей-то силуэт; высокий человек, сидевший у лестницы, теперь поднялся мне навстречу. Сначала я испугался, подумав, что это Бродманн. Но мужчина был гораздо выше. Я открыл вторую дверь и зажег в коридоре свет. Чуть заметно улыбаясь и держа руки глубоко в карманах плаща, передо мной стоял офицер Каллахан; вел он себя очень вежливо, даже скромно. Я не думал о причинах. Эсме была совсем близко – и теперь, похоже, меня задержат и не позволят встретиться с ней. У меня не было визы, только поддельные документы. Меня посадят в федеральную тюрьму, а потом вышлют. И это было лучшее, на что я мог надеяться.
– Полагаю, сейчас я беседую с мистером Палленбергом, – сказал Каллахан.
Я не отвечал. Я продолжал смотреть на него, я был почти готов его убить. Я пришел в отчаяние. Я не мог больше страдать в разлуке со своей девушкой, это было немыслимо.
– Итак, – Каллахан отвел от меня взгляд, – где вы хотите поговорить, сэр?
Я провел его вверх по лестнице и отпер дверь в мою комнату. Он подождал, пока я войду, а затем последовал за мной. Как только я зажег лампу, первым делом осмотрелся по сторонам, чтобы проверить, не осталось ли где-то на виду кокаина. Порошок был спрятан, но если бы Каллахан решил осмотреть мой багаж, то легко бы его отыскал. Я вытер пот со лба.
– Вы знаете, что ваши счета заморожены, верно, сэр? – Ирландец посмотрел на кровать. Она не была застелена. Он наклонился, поправил изношенное покрывало, затем уселся, расстегнул плащ и вытащил тот же самый блокнот, который я уже видел в поезде. – Мы заметили, что вы не пользовались счетом. За исключением одного только чека.
– Полагаю, это была моя единственная ошибка, – сказал я.
– Возможно. Вы ничего хорошего не добились, сбежав из Уокера и не оплатив счет за гостиницу.
Я не был уверен, что следует ему рассказывать. В подобной ситуации я оказался в России, в ЧК. Я давно понял, что информацию нужно придерживать. Я ждал, не раскроет ли Каллахан карты.
– Это было бессмысленное, мелкое преступление, – сказал он. – До тех пор руки ваши были чисты, по крайней мере, по нашим сведениям. А за это вас можно привлечь.
Я ничего не ответил, и он продолжил:
– А теперь вы поменяли имя, явно для того, чтобы остаться здесь незаконно, так как вы не пытались продлить свою визу.
– И это все?
Он вздохнул:
– Хороший адвокат может помочь вам задержаться в стране на несколько месяцев, возможно, и дольше. Вы явно хотите здесь остаться. Может, в Европе произошли какие-то события, о которых вы стремитесь позабыть? – Он многозначительно посмотрел на меня. Глаза католика.
Внезапно я понял, что он, вполне вероятно, был несостоявшимся священником.
– Вы можете помочь мне? – спросил я. Во рту у меня пересохло. Я дрожал. Я сознательно позволил ему увидеть, насколько я встревожен.
– Помощь я хотел предложить вам в прошлом году. – Я наблюдал, как он медленно входил в роль. – Мы не вампиры. И мы не всегда соблюдаем букву закона. Что случилось?
– Я был напуган, мистер Каллахан. – Усевшись по другую сторону кровати, я старался не смотреть на него прямо. Я попытался представить, что сижу в исповедальне и нас разделяет решетка. – Мне угрожали.
– Кто? – Его тон смягчился. – Вы можете сказать?
– Когда я приехал сюда, то не очень хорошо представлял, что такое ку-клукс-клан. Я люблю Америку. Они предложили мне выступать с лекциями. Это казалось идеальным способом зарабатывать на жизнь во время путешествий по вашей стране. Я никогда не планировал оставаться здесь навсегда. К тому времени, когда я понял, что такое клан на самом деле, я уже завяз. Конечно, я понимал, что было бы неразумно ссориться с ними.
– Я догадывался, – вздохнул он. – Продолжайте.
У меня не оставалось другого выбора, кроме как продолжать эту пародию на религиозные ритуалы, описывать ему мой ужас, угрозы клана, мои попытки спастись, наконец, решение отказаться от дальнейших лекций после разговора с ним в поезде. Затем миссис Моган выдала меня наемным бандитам. Они избили меня и бросили полумертвым. Я скрывался от клана, не от Министерства юстиции. Конечно, у меня не было ни малейшего желания возвращаться в Европу. Я не сделал ничего дурного. Я боролся с большевиками в России. Я помог сотням, а возможно, и тысячам людей выбраться из Одессы. Комиссар ЧК Бродманн, несомненно, получил приказ выследить меня. Я встал и открыл дверцу шкафа, в котором висела моя одежда. Там находился и один из моих русских мундиров.
– Эти награды честно заслужены, – произнес я.
Я рассказал, как совершал боевые вылеты против красных, как потерпел крушение и едва не утонул. И все же Бродманн отыскал меня, и мне пришлось сбежать из Одессы и вернуться во Францию, к себе на родину. Там я стал жертвой заговора чекистов. Я приехал в Америку, надеясь, что обо мне в конце концов позабудут. Если я теперь вернусь, то это, вероятно, будет означать верную смерть. Я работал на клан, потому что думал, будто клан борется с большевиками. Я не понимал их революционных целей.
Теперь Каллахан быстро кивал, по-прежнему делая записи. Он почти автоматически повторял: «Продолжайте», – и всячески выражал искреннее сочувствие.
– Вот и все, мистер Каллахан. Больше сказать нечего, за исключением нескольких деталей. Я уверен, что и клан, и ЧК все еще охотятся за мной. Если вы смогли меня найти, то и они скоро найдут. Полагаю, что мне угрожает смерть.
Он решительно покачал головой:
– Только Министерство юстиции могло изучить состояние ваших банковских счетов. Вы должны понять, что наша работа состоит и в том, чтобы защищать людей. Почему вы не пришли ко мне? Я догадался, что вы невиновны. Я дал вам свою карточку.
– Я думал, вы закончили расследование. Я не мог поверить, что совершил какое-то преступление. Но Бесси сказала, что вы посадите меня в тюрьму.
– Мистер Вискерс вами не интересовался. Он хотел получить информацию о Бесси Моган, чтобы надолго упечь ее за решетку. Мы практически уверены, что она представляла клан в полудюжине мошеннических делишек, – Каллахан сделал паузу, – включая поставку наркотиков и проституцию. Вы это подтвердили. Она, Кларк и та другая женщина, Тайлер, начинали с мелких плутней. Но они привели клан к большим деньгам. У Моган был вес и была история. Ее старик пошел на электрический стул за двойной поджог в Толедо. Мы почти уверены, что она его подставила. Вы знали об этом что-нибудь?
– Нет.
– Так я и предполагал. С вами все ясно. Вы были любителем, но она – профессионалка. Она имела дело с грязными деньгами. Она поставляла потаскушек и практически все что угодно, от громил до самогона, чертовым чиновникам и политикам этой страны, готовым брать взятки. Так что нам нужны на нее материалы, если мы хотим, чтобы она запела как следует. – Он сделал паузу. – Именно поэтому я готов заключить с вами сделку, мистер Палленберг.
– Вы хотите получить от меня информацию?
У меня не было ничего стоящего. Миссис Моган всегда держала в секрете свои дела. Он принял мои колебания за выражение страха или, возможно, верности.
– Она подставила вас. Почему бы не ответить ей тем же? Если вы волнуетесь по поводу встречных обвинений, то гарантирую: на свидетельском месте вам стоять не придется. Мы прикроем вас со всех сторон. И вы сможете продолжать свои дела – неважно, чем вы сейчас занимаетесь. Делайте что угодно – только насвистите нам весь мотивчик и поставьте внизу свою подпись.
Я подумал, что мне представляется возможность немедленно спасти Эсме.
– Как насчет моих денег? – спросил я. – Вы откроете счета?
– Невозможно. Мы уже предъявили ордер. Эти средства – предполагаемая прибыль от преступной деятельности. Когда миссис Моган сядет, а еще лучше – когда все мошенники, которым она подсовывала взятки, окажутся в тюрьме, тогда мы сможем что-то предпринять. А пока нам хотелось бы знать о вашем местонахождении. Вы наш тайный свидетель, и мы не хотим, чтобы вы покинули страну. Вы автоматически получаете статус «пребывание на неопределенный срок». Все, что от вас требуется, – прижать к ногтю шлюху, которая вас подставила. Если вы этого не сделаете – привет, Россия.
Я все понял. Казалось, я мог получить свободу, но, как это ни печально, мне по-прежнему нужно было искать деньги на билет для Эсме. Я решил, в интересах правосудия и ради тех, кого я любил, все-таки сделать заявление. Я чувствовал себя загнанной в угол крысой, но выбора у меня не было. Я говорил всю ночь, ужасно сожалея, что не мог добраться до кокаина и поддержать свои силы. Я называл все имена, какие приходили мне на ум. Я пояснил, что майор Синклер был настоящим идеалистом. По требованию своего исповедника я изобретал оргии, убийства, извращения и взятки. Некоторых людей я не знал по имени, но пришел к выводу, что они были воротилами в Вашингтоне. Я превзошел самого себя. Джордж Каллахан едва не пел от восторга к тому времени, когда я взял из его руки авторучку и подписался на последней странице: «Макс Питерсон».
– Это чудесно, – пробормотал он со странным ирландским акцентом. – Чудесно, мистер Питерсон. – Он закрыл блокнот. – Теперь, если вы не надули меня, мы в деле. Все, что нам нужно, – отыскать миссис Моган, арестовать ее и допросить на основании этого краткого отчета. Тогда мы сможем начать дело против политиков, за которыми мы на самом деле гоняемся. Я вам очень признателен. Может, вы не понимаете, а может, не хотите понимать, но вы сегодня ночью оказали важную услугу обществу. – Он уже потирал руки.
– Я и вправду понимаю это, мистер Каллахан. У меня нет никакого желания связываться с преступниками. Если бы я лучше ориентировался в том, что происходит в вашей стране, то не оказался бы в таком положении.
– Со своей стороны, мистер Питерсон, я вам очень благодарен. – На его худом монашеском лице появилась ликующая ухмылка, которую он так и не смог стереть. Уходя, Каллахан вручил мне новую карточку. – Если вы попадете в беду, позвоните по этому номеру и попросите Джорджа Каллахана.
– Теперь клан будет жаждать крови, мистер Каллахан?
Я знал, что пожертвовал многим, лишь бы воссоединиться с моей Эсме. Избиение в пустыре около Уолкера было ерундой по сравнению с жестокими пытками, которыми прославился клан. Хороший друг, но жестокий враг, как говорил Эдди Кларк. По крайней мере, он оказался в тюрьме, хотя ничего не совершил. Он понял бы, в какое положение я попал. Если бы его не предали, меня бы не потревожили ни Министерство юстиции, ни Бродманн; не возникло бы и необходимости зарабатывать деньги на билет для Эсме. Миссис Моган, напротив, заслужила все, что с ней случилось. Никто никогда не обвинил бы меня в том, что я ее предал. Она сбежала из Уолкера, бросив меня на поживу клансменам-ренегатам. И даже тогда, если бы у меня был выбор, я не стал бы свидетельствовать против нее. Но любой разумный человек согласится: если какая-то женщина и заслужила гибели, то это, конечно, миссис Моган. Эсме нуждалась в помощи. Моя невинная сестра, моя дочь, моя любовь! О, я осыплю розами ее ложе. Schönen roten rosen for meyn freydik froy! Moja siostra rozy. Mayn gelihte! Она спасет меня от этих groylik gadles![284] Она откроет правду. Когда она окажется рядом, мои города снова поднимутся в небеса. И я не убоюсь врагов. Die Freunde sind gekommen und die Feinde entkommen![285]
Миссис Корнелиус sitzt am Steuer[286]. Она сразу поняла, что я не спал. Хотя моя подруга не любила водить машину, чувствуя, что в таком случае теряет лицо, все-таки ей пришлось сесть за руль, когда мы следующим утром уезжали из города, направляясь в Холлистер. Она была неопытной, хотя и гордой, автомобилисткой; зеленое атласное платье с бахромой почти не скрывало бедер, и ее сильные мускулы напрягались, когда она вела фургон по шоссе, непрерывно выкрикивая проклятия. Однажды миссис Корнелиус сделала паузу, достаточную, чтобы почти сочувственно поинтересоваться, что меня напугало. Тогда я рассказал о визите федерального офицера.
– ’от это да! – воскликнула она. – Мы ’се попали в п’реплет. Я и прочие девочки тоже нелегалы, верно?
– Только до тех пор, пока я не позвоню по телефону. Этот человек доверяет мне. Я сумел помочь государству в деле национальной важности.
– ’от же каким гадством ты занимашся, Иван! – Она резко крутанула руль. – Ты малький черт’в предатель! – Она расхохоталась. – Не, не г’вори мне. Я не спрашивала!
Я рассмеялся вместе с ней. Теперь я почти всегда мог угадать, когда она шутила.
Из Холлистера я послал Эсме еще одну телеграмму и позвонил своему новому другу Каллахану. Его не оказалось в офисе. Мне дали другой номер. Это было далеко от Нью-Йорка. Выяснилось, что он еще не приехал. Я решил приблизительно через день позвонить снова и помочь миссис Корнелиус. Der Hund verfolgte der Hase[287]. Он уже взял след. Тем вечером мы играли в Берберском театре, и мое выступление, хотя и не столь примитивное, как раньше, снова прошло плохо. Аудитория заметно обеспокоилась. Миссис Корнелиус дважды незаметно пнула меня. Когда мы ушли со сцены, она прошипела:
– Если ты хошь пом’нять мое имя с Розы на Эсме, эт’ м’ня не колышет. Но, будь ты ’роклят, делай шо-ни’удь! Они уж начали думать, шо у нас се’о’дня клятая комедия.
Я извинился. Я сказал, что она должна понять мои чувства.
– Х’рошо п’нимаю, Иван, – жестко сказала она. – Чертовски х’рошо!
Теперь я посвящал все свободное время изучению специализированных журналов и поискам возможных инвесторов. Гарантии Каллахана, когда я все тщательно обдумал, оказались не слишком надежными. Все-таки было очень глупо упоминать о Максе Питерсоне. Клан (я об этом помнил) пользовался значительной финансовой поддержкой крупных сельскохозяйственных союзов на Западном побережье. Несомненно, в промышленности сохранялись такие же связи.
Я прилагал усилия, чтобы как можно тщательнее играть свои роли, но с каждым днем становился все более и более рассеянным. И с каждым днем, потерянным впустую, снова и снова предавал надежды моей маленькой девочки. Во Фресно госпожа Корнелиус внезапно прервала представление и начала петь свои песни. После этого она не разговаривала со мной целый день. Время подходило к концу, а все мои письма оставались без ответа. Эсме могла подумать, что я ее больше не люблю. Из Мохаве, где мы за день трижды сыграли «Белого рыцаря и красную королеву», я отправил телеграмму, уверяя свою возлюбленную, что все проблемы решаются. Я вел наш небольшой грузовик по белому шоссе, вдоль берега моря, под ярким солнцем Южной Калифорнии. Но в глазах моих была только Эсме. Я уже воображал, как обрадуется всему этому миру моя прекрасная юная жена. Она сядет рядом со мной и возьмет меня за руку, поражаясь невообразимой роскоши природы. Я снова вернусь к научной работе. Вся Америка нас зауважает, мы будем общаться с великими и знаменитыми. Но эта фантазия только усилила мою панику. Я мог лишиться светлого будущего. Мне нужна была финансовая поддержка. Рано или поздно, когда Каллахан схватит миссис Моган, моя жизнь подвергнется опасности. Мне следовало действовать как можно скорее. Единственное, о чем я не сказал Каллахану: где, по моим предположениям, миссис Моган скрывалась. Эти сведения были слишком ценными, чтобы добавлять их к прочим. Возможно, она сменила имя и занялась новой операцией. Поэтому я знал, что может пройти несколько месяцев, прежде чем Каллахан выследит мою бывшую любовницу. За эти месяцы я собирался заработать немного денег, привезти Эсме в Америку, жениться на ней, а затем бежать в Буэнос-Айрес. Там не хватало инженеров, а богачи охотно вкладывали капитал в новые проекты, вероятно, ради повышения престижа Аргентины. Кроме того, многие русские эмигранты уже перебрались туда; их военный опыт и навыки немало помогли правительству. Но всего этого не случится, напомнил я самому себе, если мне не удастся как можно быстрее отыскать того, кого на театральном жаргоне звали «ангелом».
Мы остановились поужинать у небольшого прилавка с хот-догами, одиноко стоявшего на пляже. Миссис Корнелиус отвела меня в сторону.
– Ты нех’рошо выгля’ишь, Иван. Я еще раз это ’кажу, и ’се. Забудь ее!
Я мило улыбнулся своей старой подруге:
– Как можно забыть совершенство, моя дорогая, добрая миссис Корнелиус? Забыть девочку, о которой ты мечтал всю жизнь, которую ты считал навеки пропавшей и которая чудесным образом вернулась, – не один раз, а дважды. Это не просто случайность! Я оплакивал свою Эсме пять лет. Я поклялся, что никогда больше не буду оплакивать ее.
К ее вечному стыду (она извинилась всего три недели назад в «Элджине»), миссис Корнелиус ответила мне одним из многочисленных новейших американских ругательств. Тогда на меня это не подействовало. Я знал, что в глубине души миссис Корнелиус очень добра; она просто боялась того, что вскоре расстанется со мной. Я мог бы успокоить ее, если б только она меня выслушала. Я любил ее, как буду любить всегда. Но Эсме овладела мной. Я увидел, как моторный катер, ревущий, как недорезанная свинья, подошел близко к берегу, а потом двинулся прямо навстречу прибою и с визгом умчался к горизонту. На палубе стояли двое мужчин. Один держал руль. Второй поднес к глазам бинокль и осмотрел пляж. Я снова подумал о том, всю ли правду рассказал мне Каллахан. Я позабыл спросить его о связи с Бродманном. Совершенно точно, он не возражал, когда я говорил, что ЧК идет по моему следу. Я был уверен, что человек с биноклем – это Бродманн. Миссис Корнелиус думала, что я просто злился, когда гнал ее и всех остальных обратно к фургону. Мои спутники, по обыкновению, веселились и хихикали как дети.
На следующий день, незадолго до заката, мы прибыли в Санта-Монику, откуда я снова телеграфировал Эсме, сообщив о своем местонахождении и поклявшись, что скоро она получит билет первого класса. Я настолько разволновался, что подумал уже о продаже фургона, но потом вспомнил свое обещание, данное миссис Корнелиус. Я все-таки не мог пасть так низко. Мы собирались задержаться в Хантингтон-Бич по крайней мере на неделю и, как обычно, устроить тур по ближайшим морским курортам. Это место находилось достаточно близко от Лос-Анджелеса, и я мог сделать его своей штаб-квартирой; отсюда можно было отправляться на поиски потенциальных «ангелов». К утру я написал еще две дюжины более или менее одинаковых писем и при первой же возможности разослал их. Я пытался внушить Эсме, которая находилась за шесть тысяч миль, в Риме, что нужно доверять мне и не падать духом. Я изучил график движения и отыскал несколько кораблей, которые отплывали из Генуи в течение месяца. В следующей телеграмме я перечислил названия и даты и попросил Эсме выбрать, что ей подойдет больше. Это, по крайней мере, должно было убедить малышку в моей искренности. Я никогда не подведу ее – mayn shvester, mayn sibe![288]
В тот день мы сыграли первый дневной спектакль в «Знаменитом водевильном театре Мэдисона» на гулком, неровном дощатом настиле.
Театр был обращен к большому бетонному молу и песчаному пляжу. Этот курорт показался мне настолько калифорнийским, что я его по-настоящему полюбил. По духу, по крайней мере, он напоминал старую Одессу, вульгарные пригороды у побережья, где играли духовые оркестры и крутились карусели, Фонтан и Аркадию. По утесам тянулись кривые деревянные лестницы, ведущие к пляжам, где огромные горы воды разлетались брызгами, а буруны уносились к самому горизонту. Здесь собирались купальщики, загорали пожилые люди, семьи устраивали пикники под яркими зонтиками, а совсем недалеко стояли массивные, огромные нефтяные вышки, ряды которых тянулись от утесов до океана. Это был настоящий лес, обрамлявший Хантингтон-Бич с обеих сторон. Совсем рядом с источником богатства располагались и средства для его растраты. Галереи развлечений, веселые ярмарки, музыкальные автоматы, киоски с сахарной ватой, журнальные киоски, колеса обозрения, американские горки, туристические катера – все было выкрашено в яркие цвета и становилось еще ярче в дивном свете тихоокеанского солнца, на фоне синевы океана и бесконечности ясного неба. Иногда самолеты проносились над самыми верхушками американских горок. На аэропланах катались взволнованные бабушки и дедушки, ошеломленные дети, испуганные нефтяники со своими счастливыми спутницами, серьезные молодые люди. Иногда скоростные моторные лодки проносились по морю, рассекая волны и оставляя позади клочья белой пены. И постоянно поднимались и опускались нефтяные насосы, крепкие старые машины, похожие на гигантских птиц, клюющих зерно. Вместе с высокими решетками буровых установок они как будто повторяли сцену из романа Г. Дж. Уэллса: марсиане вторгались из океанских глубин и, сбитые с толку, смотрели с любопытством на праздничную толпу, которая видела в них очередную не слишком интересную новинку. Увы, лисички играли, не думая о своей судьбе, как всегда говорил приятель миссис Корнелиус, мошенник Бишоп, приканчивая пятую пинту в «Бленем Армз» в пятницу ночью (это было еще до того, как он перебрался в «Олд Фолкс Хоум» близ Литтлхэмптона). В отличие от Европы, Америка никогда не стыдилась источников своего процветания, разве что в том случае, когда по иронии судьбы они были связаны с пивоварением или перегонкой. Несколько лет назад я познакомился с мистером Шлитцем. Полагаю, молодой человек учился здесь в университете. Он признался мне, что ему не претит то, что именно его предки-пивовары прославили Милуоки; возражал он только против того, что совпадение названия пива и его имени «адски мешало»[289].
Большой Лос-Анджелес ныне занимает четыре тысячи квадратных миль; прежние дома из самана и дерева теперь растворились среди небоскребов, выстроенных по образцам гасиенд шестнадцатого столетия; сверкающая гипсовая отделка прикрыта огромными пальмами, привезенными из Африки и Австралии. Этот город – поистине Zukunft Kaiserstadt Imperye Yishov fun tsukunft![290] Город-император будущего. В сердце его история растворяется, преображается и меняется. Сердце Лос-Анджелеса – не в прохладном спокойствии двадцатипятиэтажного здания муниципалитета, роскошного строения из белого бетона, не на территории Янг-Ha, заставе карфагенских метисов, разрушенной во время междоусобных войн католических солдат-священников; не в смоляных ямах или обсерваториях, не в музеях и университетах; даже не в фантастических культах, которые превращают реальный мир в сферу, заполненную ртутью. Сердце Большого Лос-Анджелеса там, где Вайн-стрит пересекает Голливудский бульвар, в обычном скоплении бизнесцентров, магазинов и кинотеатров. В молодости я воображал, что этот перекресток и окружающее пространство заполняли римские центурионы, испанские религиозные процессии, караваны индийских слонов с огромными слоновьими седлами, над которыми развевались облака разноцветных шелков; армии норманнов и англосаксов, Екатерины Великой, Бисмарка и Наполеона; парижские толпы 1793 года и буйные казаки Стеньки Разина; королевская процессия первого императора династии Мин; ковбои и индейцы; космическая полиция… Недостаток достоверности – важнейшее свойство плавильного котла Америки. Это было смешение времен и культур. Миллионы образов напоминали бесчисленные грани какого-то сверкающего драгоценного камня. Желтые и красные вагоны приезжали и уезжали, исполненные поразительной самоуверенности; электрические и телефонные линии, опутавшие Голливуд, уже сплелись в сложные узоры. Бледные таитянские пальмы покачивались под дуновением легкого бриза вместе с кипарисами древней Иордании, дубами Англии и тополями Роны; все краски в туманных отсветах казались поблекшими. Это освещение придавало окружающим холмам волшебный вид, они как будто дрожали. Казалось, стоит нам переступить какую-то невидимую границу – и мы окажемся в другом месте и в другом времени, а Голливуд исчезнет: шепот в небесах, слабый аромат кофе, красок и свежей древесины. И прежде всего – свобода. Этот город – прекрасная модель моего flitshtot[291], моей надежды. Великому Лос-Анджелесу все пляжные городки казались веселыми акробатами, призванными развлекать повелителя; исключение составлял лишь Лонг-Бич, обидчивый трудолюбивый царедворец, вечно предсказывающий воображаемое будущее столицы.
Миссис Корнелиус, Мейбл, Этель, Гарри Хоуп и я (наш бруклинский индеец сгинул в каком-то безымянном заведении) теперь попали в мир движущихся насосов и грохочущих буровых установок, мир кружащихся каруселей, мир хулиганов и шумных толп; но нас все это не волновало. Нас окружали спокойные пейзажи, напоминавшие о детстве, и мы, как всегда, чувствовали, что вернулись домой. Теперь я старался не подводить миссис Корнелиус. Я выкладывался как мог. Ни один казацкий офицер никогда не говорил так яростно и взволнованно, сопровождая свою речь столь значительными жестами. Я кричал, обращаясь к невидимым большевистским ордам: «Назад, трусы! Богом, царем и Святой Русью клянусь, что отомщу некоторым из вас и отправлю вас на тот Последний суд, где вас будут судить и осудят за преступления те силы, которые превыше меня!» Потом меня спасала миссис Корнелиус, облаченная в тунику цвета хаки и колготки; после разговора со мной она понимала, что дело, которому она служит, – неправое, жестокое и губительное. Она чудесно подыгрывала мне, действуя отважно и решительно. Если бы Сесил Б. Демилль оказался в зале, то он, возможно, тотчас предложил бы нам контракты. Я по привычке огляделся, надеясь увидеть Джона Хевера на его обычном месте. Но Хевер покинул нас. Цветов за кулисы больше не приносили.
Тем вечером, перед нашим заключительным выходом, миссис Корнелиус находилась в приподнятом настроении. Она оценила мои старания. Она сказала, что я могу быть просто чудесным, когда захочу. Она надеялась, что я перестану выставлять себя дураком и, возможно, еще раз попытаю удачи в театрах на Восточном побережье. Мы могли начать в Атлантик-Сити. Я напомнил ей, что скоро могу сесть за стол инженера, но пообещал не покидать труппу без предупреждения. Мы услышали наше музыкальное вступление и, танцуя, выскочили на сцену, начиная первый номер – «Дьявол прибыл в Россию, и дьявол взмахнул флагом» под музыку «Попарно вошли звери»1. Мы вновь очаровали аудиторию. Мы знали, что находились, как говорится, на взлете. Только когда Этель на фортепьяно начала наигрывать финал, «Молот и Серп не смогут сокрушить и погубить наши сердца» на мотив «Маршем через Джорджию», я вновь огляделся в поисках Хевера, но вместо него увидел в дальней части зала пятерых клансменов в капюшонах. Во рту у меня сразу пересохло. Я с трудом прохрипел последние строки. Ноги задрожали, а в живот как будто воткнули нож. Миссис Корнелиус забеспокоилась.
– Ка’ого черта это значит? – прошептала она.
Когда зрители засвистели, затопали и зашумели, пять клансменов начали аплодировать. Они хлопали ритмично, чуть медленнее, чем прочие зрители; они продолжали аплодировать, понемногу наращивая скорость, пока один из них не поднял над головой сжатую в кулак руку. «Смерть троим! Смерть еврею, японцу и иезуиту! Смерть иноверцам!» Я решил, что они тотчас бросятся на сцену и попытаются схватить меня. Поначалу мне пришло в голову, что Каллахан меня предал. А теперь, если они не играли со мной в кошки-мышки, я склонен поверить, что видел истинных борцов, Klansmen Alte Kämpfer[292] [293], которые все еще цеплялись за идеалы Umzikhtbar Imperye[294]. Нас дважды вызывали на поклоны, чего прежде никогда не случалось. Мы кланялись и махали руками. С моего лица не сходила идиотская усмешка. Когда мы вышли в третий раз, рыцари ку-клукс-клана исчезли, и зрители покидали маленький зал.
– Надеюсь, эти ублюдки не часто та’ое устраиват. – Миссис Корнелиус отпустила мою руку. – Они могли разнести эт’ чертов сарай.
У меня были собственные причины желать, чтобы зрители поскорее убрались. В раздевалке миссис Корнелиус заставила меня выпить стакан отвратительного мексиканского бренди.
– Ты вспотел, как свиння! Ко’о напугался на сей раз? Этих тупых пидоров в ночных рубашках? ’росто детишки-переростки буянят. – Она засмеялась. – Ты ж не думал, шо это реальные призраки, а? – Миссис Корнелиус плеснула мне в стакан еще немного темно-коричневой жидкости.
Начав выпивать прямо в гримерке, мы быстро набрались, как в давние времена на «Рио-Крузе». Мы пели песни кокни, которые она по-настоящему любила и которые по большей части не пользовались популярностью в Америке. Она сказала, что «почти п’жалела», когда Ленин умер.
– Не дивлясь, шо он так быстро свалился. Он был просто одержим работой. – Миссис Корнелиус усмехнулась. – И со’сем не думал о людях. Надо признаться, и мой Леон совсем та’ой же, но, клянусь, он справится лучше, если ему дадут шанс. Хоть это ’ряд ли, ведь он же жид.
Ее пророчество оказалось удивительно верным. За десять лет Сталин убрал из своего правящего комитета всех евреев. Грузины всегда возвращаются к корням. Нас не удастся обмануть так легко, как этих московских интеллектуалов. Я напомнил миссис Корнелиус, что не испытываю ни малейшего сочувствия к большевикам. Все они просто злобные серийные убийцы. Одурманенные наркотиками безумцы. Она кивнула в знак согласия, как будто полагала это само собой разумеющимся:
– Да. – Она, казалось, ждала дальнейшего развития темы, но я уже сказал все, что следовало. – О да, они т’кие, – подтвердила она.
Миссис Корнелиус развалилась на крошечном туалетном столике, не сняв хаки и высокие сапоги, и начала ностальгически вспоминать о том, как мы впервые встретились в приемной одесского дантиста. Она прилично выпила и поэтому не смогла вспомнить, где мы столкнулись во второй раз. Я напомнил, что она была в Красной армии Троцкого. Она спасла мне жизнь в Киеве и посадила меня в поезд, который по стечению обстоятельств привез меня к Эсме. Она улыбнулась и коснулась пальцами моей щеки:
– Какая мы занятная парочка, а?
– Не очень, – сказал я.
Она расхохоталась.
Die Rosen wachsen nicht in den Himmel. Esmé, mayn fli umgenoyenist. Bu vest körnen. Hob nisht moyre. Vifl a zeyger fort op der shif keyn Nyu-York? Vifl is der zeyger? S’iz heys. ikh red nit keyn Yiddish! ikh red nit keyn Yiddish! Blaybn lebn… Mayn snop likht in beyn-hashmoshes… Es tut mir leyd. Esmé! Es tut mir leyd![295]
Nekhtn in ovnt…[296] На следующий день я снова играл превосходно. По крайней мере, в своих собственных глазах мы стали прекрасным сценическим дуэтом, романтической парой, подобия которой теперь можно часто увидеть на экране. Белый рыцарь и красная королева казались почти реальными. Иллюзия передалась и нашей аудитории – простые люди, что бы ни говорили циники, умеют ценить серьезные эмоциональные драмы, – и это также ослабило мою уже привычную тревогу, вызванную мыслями об Эсме. В результате я почти привязался к этой роли и с нетерпением ожидал наших шоу – ничего подобного прежде не случалось. Пришла телеграмма из Тиволи: название корабля не имеет значения. Самое главное – плата за проезд. Эсме любила меня и хотела увидеться вновь. Я уверен, что хочу нашей встречи? Ikh farshtey nit. Firt mikh tsu, ikh bet aykh, tsu di Heim. Khazart iber, zayt azoy gut[297]. Я не понимаю. Я ответил обратной почтой, что деньги вот-вот поступят, а я считаю часы, оставшиеся до нашей встречи.
Во время вечернего шоу я испугался, заметив Джона Хевера на его обычном месте у сцены; он едва не пускал слюни, охваченный безумной страстью к миссис Корнелиус. И все же я почувствовал некоторое облегчение, увидев его. Мы выступали просто прекрасно. У Хевера, должно быть, вздулись волдыри на ладонях – так сильно он хлопал. Он точно по часам подошел к служебному входу, где я вовремя преградил ему дорогу. Я, как обычно, взял дорогие красные и белые розы и визитную карточку цвета слоновой кости. Он был нетерпеливым, простодушным мальчиком; его страсть становилась все сильнее. Хевер обещал все что угодно за знакомство с моей партнершей. Она никогда не играла так блестяще. Она – английская Бернар. Она – само совершенство.
– Пожалуйста, поймите, сэр, что я никогда ничего подобного прежде не делал. Я не просто поклонник у служебного входа. Я влюблен, сэр. – И тут его осенило (довольно поздно, по-моему). – Боже мой! Вы ведь не ее муж?
Я провел большим пальцем по рельефной надписи на карточке.
– Миссис Корнелиус – вдова.
Она по этому поводу высказывалась несколько туманно.
Я вспомнил о том, сколько времени мы провели за разговорами о кино. Хевер продемонстрировал превосходное знание европейских фильмов. Теперь он с энтузиазмом и слезами в голосе рассуждал о том, что миссис Корнелиус суждено стать кинозвездой. Я сказал, что передам и пожелания, и розы. Он извинился, что пропустил наши предшествующие шоу.
– Я только что приобрел долю в кинобизнесе. Думаю, что могу быть вам полезен. Я могу предоставить всю студию в ваше распоряжение.
Как нелепо, что именно таким оказался «ангел», о появлении которого я молился всего несколько недель назад. А в целом Городе Ангелов ни одна проектная фирма не ответила на мои письма. Мне пришло на ум, что можно попросить взятку за то, чтобы провести его в гримерку миссис Корнелиус. Как еще (исключая воровство) я мог сдержать слово, данное Эсме? Но только дурак стал бы таскать с собой наличными сумму, которой хватило бы на билет первого класса из Европы. У меня сложилось впечатление, что мистер Хевер, как он ни был ослеплен страстью, прекрасно знал цену деньгам. Однако теперь я мог представить, как выживет миссис Корнелиус, оставшись одна, без моей поддержки. Я не знал, что собой представляет доля Хевера – акции какой-то никчемной местной компании или пятьдесят процентов «Фокс», – но постарался как можно вежливее выпроводить его. Я испытывал определенное сочувствие к человеку, охваченному навязчивой идеей. Я посоветовал ему зайти завтра после нашего дневного спектакля, к тому времени я надеялся получить какой-нибудь ответ. Он так униженно благодарил, что мне стало противно.
На сей раз я отдал его карточку миссис Корнелиус:
– Думаю, что завел полезное знакомство. Этот человек может помочь вам с работой в кино.
Она покачала головой:
– Никада про его не слышала. – К тому времени она уже держала в голове имена всех важных людей в Голливуде.
– Не надо недооценивать Хевера. Он только что вошел в бизнес. Я точно знаю, что он увлеченный человек. Во всяком случае, он может обеспечить хорошую подготовку шоу. Мы заработаем приличные деньги.
Она подмигнула мне:
– Тут шо-то для тьбя есь, Иван? – Она обдумала мои слова. – Но ты знашь мое правило: «Не продавай дешево то, шо тьбе нишо не стоит» и «Зря одежу не сымай».
Я обиделся.
– Я просто предлагаю встретиться с ним. Он очень приятный парень. Я не прошу вас заниматься проституцией!
– А ’от на свой счет я не очень уверена, – сказала она. – Эт’ запах денег творит со мной ’транные вещи.
Я решил, что смогу раздобыть денег, продав свои грузинские пистолеты. В конце концов, у меня не осталось больше ничего ценного, а нувориши Лос-Анджелеса, по слухам, платили просто огромные суммы за то, что теперь называлось подлинным антиквариатом. Я сказал об этом миссис Корнелиус. Она пожала плечами:
– Без толку. Ты ведь немного гордишься ими. Вроде талисманов, верно? Г’това поклясться, эти пист’леты ’рострелили немало еврейских задниц. А впрочем, делай как знашь.
Она не хотела мне помочь. Я придумал и другой вариант – отправиться в ссудную кассу и узнать, смогу ли я получить деньги под залог шоу. Никому об этом знать не стоило, но, согласно подписанному нами клочку бумаги, за свои пятьсот долларов я получал «исключительные права». Теперь я пребывал в ужасном состоянии – паника, гнев, разочарование и страдание смешались. Я мечтал о своей Эсме. Это было бы настоящим самоубийством – подвести ее и в результате потерять. Как будто убить ребенка. Wie heisst dieses Lied?[298]
Глава двадцать первая
Я играл все лучше, одновременно погружаясь в пучину скорби и отчаяния. В тот краткий период своей жизни я превосходил всяких там Бэрриморов. Еще немного – и мы бы сделали настоящую карьеру. Тем не менее меня очень радовало, что на наших шоу не появлялись поклонники из числа клансменов! Если бы хоть один человек меня узнал, мне не удалось бы избежать приглашения на «ночную скачку». Я видел, что случалось с предателями. Клансмены прибивали их яйца к дереву, зажигали внизу огонь и вручали нож, приказывая: «Режь или сгори!» Я сталкивался с подобными ужасами только на Украине, где такие же скоты заживо снимали с людей кожу и жарили младенцев на листах железа. Именно они и были охранниками в Освенциме. Есть такие украинцы, о существовании которых предпочитают не вспоминать.
В конце дня я, как обычно, увидел мистера Хевера – он дрожал и краснел, готовый провалиться на месте в ожидании ответа. Я сказал ему, что миссис Корнелиус не любит, когда нарушают ее уединение.
– Я понимаю, – сказал он несколько раз.
Отчасти из любопытства, отчасти потому, что мне все еще хотелось вытянуть из него немного денег на оплату билета для Эсме, я попытался разговорить Хевера. Много ли он путешествовал? Давно ли обитает в Калифорнии? Где он проживает постоянно? Что он думает о политической ситуации? Странно, что такой крупный человек оказался таким неловким. Преждевременно поседевшие волосы, тонкий голос, непреодолимое смущение – все в нем вызывало жалость. Хевер отказался от путешествий, предпочитая пользоваться телефоном. Он жил «на холмах», но каждый день садился в автобус и отправлялся на работу. Хевер был верным республиканцем, как и его отец. Он почти всю свою сознательную жизнь провел в этом штате и считал, что партия республиканцев больше других сделала для Калифорнии. Эти слова мне многое объяснили – особенно если вспомнить, чем интересовался Хевер всего пару лет назад. Мне показалось, что он тоже захотел окончательно освободиться от этого нового эрзац-клана, отринувшего былые идеалы ради блек-джека, побоищ и кнутов. Я разделял взгляды Хевера. Тем не менее я не мог выбросить из головы совершенно недостойную мысль: если он вспомнит о нашей встрече в Атланте, то смутится куда больше меня. Я сказал, что, прожив здесь так долго, человек неизбежно начинает испытывать интерес к кинобизнесу. Хевер пожал плечами, заметив, что фильмы – «в некотором роде хобби». Его работа не имела ничего общего с кино. Он был инженером. Я, разумеется, уже знал об этом.
– И в какой сфере? – Мне было любопытно, скажет ли он правду.
– Нефть, – ответил он.
– Вы работали в крупной компании?
– Пожалуй, да.
Ему не терпелось сменить тему и вернуться к разговору о миссис Корнелиус. Однако я внезапно превратился из ловца-любителя в настоящего игрока-профессионала. Передо мной стоял человек, который мог познакомить меня с большими шишками! Если действовать осторожно, я сумею помочь миссис Корнелиус и в то же время самому себе. Прискорбно, что я больше не мог намекать на связи клана – мы оба о них не упоминали. Я заметил, однако, что Хевер старательно избегал разговоров о политике. Меня это удивило. Я обдумывал, что делать дальше. Я с трудом сдерживался: мне очень хотелось прямо здесь открыть свою папку и сунуть бумаги ему под нос. Я хотел показать Хеверу чертежи. Я знал, на профессионального инженера произведет впечатление то, что многие любезно называли моей «гениальностью». Откуда ему было знать, что театральный актер окажется выдающимся ученым? Это просто бессмысленно. С какой стати ученый захочет вступить в труппу странствующих актеров? А с какой стати, подумал я, инженер-нефтяник будет тратить деньги на производство фильмов? Возможно, он меня поймет. Но при всем своем оптимизме я решил пока сохранить тайну. Вместо этого я спросил, могу ли я передать какое-то послание (вместе с отвратительным букетом из черных и красных гвоздик) прекрасной даме.
– Если она захочет исполнить мое главнейшее желание, – безнадежно пробормотал он, – то пусть примет приглашение поужинать сегодня в отеле «Голливуд».
Я попытался сохранить серьезный вид и заявил, что попробую сделать все возможное.
– Убедите ее, что мои намерения благородны! – Он с каждой секундой волновался все больше.
– Думаю, она в этом совершенно уверена, мистер Хевер.
Я отнес его цветы в комнату великой актрисы. Она заинтересовалась ими раньше, чем я успел что-то сказать.
– Ка’ого черта они п’красили их в та’ой цвет, Иван?
Я попросил ее внимательно выслушать меня. Хевер – состоятельный человек с превосходными связями в обществе, компаньон на киностудии.
– Я советую вам, ради нашей общей выгоды, принять его приглашение. Отель «Голливуд» – место, где обедают самые важные люди. Вы же читали журналы. Разве вам не интересно? Боже, мне жаль, что он любит не меня. Я ухватился бы за эту возможность!
Она рассмеялась, и ее гнев понемногу угас.
– Иван, я ’се еще думаю, шо ты ’родаешь мое тело, как малький сутенер.
– Он настаивал, что у него благородные намерения.
– Это не черт’в трах, Иван, – сказала она устало. – Я не могу вынести ’роклятой скуки. Х’рошо, я пойду. Это не нормально, Иван. Обычно, если я только п’думаю поужинать с ка’им‑то парнем, ты сразу корчишь свои треклятые рожи.
– Я думаю о вашей карьере.
Она вздохнула:
– Я чувствую, шо узнаю о твоих планах только тада, када он заг’врит! Тащи е’о и п’торопись.
Она чопорно расправила кимоно и розовыми пальцами пригладила кудряшки. Она уже подсознательно источала сексуальность такой силы, что я с трудом выбрался из комнаты; потом я закрыл дверь, расправил плечи и медленно направился к дневному свету и неопрятному существу с коровьими глазами, которое застыло у входа.
– Миссис Корнелиус передает вам наилучшие пожелания, – сказал я. – Она будет рада увидеться с вами через пять минут и договориться о сегодняшнем ужине.
Я почти втащил бедного монстра в комнату его обожаемой мадонны. Миссис Корнелиус с радостью позволила мне присутствовать при разговоре. Она явно сочла Хевера очаровательным, и почти все ее высокомерие исчезло к тому времени, когда она простилась с гостем. Моя подруга с нежной улыбкой сказала, что встретит его у выхода после нашего вечернего представления. Он покачнулся, едва не сломав дверь.
– Он милашка, – сказала миссис Корнелиус. – И шо ты хошь от м’ня се’одня вечером? Шобы я обчистила его карманы?
– Конечно, нет. Просто упомяните о том, что я – опытный инженер, что у меня есть патенты на несколько изобретений, которые могут сэкономить деньги в нефтяном бизнесе, что я получил образование в Санкт-Петербурге и работал в серьезных компаниях во Франции, Мемфисе…
Она приподняла пухлую руку.
– Притухни, Иван, бога ради. Я не упомню ’сю твою биографию. Думать, тьбе от это’о шо-то п’репадет, так?
– У него, судя по всему, есть связи с важными людьми в нефтяной отрасли. Мне нужна только рекомендация.
– Ты уверен в этом?
– Клянусь!
Она подняла брови:
– Оки-доки, если ты так г’воришь. Твои идеи обычно не так ’росты. Шо мы творим ради черт’вой любви!
В тот вечер на сцене я вновь старался изо всех сил. Миссис Корнелиус играла великолепно. Дружище сидел в кресле, извиваясь, дрожа от восторга, не в силах поверить, что его мечта вот-вот осуществится. Нас трижды вызывали на поклоны (на сей раз без помощи клана), и мы удалились в приподнятом настроении.
– Ты ’росто из кожи вон лез, Иван. Должна ’ризнать, я не думала, шо ты так смож. ’должение за ’должение, как я засе’да г’ворю.
Собираясь в ресторан, она постаралась одеться получше, даже достала одну из своих шляпок из зеленого и желтого атласа. Миссис Корнелиус облачилась в темно-синее платье, расшитое светлым бисером у горла, на плечах и на коленях. Желтые туфли прекрасно сочетались со шляпкой.
– Шо думать, Иван? – Миссис Корнелиус явно восхищалась собой. – Просто п’трясно, это я тьбе г’ворю! – Она глубоко вздохнула – так, что платье на груди едва не разорвалось. – Ну шо ж, за дело. Уви’имся позже, надесь.
Она положила руку на бедро, пародируя жесты современных манекенщиц, подхватила блестящую, синюю с черным сумочку и, пританцовывая, умчалась на свидание.
Как только она ушла, я начал волноваться. Я то и дело скрещивал пальцы, а потом разводил руками, потому что чувствовал себя очень глупо. Я думал, что сойду с ума, просто ожидая новостей; потом я направился в соседнюю комнату, где Мейбл и Этель поправляли чулки, и спросил, какие у них планы. «Ничего особого», – сказала Этель. Она толкнула в бок свою подругу. Раньше им всегда нравилась наша «возня». Хорошенько накрасившись и надев туфли на высоких каблуках, эти тощие девчонки становились почти привлекательными. Я подхватил их под руки и повел по дощатому настилу через ярко освещенную ярмарочную площадь. Море было черным и спокойным. Я услышал ровный гул нефтяных насосов и подумал о том, сколько влюбленных прячется под покровом шума и темноты. Хантингтон-Бич был просто великолепен; жизнь здесь кипела. Огромные грубо нарисованные головы взлетали над балаганами, откуда доносились треск, гром или звон крошечных колокольчиков. Зазывалы что-то вопили на своем языке, более древнем, чем язык цыган, и танцовщицы, еще менее привлекательные, чем мои спутницы, извивались и трясли своими ничтожными выпуклостями под звуки какого-то fartsayrik цилиндра Эдисона. Запах нефти доносился с пляжа и смешивался с вонью бензина на территории ярмарки, с запахами гамбургеров и хот-догов, глазированных яблок, розовой сахарной ваты и сахарных палочек. Земля кое-где была покрыта неровными дощатыми настилами; там, где становилось слишком грязно, она превращалась в настоящий музей калифорнийского мусора – яркие краски бутылок, коробок и бумажных пакетов уже начинали тускнеть.
Мои партнерши по сцене снимали комнату вместе с миссис Корнелиус. Я решил, что будет неблагоразумно идти туда, – вдруг свидание закончится преждевременно. Я отвел их в свою комнату, которую снимал в доме неподалеку от ярмарки. Казалось, мы никуда не уходили. Огни вспыхивали и мигали, автоматически повторялась мелодия вальса, будто доносившаяся из другого, более галантного века, и худощавое, почти бесполое тело Этель поднималось и опускалось на моем по ошибке обрезанном члене, а в это время Мейбл (что было для нее необычно) присела надо мной, а потом, чуть слышно застонав, прижала взмокшую киску к моим губам. Я старался как мог, а потом почувствовал, что задыхаюсь, Я не забыл Эсме. Я представлял ее нежное, невинное личико как раз тогда, когда Мейбл устраивалась у меня на плечах. Удивительно, как сильно Эсме походила на Лилиан Гиш. Она без всякого труда добилась бы успеха в кино, стоило ей только захотеть. Я уже начал надеяться, что смогу открыть сразу двух замечательных новых звезд. Я хотел остаться актером, искушение было очень сильным, но я больше не мог противиться своей судьбе. Я мог предложить миру другие дары: Luftshif1, лодки, технику. В конечном счете они пробудили мечту о безграничной свободе, о моих воздушных городах. Eybik, fargesn, ikh blaybn lebn [299] [300].
Я проводил дам в их пансион, расположенный в нескольких кварталах от моего. Они приготовили мне кофе и начали болтать о просмотренных фильмах, знакомых мужчинах и занятных рекламных объявлениях. В три часа утра они вместе улеглись и заснули. Миссис Корнелиус, вернувшись, слегка удивилась, когда увидела меня в комнате. Она вздрогнула и громко икнула.
– Прости, Иван. А ка’ого черта ты делашь в моей комнате?
– Я хотел услышать, как все прошло.
– Ты мне не бабуля. – Она нахмурилась. – Я п’ка не на твоих условиях работаю. – Потом она усмехнулась и сняла шляпку. – Он милашка, взаправду. Мягкий как масло, да! Не коснулся м’ня и пальцем, как он казал. – На нее это произвело впечатление. – И он устроил просмотр со своими партнерами по «Ласки». Я не жалусь. Но эт отель ’се-таки сарай. Я думала, бу’ет шо-то повеселее. П’веришь ли, ника’ой черт’вой выпивки. Женщина, к’торая там заправлят, – бывшая бандерша, я уверена.
Я был по-настоящему рад за нее, но следовало выяснить, как решилось мое дело.
– Вы смогли замолвить слово о моих изобретениях?
Миссис Корнелиус села на свою узкую кровать и начала аккуратно снимать тонкие шелковые чулки. Она стала пунцовой. Кровать дрожала и скрипела. Миссис Корнелиус чуть слышно рассмеялась:
– Тьбя можно читать как черт’ву книгу, Иван. Честное слово, я не могла настаивать! Если тьбе нужен инж’нер, у к’торого есть свободная наличка, то это Джон Эварт Хевер-младший. Он не просто черт’в миллионер, у к’тороо нефтяные вышки по ’сей К’лифорнии и Тьхасу. Его черт’в папаша тоже миллионер. А вдобавок есть Джон Эварт Хевер-старший, клятый дядя-миллионер. Када они хотят заняться благотворительностью, то садятся в большой «роллс-ройс», валят к Уильяму Рэндолфу Херсту и смо’рят, как жи’ут бедняки. – Миссис Корнелиус просто наслаждалась моим удивлением. Она погладила меня по руке. – Не буду г’ворить, шо не благодарна тьбе за знакомство, Иван. Дружище считат, шо он главный кандидат от республиканцев на место губернатора, на следующих выборах точно, ’редставь, шо я буду первой леди штата! – Миссис Корнелиус больше не смогла сдерживать смех и разбудила своих соседок, которые потребовали, чтобы она заткнулась.
– Но вы не упоминали обо мне?
– Завтра мы опять обедам. В ка’ом‑то месте у Лагуна-Бич, кажись. Рыбный рест’ран. ’се по-х’рошему, а? – Она снова подмигнула. – Мне же надо было оценить активы, как г’ворится. Но я ’се сделаю завтра вечером, Иван, обещаю. В эт раз просто нишо б не вышло. П’ка, д’рогуша. Уви’имся на шоу. Мне ж надо как следут выспаться, верно?
И, пропев пару строк из «Разобьем их на Олд-Кент-роуд», она указала мне на дверь. Я ушел с чувством, что миссис Корнелиус не вполне осознает всю серьезность ситуации, в которой я оказался. Меня обрадовало, что у нее все складывается хорошо и что состояние Хевера так велико, но по некоторым причинам моя паника усилилась. Возможно, я заподозрил, что она может предать меня (мне не следовало даже думать об этом!) и не захочет ни с кем делить деньги Хевера. Подобно индейцу, который выследил последнего буйвола и отказывался рассказывать об этом соплеменникам. Хевер принадлежал мне точно так же, как и миссис К.
Вот почему следующим утром я сел в большой вагон «Ред кар», который с грохотом помчался по прибрежной дороге к Марина-дель-Рей. Неподалеку от большого крытого павильона «Венеция» я пересел в желтый автобус, едущий в сторону от побережья. Эта система общественного транспорта казалась мне замечательной, она могла бы стать образцом для большинства других городов. Хантингтонские вагоны строились в Сент-Луисе, проект был просто великолепен, а сами машины сделаны на века. Их назвали в честь владельцев линии, старинной богатой семьи, поселившейся в Калифорнии еще во время правления испанских донов. Я видел едва ли не последний рейс большого серебристо-серого «Похоронного вагона», последнего в своем роде[301]. Не способные конкурировать с быстро умножающимися автомобилями, они исчезли буквально в течение года.
Разыскать «Юго-Западную минеральную компанию» оказалось несложно. Она занимала целое здание на бульваре Уилшир. В нем было около двадцати этажей, и оно стояло посреди небольшого парка. Я назвал свое имя клерку у внушительной стойки администратора, занимавшей почти весь первый этаж. На клерка произвело немалое впечатление то, что меня пригласили прямо наверх. Симпатичная секретарша встретила меня у лифта и повела по прохладным серым коридорам, уставленным горшками с пальмами и папоротниками. Наконец мы добрались до распахнутой настежь массивной двери. В кабинете сидел сам Дружище, как всегда неопрятный, в светлом костюме. Хевер едва не сдавил меня в объятиях – как будто слоненок поднялся на задние ноги, подражая человеку.
– Счастлив вас видеть, Палленберг. – Даже в привычном окружении он волновался и говорил, запинаясь и сопровождая речь неловкими движениями. – Ничего дурного не случилось, надеюсь?
Он был бледен как мел, когда неуклюже вел меня мимо роскошной мебели красного дерева к своему старинному столу. Из окна открывался вид на морское побережье. Отсюда город казался каким-то странным, незавершенным, как мозаика: неровные участки зелени, резкие асимметричные пятна грязи и аккуратные квадраты сияющего бетона. Как будто в этой части Лос-Анджелеса продолжались некие органические изменения. Хевер повернулся к окну спиной, одним коротким неверным жестом предложив мне стул, сигару и шипучку. Я опустился в глубокое кожаное кресло и встретился взглядом с взволнованным хозяином кабинета.
– Вы принесли сообщение от миссис Корнелиус, верно?
Я пожал плечами, улыбнулся и покачал головой:
– Она сказала, что все прошло чудесно. Она с нетерпением ждет сегодняшнего вечера. Лагуна-Бич? Я сомневаюсь, что вам теперь понадобится мое посредничество, мистер Хевер. Миссис Корнелиус – самостоятельная женщина.
Он повернул голову набок – похоже, так выражалось одобрение и согласие.
– Самостоятельная. – Хевер просиял. Он перешел к любимой теме: – Женщина, наделенная множеством чудесных дарований. – Хозяин кабинета радовался, как маленький щенок. – Я думал, вы пришли сюда сообщить, что я провалил вступительные экзамены. Она не самодовольная дура, эта девушка. Прямо вам скажу, Палленберг, я не очень-то хорошо умею ладить с дамами.
Он вздохнул и расслабился: похоже, Хевер считал, что только что сделал смелое признание. Он развалился в кресле и явно ждал моего ответа. Я встречался с подобными личностями и прежде, но он был первым миллионером, попавшимся на моем пути. Хевер совершенно не соответствовал моим ожиданиям – я считал, что человек, управляющий тысячами судеб, должен выглядеть и действовать совершенно иначе. Думаю, никому не следовало говорить ему, какой властью он наделен: он просто окаменел бы от ужаса, пытаясь понять, чего от него ожидает такое множество людей. Хеверу нелегко было управиться и с одним собеседником. Переходя к цели визита, я чувствовал себя настоящим убийцей, и все же решил продолжить разговор – ради Эсме.
– По правде сказать, мистер Хевер, мы с вами уже встречались. – Я замялся. – Мы тогда говорили немного об инженерии будущего, но главным образом о нашем общем интересе к кинематографу. Я помню, что вы называли некоторых немцев. Пабста? Мурнау?
Он впился в меня взглядом; ужас был просто нескрываемым.
– В Кланкресте. В Атланте, мистер Хевер. На вечеринке у Эдди Кларка пару лет назад. Вы сказали мне, что сделали большое пожертвование на нужды клана.
Внезапно его массивное тело подлетело, как обезумевший воздушный шар. Прикрыв голову рукой, он с ужасом уставился на меня. Бледность быстро сменилась густым румянцем. Потом Хевер сделал очень глубокий вдох и вцепился в край стола.
– Миссис Корнелиус знает об этом?
– С чего бы?
– Так она… – не проговорил, а скорее простонал Дружище. Очевидно, он подумал о том, что любовь всей его жизни пошла на свидание только для того, чтобы помочь мне. Еще один глубокий вдох. Он начал бесцельно ходить по ковру – как будто слон в поисках слоновьего кладбища.
Я быстро заговорил, не отрывая от него взгляда:
– Мистер Хевер, сэр. Думаю, что у вас сложилось ошибочное представление…
– Вы ведь не шантажируете меня, Палленберг… О боже. – Он словно поднялся на небеса и обнаружил, что там уже поселился дьявол. Я хотел пожать ему руку и заверить, что его счастью ничто не угрожает. – Дружба миссис Корнелиус очень много для меня значит. Вы не знаете, что мне пришлось пережить… – Он снова извинялся за то, что говорит о себе.
Я был оскорблен.
– Не стану отрицать, что мое финансовое положение весьма печально, мистер Хевер. Но, – я продемонстрировал хорошее знание местного сленга, – ад замерзнет прежде, чем я попытаюсь занять денег у друга. Пожалуйста, расслабьтесь.
Я знал, насколько он возбужден. Он все еще не мог поверить в свою удачу. Он родился миллионером и не видел в жизни ничего, кроме хорошего, – и все же боялся, что у него украдут счастье, точно так же, как ребенок из трущоб Киева, который знал по собственному опыту, что нет ничего важнее счастливого случая. Хевер почти поверил, что его мечта рухнула. Я продолжал:
– Все, что я говорю в этой комнате, останется между нами и никогда не дойдет до миссис Корнелиус. Какие бы ни были у вас отношения – я не стану их разрушать.
Хевер посмотрел на меня с тем же самым выражением благодарности, которое появилось на его лице, когда я впервые пообещал ему встречу с обожаемым идолом. Но он недоумевал:
– Тогда зачем вы здесь?
Дружище только начал любовную игру и теперь не замечал всего остального мира и его обитателей.
– Думаю, вам следует знать, что Министерство юстиции заморозило мои активы на неопределенный срок. Если кого-то и шантажируют, то именно меня. Я – их главный свидетель в деле против клана, который может разоблачить почти всех тайных сторонников ордена в стране. И я не преувеличиваю.
– Вы знаете, что я ожидаю назначения на губернаторский пост в следующем году? – Хевер прищурился, как будто изучая неясное будущее.
– Да. Я просто хотел, чтобы вы не теряли уверенности. Я не сдамся, в каком бы отчаянном положении ни оказался. Но это – крушение моей карьеры.
– Вы блестящий актер, мистер Палленберг.
Я горько рассмеялся, взял свою шляпу и встал.
– Это ирония судьбы, мистер Хевер. Это все, что мне остается в настоящее время. Если вы помните нашу беседу в Кланкресте, я прежде всего ученый. Я рассказывал вам о некоторых своих идеях. Вы говорили, что они произвели на вас впечатление.
На мгновение он вспомнил о том мире, который существовал до встречи с миссис Корнелиус.
– Какой же я дурак! Конечно! Вы были тем молодцом, который предложил накрыть крышей всю Айову! Извините меня, мистер Палленберг. Я сегодня как в тумане. – Улыбка на его лице появлялась и исчезала. Он протопал по комнате и во второй раз пожал мне руку. – У вас были и другие идеи. Я помню, что посчитал вас единственным умным человеком на том унылом сборище. Как же вы стали актером? Я думал, что вы теперь большой человек в ку-клукс-клане. Даже не говорите! Мне очень стыдно. Они меня водили за нос несколько месяцев. Жаль, что я не смог вернуть свои деньги. Вы пришли предупредить меня, верно?
– Боюсь, мы с вами в одной лодке. – Я рассказал ему часть своей истории. Он слушал с серьезным и тупым сочувствием. – Вот так, – закончил я, – отличный ученый стал третьесортным актером. Что бы ни случилось, мистер Хевер, вашего имени я никогда не назову.
Жирная нижняя губа Хевера дрогнула. Он испытывал приступ сентиментальности. Дружище сказал, что я настоящий человек. Какую помощь он мог мне оказать? Какие эксперименты я проводил, когда клан меня похитил? Я рассказал ему о своем газовом автомобиле, новом методе очистки нефти и всасывающем насосе. Он выразил восторг. Я показал немного грубых набросков, которые принес с собой, и объяснил, что был вынужден сменить имя. Все патенты были выписаны на имя Пятницкого. Он изучил их, время от времени вежливо кивая и задавая вопросы. Я поздравил себя: мы достигли взаимопонимания.
Прежде чем покинуть офис Хевера, я услышал очень много громких слов о достоинствах миссис Корнелиус, о его собственных недостатках и о моей гениальности; в итоге он смог меня поддержать. Я получил проект контракта с инженерной компанией «Золотой штат» (подразделением империи Хевера) и кассовый чек на две тысячи пятьсот долларов, мой аванс от первого гонорара в десять тысяч долларов. Я потребовал зарплату двести долларов в неделю. Моя должность, главный инженер-экспериментатор, была обозначена в контракте. Когда мои изобретения начнут приносить доход, я получу пятьдесят процентов чистой прибыли. Жизнь начиналась снова. Эсме вот-вот приедет!
Ich kann ohne dich nicht leben. Я не сделал ничего дурного! Все было ради общей выгоды. Du wirst mich minieren, mein Schatz, meine Geliebte. Я не мог ничего поделать. Es ist zu spät. Ich kenne mein Schicksal. Zu spät für den Seelenfrieden! Wir kämpfen nur, um ein gewisses Gleichgewicht aufrechzuerhalten[302]. Я, подобно изобретателю эпохи Возрождения, нашел могущественного покровителя, вот и все.
Миссис Корнелиус скоро стала постоянной спутницей Хевера. На страницах, посвященных светской жизни, печатали ее фотографии и называли английской красавицей и дочерью крупного банкира. В ближайшие две недели мы подписали документы, передав права на «Англичан в свете рампы» Этель, Мейбл и Гарольду Хоупу вместе со всем реквизитом, фургоном и достаточной суммой денег, чтобы девочки могли вернуться в Англию, если пожелают. У них теперь были настоящие визы. Обе сказали, что хотят остаться в Калифорнии. Мейбл заявила: если миссис Корнелиус сделала это, то и у нее есть шанс, «пусть даже удастся отыскать только богатого киномеханика!» Миссис Корнелиус готовилась к первым кинопробам на студии «Ласки»; фильм назывался «Сельма и виноград». Моя подруга шепнула мне, что Дружище – самый милый миллионер из всех, каких она видела, и настоящий джентльмен. Она поблагодарила меня за настойчивость, которую я проявил, когда зашла речь о первом свидании.
– Ты для ’сех нас сделал тогда много х’рошего, Иван!
Она даже простила мне то, что я сговаривался с Хевером за ее спиной. (Она просто не понимала, насколько должна быть мне благодарна!) Миссис Корнелиус, по ее словам, удивилась, когда Хевер поддержал мой план. Обычно он вел дела медлительно и осторожно.
Я бывал у нее в номере в отеле «Беверли-Хиллз». Иногда я катал свою подругу на машине по прекрасным лесистым дорогам близ отеля. У меня появился вполне приличный зеленый с золотом «пежо‑163». Эту роскошную «торпеду» мне предоставили, когда я подписал свой последний контракт. Мне нравилась роскошь псевдоиспанского дворца, в котором поселилась миссис Корнелиус, я парил среди розовых и бледносиних облаков, как будто заполнявших огромные комнаты. Облаченный в новую одежду (джодпуры[303], сапоги для верховой езды и аскотский галстук – так одевались почти все автомобилисты), я валялся на диванах в отеле; я проводил у своей подруги немало времени. Мой собственный уютный домик располагался в приморском пригороде Венеция, поблизости от Гранд-канала. Я просто наслаждался голливудской экстравагантностью. Где еще можно было отыскать такую копию европейского города, в которой причудливое сочетание дерева и кирпича заменяло камни оригинала? Голливуд уже тогда начал влиять на всю Южную Калифорнию. Он стал духовным и культурным центром Лос-Анджелеса. На многие мили вокруг вырастали целые городки, которые никогда не появились бы, если б не фантазии и таланты киношных декораторов. В тех местах дожди шли редко, и продуманные архитектурные фантазии можно было создавать дешево и быстро. В Голливуде все могли подражать богачам. Голливуд построил первую в мире истинную демократию. Мы с миссис Корнелиус – по разным причинам – испытывали настоящий восторг.
Утром я купил билет Эсме, а потом позвонил госпоже Корнелиус, чтобы сообщить ей новости. Она посоветовала не пересылать Эсме наличные. Ведь деньги могли снова украсть. И я послал своей девушке не подлежащий возврату билет первого класса на «Икозиум», который отплывал из Генуи 21 июля.
– Заказное письмо с уведомлением, – сказал я. – Оплачено наличными. Как прекрасно, что у меня снова есть деньги!
– Ты мерзкий мелкий педик, – нежно сказала миссис Корнелиус. Она примеряла обновки перед огромным, во всю стену, зеркалом. – Я думаю, шо мы – птицы невысокой п’лета, я и ты, Иван, ’от п’чему ’сегда бу’ет ошибкой сам знашь шо.
Я улыбнулся, не вполне соглашаясь с ней.
– Мы бы ’десь не оказались, – заметила она, – если б слишком далеко зашли. – Она поправила длинный шарф, обмотанный вокруг талии. Шарф был алым, а атласное нижнее белье – бледно-зеленым. – ’от п’чему ты так волно’вался весь день. – Она поцеловала меня в лоб, потянувшись за головным убором из ярко-синих страусиных перьев, лежавшим у меня за спиной. – Ах, х’рошо. Кто-то ж должен помочь тьбе ’се это потратить, а? – За время интрижки с Хевером она стала терпимее относиться к тому, что по-прежнему называла «моим безумным увлечением».
Это правда, я дрожал от волнения. К концу следующего месяца я после всех этих скорбных лет должен был воссоединиться с моей любимой Эсме. Все мое тело трепетало и изнывало в ожидании нашей встречи. Экстаз превосходил все прочие ощущения. Думаю, я переживал это так сильно, потому что чувствовал одновременно уверенность, легкость и безопасность. Wann sehe ich Sie wider? Ich habe lange geschlafen. Die Zeit vergeht. Sie hat ihr Tat selbst zu verantworten. Прошло три года. Seit 1921. Wo sind wir? Drei jahre! Ich habe geschlafen. Der Traum is eybik. Der Traum wird morgen nicht kommen. Hat sie mein Trait im missdeutet? Mit Esmé ich…[304]
Каждый день я посещал свою новую штаб-квартиру, свою небольшую фабрику. По предложению Хевера мы купили мастерские обанкротившейся фирмы – ее владельцы собирались построить систему фуникулеров, которая должна была связать разные холмы Лос-Анджелеса. Среди доков на Лонг-Бич располагались конторы нескольких небольших проектных фирм. Днем там визжали пилы и грохотали заклепки, гудели печи и били молотки – как будто в пещере гномов. Из этого района открывался прекрасный вид на гавань. Мрачные военные корабли, которые стояли там в течение многих недель, очевидно, покинутые командами, за исключением горстки дежурных, внезапно снимались с якорей и уходили. Я наблюдал, как прилетают и улетают гидропланы. Некоторые прототипы «Кертисса» уже были закончены. Я решил, что со временем смогу консультировать Кертисса и его людей. Удивительно, сколько моих предложений они приняли, сколько моих изобретений использовали в производстве. Естественно, я так и не получил ни денег, ни благодарности. Я не волновался о таких вещах. Я просто наблюдал, как поплавки гидросамолетов касались поверхности воды, как появлялись над горизонтом крылья, как вертелись винты и взлетали прекрасные маленькие аппараты.
У меня было очень много работы с нашим переделанным «бьюиком турером». В основном мои обязанности заключались в наблюдении за механиками. Мы наняли трех прекрасных специалистов и одного подсобного рабочего. Заменив бензобаки на баллоны со сжатым газом, мы проводили эксперименты, подавая газ к двигателю. Я изучил несколько типов паровых машин, включая превосходную модель «Стэнли», снятую с производства в 1920 году. Все, что мы узнали, следовало применить к нашему опытному образцу. Мне повезло – меня окружали молодые энтузиасты, братья по духу, поклявшиеся хранить тайну. Иногда, когда решались особенно сложные проблемы, мы все трудились ночи напролет. Мне следовало благодарить за помощь все тот же живительный порошок. При таком заработке я мог позволить себе все необходимое. Es ken nisht shatn[305]. Постепенно газовый автомобиль обретал форму. Я по-прежнему с нетерпением ожидал того дня, когда изящные ноги Эсме коснутся земли Америки.
У меня не было фотографий моей маленькой девочки, приходилось довольствоваться множеством изображений Лилиан (а иногда Дороти) Гиш. Они были куда очаровательнее Клары Боу или Глории Свенсон. Всего через несколько лет мы потеряли «Сердце нации», а взамен получили «Самую горячую джазовую крошку в городе». Я молился, чтобы моя little shvester, mayn meydl, mayn metsie, не огрубела и не изменилась под влиянием тяжелых жизненных обстоятельств. Судя по ее письмам, она осталась той же самой восхитительной Mädchen из моих грез, моей неизменной доченькой; милой хозяйкой моего mazl[306]. И все же она слишком долго прожила в сени Ватикана. Мне известны уловки иезуитов. Они могут протащить грех в рай, если Г. Дж. Уэллс расскажет им, как построить его zeygermashin[307]. Помоги нам Бог, если они станут инженерами. Тогда мы увидим их zindmashin![308] Возможно, Эсме стала циничной. А как могло быть иначе – она ведь так долго копила деньги, а потом их украли, в тот самый момент, когда они были нужнее всего? Мне знакомы подобные чувства. И все-таки я боролся с цинизмом, сохранял свой идеализм, несмотря ни на что. Я был уверен, что моя сестра, мое альтер эго, столь же успешно отстояла свою невинность. Скоро мы будем вместе, мы сможем продолжить наш zukhn[309], этот священный поиск чистоты, которую мы знали в Киеве, спокойствия, которое некогда заполняло наши сердца, zilber[310] ясной мысли. Iber morgn du vest kumen[311]. Я верил, но, как говорится, вера моя не была тверда. Я тосковал, я ждал доказательств. Здесь прошли золотые годы моей жизни – здесь, в Калифорнии. Я, всегда любивший серебро, понял ценность золота. В солнечном свете есть чистота, о которой я не догадывался, пока не приехал в Лос-Анджелес. Я знаю, что Карфаген боится серебра и полагается на золото, но не хочу осуждать сам металл. Я мечтал о нашем соединении: чистота моего интеллекта сольется с чистотой ее плоти. Я старательно считал дни.
Когда я счастлив, мне всегда работается легко. Пришлось слегка надавить на Хевера, но это было вполне оправданно. Проект оказался превосходным. Двигатель показывал недурные результаты. Он мог увеличить и без того чудовищное состояние Хевера, подтвердив правоту принятого решения. Дружище и миссис Корнелиус иногда посещали мастерскую, но они были настолько заняты друг другом, что практически не воспринимали моих описаний. Это меня не беспокоило. Я предпочитал работать, когда у меня над душой никто не стоял. Миссис Корнелиус никогда не узнала, что я помог склонить чашу весов в ее пользу; я получил от Хевера надежные гарантии, а не просто положился на мимолетное безумное увлечение. Она вот-вот должна была стать кинозвездой. Мне не в чем себя винить. Wer hat gewennen? Das Spiel war unent schieden[312]. Все были довольны.
Und nun ist der Traum Wirklichkeit. Es ist höchste Zeit, dass ich auf main Schiff zurükhehre. Karthago wird von einem glühenden Hass auf die Weissen verzehrt, die er als Wurzel alien Übels in der Welt betrachtet, – obwohl ich andereseits wieder gehört habe, dass sinige weisse Wissenschaftler in seinen Diensten stehen. Seine Mittel wachsen folglich ständig. Gelt…[313] Золотые купола возносятся над Атлантой, над Одессой, над Спартой. Эти купола возвышаются в Джексоне и Джубиле; медные и оловянные, как в Киеве, они растут в Санкт-Петербурге, штат Флорида, и в крупных городах Алабамы, среди красного кирпича; они выше купола Христа Спасителя, но это купола не Чести и Закона, а всего лишь демократии. Часы бьют, солнечный шар слепит; красно-бело-синий флаг развевается на блестящем столбе; мне кажется, на этом месте должно быть русское распятие. И эти сапфировые небеса – неужто они никогда не станут серебряными? Аллигаторы в Аркадии валяются в грязи в металлических резервуарах. Их тяжелые челюсти с треском сжимаются, блестят неровные зубы; они валятся друг на друга, они забывают о смерти – ведь они прожили так долго. Маленькие сородичи атлантических чудовищ, слепые воплощения будущего Карфагена; теперь из них сделают сумочки для домохозяек из Беверли-Хиллз, ботинки для поющих ковбоев и пояса для дантистов-миллионеров. Еврей в Аркадии был добр. Wir steigen unter leichtem Schaukeln vom Bodenauf, wobei der Motor sin kaum varnehmbares Schnurren von sich gab[314]. Я прибыл в Аркадию, не подозревая о существовании тех древних монстров. Они не знали, что созданы ради прибыли. Еврей дал мне тепло и дал мне пищу. Своими руками он кормил меня; своими сухими губами он даровал мне пророчество. Возможно, я ошибся, когда поверил ему. Der blut, der toyt, der kamf, der blitz, der synemmen, der oyfgeheybung![315]
Der oyfegebrakhtkayt! Ich haben das Opferbereit, meine Glaube, meine Schöpferdrang, meine Arbeit, mein Genie, meine Jugden, mein Kamerad, mein Kampf, meine Mission, mein Engel, mein Schicksal. Я силен в этом. Karthago nicht viel von der Art der Leute wusste. Das Geheimnis seiner Kraft? Der shtof![316] Когда они забрали его у меня, я ненадолго ослабел. Но есть такая вещь, как возрождение. Вот чего они не понимают. Еврей обещал мне спасение, у него были добрые глаза. В этой иной Аркадии я слышу вялый стук насосов, слышу, как скребут когти по стальному полу. Эти аллигаторы… От них пахнет злом древнего Карфагена. Я заглядываю по ту сторону забора – и они усмехаются вслед, разевая пасти. Он был нежен. Самый лучший из евреев. Der shtof никогда не был der Mayster. Ikh bin abn meditsin-mayster[317]. Он сказал, что собирался найти работу в одесской газете. Он готовился принять большевиков, когда они придут. Возможно, он уже был одним из них. Я сел в трамвай, следовавший вдоль побережья. Я больше никогда его не видел.
Der Engelsfestung eybik iz. Ikh bin dorshtik. Ikh bin hungerik. Vos iz dos? La Cite de…[318] Город Ангелов вечен; он должен стать новой Византией. Она поглотит и извергнет Карфаген, изгнав все, что ей не нужно. Святой лес – место, где Парсифаль обнаружил чашу Грааля. Здесь все должны обрести спасение, здесь, на последнем берегу. Мы странствовали так долго. Карфаген не сможет победить здесь, хотя его угроза сохранится всегда. По крайней мере, я в это верил. Может, я стал слишком самонадеянным и ленивым под добрым южным калифорнийским солнцем. Говорят, такое со многими случается. Возможно, меня обольстили здешняя роскошь, шарм, аристократичность. Сомнений не было – я блаженствовал.
Моя машина строилась так стремительно, что вскоре у меня появилось свободное время, и я зачастую проводил его с друзьями, посещая дома их знакомых. По большей части эти N’divim, эти новые принцы, были наделены изяществом и остроумием, которых обычно недоставало их европейским коллегам. Их мир постоянно расширялся и менялся – с помощью искусства, промышленности и интеллекта. Они имели все основания держаться с достоинством, строить дворцы среди покрытых лесами холмов и чувствовать свою принадлежность к высшему сословию. Им не нравилась никчемная мораль, которая служит буржуа оправданием его недостатков. И все-таки они никогда не порицали своих европейских предшественников и не смеялись над ними. Конечно, они взяли у европейцев так много, что иногда казалось: в Старом Свете ничего не осталось, все увезли в Новый Свет и собрали здесь. Гобелены эпохи Возрождения, столы времен Иакова I и люстры Людовика – все подлинные. В домах, которые я посещал, было очень много таких вещей. Но почти в каждом большом особняке можно было отыскать и сугубо американские детали.
В середине июля 1924 года я навестил мистера и миссис Том Микс[319]. Французская мебель и средневековые доспехи, шотландские щиты и старинные палаши соседствовали в их особняке с индейскими головными уборами, коллекцией обитых серебром седел и другими сувенирами с Дикого Запада. Это была гостеприимная и скромная пара. Миссис Микс очень тепло встретила меня. Она сказала, что я вылитый Валентино. Конечно, я немного напоминал этого актера – прежде всего цветом глаз и кожи, – но я решительно заявил, что в моих жилах нет ни капли итальянской крови.
Джон Хевер предпочитал общество людей кино (полагаю, что он навсегда сохранил любовь к большому экрану) и часто приглашал меня куда-нибудь на обед или на уик-энд. Думаю, у него были особые причины так действовать: Хевер хотел доказать даже этому спокойному миру, что его отношения с миссис Корнелиус исключительно платонические. Я играл роль дуэньи (хотя, разумеется, стал жертвой обычных отвратительных сплетен). Именно так мне наконец удалось проникнуть в Пикфэр[320]. Этот особняк стал непретенциозным воплощением хорошего вкуса, созданным под влиянием псевдотюдоровского стиля, столь популярного в Англии, – его не называли дворцом, его богатство не нуждалось в рекламе. Здесь были отдельные элементы швейцарского шале, кое-где виднелись следы испанской архитектуры, но в основном Пикфэйр, со всеми пятнадцатью акрами благоустроенной территории, напоминал идеальную английскую усадьбу, даже огромный бассейн не казался чрезмерным. За обедом я разговорился с очаровательным атлетом, который не вспомнил о нашей прошлой встрече. Дагги оказался прекрасным хозяином. Узнав о моем интересе к океанским лайнерам, он достал семейный фотоальбом. Больше всего ему запомнилась поездка на «Лапландии» с Мэри: «Потому что это был наш медовый месяц». Тогда он как раз заканчивал работу над «Багдадским вором» – возможно, самым экзотическим его фильмом. В доме висело множество эскизов. Минареты, купола и зубчатые стены напомнили мне о Константинополе. Здесь воплотилась Азия – такая, какой она должна быть. Фэрбенкс никогда не считал денег, строя декорации. Он создавал большие и маленькие города, замки и горы в натуральную величину. Вот что убеждало зрителей в реальности историй. Мэри Пикфорд тогда рассталась с детством и попыталась стать более модной «джазовой деткой», сыграв Дороти Вернон из Хэддон-холла. Я видел ее «Розиту» и был глубоко разочарован. От имени всех поклонников я попросил ее вернуться к более невинным ролям. Мэри очень вежливо начала объяснять, чего пыталась добиться, но тут нас прервал ее муж, явно страдавший от ревности. Эта вспышка заставила всех собравшихся на мгновение умолкнуть. Никто не сомневался, что я подкатывал к его жене. Я сделал вид, что не заметил перешептываний и даже упоминаний о какой-то жидовской ящерице, особенно странных, учитывая тот факт, что не меньше половины гостей были еврейского происхождения.
Это меня поначалу поразило. Евреи, которые обосновались на холмах вокруг Голливуда, ничем не напоминали тех, которых я видел на Украине. Сэмюэль Голдфиш, например, был человеком исключительно элегантным и образованным. Он сказал мне по секрету, что в детстве восхищался Шекспиром. Он по-настоящему хотел лишь одного: перенести эти великие драмы на киноэкран.
– Это – истории, – уверенно говорил он. – А истории – это истории, как к ним ни относись.
Он и Дружище Хевер уже стали сопродюсерами двух успешных фильмов – «Тесс из рода д’Эрбервиллей» и «Башни лжи». Хевер рассказал ему, что я – автор успешной пьесы, которая в течение года собирала на гастролях полные залы. Когда я описал сюжет, он одобрительно кивнул. Голдфиш признался, что интересуется этой темой, и с подходящими актерами сможет добиться очень хорошего результата. Он предложил мне отпечатать резюме и прислать ему.
– Хотя, если Дружище доволен, то, надо полагать, и я буду доволен.
Потом, чтобы сгладить некоторую неловкость, Мэри Пикфорд хлопнула в ладоши и пригласила всех в другую комнату, «чтобы посмотреть киношку». Мы увидели «Мертона фильмов» с Гленном Хантером и Виолой Даной, которые сидели рядом с нами в зале! Это была забавная комедия – сегодня такие называют сатирическими – о кинопромышленности. Некоторые намеки показались мне туманными, но киношники сочли эти загадочные для меня сцены наиболее забавными. Позднее я гораздо лучше узнал голливудских аристократов, но те первые несколько недель, пьянящие и чарующие, стали едва ли не самыми чудесными в моей жизни. Никогда не повторится тот восторг, который я испытал при встрече с Тедой Барой[321]. Я нашел ее милой, воспитанной леди. В ее доме царила приятная, почти стародевическая атмосфера, за исключением одной комнаты, украшенной memento mori[322], восточными гобеленами, тигриными шкурами и саркофагами. Она смущенно объяснила, что фотографировалась только там. Она хотела играть такие же роли, как Гиш или Пикфорд, но все вокруг настаивали, чтобы она всегда оставалась женщиной-вамп. Такое давление мне знакомо. Все мы, до некоторой степени, играем роли, которых от нас требует общество.
Один из немногих голливудских иудеев, которых я счел вульгарными, приехал из Киева. Я сразу его разгадал. Мы видели таких Селзников[323] на Подоле, они расхаживали в ярких костюмах, демонстрировали кольца и золотые цепочки для часов, курили огромные сигары, выставляя напоказ богатство. Неудивительно, что иногда простые городские жители выступали против них. Селзник хвастался мне, что в 1917 году послал царю телеграмму. Он вспоминал о своей жестокой шутке, развалившись среди бархата и атласа в гостиной Клары Боу, куда нас с миссис Корнелиус (для разнообразия без Хевера) пригласили на чай. Мисс Боу оказалась радушной и заботливой хозяйкой.
– Понимаете, я узнал, что царь отрекся. Таки я себе думаю, какого же черта? Я пошлю ему телеграмму. И знаете, что я ему написал? Вы и ваша полиция нехорошо со мной обходились, когда я был мальчиком в Киеве. И вот-таки я и многие мои люди приехали в Америку. И мы хорошо здесь живем. Теперь мне и говорят, что вы без работы. Про ваших казаков даже не буду вспоминать. Готов предложить вам роль в кино. Назначьте себе зарплату. Ответ за мой счет. Привет семье.
Многие сочли это забавным. Я – нет. Я извинился и ушел.
Малыш Корнелиус часто спрашивает меня о доме Херста[324]. Его не закончили в 1924 году, и очень немногие видели, что там делалось. Херст постоянно вносил изменения в проект, добавляя новые флигели прежде, чем достраивали предшествующие. Позже меня пригласили в его «Волшебный замок» вместе со множеством скучных промышленников, инженеров и редакторов. Мэрион Дэвис[325] была очаровательна. Херст напоминал Цеппелина, говорил он негромким, птичьим голоском и почти не обращал внимания на окружающий мир – даже на тот, который он сам построил. У Херста никому не позволяли пить алкоголь, но многие киношники тайком нюхали кокаин. Конечно, к тому времени у меня появились превосходные поставщики. В определенных кругах о человеке судили по качеству порошка – точно так же, как о французском дворянине судили по качеству его винного погреба. Mir ist warm. Vifl iz der zeyger?[326] Куда более волнующей стала для меня встреча со старым южным джентльменом, тем великим гением, который напоминал солдата, а не шоумена, первым правителем призрачного города, Дэвидом У. Гриффитом. Оказалось, он находился на студии «Ласки», когда мы с Хевером привезли туда миссис Корнелиус, чтобы устроить кинопробы.
Я едва мог говорить. Я встретился с величайшим деятелем культуры двадцатого века, с единственным человеком, который по-настоящему заслуживал имени Kinomeyster[327]. Я бормотал, как крестьянин, призванный с поля, чтобы поприветствовать могущественного правителя. Гриффит был добр и учтив, он приложил к уху ладонь, чтобы расслышать мои слова. Миссис Корнелиус спасла меня.
– Он думат, шо у вас кошачьи усы, – сказала она моему герою. – Если п’зволите ему продолжать, то узнате, шо солнце светит прям на вашу…
От ужаса я с трудом сумел выкрикнуть единственное слово:
– Голову!
Вот и все, что я сказал единственному человеку на Земле, труды которого действительно изменили всю мою жизнь. Наверное, он искал работу на студии. По его манерам и внешнему виду никак нельзя было догадаться, что Гриффит остался совсем без средств. Истинный гений, от природы наделенный глубоким пониманием человеческой натуры и способностью проникать в суть политических явлений, теперь униженно пожимал руки иммигрантам, которым сам же помог добиться успеха в этом идиллическом мире грез. Я вел себя слишком глупо. Я до сих пор себя в этом виню. Миссис Корнелиус очень нравилась киношникам. Они считали ее эксцентричной английской аристократкой. Все знали, что истинные английские аристократы могли вести себя как paskudnick’и – они очень грубо выражались. Вот и все, что услышал автор «Рождения нации»: «Голову!» И хотя миссис Корнелиус прекрасно провела пробы, результат которых позднее показали на огромном экране, я никак не мог совладать с унынием. Я постоянно возвращался к этой встрече, проигрывал ее в уме, думая, каким образом следовало произвести впечатление на Гриффита, как за считаные секунды объяснить, что перед ним стоял человек, до конца понявший весь скрытый смысл его экранного послания.
Встреча с Валентино в его грандиозном особняке разочаровала меня. Думаю, он считал меня конкурентом. У него были манеры неаполитанской шлюхи и вкус миланского сутенера. Я до сих пор помню огромные автопортреты и ветхие собрания ржавеющих мечей и доспехов. Я старался вести себя как можно вежливее, даже посоветовал, как ему расширить свой диапазон с учетом врожденных ограничений. Я с радостью покинул его дом. Там все производило гнетущее впечатление. Валентино окружала аура самоубийства. Многие лорды и леди в столице кино ничем не напоминали испорченных, безумных, напуганных существ, о которых часто писали в прессе. Многие были наделены самообладанием, юмором и добротой. Несомненно, рассказы об элите Голливуда, описание оргий в бассейнах и извращений на лужайках особняков скорее отражали тайные желания простонародья, а не обычные обстоятельства жизни людей, которым завидовала публика.
Эсме уже в пути! Телеграмма это подтверждала. Она ехала ко мне. Сожаление, которое я чувствовал после встречи с Гриффитом, быстро исчезло. Я готовился снова сжать в объятиях свою маленькую возлюбленную. Я водил машину по белой извилистой дороге посреди каньона, ведущего к любимому новому дому, я разгонял легкий «пежо» почти до предела, наслаждаясь скоростью. Я осматривал сады, фруктовые рощи в широких долинах, мирные замкнутые поселения вроде Пасадены, сонные сельскохозяйственные городки вроде Сан-Фернандо. Вокруг Голливуда располагались виноградники, которые когда-нибудь дадут вино, не уступающее европейскому. Первые черенки были доставлены из Бордо и Бургундии, они превосходно росли в этом дивном климате. Переселенцы, прибывавшие из Европы, с Востока и Среднего Запада, также здоровели и расцветали. Лучшие люди здесь были молоды и крепки, как вино. Они мечтали построить Утопию. Это была наша общая мечта. И я собирался ее осуществить.
Только однажды я подумал о том, чтобы покинуть свой новый дом и сбежать обратно в Европу с Эсме. Это был просто нелепый случай. Однажды утром я принял предложение белокурой актрисы Астрид Нильсен и согласился поехать с ней на машине в Анахайм. Тогда говорили, что она соперница Свэнсон, способная исполнять современные, рискованные роли. Она слышала о хорошем ресторане неподалеку от нашего городка и настаивала, что туда стоит прокатиться. Я был счастлив провести день-другой с симпатичной девушкой (я больше не собирался связываться с такими, как Мейбл и Этель) и поэтому согласился. Мы выехали довольно рано и помчались по пыльным грунтовым дорогам вдоль бесконечных искусственно орошаемых полей; иногда нам попадались сельские дома или магазины, чистые современные деревни, с виду практически неотличимые друг от друга: с деревянной церковью, рядами деревьев, кафе. Уже смеркалось, когда Астрид указала направо. У нее были чудесные мягкие руки и плечи. Ее лицо с широкими скулами казалось почти славянским. Я увидел желтые и красные огни, вывеску придорожной закусочной, но, когда заглушил двигатель, меня поразило странное название заведения.
– Что там написано? – спросил я. – И что это значит?
– Суши-бар «Леди Корохото». Это японская еда. Поблизости много японцев. Думаю, это место должно понравиться чужестранным дьяволам. Ты когда-нибудь ел такие штуки?
– Разве ты не знаешь, что русские – заклятые враги Японии?
Я был удивлен и чувствовал, что она сознательно поставила меня в неловкое положение. Теперь мне, однако, не оставалось ничего иного, кроме как припарковать автомобиль и проводить Астрид по лестнице к веранде здания, которое до недавнего времени было большим длинным сельским домом. Теперь его покрасили в черный и красный цвета, поставили шелковые ширмы, чтобы прикрыть окна, и повесили какие-то рисунки, насколько я понял, для того, чтобы посетители почувствовали себя снова на родине, в старом Нагасаки. Нас приветствовала улыбчивая коротко стриженная девушка в обтягивающем платье. Мы вошли в совершенно обычный ресторан, с обычными столами и стульями и длинной стойкой, занимавшей всю левую стену. Нас окружали приглушенные цвета, раскрашенные ширмы, подсвеченные сзади, – но ничего особенно необычного я не заметил.
– Смотри, – сказала Астрид, взяв меня за руку и придвинувшись поближе, – это ведь совсем не страшно, а?
Я сказал, что совсем не боюсь. Просто мне здесь не очень нравилось. Если японцы пришли в сферу услуг, то их поведение противоречило недавним поправкам к калифорнийскому закону об иностранных землевладениях (японцам теперь запрещалось заниматься сельским хозяйством там, где они конкурировали с белыми) и закону об иммиграции, отрицающему права японцев и принятому, чтобы заставить их уехать. Несомненно, теперь они владели землей тайно, в нарушение закона! Я сказал об этом Астрид, когда мы сели за столик в пустом ресторане.
– Господи Иисусе, Макс, им же надо как-то жить, – сказала она. – На них давят со всех сторон. Сельскохозяйственная ассоциация и все прочие, у кого есть интересы в штате.
Вероятно, она, подобно некоторым другим женщинам, считала Восток эротичным и таинственным. Я же считал его опасным. Я знал правду. Монголы не раз нападали на славян; славяне снова и снова отбивали их атаки и вновь подвергались нападению, как только врагов становилось слишком много. Теперь эти люди расплодились в Калифорнии. Они были высокомерны и честолюбивы. Невероятно жадные, они работали намного дольше, чем англосаксы, пытаясь создать на этом берегу плацдарм для своего императора. Но я надеялся провести ночь с Астрид, поэтому не хотел с ней спорить. Наша гейша покачнулась, поклонилась и исчезла, но официантка так и не появилась. Через двадцать минут даже Астрид стала терять терпение. Я направился к дверям кухни и не увидел там никого, кто мог бы приготовить еду, хотя мяса и овощей было очень много. Казалось, из дома неким необъяснимым образом исчезли все обитатели, как с «Марии Селесты»[328]. Возможно, какой-то обычай? Может, дело в оскорблении, подумал я. Астрид сомневалась.
– А если дело в их религии? – предположила она.
И тут снаружи послышался шум. Я отодвинул жалюзи, чтобы узнать его источник, – и оцепенел от ужаса.
Огромный крест горел во дворе. Вокруг него, держа в руках ружья, стояли по меньшей мере полсотни молчаливых клансменов!
Я тяжело опустился на стул.
– О боже! – Астрид побледнела от ужаса. – Превосходная идея, да?
Во дворе послышались выстрелы.
– Они хотят, чтобы мы вышли, – сказал я. – Это место вот-вот подожгут. Нам нужно рассказать им хорошую историю. Вперед!
Мы направились к дверям и вышли на веранду. Руки мы подняли.
– Что происходит? – спросил я, надеясь, что хорошо изображаю возмущение.
Один из предводителей внезапно свистнул и почти с восхищением произнес:
– Похоже, мы нашли ублюдков-коммунистов, которые их подстрекали, Сэм. – Он мне издевательски поклонился. – Добро пожаловать на вечеринку, товарищи. Экие прилипалы!
Все они рассмеялись. Астрид поднесла руку к лицу, словно подавая сигнал.
Я так никогда и не узнал, была ли актриса, которая называла себя датчанкой, на самом деле сотрудницей ЧК, нанятой Бродманном, чтобы выманить меня из Голливуда. Подозрение зародилось в тот момент, когда я услышал слова клансмена. Случившееся меня потрясло. Если я продемонстрирую слишком хорошую осведомленность о клане, они могут заинтересоваться моей персоной, и в результате меня скорее всего убьют. Мне следовало доказать, что я не коммунистический агитатор (в сельских районах их собиралось немало) и не сторонник япошек. Я двинулся к клансменам, чувствуя, что попал в кошмарный сон и не могу проснуться. Мне удалось быстро объяснить, что мы с женой ехали в Лос-Анджелес, чтобы сесть на свой лайнер, который должен отвезти нас домой в Австралию. Так я объяснил наш акцент, заодно отметив, что мы были невинными туристами. Мы остановились в придорожной закусочной просто потому, что проголодались. Я облегченно вздохнул, услышав, как они обсуждают между собой услышанное, – стало ясно, что здесь собрались только местные жители. Пока продолжались споры, другие мужчины подожгли ресторан. Теперь отсутствие клиентов объяснилось. Я увидел двух визжащих гейш, которых связали и потащили в стоявший рядом грузовик. Я сообщил нашему зловещему собеседнику, что мы, жители диких мест, тоже кое-что знаем о желтой угрозе. Мы решили проблему, не пустив цветных на наши берега. Это, казалось, убедило клансменов. И все-таки даже тогда, когда они опустили оружие и жестами приказали нам сесть в машину, я боялся, что это лишь часть хитроумного заговора. Я не мог представить, что сделал Каллахан (он легко мог предать меня) и что задумал Бродманн. Я не знал, на что еще способна миссис Моган. Возможно, она вышла из дела как раз вовремя и не попала в ловушку, в которой погибли Кларк и другие. Возможно, она, а вовсе не Бродманн, заплатила Астрид или шантажом заставила ее выманить меня. Конечно, миссис Моган была заинтересована в моей смерти.
Я подошел к автомобилю. После нескольких тщетных попыток мне наконец удалось нажать на стартер, и двигатель заработал. Астрид села рядом. Ее лицо было белее огромной луны, которая теперь висела посреди чистого черного неба. Белый свет струился вокруг ее головы, создавая ореол, как на старых киевских иконах с изображениями святых. Девушка казалась по-настоящему напуганной, но это могло просто означать, что она боялась моей мести или кары своих заказчиков. Люди в капюшонах окружили нас. Огонь охватил здание. Сначала вспыхнули шелковые ширмы, и черные дыры появились в деревянных стенах. Языки пламени опадали, в небо валил дым, и лунный свет тускнел. Я решил, что вижу последние остатки клана. Я поклялся, что проведу в городах всю оставшуюся жизнь. В сельской местности мне приходилось несладко.
Человек, которого называли Сэмом, носил пурпурное одеяние: это значило, что он – Великий дракон.
– Мы не хулиганы и не трусы, – ровным голосом сказал он, – мы честные, простые люди, сражающиеся за то, что принадлежит нам. Федеральное правительство хочет лишить нас всех прав и отдать все чужакам. Езжайте домой, мои друзья, и скажите своим людям, что они делают нужное дело. Передайте им и всем прочим англосаксам эти слова: «Везде, где угрожают белым протестантам, рыцари ку-клукс-клана нанесут ответный удар – и он будет сильным». Сегодня вечером можете спать спокойно, где бы вы ни остановились. Знайте, что вы под защитой. Езжайте и возвращайтесь. До скорой встречи.
Вспоминая эту последнюю фразу, я понимаю: его тон совершенно противоречил смыслу слов. Думаю, Сэм предупредил меня. В третий раз спасения ждать не стоило. Мы с Астрид почти не разговаривали, уезжая прочь, подальше от бушующего пламени. Она кипела от негодования и требовала обратиться в полицию. Потом она успокоилась.
– Наверное, они все в этом замешаны. – Она заговорила о том, что следует связаться с кем-то в Лос-Анджелесе, возможно, с федералами. – Они схватили тех девочек. Что они с ними сделают?
– Думаю, тебе лучше попытаться забыть обо всем этом. – Я говорил сдержанно: возможно, это была одна из лучших ее ролей. – Все, начиная с местных жителей и заканчивая президентом, уже ясно дали понять, что японцам в Америке не рады. Если ты начнешь об этом говорить, тебя могут вышвырнуть как обычного агитатора.
После этого Астрид призадумалась и надолго замолчала. Я очень обрадовался, когда эта злосчастная поездка закончилась и на горизонте показались огни голливудских особняков. Я высадил Астрид возле дома на Третьей улице, где она снимала квартиру. Девушка спросила:
– Ты не хочешь зайти ненадолго?
– Нет, спасибо. Никогда не угадаешь, во что можно вляпаться.
Я все еще злился. Я слишком много испытал. Мне следовало сохранять интеллектуальные и духовные силы, беречь их для моего газового автомобиля и для Эсме. Я едва не потерял ее еще до того, как она приехала в Нью-Йорк. Мне пришлось унижаться и выкручиваться, стоя рядом с женщиной, которая, возможно, наслаждалась моим падением и готовилась сообщить новости завистливому, мстительному еврею или глумливому католику, а то и самой миссис Моган. Возможно, они строили новые планы, чтобы уничтожить меня. Не удовлетворенная прошлым предательством, миссис Моган, возможно, теперь хотела истребить всех своих былых партнеров. Как я мог сказать тем клансменам, что их просто использовали, чтобы потешить мелкие амбиции жадных, испорченных мужчин и женщин? Ведь это уничтожило бы все их надежды. А если они и так все знали, то вывод звучал тревожно, даже угрожающе: у Америки больше не осталось никаких средств защиты от миллионов тайных врагов, уже замышлявших ее уничтожение. Неважно, как они назывались – ИРМ[329], рабочие союзы, анархисты, организации неких меньшинств или расовых групп. Неизвестно, были ли у них вообще названия. Все они – агенты Карфагена. Это, конечно, подтвердилось в 1941 году. Тогда Америка, окруженная японцами, едва избежала погибели изнутри. Zey vein kömen[330]. Конечно, они явятся снова.
Я ехал по Сикамор, пока не добрался до бульвара Венеция. Часто моя машина оказывалась единственной на дороге. Бульвар тянулся вдоль лесов и парков. Виднелись огоньки небольших поселений, бизнес-центров и особняков, стоявших на большом расстоянии друг от друга, – дань современным представлениям о том, какой могла бы быть цивилизация двадцатого века, если бы она создавалась по тщательно продуманному плану. К тому времени, когда я въехал в Венецию, луна-парк и пирс уже закрылись на ночь. Дребезжащий желтый вагон увез усталых комедиантов в тихие пригороды. Я проехал несколько кварталов до Сан-Хуана. Здесь, невдалеке от привычной суеты и городского шума, располагался мой маленький уютный дом. Венеция выглядела странно, даже фантастически, но на самом деле этот пригород был вполне обычным, живым, космополитичным, как старая Одесса; мои тревоги исчезали в этой знакомой атмосфере. Тем не менее я с осторожностью открыл парадную дверь, готовясь к тому, что меня поджидают Каллахан, Бродманн или толпа людей в высоких капюшонах. Я лег спать, думая о встрече с Эсме и о предстоящем испытании автомобиля. Он получил название «Экспериментальный образец Палленберга I».
Наступило воскресенье. Я проводил время в Лонг-Бич, следя за ходом работы, но согласился сделать перерыв, чтобы поехать с миссис Корнелиус на студию. Она все еще не получила результатов кинопроб. Хевер сказал, что иногда на это уходит неделя или две. Сейчас на студии было особенно много работы. Миссис Корнелиус, однако, считала, что «Ласки» не предложит ей контракт. Хевер уже договорился о пробах на «Эм Джи Эм». Там, по его уверениям, она точно всех поразит. Я подозреваю, что Хевер предложил сначала попытать удачи в студии «Ласки» потому, что не хотел, чтобы его друг Голдфиш подумал, будто миллионер просто пытался подыскать работу для какой-то «штучки». Хевер очень нервно реагировал на подобные предположения и выходил из себя, если таланты миссис Корнелиус подвергались сомнению. Он ведь не просто вкладывал в нее деньги. Мы смотрели «Орфея в бурю». Во время сеанса моя тоска по Эсме стала просто невыносимой.
Двадцать пятого июля 1924 года мы выкатили ЭОП‑1 из ангара. С виду казалось, что машина пострадала в аварии, потому что краска на ней была содрана, а корпус помят. Под капотом, однако, скрывался мой мощный экспериментальный двигатель. Газовые баллоны заняли место прежнего топливного бака и багажника, появились и дополнительные датчики. На них не было обозначений, но мы знали, что они измеряли давление и подачу газа, а система переключателей координировала работу цилиндров и клапанов. Миссис Корнелиус привела с собой Хевера. Она казалась опечаленной – как будто ожидала, что мы все взорвемся. Я заверил ее, что ЭОП безопаснее обычного автомобиля и намного эффективнее. Она села на краешек заднего сиденья, осмотрелась по сторонам и просвистела несколько тактов любимой мелодии. Я надеялся, что миссис Корнелиус не забудет о моих предупреждениях и не станет курить. Хевер следовал за мной по пятам и кивал, когда я рассказывал о средствах управления и новых устройствах. Вилли Росс, молодой мастер, небрежно прислонился спиной к капоту, беседуя с другим механиком и наслаждаясь ранним утренним солнцем. Туман поднимался над спокойными водами в заливе Лонг-Бич. Гудели корабельные сирены. Чайки с важным видом прогуливались по бетонному молу, как проститутки на Пигаль, – они словно бы с восхищением смотрели на нас. То и дело мы слышали, как открываются двери, электродвигатели начинали шуметь, когда наши друзья, оптимисты, принимались за работу, воплощая в жизнь свои надежды: то были мотоциклы, гидропланы, корабли, бытовая техника. Казалось, что вся Америка, или, по крайней мере, ее западная часть, трудилась во имя спасения человечества.
Хевер с любопытством следил за мной, глаза миссис Корнелиус светились от возбуждения. Я включил автоматическое зажигание. Я подождал, пока мигнет красная лампочка, а потом запустил двигатель. Как чудесно было слышать этот шум – машина содрогнулась, потом зарычала, как дикий зверь. Я отпустил тормоза и выжал сцепление. Вилли и наши механики начали аплодировать. Радостно взмахнув рукой, я набрал скорость – автомобиль повиновался всем моим командам; на миг я даже позабыл о других водителях. Я едва избежал столкновения с грузовиком и «паккардом», потом восстановил контроль над машиной и двинулся на север. Мы понеслись по шоссе Рузвельта, слева простирался бескрайний Тихий океан. Постоянно растущий Большой Лос-Анджелес находился справа. Белые башни возвышались среди густой растительности, красивые дома стояли в стороне от дороги посреди ровных лужаек, отели и многоквартирные дома блестели в мягком утреннем свете. Мне не хватало только Эсме, которая могла бы разделить мой триумф и мое счастье. Этот новый опыт почти мгновенно изменил меня. Тяжелые волны Тихого океана, синие и белые, разбивались о чудесные песчаные пляжи. В небе лениво кружился маленький биплан, двигавшийся вниз, к Бербанку, стая морских птиц поднялась над Палос Вердес. Все птицы взлетели и приземлились почти одновременно – зрелище было поистине великолепным. Утренний свет стал куда ярче, чем прежде. Огромный тихий город, убежденный в своем богатстве и культурном превосходстве, казался прекраснейшим из всех возможных миров. ЭОП выражал мою радость. Я наконец добился успеха. Я победил. Эти полчаса вознаградили меня за долгие годы страданий и неудач. Рядом со мной, вцепившись в кожаный ремень, веселился как мальчик Дружище Хевер. Ветер румянил его щеки. Его глаза теперь загорелись – он понял потенциал моего автомобиля. Хевер посмотрел на меня, и я осознал: моему спутнику ясно, что он удостоился одной из величайших почестей, известных человеку. Да, он служил гению.
Мы миновали Венецию и Санта-Монику. Только когда мы помчались прочь от берега, от Пасифик Пэлисэйдс, направляясь в долину Сан-Фернандо, Хевер заметил, с немного меньшим беспокойством, чем можно было ожидать, что миссис Корнелиус откинулась назад и закатила глаза. Я управлял своим чудовищем и ничего не мог поделать, только ободряюще улыбался. Кожа миссис Корнелиус стала бледно-зеленой. Я пытался перекричать шум и сообщить, что было бы настоящим безумием сейчас, так далеко от базы, останавливать автомобиль. При первой же возможности, как только загорелась синяя лампочка, предупреждавшая о переключении на следующий баллон, я развернулся и в конце концов выехал на бульвар Сансет. Мы мчались среди поросших травой холмов и редких лесов, миниатюрных озер и огромных лужаек, миновав несколько роскошных дворцов, находившихся на различных стадиях строительства. Наконец я остановил свой автомобиль у отеля «Беверли-Хиллз». Миссис Корнелиус согнулась, и ее вырвало.
– ’рости, Иван, – пробормотала она, когда Хевер помогал ей выйти из машины. – Не думала, шо это бу’ет так чертовски быстро. Не стоило мне есть этого клятого лосося, верно?
– Мои поздравления, – рассеянно проговорил Хевер. Он пытался приподнять бесчувственное тело миссис Корнелиус – как будто паралитик нес китайский фарфор. – У вас там бак пробило, Палленберг. Я пришлю кого-нибудь, чтобы убрать автомобиль. А теперь извините меня.
Они, пошатываясь, двинулись к дверям отеля – две усталые обезьяны, пытающиеся исполнить какой-то примитивный ритуальный танец на сверкающих плитах внутреннего дворика. Через несколько минут я вновь занялся автомобилем. Завести машину при почти пустом баллоне номер два оказалось непросто, но я ожидал подобных незначительных проблем. Я вскоре остался наедине со своей мечтой и помчался мимо вереницы зданий, выстроенных в разных исторических и национальных стилях. Мой ЭОП‑1 по-прежнему работал превосходно. Машина везла меня от староанглийских зданий к немецкой готике и скандинавской золотой отделке, мимо обычных домов, перестроенных в виде средневековых замков, мимо замков, изображавших французские домики. Здесь, в Голливуде и вокруг него, сочетались элементы всех известных мне городов. В одно мгновение я мог перенестись в свое киевское детство, а через секунду оказаться в Одессе или Санкт-Петербурге. Я мог посмотреть на соседний холм и увидеть кипарисы, пальмы и белые купола Константинополя или проехать чуть дальше по каньону, чтобы осмотреть миниатюрную копию Сан-Суси, перенесенную прямо с Монмартра. Вот Древний Рим, вот Флоренция и, разумеется, Венеция, вот современный Милан. Отранто, Анкара, Александровская – здесь было все. Я мог отыскать Пекин, Москву, Лондон и, несомненно, Барселону или Мадрид, Берлин и Ганновер и рейнские замки, Аравию, Индию или – сюрприз! – Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон и Мемфис. Все мое прошлое сошлось в этом единственном городе, а мое будущее таилось в его богатстве, спокойствии и великолепии, под солнцем, которое никогда не скрывалось за облаками. Ночью, под яркими звездами и огромной луной, можно было вдыхать сладостный запах – запах сосен и цветущих кустов, запах кедровых досок и заполненных специями кладовых. Все ароматы мира нес этот легкий ветерок: соль морей, мускус красавиц, великолепные запахи тропических цветов. И все же, лежа в кровати, созданной для некоего погибшего деспота, глядя в окно, из которого открывался вид на дивные холмы, мне еще иногда удавалось услышать волчий вой. Койоты прятались на задворках мексиканских кварталов, они обитали повсюду, где появлялись католические миссии во славу папы. Койоты пробирались по небольшим долинам и лесам, пили воду в японских садах и из голландских колодцев, пожирали недоеденных фазанов и икру, импортные сыры, редкие деликатесы, которые доставляли в Голливуд в электрических холодильниках на лайнерах из Гонконга, Гамбурга и Кейптауна.
Голливуд ежедневно создавал и экспортировал новые чудеса. Взамен он получил все сокровища мира, все дивные вещи, все гениальные находки. Потоки энергии текли из этого склада, они были связаны с нашими сильнейшими желаниями – и они поистине неизмеримы. Я наслаждался сверхъестественным блеском Голливуда, я купался в его целительных, невероятных водах. Я снова искал бессмертия и надеялся его найти. Здесь, в Голливуде, среди богатства образов, среди бесконечных удовольствий и бесчисленных возможностей, я снова обрел цельность. Мне не хватало только Эсме. Вот последний недостающий фрагмент моего возрожденного «я». Она – моя душа, моя муза, mayn glantsik tsil. Эсме – это я, а я – это она. О моя роза! В разлуке мы страдаем. Вместе мы – ангел. Und nu du komst![331]
Глава двадцать вторая
И вот ты уже в пути, Эсме! Скоро ты снова будешь рядом. Ровно шумят моторы, бурлит вода, великолепный город везет тебя под неспокойными небесами мрачной Атлантики. Далеко внизу остаются горные вершины, превосходящие высотой Гималаи, в темных долинах бродят темные древние титаны, огромные и вечно голодные. Эти твари скованы силой тяжести, они привязаны к земле на много тысячелетий (возможно, столько, сколько существует человечество). Это боги, которым Карфаген готов принести жертву: печальные символы бессмертного рабства. Но плавучие города свободны и безопасны, они проплывут высоко над теми мрачными землями: так высоко, что их не услышат и не учуют; они не потревожат спящих чудовищ Карфагена.
Ужасные обитатели тусклого мира прожили бессчетные столетия, не испытывая ни любви, ни грез, ни страха; они лишены чувств, за исключением однообразной, бесконечной жадности. Они не смогут поймать тебя, Эсме, в твоем могучем городе, который непреклонно бросает вызов омерзительной первобытной силе, борется со стихиями и несет твою невинность, твою отвагу, твою красоту, твою нежность, – несет тебя домой, туда, где мои руки смогут тебя обнять.
Скоро наши тела познают тот удивительный экстаз двух прекрасных душ, двух половинок единого целого, которые наконец сольются и будут вечно гореть ярким серебряным пламенем. В том пламени смешаются все оттенки спектра, невыразимое сияние алмазов и рубинов. Мы соединимся, Эсме. Мы познаем бесконечность граней бытия, достигнем вершин чувственности, откроем новые чудеса, построим новые города и исследуем все тайны природы. О Эсме, я потерял тебя. Они забрали меня в город спящих козлов, где зловещие огни синагог предупредили меня об опасности. Я пришел в город трусливых собак, где святые места измазаны экскрементами язычников, и там я нашел тебя, вновь обретшую чистоту. Мы отправились в город шепчущих священников, в город раскрашенных трупов, и там меня снова разлучили с тобой. Многие другие города, Эсме, звали меня, обольщали меня, сбивали меня с пути. Но теперь я обрел покой здесь, в городе золотой мечты, городе императора, который я считал погибшим. Ты приедешь ко мне в Нью-Йорк, и я увезу тебя в тихую гавань, где фантазии становятся реальными, где нашли способ навеки избавиться от кошмара. И тогда, Эсме, мы снова полетим. Этот город должен взлететь. Vifl iz der zeyger? Iber morgn? Eyernekhtn? Ikh farshtey nit. Ikh veys nit. Es tut mir leyd. Esmé! Es tut mir leyd! Es iz nakht. Morgn in der fri ikh vel kumen. Mayn Esmé. Ikh darf mayn bubeleh. Mayn muter[332].
Ресторан в Анахайме обратился в черный пепел, который разлетелся по бесконечным полям; бетон потек, как лава, по старым рощам, и из этого уничтоженного будущего возникла бесчувственная псевдофантазия сонного класса – kulak. Каждый год они натягивают на жирные ноги шорты-бермуды и выходят на Мэйн-стрит, США. Здесь дети и внуки клансменов зарабатывают свои доллары, упражняя тренированные рты и стройные конечности в ритуале, который скоро, как считает владелец, будут совершать настоящие роботы. Дважды в день проходят группы в одеяниях, пародирующих мундиры наполеоновской Европы, синих, красных, зеленых или желтых, они играют чудесные старые боевые мелодии, а розовощекие девочки, стараясь изо всех сил, демонстрируют ровные белые зубы и подбрасывают в воздух декоративные жезлы, потом ловко ловят их, вертят с поразительным совершенством, поднимают и опускают ноги в такт тевтонским ритмам – возможно, они просто напоминают о неудовлетворенной похоти. Они не могут потерпеть неудачу. Даже под угрозой поражения, упрощая жизнь, они избегают разногласий. И Микки-Маус, когда-то enfant terrible[333] с искривленной, почти злорадной усмешкой, теперь в слаксах прогуливается по земле фантазии. Он стал респектабельным и забыл о прошлом, как и все прочие эксплуататоры и рабовладельцы. Теперь появились вывески для японских туристов. И путеводители на японском. И даже изображения Микки с надписями на языке, который некогда был запрещен в этой стране. Они шагают в легких туфлях по бетону к писсуарам на Мэйн-стрит, где мочатся прямо на пепел погребенных предков. Надев одинаковые серые костюмы, они садятся в автобусы, из автобусов пересаживаются в самолеты, из самолетов в автобусы и, наконец, возвращаются домой к новейшей электронике, которая заполняет их жизни и приносит двадцать миллионов болтливых голосов в их сердца. И ради этого погибло целое поколение? Но какое мне дело? Они затопили весь мир звуками своих никчемных инструментов. Они – рассадники болезни, которая пострашнее радиоактивных осадков. Я иду по тротуарам этого грязного места, этой столицы свалок, и склоняю голову, страшась стереофонического свиста, боевого клича озверевшей орды. Туман окутывает меня. Боже, спаси мою душу, спаси мишлинга! Moyredik moyz, они окружили меня! Vu iz dos Alptraum? Vi heyst dos ort?[334] Вот и новый кошмар.
В лос-анджелесском даунтауне мексиканские и китайские бедняки прячутся в тени увядших деревьев, валяются пьяными в залитых солнцем парках. Виллы в испанском стиле обветшали. Доны давно присягнули Карфагену. Теперь негры и униженные иммигранты ютятся в гасиендах, выжженные лужайки возле которых завалены ржавыми канистрами и обертками от конфет. Пальмы покрыты пылью и нуждаются в подкормке. Даже в раю разбили лагерь прислужники Карфагена, ожидающие сигнала, которого можно просто не заметить. Ich weiss[335]. Сидящие в крепостях на вершинах холмов благородные лорды и леди равнодушно смотрят на шпили, купола и высокие здания – в сине-сером полуденном тумане они видят только древнюю романтику. Верный им город, кажется, мирно дремлет. Его владыки не могут представить, какие угрозы подстерегают их. Великие князья не бывают в трущобах и гетто, они никогда не сталкиваются с завистливыми уродливыми существами, которые строят заговоры, намереваясь похитить сокровища из цитаделей, украсть золотые мечты. Никто не хочет говорить о таких вещах. Ich glaube es nicht. Люди встают на сторону сильных и не обращают внимания на угрозы и предупреждения. Ich will es nicht![336] Разве человек, вдохнувший чарующие ароматы Голливуда, сможет поверить в опасность, которая подобно вирусу распространяется на Олд-Плаза, там, где начинался Лос-Анджелес? Вспомните – мексиканцы повсюду, и в ночи царит ужас: стучат их ноги, раздаются крики, звучат кошмарные гитары. Nicht wahr? Кто нас упрекнет?
Наши грезы всегда реальны. Испытание пройдено, когда мы стремимся обратить их в деньги, стараясь построить новые грезы, превосходящие прежние. Не слушайте завистливых и бездушных. Иллюзия Голливуда абсолютно материальна. Граждане этого города никогда не верили в существование невозможного. Правила создаются и нарушаются в зависимости от обстоятельств. Голливуд – хладнокровный город. Подчиненные ему долины и побережья станут заявлять, что он – просто дым, мираж, населенный жующими мак luftmaystem, ставший более привлекательной альтернативой мусульманам. У Голливуда, по их словам, нет ни характера, ни морали. Он – чистая фантазия. С этим не стоит спорить. Древние иллюзии Парижа и Рима, конечно, в свое время были столь же очаровательны. Они отражали заветные мечты, Wunschtraumen[337] своей эпохи, воплощали общие убеждения. Я не могу их понять. Что они говорят? Что Голливуд не существует? Или не должен существовать? Разве Афины Перикла не были реальны? Или Голливуд менее реален, чем Лондон Рена и Берлин Шпеера?[338] Неужели критики Traumhauptstadt[339] злятся потому, что великие дворцы строились на честно заработанные средства, а не на деньги, отобранные у пугливых крестьян? Они думают, что только древность делает дворцы Европы такими привлекательными? Что может быть вульгарнее и банальнее Версаля? Существовал ли собор более безвкусный, чем собор Святого Петра? Говорят, что Голливуд – фальшивый фасад, раскрашенный труп, ловушка. Разве о Флоренции и Венеции, о самом Риме не говорили того же? Голливуд притягивает будущих великих актеров. Флоренция притягивала будущих великих живописцев и скульпторов. Ответственна ли она за разочарования тех, кто не сумел добиться успеха? Каждый день таблоиды сообщают нам, как Голливуд погубил очередную несчастную бывшую официантку. Как будто он намеревался ее уничтожить, сначала соблазнил ложными обещаниями, затем развратил и, наконец, погубил. И зачем Голливуд совершил это бессмысленное деяние? Vi heyst dos? Что написали бы в «Сан» или «Ривели» о какой-нибудь шлюшке восемнадцатого века, которая мечтала быть королевской фавориткой, а на деле стала обычной распутницей из дешевой провинциальной таверны? Was heisst das?[340]
Голливуд – первый истинный город двадцатого века. Подобно Риму и Византии, он считает себя неприкосновенным. Я видел все это по телевизору. Конечно, есть изменения, но ядро сохранилось. Was muss ich zehlen? В основании города были лишь теории (и это не первый подобный случай), но потом он попытался воплотить эти теории в реальность. Обычное дело. Wie lange muss ich werten?[341]
Хотя Голливуду постоянно угрожают его соседи, он остается самой сильной крепостью современного мира. Ему нельзя останавливаться. Однажды Голливуд очистился. Чистка была болезненной, но увенчалась успехом. Голливуд очистился, как Джон Уэйн очищал свою кровь после укуса гремучей змеи – высасывал яд, а потом прижигал рану раскаленным добела ножом. Голливуд выплюнул яд в море, отправив Восток туда, откуда он явился. Голливуд изгнал сценаристов, нескольких продюсеров, режиссеров, актеров и позволил им окунуться в опасные воды реальности. Они утонули – почти все. Некоторые в конце концов избавились от Карфагена. Теперь самое время снова высосать яд из артерий.
Молодые метисы в кожаных куртках катаются на мотоциклах среди рухнувших монументов. Дворняги гадят на плиты, украшенные именами благородных лордов и леди, на разрушающейся Аллее звезд. Толпы нелепых вандалов носятся по сломанным стенам некогда неприступных замков. Они крадут истлевшие костюмы и выцветшие декорации. Вот и все, что осталось теперь от «Репаблик» и РКО, от «Фокс» и «Ласки». Голливудские пророчества звучали во многих фильмах. Голливуд предупреждал мир об опасностях кровосмешения и свободной морали. Гриффит передавал эту весть домой даже в «Сломанных побегах», самом бессмысленном из своих фильмов (хотя Лилиан Гиш была хороша). Он умер в бедности, этот великий человек. От меня он услышал только слово «голова». Все его предсказания сбылись. Молитесь, все молитесь за великий город царя, новую Византию, цитадель нашей веры. Vergehen sie nicht. Die Kapelle spielt zu schnell[342]. Владыки рок-н-ролла, повелители всего варварского стали наследниками наших залитых солнцем печальных руин. Кто мог подумать, что «Певец джаза»[343] приведет к этому? И все же Бог не покинул свой имперский город, не покинул и теперь. Не крикливый слюнявый старый Бог, но новый Бог, греческий. Белые дворцы по-прежнему стоят на страже долины, только кажется, что они спят. Кто сможет осудить этот город так, как я? Но я не стану. Он остался в шести тысячах миль от меня, он не помнит моего имени, но я все же верен ему. Византия, ты blaybn lebn[344]. Голливуд всегда был христианским городом, хотя многие из его владык считались евреями. Wer Jude ist, bestimme Ich. Почему бы и нет? Auf gut Deutsch[345]. Венеция все еще празднует, здесь продолжается бесконечный карнавал. Набережные заполнены счастливцами. Сегодня море спокойно. Колесо обозрения медленно поворачивается, как бесполезная мельница. Я иду мимо резных галерей, мимо лепных украшений, на самом деле сделанных из дерева, мимо зданий из кирпича, который имитирует камень. Я любуюсь огромной гондолой на Гранд-канале, который на самом деле куда меньше оригинала. Гондольер поет какую-то псевдооперную песенку, увлекая пассажиров к конечной точке водного тупика. С железной дороги доносятся грохот и скрежет. Мимо едет желтый вагон. И девочки в открытых платьях, коротких юбках и высоких шапках с плюмажами машут облаченным в пиджаки джентльменам со Среднего Запада, которые неловко придерживают соломенные шляпы. Я скоро уеду из Венеции и перевезу все свои немногочисленные пожитки на бульвар в Голливудских холмах. У меня будет свой небольшой серо-белый дворец – все ради Эсме. Я знаю, что именно ей нравится. На пирсе я остановился, все еще размышляя об изысканных колоннадах Дворца дожей, и неожиданно столкнулся со своим неуклюжим партнером, своим взволнованным благодетелем.
– Мистер Хевер! – Я окликнул его так громко, что сам удивился. Последовала пауза. Ветер мгновенно стих. – Sara sheyn veter![346]
– Ven kumt on der shiff?[347]
– Вы помните, что я улетаю завтра на самолете.
– Конечно. Я искал вас, старина. – Он смутился. – Я не застал вас дома, так что…
– Я думал, что передал Вилли все дела по ЭОП.
– Конечно. Это превосходно. Я так счастлив. Из-за этого я стал немного болтлив, вот и все. Не возражаете?
Я предложил прогуляться по набережной по направлению к Лонг-Бич. Променад тянулся на многие мили, очевидно, он сливался с пляжем и океаном где-то возле острова Каталины. Мы шли. Хевер очень долго ничего не говорил. Потом он предложил пообедать в ближайшем заведении, где подавали омаров. Я вновь подчинился. У меня было свободное время. Я радовался жизни. Еда оказалась превосходной, около часа мы говорили только о ней. Мы поели омаров и заварного крема, выпили кофе, а потом пошли дальше. Однако Хевер говорил только о береговой линии, о погоде, о гидроплане Кертисса, садившемся в гавани Лонг-Бич, – и больше ни о чем. Наконец он спросил, не стану ли я возражать, если мы сядем в «Ред кар» и продолжим живой разговор в мастерской. Я тотчас согласился, и мы пересекли улицу и дождались большого вагона междугородной линии. Стоял ясный жаркий день. Дети бежали к воде и из воды, за ними гонялись собаки и родители. Молодые люди загорали на песке. В каждом городе на побережье были свои галереи развлечений, свои небольшие выставочные павильоны, свои аттракционы. Я блаженно думал о том, как будет волноваться Эсме. Я хотел привезти ее из Нью-Йорка в поезде. Мы могли бы поехать на «Бродвей Лимитед»[348], а затем сесть в пульмановский вагон в Чикаго. Я предположил, что она отвыкла от роскоши и мое предложение, наверное, приятно удивит ее.
В тени пальм, высокие силуэты которых выделялись на фоне синего неба и яркого закатного солнца, Хевер начал быстро рассказывать о своих надеждах, связанных с кино. Он хотел сам профинансировать драму, главную роль в которой сыграет миссис Корнелиус.
– Она согласилась сменить имя на Дороти Корд. Имена, как все считают, очень важны, они должны быть запоминающимися и все такое. Миссис Корнелиус это не очень обрадовало. Ну, короче говоря, вот что мне от вас нужно… Этот сюжет «Белого рыцаря и красной королевы»… Конечно, вы получите за него приличную сумму. Почему бы вам не увеличить его до полного метра. Около часа. – Он смущенно улыбнулся. – Я не Гриффит.
– Когда вам нужен сценарий?
– Первый вариант примерно через месяц.
Судя по поведению Хевера, я понял, что к основной теме он еще не перешел. Я неубедительно заметил:
– Будет интересно работать над таким большим фильмом.
Он предложил мне большую сигару. Вопреки обыкновению, я согласился. Мы стояли на краю причала в тени деревьев, курили и глядели на грязную воду.
– Хорошо, – сказал он через некоторое время. И тогда, как обычно, путаясь и сбиваясь, заговорил о деле. Последние фразы в этом лепете звучали так: – Палленберг, я хочу, чтобы она вышла за меня замуж. Я намерен попросить ее руки завтра, когда вы будете в Нью-Йорке. Как думаете, у меня есть шансы?
Его огромные глаза смотрели куда-то вниз, лицо его напоминало морду печальной коровы. Я не торопился с ответом.
– Миссис Корнелиус очень независима. Она, очевидно, проявляет к вам интерес, какого не проявляла ни к кому другому. – Конечно, не нужно было упоминать о романах миссис Корнелиус с половиной большевистской верхушки, чтобы он не упал в обморок. – Но не стоит ее торопить. Может, вам следует подождать, пока я не вернусь из Нью-Йорка? Тогда можно будет услышать мнение другой стороны.
Хевер был разочарован, но прислушался к моему мнению.
– Ну ладно. Вдобавок я хотел спросить: можете ли вы на правах старого друга узнать, что она думает по этому поводу. Что скажете? – Не дав мне времени на ответ, он серьезно продолжил: – Поймите, я знаю, у нее есть нечто – не важно, что именно – то, что нужно великой актрисе. Я больше не хочу, чтобы она проходила кинопробы. Я собираюсь все упростить. Она сделает карьеру в кино, несмотря ни на что. – Он посмотрел туда, где привязанный гидроплан, какой-то претендент на приз Шнейдера[349], бился о деревянную обшивку пирса. – Поймите, – пробормотал Хевер, – мне кажется, что она – самая чудесная малышка на свете.
– Сделаю все, что смогу, старина.
Хевер был мне благодарен. Он нахмурился, пытаясь успокоиться.
– Как думаете, следует ли нам привлекать внимание прессы к автомобилю? Можем ли мы сообщить газетчикам, что успешно провели первое испытание? Уже ходят слухи. Несколько журналистов побывали сегодня в моем офисе. Кажется, из «Лос-Анджелес таймс». Один из них ваш знакомый. Как же его звали? Какая-то ирландская фамилия?
– Каллахан?
– Кажется, так.
– А другой случайно был не Бродманн?
– Нет, не помню. Я решил, что он тоже ирландец.
Я отвернулся от Хевера. Я стал чрезмерно подозрительным. Во мне шевелились смутные сомнения, но я постарался овладеть собой.
– Что ж, пусть с этим разбирается ваша служба по связям с общественностью. Они специалисты. Я дам им инструкции, когда вернусь.
Он пожал мне руку, затем, тяжело дыша, отправился на поиски такси. Я поехал обратно в Венецию.
Хевер был милым, добродушным человеком. Он никогда не причинил бы вреда миссис Корнелиус. И все же я расстроился, когда он заявил о своих намерениях. Я чувствовал отвращение к самому себе – не следовало поддаваться ревности. Возможно, я боялся, что миссис Корнелиус покинет меня навсегда. Я решил, что не стану беспокоиться по этому поводу, – просто предложу им обоим свою помощь и, если миссис Корнелиус примет предложение Хевера, свое благословение. Когда я встретился с ней на следующее утро, то сделал все, как меня просил Хевер. Она шла со мной на аэродром, чтобы отвезти мой автомобиль в новый дом на бульвар Кахуэнга. Я пытался сохранить прекрасное настроение, предвкушая полет и последующую встречу с Эсме. Нельзя было отрицать: я все еще мечтал о миссис Корнелиус. Возможно, я надеялся, что она когда-нибудь исполнит мою мечту. Но желания никак не влияли на мое поведение. Вернувшись в свой маленький дом в Сан-Хуане, я позвонил в детективное агентство, которому поручил наблюдение за предполагаемыми врагами. Мне ответила женщина. Она попросила перезвонить утром. Я сделал глупость – слишком долго откладывал этот звонок. На следующий день времени уже не было. Я утешал себя. В конце концов, в мире очень много ирландцев по фамилии Каллахан, а интервью я давал почти постоянно.
На следующее утро, забросив небольшой чемодан на заднее сиденье, я проехал по пустынным улицам. Телефонные столбы и провода чернели в бледном утреннем свете Лос-Анджелеса. Я поднялся по Санта-Монике, между массивными земляными валами, уже заросшими травой, и достиг отеля «Беверли-Хиллз». Я собирался встретиться с миссис Корнелиус, а потом с ней вместе поехать на Бербанк-флитплац. Она вышла из отеля, едва я остановил машину. Миссис Корнелиус была очаровательна как никогда – в розовом шелковом платье, украшенном двумя длинными нитями жемчуга, в светло-синей шляпке-клош и роскошных туфлях. Она была свежа, чиста и восхитительна. Теперь ей открыли кредит во всех модных магазинах. Я сказал, что она хорошо вложила деньги. Миссис Корнелиус засмеялась и чмокнула меня в щеку.
– Они, черт ’обери, так м’ня здесь любят, Иван! Леди Хэв, а? – воскликнула она. – Леди Хам, точнее. Какая штука! Никада не была та’ой х’рошей клиенткой. Нишо пообного. Х’рошие деньки, эт верно! – Сев в машину, миссис Корнелиус радостно рассмеялась и шутливо ткнула меня под ребра. – Я сделала тьбе одолжение. В этот раз оставила черт’в завтрак на тарелке! Какая жертва!
– Вы никогда не чувствовали…
– Забудь, Иван. – Она стала серьезной и решительно вздернула подбородок. Моя верная подруга смотрела прямо вперед, как всегда, когда ею овладевало какое-то сильное чувство. – Этот лосось был моей глупой ошибкой. Кроме то’о, тьбе надо и за собой ’олучше следить, Ты и я, да? Малькие птички. – Потом она смягчилась и снова засмеялась. Она коснулась моих коленей и быстро, почти по-дружески, сжала интимные места. – Не дай сво’му мелкому жидовскому дружку втянуть тьбя в неприятности.
Она знала о моей беде, о моем несчастном обрезании; подобные шутки она отпускала и прежде. Ее заботливость растрогала меня почти до слез. Я пообещал, что постараюсь.
Мы мчались по тихим каньонам, тянувшимся по другую сторону холмов. По обе стороны от нас вздымались ровные склоны. На вершинах стояли новые здания, дома небогатых знаменитостей, окруженные молодыми кустарниками и деревьями. Эти люди шли по стопам звезд. Теперь некоторые из великих правителей отправились дальше. Появилась мода на пляжные домики в Санта-Монике и Пасифик Пэлисэйдз. Дороги постоянно улучшались благодаря иммигрантам из других государств, сотни которых ежедневно заполоняли Лос-Анджелес. Здесь была работа для таких пришельцев из Айовы, хотя, по-моему, многих привлекала прежде всего перспектива пожить в одном городе с Фэрбенксом, Чаплином и Свэнсон.
Быстро спустившись в долину, мы окунулись в нереальный полумир. Фермы и сады исчезли, появились таблички с обозначениями домов и улиц, которые еще предстояло построить. Агенты по продаже недвижимости ждали клиентов. (Осенние стада мчатся на запад. Если приложить ухо к земле, можно услышать далекий стук копыт.) Сонные фруктовые плантации долины Сан-Фернандо исчезали. Ровные деревянные домики строились в тени усыпанных снегом гор Сьерры. Старинные названия были испанскими. Новые, английские, воплощали мечту об англо-саксонских деревушках, о крытых соломой уютных хижинах. По всей Америке люди наконец вспоминали о своих истинных корнях.
Наконец мы увидели впереди жесткую траву летного поля. Здесь стоял один ангар, увешанный старыми плакатами с рекламами странствующих театров. Я увидел непрезентабельный ветроуказатель, забор, ворота с большой красной надписью: «Не входите, если не летите». На поле стоял один биплан «DН‑4»; высокий худощавый пилот, прислонившись к фюзеляжу, курил сигарету и чистил летные очки, протирая их о брюки. Рой Белгрэйд был ветераном Летного корпуса, но он и теперь казался слишком юным для авиатора. Он зевнул, увидев меня, и щелкнул каблуками, окинув заинтересованным взглядом миссис Корнелиус, потом открыл ворота. Почти все в Голливуде называли Роя Белгрэйда самым лучшим пилотом. Тогда все еще считали полеты слишком рискованными и предпочитали вместо одного дня в воздухе проводить по трое суток в поезде. Я рассчитывал приземлиться на поле возле Нью-Джерси и потом, отыскав автобус или такси, добраться до города.
Рой Белгрэйд мельком заглянул в блокнот, который достал с заднего сиденья самолета.
– Вы полковник Палленберг, сэр? Добро пожаловать на борт компании «От берега до берега». Это я.
Он усмехнулся. Мы обменялись рукопожатием. Белгрэйд поклонился, когда я представил его миссис Корнелиус. Осмотрев пилота с близкого расстояния, я понял, что он выглядел как раз на свой возраст. Я прошел под большими тяжелыми крыльями «DН‑4» и заглянул через стекло в переднюю пассажирскую кабину. Владелец самолета попытался сделать ее удобной. Там были стойка с термосом, небольшая корзина с едой, несколько журналов. Все выглядело почти трогательно – как будто отделкой занимался ребенок. Вдобавок я заметил мягкие подлокотники и кожаную обивку.
– Все, кроме мамочкиной стряпни, – иронично заметил Рой. – Вы раньше летали, сэр?
Я кивнул. Миссис Корнелиус подошла, чтобы обнять меня. Она побаивалась самолетов. Она однажды летала, но чувствовала себя при этом очень плохо.
– Надеюсь, ты знашь, шо делашь, Иван.
Это замечание вызвало у меня улыбку.
– Моя дорогая, ЭОП-один превосходно выдержал испытания. У меня роскошный дом в Голливуде. Моя репутация полностью восстановлена, мое честное имя подтверждено. Через два дня на «Икозиуме» прибудет моя невеста. Кстати, должен сообщить, что мистер Хевер собирается сделать вам предложение!
Она нисколько не удивилась.
– Шо ты про это думашь?
– Он добрый и богатый. – Я не смог удержаться и подмигнул. – И почти слепой.
Она захихикала и оттолкнула меня.
– Наверно, я это сделаю, просто шоб оправдать твое доверие! Ты злой мелкий Shnorrer![350] Ты хуже мня. Будь осторожен, Иван. – Она осмотрела меня, как мать, в первый раз отпускающая сына в школу. – И не поддавайся на вранье, понял?
– Мои инстинкты редко меня подводят, миссис Корнелиус. Пожалуйста, успокойтесь. Меня ждет прекрасное будущее. Как и вас. Скоро вы будете так же знамениты, как Лилиан Гиш.
Ее это удивило еще сильнее.
– Да, – сказала она, – в Уайтчепеле. Лады, Иван. Бон вояж, черт ’обери, ’риятель.
Я забрался в переднюю кабину «DH‑4». Рой Белгрэйд сунул в рот пальцы и свистнул; из-за ангара выбежал мальчик в бриджах. Он был толстым и темнокожим. На один ужасный миг мне показалось, что он полетит с нами. Но мальчик просто положил мою сумку между мной и пилотом. Я натянул ремни безопасности и с удовольствием обосновался в мягком кресле. У меня в ногах располагался парашютный ящик с надписью: «Только в чрезвычайных ситуациях». Я из любопытства попытался открыть дверцу. Оказалось, что она заперта. Когда мне все же удалось ее слегка приподнять, я обнаружил, что все отделение забито бутылками с мексиканской выпивкой. Помимо почты Рой вез в Нью-Йорк небольшой частный груз. Меня это не обеспокоило. «DH‑4» можно было только сбить, самолет практически не мог потерпеть крушение. Der shvartseh vos kumen[351] запускает пропеллер, мускулы на его руках напрягаются, кожа покрывается бисеринками пота. Миссис Корнелиус энергично машет мне, ее левая рука движется от шляпки к юбке и обратно к шляпке – моя спутница пытается придержать свою одежду, которая развевается на ветру. Ведь пропеллер раскручивается. Его лопасти звенят и хрипят, кружась все быстрее и быстрее, пока весь самолет не начинает трястись. Темнокожий мальчик внезапно появляется с другой стороны от моей кабины. Он смеется. Ikh hob nisht moyre! Vemen set er? Ver is doz? Ikh vash zikh. Di kinder vos farkoyft shkheynim in Berlin…[352] Он исчезает. Неужели этот смеющийся демон все еще цепляется за фюзеляж? Темные существа служат Карфагену. Миссис Корнелиус исчезла. Но я на миг увидел Бродманна. Неужели это он выходит из ангара и приближается к моему автомобилю? Или это shvartseh? О чем они сговариваются? Неужели мне никогда не обрести свободы? Какие силы увлекли меня в Византию и Рим? Сам ли я решил отправиться в Нью-Йорк? Самолет начинает петь новую песню, и мы отрываемся от земли. Вот оно – великое спасение полета. Мы поднимаемся над уменьшающимся полем. Розовый шарф развевается над моим маленьким зеленым «пежо». Я вернусь с Эсме через неделю. Моя кровь поет. Я поправляю застежки на шлеме и очках, надеваю перчатки. Wir empfangen es schlecht. Es ist zu viel Störung. Я оборачиваюсь. Der Flugzeugführer sitz im Führersitz…[353] Он кивает, нажимая на руль и отправляя нас вверх, к скалистым утесам и далеким снегам Высокой Сьерры. Бродманна больше не видно, даже если он и был где-то там. Но маленькое темнокожее существо, мне кажется, еще цепляется за фюзеляж, угрожая сбросить нас вниз. Карфаген не позволит людям летать.
Я вернусь в город золотой мечты. Я все еще чувствую запах Калифорнии с ее океаном, с великолепными полями, с драгоценными металлами и цветущими бульварами. Я чувствую запах грядущей Утопии, почти воплощенной в жизнь. Эсме подумает, что это сон. Wo sind wir jetzt? Es tut mir heir weh. Ich weiss nicht was los ist. Es tut sehr weh! Wir haben drei Jahre gewartet[354]. Мы вернемся в цитадель. Она меняется слишком часто, и ее нельзя ни захватить, ни разрушить. Варвары полагают, что завоевали ее, но они живут в мире иллюзий. Der flitshtot vet kumen[355]. Даже если мне будет угрожать смертельная опасность, город сумеет меня спасти. Я никогда не стану мусульманином. Их красная лава поглотила мою мать. Как можно доверять Бродманну? Он преследовал меня слишком долго. Никто не имеет права красть мое будущее! Маленькое черное существо разжимает хватку и уносится прочь, падает куда-то в предгорья, которые теперь сменяют равнины. Nit shuld! Nit shuld![356] Они утверждают, что все одинаково повинны в великих преступлениях. Но я заявляю: все мы – невиновны! Если прав один – прав и другой. Ikh blaybn lebn… Я выживу. Карфаген больше не посмеет угрожать мне своими кнутами, он не испачкает мое лицо своей грязью. Я слишком стар и слишком горд, чтобы позволить Карфагену смеяться, тыкать в меня пальцами и грубить.
Ночные улицы пустынны, черный дождь блестит и шипит, смешиваясь с маслом из дюжины дешевых кафе, со всеми испражнениями собак и людей; и огни верхних этажей внезапно исчезают. Конечно, остаются сирены и далекие боевые кличи, отрывистые проклятия, осуждения, похвалы. Думаю, со мной что-то не так. Я ничего не ел, и все же живот у меня начинает болеть. Я гашу керосиновую лампу (забастовки на электростанциях случаются слишком часто) и выглядываю за занавеску. Опустив голову, вытянув руки, скривив спину, какой-то счастливый алкоголик пытается помочиться у дверей греческого ресторанчика. Он, кажется, почти такой же старый, как я. Он одет в грязный твидовый пиджак, мятые серые брюки и рубашку без воротника. Он яростно ругает себя, каясь в каком-то fartsaytik[357] преступлении. Как я могу осудить кого-то из них? По крайней мере, я знаю своего врага и понимаю, что меня губит. Они не смогли надолго удержать меня. Я для них всегда был слишком скользким. Завтра я закроюсь рано. Я оставлю эти gelekhter и эти glitshik fantazye[358] позади и пойду на юг, а не на север, в целительные парки того, другого Кенсингтона. Я был настоящим luftmayster, повелителем воздуха, в давние времена, когда это считалось истинным подвигом. Все, что им нужно теперь, – длинные волосы и гитары. Да, я потешаюсь над их нелепыми костюмами. Но мне приходится закрывать окно, когда они расходятся по домам, – на улице слишком сильно воняет их рвотой. Ikh bin Luftmayster, N’div auf der Flitstat. Firt mikh tsu ahin, ikh bet aykh. Firt mikh tsu ahin…[359]
«DH‑4» набирает высоту, чтобы пролететь между самыми высокими горами. Я могу разглядеть, как вечные потоки снега стекают по склонам. Я бегу из рая. Говорят, в рай вернуться нельзя, но это неправда. Мы пересечем равнины и Скалистые горы, я и Эсме, мы преодолеем пустыни и холмы, а потом вернемся в нашу долину. Здесь нет для меня ни Schutzhaft[360], ни Бухенвальда, ни ГУЛАГа – только для японцев. Здесь можно быстро творить будущее, здесь есть люди, посвятившие все силы решению технических проблем, воплощению величественных фантазий. Здесь появятся мои города. Голливуд станет моим флагманом. Древние города Европы и Америки нужно чтить, они величественны, их необходимо сберечь. Города Малой Азии, Африки и Дальнего Востока тоже представляют интерес. Но если Константинополь не сможет стать городом императора, то придется построить Новую Византию, которая будет сопротивляться Карфагену. Я могу сделать ее реальной и не собираюсь даже balebos. Eybik eyberhar? Vos is dos?[361]
Они огромны, эти корабли. Города, независимые во всех отношениях. Они со спокойным достоинством движутся в верхних слоях атмосферы. Как легко они преодолевают обманчивое притяжение Карфагена! Вот вдали показались огромные летающие дети «Мавритании» – таков логичный финал нашей западной истории. Они чисты, и они сверкают на солнце, как серебро. Они появляются на горизонте, они дрожат, от них исходит золотой блеск, потом массивные двигатели мчат корабли вперед и вверх – и они исчезают.
Прикованные к земле жертвы, и завоеватели, и завоеванные, на мгновение поднимают головы вверх. Если бы им разрешили думать, они пришли бы к выводу, что увидели небеса. Es war nicht meine Schuld. Они двигаются вяло, как холодные рептилии, которым нужно солнце. Их конечности тонут в грязи. Они – opfal[362], говорят владыки Карфагена. Они присягнули прошлому, поэтому должны умереть. Wie viele? Ich klayb pakistanish shmate. Ikh veys nit[363]. Они возвращаются к своим неспешным битвам, эти рабы султана, эти musseimanisch, эти lagerflugen. Ikh varshtey nit.
В чистом воздухе, на невероятной высоте, веют флаги величайших наций мира. Они невидимы, прекрасны и полны жизни. Эти города – совершенные порождения человеческой фантазии. Если на них нападут – из башен вылетят миллионы серебряных рыцарей, подобные воинственным ангелам. Пусть Карфаген делает со своими грязными завоеваниями все, что пожелает. Мы свободны.
Я отвергаю прошлое. Оно уже бесполезно. Его руки заманивают меня в ловушку. Теперь я ухожу в будущее и там стану жить со своей нареченной, с моей Эсме, моей невестой, моей сестрой и моей розой. Я унесу ее с Востока в совершенный город Запада, и там мы будем жить в вечной гармонии рядом с равными нам, в благороднейшей из всех грез: der Heim. Золотой город надежды, очищенный и возрожденный: мой нерушимый Голливуд.
Ven vet men umkern mayn kindhayt?
Wie lange wir es dauern?[364]
Примечания
1
Бимбаши (букв, «тысяча голов») – в Турции – командующий полком, состоящим из тысячи солдат.
(обратно)2
Не совсем точно – решение об увековечении памяти погибших было принято уже в марте 1945 г. Однако именно со стихотворением Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанным в 1961 г., связано пробуждение общественного интереса к трагическим событиям. В 1966 г. в Бабьем Яре прошел первый неофициальный митинг памяти, на котором присутствовало не менее тысячи человек, в том числе и авиаконструктор Олег Антонов. Неясно, идет ли речь именно о нем. Судя по контексту, Муркок имеет в виду Анатолия Кузнецова, создавшего на основе детских воспоминаний документальный роман «Бабий Яр». Книга в сокращенном виде была опубликована в СССР в 1965 г., полная версия вышла за границей после того, как Кузнецов стал невозвращенцем.
(обратно)3
Мэри Элизабет «Бесси» Тайлер (1881–1924) – специалист по связям с общественностью из Атланты, с 1920 г. сотрудничала с Эдвардом Янгом Кларком и помогла ему превратить изначально бессильный второй ку-клукс-клан в массовую организацию, которую поддерживали различные слои общества.
(обратно)4
Министерство юстиции США, объединяющее функции Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, было создано в 1870 г. Бюро расследований появилось в 1908 г. Одна из его задач – внутренний контроль и сбор разведывательных данных.
(обратно)5
«Мемфисский коммерческий вестник» – одна из крупнейших ежедневных газет в США. Позиция газеты в вопросах расовой дискриминации отличалась неоднозначностью – здесь печатался один из самых популярных расистских комиксов «Мысли Гамбоне», и в то же время в 1923 г. «Вестник» получил Пулитцеровскую премию за разоблачения ку-клукс-клана. По позднейшим сведениям, газета находилась под контролем ФБР.
(обратно)6
Это была не моя вина (нем).
(обратно)7
Я вижу кошмар (тур.).
(обратно)8
Степни – рабочий район Лондона.
(обратно)9
Флоренс Найтингейл (1820–1910) – сестра милосердия. Участвовала в Крымской войне. Основала первую школу медсестер, занималась реорганизацией армейской военной службы.
(обратно)10
Речь идет о падении Константинополя – захвате столицы Византийской империи турками-османами под предводительством султана Мехмеда II в 1453 г.
(обратно)11
Мне больно здесь (нем.).
(обратно)12
Батум – название города Батуми до 1936 г.
(обратно)13
Извините меня (искаж. нем.).
(обратно)14
Я вам обещаю! (нем.)
(обратно)15
Что это значит? (тур.)
(обратно)16
Так на диалекте кокни звучит припев из популярного мюзик-холльного номера «Джимми Бин» («Что за мужчина!»).
(обратно)17
Мойра – в древнегреческой мифологии богиня судьбы.
(обратно)18
Война бесконечна. Лучшее, на что мы можем надеяться, – это короткая передышка (нем.).
(обратно)19
Букв. «до полудня» (чешек.).
(обратно)20
«Гинденбург» – дирижабль, построенный в Германии в 1936 г., на тот момент самый большой в мире. В 1937 г., выполняя посадку на главной воздухоплавательной базе военно-морских сил США в Лейкхерсте, наполненный пожароопасным водородом, загорелся и потерпел крушение. В катастрофе погибли 35 из 97 находившихся на борту человек, а также один член наземной команды. Одной из версий крушения называют террористический акт.
(обратно)21
Безумие (чешск.).
(обратно)22
Сербитон – район Лондона на правом берегу Темзы. Твикенхэм – западное предместье Лондона. Парли – округ Южного Лондона.
(обратно)23
«Марплз Риджуэй» – британская инженерная компания, основанная в 1948 г. инженером Реджинальдом Риджуэем и финансистом Эрнестом Марплзом, который служил министром транспорта. Когда стало известно о контрактах компании, началось судебное разбирательство о конфликте интересов.
(обратно)24
Имеется в виду войсковой собор Святого Александра Невского, разрушенный православный собор в Батуми. Закладка и освящение фундамента происходили в присутствии императора Александра III и членов императорской семьи. Собор разрушили в 1936 г. в ходе атеистической кампании. Фундамент его послужил основанием нового здания гостиницы «Интурист».
(обратно)25
Англо-советское торговое соглашение, подписанное в Лондоне 16 марта 1921 г., было первым соглашением общего характера между Советской Республикой и Великобританией, а также первым соглашением Советской Республики с одной из великих держав.
(обратно)26
Державна варта – служба правопорядка Украинской державы гетмана Павла Скоропадского во время гражданской войны на Украине.
(обратно)27
Я иду вместе с ним (искаж. араб.).
(обратно)28
Анубис – в египетской мифологии бог, покровитель умерших.
(обратно)29
Rum – грек (тур.).
(обратно)30
«Ветер дует с северо-востока» (тур.).
(обратно)31
Имеется в виду стихотворение «Отпустительная молитва» Р. Киплинга: «Исчезнет наш могучий флот, / Огни замрут береговые. / И наша слава упадет, / Как пали Тир и Ниневия» (пер. Н. Чуковского).
(обратно)32
Она пала (фр.).
(обратно)33
Гранд-базар – один из самых крупных крытых рынков в мире, расположенный в старой части Стамбула.
(обратно)34
Киф – североафриканское название гашиша.
(обратно)35
Видите, что здесь кроется? (тур.)
(обратно)36
Византии – древнегреческий город, на месте которого был основан Константинополь.
(обратно)37
Мало, велико (тур.).
(обратно)38
«О век, ты весна, человек! На заре зерно будущего он сеет, твоим огнем остаток века деет» (пол.).
(обратно)39
Чужак (нем.).
(обратно)40
Морозец, холодок (идиш).
(обратно)41
Барнс Невилл Уоллес (1887–1979) – английский ученый, инженер и изобретатель, создатель специализированных авиабомб.
(обратно)42
«Разрушители плотин» – фильм Майкла Андерсона 1955 г., посвященный военной операции 1943 г., во время которой английские войска впервые использовали «прыгающие бомбы» Барнса Уоллеса.
(обратно)43
Речь идет о Галлиполийском сражении (1915 г.), Месопотамской кампании (1914–1918), Великом арабском восстании (1916–1918) – важнейших эпизодах военного конфликта между Британской и Османской империями.
(обратно)44
«Мне плохо. Пожалуйста, принесите мне чашку» (нем.).
(обратно)45
Пьят путает Джона Донна (1572–1631), английского поэта и проповедника, крупнейшего представителя литературы английского барокко, с Джоном Уильямом Данном (1875–1949), инженером, философом и писателем, создателем многомерной концепции времени; Джона Бойнтона Пристли (1894–1984), английского романиста, эссеиста, драматурга и поклонника теорий Данна, – с певцом Элвисом Пресли (1935–1977).
(обратно)46
Пьят снова путает: роман «Война в Небесах» (1930) написал Ч. Уильямс (1886–1945), британский писатель, поэт и литературный критик, теолог, друг Дж. Р. Р. Толкина и К. С. Льюиса.
(обратно)47
Дэвид Ллойд Джордж (1863–1945) – премьер-министр Великобритании от Либеральной партии с 1916 по 1922 г.
(обратно)48
Абдул-Хамид II (1842–1918) – последний султан Османской империи.
(обратно)49
«Новый ученый» – английский научно-популярный еженедельник, посвященный исследованиям в науке и технологиях.
(обратно)50
Трофим Денисович Лысенко (1898–1976) – советский агроном и биолог, основатель мичуринской агробиологии, академик АН СССР. Фред Хойл (1915–2001) – британский астроном и космолог, автор научно-фантастических романов. Вместе с Г. Бонди и Т. Голдом разработал стационарную модель Вселенной, которая постулирует независимость процессов появления материи и расширения Вселенной. Считается, что именно Хойл впервые употребил термин «Большой взрыв».
(обратно)51
«Вимпи» – сеть ресторанов быстрого питания, основанная Э. Голдом в 1934 г. в Индиане. В Англии рестораны появились в 1954 г., быстро завоевали популярность, но потом уступили «Макдоналдсам».
(обратно)52
Джозеф Рэймонд Маккарти (1908–1957) – американский сенатор. Проводил политику административных и судебных репрессий, направленных против левых организаций, известную как маккартизм.
(обратно)53
Стамбул расположен на берегах пролива Босфор, разделяющего город на европейскую и азиатскую части, соединенные мостами. Также упоминаются районы города: Галата – исторический район европейской части Стамбула, основанный генуэзскими колонистами в поздневизантийскую эпоху как предместье Константинополя, позднее стал основным торговым районом города; Пера – прежнее наименование района Бейоглу в европейской части Стамбула, окруженного водами Босфора и бухты Золотой Рог.
(обратно)54
Творения Его! (тур.)
(обратно)55
Вторая греко-турецкая война (1919–1922) считается неотъемлемой частью войны за независимость Турции. Несмотря на первоначальные успехи греческих войск (к лету 1921 г. им удалось оккупировать почти весь запад Малой Азии), она закончилась для Греции полным разгромом и греко-турецким обменом населением. Значительную роль в победе турок сыграла поддержка со стороны большевистской России.
(обратно)56
Бэзил Захарофф (1849–1936) – греческий торговец оружием, фабрикант. Один из богатейших людей мира, заслуживший прозвища «торговец смертью» и «самый таинственный человек Европы». Основа его успеха – агрессивная тактика, хитрость и двуличие. Он продавал оружие всем участникам конфликтов, часто поставлял поддельные и неработающие машины, не брезговал саботажем. Работал в фирме «Викерс» с 1897 по 1927 г.
(обратно)57
Мустафа Кемаль Ататюрк (1881–1938) – турецкий реформатор, основатель Республиканской народной партии Турции, первый президент Турецкой Республики, основатель современного Турецкого государства.
(обратно)58
«Викерс – Армстронг» – британский инженерно-промышленный конгломерат, специализировавшийся на судостроении и производстве танков.
(обратно)59
Я не могу ждать так долго (нем.).
(обратно)60
На самом деле кока-колу запатентовали только в 1886 г. в качестве средства от кашля. Среди ее ингредиентов были орехи тропического дерева колы и листья коки, из которых в 1859 г. А. Ниман выделил особый компонент, названный кокаином. В конце 1890‑х гг. общественное мнение повернулось против кокаина, а в 1903 г. в газете «Нью-Йорк трибьюн» появилась разгромная статья, утверждавшая, что именно кока-кола виновата в том, что упившиеся ею негры из городских трущоб начали нападать на белых людей. После этого в кока-колу стали добавлять не свежие листья коки, а уже выжатые, из которых был удален весь кокаин.
(обратно)61
«Сказание о старом мореходе» – поэма С. Колриджа, написанная в 1797–1799 гг. Основной эпизод мистического сюжета – убийство альбатроса, ставшее проклятием для моряка.
(обратно)62
Томас Стернз Элиот (1888–1965) – американо-английский поэт-модернист, драматург и литературный критик.
(обратно)63
«Единение и прогресс» – политическая организация турецких буржуазных революционеров-младотурок. Основными целями партии было смещение режима султана Абдул-Хамида II, восстановление конституции 1876 г. и созыв парламента. После вступления войск союзников в Стамбул лидеры партии бежали за границу. После судебного процесса 1919–1920 гг. многих руководителей организации приговорили к смерти.
(обратно)64
Куруш – турецкая монета, 1/100 лиры.
(обратно)65
Йены Джами, или Новая мечеть – одна из самых больших мечетей Стамбула, построенная в 1597–1665 гг., расположенная в старой части города.
(обратно)66
Галатская башня – один из символов Стамбула. Расположена в европейской части столицы, на высоком холме в районе Гагата. Ее видно почти со всех точек центральной части города.
(обратно)67
Йылдыз-палас (Йылдыз-сарай) – дворцовый ансамбль оттоманских павильонов и вилл в Стамбуле, построенный в XIX – начале XX в.
(обратно)68
Видимо, речь идет о жителях крупнейшего непальского города Патан. Британская экспедиция в Тибет – один из последних эпизодов Большой игры Британской империи в 1903–1904 гг., события которой отразились во множестве приключенческих романов. Она завершилась капитуляцией Тибета и мирным договором 1904 г. Это практически уничтожило независимость Тибетского государства.
(обратно)69
«Рождение нации» (1905) – американский художественный фильм Д. Гриффита по роману и пьесе преподобного Т. Диксона-мл. «Участник клана» (1905). «Кабирия» (1914) – немой итальянский художественный фильм Д. Пастроне, прообраз жанра «пеплум».
(обратно)70
Думается, не случайно фамилия напоминает о первом романе Дж. Конрада «Каприз Олмейера» (1895). Заглавный герой, голландский купец, одержим идеей разыскать сокровища пирата Лингарда, зарытые в малайских джунглях, чтобы затем вернуться вместе со своей дочерью Ниной в Европу богатым человеком. После того как Нина, чьей матерью была малайка, уходит к местному торговцу, обманувшему доверие Олмейера, последний пытается найти забвение в опиуме и вскоре погибает.
(обратно)71
Лемнос – греческий остров в Эгейском море, куда в 1920 г. в качестве беженцев из Крыма прибыли более 18 тысяч кубанских казаков из армии барона Врангеля. Здесь же находился лейб-гвардии Донской корпус, терские и астраханские станичники, многие были с семьями. Они провели на острове более года. В ноябре 1921 г. часть казаков перебросили в Югославию и Болгарию, другие разъехались по многим странам мира. На Лемносе покоятся останки около 500 человек, в том числе женщин и детей.
(обратно)72
Джидда – город в западной части Саудовской Аравии, второй по величине в стране, «экономическая столица», крупнейший в округе Мекка.
(обратно)73
«Маршем через Джорджию» – популярный марш северян времен Гражданской войны 1861–1865 гг.
(обратно)74
Эрнест Уэлдрейк – вымышленный поэт Викторианской эпохи. Эту маску изобрел Ч. Э. Суинберн (1837–1909). Уэлдрейк неоднократно упоминается в произведениях Муркока, часто цитируются его произведения.
(обратно)75
Неясно, какого Уильяма Скотта имеет в виду Пьят. Уильям Скотт, умерший в 1350‑х гг., был одним из крупнейших законников своего времени, а Уильям Скотт, живший с 1803 по 1871 г., – шотландским либеральным политиком, заседавшим в Палате общин.
(обратно)76
Когда я снова тебя увижу? (нем.)
(обратно)77
Сколько нам еще ждать? (нем.)
(обратно)78
Малышка! (тур.)
(обратно)79
Моя сестра! Моя роза! Солнце уж погасло! И все потемнело! Господи Иисусе! (польск.)
(обратно)80
Сестра! (фр., um… нем., идиш, исп.)
(обратно)81
«Там девушка!» (тур.)
(обратно)82
«Капитан! Кабальеро! Господин! Превосходительство!» (исп., ит., греч.)
(обратно)83
Кондоскала – греческий квартал, расположенный неподалеку от Голубой мечети. Знаменит греческими храмами.
(обратно)84
Цистерна Базилика – одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. Расположена в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет напротив Айя-Софии.
(обратно)85
На самом деле Турция вступила в ООН в 1945 г., а 20 июля 1974 г. турецкие войска вторглись на территорию Кипра в ответ на произошедший там 15 июля переворот, предпринятый греками-киприотами, поддержанный греческим режимом «черных полковников». В результате вторжения была оккупирована северная часть Кипра. Тринадцатого февраля 1975 г. на оккупированной Турцией северной части Кипра провозгласили Турецкое Федеративное Государство Кипр как часть несуществующей Федеративной Республики Кипр.
(обратно)86
Точнее, Этхем-черкес – османский и турецкий военный деятель времен Войны за независимость Турции. Прославился как военачальник в так называемых Национальных силах. Впоследствии возглавил одно из крупнейших восстаний против Мустафы Кемаля Ататюрка. После разгрома восстания бежал за границу, в 1930‑х гг. был амнистирован, но на родину не вернулся, умер в Иордании. Увлекался идеями В. И. Ленина.
(обратно)87
Экмек кадаиф – один из вариантов десерта кадаиф, подается с густыми турецкими сливками, каймаком. Похож на щедро пропитанный сахарным сиропом пористый корж.
(обратно)88
Обморок имама (имам-байялды) – закуска из баклажанов с перцем, луком и вялеными помидорами.
(обратно)89
Да (фр.).
(обратно)90
Очень хорошо. Очень хорошо (фр.).
(обратно)91
Речь идет о казачьем Кубанском конном отряде особого назначения – спецподразделении для проведения диверсионных и разведывательных операций, которым руководил А. Г. Шкуро. Стяг «Волчьей сотни» был разработан лично А. Г. Шкуро и представлял собой черное поле с изображением повернутой в профиль волчьей головы белого цвета с налитыми кровью глазами и оскаленными белыми клыками. Носилось это знамя на древке, украшенном несколькими волчьими хвостами, и было похоже на старый казачий бунчук. Во время гражданской войны Шкуро стал генералом, «Волчья сотня» сражалась под Владикавказом. Потом казачьи «Волчьи сотни» появились уже в немецкой армии в 1943 г. А в Китае воевали участники особой дивизии П. Анненкова, однако их знамя было несколько иным – черный стяг с адамовой головой.
(обратно)92
Это очень больно (нем.).
(обратно)93
Речь идет об Улудаге, самой значительной горной вершине на всей западной части полуострова Малая Азия. В Античности ее называли Малым Олимпом.
(обратно)94
Мастика – смола, полученная из мастичного дерева. Используется в кулинарии для приготовления различных смесей и турецкого кофе.
(обратно)95
Дуглас Фэрбенкс (1883–1939) – американский актер, звезда эпохи немого кино. Рудольф Валентино (1895–1926) – американский киноактер, секс-символ эпохи немого кино.
(обратно)96
«Хочу есть», «Хочу пить» (тур.).
(обратно)97
«Багдадский вор» (1924) – американский немой кинофильм Рауля Уолша с участием Дугласа Фэрбенкса.
(обратно)98
Элефтериос Кириаку Венизелос (1864–1936) – греческий политик, восемь раз становившийся премьер-министром Греции в период с 1910 по 1933 г.
(обратно)99
Имеется в виду четвертьвековой юбилей правления Елизаветы II, который отмечался в 1977 г. (год смерти Пьята).
(обратно)100
Нелли Мельба (1861–1931) – австралийская оперная певица.
(обратно)101
Миклош Хорти, витязь Надьбаньяи (1868–1957) – правитель Венгерского королевства в 1920–1944 гг., адмирал.
(обратно)102
Когда же мы вернемся? (нем.)
(обратно)103
Генри Джон Темпл, третий виконт Палмерстон (1784–1865) – английский государственный деятель. Долгие годы руководил обороной, затем – внешней политикой Великобритании. С 1855 по 1865 г. – премьер-министр Великобритании.
(обратно)104
Гидра, точнее, Идра – греческий остров, расположенный в заливе Сароникос, близ восточного побережья полуострова Пелопоннес.
(обратно)105
Добрый день, господин, госпожа! (um.)
(обратно)106
Я рад, что вы приехали (um.).
(обратно)107
Доктор? (ит.)
(обратно)108
Нет! Понимаю! Город! (ит.)
(обратно)109
Габриеле д’Аннунцио (1863–1938) – итальянский писатель, поэт, драматург, политический деятель. Был сторонником Муссолини. Возглавил националистическую экспедицию, захватившую в 1919 г. хорватский портовый город Риеку. Итальянцы называют этот город Фиуме. Д’Аннунцио присвоил себе титул «команданте» и стал фактическим диктатором Республики Фиуме, где он внедрил многие элементы политического стиля фашистской Италии: массовые шествия в черных рубашках, воинственные песни, древнеримское приветствие поднятой рукой и эмоциональные диалоги толпы с вождем. В декабре 1920 г., в связи с решительным требованием Антанты, итальянское правительство вынудило д’Аннунцио и его отряд покинуть Риеку. Д’Аннунцио получил титул князя в 1924 г., в 1937 г. возглавил Королевскую академию наук.
(обратно)110
«Последние дни Помпеи» (1913) – итальянский черно-белый немой фильм, поставленный М. Казерини и Э. Родольфи по мотивам одноименного романа Э. Дж. Бульвер-Литтона.
(обратно)111
Джованни Джолитти (1842–1928) – итальянский политический деятель, премьер-министр Итальянского королевства. Пытался сохранить нейтралитет Италии, поначалу поддерживал Муссолини, но в 1921 г. резко перешел в оппозицию.
(обратно)112
Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944) – итальянский писатель, поэт, основоположник и теоретик футуризма.
(обратно)113
Диалекте (фр.).
(обратно)114
Умберто Боччони (1882–1916) – итальянский живописец, скульптор, теоретик футуризма.
(обратно)115
Слово «фашизм» происходит от итальянского «fascio» – «союз». Это слово, в свою очередь, восходит к латинскому «fascis» – «связка, пучок», которым, в частности, обозначались символы магистратской власти – фасции, связки прутьев с воткнутым в них топором. Фасции носили ликторы – почетная стража высших магистратов римского народа. Фасции символизировали право применять силу от имени народа – вплоть до смертной казни. С тех пор изображение фасций присутствует в символах государственной власти многих стран.
(обратно)116
Посторонитесь! (um.)
(обратно)117
Так хорошо? (нем.)
(обратно)118
Я в это не верю! (нем.)
(обратно)119
Поход на Рим состоялся 30 октября 1922 г. По приказу Муссолини вооруженные колонны вступили в Рим. Король Италии предложил Муссолини пост главы правительства. Таким образом Италия стала первой страной, в которой пришли к власти фашисты.
(обратно)120
Извините, двигатель перегрелся! (фр., нем.)
(обратно)121
Сэр Освальд Эрнальд Мосли (1896–1980) – британский политик, баронет, основатель Британского союза фашистов. В 1959 г. участвовал в выборах в парламент, но безуспешно. Впоследствии он попытался создать Национальную партию Европы с целью объединить ведущие крайне правые организации стран.
(обратно)122
Западной Европы, однако ему это не удалось.
Эдвард Джеффри Хэмм (1915–1992) – соратник Освальда Мосли, занявший его место лидера после Второй мировой войны.
(обратно)123
Джордж Линкольн Рокуэлл (1918–1967) – американский политический деятель, расист, антисемит, основатель Американской нацистской партии.
(обратно)124
Бубастис – древнеегипетский город, покровительницей которого считалась Баст, или Бастет, богиня радости и веселья, изображавшаяся в виде женщины с головой кошки.
(обратно)125
Верно? (нем.)
(обратно)126
Букв, «вторые места» (ит.), дальняя часть зрительного зала.
(обратно)127
Страны Оси, или гитлеровская коалиция – военный союз Германии, Италии, Японии и других государств, которому во время Второй мировой войны оказывала сопротивление антигитлеровская коалиция.
(обратно)128
Альберто Сантос-Дюмон (1873–1932) – французский воздухоплаватель, авиатор. Построил первый практически пригодный дирижабль.
(обратно)129
Финеас Тейлор Барнум (1810–1891) – известнейший американский шоумен, цирковой антрепренер.
(обратно)130
Русским профессором (фр.).
(обратно)131
Маленьким полковником (фр.).
(обратно)132
Антуанетт. Ферро, Ванда Сшъвано – французские актрисы.
(обратно)133
Ресторан «Лаперуз», основанный поваром Людовика XV еще в 1766 г., располагается в историческом центре Парижа. Из его окон открывается вид на Сену и остров Сите.
(обратно)134
Жозеф Жером Лефрансуа де Лаланд (1732–1807) – французский астроном. Гийом Аполлинер (1880–1918) – французский поэт, один из наиболее влиятельных деятелей европейского авангарда. Конечно, Пьят никак не мог встречаться ни с тем, ни с другим, но связь между астрономом и поэтом обнаружить несложно: в текстах Аполиннера имя Лаланда упоминается неоднократно.
(обратно)135
Сведений о такой газете обнаружить не удалось.
(обратно)136
Мэри Пикфорд (1892–1979) – знаменитая актриса, легенда немого кино. Мак Сеннет (1880–1960) – американский кинорежиссер, продюсер, создатель жанра эксцентрической комедии.
(обратно)137
«Маленькая сиротка Энни» – американский комикс, созданный Гарольдом Грэем. На его основе был создан знаменитый мюзикл, а также снят художественный фильм, удостоенный премии «Оскар» в 1983 г.
(обратно)138
Авеню Рузвельта получила это название в 1945 г. и сохранила его до сих пор.
(обратно)139
«Ангелюс» – «Ангел Господень» – католическая молитва.
(обратно)140
«Кабинет доктора Калигари» (1920) – немой фильм Р. Вине, положивший начало немецкому киноэкспрессионизму.
(обратно)141
Перечисляются фильмы Фрица Ланга (1890–1976), немецкого кинорежиссера, с 1934 г. жившего и работавшего в США, одного из величайших представителей немецкого экспрессионизма.
(обратно)142
Фильм «Пауки» (1919) действительно признается самым простым фильмом Ланга. Эта приключенческая лента о поисках сокровищ долгое время считалась утерянной и обнаружена только в 1970‑х гг.
(обратно)143
Голта – исторический район украинского города Первомайска. В 1919 г. отступавшие части Добровольческой армии устроили там погром. Во время Второй мировой войны в Голте было создано гетто для евреев из Бессарабии и Буковины.
(обратно)144
«Оксфордские мешки» – свободные мешковатые брюки, которые носили студенты Оксфорда в 1920–1950 гг.
(обратно)145
Вероятно, здесь смешаны Русский легион чести, специальное формирование из военнослужащих Русской императорской армии, участвовавшее в Первой мировой войне в составе вооруженных сил Франции, сформированное после Февральской революции в России из числа добровольцев распущенного Русского экспедиционного корпуса, и французский орден Почетного легиона, основанный Наполеоном Бонапартом по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.
(обратно)146
Я омыл все свои прегрешения. Я смыл все свои грехи в воде. Я сделал ташлих (идиш). Ташлих – «ты выбросишь» (иврит), церемония в первый день Рош а-Шана, которую проводят возле моря или реки. Название очистительного обряда заимствовано из библейской цитаты: «И Ты повергнешь в пучину морскую все грехи их» (Мих., 7, 18–20).
(обратно)147
Наивностью (фр.).
(обратно)148
Изамбард Кингдом Брюнель (1806–1859) – британский инженер. Построил огромный, полностью металлический пароход «Левиафан», впоследствии переименованный в «Грейт Истерн». Брюнель спроектировал его в 1852 г. На создание лайнера инженеру понадобилось потратить много лет и преодолеть всякого рода материальные и физические препятствия. Сильное напряжение привело его к преждевременной смерти – во время приготовлений к пробному плаванию «Грейт Истерн» Брюнеля поразил апоплексический удар, от которого он и умер в Вестминстере 15 сентября 1859 г.
(обратно)149
«Розой Киева» (фр.).
(обратно)150
Пьят опять путает леди Джанет Бейкер (род. 1933), известную английскую оперную певицу, и Жозефину Бейкер (1906–1975), французскую танцовщицу, певицу и актрису американского происхождения.
(обратно)151
Андре Леон Блюм (1872–1950) – французский политик, первый социалист и еврей во главе французского правительства.
(обратно)152
Вообще-то болезнь бабочки – буллезный эпидермолиз. Это редкое генетическое заболевание, при котором любое, даже самое незначительное, трение или прикосновение может вызвать разрушение кожного покрова.
(обратно)153
Мистангет (наст, имя – Жанна-Флорентина Буржуа (1875–1956)) – знаменитая французская певица, актриса кино, легенда кабаре «Мулен Руж».
(обратно)154
Серж Александр Ставиский (1886–1934) – французский мошенник еврейско-украинского происхождения. Известен участием в афере с одним из ведущих французских банков – Ссудно-закладным банком г. Байонны. Эта афера привела к политическому кризису во Франции и попытке фашистского путча в Париже в феврале 1934 г. По версии полиции, Ставиский застрелился 8 января 1934 г. в альпийском шале.
(обратно)155
Мне палец в рот не клади! (искаж. идиш)
(обратно)156
Это, должно быть, ошибка. Я не забыл (ит.).
(обратно)157
Я не забыл! (идиш)
(обратно)158
«Мавритания» – британский пассажирский лайнер, принадлежавший компании «Кунард Лайн». В 1907 г. установил рекорд скорости, завоевав «Голубую ленту Атлантики». Цитируются строки из стихотворения Р. Киплинга «Секрет машин»: «Твоих команд круизный лайнер ждет, / Найдешь ты „Мавритании“ причал, / И двинет капитан рычаг вперед – / И монстр девятипалубный помчал!» (пер. В. Филиппова).
(обратно)159
«Лузитания» – британский трансатлантический пассажирский паротурбинный теплоход, принадлежавший, как и «Мавритания», компании «Кунард Лайн». В мае 1915 г. корабль был атакован германской субмариной 11–20 и затонул за 18 минут в 19 км от берегов Ирландии.
(обратно)160
«Максимальная скорость!» (ит.)
(обратно)161
Видимо, речь идет о последнем «великане» компании «Кунард Лайн» «Куин Мэри». Этот трансатлантический лайнер был спущен на воду в Глазго 26 сентября 1934 г. В 1967 г. стал кораблем-музеем.
(обратно)162
Какая разница! (идиш)
(обратно)163
Входи в укрытие! (идиш)
(обратно)164
Еврейство (идиш).
(обратно)165
Мою деточку (идиш).
(обратно)166
Рабы-евреи (нем.).
(обратно)167
Любитель помечтать (искаж. идиш).
(обратно)168
Букв. «Имеем в бане!» (идиш)
(обратно)169
«Эти великолепные мужчины на их летательных аппаратах, или Как я долетел от Лондона до Парижа за 25 часов 11 минут», или «Воздушные приключения» – британская комедия 1965 г. в стиле «роуд-муви», снятая режиссером К. Аннакином.
(обратно)170
Дилан Томас (1914–1953) – валлийский поэт, прозаик, драматург, публицист. Далее Пьят путает его с Бобом Диланом (род. 1941 г.) – американским певцом, поэтом, художником и киноактером.
(обратно)171
Ларгактил – успокоительный препарат, применяемый при психомоторном возбуждении и острых бредовых состояниях. Транксен – успокоительное, применяемое при тревожных состояниях.
(обратно)172
Слишком много шума (искаж. ит.).
(обратно)173
Не важно (идиш).
(обратно)174
Живот надорвать можно от смеха! (идиш)
(обратно)175
ИУДА, ПОДЫХАЙ! (нем.)
(обратно)176
Он отворяет дверь! Пусть приходят! (нем.)
(обратно)177
Левиафан – морское чудовище, упоминаемое в Ветхом Завете. Бегемот – мифологическое существо, демон плотских желаний, в особенности обжорства и чревоугодия. В Библии Бог демонстрирует этих двух чудовищ праведнику Иову в доказательство своего могущества.
(обратно)178
Брюки модели «турин» – классические брюки со средней талией, как правило, темно-синего цвета.
(обратно)179
«Форд» модели «Т», также известный как «Жестяная Лиззи», был первым в мире автомобилем, выпускавшимся миллионными сериями.
(обратно)180
Джон Пирпонт «Джек» Морган (1867–1943) – банкир, один из крупнейших американских финансистов. Эндрю Карнеги (1835–1919) – крупный американский сталепромышленник, мультимиллионер и филантроп.
(обратно)181
Джордж М. Кохан (1878–1942) – звезда американского шоу-бизнеса 30‑х гг. XX в.
(обратно)182
Двадцатого мая 1921 г. в Вашингтоне президент Соединенных Штатов Хардинг вручил в дар Марии Кюри сделанный на заказ окованный свинцом ларец для хранения пробирок с радием. Содержание пробирок было настолько драгоценно и опасно, что в целях безопасности их оставили на заводе. Ларец содержал только модель радия.
(обратно)183
Модель проста, но разнообразие картин бесконечно. Нью-Йорк – город, в котором противоположности сходятся (нем.).
(обратно)184
Нет евреев и нет собак (нем.).
(обратно)185
Стэнфорд Уайт (1853–1906) – американский архитектор. Наиболее известные его проекты – арка Вашингтона и Мэдисон-сквер-гарден, на крыше которого в 1906 г. его застрелил миллионер Гарри Toy. Причиной убийства был роман Уайта с женой Toy, молодой актрисой и натурщицей Эвелин Несбит. Это происшествие широко освещалось в прессе, судебный процесс над Toy газетчики окрестили «судом столетия». Благодаря своему богатству и связям Toy удалось избежать тюрьмы, он был признан невменяемым в момент убийства, помещен в психиатрическую лечебницу и вышел на свободу в 1913 г.
(обратно)186
Я смыл все свои грехи! (идиш)
(обратно)187
Мишлинги – согласно нацистской доктрине, лица, имевшие в своем роду евреев.
(обратно)188
Еврейская пословица, смысл которой – «без толку говорить».
(обратно)189
«Кто знает?» (идиш)
(обратно)190
«Дельмонико» – знаменитый манхэттенский ресторан, открылся в Нью-Йорке в 1837 г. Работает до сих пор.
(обратно)191
Единственные в целом мире! (идиш)
(обратно)192
А русские и поляки – друзья? (нем.)
(обратно)193
Я заплатил втройне (нем.).
(обратно)194
«Безумства Зигфельда» – серия театральных шоу на Бродвее, которые с 1907 по 1931 г. поставил известный конферансье Флоренс Зигфельд, вдохновившись постановками парижского варьете «Фоли-Бержер».
(обратно)195
Двадцать четвертого августа 1921 г. английский дирижабль «R-38», приобретенный США и переименованный в «ZR‑2», разломился пополам и упал в реку Хамбер. Погибли 44 человека. В результате поднявшейся паники американским производителям пришлось отказаться от услуг английских конструкторов и заняться проектированием дирижаблей самостоятельно.
(обратно)196
В январе 1922 г. американские авиаторы Эдвард Стинсон и Ллойд Берто получили авиационную медаль американского аэроклуба за 27-часовой перелет во время снежной бури. Их самолет «Larsen JL‑6» пролетел 2500 миль, установив новый мировой рекорд дальности полетов.
(обратно)197
Мемфис Минни (1897–1973) – американская блюзовая певица. Уильям Кристофер Хэнди (1873–1958) – американский композитор, музыкант, которого часто называют «отцом блюза».
(обратно)198
Блайнд Лемон (Слепой Лимон) Джефферсон (1893–1929) – американский блюзмен и гитарист. В 1967 г. в штате Техас установили памятник на месте его последнего успокоения. Памятник Элвису Пресли стоит на главной улице Мемфиса.
(обратно)199
Сматьца (нем.). Смалец – жир, вытопленный из сала.
(обратно)200
Шаттерхэнд – благородный герой Джонни Гарден, прозванный Верной Рукой за виртуозную стрельбу. Странствует по Дикому Западу в серии романов Карла Мая и в фильмах по мотивам романов.
(обратно)201
И когда же? Его я видел, а тебя не видел (тур., польск.).
(обратно)202
Я не хочу быть солдатом! (нем.)
(обратно)203
Цитируются строки из стихотворения Г. Гейне «Лорелея»: «Вершина горы пламенеет / Над Рейном в закатном огне» (пер. С. Маршака).
(обратно)204
Есть что-то новее? (нем.).
(обратно)205
Эдвард Хулл «Босс» Крамп (1874–1954) – американский политик, мэр Мемфиса в 1910–1915 и 1940 гг., активный участник борьбы за права негров.
(обратно)206
Кларенс Сондерс (1881–1953) – американский бакалейщик, создатель современной модели магазина самообслуживания. Его идеи оказали влияние на концепцию современных супермаркетов.
(обратно)207
Мой отец переступил черту. Куда мы идем теперь? (нем.)
(обратно)208
Блимп – малый дирижабль мягкой системы. Об этимологии этого слова давно ведутся споры; скорее всего, оно восходит к сокращению b-limp (limp balloon). Полковник Блимп – персонаж комиксов Дэвида Лоу, впервые появившийся в «Лондон ивнинг стандард» в апреле 1934 г. Блимп – самоуверенный, наглый «типичный британец». Крайне реакционные мнения англичане и сейчас называют «заявлениями полковника Блимпа».
(обратно)209
Казимир Михал Вацлав Виктор Пулавский (1748–1779) – шляхтич герба Слеповрон, считается «отцом американской кавалерии». Командовал кавалерийским легионом, сыгравшим большую роль в ходе войны на Юге. По всей Америке есть графства, города, улицы, школы и т. д. имени Пулавского. Существует как минимум семь памятников Пулавскому в Соединенных Штатах и два в Польше. Однако графом Пулавский не был. В городе Пуласки, Теннесси, был создан первый ку-клукс-клан.
(обратно)210
Кит Карсон (1809–1868) – знаменитый американский генерал, охотник, житель фронтира, участник индейских войн. Буффало Билл (1846–1917) – американский разведчик, охотник на бизонов и шоумен, автор нескольких сборников рассказов о Диком Западе. Джесси Вудсон Джеймс (1847–1882) – знаменитый американский преступник XIX в., занимавшийся ограблением банков и поездов.
(обратно)211
Закон Вольстеда был принят в 1919 г., чтобы провести в жизнь положения Восемнадцатой поправки к Конституции США о «сухом законе», призванной преследовать не массового потребителя алкоголя, а производителя.
(обратно)212
Роберт Эдвард Ли (1807–1870) – генерал армии Конфедеративных Штатов Америки, командующий Северовирджинской армией и Главнокомандующий армией Конфедерации. Один из самых известных американских военачальников XIX в. Пьят, видимо, имеет в виду джазовый стандарт «Waiting for the Robert E. Lee», в котором есть приведенные в тексте строки.
(обратно)213
Чикасо – племя индейцев, проживавшее в юго-восточных штатах США (Миссисипи, Алабама, Теннесси).
(обратно)214
Дэви Крокетт (1786–1836) – американский народный герой, первопроходец, офицер армии США.
(обратно)215
Пароход носит имя Натаниэля Бедфорда Форреста (1821–1877), генерала армии Конфедерации.
(обратно)216
Лжец (нем.).
(обратно)217
Паразит (идиш).
(обратно)218
Имеются в виду каркасные конструкции, которые использовались коренными жителями Северной Америки для перевозки грузов.
(обратно)219
У меня лихорадка (ит.).
(обратно)220
Фрагмент воскресного тропаря «Днесь спасение миру бысть».
(обратно)221
Я был там! (нем.)
(обратно)222
«То, во что веруют везде, всегда и все» (лат.). Так Викентий Леринский, иеромонах, святой неразделенной Церкви, известный раннехристианский автор Галлии, сформулировал критерий истинности, непосредственно связанный со свойством кафоличности (пространственной, временной и качественной универсальности) Церкви.
(обратно)223
Иерархия ку-клукс-клана отличалась сложностью, но так и не была выстроена окончательно. «Само общество получило название невидимая империя Юга», глава – Великий маг (позднее – Имперский маг), при котором был совет из десяти гениев. Каждый штат – это царство, которым управляет Великий дракон и штаб из восьми гидр. В каждом царстве есть домены, во главе доменов – Великие титаны с помощниками – фуриями. Домены состоят из логов, главенство в которых у Великих гигантов и четырехдомовых. Были и другие должности: циклопы, Великие волхвы, Великие казначеи, Великие стражи, Великие турки и т. д. У каждого были свои обязанности. Рядовые члены – вампиры. Еще был Великий знаменосец, хранящий и оберегающий Великое знамя, то есть регалии. Генерал Натан Б. Форрест, он же Великий маг, официально распустил ку-клукс-клан в 1871 г. 28 октября 1915 г. в офисе И. Р. Кларксона, адвоката Симмонса, под председательством спикера Законодательного собрания штата Джорджия Д. У. Бейла, в присутствии 36 человек, из которых двое являлись вампирами при Великом маге Форресте, состоялось учредительное собрание нового ку-клукс-клана. 4 декабря 1915 г. Невидимая империя получила право на легальное существование и на использование прежних атрибутов, традиций, регалий клана. Вновь воссозданная организация насчитывата несколько сотен тысяч членов. Новым «отцом» ку-клукс-клана стал Уильямс Симмонс – блестящий оратор, участник испано-американской войны 1898 г. Ку-клукс-клан практически прекратил существование в годы Великой депрессии, хотя официально распущен был в 1944 г. Далее упоминаются следующие чины ку-клукс-клана: клалифф – вице-президент, клокард – докладчик, килграпп – секретарь, клаби – оратор, кладд – проводник (ответственный за прием новых членов), кларого – страж, клекстер – начальник стражи, ночные ястребы – курьеры.
(обратно)224
Клонверс – собрание ку-клукс-клана определенной провинции.
(обратно)225
Так назывались роман и пьеса Томаса Диксона, по мотивам которых снят фильм, хотя трактовка многих событий в фильме Гриффита несколько иная.
(обратно)226
Уинфилд Джонс – журналист, автор «Истории ку-клукс-клана» (1921) и «Рыцарей ку-клукс-клана» (1941).
(обратно)227
Послание к Евреям, 2:7–8.
(обратно)228
Тигель – емкость для нагрева, высушивания, сжигания, обжига или плавления различных материалов. Плавильный котел, он же Плавильный тигель – этническая теория, активно пропагандируемая в американской культуре. Подразумевала слияние различных народов и их культур в единое целое, в результате которого формировалась американская нация.
(обратно)229
Традиционно лозунгом возрожденного ку-клукс-клана считается «Америка для американцев!».
(обратно)230
Ашкеназы – субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе. Принято считать, что ашкеназы происходят от евреев, живших на берегах Рейна, но также есть спорная теория, утверждающая, что ашкеназы – потомки исповедовавших иудаизм жителей Хазарии, мигрировавших в Западную Европу в X в., после разгрома Хазарии киевским князем Святославом.
(обратно)231
Как долго мы продержимся? (нем.)
(обратно)232
В 1922 г. двести клансменов сожгли заведения, где подавали спиртное, в Юнион-каунти, Арканзас. В настоящее время в Гаррисоне, Арканзас, находится штаб-квартира «Рыцарей ку-клукс-клана».
(обратно)233
«Клоран» – главная книга клана.
(обратно)234
Эдвард Янг Кларк был Имперским магом клана с 1915 по 1922 г. До этого он возглавлял размещавшуюся в Атланте «Южную ассоциацию по связям с общественностью». Позднее руководил издательством «Монарх паблишинг». В марте 1924 г. был признан виновным в нарушении акта Манна за сексуальные домогательства. В 1940 г. был задержан в Чикаго, когда не смог оплатить счет в отеле на сумму 600 долларов, представил фальшивый чек и не смог вернуть взятые взаймы у некоей женщины деньги.
(обратно)235
«Рыцари Колумба» – движение Римско-католической церкви, христианское братство, целью которого является продолжение дела Христофора Колумба, принесшего христианство в Новый Свет. «Черная рука» – террористическая организация, боровшаяся за объединение различных южнославянских народов в одно государство. Ее ритуалы и символы (череп и кости, кинжал, бомба и яд) имели сходство с атрибутами ранее сущестовавших организаций, например карбонариев, каморры и масонов, о чем свидетельствуют ритуалы и символика. Тонги – китайская организованная преступная группировка.
(обратно)236
Со временем достигнем благодати. Иди и смотри (искаж. араб.).
(обратно)237
Название «ку-клукс-клан» образовано от древнегреческого слова κύκλος, обозначавшего «круг, колесо», и английского clan – «родовая община, клан». Также есть версия, что название является ассоциацией с особым звуком, лязгом затвора винтовки. Еще одна версия предполагает, что название произошло от латинского cucullo – «капюшон».
(обратно)238
Мне нужна чистота! (ит.)
(обратно)239
Повиновение неизбежно. Я чиновник! Приказываю! Я другой (идиш).
(обратно)240
Наполовину евреем? (нем.)
(обратно)241
Кровь свертывается. Кровь свертывается (нем.).
(обратно)242
Легри Саймон – жестокий рабовладелец из романа X. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». В переносном значении – тиран, деспот, суровый хозяин, начальник.
(обратно)243
Символ клана – знамя со вписанным в круг белым крестом на красном фоне (в центре креста – красная капля крови).
(обратно)244
«Подавление истины – выражение лжи» (лат.).
(обратно)245
Благородное происхождение (идиш).
(обратно)246
…крови. Я долго спал. Иисус воскресил мертвых (нем.).
(обратно)247
Из аэропорта Берлин-Темпельхоф в 1939 г. вылетел самолет Риббентропа, направлявшегося в Москву на секретные переговоры.
(обратно)248
Сидящий Бык (1831–1890) – индейский вождь, боровшийся против вторжения белых на Великие равнины.
(обратно)249
«Такова участь тиранов!» (лат.) Согласно легенде, эти слова, девиз штата Виргиния, выкрикнул актер Джон Уилкс Бут, когда стрелял в голову президента США Авраама Линкольна 14 апреля 1865 г. в Вашингтоне, во время спектакля «Мой американский кузен» в театре Форда. В результате ранения Линкольн скончался.
(обратно)250
Из монолога Генриха перед битвой: «И Криспианов день забыт не будет / Отныне до скончания веков; / С ним сохранится память и о нас – / О нас, о горсточке счастливцев, братьев». (У. Шекспир. Генрих V. Акт 4, сцена 3. Пер. Е. Бируковой.)
(обратно)251
Эти люди разорены (нем.).
(обратно)252
Клонкав – большое собрание всех членов организации.
(обратно)253
Тотенбурген, или Замки смерти – солдатский мемориал, который Гитлер намеревался установить на Атлантическом побережье Европы в качестве памятника в честь освобождения континента от британского засилья.
(обратно)254
Кровь (идиш).
(обратно)255
Глупые люди! Они не ответили. Я читал эту книгу, и те люди оскудели. Кто еврей – решаю я! (нем.)
(обратно)256
Кто еврей – решаю я. Все доказано. В чем моя вина? (идиш)
(обратно)257
Диббук – злой дух из еврейского фольклора, душа умершего злого человека, которая не может прекратить свое земное существование и вселяется в живого человека.
(обратно)258
На сей раз еврей хотел легко отделаться (нем.).
(обратно)259
Николай Петрович Резанов (1764–1807) – русский дипломат, путешественник. В марте 1806 г. на корабле «Юнона» прибыл в Верхнюю Калифорнию и оставался там в течение шести недель. В это время он познакомился с пятнадцатилетней Консепсьон Аргуэльо, Кончитой, – дочерью коменданта Сан-Франциско. Эта история стала основой сюжета поэмы «Авось» Андрея Вознесенского и рок-оперы «Юнона и Авось».
(обратно)260
Рашен-Хилл – район Сан-Франциско. Во времена Золотой лихорадки на вершине холма находилось небольшое русское кладбище, на котором, вероятно, были похоронены моряки и предприниматели из Форт-Росса, находящегося недалеко от Сан-Франциско. В первой половине XX в. в этом районе проживали русские эмигранты, в основном молокане.
(обратно)261
«Хэрродс» – самый известный лондонский универмаг, один из крупнейших в мире.
(обратно)262
Закон Манна (1910) – федеральный закон США о «белом рабстве», запрещавший перемещение между штатами женщин, преследовавших аморальные цели.
(обратно)263
Гленн Хаммонд Кертисс (1878–1930) – американский авиатор.
(обратно)264
Великий дракон клана в Индиане, Д. К. Стивенсон, организовал похищение Мэдж Оберхольцер в марте 1925 г. Женщина умерла от ран в апреле, но перед смертью успела дать показания против Стивенсона и его подручных. Это громкое дело привело к дискредитации клана.
(обратно)265
«Авитор Гермес-младший» – беспилотный самолет, первый полет которого состоялся в июле 1869 г. Самолет продержался в воздухе 6 минут и развил скорость 6 миль в час. Во время второго полета аппарат сгорел.
(обратно)266
Времени борьбы (нем.).
(обратно)267
Сначала их было семь. Они сражались и проливали кровь за свободу Америки (искаж. нем.).
(обратно)268
Мне можно позавидовать! (идиш)
(обратно)269
Сверхлюдей (нем.).
(обратно)270
…любовь к нацистам. Он уничтожил будущее. Он насмехался над американцами. Он смеялся громко! Но что смогли предложить Америка и ее Venegurung? Это корниш. Тем лучше. Они осознают проблему (идиш, нем.).
(обратно)271
…грязные немцы, содержатели ломбардов (идиш).
(обратно)272
Перелетными птицами (нем.).
(обратно)273
Плосконогие индейцы, черноногие индейцы (нем). Черноногие – индейский народ в США и Канаде, получили такое название из-за цвета их мокасин.
(обратно)274
Смогу ли я вернуться? (ит.)
(обратно)275
Лола Монтес (1821–1861) – ирландская авантюристка, куртизанка, фаворитка баварского короля Людвига I, после свержения которого в 1851 г. уехала в США и стала актрисой.
(обратно)276
Материнская жила – самая известная золотая жила в Калифорнии.
(обратно)277
Уильям Рэндольф Херст (1863–1951) – американский медиамагнат.
(обратно)278
Джон Калвин Кулидж (1872–1933) – 30‑й президент США.
(обратно)279
Это была она. Я готов отринуть все города мира, но я не отдам все мои письма (нем.).
(обратно)280
Моя сестра, моя радость! (идиш)
(обратно)281
Моя маленькая радость, моя сладкая! (идиш)
(обратно)282
Когда она вернется? (нем.)
(обратно)283
Моя радость. Она приезжает завтра! (идиш, нем.)
(обратно)284
Прекрасные розы для моей прекрасной радости! Моя сестра – роза. Свет моей жизни! …злодеев (идиш, польск.).
(обратно)285
Друзья пришли и враги бежали (искаж. нем.).
(обратно)286
Сидит за рулем (нем.).
(обратно)287
Собака гнала зайца (нем.).
(обратно)288
Мою сестру, мою душу (идиш).
(обратно)289
Компания Джозефа Шлитца – крупнейшая американская пивоваренная компания, долгое время – крупнейший производитель пива в США.
(обратно)290
Будущая столица империи (нем., идиш).
(обратно)291
Летающего города (идиш).
(обратно)292
«Попарно вошли звери» («The animals went in two by two») – известная детская песенка о Ноевом ковчеге.
(обратно)293
Клансменов старого образца (нем.).
(обратно)294
Невидимой империи (искаж. нем.).
(обратно)295
Розы не растут в небесах. Эсме, моя летающая мечта. Ты приезжаешь. Я не боюсь. В котором часу корабль прибывает в Нью-Йорк? Который час? Жарко. Я не говорю на идише. Я не говорю на идише. Я выживу. Вывеска моего магазина светится в сумерках. Мне больно. Эсме! Мне больно… Темнеет… (нем., идиш)
(обратно)296
Вчера вечером (идиш).
(обратно)297
Я не понимаю. Подведите меня, прошу вас, к дому. Повторите, пожалуйста (искаж. идиш).
(обратно)298
Как называется эта песня? (нем.)
(обратно)299
Дирижабль (искаж. нем.).
(обратно)300
Навеки, забудь, я останусь в живых (идиш).
(обратно)301
Калифорнийскому инженеру Эндрю Халлиди пришла в голову мысль использовать для перевозки пассажиров вагоны, получающие энергию от передаваемого по кабелю электричества. Первая трамвайная линия заработала августа 1873 г. Остатки трамвайных линий ныне превращены в музей.
(обратно)302
Я не могу без тебя жить… Ты губишь меня, мое сокровище, моя возлюбленная… Слишком поздно! Я знаю свою судьбу. Слишком поздно для душевного спокойствия. Мы боремся лишь для того, чтобы сохранить равновесие (нем.).
(обратно)303
Джодпуры – бриджи для верховой езды.
(обратно)304
Когда я ее увижу? Я долго спал. Время уходит. Она сама отвечает за свои поступки. <…> С 1921 года. Где мы? Три года! Я спал. Сон вечен. Сон не придет завтра. Он открывает мои дурные черты? С Эсме я… (нем., идиш)
(обратно)305
Это не трудно (идиш).
(обратно)306
Счастья (идиш).
(обратно)307
Машину времени (идиш).
(обратно)308
Машину греха (идиш).
(обратно)309
Поиск (идиш).
(обратно)310
Серебро (идиш).
(обратно)311
Утром ты приедешь (идиш).
(обратно)312
Кто победил? Игра завершилась ничьей (нем.).
(обратно)313
И вот мечта стала явью. Настало время мне вернуться на главный корабль. Карфаген сгинет в пламени своей ненависти к белым, которых он считает источником всех зол в мире, – хотя я слышал, что и по другую сторону снова начинаются волнения, что белые грешники служат врагу. Его силы, следовательно, постоянно растут. Золото… (искаж. нем., идиш)
(обратно)314
Мы поднимаемся над землей, слегка покачиваясь, электродвигатели еле слышно поют свои песни (нем.).
(обратно)315
Кровь, смерть, борьба, нападение, захват (идиш).
(обратно)316
Какое горе! У меня было столько всего: моя вера, мое желание творить, моя работа, мой гений, мои суждения, моя дружба, моя борьба, моя миссия, мой ангел, моя судьба. <…> Карфаген мало знает о характерах людей. Секрет его силы? Материя! (нем., идиш)
(обратно)317
Материал <…> мастером. Я доктор медицины (идиш).
(обратно)318
Крепость ангелов вечна. Я хочу пить. Я голоден. Что это? Город… (нем., идиш, фр.)
(обратно)319
Томас Эдвин Микс (1880–1940) – американский актер вестернов эпохи немого кино. Виктория Форде (1896–1964) – американская актриса немого кино. С 1918 по 1931 г. была замужем за Томом Миксом.
(обратно)320
Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс поженились в 1920 г. После медового месяца они поселились в огромном поместье неподалеку от Лос-Анджелеса, которое получило название от слияния их имен: Пикфэр.
(обратно)321
Теда Бара (1885–1955) – американская актриса, звезда немого кино, секс-символ конца 1910‑х гг.
(обратно)322
Латинское выражение, означающее «помни о смерти». Здесь имеются в виду ювелирные украшения, чаще всего барочные, связанные с темой смерти.
(обратно)323
Дэвид Селзник (1902–1965) – один из самых успешных продюсеров в истории кинематографа. Сын кинопродюсера еврейского происхождения Лазаря Железника, выходца из Киева.
(обратно)324
Речь идет о Херст-касле, национальном историческом памятнике в Калифорнии. Этот замок медиамагната У. Херста стал прообразом Ксанаду в фильме О. Уэллса «Гражданин Кейн» (1941).
(обратно)325
Мэрион Дэвис (1897–1961) – американская комедийная актриса немого кино. Медиамагнат Уильям Рэндольф Херст помогал развитию ее карьеры. Их любовная связь продолжалась до его смерти в 1951 г.
(обратно)326
Мне жарко. Который час? (искаж. идиш)
(обратно)327
Мастера кино (идиш).
(обратно)328
«Мария Селеста» – судно, покинутое экипажем по невыясненной причине и найденное 4 декабря 1872 г. в 400 милях от Гибралтара. Классический пример корабля-призрака.
(обратно)329
Индустриальные рабочие мира – международная профсоюзная организация со штаб-квартирой в Цинциннати, штат Огайо.
(обратно)330
Они идут (идиш).
(обратно)331
…моя влекущая цель. <…> И вот ты приезжаешь! (идиш, нем.)
(обратно)332
Который час? Утро? Позавчера? Я не понимаю. Я не знаю. Как жаль! Эсме! Как жаль. Уже ночь. Я приеду рано утром. Моя Эсме! Я жду мою сладкую. Моя мать (искаж. идиш).
(обратно)333
Несносный ребенок (фр.).
(обратно)334
Ужасные крысы <…> Где же великая мечта? Как называется это место? (искаж. идиш).
(обратно)335
Я знаю (нем.).
(обратно)336
Я в это не верю. <…> Я не хочу! (нем.)
(обратно)337
Мечты (нем.).
(обратно)338
Сэр Кристофер Рен (1632–1723) – английский архитектор и математик, который перестроил центр Лондона после пожара 1666 г. Альберт Шпеер (1905–1981) – государственный деятель Германии, личный архитектор Гитлера, рейхсминистр вооружений и боеприпасов. В 1937 г. был назначен генеральным инспектором имперской столицы по строительству, в задачу которого входила перестройка Берлина. Разработал генеральный план реконструкции столицы Германии.
(обратно)339
Столицы мечты (нем.).
(обратно)340
Что это значит? (нем.)
(обратно)341
Что я должен платить? <…> Как долго я должен ждать? (искаж. нем.)
(обратно)342
Они не пройдут. Оркестр играет слишком быстро (нем.).
(обратно)343
«Певец джаза» (1927) – музыкальный фильм Алана Кросланда. Первый полнометражный фильм с озвучиванием синхронных реплик провозгласил начало успеха звуковых фильмов и закат эпохи немого кино.
(обратно)344
Остаться в живых, выжить (идиш).
(обратно)345
Кто еврей – решаю я. <…> По-немецки хорошо (нем.).
(обратно)346
Какая чудесная погода! (искаж. идиш)
(обратно)347
Когда отправляется корабль? (искаж. идиш)
(обратно)348
«Бродвей Лимитед» – один из лучших поездов на Пенсильванской железной дороге, курсировал между Нью-Йорком и Чикаго с 1912 по 1995 г.
(обратно)349
Кубок Шнейдера – приз, учрежденный в 1911 г. сыном известного французского военного промышленника, авиатором-любителем Жаком Шнейдером для победителей международных состязаний гидросамолетов на скорость полета, который отдавал предпочтение гидропланам перед обычными самолетами, так как считал, что им принадлежит будущее.
(обратно)350
Паразит (идиш).
(обратно)351
Подбежавший негр (идиш).
(обратно)352
Я не боюсь! Где он? Кто он? Я очистился. Дети, которые продают своих соседей в Берлине… (идиш)
(обратно)353
Мы взлетаем неудачно. Слишком много помех. <…> Летчик сидит в своей кабине (искаж. нем.).
(обратно)354
Где мы сейчас? Мне больно здесь. Я не знаю, в чем дело. Это здесь очень больно! Мы ждали три года (нем.).
(обратно)355
Летающий город приближается (идиш).
(обратно)356
Не виновен! Не виновен! (идиш)
(обратно)357
Древнем (идиш).
(обратно)358
Нелепости, никчемные фантазии (идиш).
(обратно)359
Я великий пилот, дворянин из летающего города. Отведи меня туда, я тебя жду. Отведи меня туда… (идиш)
(обратно)360
Стражи (нем.).
(обратно)361
…лгать. Вечное парение? Что это? (идиш)
(обратно)362
Мусор (идиш).
(обратно)363
Сколько? Я покупаю пакистанское тряпье. Я не знаю (идиш).
(обратно)364
Когда мы вернемся, моя любимая? Долго ли нам ждать? (идиш, нем.)
(обратно)




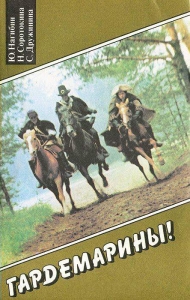

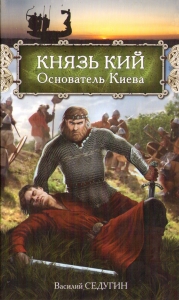
Комментарии к книге «Карфаген смеется», Майкл Муркок
Всего 0 комментариев