Станислав Казимирович Росовецкий По следам полка Игорева
© Росовецкий С.К., 2018
© ООО «Яуза-Каталог», 2019
Пролог, или о том, как в небе над Киевом ангел Господний Евпсихий повстречался с музой
Весна лета от сотворения мира 6694-го, от Рождества же Христова 1185-го выдалась тёплой, и к концу апреля, по-народному цветня, от снегов на Русской земле осталось одно воспоминание, вылезла везде молодая трава, расцвели яблони, а люди и животные впали в весеннее буйство. Вот и ангел Господен Евпсихий, подлетая на рассвете предпоследнего апрельского вторника к жалкому киевскому двору князя без волости Всеволода Ростиславовича, а во святом крещении Евпсихия, то и дело шарахался от крыш, если под ними особо необузданные киевляне и киевлянки, из тех, которым ночи мало, предавались однообразным, утомительным, однако безусловно весьма для них увлекательным парным телесным упражнениям. Радостно взмахнул крыльями Евпсихий, когда аура над светлицей князя Всеволода оказалась свободной от плотских эманации, однако не успел он воздать по сему случаю благодарственную хвалу Господеви. Ибо виртуальный сигнал «Враг рядом!» во всю мочь прозвучал в ушах ангела, а в тонкие, сердечком вырезанные ноздри ударил слева густой смрад богомерзкого язычества. Резко, едва не вывихнув длинную шею, повернул Евпсихий голову и успел разглядеть светящуюся в плотном утреннем воздухе эфирную дорожку, а над нею блеснуло в мгновенном движении нечто продолговатое, изящных форм, соразмерностью своей вызывающих в душе сладкие, однако смутные чувствования. Потребовалось несколько мгновений, чтобы припомнить мгновенно промелькнувшие детали видения и осознать, что же именно вознеслось с ним рядом.
И тут ангел едва не свалился на посеревшую, из мелких дощечек выложенную гонтовую крышу. Муза, то была муза! Кому же ещё могла принадлежать эта чистейшая белая туника, этот девственный затылочек под высоко подобранными в узел поднятыми волосами, эта тонкая белая нога в золотой сандалии, как бы гребущая по небу? Что он сказал, «девственный»? Да ведь про муз говорят, что от Зевса рожали и от Аполлона будто… Однако, мало ли успевают насплетничать о девушке, если она бессмертна?.. Тот же Зевс, он ведь, вроде, им отец… Вот только какая из муз? Как будто арфу к животику прижимала… Тогда которая из двух – Эрато или Полигимния? И стоило только этой дилемме возникнуть в голове ангела, как в ушах его сладостным шепотком прошелестело: «Полигимния». Впрочем, едва ли имя имеет значение…
Ведь ангелу в первую очередь необходимо было разобраться в собственных чувствах, в только что испытанном им самим, для чего пришлось спланировать и присесть, сложив крылья, на конёк, неприятно влажный от росы.
Как ярко вспыхнула в нём враждебность к языческому божеству! И сколь быстро погасла, когда он распознал Полигимнию… Ну, это можно ещё понять: ведь есть же разница между изысканной, хрупкой музой и зырянским божком Еном, обмазанным жиром и кровью, – или это идола Енова зыряне обмазывают жертвенными жиром и кровью? А что так быстро испарилась вражда, так это всё общение с людьми виновато, не иначе: уж очень они, ангелы, очеловечились, общаясь без конца с суетливым родом людским. И подумал тут ангел, что хоть и пониже у него чин, чем у близ Господа служащих Ему серафимов, херувимов и престолов, не хотел бы он оказаться на их месте. Нет, это, конечно же, великая честь, представлять собою часть седалища Господня, однако Евпсихий не стал бы меняться долею ни с кем из пресвятых престолов, если бы (чего представить невозможно!) вдруг представилась бы такая возможность. И окажись он на месте шестикрылого серафима, скучновато ему теперь показалось бы без конца парить у седалища Господня, неустанно и неумолчно, как токующий глупый тетерев, распевая: «Свят, свят, свят Иегова воинств, вся земля полна славы Его!» И с херувимом, охранником Господним, тоже шестикрылым, однако исполненным очей, не поменялся бы Евпсихий службою: у того, конечно, воинская, почётная должность, да только кто осмелится напасть на самого Господа?
Служить господним «вестником» (ибо греческое слово «ангелос» именно вестника и означает), конечно же, тоже почётно, однако не в пример веселее: сколько новых стран и народов ещё успеет увидеть Господний вестник, пока не снесёт всё сущее на Земле неумолимый Страшный Суд! И даже вот таким, застрявшим на одном поручении на без малого тысячу двести лет, нравилось быть ангелу Евпсихию, хоть и казалось ему несправедливым, что столь надолго отринут он от лица Господня и, песчинка в сонмище ангелов, едва ли не забыт Им. А утешение находил Евпсихий в том, во-первых, что Господь всеведущий и никогда ничего не забывает, помнит, следовательно, и о его скромной особе. А во-вторых, как и всякий служивый, придерживался ангел неславной, но жизненной заповеди: «От начальства держись подальше: заставит работать». А работы ему и без того хватало, ведь люди, наречённые при рождении Евпсихиями, оказались, ведь как на грех, в большинстве своём к жизни не приспособленными, слабосильными и пугливыми, в общем же, робкими неудачниками. Вот и этот князь так называемый, мирским варварским именем именуемый Всеволодом Ростиславовичем, не многим лучше тёзок своих, почти сплошь пьяниц-ремесленников, подкаблучников-поселян да бродяжек подзаборных.
Впрочем, ангел отвлёк свои мысли от князя-неудачи, навестить коего незримо летел этим ранним утром, ибо захотелось ему додумать о себе. Не часто он себе это позволял, слишком много оказалось у него подопечных, несчастных земных Евпсихиев. Так вот, в отличие от херувима и серафима, а того пуще, от престола, он, ангел, намеренно сотворен в образе человеческом и приобрел тем самым с неизбежностью нечто от природы человеческой. Это как в музыке: песни литургии обращены к Богу, вот и содержат в себе нечто божественное. Именно музыка если не близка, то отражает божественное, точнее, его воздушную и внешнюю, опять-таки наиболее близкую грубому человеку и понятную ему стихию. А вот слова – до чего же всё-таки они грубы… Вот как сей «синхрофазотрон», к примеру. Вроде тоже греческое слово, а спроси грека, что оно значит, вытаращится как баран на новые ворота. Ах, уж это дарованная тебе частица всеведения Божьего… Знаешь и о том, о чём не хочется тебе знать, всплывают в голове слова, значения которых и постигнуть трудно. Синхрофазотрон… Совместное появление светил на троне? Чушь. А пристало же… Впрочем, не все же слова столь грубы, и ангелу удалось подобрать наиболее деликатные, чтобы обозначить дилемму, которая его сейчас, собственно, и мучила. И спросил тогда себя ангел с не свойственной ему прямотой: «Да кто я такой – мальчик или девочка?» Судя по тому, как меня только что передернуло… Ох, наверное, всё-таки мальчик… Ну конечно же, мальчик – если назван был Евпсихием, а не Евпсихией. Будь он Евпсихией, заглядывался бы не на прельстительную музу, а на мужественного воина архангела Георгия, вот на кого… И привиделось ангелу нечто вовсе уже несообразное: полёты рядышком с милым существом, рука в руке, над цветущими весенним первоцветом лугами, глупые диалоги вроде эдакого: «Испытываешь ли ты ко мне склонность, как я к тебе, Полигиния?» – «А мне кажется, милый, что я летала рядом с тобою всю свою жизнь».
Встряхнул ангел золотоволосой головою, стряхивая наваждение, и вернулся к своим обязанностям. Следовало ведь выяснить, отчего это Полигимния залетела так далеко на северо-восток от Олимпа. Ещё понятно было бы её путешествие в Прованс, где люди добрые не могут заснуть по ночам, до того распелись сладкоголосые трубадуры, но что потеряла она в бревенчатом Киеве? И чего хотела от подопечного Евпсихихиева, князя-неудачи Всеволода Ростиславовича?
Хоть и не протапливали вчера в горнице Всеволодовой, узкое волоковое окошко было приотворено, и Евпсихий протиснулся через него без труда. А протискиваясь, со смущением осознал греховную интимность этого своего деяния: ведь узкое пространство окна только что заполняло собою соблазнительное тело призрачной музы и словно бы оставило запахи её волос и хитона.
Лучина в светце давно догорела, и горницу наполняла мутная рассветная серость. Князь легко похрапывал, уронив поседевшую голову на стол, рядом с опасно сдвинутыми на самый край гуслями и разбросанными в беспорядке письменными принадлежностями. Очевидно, он заснул ещё до того, как киевские колокола созвали полчаса тому назад благочестивых горожан на заутреню.
Ангел вздохнул. Князь Всеволод Ростиславович совершил ещё один малый грех: не застегнул книгу, так и оставленную на столе раскрытою. Впрочем… Прищурился Евпсихий, прочитал чуть слышно: «НЕ БУРЯ СОКОЛЫ 3АНЕСЕ ЧРЕЗ ПОЛЯ ШИРОКАЯ, ГАЛИЦИ СТАДЫ БЕЖАТЬ К ДОНУ ВЕЛИКОМУ…» Это какая же книга Святого Писания? Иисуса Навина, что ли? Да нет там, кажется, такого… А дальше: «ТРУБЫ ТРУБЯТЬ В ЧЕРНИГОВЕ, СТОЯТЬ СТЯЗИ В ПЕРЕЯСЛАВЛЕ». Да это и не библейская книга вовсе, а самодельное русское сочинение. А к тому же и светское! Наверное, оно и не грех вовсе, если светскую книгу, никому не нужную, не закрыть после чтения и не застегнуть застежки. Ага! Сон сморил князя так быстро, что он не только книгу не привёл в порядок после чтения, но и диптих, который держал на колене, выпустил из ослабевшей руки.
Ангел опустился на давно не метёный пол и, на сей раз чуть ли не роясь носом в пыли, разобрал процарапанные на воске прыгающие строчки:
«А ТВОИ, КНЯЖЕ, ЧЕРНИГОВЦЫ
СУТЬ ХОРОБРЫ СЛАВНЫ:
ПОД ТРУБАМИ ПОВИТЫ,
ПОД ШЕЛОМАМИ ВОЗЛЕЛЕЯНЫ,
С КОНЦА КОПЬЯ ВСКОРМЛЕНЫ,
ПУТИ ИМ ВЕДОМЫ,
ЯРУГЫ ИМ ИЗВЕСТНЫ,
ЛУКИ У НИХ НАПРЯЖЕНЫ,
ТУЛЫ ОТВОРЕНЫ, МЕЧИ ИЗОСТРЕНЫ;
САМИ СКАЧЮТЬ, КАК СЕРЫЕ ВОЛКИ В ПОЛЕ…»
– Тьфу! – выдохнул ангел Евпсихий, отвращение испытывая и с трудом сдерживая желание чихнуть, взмыл под низкий потолок, отдышался немного и снова спустился к диптиху. На сей раз разобрал он в самом низу правого деревянного корытца, заполненного воском, ещё несколько бессвязных слов: «ИБО ИЩУТ СЕБЕ»; «ДОБЫЧИ ИЩУТ»; «А КНЯЗЬ ИХ»… Последние сомнения отпали: князь Всеволод Ростиславович развлекался, кропая виршики в старинном русском вкусе. Что ж, коль зудит тебе пачкать пергамен, то почему же, попостившись и исповедавшись предварительно, не сотворить пару акафистов, не восславить святого какого-нибудь или Богоматерь? И тут с добрым чувством вспомнил ангел одну немецкую монахиню, знакомством с которой неведомо для неё наслаждался больше трёхсот лет тому назад.
В те времена, когда здешние князья ещё в дремучих затылках чесали, размышляя, не окреститься ли им, а если всё-таки поддадутся они на уговоры захожих греческих попов, то не станут ли собственные дружинники над ними смеяться, в далекой Германской земле, полтысячелетия как принявшей христианство, уже высились каменные монастыри, а в них засели суровые воители и воительницы с мирскими грехами. Черницу ту, крещёную Евпсихией, нарекли в иноческом чину Евтерпой, она же упорно называла себя отечественным именем Хросвиты Гандерсгеймской (язык сломаешь!). Расторопная и проворная, однако фигурой квадратная и с носиком наподобие пуговки, она ещё в раннем отрочестве сурово осудила свою внешность, ангела Евпсихия вполне устраивавшую. Убедив себя, что замужество ей не светит, знатная отроковица отправилась в монастырь в Гандерсгейме, где аббатисой была её дальняя родственница, а королю Оттону родная племянница, своенравная Герберга. Посоветовавшись с Гербергой, и решилась Хросвита предложить себя жениху, который ни одной девице в помолвке не отказывавает, а именно Иисусу Сладчайшему.
С тех пор и полюбил ангел витать под высоким потолком каменной кельи, в коей юная черница неутомимо покрывала чёрными буковками куски выделанной козлиной шкуры. С высоты ему виден был только её белый, высокий и выпуклый лобик, однако если осторожненько снизойти пониже, можно было разглядеть милое личико, уродливость коего таяла в огне творческого горения. Ибо Хросвита, в мирском своем отрочестве начитавшись комедий римского язычника Теренция, в монастыре, как только освоилась, принялась усердно пересказывать христианские жития в форме пьес, при этом старалась выбирать для переложения такие мартирии, в которых прекрасные девственницы-христианки побеждали грубых и похотливых язычников. Всецело одобряя содержание писаний юной черницы, ангел Евпсихий ничего не имел и против основного пафоса её творчества. Конечно же, он прекрасно знал, что на самом деле с юными девственницами происходит как раз нечто противоположное описанному черницей, однако и то понимал, что литература отражает жизнь отнюдь не зеркально. Кроме того, не было никаких сомнений, что самой Хросвите, как и, впрочем, и ему, потеря девственности не угрожает. Черницу, кроме обстоятельств, о коих упоминать было бы бестактно, оберегали высокие каменные стены и её искренняя вера в святость и спасительность безбрачия, о причинах же нерушимости собственной девственности ангел не задумывался, предпочитая, как только сей предмет приходил ему на ум, воскликнуть: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!»
Тем временем настоятельница монастыря Герберга, уверовав в писательский дар Хросвиты, не пожалела казны на закупку наилучших телячьих шкур и засадила неграмотных монахинь Гандерсгеймской обители вычищать и выглаживать их пемзой, а всех грамотных – переписывать творения товарки. Так рукописи с пьесами Хросвиты начали растекаться по германским епископатам и каноникатам, а сама она приобрела в отечестве известность несколько скандальную. В ту пору случалось ангелу Евпсихию, зависая над домами саксонских книжников, подслушивать и толки о том, что Хросвита-де плохо знает латынь, на которой пишет с лихостью невежды, а потому не всегда правильно понимает значения употребляемых ею слов. Очень тогда хотелось Евпсихию встрять в разговор, чтобы вопросить: «А кто нынче вообще знает латынь?» Даже потомки коренных римлян, смешавшись с вандалами, вестготами и прочими готами, разговаривают теперь на языке, который классическим латинским никак не назовёшь! Спору нет, Хросвита была в меру невежественна: не разглядев метрическую структуру стихотворных комедий Теренция (а ведь и все остальные учёные немцы её не замечают!), она свои подражания изящному римскому драматургу слагала кондовой прозой, по новейшей тогда варварской моде украшая ей звучными и в звонкости своей вульгарными рифмами.
Ангел сосредоточил взор на поредевшей на затылке шевелюре князя Всеволода – и снова вздохнул. Не хотелось ему вспоминать о последних годах Хросвиты, когда характер у неё вконец испортился, зато самомнение скакнуло до небес. Ну, нельзя бессмертному позволять себе прикипать душой к смертным, кои стареют у тебя на глазах, а после исчезают с лица земли! Слава Богу, к этому князю-неудаче он не очень-то привязался, хоть мужик и получше других будет. Честен, этого у него не отнимешь, к убийству и разбою военному душа у него не лежит, и с женским полом совестлив. Было у него недолгое время, когда и молоденькими рабынями владел, однако волочился князь Всеволод за ними со всегдашней робостью, засыпая бедными своими подарками. Бедняга всегда надеялся, что воздастся ему по трудам его, что облагодетельствованная рабыня в ответ сама ответит на его чувство, – однако выходило очень по-разному… А вот законной супругой так и не решился, бедолага, обзавестись. И молодец.
Ангел вздохнул. Мученики, страдания принимая за веру и за Господа своего, обретают воздаяние, заслуживают венцы райские. Но чем измерить бессмысленность страданий, на которые обрекает человека неудачный брак? Ангел Евтихий ещё раз скользнул взглядом по замусоренному столу и тихонько прикрыл крышку чернильницы, чтобы не высыхало трудно добываемое людьми чернило, эта драгоценная кровь столь необходимых им книг.
Теперь в тесном волоковом окне уже не пахло волосами Полигимнии. Ну, разве что чуть-чуть.
Глава 1 Выступление новгород-северцев в поход
Съезжая с последнего холмика на Путивльском шляху, с которого ещё можно было бы, оглянувшись, увидеть покидаемый Новгород-Северский, князь Игорь Святославович не оглянулся. Нечего там ему сейчас рассматривать: неприступный детинец на высоком холме над Десной, окольный город и посады у подножья холма, с детства знакомые князю до последней землянки, до последнего городского дурачка, до последней смрадной лужи на площади, за долгую зиму окончательно ему осточертели.
Да, супруга его любезная Евфросиния Ярославна всё ещё торчит, небось, на въездной веже детинца да машет изящно своим шёлковым платочком. Да, стоит, да, машет платочком, только ей виден ещё, наверное, он во главе дружины, под стягом своим, а вот он, если и обернулся бы, вряд ли рассмотрел бы свою супругу. Выпил ведь, по русскому обычаю, на посошок, а после выпивки с глазами всегда хуже. И не хочется ему сейчас её рассматривать, Фросинку. Даже издалека.
Пятнадцать лет супружества (нет, уже шестнадцать, вон старшему их, Владимиру, исполнилось пятнадцать) – это не шутка. Это шестнадцать зим, проведенных совместно в стенах терема, из коих только и можно вырваться, что на княжеский съезд, свадьбу или похороны (в двух последних случаях, опять-таки, вместе с женой), да ещё на охоту. Ну, вот разве ещё на охоту, чтобы потом оттянуться вволю в кругу старших дружинников в одном из загородных дворов – Игореве сельце, Бояро-Лежачах или в самом любимом, Мельтекове. Самом любимом, потому что от стольного города далее всех. Далее всех, а всё едино горничные, наушницы княгинины выведают, подслушают, посплетничают, а жена всё запоминает. А ты не можешь ведь на загородном дворе всю зиму просидеть, приходится, в конце концов, в город возвращаться. Встретит тебя жёнушка, как положено, с чарочкой на расшитом рушнике, а потом улучит минуту – и пошло-поехало: ты-де, Игорь Святославович, беспробудно на загородном дворе пьянствовал, у тебя-де там наложница живёт, ты-де ни меня, супружницы твоей законной, ни отца своего духовного не стыдишься, гореть тебе, Игорь Святославович, в аду, дождёшься ты, что как-нибудь, пока прохлаждаешься ты в своё удовольствие, заберу я младших детей да и увезу к батюшке, деду их, в Галич – вот тогда стыда-позора не оберёшься!
И бесполезно объяснять, что так ведь все князья живут, кроме разве изгоев вроде Севки-князька и бегунов вроде её братца Владимирки, такой ведь обычай княжеский: ведь если не воюет князь, не судит подданных, не решает общие дела государственные на княжеский съездах, то отдыхает он, веселится – когда на охоте с добрыми соколами и кречетами, когда с дружиной над медами стоялыми, когда с наложницей чернобровой. А что в рай не попадет из-за таких пустяков – та не ей, бабе, об этом судить, на то есть духовник, отец Пахомий, это его забота, чтобы он, князь, на том свете («Господи помилуй!») оказался там, где князю положено. Ведь это только так, для народного множества, говорится, что на том свете может оказаться князь (прости меня, Господи) рядом с каким-нибудь своим холопом.
Ведь не может быть иначе устроено на небе, нежели на земле. Взять хотя бы его родственников, святых князей. Ну, со святыми Борисом и Глебом история давняя, там и чудеса Господни явлены были (тут князь Игорь Святославович перекрестился), а вот прямого предка его князя Владимира Красное Солнышко русские князья до сих пор не могут объявить святым, хотя сколько гривен на это уже потрачено! Единственное общерусское начинание, в коем все князья едины, и сам он, Игорь, не пожалел отцовского и свого серебра, когда нынешний митрополит Никифор, грек пронырливый, зато, вроде, деловой, пообещал решить наконец вопрос о причислении к лику святых великого князя Владимира Святославовича, для русских давно уже равноапостольного. Говаривал грек, что в Царьграде у него-де общие с патриархом дружки. Дай-то Бог!
Ну, а ему, Игорю Святославовичу, рано думать о царствии небесном, ведь только тридцать семь ему стукнуло, жить ему ещё и править, судить и воевать, с соколами тешиться да баб любить. Конечно же, князь может в битве голову сложить, погибнуть от несчастья на охоте или от внезапной болезни, да только он, Игорь, в отца своего незабвенного пошёл, тучен выдался, а следственно, здоров и крепок. Хотя за зиму и он набрал, следует признаться, лишнего жирка. Вон жалуются бояре, что кони в конюшнях застоялись, зело, мол, перекормлены – как бы не загнать, да и под ним самим любимый его Игрун такое брюхо наел, что у хозяина сейчас ноги растопыркой, будто на бочке верхом…. Ничего, друг мой Игрун, в походе порастрясёмся! Тоже мне беда – кони растолстели! Значит, надольше хватит прихваченного с собою овса.
Впрочем, овса прихватили с собою в самый раз, как и съестных припасов, не говоря уже о запасах стрел и сулиц, древков для копий, коней заводных и сумных. Князь Игорь Святославович не в первый раз сегодня подумал о том, что этот поход наилучшим образом устроен и продуман из всех, в которых ему довелось участвовать. Доброе это и замысловатое устроение не его, конечно, заслуга, а тысяцкого, старого Рагуила Добрынича – однако, кто, как не он сам, пригласил этого немощного, но мудрого старца в свою дружину? Всё рассчитано и всё послами да гонцами согласовано – и когда сыну Владимиру ждать его под Путивлем с путивльской дружиной, и когда брату Всеволоду из Трубчевска выступать, а племяннику Святославу Ольговичу из Рыльска, а боярину Ольстину Олексичу с ковуями из Чернигова, и где, в каком урочище на реке Оскол, и в какой день им соединиться, чтобы с ходу продолжить уже совместный поход в Половецкую степь. Да ещё и так сумел Рагуил подгадать, что сами они из Новгородка выступили как раз сегодня, на день именин его, Игоря, а крещёным именем Георгия, 23 апреля.
А вот и повод сделать ещё пару глотков! Ведь не за пиршественным столом проводит он свои именины, а в кованном боевом седле. Игорь Святославович придержал Игруна и оказался стремя в стремя с Рагуилом. Тысяцкий, не торопясь, поднял на него выцветшие глаза:
– Слушаю, княже.
– Поведи полк ты, Рагуиле. А я отдохну немного.
– Конечно! До Путивля дорога безопасна.
Тысяцкий усмехнулся в седую бороду, тронул поводьями своего смирного половецкого конька, чтобы поехать теперь рядом со знаменосцем, под Игоревым стягом. Князь нащупал на поясе и отстегнул флягу иноземной работы. Открутил крышечку, повисшую на цепочке, и приложился к горлышку. Добрый старый мёд привычно ожёг и взбодрил князя, он отдышался и перед тем, как снова приложиться, любовно осмотрел флягу. Серебряная, несла она на себе выпуклое изображение красотки, двумя руками удерживающей горлышко. С неясной улыбкой оборачивалась девица к зрителю, и князь привычно погладил большим пальцем по её крутой попке. Славный немецкий мастер отливал флягу, ни разу не пожалел Игорь о купах, выложенных за неё заезжему купцу. Да, есть же хитрецы на свете! Другой такой хитрец, на сей раз не немец, говорят, а грек цареградский, устроил в киевском Большом тереме для великого князя Рюрика Ростиславовича птицу Сирин в рост человека и почти как живую: силою стальных пружин и кузнечных самодвижных мехов поднимается та птица Сирин на лапы, крылья расправляет, ими машет и поёт сладко. Может быть, не так уж и сладко та неживая птица Сирин поет, скорее, квакает, однако мудрость мастера, сумевшего заставить её пружины вступать в действие в определённом порядке, поразила Игоря Святославовича, когда заставил он приставленного к игрушке холопа объяснить её устройство. Нынче тысяцкий Рагуил рассчитал движение северских дружин из разных городов и соединение их в одном месте на границе Великой степи почти так же хитроумно, как мастер, сотворивший ту птицу Сирин, измыслил взаимодействие её пружин. Вот только успех похода зависит не от этой хитрости старого Рагуила, точнее, не только и не столько от неё. Победа или поражение на войне зависят от стольких причин, что предсказать исход любого похода, как бы тщательно он ни готовился, в сущности невозможно. Да и что считать успехом в данном случае? Спроси рядовых дружинников, и услышишь: северское войско идёт, чтобы внезапным ударом захватить половецкие вежи и с добычею быстро отойти под защиту своих городов. Для них взятая добыча и будет успехом. Старшие дружинники, те глядят дальше. Ответили бы: время для похода, мол, выбрал ты не случайно, верное известие получив, что половцы весной идут в большой поход на Русскую землю, то есть на Переяславль и Киев, а их вежи с жёнами детьми и богатствами останутся в степи беззащитными и станут для северских полков лёгкой добычей. Вот Рагуил с боярами и разумеют, что у их князя хорошо сработала дальняя разведка.
И только самому Игорю, да ещё Ольстину Олексичу, боярину двоюродного брата его Ярослава Всеволодовича Черниговского, большую часть зимы проведшему в посольствах от своего князя и от Игоря Святославовича к половецким ханам, известна хранимая в строгой тайне основная и главная цель нынешнего похода. Ведь могучий Кончак Отракович, объединивший половецкие орды на юге вплоть до крымских крепостей и Тмуторокани, доверительно сообщил Ярославу и Игорю о замысле совместного весеннего похода половцев на Русскую землю только затем, чтобы друг его и сват Игорь ударил в тыл его соперника, хана донских половцев Кзы Бурчеевича.
Спору нет, половцы-кипчаки сильно укрепились в последние десятилетия в бескрайней Великой степи, вплоть до того, что и называть её начали теперь Кипчакской, по-ихнему Дешт-и-Кыпчак. Если на Востоке под ними оказались немерянные земли аж до Бухары и Самарканда, то это не могло не отозваться и на степных границах Руси. Хорошо ещё, что у половцев никогда не было и сейчас нет единого великого хана (или, не дай того Бог, царя!), а владетельных кипчакских ханов в Великой степи не меньше, наверное, чем князей на Руси. Но время от времени какой-нибудь хан-батыр собирает вокруг себя родственные орды, к нему присоединяются увлечённые им ханы-соседи – и тогда, если не на греческие окраины или на Кавказ нацелится, жди беды. Со времен наступления на Киев печенегов, когда решающая битва произошла на месте, где теперь София Киевская, не раздавалось в Половецкой степи хвастливых речей вроде тех, которые позволил себе в прошлом году тот же Кончак: он-де не только сёла разграбит и мужиков в плен уведёт, но и разорит русские города. Русские города, те же Киев и Переяславль. До того дошёл раздор на Руси между князьями, что и Русской землей называют теперь только Киевщину с Переяславщиной.
Половцев, конечно же, следует сдерживать, однако делать это можно по-разному. Род Ольговичей, потомков знаменитого Олега Святославовича, давно уже засевший в Чернигове и Новгороде-Северском, всегда дружил с половцами и в междоусобицах привык использовал их как вспомогательные войска, для чего противники их Мономаховичи и поносные слова придумали: мол, «приводят Ольговичи половцев на Русь». Игорь Святославович усмехнулся. Ну, и приводим, а вы приводили поляков и венгров. И у вас ведь свои узкоглазые союзники имеются – потомки тех же печенегов, торки, берендеи и самое могучее среди них племя, «чёрные клобуки», по имени которых называют теперь и всех этих степняков, осевших вот уже два столетия под самым Киевом, на Перепетовом поле. Мы с половцами вместе в поход сходим, да и отпустим их назад в Степь, а вы от своих домашних кочевников никуда теперь не денетесь, и вот уже они вместе с киевскими боярами решают, кому садиться в Киеве великим князем…
Игорь Святославович был убежден, что ему повезло, когда они с Кончаком подружились, и полагал, что и Кончак тоже чрезвычайно доволен своей дружбой с новгород-северским князем. Между собою довелось воевать им, кажется, всего только раз, и было это давно, больше десяти лет тому назад, ещё перед убийством в далёком Владимире-на-Клязьме могучего Андрея Боголюбского. Игорю Святославовичу тогда удалось отнять добычу у части войска Кончака, грабившего села возле Переяславля, и этой добычей наделив затем в Киеве князей Ростиславичей и киевских бояр, он благополучно унёс ноги из враждебной тогда для него Русской земли. Однако был то единственный такой случай, а после воевали в русских усобицах всегда на одной стороне. Особенно же подружились Игорь Святославович и Кончак Атракович в последней большой войне за великое киевское княжение, вспыхнувшей три года назад. Оба поддерживали тогда двоюродного брата Игорева, Святослава Всеволодича, вошедшего уже в Киев, и в хитросплетениях усобицы подставились под ночной внезапный удар полков соперника Святославова, Рюрика Ростиславовича с чёрными клобуками. Дружина Игоря и полчища Кончака были рассеяны, посечены и пленены на берегах Чертория, и только ночной мрак позволил Кончаку и Игорю запрыгнуть в одну ладью и уплыть, избежав позорного и разорительного пленения.
Да почему бы им и не дружить? Обе бабушки Игоревы были половчанки, дочери ханов Осолука и Аепы, а Кончак крестил своего старшего сына, наречённого Юрием, – в честь Игоря, крестного отца, в крещении Георгия, только народный выговор имени друга, Юрий, понравился Кончаку больше. Оба они – мужики в самом соку: Игорю тридцать семь, Кончак, правда, постарше. Оба любят мужские забавы – охоту, войну, девок. Договорились они и детей поженить: Игорь обещал взять за старшего сына, Владимира, дочь Кончака, Свободу, а если по половецким обычаям, то уже и засватал её. Разумеется, и будущую невестку ему показали: красива девица, ничего не скажешь! Половчанки вообще красотою славятся на весь Восток. И послушная вроде, хотя… Жизнь, в общем, покажет. Игорь был убежден, что Кончак подружился с ним не только из собственных государственных соображений, ему самому нравился всегда этот властный и богатый хан, потому нравился, что похож на него, хотя и постарше будет, своей осанкою, повадкою и, конечно же, храбростью. И родовитостью, если по половецким меркам, тоже равен. И не сомневался новгород-северский князь, что его половецкий друг и сват питает к нему самому такие же добрые чувства.
Что беспокоило сейчас Игоря Святославича, так это весьма неловкое (и это ещё мягко сказано!) положение, коим он поставил себя этим походом относительно двоюродного брата своего, великого князя Киевского Святослава Всеволодича, правившего сообща со своим бывшим врагом, Рюриком Ростиславовичем. Князь Святослав измлада союзничал с половцами, как и всякий Ольгович, однако одним из условий, на которых киевские бояре позволили ему сесть на золотой престол в тереме на Горе, было требование поклясться, что он не будет больше приводить половцев на Русскую землю. Вот «брат и отец» Святослав и не заметил, как превратился в яростного врага Половецкой земли, любимца киевских бояр и простонародья, кое мнит его своим защитником от степняков.
Великий князь Святослав успел уже собрать три общерусских похода на половцев, и от участия в двух из них Игорю Святославовичу удалось уклониться. А когда два года назад он не смог отговориться и вынужденно согласился возглавить такой поход, дело кончилось крупной неприятностью. Его непримиримый враг, переяславский князь Владимир Глебович, гордый внук Юрия Долгорукого, в самом начале похода потребовал, чтобы предводитель поставил его дружину в головной полк. Потому, видишь ли, что «русские князья по обычаю-де всегда ездят впереди» – как будто сам Игорь не русский князь! А головной полк, если побеждён противник, захватывает львиную долю добычи – так что же, надо было отдать её Владимиру? Игорь и не позволил ему выехать вперед. Князь Владимир разозлился и увёл свою дружину из общего стана, а вскоре выяснилось, что он поскакал к северским рубежам и разграбил несколько городков под Новгородом-Северским. Как только Игорь получил весть об этом, развернул он уже вышедшие в поход полки: киевлян, чёрных клобуков и союзных князей отправил по домам, а своею дружиною, не медля, ударил по Переяславскому княжеству. Удалось с ходу захватить город Римов. Никакой пощады подданным коварного Владимира! Взять на щит! Пытавшиеся обороняться и старцы, негодные для плена, были посечены, равно как и старухи, с пригодным женским полом известно как поступили, всё стоящее разграблено, оставшиеся в живых жители уведены в плен. Вот чем закончился общерусский поход на половцев!
И надо же, «брат и отец» Святослав вдруг объявился в Новгороде-Северском буквально за два дня до выхода в поход Игоревой дружины. Объяснил за ужином, что готовит новый большой поход на половцев в начале лета, а заехал по пути в Вятичскую землю, где надеется набрать для этого похода новые дружины. Говорил старик, что на сей раз Игорь не может отказаться от участия в этом большом, поистине общерусском походе, потому что предупреждён.
Радушный хозяин оказался в положении хуже некуда. Конечно же, надо было признаться, что собирается в свой, собственный поход, однако о договоре с Кончаком и полученных от него сведениях следовало в любом случае промолчать. Признайся он – и Святослав просто приказал бы ему оставаться дома и выступить позже, вместе со всеми князьями. И даже не в том дело, что подвёл бы тогда Кончака (косоглазого обмануть грех небольшой!), а в том, что пострадали бы его достоинство и честь как Новгородсеверского князя. Ведь так сложилось, что он сейчас малый великий князь, с подвластными князьями – путивльским, трубчевским, рыльским, курским. А если отменить поход – и это после всех обменов послами, согласований и утрясываний, да ещё когда из Курска уже вышла дружина, а из Чернигова – боярин Олстин Олексич с ковуями? Нет, тогда погибнет его слава, потускнеет честь! И власть тогда его закачается, а первым попытается вырвать её из рук младший брат Всеволод, недаром прозванный Буй-Туром – и свиреп, и решителен, и достаточно, что греха таить, узколоб для того, чтобы очертя голову подняться на старшего брата.
Игорь Святославович скривился. Как ни крути, а ведь он, просто промолчав тогда, оказался в положении подростка, скрывающего свою шалость от взрослых. Однако ведь всё равно узнают и всё равно выпорют – не тебя самого, княжича, так дядьку твоего, чтобы на тебя злобился и ворчал. Нет, не испугался он тогда – растерялся, так будет правильнее сказать. Однако, деваться некуда, придётся теперь замиряться с киевскими соправителями. Вот так вся будущая добыча и уйдет в Киев, Святославу, да в Белгород, Рюрику… Зачем же тогда и воинские труды поднимать?
Справа от дороги, слава Богу, подсохшей, для коней не тяжёлой, поднимаются дымки. Там Игорево Сельцо, заветная его загородная усадьба. Любава стоит сейчас, небось, у печи, длинным рукавом от тонкого носика дым отгоняет, смотрит, правильно ли у рабыни-поварихи Зюлейки варится каша на завтрак. Помолилась ли за него Любава, как обещала при расставании? Или притворяется она, играет только с хозяином, и для неё его объятия – одна докука? Игорь Святославович хлебнул ещё раз из фляги и, отвлекаясь от неприятных мыслей, подумал немножко о Любаве – не столько подумал (о чём там думать?), так, повспоминал… Однако вскоре перед ним опять выплыло усталое после целодневной скачки из Чернигова, морщинами покрытое лицо дяди Святослава, который и за обильно накрытым для знатного гостя столом продолжал долдонить о своих державных заботах. Ведь хорошо уже ему за шестьдесят, пора бы и угомониться, уступить старшинство в роду иным родичам, полным сил. Вот хотя бы и брату своему родному Ярославу, что сидит в Чернигове. Вот оно! Ведь Святослав ехал через Чернигов – и Ярослав ничего не сказал ему о переговорах с Кончаком и о тайном Игоревом походе! Вот на это и упирать теперь! Он, Игорь, тут был князем подчинённым, он не имел права ничего сказать, если старший над ним Ольгович промолчал, – и посол был его, Ярослава, и замысел, мол, его! Гнева Святославова и злобы его соправителя всё одно не избежать, так хоть какая-то теперь появилась возможность оправдаться…
Игорь Святославович ухмыльнулся, выпрямился в седле, подбоченился и выкрикнул в согнутую спину Рагуила:
– Что заскучали, хоробры? Рагуил, песню!
Спина боярина под плащом вздрогнула, Рагуил тут же натянул поводья, выехал на обочину и, напряжённо разевая щербатый рот, проорал:
– Кашлюка, запевай! «Во поле во чистом…»
Глава 2 Хотен Незамайкович ищет убийц
Знаменитый, давно в хитрых своих трудах поседевший киевский сыщик Хотен незаметно втянул в себя воздух. Да, в его богато обставленной горнице сегодня возник необычный и не сказать чтобы приятный запашок. Струился он, несомненно, от молодого человека, робко присевшего на край резной гостевой скамьи. Приоделся юноша для важного разговора, надел лучшую шубу и шапку покойного отца, вот и смешались запахи молодого разгорячённого тела и старческой унылой кислятины. Шубу можно было бы освежить снегом, да только где тот снег теперь? Вот и жди теперь следующей зимы… Хотя с каких это пор он думает о заботах, пристойных разве что домоправительнице Прилепе? И почему уже во время первой встречи испытал он, Хотен, доброе чувство к этому совершенно чужому для него юноше? Мало ли щеночков человеческой породы, милых и глуповатых, стучат высокими каблуками по бревенчатым киевским мостовым? Боярин киевский откашлялся и важно заговорил:
– Молодой Неудача Добрилович! Две недели назад ты пришел ко мне с подозрением, что твой отец боярин Добрила Яганович (да будет земля ему пухом!) был на войне убит не ворогами-половцами, а подлыми злодеями из своих, киевлян. И пообещал ты щедро меня одарить, если я найду убийцу. Так ли было?
– Именно так, боярин, и было! – высоким рвущимся голосом отвечал юноша, пошарил в рукаве и, не найдя там платка, пальцами смахнул со лба пот. – Я обещал тебе, боярин, лучшего отцовского коня – трёхлетку, игреневого с белыми чулками, породы чужеземной, полуденной. Не томи меня, поведай, что узнал…
Хотен помолчал. Потом нахмурился:
– Думаю, что нет в Русской земле человека, который, подобно мне, сумел бы развязать этот узел. Боюсь, что нет, и прямо не знаю, кто сможет таковыми запутанными делами заниматься, когда я окончательно пойду на покой или помру, – он замолчал, потому что почувствовал, как напряглась за спиною Прилепа: то ли дурносмех в себе таит (любит посмеяться над хвастовством хозяина), то ли недовольство тем, что заговорил о своей смерти. – Я осторожно навёл справки, я переговорил с надёжными свидетелями и обдумал всё, что ты мне рассказал. Теперь я почти разгадал загадку, и…
– Почти? Что значит – почти! – вскричал, невежливо перебив старшего и по чину, и по возрасту молодой Неудача.
– Узнаешь в свой черёд! – незлобиво прикрикнул Хотен и снова помолчал, сосредотачиваясь. – Мне рассказали дружинники твоего отца и, особенно подробно, его оруженосец Узелок, про обстоятельства смерти почтенного Добрилы Ягановича, царствие ему небесное. Ты всё это тоже слышал, однако выслушай и меня сейчас внимательно…
И, принявшись рассказывать, увидел Хотен то, о чём повествовал, столь явственно, будто припоминал им самим виденное, а не картину, восстановленную из показаний свидетелей, а ведь из них всегда кое-кто не прочь и приврать, а другой привирает, сам того не замечая. Хотен в тот поход, прошлогодний, не ходил: киевские полки оставались дома.
На Хороле дело было, почти полный год с тех пор пролетел. Полки великих князей Святослава и Рюрика выступили тогда против половцев. А степняки, Кончаком приведённые, стояли на речке Хороле. Кончак ожидал на переговоры послов от великих князей, которым предложил мир, великими князьями понятый как коварная уловка. По пути от встреченных купцов услышали Рюрик и Святослав известие о местности на Хороле, где купцы видели половцев, и послали туда как передовой полк дружины князей Михаила Романовича, которому служил Добрила Яганович, и Владимира Глебовича. Те в тумане проскочили мимо лощины, где стояло войско Кончака, и оказались на холме в тылу у половецких полчищ, на другом берегу мелкого Хорола. Туман рассеялся, и увидали князья на лугах бесчисленное войско половцев, да ещё с огромными самострелами, стреляющими «греческим огнем», нацеленными, правда, не на них, а на запад, в сторону Киева. Тогда началась обычная перестрелка, и князья Михайло и Владимир, коротко посовещавшись, решили послать по боярину к великим князьям, прося немедленной подмоги. Понятно, почему не одного посла отправили, а каждый своего: боярам, каждый сам-друг с оруженосцем, приходилось скакать на виду у готовых к бою половцев, стоявших ближе полёта стрелы. И, казалось бы, нет в том ничего необычного, что посланец Владимира Глебовича благополучно добрался до великих князей и привёл их на место битвы, а вот отцу Неудачи не повезло. Однако теперь Хотен, обдумав всё им услышанное от участников этих событий, пришел к выводу, что произошло невиданное доселе на Руси преступление.
Две стрелы поразили Добрилу Ягановича, когда он уже уходил из-под обстрела, почти скрывшись от половецких лучников за холмом. Его оруженосец Узелок, оставшийся возле князя Михаила Романовича, успел рассмотреть, как боярин дважды дёрнулся, ударенный стрелами, и склонился к гриве коня. Больше он своего хозяина не видел, но тогда пребывал в убеждении, что если тот только ранен, то Чурил, поехавший вместе с ним в посольство, позаботится о боярине. Позднее, уже после битвы, выяснилось, что Чурил о хозяине таки позаботился: вывез его к основным силам киевского войска, но уже мёртвого.
Боярин Добрила Яганович был, как положено, оплакан родичами и погребён, по старинному обычаю, в полном вооружении и с конём, чтобы легче было ему добраться до страны его мёртвых варяжских предков, Вальхаллы. Однако на тот случай, если правы окажутся православные попы, если нет давно никакой Вальхаллы или русского ирия, наняли попа, и он пропел всё необходимое для христианского погребения и покадил добрым греческим ладаном. Примерно через месяц после похорон поползли слухи, что боярин был убит своими. Тогда-то молодой Неудача Добрилович и обратился тайно за помощью к ведомому разгадчику преступных тайн и хитростей киевскому боярину Хотену Незамайковичу – вот какая слава о нём по Русской земле идёт! Слава Богу, юноша догадался посетить знаменитого сыщика в полной тайне – иначе Хотен сразу же отказался бы от дела.
– Сперва я, знаешь ли, подозревал, что к убийству причастен оруженосец отца твоего, Узелок, – иначе почему он не поехал со своим боярином?
– Да ведь…
– И я понял, в чём дело, только увидел Узелка: ковылял парень на костылях. Ранило его в ногу при перестрелке, вот и остался он в дружине. Разумеется, я сразу же спросил у Узелка, кто поехал с боярином вместо него. Оказалось, что Чурил, копейщик. Тогда я спросил: он сам вызвался – или был назначен твоим покойным отцом? Оказалось, что этот Чурил вызвался сам. Я не мог допросить Чурила, потому что он, как ты сказал, уехал на Северщину. Сразу скажу тебе, чтобы не позабыть: напрасно ты, Неудача, поспешил распустить отцовскую дружину.
– А что мне было делать, Хотен Незамайкович? Я после батюшкиной смерти получил чин в дружине великого князя Святослава Всеволодовича, да небольшой ведь – децкого. А децкому из собственных слуг только оруженосец и положен…
– Нельзя было скупиться. А если твой враг, замысливший убийство отца твоего, на двор ваш нацелился? Как с одним оруженосцем, да ещё хромым, оборонишься? Ладно, рассказываю, как я действовал. Я, ты помнишь, осмотрел кольчугу, в которой твоего отца с поля привезли (похоронил ты его в новой броне, с позолотой на вороте), а потом опросил бабок, что твоего отца обмывали. Кольчуга прорвана не была, а на вороте нашёл я кровь. Бабок я опрашивал порознь, и все три, будто сговорившись (а зачем было бы им сговариваться?), клялись, что на спине у покойника были только большие синяки, два синяка, а вот в горле рана. Одна из бабок назвала её «смертной».
– О Велес всемогущий!
– А я опять взялся за Узелка. Тот снова клянётся-божится, что отец твой дважды дёрнулся, а потом согнулся в седле. От половцев был он защищен холмом, но если бы в него и попала третья стрела, то никак не в горло. Вывод один возможен. Глас народный прав был: твоего отца убили, там же, за холмом. Тот самый копейщик Чурил изловчился и ударил его в горло стрелой. Наверное, расстегнул ворот кафтана, чтобы боярину было легче дышать, – и предательски заколол, держа стрелу, как кинжал. Ну, как тот, рыцарский, коим немцы поверженного противника сквозь броню прикалывают.
– Постой, Хотен Незамайкович, – Неудача вытер кулаками глаза и прищурился на Хотена. – Но ведь ты сказал, что почти разгадал загадку, и… Разве не так именно злодейство и совершилось?
– Разгадка тайны родилась здесь, – и Хотен значительно постучал себя по лбу. – В этом котле выкипятилось разумное варево из болтовни оруженосца и баб-портомоек. Однако это всего лишь догадка, и мы должны теперь убедиться, что она верна. Сего же можно достичь только двумя способами.
– Говори, боярин, не томи, и без того голова уже кругом идёт…
– Сначала я должен своими глазами увидеть смертную рану твоего отца, Неудача.
– Ой! – это Прилепа за спиною у Хотена: догадалась уже…
Быстра разумом Прилепа, чего не скажешь о Неудаче, – ишь как вытаращился…
– Да как же, боярин, можно увидеть раны моего отца, коли отец мой в могиле лежит?
– А вырыть его из могилы на малое время – да и посмотреть. Через год ещё можно всё нужное увидеть, – твёрдо, будто о деле вполне обычном, заявил Хотен. – А потом снова закопать – и с полным к покойному твоему отцу уважением.
Молодой Неудача, сын боярина Добрилы Ягановича, вскочил со скамьи и, совсем забыв о приличиях, забегал взад-вперёд по чужой горнице. Отвратный душок от его шубы с новой силой ударил в ноздри Хотену, и тот задумался: если обычно люди к старости глохнут и слепнут, почему он стал острее воспринимать запахи? Или просто, разбогатев, отвык от жилой вони, неотвязной спутницы бедности?
Неудача уже стоит прямо перед ним, запашок накатывается волнами. Что он говорит? Кричит, лицо налилось кровью…
– Повтори, я не расслышал.
– Я говорю, что отца выкапывать из могилы не дам! Потому что не хочу, чтобы он понял дело так, будто я приглашаю его вернуться домой! Видят боги, я своего батюшку люблю, да только живого – а мёртвый мне на дворе не надобен! Знаю я, знаю, чем такие возвращения мертвецов заканчиваются!
Хотен крякнул. Он мог бы сказать, что вот уже на седьмой десяток перевалил, однако ни разу ему не довелось увидеть ожившего мертвеца, и что, на тот случай, если станет такой приходить, есть доброе народное средство – забить, когда вернётся спать в свою могилу, прямо в сердце осиновый кол. Мог бы это сказать Хотен, да предпочёл промолчать. А вместо этого – тихо, медленно:
– Говорят в народе, что мёртвый встаёт из могилы и досаждает живым, только если те чего-нибудь не сделали для него, что обязаны были. Скажи, а разве ты отомстил за убийство своего отца?
Юноша замолчал. Хотен, впрочем, ожидал, что он не согласится раскапывать могилу. Сыщику и самому не очень-то хотелось раздевать отобранного у земли страшного (что скрывать?) мертвеца и при неверном свете факелов всматриваться в почерневшие его раны. За долгую его жизнь ему только дважды приходилось проделывать такое, при этом единожды с согласия великого князя и оба раза – со строжайшими предосторожностями, дабы не проведал ни простой народ, ни церковники.
– Ладно, не хочешь отрывать, так и не будем, – вздохнул славный сыщик. – Вот только тогда ты на себя большой грех возьмёшь, сынок. Тебе ведь в любом случае теперь придётся поймать Чурила и жечь на огне, после чего убить и закопать безвестно. А вдруг окажется, что наши свидетели ошиблись, и сей копейщик невиновен?
Молодой Неудача Добрилович уставился в пол, размышляя. На его гладком лице прочитал Хотен тяжкую работу мысли, а вот отдаст ли парень теперь лучшего отцова коня, этого и Хотен не сумел прочитать. Неожиданно, легко кашлянув, за спиною хозяина заговорила Прилепа, и ему, как всегда почти, приятно было услышать её странный для бабы за сорок звонкий девичий голосок:
– Не нужно тревожить прах почтенного боярина. Ты, Хотен, нашел единственно правильную разгадку. А вот с поимкой убийцы я бы повременила. Надо сначала попытаться вызнать, сам ли Чурил замыслил убить своего хозяина или же его нанял кто. А уж если не выведаем ничего о заказчике, тогда только ловить и пытать – просто другого способа выведать о заказчике не будет.
Хотен кивнул, соглашаясь. А вот молодой Неудача Добриловича заявил, снова не глядя ему в глаза:
– Я и тому удивился уже, да только промолчал, почтеннейший Хотен Незамайкович, что баба сия, мне ведомая как твоя раба, присутствует на нашем тайном разговоре. А сейчас ещё посмела и свое слово сказать!
– Баба сия, Неудача, не раба мне, – заговорил Хотен твёрдо, но без особого желания раскрывать перед этим молокососом свои семейные отношения, – да куда тут денешься? Приходится заради дела. – Не раба мне Прилепа, а свободная слуга, моя верная подруга и помощница. Теперь, как состарился, весь розыск, тот, что на ногах, ею делается, а вот думаем мы вместе. Что мне ведомо, то и ей. И если решишься ты довести до конца розыск убийцы отца твоего, придётся тебе довериться ей, потому что искать будет Прилепа.
Хотен замолчал. Он вовсе не собирался сообщать о том, что Прилепа, помимо всего прочего, ещё и мать пятерых его детей – двух сыновей и трёх дочек. Дочери уже выданы замуж, а старшего из сыновей Прилепы, Сновида, крещёного Михаилом, Хотен собирается туда попозже признать своим законным сыном и наследником. Прибрачить, как говорят киевляне в таких случаях, и в таких случаях тут единственный путь – стать под венец с матерью Сновида. Чуть попозже… Ожегшись на первом браке, Хотен не пожелал снова испытывать судьбу и даже на Прилепе побоялся жениться, хоть она тысячу раз доказала ему свою верность и преданность…
– Ну вот что, – произнес Хотен значительно. – Коня ты мне пригони, ибо убийцу я тебе нашёл. А на заказчика, коли был такой, мы с Прилепой выйдем, никуда не денется. Давай теперь вспоминай, не обидел ли твой покойный отец чем-нибудь Чурила.
– И не ври, – бросила Прилепа. – Не старайся отца обелить. Тут только правда нужна. Не отбил ли твой батюшка у Чурила девку?
У молодого Неудачи Добриловича отвалилась челюсть. А Хотен крякнул и, развернувшись на скамье, встретил торжествующую улыбку Прилепы. Видать, уже успела баба кой-чего раскопать. Ну и слава Богу, если заказчика не было. Не знаешь ведь, на кого рискуешь выйти и самому подставиться из-за какого-то коня. Вздохнул Хотен и обратился снова к юноше:
– Отвечай же Прилепе, да без вранья!
И пока морщил юноша свой гладкий лобик, вдруг понял Хотен, кого именно напоминает ему этот недотепа и почему столь приятен для лицезрения.
Глава 3 Небесное знаменье не к добру, а доклад разведчиков и того хуже
Войско Игоря Святославовича, к которому на пути успели присоединиться дружины из Путивля и Рыльска, а также черниговские ковуи во главе с боярином Ольстином Олексичем, на рысях подходило к Донцу. Видны были уже поросшие лесом берега неширокой в верховьях реки, и старик-тысяцкий Рагуил Добрынич не удержался и похвастался тем, как точно вывел он князя к удобному броду. День медленно перетекал в тихое предвечерье, когда в природе произошли странные изменения. Едва намечавшиеся сумерки вдруг резко сгустились, тени от заходящего солнца почернели.
– Княже, солнце! – захрипел Рагуил, показывая нагайкой на запад.
Игорь Святославович и сам уже увидел, что солнце меняется, чёрная круглая тень медленно, но неуклонно его пожирает. Тут в глазах у него позеленело, он натянул поводья, оглянулся на войско: зелёные пятна помалу рассеялись, однако люди и кони быстро и неумолимо чернели. Игрун под князем запрядал ушами, взбрыкнул и жалобно заржал. Ему ответили кони за спиной Игоря, заворчали дружинники, завыли, оплакивая гибнущее солнце, ковуи. Из ближней яруги донёсся протяжный волчий вой, откуда-то издалека – тявканье лисиц.
Князь Игорь затаил дыхание, сотворил «Господню молитву» и перекрестился. Тем временем небо вокруг солнца словно сгустилось, на нём проступили звезды, будто смотришь на небо из глубины колодца. Солнце, наполовину съеденное уже чёрной тенью, похожей на круглую княжескую шапку, выглядело теперь скорее как месяц. Однако не поддавалось светило тёмному врагу своему, отчаянно боролось, и из-под рогов нового яркого светила выбивались как бы раскалённые угли и языки пламени. Но вот тень явно сместилась в сторону, звезды потускнели. Игорь Святославович шумно вздохнул и ещё раз перекрестился. Отчего он так перетрусил? Дикие ковуи, те могли испугаться, язычники непросвещённые, что светлое солнце погаснет навсегда, но он-то сам ведал же, что затмения случаются время от времени, а солнце всегда возвращает себе первоначальный облик… Вот, уже светлеет снова вокруг, уже сияет светило почти по-прежнему, а вот и последний полумесяц тени соскользнул с солнечного диска.
И не заметил, как князья, молодые Владимир, сын Игорев старший, и Святослав Ольгович Рыльский, подтянулись к нему и Рагуилу. Последним подскакал угрюмый Ольстин Олексич, доверенный боярин брата Ярослава, приведший из Чернигова ковуев. Лица у людей бледные, кони какие-то взъерошенные, словно после битвы. Игорь Святославович выпрямил спину и заставил Игруна встать под стягом.
– Что скажете про знамение сие, братия и бояре? – спросил небрежно.
– Испужался я, батюшка, – чистосердечно отозвался Владимир.
– Ясно, что знамение не на добро, – подбоченился Святослав. – Однако же…
И не договорил юноша-князь, поник головою. Рагуил, подождав, не скажут ли ещё чего молодые князья, заговорил осторожно:
– Знамение скверное, князь Святослав Ольгович прав.
Не поздно и воротиться. А князю Всеволоду Святославовичу послать о том на Оскол гонца.
Ольстин Олексич, не очень-то, видно, испугавшийся затмения, хлопнул Рагуила по плечу, сверкнул раскосыми чёрными глазками:
– Напрасно ты всполошился, старик! Вон ковуи мои, и те приободрились, когда солнышко наше светлое чёрного ворога с себя скинуло. Княже, как можно упустить такую удачу? И чего тогда ради наглотался я за сию зиму дыма у половецких костров?
Все понимали, что последнее слово за Игорем Святославовичем. Он же помедлил немного. Была в их роду одна зловещая закономерность: предки Игоревы, включая Олега Святославовича, родоначальника Ольговичей, умирали большей частью после солнечных затмений. Последним в сей страховитой череде, через месяц после зловещего затмения умер дядя Игорев, Всеволод Ольгович. Правда, смерть покойного отца Игорева никаким затмением не сопровождалась. Да и о чём речь? Касается эта семейная злая примета только его, Игоря, а против судьбы, как против рожна, не попрёшь. А сказать людям лучше вот как…
– Братие и бояре! Знамения небесные от Бога, и один только Бог и ведает, на добро они или на зло. Что ж, поедем вперёд и сами увидим.
Ольстин Олексич тут же попросил слова и показал на солнце, уже совсем оправившееся после недавней невзгоды:
– Только так! И поглядите: знамение совершилось на западе, а идём-то мы на восток! Не нас, а половцев предупреждает Господь о несчастье!
– Согласен! Владимир и Святослав, передайте своим дружинам наши с Ольстином речи, а ты, Ольстин, своих ковуев получше укрепи, чтобы с ночлега не сбежали. Будем переходить Донец! Рагуил, веди новогородцев первыми, как только я им своё слово скажу!
И пока новогородская дружина, как и иные, вот уже третий день облачённая в доспехи, проезжала мимо него, всматривался князь Игорь в знакомые лица – то сумрачные, то в уже просветлевшие, – и вдруг сам насупился. Если его убьют, сумеет ли Рагуил увести с побоища сына и дружину? На юных князей какая здесь может быть надежда…
В условленном месте сбора – лощине у изгиба маленькой речки Оскола, прикрытой со стороны степи холмами, – брата Всеволода с дружиной не оказалось. Пришлось прятать людей и коней в небольших дубовых рощах и в оврагах. Игорь Святославович начал беспокоиться: хоть места на первый взгляд безлюдные, однако рядом проходит Изюмский шлях, и случайный купец, заметивший ратных, половецкий охотник или пастух могут дать знать об их появлении половцам. Поскучневший Рагуил посоветовал князьям выставить дозоры.
Всеволод Святославич привёл трубчевцевскую дружину только на исходе вторых суток после договорённого срока. Дружинники Всеволода, весело здороваясь со знакомцами, повели поить коней, а князь, тоже спешившись, поспешил навстречу старшему брату, поднявшемуся навстречу ему с кошмы.
Досада на Всеволодово опоздание растаяла в радостном братском чувстве. Братья обнялись, и Игорь, отстранив от себя на мгновение Всеволода, всмотрелся в его обветренное смуглое лицо.
– Ну, ругай меня, ругай, брат и воевода! – заговорил быстро Всеволод. – Виноват я перед тобою. Неруса так некстати разлилась, что пришлось объезжать Большой лес.
Игорю было безразлично, действительно ли брат опоздал по этой причине. Главное, что Всеволод уже на месте, и они теперь немедленно, как только кони у трубчевцев будут напоены, вторгнутся вглубь степных владений Кзы. Он сказал об этом брату. Потом они согласно посетовали, что не могут достойно отпраздновать встречу. Игорь уже ответил на вопрос Всеволода о здоровье жены своей Евфросинии Ярославны (а что, мол, ей сделается?) и выбирал слова, чтобы самому побезразличнее спросить, как живётся-можется весёлой красавице Глебовне, молодой его невестке, когда подъехал Рагуил и напомнил, что пора оправлять в степь, вперёд в направлении похода, разведчиков, чтобы привезли языка. Для этого дела готов у него десяток самых смышленых ковуев. А встречу им назначить на Сальнице.
Степняки, прижившиеся под Черниговом, достали из чересседельных сумок половецкие малахаи, сменили ими свои высокие кривые смушковые шапки – и стали неотличимы от половцев, во всяком случае, пока не заговорят или пока не можно будет разглядеть узоры на их кожухах. На то и был расчёт, чтобы подобраться к будущему языку поближе, а там уже и арканы в ход пойдут. Старший ковуй пошептался ещё с Ольстином, в конце разговора они, одинаково оскалившись, хлопнули друг друга по железным плечам. Затем ковуи наскоро помолились своим идолам, извлечённым с почтительными поклонами из сумок, и растаяли, наконец, в сумерках.
– Уж не посетуй, брат, – снова обнял князь Игорь брата, и облачко пыли поднялось над грубым дорожным плащом Всеволода. – Даю тебе только час на отдых. Сам понимаешь, время теперь – золото. Чтобы не пришлось вам догонять наши отдохнувшие дружины, поедете впереди, сразу за мною и Рагуилом.
Всеволод кивнул согласно, взлетел на коня (будто не трясся в седле целый день!) и поехал распоряжаться.
Через два дня Рагуил вывел войско к речушке Сальнице, на правом берегу которой к нему должны присоединиться разведчики.
– Они уже здесь! – воскликнул дальнозоркий старец. – Завидели нас, садятся на коней.
Князь Игорь пришпорил усталого Игруна, Рагуил и Ольстин поскакали следом. Дорогой Игорь пересчитал: десять всадников с десятью заводными. Пленника нигде не видно. Или лежит, связанный, в траве?
Старший из посланных за языком ковуев, уже в племенной своей шапке и с серебряной гривной на шее, выехал навстречу князю Игорю и поклонился. Ольстин Олексич, недовольно поджав губы, заставил жеребца развернуться за спиною ковуя и встал рядом с ним.
– Что скажешь… э-э-э, славный батыр Алпар? И почему не показываешь своего пленного? – спросил ласково князь Игорь.
Ковуй поцокал языком. Потом наклонил голову и заговорил, медленно, но правильно выбирая русские слова:
– Не можно было взять пленный. Нет язык! Нет чабаны! Все стада отогнать в Великий степь. Далеко. Видел я только ратных. Ездят с доспехом.
Сказанное разведчиком было до того неприятно Игорю, после соединения с братом снова уверовавшего в лёгкий успех похода, что он не захотел сразу эти слова обдумывать. А подумал, что ковуй похож, пожалуй, на Всеволода. Скулы такие же, раскосые глаза прорезаны так же на плоском тёмном лице, и похоже кривит узкогубый рот, когда недоволен. А почему бы им и не походить друг на друга? Кровь половецких бабок у братца Всеволода гуляет ближе к смуглой его коже, а у него, белокожего Игоря, ближе к сердцу. Всеволод же сердился на степняков, обвиняя их в том, что слишком похож на них. В отрочестве его не утешали и заверения отца их покойного, что великий князь киевский Андрей Боголюбский едва ли не более косоглаз и кривоног, а вон какую славу и честь имеет! Впрочем, и варяжская кровь рано дала себя знать… Ольстин что-то ему сказал, Ольстин, из-за которого и заварилась вся каша!
– Княже! – повторил хмурый Ольстин Олексич. – Алпар просит разрешения дать тебе совет.
Князь Игорь насупился, однако кивнул. Можно подумать, что ему от этого кумысника совет нужен! Языка бы лучше привез, тогда можно было бы проверить весьма неприятные вести. Игорь ещё раз кивнул и заставил себя улыбнуться:
– Говори, Алпар-батыр.
– Не наше есть время, княже. Надо или ехать вперёд борзо, или домой ехать борзо.
– Спасибо тебе, Алпар. Иди отдохни, батыр, сколько успеешь, – опять улыбнулся Игорь, и когда, Алпар, пятясь, исчез в сумерках, попросил Ольстина узнать у остальных разведчиков, что видел каждый из них.
Тут прискакали Владимир с племянником Святославом, весёлые и, как показалось Игорю, хмельные. Молодые князья принялись тормошить Всеволода, рассказывая байку о том, как конь Святослава попал ногою в нору суслика, упал вместе со всадником, однако ногу ухитрился не сломать. Игорь тем временем отозвал в сторонку старого Рагуила. Ему больше не на кого было тут положиться.
– Решать надо сейчас, княже, – зашептал Рагуил, испуская из беззубого рта запахи вяленой рыбы. – Что толку допрашивать разведчиков порознь? Косоглазые наши друзья по пути трижды могли сговориться.
– И что ты посоветуешь?
– Алпар прав в том, что время не наше. Я советую возвратиться, пока нас не заставили принять бой. Мы ведь сюда не удаль свою показать пришли, а чтобы пограбить кочевья, пока донские половцы в походе, – разве не так? К чему же нам биться с ратными, губя своих дружинников? Удачно отступив, мы не потеряем ничего, кроме истраченных припасов, княже. А став на рубеже, прикроем от половцев Путивлыцину.
– О Перун всемогущий, да разве в припасах дело? А позор мой?
– В простом народе говорят: утёк не славен, да пожиточен.
– Вот-вот, мужику слава без надобности, да только я новгород-северский князь. Спасибо, Рагуиле.
Покусывая губы, смотрел не видя Игорь на красную полоску, оставшуюся от заката, когда подъехал, наконец, Ольстин Олексич.
– И что же, боярин?
– Все прочие согласно подтверждают слова Алпара. Половцы ездят с доспехом. Видели издалека две орды, копий каждая в полета: направлялись в полуночную сторону, собственно, в нашу. Значков не рассмотрели. Вежи и стада над Донцом будто корова языком слизала.
– Теперь кой толк мне выслушивать твои советы, боярин? – проворчал князь сквозь зубы. – Подвёл ты меня крепко… Впрочем, советуй, если не терпится тебе.
– Разве это я тебя подвёл, княже? – Ольстин Олексич пожал могучими плечами, и кольчуга на нем скрипнула-звякнула. – Я ведь только выполнял приказы – князя моего Ярослава Всеволодовича и твои. И тебе ли не знать, как быстро всё меняется в степи и на степной границе? Невозможно все возможные осложнения предусмотреть перед походом и заранее все дырки заткнуть. Нельзя ни на что полагаться, кроме как на себя самого. Если позволишь дать тебе сейчас совет…
– Куда денусь? Советуй, советчик.
– По мне, княже, так лучше возвратиться. Если нам повезёт, перехватим те две малые орды, как станут возвращаться с полоном, – вот тебе и оправдание похода. А нет – сохранишь свои дружины, и то неплохо.
– Скажи честно, ты думаешь, что Кончак меня обманул?
– Пока никто ничего знать не может. А вдруг они, половецкие князья, затянули со сбором войск? Вдруг ещё не выступили? А положа руку на сердце… Разве ты на месте Колчака не изменил бы русскому союзнику, надави на тебя свои, половцы?
– Ладно, боярин, я подумаю. Иди. Впрочем, пошли сразу на совет. Эй, Рагуил Добрынич!
Костров в походе не разжигали, чтобы не обнаружить себя, и родичей своих князь Игорь нашел скорее по голосам. Разглядел, что Всеволод сидит на его раскладной скамеечке, заменяющей Игорю в походе княжеский «стол», а молодые князья – на кошме, где ему самому нет уж места. Ничего, насидится ещё этой ночью в седле… Он прочистил горло.
– Братие и бояре! Объявляю военный совет!
На совете бояре повторили свой совет отступить, а Всеволод и молодые князья высказались за продолжение похода. Игорь помолчал, без толку прокручивая в голове и без того понятное: Владимир и Святослав неопытны, а могучий телом Всеволод не столь крепок умом, как десницею. Как брат с дружиною справляется, показал в очередной раз, неизвестно почему опоздав на два дня. Брат хорош только под крепким началом, и особенно, не дай того на сей раз Бог, в обороне. В бою вскипает в братце-тугодуме варяжская кровь и просыпается неведомый Рюриков предок, неукротимый берсерк: может часами ворочать мечом, как безумный, ни на что не глядя, – откуда и силы берутся? Почему и прозвище получил – Буй-Тур. Напрасно им гордится, ведь едва ли почётно прозвище. Сам лихо бьётся, настоящий хоробр, а вот дружине Всеволод овой кто иной вынужден порядок давать. Потому и выходит, что решение придётся принять одному ему, Игореви.
– Братия и дружина! За те два дня стоянки половецкие лазутчики почти наверняка нашли уже нас, а если и не обнаружили тогда, заметят теперь, когда пойдём открытой степью. Ночёвки не будет! Мы выступаем немедленно! Тут бояре согласно советуют отвести полки к северскому рубежу. Может, и правы они. Да только если мы, не бившись с ворогом, возвратимся, то будет нам позор пуще смерти! Только вперёд – и как нам Бог даст! Поведёт нас через ночь Рагуил Добрынич. Всем ехать в доспехе. Кого увижу без доспеха, лишу доли в добыче, а дома накажу. Теперь помолимся, братие и бояре.
Вставая с колен, Игорь Святославович почувствовал облегчение. Так всегда на войне: принял решение – выполняй! Приказали тебе – делай! И голову труди только заботой о том, как получше, со славой выполнить приказ, – даже если ты его сам себе отдал. Осознание того, что по его слову берега крошечной Сальницы наполнятся через короткое время бодрым живым шумом выступающего со стоянки войска, доставило князю несколько весьма приятных мгновений.
Глава 4 Умственные мучения Севки-князька
Случившееся средь бела дня нападение тёмных сил на великого Хорса, светило-бога, сильно смутило и растревожило князя Всеволода Ростиславовича, а в киевском просторечии – Севку-князька. Усердный читатель летописей, он знал, конечно, что такая беда порою случается на небесах, однако за пятидесятилетнюю его жизнь ещё не бывало, чтобы солнце погибало так надолго, да к тому же привиделось ему, что светлого и пресветлого Хорса обвивал в те страшные минуты огромный чёрный Змей. Давно уже воспаривший разумом своим над суевериями тупого народа, Всеволод не признался бы и самому себе, что на его теперешнее состояние так повлияли не только внезапные средь белого дня сумерки и истошный крик, поднявшийся над киевской Горой, где стоял его двор, но и неслыханной доселе оглушительной громкости набат. Понятно было, что в набат с перепугу ударил звонарь Десятинной, ведь первым знаменитый «Гречин-крикун» Святой Богородицы загремел, однако подхватили его колокола и била всех сорока сороков столичных церквей.
Затмение застало Всеволода дома, за столом. Он вскочил со скамьи, когда горницу накрыла темнота, а набат ударил в его уши уже во дворе. Тут и в сердце закололо, пришлось прислониться к стене. Вот уже и Хоре победил чёрного Змея, вот уже светит он, благословенный, как ни в чем не бывало, а сердце не отпускает. Теперь уже и стоять стало ему тяжело, и сел он прямо на землю, не заботясь о том, что сам много раз справлял здесь, прямо под стеною, малую нужду.
Всеволод не сомневался, что затмение не сулит ничего доброго Русской земле и ему самому. Он был убеждён, что его личная судьба неотрывно связана с судьбою Русской земли и с судьбой Киева, в котором он прожил безвыездно последние тридцать лет. Ему самому здесь приходилось год от году хуже, и Киев беднел и хирел прямо на глазах – а значит, и с Русской землёю дело обстояло не лучше.
Его же личные беды проистекают от прискорбного противоречия, и в душевном пороке этом никого, кроме его самого и, возможно, покойной матери, заглядевшейся, как была им тяжела, с излишней пылкостью на какого-нибудь красивого, да пустого скомороха, обвинить невозможно. Рождённый князем, он терпеть не мог княжеского времяпровождения, и нож острый было бы для него скакать под отчим стягом, высунув язык, из одного конца Руси в другой, а в перерывах этой вечной скачки подставлять голову под чужие мечи, грудь – под копья и стрелы, самому убивать, если удастся, грабить и развратничать, а пуще всего пьянствовать и обжираться, пьянствовать и обжираться на бесчисленных княжеских съездах, свадьбах и похоронах.
Вначале печаловался Всеволод, что Бог наказал его позорной трусостью, потом привык думать, что сознательно избегает военных опасностей, дабы сохранить подольше свою жизнь – жизнь будущего великого певца, подобного древнему Бояну. Покойный отец, в те годы всевластный в Смоленской земле, дал было волость, да вскоре и отобрал – добро ещё, что не проклял. А если не желал Всеволод ходить в походы, если уклонялся от воинской службы очередному великому князю, то и получить следующую волость он мог только чудом. Такое чудо и случилось во время решающей битвы Изяслава Мстиславовича с суздальским князем Юрием Владимировичем за великое киевское княжение. Тогда прибился юный Всеволод к троюродному деду своему престарелому и доброму Вячеславу Владимировичу, старшему из братьев Мономаховичей, а тот додумался послать его в помощь славному Изяславу – отвертеться князьку-приживалу не удалось. В той битве на болотистых берегах Руты набрался Всеволод под завязку страху – и воинских впечатлений – на всю свою жизнь, а поскольку именно ему посчастливилось найти на поле брани раненого победителя Изяслава, щедрый великий князь дал ему волость – маленький и глухой удел. Однако умер великий Изяслав через несколько лет, и волость уплыла из рук Всеволодовых, немного оставив в них серебра. Пришлось вернуться ко двору старца Вячеслава, и надеялся он тогда, что добряк не забудет его, бедствующего родича, в своём завещании. Дядюшка и не забыл бы, наверное, да только не довелось старику вымолвить последнюю свою волю: с дружиной славно повеселившись, отправился он спать, под руки ведомый, а утром так и не проснулся. Отец Всеволодов, тогда великий князь киевский, прискакал в Киев, прервав поход на Чернигов, и на Ярославовом дворе разделил добро и сокровища дяди между монастырями, церквями и нищими, да и нелюбимому, позорящему его сыну, тому же нищему бобылю, дал, скрипнув зубами, небольшую долю. Тогда и завелся у Всеволода в Киеве, на Копыревом конце, свой двор, здесь он, то кой-каким добром обрастая и красивыми рабынями, а то снова беднея, и прожил все эти годы. Вместе с Киевом пережил он страшный разгром пятнадцать лет тому назад, когда сыновья Андрея Боголюбского с Ольговичами и половцами ворвались в Киев, проломав подгнившие стены в местах, указанных им, как говорили, киевскими боярами, а среди них и прежним, при Изяславе, тысяцким Петром Бориславичем. Доказательством предательства стало для горожан то диво дивное, что дворы бояр-изменников не пострадали. Ведь тогда впервые половцам удалось проникнуть вместе с суздальцами и северцами за городские стены и разграбить не окольные монастыри и сёла, а неприкосновенные для них раньше Гору и Подол. Если Десятинная и София были ограблены, а Десятинная ещё и подожжена, что уж вспоминать о домах обычных горожан! Самому Всеволоду удалось спастись, вовремя явившись к победителям на Ярославов двор. Поскольку он с Изяславовых времен не участвовал в усобицах, Андреевичи его приняли сурово, но оставили на свободе. Однако взять с собою он догадался только одну рабыню, к которой испытывал тогда сердечную склонность. Вернувшись на свой двор через неделю, они нашли там пепелище и трупы домочадцев, а среди них останки растерзанной Марютки, одной из двух рабынь-рукодельниц, кормивших своими кружевами да вышивками весь дом, вторая, Скорина, исчезла: уведена, наверное, в полон. Так Всеволод разделил страшную беду Киева и вместе с большинством киевлян был обречён на нищету.
Что же до Русской земли, то уже этот разгром Киева свидетельствовал о её тяжкой болезни. Было, впрочем, много и других признаков упадка, не каждому очевидных. Ведь для простого обывателя скверные перемены незаметны, потому что вертится он волчком в рутине повседневности, иное дело – разумный читатель летописи. Тот теперь только вздыхать может по той тёмной поре, когда русское войско плавало на челноках под Царьград и грабило берега ещё более далекого Хвалынского моря, а Святослав Игоревич завоёвывал Болгарию. Ведь Олег Вещий в знак победы даже прибил свой щит на вратах Царьграда! Конечно же, греки не преминули отодрать Олегов щит от ворот Константинополя, как только челноки победителей скрылись за мысом, а их пьяные песни перестали терзать изысканный греческий слух. Зато какое славное всё-таки было деяние, достойное героев древнего Омируса!
И те времена теперь кажутся ему баснословными, в кои Владимир и его сыновья ходили в Чехию и Моравию, вооружённой рукой помогали королю-родственнику наводить порядок в Польше. Теперь ведь, напротив, венгерские и польские войска приходят на Русь, ввязываются в княжеские усобицы. И если Изяслав Мстиславович сумел удержать тех же союзных ему венгров от грабежей на Руси, то теперь они всё смелее вмешиваются в борьбу между князьями и боярами в Галицкой земле. И чем теперь это Галицкое княжество, а равно с ним Полоцкое или Суздальское, или Господин Великий Новгород, чем они отличаются от иноземных государств-соседей, от той же Польши или Венгрии? Там точно так же сидят родственники великого князя киевского, и точно так же они самостоятельны и от Киева независимы. Когда-то женили русские князья сыновей на английских королевнах и греческих принцессах, а дочерей отдавали за варяжских конунгов и французских королей. Теперь не метит так высоко Рюриково племя – где уж ему! Теперь для русских князей и смуглая половчанка сойдёт за иноземную принцессу.
А власть великого князя киевского? Разве не сузилась она, не ссохлась, будто кожаная перчатка, попавшая под дождь? Вот один из старших князей, победив всех противников, встал на костях, а затем утёр кровавый пот, приехал в Киев и сел в золотое кресло на Ярославовом дворе. Что же досталось ему под начало как новому великому князю? Да только разорённый Киев, малое пространство земель под городом, где даже Белгород, Вышгород и Овруч, некогда пригородные крепости, выделены теперь в самостоятельные уделы, – и всё. Да ещё великая честь, конечно… И призрачное старшинство над родом Рюриковичей, и уважение от «чёрных клобуков». А теперь вот уж лет десять, как на Русской земле два великих князя: один в Киеве сидит, а другой в Вышгороде, – и ничего, все привыкли…
Но если страна слабеет, то найдётся, в конце концов, для неё новый хозяин, чужой, иноземный, поневоле жестокий к покорённому народу властелин. А когда придут на Русскую землю такие завоеватели, тогда теперешняя жизнь, бедная и убогая, но под своими, нашей же веры и обычаев, князьями, покажется райской. Вот только не знал Всеволод, откуда он придёт, суровый, не знающий жалости завоеватель. Не с полудня, не из Царьграда: там греческому цезарю не до нас, ибо сам судорожно пытается удержать свои земли. И не с Востока: половцы, сильнейшие в Великой степи, точно так же разобщены, как и русичи. На Запад – вот куда с недавних пор со страхом посылал Севка-князёк свой испуганный внутренний взор. И были у него для того свои причины.
Пару лет тому назад его вызвал к себе брат Рюрик, незадолго перед тем победивший Ольговичей и пришедших с ними половцев, а в результате поделивший власть великого князя с главою Ольговичей Святославом Всеволодовичем. Странно было Всеволоду оказаться в том самом роскошном тереме, где так неплохо жилось ему в домочадцах у добряка двоюродного деда Вячеслава Владимировича. Брат его младший, Рюрик, встретивший его, сидя на скамье в гриднице, в ответ на приветствие не пожелал даже подняться навстречу старшему брату, нет чтобы обнять его. Этот уж добряком не был, а про себя Всеволод называл его не иначе, как рубакой.
– Ну, здравствуй, коль не шутишь, брат, – промолвил тогда после долгого молчанья Рюрик. – Как же тебе верить, что не шутишь? Ты ведь теперь скоморох у нас: песни про надутого Святослава складываешь, на пиру у него поёшь, а потом ещё и плату требуешь!
Памятуя, что слово серебро, а молчанье золото, Всеволод молча поклонился.
– Вон и седым волосом на висках оброс, и сгорбился, а всё не образумишься! – продолжал Рюрик, разглядывая брата с обидевшим того любопытством. – Паршивая ты овца в нашем роду, брат, – а ведь род наш великокняжеский! Деда твоего святого и великого Мстислава Владимировича не стыдно ли тебе? Да ладно, известно, что ты в нашем стаде паршивая овца, а с паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок. Есть у нас со князь-Святославом к тебе дело, для державы нашей полезное, да и ты, нищеброд, на нём отчасти поживишься.
– Если соглашусь, брат, не забывай, – буркнул Всеволод.
– Куда денешься? А дело вот какое. Уже вторую неделю в Киеве околачивается посол от немецкого цезаря Фридрика Рыжебородого. Привез грамоту с большим крестом, зовёт нас цезарь в крестовый поход на Иерусалим, снова освобождать от безбожных агарян, от салтана арапского Гроб Господень. Куда нам с князь-Святославом? Дай Бог со своими язычниками управиться! Хотя, говорит, галицкий Ярослав уже согласился. Если, мол, сам не поедет, то пошлёт с дружиной сына Олега, ну того, внебрачного, что от сожженной Анастасии. Так посол сей, Карлус, говорит. Я не очень верю, чтобы друг мой Ярослав согласился отправить дружину в такую даль, если у него в Галиче бояре всё время бунтуют. Посол же Карлус не уезжает – отчего, спрашивается? Любопытно, говорит, ему у нас осмотреться. Ну, понятно мне, почему на самом деле. Посол – тот же разведчик, да только он о нас проведывает, а мы у него ничего не вызнали пока. Это не дело!
– А чем я вам помогу?
– Сие Святослав придумал, горе-соправитель мой. Я даю тебе немецкую одежду из своей казны, кошель с кунами, тебе подбреют бороду по немецкой моде и волосы подстригут. Только вижу, что раньше придётся моим слугам баню протопить…
– Чем я виноват? Пешком пришлось к тебе идти из Киева, брат…
– Ага, понял. Значит, займу ещё коня. И слугу дам своего. И вечером же поедем к Святославу на пир. Представлю тебя немецкому послу как своего брата, а удел твой, мол, далеко, под Минском. Ты ему любопытен будешь как брат мой, великого князя, и ещё тем, что в немецкой одежде. Скажешь ему, что любишь всё немецкое, ну, ещё выпьешь с ним… Потом пригласи на завтра в Рай, чтобы угостить немца уже наедине. А что выспросишь, перескажешь нам со Святославом. Неужто откажешься?
– Так ведь Рай, что на левом берегу, великим князем Юрием устроенный, разорён давно…
– Осталось там где повеселиться, брат. Чтобы с глазу на глаз переговорить, роскошь не нужна. Сам только не напивайся и не болтай лишнего.
– Болтай, не болтай… Да я по-немецки всего два слова знаю.
– А он, сей немец, сам говорит по-славянски. Чудно эдак, однако понять можно.
Уж лучше бы было не понять Всеволоду, что он, этот немец Карлус Браниборский, поведал тогда на своём и в самом деле странном славянском наречии! Оказалось, что выучил он его в земле бодричей, что на речки Лабе. Там он воевал с бодричами, когда папа Евгений объявил против славян крестовый поход. Не всё сразу получилось, но постепенно господину Карла дюку Генрику Льву удалось бодричей покорить. Кто из славян не был убит, того изгоняли, а на освободившиеся земли приводили германцев с Рейна. Теперь Карлус служит цезарю Фридрику Рыжебородому, а тот его за подвиги в земле бодричей произвёл в рыцари. Славянам против немцев не устоять, и когда-нибудь на всех землях, где нынче живут дикие славяне в своих бревенчатых деревнях и городах, поставят свои каменные жилища потомки нового избранного Богом народа, германцев. Ведь уже всем ясно, что именно германцы оказались наследниками Римской империи, и именно они под покровительством Иисуса Христа и Девы Марии совершат тот подвиг, который не удался язычникам-римлянам, – завоюют весь мир.
В отличие от Всеволода, великие князья Рюрик и Святослав не испугались поведанного немцем Карлусом. Рюрик сказал, что немцы обожают напиться на дармовщинку, а потом, как и все добрые люди, спьяну прихвастнуть. Не достать им до Руси – руки коротки! На пути у них Польша, которую так просто, как племя язычников-бодричей, им не разгрызть, а потом ещё Полоцкая земля. А Святослав заявил, что, судя по всему рассказанному братом Всеволодом, цезарев посол именно с той целью и приезжал, о коей объявил – склонить великих князей киевских примкнуть к очередному крестовому походу. Что ж, надо отказать цезарю повежливее, а посла отпустить. Брата Всеволода же они попросят устроить для немца прощальный пир – авось, ещё чего-нибудь интересного расскажет.
Если немец и рассказал что новое на прощанье, то Всеволоду сего вспомнить не удалось – слишком уж гостеприимно проводил он заезжего рыцаря. Очнувшись, был он поставлен в известность, что взял на прощальный пир две гривны у ростовщика. Рассчитаться не удалось ему до сих пор, и долг, над головою висящий, отравлял его и без того несладкую жизнь.
Глава 5 Первая стычка и захват веж
– Княже! Половцы!
Игорь, задремавший в седле под весенним солнышком, встрепенулся, прогнал из головы тут же забытые сонные видения, открыл и прищурил глаза. Увы, им надо ещё привыкнуть к солнцу…
– Где они, Рагуиле? Далеко ли? Сколько их?
– Мы подходим к речке Суурлию, княже. Половцы на той её стороне. Много, не менее пяти сотен. А за ними виднеются вдалеке верхушки веж.
«Эти – наши! – возликовал в душе князь Игорь. – Этих – побьём! Вот и оправдание моему походу перед великими князьями. Слава тебе, Боже, слава Тебе!»
– С вежами, говоришь? Гонцов ко князьям – разворачиваться! Стрелков вперед! Эй, трубач, – «К бою!»
Застучали и смолкли копыта. Трижды протрубил зазевавшийся было трубач, потом снова и снова. Князь Игорь снова прищурился: половцы, похоже, тоже выстраиваются к битве, если так можно назвать суматошные переезды копейщиков взад-вперёд перед строем. А где же вежи? Тут до ушей его донеслись высокие, душу из человека вынимающие, если вблизи окажется, ни с чем на белом свете не сравнимые звуки: то скрипели немазаные оси половецких веж на колесах. Есть и вежи, есть! Половцы перегоняют их себе за спины, подальше в тыл.
Игорь выхватил из ножен меч и поднял его над головою, сверкающим остриём к небу. Это знак, в первую очередь, для Владимира, чья дружина назначена в передовой полк, и для Буй-Тура тоже, если не заснул в седле, что надо разворачиваться в боевой порядок, не дожидаясь гонца. А как разворачиваться, каждый князь и каждый боярин должны и во сне помнить. Вот он, густой топот копыт и матерный лай за спиной, справа и слева. Это средний полк, его, Игорева, дружина, разворачивается первым: эти бойцы готовы тотчас же вступить в бой, если понадобится. А понадобиться этот их ратный труд может в том случае, если задние дружины замешкаются, оставаясь в походном порядке, а враг уже ударит. Дружина Буй-Тура, правый полк, сейчас построится справа от него, а левый полк, дружина племянника Святослава, выедет налево. Долго, однако, возятся… Впрочем, и половцы не собираются наступать, остаются на том берегу речки, как там её? Ах да, Суурлия…
– Рагуиле!
– Чего тебе, княже?
– Чьей они орды? Ты рассмотрел ли?
– Значок какой-то хитрый – не разглядеть мне, княже… Ничего, возьмём пленных – разберёмся!
И то… Впереди Владимир худо-бедно выстроил свой полк. Князь Игорь опустил меч, убрал его в ножны и пустил вперёд Игруна. Не оглядываясь, почувствовал, что главный воевода со своим оруженосцем, знаменоносец, трубач и его собственный оруженосец последовали за ним. Они проехали в промежутках между десятками Владимировой дружины, ощетинившейся копьями и нестройно сомкнувшей щиты, и перед Игорем оказался Владимир, залитое кровью лицо которого при виде отца осветилось радостной улыбкой.
– Ты ранен? – бросил Игруна вперёд князь Игорь и тут же натянул поводья: понял уже, что сын оцарапалея, пытаясь утереть пот боевой железною рукавицей.
– Эти твои путивляне, батюшка, – пожаловался Владимир, по-прежнему белозубо усмехаясь. – Это же свет не видывал таких тупиц…
Князь Игорь только отмахнулся от него. Неужто уже, почитай, взрослому сыну никто, и сам он, Игорь, первый, не говорил, что настоящая война – это одна сплошная неразбериха? Обернулся к Рагуилу, бросил:
– А где твои стрельцы, воевода? Нас вот-вот осыплют стрелами!
Рагуил не успел ответить. Вблизи, за рядами закованных в железо копейщиков, раздался дикий вой, сразу заглушивший удаляющийся скрип половецких колес. Это племенным боевым кличем подбадривали себя черниговские ковуи: отряженные в стрельцы, они выезжали, чтобы встать перед строем копейщиков. Алпар, разодетый, как на праздник, с железной маской на лице, ехал, подбоченившись, под своим бунчуком, на полкорпуса впереди – Ольстин Олексич под стягом своего князя Ярослава Черниговского. За ними следовали, совсем уж нестройно, с луками и самострелами на передних луках сёдел, русские стрельцы из всех остальных дружин.
Князь Игорь подозвал к себе озабоченного Ольстина Олексича, прокричал:
– Ты там сам распорядись, когда им стрелять. Тебе оттуда виднее будет. Да вот ещё что, боярин… Разглядел ли ты бунчук?
– В жизни не видал такого бунчука, княже! Сам ни черта не пойму.
Игорь перекрестился: хоть неизвестная орда, на которую он наткнулся, и не представляла видимой опасности, поминать чёрта перед битвой – скверная примета. Впрочем, он сделал всё, что от него как предводителя требовалось. И даже больше того, что требовалось при встрече с ордой, выставившей пять сотен всадников – небось, всех мужчин племени, от подростков до стариков. Вполне возможно, а по правде если, так и сомнений в том нет, что опрокинуть эту толпу смогли бы одни ковуи, поддержанные передовым полком. Однако Игорь предпочел развернуть боевой порядок, продуманный для встречи с большими силами половцев, потому что хотел, чтобы дружины хоть немного привыкли к нему и увереннее выстроились, если – лучше не дай того Бог! – они наткнутся на более сильного противника.
Теперь пора… Князь Игорь снова достал меч, протянул его вперёд, на далёких половцев, и послал вперёд Игруна. Тот заржал и встал на дыбы. Красиво вышло – и как раз трубач протрубил два раза. Не удивительно, что северское войско дружно двинулось вперёд.
Когда русичи подъехали к речке на расстояние полёта стрелы, из толпы половцев выскочили на берег лучники и быстро выстрелили.
Игорь, подскакав, опустил забрало на шлеме зазевавшегося сына и щёлкнул своим. Тем временем впереди запели тетивы: Ольстин распорядился вовремя. Сквозь прорезь в забрале Игорь наблюдал, как встретились в полёте две тучки стрел и как в том месте небо на мгновение потемнело. Любопытно всё-таки, почему стрелы противников никогда на его памяти не сталкивались в полёте? Может быть, такое происходит только в по-настоящему больших сражениях, в таких побоищах, как между великим Александром Македонским и персидским царем Пором? Игорь привычно прикрылся щитом. Вокруг засвистело, заржали кони, вскрикнули раненые. Игрун, возмущенный донельзя, снова поднялся на дыбы. Князь успокоил коня, опустил щит, откинул забрало, наскоро огляделся. Владимир жив-здоров, только оторопел немного… Что ж, первый его большой бой… В почте его все целы, в дружинах несколько раненых, пострадали и кони – тут уж ничего не поделаешь.
– Княже!
Это Рагуил. Что там еще?
– Княже! Они выпустили по стреле и ускакали! Наши стрелы воткнулись в землю!
Князь Игорь обернулся ко Владимиру:
– Чего ждешь? Скачи за ними!
Голос его перекрыл новый нечеловеческий вопль. Это впереди ковуи, поднимая копытами коней тучи брызг, сверкающих на солнце, влетали уже в Суурлий. Левый полк князя Святослава Ольговича, не получив на то никакого Игорева приказа, тоже смял строй и помчался к речке. Игорь закусил губу: ковуи делали свою роботу легкой конницы, предназначенной именно для быстрого преследования отступающего противника, а вот молокосос Святослав самовольно отправился за добычей. Напрасно, что ли, он назначил в передовой полк путивльскую дружину во главе с сыном?
Князь повернулся к правому полку, оставшемуся, слава Богу, на месте, и поднял шуйцу. Тотчас брат Всеволод, сказав что-то коротко воеводе, поскакал к нему, его знаменоносец с оруженосцем за ним. Буй-Тур догнал брата на берегу речки, и они, заехав в мелкую её воду, принялись молча рассматривать труп ковуя, колеблемый течением. Возле мертвого хозяина спокойно утолял жажду его лохматый гнедок с ожерельем из бус и раковинок на шее. Ясно стало, что поражённый стрелою удержался в седле и не выпустил из руки повод, конь же его помчался вперёд вместе с другими и остановился только тогда, когда его хозяин свалился с седла.
– Снять бы с наглого мальчишки штаны да выпороть, – вздохнул Буй-Тур. – Надо же – посмел увести добычу из нашей семьи.
– Он, брат, племянник не только наш с тобою, – пожал плечами Игорь, – но и великого князя Святослава, пред коим мне, если жив останусь, предстоит оправдываться. Бог молокососа за жадность сам накажет, а мы с тобою, брат, промолчим. Хотя… Пусть только попробует с нами добычею не поделиться!
– Что делать будем, брат?
Игорь ответил только тогда, когда выехали они, окружённые тучею мошки, на противоположный берег речки и увидели, что погоня движется уже по видимому краю земли, да и то только чёрными точками. Смолкли и вопли ковуев.
– Да вот так, брат, и пойдём вслед. Потиху поедем, шагом, не распуская полков. Кто знает, не выведут ли половцы-беглецы наших ковуев да княжичей на засаду.
На другом берегу они не нашли убитых половцев, и понятно почему. Выпустив по стреле, те повернули коней и быстро покинули место, где их могли настигнуть ответные стрелы русичей.
– Княже! – вскричал Рагуил и тут же склонил виновато голову под варяжским шлемом и поправился. – Князья то бишь! Прости меня, Всеволод Святославович, и ты подъезжай сюда. Здесь тот бунчук.
– Вези его к нам, боярин! Не станем же останавливать полки, чтобы рассмотреть!
Копейщики новгородской дружины уже переходили вброд Суурлий, поэтому и Рагуил не стал сходить с коня, а поскольку не в том уже был возрасте, чтобы, из седла свесившись, дотянуться до половецкого знамени, то проделал это за него Игорев трубач и тут же с радостной ухмылкой протянул добычу своему князю.
– Держи уж теперь его до стоянки, Тренка, – прикрикнул на него Игорь. – Не вздумай только поднимать.
А то ещё славный хоробр Святослав Ольгович на нас как на половцев ударит.
Буй-Тур Всеволод загоготал. Князь Игорь покосился на брата. Тот превосходно себя чувствовал, по всему видать, на своем Бобыле, белом боевом коне, в золочёном доспехе, под собственным стягом, впереди закованных в железо полков. Игорь вздохнул: на войне у Буй-Тура и разум, и чувства что у рядового дружинника: тому всегда хорошо на походе, даже если парится он в ржавом железе. Хорошо ему в походе, потому что тяжкий воинский труд, неприятности и опасность для самой его жизни – всё это минует дружинника до той поры, когда поход заканчивается. Князю же в походе не до отдыха, он мыслями трудится…
– Вежи! Вежи впереди!
Игорь подумал, что Рагуил, сегодня поистине заменивший ему близорукие глаза, в своей услужливости даже несколько назойлив. Он и сам давно понял, что если чёрные пятнышки вдали не исчезают, а как бы разбухают, то это не войска, а вежи, захваченные молодыми князьями и ковуями.
Всё так же шагом, с копьями на пятках стремян, продвигались вперёд дружины Игоря и Всеволода, а тени их на степной молодой траве всё удлинялись. Облако комаров всё так же гудело над войском, а в белом жарком небе повисли над ним орлы-стервятники, и на ближайшую рощу, дружно каркая, опустилась станица воронов. Ну, эти опытному воину не в диковину: где войско, там и птицы-трупоеды, надеющиеся на поживу себе, но почему половцы отаборились со своими вежами на этой заболоченной речонке, поистине комариной (так и названа на их языке, Суугли, то есть «река мошкары»)? Мало того, ещё и грязная какая! Вон Бобыль словно в серых чулках.
– Княже! Игорь Святославович!
Он отмахнулся: сам уже рассмотрел, что с вежами неладно. Раздавались женские крики, а возле веж сидели неподвижно одни старухи-половчанки. Охраны из дружинников, которую здесь непременно должны были оставить молодые князья, словно и не бывало.
Игорь остановил полки и передал им приказ: никому не покидать строя. Князья с сопровождающими осторожно подъехали к крайней веже и уставились на гору кожухов и ковров, возвышавшуюся рядом с нею. Внезапно крики и стоны, доносившиеся из вежи, смолкли, и из неё, сквозь кожаный полог, выпал простоволосый дружинник-русич. Подтягивая штаны, встал он на ноги и, заслонив грудью кучу тряпья, завопил:
– Не трожь! Имано есть князем моим Святославом Ольговичем!
Буй-Тур, недолго думая, ткнул наглецу в лоб кулаком в железной перчатке, ловко подхватил его, не давая упасть, и принюхался.
– А ведь пито было у подлеца, – сказал с некоторой даже завистью и отпустил тело на траву.
– Вино или кумыс? – задумчиво осведомился Игорь.
– Вино – и сладкое. Гишпанское, возможно. Это распробовать надо.
– Я те попробую, брат! Ведь в походе мы. Скачи к своим курянам, успокой их. Как только наведу тут порядок, будем становиться табором.
Порядок наводил, разумеется, тысяцкий Рагуил, вывел для того из строя дремлющих в седле новогородцев первые два десятка. Пока устроили стан, пока отправили во все четыре стороны сторожей, отгорел закат, показавшийся Игорю необычайно кровавым, и сгустились сумерки. О молодых князьях и ковуях, которым давно пора было вернуться, и вести пока не приходило.
Зато на холмах на полуночь и на запад от северского стана замерцали далёкие костры.
К Игорю, обсуждавшему с тысяцким, как ловчее и безопаснее напоить коней в Суурлии, подошел Буй-Тур Всеволод. Помолчал. Игорь незаметно принюхался: сторожа, поставленные Рагуилом у вежи, куда велено было снести все корчаги с вином, князю, понятно, не указ. Нет, вином не пахнет. Почувствовав неловкость, Игорь проговорил:
– Мы тут, брат, решили разжечь костры. Пусть ребята горячей каши поедят. Да и наша молодёжь мимо табора не проскочит.
– С ними хитрец Ярославов, Ольстин. Конечно же, брат, пусть разжигают, уже всё одно от половцев не спрятаться, – рассеянно отозвался Всеволод. И вдруг оживился. – Игорь! Шатры нам поставлены, не пойти ли передохнуть часочек-другой? Я успел при свете обсмотреть баб, есть одна девка как раз по твоему вкусу… А?
– Опять ты забыл про праздник, язычник…
Игорь как раз выталкивал означенную девку из шатра, удивляясь бедности полученного удовольствия, когда в её болтовне, к коей до того не прислушивался (молола звонким своим язычком всю дорогу), вдруг прозвучало знакомое имя. Игорь встрепенулся, удержал её за рукав:
– А ну-ка, повтори…
Красные отблески недальнего костра, падавшие на размалёванное лицо половчанки, осветили её довольную улыбку. Она протянула руку ладошкой вверх и сказала, медленно на сей раз выговаривая:
– Кончак обещать конязь хабар… Куны!
Да, он не ошибся… Кончак. Это имя будто смыло наползающую на князя дремоту. Он выпихнул-таки девку наружу и крикнул Тренке, чтобы тот отвёл её к прочим пленницам, а потом поскорее принёс ему к костру захваченный днём бунчук. В древко вцепился обеими руками.
– Тренка, где тысяцкий?
– Залез в вежу поспать. Разбудить, княже?
– Не нужно.
Старик Рагуил и без того, словно железный, двое суток без сна мотался, пусть отдохнёт. Бунчук он рассмотрит и сам: вблизи видит всё прекрасно. Так, челка обычная, из лошадиного хвоста, хной выкрашенного. Древко небрежно покрашено красным и плохо обстругано: Игорь, не успевший снова надеть перчатки, едва не занозил ладонь. Вверху древко обвернуто тонкой серебряной пластинкой, а вот и хоруговь, вверху к навершию привязанная, – простая дощечка, с одной стороны белая, с другой – тоже красная. А вроде и не совсем белая… Игорь снова перевернул хоруговь и повернул её к свету – на плоскости дощечки проявился вырезанный ножом и натёртый серой грязью рисунок, и был на нём… Да, неведомый зверь, похожий на уродливого человечка, но с хвостом и с большими круглыми ушами. Обезьяна, вот кто. Простой народ считает сего зверя ни много ни мало, как бесом во плоти (тут Игорь перекрестился), однако на самом деле это забавное создание, стоящее больших денег. Прыгало такое по терему великого князя Святослава Всеволодовича, пока не сдохло. Так, так…
Князь Игорь уже обо всем догадался и страшился своей догадки.
Глава 6 Военный совет и начало битвы
Судя по звёздам, начавшим бледнеть, ночь шла к концу. Соловьи щебетали вовсю, однако вскоре должны были замолчать. Оттуда же, с речки, доносилось и карканье воронов, проснувшихся и обсуждавших свои вороньи дела. Теперь уже и на полудень от стана появилась между небом и землёй цепочка красных светлячков.
Молодые князья валялись прямо на траве в тех самых местах, где полчаса тому назад скатились со своих коней и приказали оруженосцам развязать на себе доспехи. Буй-Тур Всеволод сидел на кошме, Игорь на своей раскладной скамеечке, тысяцкий Рагуил, боярин Ольстин Олексич и старейшина Алпар – прямо на траве.
– Времени на разговоры мало, – отрубил князь Игорь. – Кто прав, кто виноват, разберёмся позже, если живы останемся. Решать надо, как сейчас нам поступить.
Ольстин, далеко ли вы заехали на восток и что видели?
– Я не мог остановить молодых князей. Они всё пытались настичь половцев, а те были на свежих конях. Дружинники Владимира Игоревича и Святослава Ольговича похватали нескольких отставших беглецов, но вынуждены были вернуться, потому что впереди увидели костры большого становища. Я понял дело так, что основные силы половцев стоят на берегах Тора. Ковуи отказались подъехать поближе и разведать. Можно будет ещё допросить языков.
– Куда подъезжать, слушай, когда кони совсем никакой? – возмутился Альпар. – Мы все погибнуть, потому что наш род кыпчаки в плен не взять.
Князь Игорь кивнул, соглашаясь с ковуем, повернулся к Святославу Ольговичу и ядовито спросил:
– Хочешь, Славко, чтобы я угадал, кого тебе удалось полонить?
– Ты, Игорь Святославович, лучше на своего сына покричи!
– Дряхлых стариков и мальчишек ты полонил – разве не так? А в вежах нас поджидали корчаги с крепким вином, старухи да размалёванные бабёнки – но почему-то ни одного ребенка, совсем не было в вежах детей! Перестали их половчанки рожать, вот ведь диво какое… И где это видано, чтобы, выпустив по стреле и пустившись наутёк, половцы бросали тут же свой бунчук? Ольстин, ты тогда не смог издалека распознать, чей бунчук. Хочешь посмотреть на него вблизи? Хочешь? Тренка, подай боярину!
Ярославов боярин внимательно рассмотрел бунчук – и вдруг бросил его на траву перед собою. Даже в неверном свете костра можно было разглядеть, как потемнело его и без того смуглое лицо.
– Это послание было нам, князья и бояре, а не стяг вовсе. Издёвка над нами! Стружие обмазано кровью, скорее всего, собачьей, а вырезанная на стяге обезьяна говорит о том, что над нами посмеялись… Сохрани нас, Боже!
– Вот-вот! А ты, Рагуил, что скажешь?
– И куда мои старые глаза глядели? – совсем по-старушечьи всплеснул руками тысяцкий. – Ясно ведь теперь, как день, что дети бесовы подставили нам эти проклятые вежи и эту жалкую рухлядь. Половцы хотели нас задержать здесь, пока соберут побольше сил, чтобы уж наверняка уничтожить. Любопытно мне, кто из ханов до этого додумался…
– Какая разница, который из них додумался? – взвизгнул вдруг Владимир. – Бежать надо, бежать…
Князь Игорь уже догадался, что подставные вежи измыслил хитроумный предатель Кончак, однако промолчал, не желая вызывать Ольстина Олексича на бессмысленные разглагольствования. Время, им отведённое, истекает. Он поднялся со стульчика и потрепал сына по голове. Волосы Владимира, всегда пышные, кудрявые, свалялись под шлемом и шерстяным подшлемником, и острое чувство жалости пронзило князя. Он откашлялся и заговорил:
– Да, конечно. Мы поедем сейчас же, через ночь. Сколько бы их там, половцев, ни собралось, все они не поедут преследовать нас, но отберут для погони лучших конников. А с теми, если догонят, дай Бог, что и справимся.
– Правильно, княже! – подхватился Рагуил. – Мы оставим гореть костры, доломаем на топливо последние вежи, а полон оставим сидеть у костров. Свяжем и заткнём кыпчакам рты, понятно. Великому князю Изяславу удалась эта хитрость, когда он уходил от Владимирки Галицкого… И поскачем на полудень, в той стороне они нас не ждут, а уже после я выведу вас к городам на Роси.
– Зачем возиться с полоном, связывать? – лениво вмешался Святослав Ольгович. – Передушить всех косоглазых, да и усадить у костров.
– Ты либо слишком смел, княже, либо слишком глуп, – отчеканил Игорь Святославович. – И можешь не терять времени, отвечая мне оскорблением, потому что и без того, скорее всего, великие князья лишат тебя удела – если останешься жив, понятно. Отныне запрещаю и пальцем тронуть пленных. Как можно даже помышлять об их убийстве, если сами можем завтра-послезавтра оказаться в колодках?
– Лучше уж убитым быть, чем в плен, – напыщенно заявил Буй-Тур Всеволод, и брат его пожалел, что не сам это сказал. Он набрал уже в грудь воздуху, чтобы отдать приказ, когда раздался странно спокойный голос Ольстина Олексича:
– Я не удивляюсь юному Владимиру Игоревичу, но ведь ты, князь Святослав Ольгович, летами постарше и женат уже. Почему же не скажешь, что наши полки не могут убегать вместе со всеми, потому что люди и кони измотаны погоней? Нам же тогда отстать непременно и достаться половцам!
– Новое дело, – насупился Игорь. – И правда ведь…
– Что же я могу сказать ему, Ольстин? – горько вопросил Святослав Ольгович. – Что же я ему посмею сказать, если наш маленький великий князь и без того меня, ни в чем не повинного, уже возненавидел?
Игорь крякнул. Он мог бы предложить, чтобы его и Всеволода дружины отдали неудачникам своих заводных коней, однако тут же понял, что и сей благородный поступок был бы напрасен: не имея возможности на скаку переменить коня, от половецкой погони не уйдёшь. Да ещё в их родных местах, где этим детям бесовым каждый бугорок ведом.
– Да разве я зверь, а не человек? – воскликнул он. – Значит, умрём на сем поле все вместе. Что ж тут дивного для воина и мужа – в бою умереть? Авось ваши кони успеют отдохнуть до утра.
Князь Игорь и сам лёг отдыхать и в огорчении своём не увидел никаких снов, тем более вещего. Впрочем, ему удалось забыться ненадолго. В предрассветкной густой темноте князя почтительно растолкал Рагуил. Соловьи уже молчали.
– Ну?
– Думаю, тебе нужно знать об этом, княже. Коноводы путивлян пытались напоить коней дружины в Суурлии, однако наткнулись на большой отряд половцев. Попробовали подойти к речке ближе к Донцу – и там сторожи. Еле ускакали.
– Не стоило будить меня ради этой вести, старик. Половцы ведь у себя дома. Перехитрили нас, а теперь играют, как кошка с мышью. Завтра ещё больше чудес увидим.
В следующий раз князь проснулся мгновенно – будто жена Евфросиния на супружеском ложе ткнула его острым локтем в бок. Сразу же понял, где он и что ему сегодня грозит. Из полуоткинутого полога струился холодный белый свет. Князь сел, пошарил по кошме, влажной то ли от росы, то ли от утреннего тумана, натянул на голову подшлемник, затем приладил шлем.
Выбрался из шатра. Кости привычно ломило после ночёвки в железках на почитай голой весенней земле. Густой туман расползался клочьями. День обещал быть солнечным. У шатра оруженосец Михал держал под уздцы двоих коней, отдохнувшего, однако скверно почищенного Игруна и своего Серка. Князь застегнул на себе пояс со всем к нему подвешенным, пристроил меч. Подумав, расстегнул пряжку и сбросил с плеч походный войлочный плащ.
– Достань мне корзно, Михал!
Под неодобрительным взглядом оруженосца застегнул алый княжеский плащ, безбожно измятый в чересседельной суме. Да, он теперь дополнительно подставится под выстрелы из самострелов, но разве и без того не будет над ним северского стяга? И позолоченный шлем разве не будет на таком солнце на всё поле сиять?
Подъехал Рагуил, уже вполне готовый, в сопровождении своего дюжего оруженосца, теперь не отстававшего от господина ни на шаг. Тысяцкий приветствовал князя, натянул поводья и постоял молча, наблюдая, как Михал, став на одно колено, придерживает позолоченное стремя, помогая Игорю подняться в седло. Потом заговорил:
– Ворог со всех сторон, княже. Дружины пока сбираются, каждая отдельно. Я жду, что ты выскажешь свой замысел на битву, мы его с тобою обсудим, а тогда уж построим полки.
– Построим полки, построим полки… – передразнил раздражённо Игорь. – Можно подумать… Да если они, сейчас, в тумане, со всех сторон сразу, не раздумывая, бросятся на нас, то просто затопчут копытами.
– Половцы не двинутся вперёд, пока не рассеется туман, поверь мне, – невозмутимо ответил Рагуил. – Я знаю своё дело, княже. Верши и ты своё. Обратись за советом к богам Перуну и Велесу, или к Распятому нашему Богу, или, что ещё лепше, к святым и мудрым предкам своим. Прими решение и поведай мне его.
– Что я могу решить, тысяцкий, если не вижу пока ничего на поле? Думаешь, святым моим предкам и дедам из ирия виднее? Распорядись лучше, чтобы князья и Ольстин с Алпаром подъехали сюда. Стяги свои пусть оставят в дружинах.
Пока туман рассеивался, открывая окрестные холмы, Рагуил ахал, Буй-Тур Всеволод заковыристо матерился, Игорь молчал мрачно, молодые князья молчали потерянно, а остальные участники сего последнего перед битвой военного совета молчали, потому что им положено было помалкивать, пока не спросят.
И как было Буй-Туру не поганить рот матерным лаем, пусть и утро настало первой субботы по Пасхе, когда надлежит христианину сберегать в душе священный ужас перед тайной Воскресения? Половецкие войска со всех сторон окружили северский стан, как будто за ночь степной волшебник вырастил вокруг русичей леса, ощетинившиеся острым железом.
– Да ведь тут вся их земля, кыпчаков! – изумился Ольстин. – Вон стяг Кончака Атраковича, вот стяг Кзы Бурновича, там дальше стяги Токсобичей, Колобичей, Етебичей, Терьтробмчей! А вон и бунчук Башкорда! Ну, если и этот ленивый старец, едва успев из плена выкупиться, снова на поле выехал, действительно встала на нас вся Половецкая степь!
– А за спинами нашими, Рагуил Добрынич, – ещё и стяги Таргола, Улашевичей и Вобурцевичей… Да, на нас вся Половецкая земля собралась, – подхватил Ольстин. – Назначай, Игорь Святославович, кому из князей на кого из них ехать!
Смешливый по юности лет князь Владимир фыркнул, сдерживая смех. Дядя взглянул на него недоумённо. Рагуил и князь Игорь переглянулись, и Рагуил проговорил осторожно:
– Княже, лучше поторопись! Ведь если они сейчас придвинутся к нам со всех сторон на перестрел, то их лучники просто перебьют нас на расстоянии, засыпав стрелами, а ты и меча не успеешь поднять.
– Не станется того! – воскликнул Ольстин. – Это не единое войско, Рагуил! Там нет одного на всех воеводы! Кончак свой полк ведёт, Кза свой, а Токсобичи – свой. Мы можем ударить на них во все стороны, каждая дружина ударит по одной орде, и… чем Бог не шутит? Глядишь – и побегут, как не раз уже от русичей бегали.
– Половцы пугливы на Русской земле, а тут они дома. Удивительно мне, что они до сих пор не отправили ко мне посла, – проговорил князь Игорь.
– Зачем им переговоры, брат? Ведь Кза и Кончак уверены, что мы обречены, – подал голос Буй-Тур Всеволод. – Но если ударим первыми, не всё ещё потеряно, клянусь Перуном.
Дальнозоркий тысяцкий тем временем потянул Игоря за рукав и показал налево:
– К нам послов не послали, а меж собою гонцами ссылаются. Надо поторопиться, княже.
Игорь ещё раз сам обсмотрел полчища половцев, заставив Игруна сделать круг на месте. Ничего нового там не увидел. Хмыкнул: если бы половцы успели снова подвезти из далёких азийских стран большие самострелы, как в прошлом году, так это для хитрецов-самострельщиков была бы не цель, а подарок: все предводители северского войска собрались на холме одной кучкой. Надо, надо торопиться… Прочистил горло. Уж не простудился ли? Или от половчанки подхватил какую мерзкую хворь? А теперь поувереннее:
– Спасибо тебе, мудрый старче. И вам всем спасибо, братие и дружина. Никто не скажет потом, что я не выслушал всех, кто захотел высказаться. А поступлю я вот как. Ударим мы первыми, ничего другого не остаётся. Да только нападать в разные стороны нам бессмысленно: половцев слишком много. Ну, допустим, погонит наш Буй-Тур одну орду, а другие прикроют брешь и окружат всех поодиночке. Этих нам не разбить врагов, разве что Господним чудом. Потому задача наша: сперва пробиться через их ряды к воде, лучше прямо к Донцу, а затем, коней напоив, точно так же, оружием, пробиваться на Русь. Это и будет наша победа, братие и дружина.
– Добре, княже. А как построимся? – спросил воспрянувший духом Рагуил.
– Одним полком, боярин, и супротив орд Кзы. Моя дружина – острие клина, справа – путивляне, слева – куряне и трубчевцы. Это крылья. В середине, сразу за новогородцами – ковуи и стрельцы из всех дружин, эти пробивают нам путь стрелами. Дружина Святослава Ольговича прикрывает нас сзади. Перестроиться надо быстро. Я подъеду со стягом и встану во главе клина, когда всё будет готово, чтобы ворог не сразу разобрался, что к чему.
– Почему же против Кзы? – удивился Святослав. – Речку от нас прикрывает Кончак…
Предводитель ответил ему только гневным взглядом. Тут же двинул рукой, отсылая воевод в полки.
– Постой, постой, княже! – вскинулся вдруг Ольстин. – Я знаю, как протянуть время. Давай отпустим пленных, всё одно только мешать будут. Половцы подумают, что мы к ним добры деемся, чтобы завязать переговоры, а мы успеем выстроить войско.
Игорь кивнул. Потом поставил Игруна прямо под стягом и принялся наблюдать, как князья и бояре разъезжаются по своим дружинам, а там возникает обычная суматоха, неизбежная перед боем. Потом он увидел, что сквозь ряды северских копейщиков прошли, сотрясая воздух рыданьями, полуголые половчанки и отдельно от них – кучка таких же ободранных пленников-мужчин. Позади всех два пленника волокли на себе третьего, насколько мог разглядеть Игорь, худого мальчишку.
– Михал, что с тем половцем – ранен? К чему было такого хилого и в полон брать?
Оруженосец пожал плечами и отвернулся. Князь было нахмурился, однако вместо оруженосца ответил трубач Тренка:
– Князь Святослав Ольгович, говорят, с мальцом поразвлёкся.
Ухмылка Тренки погасла, когда увидел он, как потемнел князь лицом. А Игорь Святославович только сейчас осознал, что два безмозглых мальчишки, зелёный юнец-сынок и дрянной племянник, погнавшиеся за этой жалкой добычей, завели его, опытного полководца, в ловушку, из которой теперь не выбраться. И с отвращением к себе понял вдруг, что испытывает сейчас те же чувства, что и вор, застигнутый на дворе, где собрался пограбить, вор, успевший там и пакость совершить. Такого не было с ним даже два года тому назад ночью под Киевом на Черторые, когда они с Кончаком, потеряв дружины, метались по берегу под градом стрел и, под дикие вопли чёрных клобуков, искали бревно или толстую доску, чтобы уплыть хоть на другой берег. Тогда Господь послал им, христианину-грешнику и язычнику, ладью с гребцами – неужто и теперь не совершит Он чуда? Игорь Святославович склонил голову и истово, в сокрушении сердечном помолился. А когда закончил князь Игорь молитву и направил свой взор на поле, увидел он сквозь умилённые слёзы, что клин на удивление быстро выстраивается, почти уже готов, и бросил:
– Михал, копьё мне! Не зевать!
Проскакав мимо уже выставившей вперёд копья путивльской дружины, князь хотел было поймать взгляд сына, чтобы подбодрить его, но тот успел опустить забрало и только дёрнулся вперёд, увидев отца перед строем. А вот и остриё клина. Игорь услышал, что Рагуил приказывает дружинникам поднять копья, и сам проследил, как его стяговник, оруженосец и трубач занимают место в строю. Тут же и сам заставил пятиться Игруна, а затем опустил копьё, левой рукою щёлкнул забралом шлема, пришпорил коня и завопил что было сил, чтобы все свои услышали:
– Вперёд! С нами Бог и Северская земля!
Затопали копыта обиженного на шпоры Игруна, потом их заглушил ответный крик войска. Сначала вырвался Игорь вперёд, однако почти сразу же дружинники нагнали его. Мощный, на медведя смахивающий Михал скакал теперь с ним почти стремя в стремя, готовый сменить князя в голове клина в самый момент удара.
Завыли, заулюлюкали за спиною ковуи, выпустили разом со стрельцами-русичами стрелы. Половцы перед ними стояли так густо, что промахнуться было невозможно. Столь густо, что, и поразив свои цели, стрелы ковуев и русичей не сумели заметно проредить половецкую толпу. Ответный залп половцев Кзы пришелся на конец клина, где скакала дружина Святослава Ольговича. Там раздались рычанье и матерная брань, но Игорю было сейчас не до потерь у рыльских дружинников – ряды половцев, в свою очередь закричавших свое «Ура!» и выставивших вперёд копья, неумолимо приближались.
Игорь перехватил копьё поудобнее, выискивая взглядом Кзу. О, если бы половцы держались того же воинского обычая, что и русичи, и их предводители бились бы тоже в первых рядах! Кза не ушёл бы тогда от Игорева копья, и кто знает, как повернулась бы битва… Может быть, оно и правильнее, что у степняков вожди издалека наблюдают за битвой, да только куда деться от собственного, ещё варяжских прадедов обычая, когда конунг рубится всегда впереди дружины? Хорошо, что хоть Рагуил… Вот сейчас! Удерживать теперь копьё, удерживать!
Затрещали копья, ломаясь. Игорь принял удар на щит и, опомнившись после сотрясения, увидел, что половец, в которого он целил копьём, исчез, а его собственное копьё укоротилось наполовину. В глазах у князя вдруг резко прояснилось, как бывает после первой чаши, он отбросил обломок копья и, вытаскивая меч, огляделся. Мало того, что строй половцев подался назад, принимая удар северского клина, русичам здесь удалось пробиться до третьего ряда половецких копейщиков. Теперь Кза Бурнович, в роскошных золочёных доспехах, с устрашающе разрисованной железной маской на лице, оказался уже ближе. Окруженный нукерами, под своим родовым бунчуком, он выкрикивал распоряжения, но слов князю Игорю разобрать не удалось. Да и зачем ему понимать сейчас, что там кричит Кза? Чтобы выгнать из головы осознание того, что прорвать ряды половцев первым ударом не удалось? Что остриё клина завязло в бесчисленной толпе половцев?
Впрочем, Рагуил уже распорядился, и воинов в голове клина, потерявших копья или сбитых с коней, заменили, протиснувшись вперёд, другие копейщики. Что они теперь сделают, когда потеряна сила, набранная клином во время скачки? Так и есть, застряли… Игорь, оттеснённый копейщиками вглубь строя, поискал глазами среди них Михала, но не нашёл. Стяговник и Тренка стояли рядом с ним, стяг высился над шлемами воинов, как и полагается. Теперь копейный треск и вопли сражающихся доносились слева и справа: это крылья русского войска ударили по противнику.
– Глядишь, и продавим ещё! – прокричал ему Рагуил.
Игорь кивнул головою в ответ. У него осталась одна надежда – на Буй-тура. Если неистовому брату удастся прорваться, можно будет развернуть свою дружину влево и бросить в прорыв всё войско, а тогда, заслоняясь рыльской дружиной, уходить с боем к Сууглию. И что это им даст? Только передышку… Вот и слева притихло. Спиною чувствуя, как сзади половцы замыкают кольцо и вот-вот, словно в его утренних страхах, раздавят северское войско самой огромностью толпы воинов и боевых коней, Игорь решился на последнее средство:
– Передай дальше! Спешиться! Ковуи – коноводы! Будем рубиться пешими, как деды наши! Слушать трубу!
Он спешился сам, поднял меч, собирая в себе тупую злобу, необходимую для рубки. Тренка, оставшийся на коне, поднёс к губам трубу, готовый. Игорь подумал: «И то хорошо, что, с половцами сцепившись, не подставимся под стрелы».
– Чего ж ты ждёшь? Труби «Вперёд!»
Тренка протрубил. Лязг железа впереди усилился. Игорь, на виду у всех сломавший сегодня копьё во главе войска, мог больше не лезть вперёд. Он и не лез. Вынужденный сам о себе позаботиться, перебросил повод Тренке и двинулся следом за бойцами, зорко следя, не требуется ли ввязаться в рубку. Чуть не упал, споткнувшись о труп, судя по густому чужому запаху, половецкий. Вот снова! Опустил глаза, увидел, что едва не наступил на лежащего навзничь Михала, перешагнул через него, мгновенно пожалел о парне и вернулся к мысли, что половцы Кзы, пожалуй, этого удара не выдержат и пропустят их к воде.
– Княже, поберегись!
Кричал Тренка-трубач, и Игорь, не успев испугаться, быстро шагнул влево. Около уха прошипело. Он обернулся: стальная стрела едва не вышибла древко из руки стяговника и ударила в шелом рубившегося с половцами дружинника. Тот выматерился, выронил меч и рухнул, гремя доспехом, на землю. Игорь сделал несколько поспешных шагов вперёд и встал на место Ивана-Волка (пока подбегал, вспомнил имя выбитого из строя), закрывая брешь. Три половца не из знатных оказались теперь прямо перед ним. Страшно скалясь, они размахивали своими длинными саблями, не решаясь сунуться вперёд, под сверкающий меч русского князя.
Игорь поднял меч и едва успел подумать, что самострельщик целил, конечно же, в него, как страшный удар свалил его с ног. Очнувшись, князь понял, что его волокут по земле и что алое корзно, за которое целая гривна плачена, безнадёжно запачкано глиной и конским навозом. Левой руки он вовсе не чувствовал – уж не оторвана ли шуйца? Посмотрел: на месте, слава Богу, только плетью висит… Не глядя, ощутил, что пеший строй русичей пятится. Ещё бы: нет приметы хуже, чем потеря главного военачальника в самом начале битвы!
Рассвирепев, князь Игорь хотел закричать: «Поставьте меня на ноги!» Однако услышал только хрип: пересохший рот не послушался.
Глава 7 Тревоги настоятельницы Несмеяны
В горницу, где старый киевский сыщик после завтрака дремал на скамье (в доме считалось, что обдумывает дела), Прилепа вошла, стукнув дверью. Уже это указывало на то, что покой хозяина баба беречь не собирается, а когда рассмотрел Хотен выражение её смуглого, привычно милого ему лица, понял он, что и настроение у помощницы боевое.
– Чем обрадуешь, моя красавица? – льстиво вопросил.
– Ещё бы не обрадовала тебя! Другая твоя красавица пришла, та, что в чёрных ризах. Игуменья Алимпия к тебе пожаловала.
Несмеяна! Он только что и успел наскоро, пятернёю, причесать бороду, как она оказалась в горнице и, не чинясь, сбросила шубу чёрных соболей на скамью. Однако вовсе не в чёрные ризы оказался обвернут её, пятидесятилетней бабы, тонкий по-прежнему стан, а в нечто лилово-жемчужное, о монашеском смирении и бедности никак не напоминавшее. На шее висело серебряное распятие – да, да, именно то, подаренное чуть ли не тридцать лет назад Хотеном! Неспроста вспомнила сегодня о его подарке гордая игуменья, неспроста…
– Мир дому твоему, Хотен Незамайкович! Прости, что пришла к тебе незваной, однако в моей беде один ты сумеешь помочь.
– Вечно живи, мати Алимпия! – низко поклонился Хотен, и сам не уследивший, как оказался на ногах. – Поведай мне про беду свою, авось и сумею помочь тебе, святой православной церкви на благо. Усаживайся, прошу.
– Я больше не смогу сказать тебе ни слова о моей беде, боярин, – мягко выговорила Несмеяна, оставаясь на ногах, – пока ты не ушлешь из горницы прислужницу свою Прилепу.
– Прилепа, ты сама ведь знаешь, Несмеяна… то бишь мать… – начал было объяснять Хотен.
– Да все в Киеве знают, что она тебе помогает, Прилепа, что подслушивает под чужими воротами. И знаю, что ты ей всё обязательно разболтаешь, – вы, мужики, болтуны ещё похлеще нас, баб, – да уж лучше ты потом, выслушав меня, сам решишь, что можно будет сказать твоей жёнке-помощнице, а о чем лучше промолчать. Ведь я всегда ценила твой светлый разум, Хотенушко.
Хотен, спиною ощущая лютый взгляд Прилепы, попросил:
– Прилепа, голубушка моя сизая, позови ко мне, пожалуйста, Сновидку. И сама не возвращайся больше, пока мы с матерью игуменьей не переговорим. Уж такая причуда у матери игуменьи, голубушка.
Прилепа исчезла. Игуменья ж осталась стоять. И села только после того, как явился Сновид и, получив распоряжение никого не подпускать к двери ближе, чем на две сажени, удалился.
– Какой он теперь взрослый! Совсем даже заматерел. И до чего же стал похож на тебя! – воскликнула Несмеяна.
– Да уж, – проворчал Хотен. Сновид обзавелся уже женой и, собственно, давно уже сделал его дедом, но об этом ему совсем не хотелось докладывать бывшей зазнобе. Переходила бы скорее к своему делу.
– А Важен, тот, сын сбежавшей твоей жены… Тот, небось, и постарше теперь будет. А где он, кстати, Хотенушко?
Хотен помолчал. Много лет никто не произносил при нём это имя, Важен, некогда с умыслом выбранное им для младенца, которого считал своим сыном и в котором души не чаял… Былая горькая обида шевельнулась в душе его, однако, давно уже изжитая, быстро притихла.
– Дед его, гость Корыто, хотя ему и был родная кровь, не оставил выблядку ничего в завещании, однако один из дядей дал место приказчика в семейной лавке в Чернигове. Впрочем, было то лет десять тому назад, когда друга моего, боярина Петра Бориславича, обвинили в краже табуна у великого князя. До того, как на Киев обрушились все те беды…
– Почему же ты не простил его, Хотенушко? Ведь сам малый не был перед тобою виноват.
– Ну, я уже никаких отцовских чувств к нему не испытывал. А принимать выблядка в дом было бы тогда всё одно, что змею пригревать на своей груди. Вырос бы он – и непременно просветили бы его, кто настоящий отец ему, и захотел бы мстить…
Тут Хотен запнулся. Так случилось, что смертельную обиду, нанесённую покойной Любавой, избывал он в грешных объятиях белотелой черницы Алимпии, и кто знает, каких только тайн не выболтал тогда в любовной горячке! Однако гостья ничем не показала, что ей известно, кто приказал убить Любаву и её любовника, и он проговорил осторожно:
– У меня в душе всё давно отгорело, Несмеяна. Давай лучше о твоём деле поговорим.
– Я надеюсь, – выговорила красавица-игуменья довольно напряжённо и на собеседника не глядя, – что и блудная страсть ко мне отгорела в твоём мудром сердце. Иначе тебе неприятно будет выслушать поведанное мною.
– Да ладно уже, мать Алимпия. Какая уж там в мои лета блудная страсть, какая теперь ревность? Говори.
Впрочем, начала она с происшествия, которое к Хотену и его былым страстям явно отношения не имело. Года полтора тому назад через стену Андреевского (он же Янчин) монастыря, где Алимпиада игуменьей, в годину утреннюю, когда черницы спали после заутрени, перелетела стрела. Все, и сестра-привратница тоже, почивали, посему некому было выскочить из калитки и если не узнать, то хотя бы рассмотреть стрельца. Монахиня, нашедшая стрелу под дверью амбара, отнесла её матери игуменье и клялась, что не отвязывала бересты, которой стрела была обвернута у наконечника.
– Если клялась… Скорее всего, полюбопытствовала. А стрела сохранилась? – встрепенулся сыщик.
– Кто бы стал её беречь? – вскинулась встречно Алимпия. – Я и ту бересту сохранила после больших колебаний. Вот она.
– Подожди пока с берестой, давай со стрелой разберемся… Какая она была?
– Обычная стрела, только совсем без наконечника. А ты читай, что ж теперь мне от тебя таиться…
Хотен осторожно развернул ссохшуюся, хрупкую бересту, прочитал вполголоса: «КЪНАЧАЛЬНИЦЕВЪСОФШЗАБЛАГОДЕТЕЛЕМЬТВОИМЬ».
И повторил ещё тише:
– «К начальнице. В Софии, за благодетелем твоим». Да, хитро… Любопытной монахине нечем было поживиться.
– Думаешь, у меня нет злопыхательниц в обители? Могли бы догадаться, и за каким благодетелем в Святой Софии укрыта вторая грамота. Да только стрелец правильно рассчитал, что без моего разрешения никому за ворота не выйти.
– И ты, небось, сразу побежала в Софию…
– А кто бы на моём месте не побежал? Ничего хорошего не ожидала я – и не ошиблась, сразу скажу. Посему и в слове «благодетель» почуяла угрозу и искала сообщение за иконою тёзки того благодетеля, которым меня можно было пугать… – тут она придвинулась к Хотену и взяла его за руку. – Конечно, Хотенушко, первым моим благодетелем в монашеской моей жизни был ты, однако уж очень давнее то дело.
– Да и образ моего святого тёзки Лаврентия – в алтаре, куда тебе, жёнке, ходу нету, хоть ты и игуменья.
– И сказано ведь, что «за», а святой тёзка архидьякон Лаврентий в Софии цветными камушками выложен. Где ж там искать? Посему я сразу же направила стопы свои к большой иконе великомученика Феодора Тирона, что под образами Ярослава Мудрого и его сыновей, затеплила свечу, помолилась-помолилась и, улучив мгновение, пошарила за нею. Я не ошиблась, да только никакой радости мне находка не принесла.
– Грамотка та с тобою?
– Окстись, Хотенушко, – нельзя было такое хранить! Да я её наизусть помню, ту грамотку: «Ты была в Киеве сторонница и вестовщица окаянного Федорца, да ты же»… Ну, тут ругань… В общем, тут о том, что я… – тут она склонилась к уху Хотена и зашептала. – Что я ребёнка родила от одного своего… приятеля, так скажем. И я должна была каждую первую пятницу месяца в полдень класть в дупло старого дуба, первого вниз по течению Днепра от Аскольдовой могилы, по две куны. Иначе не смолчит.
Нахмурившись, Хотен убрал свою руку с колена Несмеяны (и как она там оказалась?) и отодвинулся от гостьи на край скамьи. Слишком многое вспомнилось ему после неосторожной этой ласки, несвоевременно затуманив голову. Что Алимпия стремилась помочь ростовскому епископу Фёдору, брату Петра Бориславича, и тайно снабжала его вестями о происходившем в Киевской митрополии, Хотена не удивило. Он и сам, как и многие киевляне, с сочувствием следил за попытками этого ученика покойного митрополита Клима Смолятича если и не избавиться от греческой церковной опеки, то хоть ослабить её. После осуждения и казни епископа Фёдора приближенные митрополита Константина распространяли о нём ужасные слухи, словно о некоем исчадии ада: он-де, вымогая с ростовчан куны и прочее имение, головы им рубил и бороды стриг, распинал будто бы несчастных толстосумов на стенах, вынимал глаза и отрезал языки. А если головы рубил, то как мог надеяться что-то с мертвецов получить? Заврались греки, явно заврались. Тем более что на так называемом церковном суде не было ни одного свидетеля-калеки.
Все знали, в чем настоящая вина епископа. Он ослушался князя своего Андрея Юрьевича, приказавшего ему идти в Киев к митрополиту-греку Константину, чтобы тот подтвердил его поставление. В споре с князем епископ прибегнул к обычному способу борьбы церковного владыки с непокорным правителем: он закрыл и запечатал все ростовские церкви. Но не на того напал – князь Андрей Юрьевич приказал его схватить, отвезти в Киев и там выдать головой злейшему врагу отца Фёдора – митрополиту.
Злопамятный грек показал себя во всей красе. Его слуги и дружинники Андрея Юрьевича отвезли владыку на Песий остров, что у залива Собачье горло, там отрезали ему язык, отсекли десницу и выкололи глаза. Так и не покаялся он и там же, на месте казни, был добит митрополичьими прихвостнями. В тот же день на Подоле, на Торжище сожгли из Ростова привезённые и в Киеве отобранные книги отца Фёдора, в которых ратовал он за самостоятельность русской церкви.
Повернулся Хотен к Несмеяне, спросил сурово:
– Ты ещё не успела мне солгать? Нет? Теперь отвечай только правду, иначе я не смогу тебе помочь. Это весьма важно. Скажи, что для тебя было опаснее, когда получила ты грамотки: обвинение в связях с покойным владыкою Фёдором или… то, второе?
– Тогда был жив ещё Ирод церковный, митрополит Константин. Доносы по обоим обвинениям грозу и позор мне сулили: в лучшем случае, просидела бы я до конца жизни на цепи в монастырском подземелье… Ты на меня рассердился? Почему?
– Потом. Как ты поступила, прочитав вторую грамотку?
– Я решила платить, Хотенушко, – вздохнула она. – Две куны раз в месяц не такая уж большая плата за молчание. Янчин монастырь не из бедных.
– Небольшую мзду и небольшой человек потребовал, не иначе, – Хотен оживился, потом снова посерьёзнел. – Надо было сразу же поведать мне. Такой вымогатель никогда не отстанет. От него нужно было сразу избавляться. Кстати, а почему теперь ты обратилась ко мне за помощью – или надоело платить?
Ответ Несмеяны удивил сыщика. Оказалось, что год тому назад, оставляя, как обычно, две куны в дупле, она нашла там бересту. В грамоте было сказано, что больше с неё не возьмут ни ногаты, только последнюю выплату – пятнадцать кун греческими монетами. И чтобы поскорее. Как на грех, свободных кун в монастырской казне не было, а идти самой к ростовщику побоялась. Пока позанимала по куне, по две у знакомцев, благодетелей обители, прошло дня три. Она оставила требуемое в дупле, однако через неделю её словно бес начал подзуживать: пойди посмотри да пойди, посмотри же, лежат ли на месте твои куны. Посмотрела – а их никто не взял! Подумала-подумала, да и забрала назад. И всё было тихо. До вчерашней обедни.
– Что ж – опять стрела прилетела? – вопросил Хотен, глядя на рассказчицу во все глаза.
– Да нет, под ноги подбросили. Выхожу, как положено по нашему уставу, первой во главе черниц из Андреевской церкви, слышу: под носком башмачка моего хрустнуло. Смотрю: вроде как поплавок берестяной. На всякий случай спрятала за пазуху, а в келье развернула – Господи, грамотка! Вот она, Хотенушко.
Хотен прочитал:
– «ПОЛОЖЬТЕКУНЫНАМЕСТОСТАРОЕДВАДЦАТЬКУНЪАТООСОРОМЛЮ». Ага, уже двадцать кун хочет… И снова грозит. А подай-ка мне первую грамотку, что на стреле была! Да, почерк очень похожий… Скажи, а та, вторая грамотка, были выдавлена похожим на эти почерком – или другим?
– Я не помню, но, кажется, похожим…
– Есть работа для Прилепы. Тебе, мати Алимпия, придётся запустить её в книгохранительную палату обители, или куда вы свои грамотки да записи складываете?
– Имеется для них особый ларь в ризнице. Да только что это нам даст? И с чего ты это взял, что я позволю твоей проныре рыться в наших записях?
Старый сыщик ухмыльнулся. Всё-таки баба, уж какая она ни умная, остаётся бабой.
– Иногда мне кажется, что напрасно Владимир Красно Солнышко понаустраивал в Киеве школ, и теперь каждый простолюдин знает грамоту. Как бы сумел мошенник, что вытянул из тебя столько кун, связаться с тобою прикровенно, если не умел бы писать? Однако не знает сей хитрец, что почерк точно так же может его выдать, как рост или походка! Если среди ваших грамоток найдётся написанная тою же рукою, Прилепа определит мошенника.
– Ладно, я подумаю, Хотенушко.
Хотен покривился, однако заговорил о неприятном себе:
– Пока ничего не указывает на то, что неизвестный мошенник связан с твоей обителью. А вот твои прегрешения перед монашеским обетом… Назови мне человека, которому ты рассказывала и о связях с замученным отцом Фёдором, и о рождении тобою сына, и мы на пути к хитрецу.
Несмеяна подумала, потом заявила уверенно:
– Такого человека нет. Вот про поддержку мною дела отца Фёдора знали некоторые люди, но они в это дело и сами замешаны. А про грех мой… Ты удивишься, Хотенушко, но рождение детей нами, черницами, не такое уж необычное дело, как вам, мирским, мнится. Знает про грех мой повитуха, но она баба надёжная: сама монашенка, десятки черниц не выдала, а меня вдруг выдаст? Да и платят ей щедро. А кроме неё… Нет, я никому не говорила. Уж это точно.
– Значит, ты от святого духа родила, мати Алимпия?
– Что ты за шутки со мною шутишь, боярин! – Несмеяна чуть не опрокинул скамью.
Хотен вскочил на ноги. Как странно! Нарочно сдерживался, чтобы не сгрубить бывшей любовнице, а вот издёвка сама с языка соскочила.
– Прости, мати, не хотел тебя обидеть!
– Не надо мною зубы скалишь – над Духом Святым! Да вдобавок и над Богородицею Девой! Великий то грех – кощунство! Поберегись, боярин!
Он крякнул, но не стал спорить с игуменьей о грехах. И без того нет-нет, да и вспомнится пекло, которого, как умные люди говорят, успешным в мирской жизни людям не миновать.
– Послушай, я хотел сказать, что не духом же… Ты забеременела от мужика, и не могла же ты ему потом не сказать, что родила от него. А мужики, сама же сегодня сказала, ещё болтливее баб. Вот он и проговорился кому… Ладно, не обижайся, а просто подумай.
– Ладно уж, это ты меня прости, Хотен, – заговорила она после недолгого раздумья и взглянула на него снизу своими голубыми глазами, за эти годы никак не выцветшими, словно действительно просила прощения. – Сей муж и вправду мог проговориться: уж очень ветреным он оказался. Да только нет уже его на белом свете: убит прошлой весною.
– Но остались дети, слуги, наконец, вдова. Вот я о том, что у нас с тобою была любовь, никогда никому и словечка не проронил, однако не уверен, что мои тогдашние слуги, Хмырь и Анчутка, так-таки ни о чём и не догадывались. Давай, говори, кто это был.
– Ну что ж, приходится, – вздохнула она. – То был Добрила Яганович, боярин князя Михаила Романовича. Слыхал о таком? Он тоже варяг наполовину, но отец его на Севере родился и много ему о родной земле рассказывал. А он мне уже. Мы ведь однолетки, а я жёнка в самом соку была и о ребёнке просто мечтала, так что даже не сильно и устрашилась, когда забеременела. Тем более, что у него как раз умерла жена, и Добриле удалось окрестить нашего сына как рождённого его женою, Терпилой. После чего пропали для меня оба – и любовник, и сын. Я осторожно навожу справки – а моя беглая лада уже клинья подбивает к вдовой невестке Нестора Бориславича….
У Хотена звенело в голове. Значит, не показалось ему, что Добрилов сынок столь походит на белокожую красавицу Несмеяну… Оба дела неимоверно усложнились – или, напротив, упростились?
Глава 8 Пробиваясь к воде
– Христос воскресе, княже! Смертию смерть поправ!
Игорь поднял очумелую от сонного забытья голову. Только по голосу узнал он тысяцкого Рагуила: на лице, чёрном от пыли и крови, одни белки глаз слабо светились. Мелькнула трусливая мысль, что лучше было и совсем не просыпаться. Как вообще сумел он заснуть? Ушибленная через стальной наплечник и кольчугу шуйца болела так, будто и правда отваливалась.
– Воистину воскрес, Рагуиле! – проворчал. – А разве…
– Небо очистилось, а по звёздам видно, что полночь миновала. Пасха, княже, Велик день Христов настал!
Игорь заставил себя, наконец, сесть и огляделся. Безумная надежда, что орды кыпчаков снялись и ушли, растаяла, когда увидел он везде в ночи далёкие угольки костров. Не случилось чуда на Пасху! Окрест него смертельно уставшие дружинники спали, застыв и вроде бы окоченев, и только храп успокаивал: вокруг живые, а не мертвецы. Перекрестился. С трудом – на правой, здоровой руке ныли все мышцы. Потянулся было похристосоваться с Рагуилом, да решил повременить. Тут же ахнул: да ведь Пасху отпраздновали они в Новгороде-Северском, за пару дней до выступления в поход! А сегодня праздник, конечно, да небольшой: воскресенье второй седмицы по Пасхе. Свихнулся, что ли, старик от постоянного недосыпа? Решил пока не напоминать ему об ошибке.
– А что? Разговеться никогда не поздно, – буркнул. – Я сейчас один выпил бы целую корчагу красного вина. Почему, старче, мы не взяли с собою бурдюки с чистой деснянской водой?
– Скорее, половцы разговеются нами, – Рагуил скривил беззубый рот, не то в улыбке, не то в болезненном оскале. – Я обошёл полки. Разбудил и поставил новых сторожей. Все князья пока живы, а ранен из князей ты один. Ковуи проснулись и совещаются, Ольстина на своё вече не пустили. Многие раненые поумирали, княже, некоторые в смертной горячке. Надо нам всё же пробиться к воде. А то кони падут, а люди обезумеют.
Князь скрипнул зубами. Вчера весь день пробивались к воде – а что толку? Половцы то отступали и засыпали их стрелами, то, не уклоняясь от удара подбегавшей пешей рати, стойко рубились с русичами. Даже если удавалось прорвать их строй, поганых на эту равнину набилось столько, что они сразу же смыкали ряды и снова окружали Игорево войско. Да, северские полки продвинулись за день к Суурлию на полверсты, не меньше, но не дошли. На закате половцы вдруг отступили на расстояние перестрела, а русичи в смертной истоме попадали на ковыль. Словно перемирие заключили на ночь.
– Я-то сам вздремнул ненадолго. Много ли старику надо? А тебя разбудил почему? Если нам пытаться дойти до воды, так сейчас. Половцы тоже спят. Если по-тихому наших поднять и выстроить, мы сможем пройти сквозь них, как нож через масло.
– Твоими устами, Рагуил, да мёд пить. Давай попробуем.
Половецкие разведчики и дозорные, наверное, крепко спали, потому что лязг оружия и стоны потревоженных раненых могли бы, кажется, разбудить и мертвого. Наконец, отчаянно зевающее войско кое-как построилось, раненых посадили на коней, мертвых, матерясь от бессилия, оставили на месте ночлега. Князь Игорь сорвал с себя грязное корзно, а левую руку ему подвесили на большом платке. Его красавец Игрун то ли погиб, то ли захвачен был половцами, поэтому ему подвели Серка, наследство покойного Михала. С неловкой помощью Тренки взобрался он на громоздкого коня и выехал на этот раз в середину клина. Речей не было говорено, вперёд двинулись нестройно, передавая друг другу вполголоса приказы Рагуила, ведущего теперь войско и занявшего место на самом острие. Сверху, с коня, Игорь не так видел, как чувствовал, что войско сильно сократилось: немало полегло народу вчера во всех четырёх дружинах.
Огоньки половецких костров впереди медленно увеличивались. Игорь подумал вдруг, что до них ближе, чем мнится ему сейчас. Ведь что могли дети бесовы жечь в тех кострах? Такое огромное их войско давно уже свело на свой пилав рощи во всей округе, поэтому горят под их котлами жирные бараньи кости, ну ещё грудки кизяка, а они большого пламени не дадут… Тут у половцев поднялась тревога. Завопили сторожа, забухали барабаны, запищала труба.
– Стрели! – закричал, надрывая горло, Рагуил.
Ковуи и стрельцы-русичи выпустили по две стрелы, целясь в черную ночь как в мишень. Зато хоть напугали. Ответной тучи стрел от половцев не дождались: не успели, видать, те спросонья достать свои тетивы из заветных коробочек и натянуть на луки. Впрочем, и потерь у той половецкой орды, сквозь стан которой прошёл северский боевой клин, оказалось немного. Во всяком случае, Серко только пару раз споткнулся, и не понять, были ли то трупы половцев или брошенные ими тюфяки. Уголья одного из костров, разбросанные и затоптанные сапогами пеших северцев, проплыли справа от Игоря. Что ж, вроде прорвались. Теперь отбиваться от погони. Уже веселее!
Невольно все ускорили шаг. Игорь же ударил Серка коленями и догнал Рагуила:
– Ты уверен ли, боярин, что идём к Суурлию?
– Речка невдалеке, княже, за ближними холмами, – по частям вымолвил тысяцкий, задыхаясь. – Звезды… Они не лгут.
Тревога на окрестных холмах всё разгоралась. Половцы гортанно перекликались, ржали их свежие и напоенные лошади, били в землю копыта. Полчища степняков готовились снова окружить попавших в ловушку русичей. Однако, пока кольцо снова не замкнулось, сохранялось лучшее время для переговоров. Игорь уже не надеялся, что кыпчаки пришлют посла. Значит, надо отправить к ним своего. Как только рассветёт, а кого послать, он ещё придумает. Обещать можно что угодно, лишь бы выпустили. И дары всем ханам, и куны, и даже, что оружие и доспехи оставим им. Можно выдать половцам ковуев, а потом уж умилостивить как-то их господина толстяка Ярослава. Ещё можно пообещать ханам, что разорит и сроет валы городков-крепостей на Посемье. Лишь бы выпустили сейчас… А тогда Кончак поможет исправить условия сделки, чтобы по-человечески: чтобы только одарить степняков, щедро одарить, бес уж с ними, но для чести своей не обидно.
– Княже, они настигают!
Князь Игорь и сам уже обернулся на боевой клич за спиной – в неверном свете звёзд катится по степи тёмная волна, только оружие местами проблескивает.
– Вижу, Рагуил! Собери копейщиков в задний полк!
– Каких копейщиков, княже? Копейщики-то ещё есть, да только копья почти все изломаны!
– Передать по цепи: «Рыльской дружине! Отбиваться от конных сулицами!» Стрелкам – по три стрелы!
Подкатила сзади тёмная волна – и отхлынула, слава богу, не смяла рыльскую дружину. Но вот впереди поднимаются кони и люди на пригорок, и вот уже Серко принялся головою своею лохматою кивать, одолевая подъём. Неужто дошли до Суурлия? Неужели удастся теперь напиться и напоить коней? Тогда ещё возможно и… Однако спереди, из черного русла реки доносятся рычанье дружинников и чей-то отчаянный мат.
Он и сам не заметил, как оказался на земле. Под ногами чавкала жидкая грязь. Это же немыслимо! Речка исчезла… Незнакомый дружинник катался по грязи, выкрикивая ругательства. Надо действовать! В русло Суурлия скатывались с берега всё новые волны воинов и коней. Крик нарастал, и в его многоголосии расслышал Игорь и причитания. Кто-то голосил, что степные шаманы осушили речку, кто-то без конца повторял, что завели-де князья в гиблое место. Беспорядок и отчаяние бойцов грозили превратить северское войско в непослушное стадо.
– Рагуил!
– Я здесь, княже!
– Есть ли здесь ещё вода поблизости, боярин?
– В двух верстах – озеро. Вот ведь хрень какая!
– Как называется?
– Да просто Морем. Солоновата водичка, правда…
Здоровой рукой Игорь ухватил тысяцкого за железное плечо:
– Веди! Пока будем строиться, расставь по гребню стрельцов!
– Сам веди! Сам расставляй, вояка! – вдруг завопил Рагуил, стряхнул с плеча Игореву руку, сорвал с головы шлем и бросил его на землю, едва не зашибив своему князю ногу. – Легко тебе приказывать! Да пока мужи в себя не придут, никого тут не построишь, военачальник ты хренов!
Князья протолкались к Игореву стягу. Буй-Тур Всеволод прорычал:
– Братие, эти косоглазые что же – речку перекопали?
Игорь потянул носом: от Всеволода тянуло вином. Любопытно, а сам он поделился бы с братом, если бы у него осталось во фляжке? Махнул здоровой рукой, спросил:
– Скажи лучше, брат, ты не видал ли моего Владимира?
– Тут я, батюшка, – отозвался весёлый (с чего бы это?) Игорев сынок. И даже захихикал. – У нас здесь, право, как в песне поётся:
Осерчал Святослав грозный великий Киевский, Наступил на землю половецкую, Притоптал холмы и яруги, Иссушил реки и озеры.– Велесе всемогущий, тут не знаешь, на каком ты свете, а он соловьем разливается! – поразился Игорь. – И где только ты эту чушь перенял?
– А не помнишь разве? Это же Сева, князь Всеволод Ростиславович, тот, что без удела в Киеве живёт, сам сложил и спел на пиру у великого князя Святослава о прошлом годе.
– Не такая уж это и чушь, князья, – возразил Рагуил уже поспокойнее. – Половцам не пришло бы в голову перекапывать речку, попросту их кони всю её выпили.
Князь Игорь присмотрелся к Святославу: вокруг рта у племянника чернело, будто за ночь на его безволосом лице борода выросла.
– Эй, у тебя что ж – рот разбит, сыне?
– Да нет, дядя Игорь, Бог миловал, то я конской крови напился. Ковуи у своих коней вены взрезают и пьют. Ну, и я попробовал.
Буй-Тур Всеволод плюнул и выматерился. Игорь настороженно огляделся. Народ вокруг постепенно притихал, замолкал. В наступившем молчании уловил Игорь угрозу. Один Белее знает, что может прийти в голову этим мужам, коли поймут, наконец, что власть над их жизнями уже почти перешла от северских князей и бояр к победителям-половцам. Очухаются, начнут подзуживать друг друга, вспоминать все свои обиды, конец тогда порядку. Времени нельзя было терять, и он закричал что было сил:
– Братие и дружина! Наш тысяцкий Рагуил тёмной ночью водит войско по звёздам, будто под солнышком ясным, под лучами могучего и щедрого нашего Хорса. Не вина этого старого лиса, что половецкое полчище выпило всю воду из Суурлия! В двух перелетах стрелы есть озеро, так и напьемся, и напоим коней. А половцев стыдно нам бояться, мы же их столько раз с вами били. Батыры-ковуи и вы, стрельцы-русичи, встаньте на высоком берегу, не пускайте сюда орду, что погналась за нами. А мы тут пока построимся и с Богом поедем за тысяцким моим Рагуилом Добрыничем к озеру. И ещё: друзья, садитесь все на коней. Я понимаю, что кони извелись от безводья, но они ведь отдохнули этой ночью. А не напоим коней, вконец бедных животин загубим. Князья, бояре! Построение то же. За Бога и Северскую землю, мужи!
Послушались его мужи. Поворчали, однако начали разбираться по десяткам и дружинам. Игорь приободрил сына и снова выехал на правый, высокий берег Суурлия. Там уже стояли конные стрельцы. Игорь присмотрелся: цепь вышла жидкая, ковуев в ней было не много. Он вспомнил, что и Олстин Олексич не подъехал к нему вместе с князьями, и вздохнул. Ковуи, вот от кого в первую очередь следует ждать неприятностей. Но стоит ли их винить? Как и все чёрные клобуки, они хороши в лихом конном наскоке, незаменимы для преследования бегущего противника – тут им и цены нет! Однако для таких изматывающих, тяжелых боёв, для выхода из окружения, для отступления перед превосходящим тебя противником нужен русич – не пугливый, терпеливый и стойкий. Построились, наконец. Игорь приказал Рагуилу вести войско и сам поехал снимать с берега стрельцов. Всмотрелся в темень. Половецкое полчище тоже остановилось: видимо, хан не решался нападать на русичей, полагая, что они закрепляются на высотах над руслом речки. Игорь выехал в голову войска.
– Ты уж прости меня, княже, на серчай на старого, Игорь Святославович, – раздался рядом скрипучий голос Рагуила. – Сам не понимаю, что со мною сделалось, с моей головою! Будто тетиву натягивал, а она вдруг соскочила.
– Да я сам виноват, что не заставил тебя выспаться, – ответил, продолжая думать о своем, Игорь. И вдруг встрепенулся. – Так ты уже не станешь твердить, что сегодня Пасха?
– Неужто я тебе такое говорил? – и со всхлипом даже каким-то втянул воздух. – А ведь сыростью потянуло, княже.
Игорь глубоко вдохнул, но его пересохшее горло не ощутило присутствия в воздухе водных испарений. Далеко впереди мелькнул красный проблеск костра и тут же на мгновение удвоился. Теперь и вправду вода! Что там, у озера, половцы, это несомненно, а вот сколько их там?
– Стой! Тренка, передай по цепи: «Стой! Ольстина ко князю наперёд. С ним двух ковуев!»
Пока повторялись, угасая постепенно, за спиной его слова, пока пробирался Ярославов боярин в голову полка, красный огонёк снова появился, но уже в другом месте.
Игорь понял, что это не костёр, а факел: кто-то ездит глухой ночью по дальнему берегу с огнём.
Позади частый топот. Голос, до того охрипший от жажды, что не узнать:
– Я здесь, княже.
– Ольстин, ты? Что прячешься от меня, боярин?
– Просто боюсь я, княже, от ковуев надолго отъезжать. Альпар поведал мне, что они замыслили убежать, спрятав свои высокие шапки. А свежих коней по дороге купят либо отберут. Тогда кто-нибудь, говорят, и спасётся, а гнев твой или князя Ярослава, говорят, всё же не пуще смерти от половецких рук.
– Леший с ними и с Ярославом твоим. Понакрутили вы с Кончаком на мою голову! А теперь, боярин, езжай на разведку. Пусть ковуи подползут к огню поближе, прислушаются и присмотрятся, сколько напереди у озера половцев.
– Понял, княже. Ей, Темирчук, ей, Гибай! Слышали? Айда!
Вернулся Ярославов боярин быстро. Слишком быстро. Даже пугающе быстро.
– Что там?
– Темирчук и Гибай даже подползать не стали. Там много половцев. Стоят вокруг озера, в несколько рядов. Впереди у них конные, в доспехах, копья к седлам приторочены.
– Ага. А чего ж было ждать? Твое слово, Рагуил.
– Я бы дал людям передохнуть. Скоро рассветет. Вот тогда и увидим, как поступить.
– Быть по-твоему. Вон уже и звёзды блекнут.
Игорь встряхнул головою. То ли задремал, сам того не заметив, то ли рассвело мгновенно. Увиденное вокруг его не обрадовало. Словно повторяющийся еженощно страшный сон, стояли со всех стороны живые стены из половецких войск.
Он окликнул Тренку, дремлющего рядом в седле, и велел ему растолкать тысяцкого. Тот долго протирал глаза, потом огляделся.
– Однако… Что будем делать, княже?
– Я уже решил. Отправим к ним посла, а пока снова построимся. Эй, Беловода Просовича ко мне!
Беловод Просович, черниговский боярин, помогавший Ольстину Олексичу управляться с ковуями, выпучил глаза, когда выслушал порученные ему слова: «От Игоря Святославовича Северского к великим ханам Кончаку Отраковичу, Башкорту Кобяковичу, Козе Бурновичу и прочим великим ханам, мне по именам не знаемым. Выпустите моё войско с оружием и наших мёртвых возьмём. А сколько за то хотите гривен серебра?».
– Что ещё сказать, княже?
– И сего довольно! Возьми посольский знак для оруженосца – и скачи! Видишь стягКончака?
Ускакали, наконец. Тем временем войско худо-бедно построилось.
Князь Игорь проехал вдоль передних рядов. С копьями стало ещё сквернее, чем вчера. Другая беда: надёжных новгород-северцев осталось слишком мало, и все они, оставшиеся в строю, ему известные по именам (а у некоторых и детей крестил, у многолетних знакомцев), – все как один не смотрели в глаза своему князю. Обижены. Что ж, он на их месте тоже, пожалуй, обиделся бы.
Вернулся в голову боевого клина. Всмотрелся в ту сторону, куда направился Беловод-посол, – расплывалось всё там, вдали, а ведь не пил хмельного столько дней… Спросил отрывисто:
– Рагуил, что там делается?
– Подъехали… Они под стягом Кончака… С самим Кончаком, так его доспех золотом и сияет… Пьют оба, и боярин и парубок, бурдюк над головою по очереди задирают… Не видно уже их… И знак наш посольский исчез среди конников!
Игорь крякнул. Неужели и ответа не дадут? Конечно, половцы в двух шагах от победы, однако нельзя же так пренебрегать правилами войны! Игорь повернул коня, чтобы сказать речь перед войском.
– Повремени, княже! Скачет сюда кто-то из них! И с твоим значком, – остановил его Рагуил.
Князь натянул поводья. А подумав, махнул здоровой рукою Тренке и решительно выехал навстречу половецкому гонцу. В мирном предложении ханам нет ничего позорного, пусть бы и его дружинники услыхали, однако кто может знать, что повелел сказать ему Кончак?
Черно-белое пятно впереди сгустилось в нарядного половца в красивом и чистом белом кожухе, расшитом красными и золотыми нитями, на вороном коне. Доспеха не было на нем, только поножи на ногах поблескивали, в руке держал он древко с Игоревым посольским значком.
– Живи вечно, великий князь Игорь Святославович, – поклонившись, заговорил половец на таком хорошем русском, что князь забыл на мгновение, что перед ним степняк. – Говорит тебе великий князь Кончак Отракович таковы слова: «От Кончака свату Игореви. Брось стяги на ковыль. За тебя поручусь, понеже ранен еси. Больше немогу ничего обещать».
Игорь помолчал. Что ж, спасибо и на этом. Присмотрелся к половцу. Загорелое до черноты лицо того показалось ему сперва молодым, однако теперь понял он, что гонцу уже порядочно лет. И какое ему, Игорю, до этого кыпчака дело? Только бы подольше не возвращаться мыслями к словам Кончака…
Половец снова поклонился:
– Я Овлур Менгуевич, толмач великого хана Кончака Отраковича. Рад служить великому князю северскому.
– Да не великий я князь, – думая о своём, отмахнулся князь Игорь. – А ты где научился столь расторопно русскому языку? Уж не крещён ли ты?
– Крещён, княже. Я служил великому князю Изяславу Мстиславичу в толмачах же, а уж когда выбили его, господина моего, из Киева, вернулся к степной жизни.
– Ладно… Скажи от меня Кончаку: «Свату Кончаку от Игоря. Не вышло мириться – будем биться».
– Держи, хоробр! – это половец бросил Тренке посольский знак, снова поклонился Игорю и повернул коня.
– Эй, Лавор! – остановил его князь. – А куда вы подевали посла моего, черниговского боярина?
– Прости, что не поведал тебе сразу, княже. Кончак оставил его при себе в посольском его чину, чтобы после… ну, когда всё закончится, отпустить в Чернигов ко князю Ярославу как самовидца здесь бывшего. Прощай, княже.
– Прощай, Лавор.
Скользнул взглядом по белой спине толмача Игорь и снова вперился в тёмную, копьями ощетинившуюся стену, преградившую русичам путь. Теперь ему самому уже не верилось, что мог понадеяться на мирный исход переговоров. И хотя, окажись Кончак в окружении русских дружин, Игорь поступил бы точно так же, как коварный союзник и приятель, душу его полонила тупая злоба, и он готов был сейчас зубами рвать этих провонявших кумысом, желтолицых и раскосых нелюдей. И захотелось ему нестерпимо всадить стрелу в белую спину Лавора, потому что из проклятых половцев оказался толмач к нему ближе всех. И потянулся Игорь, не глядя, туда, где, как выезжал он дома на княжескую свою охоту, висел колчан со злачеными стрелами. Не оказалось там колчана, разумеется, и он вылил свою злобу в речи, которую прокричал, вернувшись к строю дружинников.
Глава 9 Соленый вкус поражения, горечь плена
Теперь уже стаи воронов, круживших в небе над ратными, не раздражали, а вызывали тёмный страх. Северское войско пробилось-таки к воде, однако это только позволило людям напиться. Людям, но не лошадям – четвероногие отказались пить и вовсе не солоноватую, как говорил Рагуил, а добре солёную воду. Толстокожий Буй-Тур Всеволод предположил даже, что половецкое полчище нарочно напрудило в озеро своей и конской мочи – и сам попробовал захохотать, что завершилось глухим кашлем. И над чем тут смеяться? Юного князя Владимира чуть не вырвало.
Князья съехались на совещание, пользуясь тем, что половцы отошли на перестрел, когда северскому войску удалось выйти на берег озера. Ханы совещаются, небось, как легче добить русичей. Князь Игорь знал, что для половцев целесообразнее всего было б издали засыпать прижатого к воде противника стрелами, однако надеялся, что вожди из разных углов Великой степи не смогут прийти к единому решению. Одно было очевидно: ни одна из орд не покинула поля боя – да и кто на их месте уехал бы, не дождавшись дележа завидной добычи?
Северским полководцам тоже было о чём посовещаться. Игорь рассказал о своей попытке заключить мир. Буй-Тур матерно выругал Кончака, а Владимир посмотрел на отца с такой детской надеждой, что Игорю пришлось отвернуться от него. Тоже мне нашёл спасителя и скорого помощника на все времена! Молодой Святослав выглядел скорее ошарашенным, чем испуганным.
Помолчали. Тысяцкий Рагуил заговорил, глядя в землю.
– Сдаваться надо, князья. Неча протии рожна прати. А так хоть оставшихся людей сохраним.
– Как это сдаваться, старик? Неслыханное ведь дело! – возмутился Святослав. – И когда это поганые половцы брали в плен русских князей?
– Князей давно уже не полонили, а вот бояр довольно… Однако казнили только пленных «черных клобуков», а за русичей брали выкуп, – напомнил Рагуил. – А на бою убивали половцы князей, случалось и такое во времена Владимира Мономаха…
– На бою не в счёт, братия и бояре! – неизвестно почему осерчал Игорь. – Что же в том дивного – на поле брани пасть? Булатная сабля князя от отрока не отличает! И в плену у поганых оказывались русские князья. Вот хоть бы наш, Ольговичей, родоначальник святой, прадед мой великий Олег Святославович.
– Я сдаваться не собираюсь, братие, – просто сказал Буй-Тур. – Буду биться, пока не убьют. Живым нам не избыть позора за то, что подставились поганым, а мёртвые сраму не имут.
– И я довольно пожил на свете, – заявил Рагуил. – Если на сей раз не удастся обхитрить старуху с косою, так тому и быть, князья и бояре. Мужей вот только мне жаль…
Владимир побелел. Хотел тоже что-то сказать, да голос ему не повиновался. Игорь скрипнул зубами: неужели сын забыл, что обручён с дочерью Кончака? Могучий степной сват их двоих не даст в обиду! Во всех предыдущих стычках Игорь присматривался, не наезжают ли на его полки знакомые батыры Кончака и под его бунчуком – и не случалось такого. Это добрая примета. Значит, не забыл сватовства Игорева и совместных их приятельских дел. Хотя… Половцы ведь будут мстить. И имеют на это право. А если ещё и вспомнят подставное кочевье… Почему, спросят, вы к нам сюда пришли? Чтобы убивать, грабить и насиловать? Что ж, сейчас об этом ещё рано думать. Значит, так…
– Значит, так, братия и бояре. Будем биться, сдаваться нам сейчас не с руки. Вперёд на половцев не пойдём, станем здесь отбиваться. Ставим полки в оборону. Хорошо бы окопы вырыть, Рагуил.
– А чем прикажешь рыть, княже? Мечами?
– Вот, вот! Правильно речешь, старче! Шли ведь не из окопов отстреливаться, а незащищённые кочевья пограбить! – выкрикнул Святослав.
– А вот про это забудьте все накрепко! – сверкнул на племянника глазами Игорь. – Мы шли отвоевывать Тмуторокань, вот куда! Кто из вас останется жив и из плена освободится, только так и говорите!
– На Тмуторокань, к синему морю… – опешил Рагуил. – Это надо же такое сморозить…
– Ты, старче, как знаешь, а я о чести своей должен позаботиться, – сурово пояснил Игорь. – И пусть лучше прослыву глупым храбрецом, чем…
И махнул князь рукою, не договорив. Странное ощущение он сейчас испытал: будто всё уже кончено, битва проиграна, и надо думать о том, что будет после неё. Не о том, что настанет после смерти, потому что думать об этом бесполезно. Ведь не знаешь, и знать тебе не дано, куда попадёшь – в славянский ли в языческий ирий, где князьям как раз хорошо живётся, в прадедовскую ли варяжскую Вальгаллу, где тоже не так уж и плохо будет воину, не ленивому на брань, или (вот уж не дай того, Велес!) на суровый суд Христа, которым грозятся попы. Думать надо о плене. Да чёрт с ним, с пленом – можно как-нибудь перетерпеть! Думать надо о том, как из плена вырваться и что с тобою будет на Руси после плена…
– Княже, а ковуев куда поставим? Снова в тылу у копейщиков?
Игорь не сразу вник в смысл вопроса Рагуилова. Потом скривился:
– Довольно мы их берегли, боярин. Кони у ковуев посвежее будут, пусть рубятся в первом ряду, справа от путивльцев. Ты понял ли, Олстин Олексич?
Черниговский боярин молча кивнул. Вот уж кому действительно лучше помалкивать, послу хренову! Игорь обвёл взором лица князей и бояр, встретился с их вопрошающими, недоумевающими взглядами. Встрепенулся, снял с себя шлем, отдал Тренке. Сказал:
– Давайте обнимемся на прощанье, братие и бояре. Неведомо, кто из нас сегодня в живых останется. Простим же друг другу обиды вольные и невольные. Сынок, подойди ко мне.
Звучными оказались эти объятия закованных в железо людей, кривыми их улыбки, уклончивыми слова извинений и прощения. Ржавчиной и кислым потом от них несло, высохшей кровью и дымом костров. А ещё и необычным: вонью солёной воды из озера. А вот от брата Всеволода – снова вином. Всё! Помолчали, помолились, садятся на шатких коней, разъезжаются каждый под свой стяг. Игорь проводил взглядом понурого Владимира и вернулся к своим думам. Настанет, непременно настанет в сегодняшнем мучительно бесконечном дне момент, когда половцы станут их беречь. Когда окончательно поймут, что русичам теперь уже не избежать смерти или пленения, вспомнят косоглазые, что за каждого живого можно взять выкуп – и куда больше, чем за мёртвое тело князя или боярина, выкупленное родственниками для достойного, по отеческим обычаям, погребения. И не только за князя или боярина. С мёртвого дружинника что взять? Только то, что надето на нём, оружие да доспех. А за живого тоже можно выкуп получить. А кто платить будет, если не родичи? Да Северская земля и будет платить да выкупать. Страна у нас лесная, богатеев-купцов – раз-два, и обчёлся, а главный богатей – новгород-северский князь. За большой полон всё накопленное дедом-отцом в степь уйдёт. Поэтому, хоть и грех так думать, однако надо биться, биться до последнего дружинника. Ничего, бабы ещё нарожают, а дедовское серебро таким простым способом не восстановить… Игорь оглянулся: не вслух ли он это сказал. Потом сам на себя рассердился: зачем стыдится своих мыслей? Разве о себе он заботится – о княжестве заботится!
– Скачут, княже!
Игорь и сам уже увидел. Справа над чёрной колючей линией половецкой конницы поднялась пыль. Понятно, опять не сумели договориться между собой… А глаза стали лучше видеть – наверное, от голода.
– Рагуил, когда рассмотришь, чей бунчук, мне поведай.
– Добре, княже!
И какая, собственно, разница, чей бунчук у наступающих? Главное, что ездят половцы хоробрствовать к окруженным русичам отдельными ордами и батырами, хоть могли бы сейчас покончить битву одним ударом, навалившись все вместе со всех концов. Коли были бы степняки под одним началом, можно было бы подумать, что играют с обреченными, как кошка с мышкой, – да только дело в обычном разброде и безвластии. Знакомая картина, до боли знакомая…
– Знамя Токсобичей, княже!
– Всем к бою! Прикрыться щитами! – заревел Игорь, да столь громко, что конь под Тренкой отпрянул.
Вот и стрелы взлетели над пыльным облаком, отсюда похожие на быстрых маленьких ласточек. Игорь привычно прикрылся щитом, в щит на этот раз звонко ударил стальной наконечник, и снова – в который уже раз в сем походе! – справа и слева от него раздались сердитая матерная ругань раненых дружинников и отчаянное ржание раненых коней. На сей раз ответ русских стрелков был, наверняка, почти незаметен для половцев: стрелы в колчанах иссякли. Вот зазвякало справа-слева: строй смыкался над упавшими с коней и ранеными, отъехавшими в тыл. А впереди раздался оглушительный вопль.
Не торопясь, взглянул Игорь поверх щита и увидел, что облако пыли приблизилось и что начали выскакивать из него первые всадники. Устрашающе размалёванные железные маски на лицах у одних, оскаленные жёлтые зубы под наносниками лёгких аварских шлемов у иных – спешат батыры за славою и добычею! Игорь заставил Серка попятиться и укрылся за железной стеной копейщиков. Увы, копья сохранили из них едва ли два десятка.
Вот они, звуки сшибки, треск последних северских копий. Вместе со всем строем своей дружины подался на шаг назад и князь. И тут же качнулся вперёд: одиноким батырам приазовских Токсобичей не удалось прорвать строй, и они отлетели назад, будто от пружины. Их смяла, подхватила и снова бросила вперёд своя же конная лава, с новым воплем накатившаяся на северцев, и вот тогда уже началась настоящая рубка. А силы у северских бойцов уже были не те, и боевые комони их, в прежних походах, бывало, в боевом пылу загрызавшие коней противника, еле стояли теперь на ногах. Игорь отвернулся, когда на ковыль слетела голова копейщика Бессона, не в добрый час подставившегося под удар тяжёлой булатной сабли. Однако строй выдержал. А через несколько минут жестокой, бессмысленной сечи запищала половецкая труба, и степняки, непривычные к прямой, меч в меч и сабля в саблю, рубке, отступили. С дюжину коней, оставшихся без всадников, потрусили за Токсобичами.
Игорь заметил, что его дружинники, бросившиеся к половецким трупам, снимают с них только колчаны. Не он один, выходит, думает тайком о плене! Рагуил, всё ещё тяжело дышавший, будто сам только что махал тяжёлым мечом, схватил его за плечо:
– Княже, смотри!
Игорь ахнул. Да, Токсобичи возвращались не на свое место, а ближе к дружинам Кончака. В непрерывной до того стене половецких войск появилась брешь. И если бы такое случилось ещё два дня назад, эта промашка Токсобичей давала бы северцам возможность уйти… Но не сейчас же, не на подыхающих же от жажды конях!
– Напрасно и дёргаться, – промолвил Игорь. И Рагуил кивнул, соглашаясь, снял шлем и в огорчении принялся чесать под подшлемником в плешивом своем затылке.
Однако ковуи, давно замыслившие побег с поля боя, решили не упускать и этой призрачной возможности. С гиканьем бросились они удирать, и было удивительно, как заставили нехристи столь резво скакать своих истомленных коней. С ними поскакали и русичи – побольше из Рыльской дружины, поменьше из северской, и почти никто не соблазнился из путивльцев.
Игорь размышлял всего одно мгновение. Успев рассчитать все расстояния между конниками, он принял единственно правильное решение. И перед тем, как вонзить шпоры в бока Серка, успел даже подумать, что для таких вот решений и нужен войску полководец.
– Тренка, на месте! – успел крикнуть и пустился вдогонку за беглецами. – Назад! Пропадёте, собачьи дети!
Крича, снял он с головы шлем, чтобы его, князя, уж точно узнали, и ветер приятно холодил ему лицо, трепал мокрую бороду. Беглецы оборачивались на его крик, ясное дело, что узнавали, но один только Михалко Юрьевич повернул коня назад и вернулся в строй. На поле тем временем делалось чёрт знает что. Половцы со всех сторон теперь с воплем неслись к русскому войску, а целая гурьба их во весь опор скакала к Игорю, норовя отрезать русского князя от его полков и полонить.
Игорь посмотрел вслед беглецам: не больше двух десятков их успели просочиться в брешь между половецкими полками, остальные, как кур в ощип, влетели прямо в гущу сомкнувших строй половцев. Теперь он развернул Серка и помчался назад, к своим. Конь убитого оруженосца, живший на сем свете последние минуты, давно уже хрипел, однако честно исполнял свой долг, скакал из последних сил. Неизвестно куда пропавший Игрун (и золочёное стальное седло увез, о сбруе хоть и не вспоминай!), фарь благородных арабских кровей, уж небось увильнул бы как-нибудь, чтобы… Игорь не додумал об Игруне, потому что не выдержал и оглянулся. Половцы уже заметно настигали. Он безжалостно вонзил шпоры в бока несчастного Серка, услышал вблизи негромкий свист – и очнулся уже на траве. Невдалеке Серко бился, издыхая, на земле, а князя опоясывала, плотно прижимая руки к туловищу, тугая верёвка аркана.
Половец, поймавший предводителя Северского войска, подскакал к нему и твёрдой рукою сдёрнул с земли. Потом ухватил Игоря за руку и поскакал к своим. Князь еле успевал перебирать ногами и молился только об одном – не оказаться бы под копытами. Такого не могло происходить с ним, князем Игорем Святославовичем, – не могло происходить, однако почему-то деялось. И когда половец, отъехав уже достаточно далеко от северского войска, начал придерживать своего гнедого, Игорь освоился в этом невероятном своём состоянии настолько, что попросил, задыхаясь:
– Позволь посмотреть!
– Смотрет, – неожиданно легко согласился половец и ткнул себя пальцем в грудь. – Чилбук Тарголов. Батыр!
И князь смотрел, как погибало его войско. Смотрел, пока сияющий Чилбук снимал с него аркан, ворча, развязывал бесчисленные ременные завязки и стаскивал доспех и оружие. Смотрел, когда подскакавшие Чилбуковы сородичи раздевали и разували его, не оставив на теле и расшитой, покрытой ржавыми разводами рубахи. Смотрел, пока напяливали на него драные кожаные штаны и вонючий нагольный тулупчик. Смотрел, досадуя на свои глаза, которые сделались вдруг так некстати зоркими. И оторвался от зрелища только однажды – когда Чилбук вдруг зачмокал, восхищённо разглядывая снятую с пояса Игорева серебряную флягу.
– Ай, ты! – сверкнул тогда на него глазами-щёлками половец. – Смотрет!
А было чего посмотреть, ведь Игорь оказался напротив курского полка. Каждый раз, когда теснящие курян половцы Козы Бурновича расступались, он видел, что брат его продолжает сражаться. Расстреляв все стрелы и истратив все сулицы, Буй-Тур выхватил из ножен меч, а когда остался с обломком на рукояти, свесился с седла и ловко подхватил с земли половецкую саблю. Он вертелся волчком, тупой и неукротимый берсерк, на своем покрытом пеной и кровью, обезумевшем жеребце, а вокруг него умирали дружинники-куряне, которые, если и хотели, не могли сдаваться, пока их князь храборствует. У Игоря немного отлегло от сердца, когда он понял, что половцы не собираются убивать брата, предпочитая получить за него выкуп. Уже два быстрых аркана сумел перерубить Буй-Тур Всеволод, когда жеребец под ним, утыканный стрелами, как девичья подушечка для иголок, вдруг рухнул на колени, а князь оказался под кучей малою прыгавших на него с сёдел половецких удальцов.
Почти сразу же со всех сторон раздался оглушительный торжествующий вой, запищали трубы, забухали барабаны. Игорь почувствовал укол ревности – если кыпчаки так радуются пленению брата Всеволода, уж не видят ли они именно в нём предводителя северского войска? Нет, это главный стяг северского войска пал на землю, и, увидев сей знак, побросали знаменосцы остальных русских дружин. Оставшиеся в живых русичи выпустили из рук оружие. Сколько же их осталось? Как ликуют половцы, как веселятся! Пришло их время, и наступила их тёмная власть над северскими пленниками.
Игорю стянули руки за спиной сыромятным ремнем, и сразу же ушибленная рука, о которой он успел забыть в скачке, налилась острой болью. Он промолчал, не попросил и попить. Попробовал помолиться – и вроде как забыл все молитвы. Под хохот и полупонятные ему насмешки степняков подвели русскому князю старую, в коросте клячу, с липовым, расколотым и кое-как ржавой скобой сбитым седлом – что ж, сейчас чем хуже, тем лучше. Боль, издевательства, оскорбления, унижение – быть может, помогут они снять тяжесть с души?
Уже собирались князя усаживать на клячу, когда подъехал Кончак. Роскошно одетый, без доспеха, только у широкого златотканого пояса бесценный, в позолоченных ножнах франкский меч, и нукеры вокруг него нарядные. Показал свои белые на тёмном лице зубы:
– Ай, Игор! Карош коняз, однако!
Чилбук выехал вперёд и приветствовал хана. Кончак ответил ему свысока и завёл неспешный разговор. Прислушавшись, Игорь понял, что коварный Кончак выполняет своё обещание, выручает. Чилбук уже согласился, что хан имеет право поручиться за своего русского кунака и будущего родича как за раненого, и теперь обсуждался размер вознаграждения за передачу русского князя, устраивающий обе стороны и не оскорбительный своею малостью для сановного пленника и для знатного батыра Чилбука.
Тем временем Игорю развязали руки. Орудуя здоровой правой рукой, скинул он с плеч вонючий кожух. На голой, полуседым волосом поросшей груди не оказалось золотого крестика – то-то молитвы ускользали из памяти… Что ж, он помолится Велесу – есть за что. Тошнотворная вонь, терзавшая его ноздри, резко ослабела, но отвратный вкус соли во рту остался. Вкус поражения. Вкус позора.
Глава 10 Мутные сны и тяжкая явь великого князя Святослава
Великого князя Святослава Всеволодовича, конечно же, порадовал вид красавца Чернигова, вынырнувшего на высоком берегу из-за поворота Десны, да ещё в такое яркое, солнечное весеннее утро. Однако ненадолго: второй день он сердился на племянника своего Игоря, затеявшего в тайне от него особый поход в Половецкую степь. И именно сейчас! Сейчас, когда большой поход на половцев уже подготовлен! Когда удалось уже договориться почти со всеми князьями, от Переяславля и до Волыни, когда даже из далёкого лесного Корачева добыл он для этого похода добрых молодцев, которых, между прочим, обязался вооружить, посадить на коней и кормить. Вон в третьей ладье плывут, радуются, что Русскую землю посмотрят, медведи замшелые! Под парусом и по течению доплыли ладьи до впадения в Десну малого Стрижня, и уже по этой речушке пришлось подниматься на веслах до черниговской пристани.
Живой и подвижный, несмотря на то, что ему уже седьмой десяток пошёл, великий князь первым выпрыгнул из передовой ладьи на пристань. Нетерпеливо пританцовывая, ожидал он, когда сведут по мосткам на берег его любимого коня, неутомимого венгерского жеребца Беляна, когда увидел, что ворота Детинца распахнулись и к пристани скачет, размахивая шапкой, боярин брата Ярослава. Да, это Володарь.
Вот Володарь скатился с коня, за ним и парубок его. Подбежал боярин, о чести седой бороды своей не заботясь, к великому князю, поклонился, пропыхтел вполголоса:
– Великий княже, вечно живи! Брат твой Ярослав Всеволодович просит тебя, не мешкая, ехать к нему в Красный терем. Поспеши, великий княже!
– Пожар, что ли, тушить, Володарю? – осведомился Святослав Всеволодович, с помощью парубка забираясь на Беляна. – Или брат боится, что я сперва заверну к владыке попробовать церковного вина?
– Мне не велено самому говорить, великий княже. Одно скажу, что новость скверная.
– Боюсь, боярин, что и я огорчу брата своего, – буркнул великий князь.
И четверти часа не минуло, как Святослав Всеволодович, слегка только запыхавшись, влетел в гридницу братова терема. Тучный Ярослав торопливо поднялся навстречу ему с позолоченного престола, на котором и Святославу Всеволодовичу довелось сиживать, взял брата за руку и посадил рядом с собою на скамью. Глядя на его полное лицо, утратившее обычное выражение добродушия и довольства жизнью, тотчас принялся великий князь киевский гадать, кто из их ближайших родственников внезапно помер. Братья обнялись, и Святослав Всеволодович по праву старшего заговорил первым:
– Что я слышу, брат! Племянник наш Игорь пошёл в Половецкую степь чуть ли не со всей Северской землею, а от меня утаился! И не говори мне, Славко, что ты не знал! Ты же их всех в кулаке держишь!
– Худо, худо дело, ещё хуже, брат! Уж не знаю, как и сказать тебе… Большое несчастье, брат! Все северские князья в плену, а дружины погибли да пленены. Пленных до тысячи. Вот сейчас тебе самовидец…
И Ярослав Всеволодович, отводя от брата глаза, громко хлопнул в ладоши. Возникшему в дверях слуге приказал:
– Бел овод а сюда!
Великий князь дважды заставил Беловода Просовича повторить свой рассказ, и только вглядевшись в его красное и измождённое лицо, странно смотревшееся над роскошными одеждами боярина, понял вдруг, что никакое это не вранье, что ничего сей Беловод не придумывает, а вот большая беда действительно пришла. Стиснул он зубы и спросил, сдерживая ярость:
– Повтори мне, боярин, вот что. Когда ты отъезжал, что делалось с князьями?
– Князя Игоря выкупил у Чилбука и взял к себе Кончак Отракович, Всеволода, брата его, захватил Роман Кзич, Святослав Ольгович сидит в оковах в стане у Копти из Улашевичей, а Владимир – у Елдичука Вобурцевича. Тысяцкий Игорев Рагуил Добрынич убит, Олстин Олексич ранен, он в полоне у Кзы Бурновича, вождь ковуев Алпар-батыр у Кзы же был.
– Когда ты выехал из половецкого стана?
– Вчера о полудне, великий княже. Я загнал двух коней – быстрее прискакать не в силах человеческих…
– Ярослав! – выкрикнул. Заставил себя успокоиться, проглотил комок в горле… Зашипел. – Твой Олстин в полоне, ковуев ты туда посылал… Ты с головою в Игоревом дерьме! Теперь поправляй дело, умник. Вы с Игорем твоим отворили поганым врата в Русскую землю, затворить теперь ты сам не в силах, так сделай хоть всё, что сумеешь! Своими дружинниками прикрой собственный степной кордон, а карачевцев, что в ладьях у меня, одари, вооружи, посади на коней и отправь в посемские городки, пусть держат хоть эти два… ну, Вир и Попаш, а я пришлю сыновей на подмогу.
– Князь Игорь Святославович просил привести к нему попа со священными вещами, – заикнулся было Беловод Просович.
– Попа ему? Пусть молится вербовому кусту, вояка! – взметнулся со скамьи великий князь Святослав и склонился над братом. – Мы ещё разберемся в этом деле, ты, суздальский подручник! А пока упаси тебя Боже, брат, не совершить мною тебе повеленное! Я же бросаю здесь ладьи, а сам скачу в Киев.
– Ты нехорошо стал говорить со мною, брат, – обиженно протянул князь Ярослав. – Иногда мне кажется, что ты, посидев на Киевском столе, ведешь себя совсем не как Ольгович. Уж ты прости мне правдивое слово, брат.
– Я – не как Ольгович? – великий князь замер на месте уже у дверей, явно изумился. Вернулся неспешными шагами на середину ложницы, задумался, коротко хохотнул. – Да, пожалуй, что так. И ты, брат, если удастся тебе по рождению и чести рода своего сесть в своё время на великом киевском столе, почувствуешь себя… ну, Ольговичем останешься, конечно, но будешь уже не то что новгород-северский или черниговский князь. Я-то ведь могу сравнивать! Защищать Русскую землю надо по-иному, нежели Северскую или Черниговскую твою, и в том половцы никакие не союзники, и суздальский властелин не союзник и покровитель, а соперник и неприятель.
– А я не заглядываю так далеко, – надул толстые губы Ярослав. – Мне сейчас о моём княжении забота.
– Тогда слушайся меня! – Святослав Всеволодович снова подбежал к дверям и уже оттуда прокричал. – Четыре княжества без князей и без дружин, а беззащитный Путивль первый пойдёт под сабли степняков! Я из Киева со всем не справлюсь, брат!
В сумасшедшем скачке лесными дорогами от Чернигова до Киева великий князь поуспокоился, конечно, и придумал, в основном, как прикрыть Киев от неминуемого набега кыпчаков, ободрённых, само собою, победой над северскими князьями. Войска из многих союзных княжеств, которые он собирал для большого похода в степь, придется пустить на прикрытие Переяславля и городов по Суле. Брат Давид Смоленский обещал привести свою дружину, вот ею на первое время и можно будет заткнуть дыру. И ещё, трясясь в седле, думал он о злосчастном Игоре, о том, что уж теперь заклятый друг, соправитель Рюрик не преминет потребовать суда над выскочкой Ольговичем – и что ж, будет на сей раз прав. А Игорь пусть получит, наконец, по заслугам!
Однако вид прекрасного Киева, выросшего вдруг на высоком берегу Днепра в тихом сиянии лимонного заката, успокоил великого князя. Тяжело сползая со взмыленного Беляна на загаженный песок перевоза, он уже знал, что учинит с Игорем. Угрюмо следил князь Святослав за байдаком перевозчика, бывшем уже на середине реки. Все кости у него ныли, а перед глазами всё прыгала молодая зелень придорожных лесов. Как только доберётся до постели, повалится спать – дай Боже, чтобы сапоги с него успели стянуть. Однако перечень тех, кого желает увидеть утром у себя в гриднице, уже готов в его голове. И гонцы поскачут до того, как колокола ударят к вечерне.
Утром, ещё до заутрени, в гриднице стоя, ожидали великого князя его бояре, собравшиеся, как положено, к пробуждению господина. Угрюмо косились они на редких здесь гостей – Севку-князька, одетого в какие-то обноски, но, тем не менее, по праву княжества своего севшего на скамью, и знаменитого сыщика Хотена, киевского боярина и бывшего великокняжеского мечника. Оба никогда не были особенными доброхотами Ольговичей, однако великий князь лучше знает, кого и зачем к себе вызывать. Шептались, что и соправитель Рюрик Ростиславович прискачет из Вышгорода, но, конечно же, попозже, чтобы не уронить чести своей великокняжеской перед Святославом Всеволодовичем.
Великий князь вошёл в гридницу, зевая и потягиваясь. В дверях зорко огляделся, потом, не увидев Рюрика Ростиславовича, отчаянно зевнул ещё раз. Ответил на приветствия, потребовал квасу, шумно опустошил кружку, вытер рукавом усы и поведал:
– Однако же и сон мне снился, брат и сын мой Всеволод и бояре, ну и сон! Мало того, что спал как мёртвый… Ещё и сон мутный такой.
– Спал, небось, ты всю ночь на левом боку, княже. Да и немудрено мутен сон увидеть после такой скачки, как у нас вчера, – заметил тысяцкий Святославов, сам выглядевший утомлённым, с чёрными кругами под глазами на сером, будто не отмытом от дорожной пыли лице.
– И вот что за жуть мне привиделась, братие и дружина. Прямо в глазах стоит, нет чтобы сразу же забылась! Будто прямо тут рядом, в ложнице моей, меня ещё живого, вот только ни одним членом не могу пошевелить, готовят к погребению. И не по нашему христианскому обычаю готовят, а по поганому половецкому: одевали меня на кровати моей тисовой в чёрные ризы, давали мне пить вино синее, с отравою, сыпали мне жемчуг на лоно из половецких колчанов и качали меня, будто младенца в колыбели. А на моём тереме, на крыше, доски рассыпаются, брёвна раскатываются, а конька уже и в помине нет!
– О! – не удержался тысяцкий.
– Вот, вот! Беда! И я во сне плачу: нет конька на крыше – нет, значит, и князя в государстве… А серые вороны расселись вокруг по крышам, по куполам и крестам – и крякают, и крякают! А меня под их грай уложили на смертные сани, вытащили сани на Оболонь – и в Днепр! Только сани не утонули, а понеслись Славутичем – всё вниз да вниз, будто с горы – и к синему морю! А там я и проснулся…
Все помолчали. Потом Святослав, прищурившись, обратился к Севке-князьку:
– Всеволод, ты, говорят, всё со скоморохами водишься, а они люди не простые. Не попробуешь ли мой сон истолковать?
– Это сами скоморохи о себе туману напускают… Тоже мне нашёл волхвов! – ухмыльнулся Севка-князек. – Однако, хоть я и не святой Иосиф Прекрасный, а ты не фараон египетский, твой сон попробую изъяснить. Знаешь, это ведь не вещий сон, он не будущее провещает, а то, что уже случилось, как бы заново переживает беды Игоря Святославовича и его войска. Ты, княже, горюешь – и сон твой горюет вместе с тобою. Мы все тут наслышаны о том, что случилось в Половецкой степи.
– К тому же, бояре, – вмешался вдруг Хотен, – поведайте мне, какой день недели сегодня?
– Четверг, боярин, – прогудел тысяцкий.
– А что приснится в четверг, понимай наоборот! – бодро соврал сыщик. – Если приснилось тебе под четверг, княже, что везут тебя на смертных санях, значит, жить тебе ещё долго-предолго.
Великий князь испытующе взглянул на сыщика, крякнул, но промолчал. Хотен тем временем удивился: неужели его с Севкою-князьком, этим неудачником, великий князь затем пригласил, чтобы свой сон им рассказать? Ну уж нет: иначе выходит, что он уже вечером, когда гонца присылал, ведал, что увидит тяжёлый сон, и что именно увидит, ведал.
– Я вызвал тебя, княже, и тебя, боярин, – словно прочитав его мысли, заявил вдруг великий князь, – потому что, скорее всего, мы с Рюриком Ростиславовичем дадим вам важное поручение.
Пока бояре рассказывали господину своему о происшествиях, случившихся во дворце и на княжьих дворах во время его поездки на Северщину, ошеломлённые Севка-князёк и Хотен стояли столбами, друг на друга не смотрели. Хотену сперва очень неприятен был такой поворот, однако потом он успокоил себя. Что ж, хотя князь-неудача и был первой любовью Несмеяны, первым любовником её стал всё же он, Хотен, да и потом… Ведь это он силою отнял у Севки-князька свою книгу, а не наоборот.
Тут все бояре развернулись в сторону двери и поклонились Рюрику Ростиславовичу, стремительно вошедшему во главе ближних своих бояр. Знаменитый полководец мал был ростом и тем напоминал Хотену своего славного дядю, великого князя Изяслава Мстиславовича. Однако оказался он похож на дядю и в ином: стоило ему заговорить, как о малом росте все сразу забывали. Князь Рюрик скривился, подле соправителя увидев непутёвого своего старшего брата, и милостиво кивнул Хотену в ответ на его низкий поклон.
Слуги принесли второе золочёное сидение, поставили рядом с престолом великого князя Святослава, и соправители, коротко обсудив поражение северских князей на реке Суурлий, принялись весьма толково, как показалось со стороны Хотену, распределять киевские полки, чёрных клобуков и дружины князей, которые могли успеть подойти к подходу половцев, между порубежными крепостями, острогами и валами на подступах к Киеву, бродами и перевозами через Днепр. Они согласно отправляли послов и гонцов, а когда толпа Святославовых бояр заметно поредела, Святослав Всеволодович приказал своим боярам покинуть гридницу, а Хотену остаться. Севку-князька, тоже порывавшегося выйти, он удержал за рукав.
– А я, брат и друг мой, – промолвил Рюрик Ростиславович, – хотел бы с тобою перекинуться словом об одном нашем родственнике вовсе без чужих ушей.
– Если сей родич – Игорь Северский, то Всеволод и боярин Хотен как раз и помогут нам, – тут Святослав хитро прищурился. – Ты ведь предлагаешь созвать княжеский съезд и судить на нём Игоря, как только выкупится из полона?
– Вот именно, брат! – вскинулся князь Рюрик. – Закон наш всем ведом: коли князь провинится, волость теряет, а коли муж – голову.
– Насчет Игоря я с тобою полностью согласен. Вот только некогда нам будет сим в ближайшее время заняться. Вот я и придумал: давай отправим твоего старшего брата и Хотена на Северщину и в степь, на место побоища, чтобы разобрались в сем деле по свежим следам. Лучше Хотена нет сыщика в Русской земле, брат, и он не станет держать сторону северского князя.
– Хотена послать – да, я согласен! – улыбнулся князь Рюрик старому сыщику. – Он разберется и доложит нам правду про это неслыханное дело. Вот только надо дать ему посольское достоинство, чтобы, если вдруг нарвётся на половцев, смог назвать себя нашим послом к Кончаку – спросить-де о выкупе Игоря. А зачем нужен для сего дела мой… беспутный мой брат, вот уж ума не приложу.
– Я всё придумал, пока скакал вчера из Чернигова, брат. Хотен не только нам доложит всё как есть, но и расскажет летописцу Поликарпу. А вот брат твой Всеволод Ростиславович, он песню об Игоре сочинит. Такую песню, какой племянник мой Игорь окажется достоин, – или поносную, или хвалебную. Ты же дай для сего мнимого посольства десяток мужей своих отборных с добрым децким во главе, а я, со своей стороны, снабжу их кунами, конями и всем необходимым. А отправляются пусть уже завтра в полудень.
– Одно забыли вы, братья и господа мои, – улыбнулся Севка-князёк во весь свой щербатый рот, – забыл ты спросить меня, согласен ли я ехать в степь, прямо в зубы ополчившимся против нас, как я понял, кыпчакам. Да и княжеское моё звание, смекаю, с посольским поручением невместно есть.
– Эй, ты! – прикрикнул на него младший брат. – С твоим княжеским званием невместно твоё поведение, уж это точно. А поедешь под чужим именем. И я одену тебя и дам коней добрых, и твой долг ростовщику Якубу заплачу.
Тут Хотен понял, что если не откроет сейчас рот, то придётся ему выполнять неожиданное сие, да и опасное поручение бесплатно.
– А я стар ведь, господа мои великие князья, для такой поездки, – развёл он руками. – И своих дел у меня в Киеве полно.
– Боярин, это дело наиважнейшее. Я велю тебе выдать из моей казны две гривны завтра и ещё три гривны, когда вернёшься. Те гривны твои потери покроют, – пообещал Святослав Всеволодович и добавил. – А что стар ты стал… Старый конь борозды не портит, так ведь? И я знаю, что ты великому князю Изяславу Мстиславовичу верно служил, стало быть, нас, Ольговичей, не жалуешь, стало быть, не Игоря будешь выгораживать, а правду искать, и чего раскопаешь, не станешь от нас с князь-Рюриком скрывать. И разве не дорога тебе Русская земля?
– Да уж, не хотел бы я снова увидеть немирных половцев за своим забором на Горе, – проворчал Хотен. – Только гривны желательно бы получить вперёд, великий княже Рюрик Ростиславович. А тебя прошу, великий княже Святослав Всеволодович, дай мне с собою десяток молодого Неудачи Добриловича. И не спрашивай, будь добр, почему именно его.
Глава 11 Тревога в древнем Путивле
Когда раздался горестный вопль на забралах города Путивля, княгиня Евфросиния Ярославна только прикусила губу, а когда, поохивая да постанывая, начали путивльские жёнки, дети да деды спускаться с городской стены, к степному полудню обращенной, она осталась на стене.
Как и подвластный её семье люд, княгиня Ярославна взошла на стену, чтобы издалека увидеть возвращающиеся с победою северские полки. Сын её старший, князь Владимир, втайне от отца прислал позавчера гонца, который рассказал, что побеждена половецкая орда, взяты вежи и пленники, чаги и кощеи, и что войско, конечно же, теперь вернётся домой. Тогда княгиня Ярославна, взяв с собою своего младшенького сына, Ростика, любимца Игорева, отправилась на возке в Путивль. Вот, рассчитав время, и взошли сегодня горожане на стены, а некоторые, самые нетерпеливые, ещё до заутрени поехали и пошли пешком в дальний острог Игорев, чтобы раньше других встретить своих мужей, братьев и отцов, увидеть подарки, что везут из степи. Однако четверть часа назад в город прибежал оборванный младший отрок из Рыльской дружины. Сейчас он стоял перед принаряженной, красиво подкрашенной княгиней, пытаясь удержаться на ногах, страшась будущей своей доли, стесняясь перед вылощенной супружницей князя Игоря, что грязен и вонюч. Стеснялся бы и крестьянской клячи, на которой прискакал, забрав её у крестьянина под Выром, оставив взамен измученного своего коня, если бы не пала она за три версты до Путивля.
За спиной оборванца, перекрывая лестницу, чтобы не удрал, стоял старый Измирь, бывый копейщик, а вот уже полтора десятка лет телохранитель, накрепко и неотступно приставленный Игорем Святославовичем к жене. За ним прятался от вонючего и явно провинившегося дяди восьмилетний княжич Ростислав Игоревич. Этот был вконец перепуган и крепился вовсю, чтобы снова не заплакать. Ярославна улыбнулась Ростику, как ни в чем не бывало, и спросила сурово:
– Так кто ты, отроче, и чей?
– Я Непогод, самострельщик князя Святослава Ольговича Рыльского. Ведь уже говорил тебе, госпожа княгиня…
– А не слыхал разве, что бабий ум – перекати-поле? Давай рассказывай всё сначала…
И он принялся рассказывать всё сначала. О том, как половцы дивом каким-то вдруг окружили русичей со всех сторон, как два дня подряд продолжалось ужасное, бессмысленное избиение, как вдруг образовался просвет в половецких полчищах, и ковуи вдруг поскакали туда, а за ними и многие русичи.
– И ты с ними… А что с тобою было потом, презренный беглец?
– Меня догнали, госпожа княгиня. Уже подле веж. Кусак, мой конь, никуда, усталый и не напоенный, не годился. Степняки забрали остаток оружия, раздели, дали рваные штаны, а потом надели колодку. Пока затягивали ремни на колодке, прискакал с побоища ещё один степняк, вроде старший, и они мне сказали, что главный наш князь уже пленён. Все половцы уехали, остался один только воин караулить вежи. И меня. Не более получаса прошло – и раздался с побоища ужасный вопль, загремела бесовская ихняя музыка. Тогда последний остававшийся там воин что-то прокричал, вскочил на коня и тоже ускакал.
– Видать, сдалось тогда всё северское войско, – раздумчиво промолвила княгиня. – Или, не дай того Бог, убиты были все. Вот твой сторож и поспешил за своею долею добычи.
– Наверное, госпожа княгиня. Я же попробовал пошевелить ногами – а ремни оказались слабыми, ноги удалось освободить. Тогда заставил половчанку из ближней вежи разрезать мне узлы на колодке, забрал половецкого конька, а Кусака поводным, – и убежал.
– А как ты заставил половчанку?
– Прости, госпожа княгиня… Ну, пригрозил ей. Показал, если не разрежет, мол, узлы, размозжу колодкой голову её младенца. Ну, ругала меня молодка во всю глотку… Доскакал до речки Оскола, там напоил коней… Встретил ещё одного беглеца из нашей дружины, именем Чурила, он ещё недавно из Киева приехал: там его боярин был убит… Сперва напугали друг друга, потом уже ехали вместе… Ему удалось сразу уйти, когда мы все бежать кинулись. Я сюда, а он от Выра повернул на Рыльск, княгиня.
– Хватит, помолчи… Скажи мне, Непо… Непород – или как тебя там?
– Непогод, госпожа княгиня.
– Скажи, Непогод, а почему ты не поскакал прямо в Рыльск?
– Да ведь хотел сначала людей предупредить в Путивле, а отсюда и в Новгородок, в великое княжество, думал, сами гонца пошлют. Чтобы все про общую нашу беду знали… Ведь теперь жди бесовских детей сюда, непременно прискачут, госпожа княгиня.
– Ты про наших князей больше ничего не слыхал?
– Когда я сбежал, они все были живы. Игорь Святославич, тот, правда, ранен был. Ездил с шуйцей подвязанной. А так все живы были.
Княгиня рассвирепела. Рассказал сей молодчик про никому не нужную половчанку и вшами заеденного её младенца, про Чурила безвестного, а вот самого главного, что Игорь, муж её, перед пленением был ранен, сразу не сказал. Потом заставила себя успокоиться, рассудить с парнем справедливо. Заявила холодно:
– Коли уж не захотел ты стать изгоем, прискакал сюда, чтобы нас предупредить, не буду я тебя карать за трусость – да как я смогу, боязливая баба? Вернётся из полона твой князь, он тебя и будет судить. Ты же возьми вон у Измиря коня и скачи теперь в свой Рыльск и по пути предупреждай христианский люд, что идут половцы. Кто сумеет, пусть приводит скот и детей за стены Путивля, кому далеко окажется – пусть прячется в лесу, а там уж как Бог даст. В Рыльске расскажи обо всем воеводе Святослава Ольговича, что в городе остался, и пусть пошлёт гонца в стольный Новгородок.
– Спаси тебя Бог, госпожа княгиня, – упал на колени Непогод.
– А ты, Измирь, найди поскорее для него коня да еды какой, чтобы пожевал дорогою. Запомни или запиши имя молодчика, а сам разошли гонцов. Сперва в те сёла и городки, что на полудень от Путивля, потом в остальные и в стольный град. Бери в гонцы всех дружинников, что оставлены в городе, и требуй, чтобы тотчас возвращались. Чего гонцы должны кричать, ты уже понял? И позови сюда ко мне отца протопопа и старцев градских.
– Слушаюсь, госпожа, – поклонился Измирь. – Да ведь… Не велел мне мой князь отлучаться от тебя ни на шаг, тем более в военную лихую годину.
– Да ведь ты, мудрый старец, у меня теперь вместо тысяцкого, – улыбнулась княгиня одними тонкими губами. – Поневоле придётся тебе отлучаться, Измирь. А у меня уже свой собственный телохранитель вырос. Скажика, княжич Ростислав Игоревич, сумеешь ли защитить свою маму?
На заплаканном лице княжича вдруг возникло суровое выражение, он выступил вперёд, выхватил из ножен свой игрушечный меч, почему-то пригрозил им Непогоду и выкрикнул звонко:
– Вот сим мечом-кладенцом поганого половчанина тотчас зарублю!
Запели, заскрипели под тяжестью спускающихся мужей ступени лестницы, и княгиня подумала, что сейчас, пока судьба дарует несколько часов на подготовку, нужно проверить все стены острога и детинца, чтобы успеть починить подгнившие связи. На заборолах Путивля не будет стрелков, чтобы отгонять половцев, только старики и бабы. Сами стены, а не бойцы, главная защита теперь городу и беженцам, стены и ворота. Стенам и воротам защищать горожан, а горожанам защищать своих защитников, не давая супостату их поджечь или пробить бревном-тараном. Значит…
И вдруг ей захотелось проснуться, избыть страшный сон. И пусть не в любимом родном Галиче проснуться, где бояре с горожанами и говорят, и одеваются, и думают по-другому, не так, как здешние пропахшие дёгтем лесные медведи, а в этом же Путивле. Будто только что пробудилась она после долгого полдневного отдыха и поднялась на стену, да только с другой стоны поднялась, где стена детинца прямо нависает над Сеймом. Чудесный вид открывается там с прибрежной кручи на заречные леса и луга, особенно весной, когда покрыто всё свежей первой зеленью. Как хотелось бы стоять сейчас там, беспечной и спокойной, и любоваться этой природной красотою, для утехи человеческой сотворенной Господом! Любоваться и тешиться, зная, что безопасность и покой есть кому обеспечить. Однако дружины погибли, и новгород-северская, и путивльская, а изрядно поднадоевший своими изменами грубиян-муж и старший сын, уже почти взрослый, жених и воин, в позорном плену. Так что нечего ей там делать, на полуночной стене детинца, потому что с той стороны глубокий Сейм, высокий обрыв и крепкая стена, которую не поджечь стрелой с горящей паклею, надёжно защищают город. Ей надо торчать здесь, смотреть на скучные поля с прошлогодними тёмными скирдами, похожими на шлемы дружинников (Боже мой, там ведь и всё оружие пропало, на многие и многие гривны!), ибо именно с сей, полуденной стороны, за дальними синими лесами ещё сегодня поднимутся в небо первые зловещие дымы.
Снова заскрипели-запели ступени. Медленно, нависая на перилах и цепляясь за балясины, поднялись они на стену – сперва протопоп, за ним старцы градские. Княгиня, загибая по одному тонкие свои пальцы, быстро пересчитала: семеро. А должно быть их восьмеро: протопоп и семь старцев градских.
– Отцы честные, а почему вы не все пришли?
– Михалко Непеевич, княгиня, остался под стеною, – пояснил, отдуваясь, толстый старик в собольей шубе. – Ему на костылях лестницею не взойти, а наши концы рядом, и я ему обо всем решённом поведаю.
Ярославна кивнула. Потом коротко сообщила о своих первых распоряжениях, переданных через Измиря. Помолчала, перед тем как сказать о важном:
– Наверное, дивуетесь вы, почему я, жёнка, приняла на себя власть, когда у вас тут, в Путивле, живёт брат мой князь Владимир Ярославович Галицкий, муж в расцвете лет?
Старики переглянулись.
– Так вот. Брат мой у нас с князем Игорем – почётный гость. Я его беречь должна. Хоть и зрелый он муж, а княжеством и дня не правил. Вам, северцам, он чужой совсем. Я же, как-никак, супруга новгородского князя и мать ваших юных княжичей, а сама живу на Северщине уж много лет.
– Правильно решила, Евфросиния Ярославовна, – прогудел протопоп. – Твоего брата горожане не желают. Ты уж не обессудь, но бессовестный он. У живого мужа жену отобрал, живёт теперь с сею попадьей открыто – будто так и нужно.
Княгиня не знала, что и сказать. Это не его, конечно же, дело, протопопа Ивана, с кем там спит князь – да хоть бы и с попадьей, да хоть и с просвирницею. Однако вон отец Иван успел и переодеться: натянул на рясу кольчугу, на пояс привесил саблю. Хочет, если город половцы возьмут, разделить судьбу своих прихожан. Бог с ним, пусть говорит, что хочет. Это тебе не новгородский архимандрит Мисаил, прихлебатель Игорев… Да к чему сейчас и вспоминать было об этой мокрице?
Тут заговорил старейший из старцев градских, весь в желтоватом седом пуху. Ярославна и имя его помнила – Завирюх Булгакович.
– Ты на отца Ивана не серчай, матушка княгиня. Ты решила правильно, распоряжайся и дальше. А наши старые глаза много чего видели, уши много чего слышали, подскажем тебе мы, старики, если потребно будет, поможем, чем сможем.
Ярославна кивнула и обратилась к отцу Ивану:
– Ты, отче святый, снял бы кольчугу и свою бы лучше службу исправлял. Собери народ, успокой его. Ведь бабы путивльские всё воют. Что с того толку? Чем тот плач обороне нашей поможет?
– Верно, госпожа княгиня, – сверкнул очами протопоп. – Да и не сообразил я сразу, а ведь такой плач, как по мёртвым, есть грех великий. Кто знает, убит или полонён у той бабы муж, а она его как мёртвого оплакивает! Уж не говорю о том, что вытьё и по покойнику само по себе греховно есть: ведь обретает он жизнь лучшую, а то и Царствие Небесное!
Несколько ошарашенная мудростью священника, Ярославна обратилась к старцам градским:
– Решила я, что в Новгородке стольном управится княжич Святослав Игоревич, он почти уже взрослый, невеста ему уж сговорена у великого князя Рюрика Ростиславовича. Половцы ведь никогда до Новгородка не доходили – ведь так?
– Сами, не под началом союзных русских князей, кажись, не совались, госпожа княгине, – нахмурился Завирюх. – Туда, через Глухов в стольный град наш, одна дорога для половцев идет, через дремучие леса. Две-три засеки перед Глуховым, две-три засеки за Глуховым, и степняки повернут назад. Пошли гонца в Глухов и к сыну в Новгородок, княгиня, с таким приказом. А вот как Путивль наш оборонять, о том подумать нужно.
– Думайте, думайте, господа старцы! – попросила Ярославна и польстила. – Одна у меня надежда на вашу мудрость.
Старцы градские выпятили бороды и значительно переглянулись. Потом заговорили по очереди, друг друга не перебивая, будто заранее обо всем договорились. А почему бы им было не договориться, пока допрашивала она Рыльского беглеца?
– Без дружины нам острога долго не удержать. Потому уже сейчас надо посадским домочадцев, скот и добро перевозить в детинец.
– Детинец наш для врагов неприступен, да только если дружина стоит на заборолах полунощной стены. Спасёмся, если не дадим ворогам взойти на стену, поджечь её или пробить подъёмные ворота.
– Вооружить из княжьей казны стариков, подростков и молодиц. Натаскать на стену камней, кипятить в котлах воду и греть смолу.
– Оставшихся дружинников поставить на ворота и на стене у ворот.
– Вооружить и мужиков из тех, что сбегутся в детинец. Не застрелит половца, так доспехом своим напугает.
– Внутри стены у нас глина набита. Не очень-то зажжёшь, однако лучше в виду ворога полить наружную обшивку водой.
– Все лестницы и стремянки из посада перетащить в город. Если подожжёт ворог стену острога, самим сжечь посад.
– На топливо для котлов разобрать ближние к стене срубы посада. Да и враг не сможет за ними прятаться.
– Ров перед стеной почистить надо, мужи.
– Половцы долго перед городами не стоят, однако мужиков пускать в Путивль только со своим зерном.
– На все ворота острога поставить крепких ребят, чтобы не испугались вопля степняков и зачинили ворота. Всякое ведь бывало…
– Наделать факелов и жечь на стене ночью, чтобы не прозевать ночного приступа.
Когда мудрые советы истощились, княгиня поблагодарила всех и попросила тотчас же взяться за дело. Она неплохо знала путивльские порядки и не сомневалась, что через несколько минут во всех семи концах города закипит дружная, согласная работа. Князья менялись в тереме детинца, а старцы градские оставались. И вот теперь пришла пора им доказать, что справятся и без князя. Своё участие в обороне города Ярославна не переоценивала.
Над городом поплыл колокольным перезвон, не набат, нет. Это отец Иван собирает народ на обедню. Надеяться надо, что не затянет проповедь свою надолго. Однако и бабий вой уже притих.
– Мам, так мы в церковь пойдём? – потянул её за рукав Ростик.
Она в ответ потрепала сына по голове:
– Нам сейчас не до долгих молитв, дорогой. А тебе пора обедать и спать. Обещай мне, что останешься в тереме с дядькой своим, когда поднимется вокруг города вопль и звонари ударят в набат.
– А батя мне обещал, что покажет настоящую войну…
– Успокойся, сыночек. Там не будет нашей дружины – а разве бывает война без конных копейщиков, стрелков, знаменосцев, трубачей и барабанщиков? – тут Ярославна вздохнула. – И без храброго князя впереди на белом коне, в алом корзне и с мечом-кладенцом в деснице?
Глава 12 Послы отправляются в путь
На следующее утро после беседы Хотена с великими князьями Святослав Всеволодович прислал к сыщику отрока с двумя гривнами денег, а на словах сообщил тот, что десяток с децким Неудачею во главе сейчас готовится в поход, а ждать его, Хотена, они будут в полдень у Лядских ворот «от двора твоего, боярин, в двух шагах».
Потом отрок – рыжий с проседью, лет уж под сорок – обвёл взором горницу и, не обнаружив ничего подозрительного, показал согнутым пальцем Хотену, чтобы тот приблизил к его устам волосатое своё ухо. Прошептал значительно:
– Великий князь велел передать, что половецкие полчища разделились: часть пошла с Кзою на Посемье, а иные с Кончаком сюда, на Русскую землю.
Хотен постарался скрыть усмешку и легко поклонился:
– Благодари от меня великого князя. Скажи, что мы с князь-Всеволодом поскачем на Чернигов сперва. Пива не желаешь ли?
Дружинник отказался от пива, сославшись на то, что в эти дни им, Святославовой дружине, ни минуты покоя: заваливает поручениями. Отсюда сразу же к Севке-князьку – а вдруг пьян спит? Или по городу шатается?
А хотелось Хотену ухмыльнуться, потому что тайные сведения, которыми Святослав Всеволодович любезно поделился с сыщиком, с утра уже пронеслись по Киеву от двора до двора, от одной бабы-сплетницы к иной. Ведь привёз эти новости суздальский купец, которому половецкие ханы поручили передать русским князьям издевательское послание: «Ваша братия у нас, так что идите к нам за нею. А не то мы сами к вам за своей, что у вас в полоне, придём». И ещё потребовали за полоненных князей совершенно несусветный, с потолка взятый выкуп – за Игоря Новгород-Северского две тысячи гривен серебра, за Всеволода Курского – полторы тысячи гривен, а за молодых князей по тысяче. Да ведь во всей Русской земле не найти столько серебра! Заезжий купец не потаил новостей, пробиваясь на рассвете со своим товаром сквозь Лядские ворота, ибо, полагая себя полноправным послом от половецких князей, не пожелал платить пошлину. Скверные эти новости принесла на Хотенов двор Прилепа, вернувшись с заутрени.
Хотен проводил гонца до дверей, вернулся и уселся на свое излюбленное место – на скамье у окна. Пора было уже собираться. Что ж, он выпарился в бане ещё вчера. Хорошо натопила баньку Прилепа и славно выдрала затем веником ему спину… Привычно подкрутив седой ус, подумал сыщик, что весна действует и на такого старого пня, как он. И ещё близкая разлука – что тут скажешь, привык ко Прилепе, ох как привык, поистине прилепился телом и душою!
Легка на помине, заглянула баба в дверь, буркнула:
– Одёжа походная в ложнице, на постели.
Хмыкнул он и, не торопясь, простуженную навсегда поясницу оберегая, поднялся со скамьи. Ночью привиделось ему, что не с Прилепой спит, а с самкою лютого зверя. Ослепительно красива была эта полосатая огромная кошка, то ласкала его бесстыдно своим горячим языком, то грозилась, ревнуя к Несмеяне, тяжёлой костистою лапой… Дурное настроение Прилепы можно понять: и его, многолетнего сожителя своего, давно уже не отпускала так далеко, и за сына их старшего, Сновидку, печалится, коего берёт он с собою оруженосцем. Однако почему всё-таки в глаза не смотрит? Что задумала? Уж не завела ли на старости лет себе женишка? Или не завела ещё (он бы заметил!), а только замышляет завести, пока хозяина дома не будет?
И на пустом месте Хотен до того расстроился, что даже не проверил, тот ли доспех и нужное ли оружие отобрал для поездки Сновид.
Уже из двора выезжая, попросил он Прилепу:
– Ты уж покрутись немного около монастыря, помоги с делом матери Олимпиады.
Она подошла вплотную, улыбнулась соблазнительно и прошипела:
– Возвернёшься – сам полюбовнице поможешь, кобель старый! Бывай здоров!
У Лядских ворот нашел Хотен кучу людей и коней, из которой вдруг вынырнул средовек с таким знакомым лицом… Ну да, конечно же, Хмырь! Радость от встречи с бывшим холопом тут же растворила в душе Хотена досаду на Прилепу, и в печальный миг прощания не сумевшую сдержать свой проклятый норов. С помощью Сновида сошёл он с коня и обнял заматеревшего и немного за пролетевшие годы сгорбившегося Хмыря.
– Здорово, хоробр! Вот уж не думал, что именно здесь увидимся! С таким надёжным мужем, как ты, теперь хоть на край света!
– Живи вечно, Хотен Незамайкович! Сколько лет, сколько зим – а ты всё такой же! Орел!
– Где уж там, тоже нашел мне орла… Но мне обещал великий князь, что поеду с десятком молодого Неудачи Добриловича…
– Да уж, – погрустнел Хмырь. – Не досталось мне должности и на сей раз. Разве теперь смотрят на заслуги, Хотен Незамайкович? Однако потом, в пути, о сем поговорим, если желаешь: много здесь лишних ушей.
Тут пробился к ним сквозь толпу молодой Неудача. Верхом на коне, в доспехе, обвешанный оружием и походными сумками. Хотен кивнул ему в знак приветствия и подумал, что сейчас тот редкий случай, когда юнец имеет возможность посмотреть на него сверху вниз. Неудача облегчённо вздохнул, узнав Хотена, и тут же напустился на Хмыря:
– Давай, дядя, выстраивай, наконец, десяток! Князь появится с минуты на минуту…
– Зачем тут князь? – насторожился Хотен, решивший было, что это Святослав Всеволодович пожелал дать им с Севкою-князьком последние напутствия. Тут же понял, кого юнец имеет в виду, и расплылся в ухмылке. Попросил Сновида, чтобы подержал ему стремя, взобрался на коня, смирного и выносливого Черныша, и решил, что больше не сойдёт с него, пока маленькое войско не отправится в поход.
Десяток давно был выстроен, и дружинники, соскучившись стоять бездельно, одни лениво переругивались, другие рылись в своих переметных сумах, когда появился, наконец, Севка-князёк. Хотен не удивился, что был тот хмелен, но не понравилось ему, как снарядился в поход сей невольный его спутник. Одет он был в потёртое, но без дыр боярское платье, однако не видно было в переметных сумах на поводном коне никакого оружия, а вместо копья, сулиц, налучья и колчана приторочены там были весело расписанные гусли. Провожала князя пешая молодка, одетая по-городскому. Сейчас они взасос целовались, и Хотен, посмеиваясь в усы, гадал, что станется, когда прощающиеся разомкнут объятия: свалится ли Севка-князёк ничком с коня, или его успеет пинком вернуть в седло молодка, или утреннему гостю Хотена, рыжему отроку великого князя Рюрика, маячившему позади парочки с неописуемым выражением лица, удастся вовремя удержать князя, взявши за шиворот.
А сталось не первое и не второе, и даже не третье: с последним громким поцелуем князь отпустил смазливую молодку, обеими руками уцепился за переднюю луку седла, выпрямился в седле и даже лихо подбоченился. Хотен понял, что князь-скоморох не так пьян, как придуривается, тронул коня коленями и, объехав застывшего столпом с раскрытым ртом Неудачу, подъехал к спутнику.
– Здравствуй, княже Всеволод Ростиславич!
– Здорово, Хотен! Только я теперь не то, что ты сказал, а боярин Словиша Боянович. А вот ты – всё то же, чем был: такой же толстошеий. А приглядеться, так ты теперь совсем без шеи… Знаешь ли, на кого ты теперь похож, боярин?
– Ну? – набычился Хотен.
– Велес всемогущий! А ведь забыл я, на кого…
– Послушай меня, почтенный муж, – обратился Хотен через голову собеседника к несколько пришедшему в себя рыжему отроку. – Передай великому князю, что я, Хотен Незамайкович, ручаюсь: поручение выполним. А князь… боярин Словиша шутит, он пошутить большой любитель.
– Спасибо тебе, боярин, – поклонился отрок и был таков.
– А ты давай домой, Настка, – приказал Севка-князёк. – И не вздумай из двора моего притон устраивать. Вернусь, прознаю что зазорное про тебя – вот увидишь, в следующую поездку запру твое гузно на железный замок.
Ничуть не устрашённая, молодка захихикала. Хотен не стал дослушивать княжеские тары-бары с рабынею, выехал наперёд отряда, под посольский значок, древко которого тут же отставил щегольски в его сторону молодой стяговник. Хотен и себе подбоченился, выпрямился в седле, потом, крякнув (ну и язычок у князька!), попытался вытянуть вверх шею. Проорал:
– Посольство от великих князей! Отворяй!
И тяжёлые, окованные ржавым железом створки Лядских ворот, закрытые по случаю военной годины, распахнулись.
Хотя хмель был у Севки-князька некрепким, зато держался долго. Они переправились уже через Днепр и вытянулись в цепочку по двое на лесной дороге, когда Хотен услыхал позади хлюпающие звуки: кто-то съехал на обочину и торопил коня, увязающего копытами в мокром после утреннего дождя песке. Оглянулся: это оказался Севка-князёк. Он заставил своего чалого конька выехать вровень с Хотеновым вороным, а тот, вынужденный рысить правыми ногами по битому шляху, а левыми по песку, возмущённо повернул к чалому оскаленную голову.
– Какой сердитый! А я чего? – бросил Севка-князёк непринужденно. – Я потешить хотел тебя, боярин, повеселить…
– Разве можно, рысью едучи, играть на гуслях? – удивился Хотен.
– На каких ещё гуслях? Я тебе хотел скоморошину новую рассказать. Нынче утром только перенял. Да и про тебя как раз. Суди сам: «Был старый муж, брадою сед, а телом млад, костью храбр, умом свершен…» Ну, едва ли про тебя, слишком уж хорош выходит старик… Дальше там тоже было складно так, утешно, да я не запомнил точно, скажу своими словами…
– А надо ли, княже? Дело у нас не шибко веселое…
– Для дела надо ещё до Чернигова доскакать. Да ты послушай, это про старого мужа и прекрасную девицу…
В общем, богатый старик к девице посватался, а она ему и говорит:
«О, безумный старик, Матерой материк! Коли возьмёшь за себя меня, прекрасную девицу, Храбрость твоя укротится, Седины твои пожелтеют, Тело твоё почернеет, И не угоден моей младости станешь, И красоте моей не утеха будешь. И тогда я, девица, от телесного распаления Впаду в блудное преступление С молодым юношей, С молодцом хорошим, А не с тобою, С вонючею душою, С понурою свиньёю». Вот!– Да, складно, согласен! А я тут при чём?
– Послушай дальше. Старец всё-таки просит девицу выйти за него. А она его честит: «Ах ты, старой смерд, жеравная шея…».
– То бишь журавлиная? – и расхохотался Хотен от всей души, даже слезу со щеки смахнул. – Нет, это не про меня…
– Да? «Жеравная шея, неколотая потылица, губа, как у сома, зубы щучьи, понурая свинья, раковые глаза, обвисшее гузно, опухшие пятки, синее брюхо, посконная борода, жёлтая седина, кислая простокваша, моржовая кожа, в воде варена, свиной пастух, костям бы твоим ломота, зубам щепота!» Старик всё же женился на ней, а прекрасная девица «как старому говорила, так над ним и сотворила. А он три года за ней по пятам бегал, да и удавился. Молодой девице честь и слава, а старому мужу каравай сала. А кто слушал, тому гривна, а кто не слушал, тому ожог в гузно, рассказчику калачик мягкой. Сей повести конец.
– …а рассказчик срамец», – подхватил Хотен. – Мягкий калачик я тебе, княже, пожалуй, найду, а вот гривну с тебя требовать не стану по бедности твоей. Как сталось, что выехал ты без оруженосца? Кто ж будет тебя кормить-поить, коней твоих чистить и обиходить?
– Помнишь тот год, когда Глебовичи вместе с половцами Киев разорили? Тогда и сгинул мой слуга, единственный, кроме меня, петух в моем курятнике. Остались мы в дворе сам-друг с последнею рабыней, через год принесла она в подоле, девку принесла, потом ещё одну, а потом и мальца, да и второго. Однако старшенький её мал всё-таки, чтобы брать его в поход слугою, тем более оруженосцем.
– Я и забыл – оруженосец как раз тебе, князь, без надобности. Ты же и оружия с собою не взял. Скажи мне, Бога ради, почему?
– А потому, боярин, что не желаю я людей убивать. Я поклялся, что не возьму в руки оружия. На поле той самой битвы поклялся, в которой ты, толстошеий бугай, прославился. Мы тогда с тобою по полной доле добычи получили от доброго князя Изяслава, дяди моего, а я ещё первую и последнюю в жизни своей волость.
– По-христиански, стало быть, решил ты жить, княже? Ну, удивил, не ожидал я от тебя. Говорят ведь про тебя, что живёшь, как скоморох, а весёлые…
– А весёлые, по-твоему, не христиане? И не думаю я, что надо быть обязательно образцовым христианином, чтобы отказаться убивать людей. Ладно, о христианстве успеем ещё поговорить, боярин. Я вижу, можно с тобою разговаривать: нрав у тебя полегче, чем мне помнился. Мне по душе пришлось, что ты не обиделся на скоморошину.
– Да с какой стати мне было обижаться, княже?
– А разве не женился ты недавно на молоденькой?
– Я и вправду женился на молоденькой, – нахмурился Хотен. – Да только много лет тому назад, когда и сам был ещё молод. За пару лет до той битвы на Руте, о которой ты вспомнил. Почти сразу же и овдовел я. Да так и остался я вдовцом, княже.
– Вот ведь люди! Поистине, языки без костей! Чего только не наплетут? Ну, тогда извини, боярин. А ты бы лучше называл меня Словишею, не князем. Не дай того Бог, попадём мы в полон к степнякам, заломят за меня как за князя несусветный выкуп, так и подохну в оковах.
Хотен перекрестился. Вот уж у кого поистине язык без костей! «Попадём в полон» – разве можно и заикаться о таком в день выезда? Ещё напророчит… Зато в беседе дорожное время быстрее летит, и вот уже повеяло речной свежестью с остающейся слева днепровской протоки Рудки. А вон и стены Песочного городка показались.
– Боярин! Посол! Хотен Незамайкович!
Он оглянулся. Молодой Неудача, выпучив глаза, показывал ему плеткой в конец цепочки. Хотен прищурился. Из-за изгиба дороги показался всадник с поводным конем, скачет, чуть ли не сталкивая дружинников в кусты, обочиной. Что такое? Опять гонец от великих князей? Однако, чем ближе оказывался всадник, тем больше отвисала у боярина челюсть. Ибо сперва узнал он своих коней, Буяна и Белонога, потом, на всаднике, едва ли не лучшие свои кафтан и ватолу, дорожный плащ, а уж шапку, точно, самую дорогую в сундуке, наконец… Да, несомненно, это была она, Прилепа, верхом на Буяне, покрытом клочьями пены.
– Что это там за явление Христа народу? – полюбопытствовал за спиною Хотена Севка-князёк.
Едва не влетев в круп Чернышу, Прилепа натянула поводья, бросила их, подбоченилась и закричала:
– И куда ж ты это так торопишься, хозяин? Словно на пожар несетесь, ей-Богу! Я уж думала, никогда вас не догоню.
Хотен оглянулся. Десяток уже стоял, сгрудившись на неширокой дороге, и восторженно глазел на Прилепу. В свои тридцать с хвостиком она, и убрав волосы под мужскую шапку, не походила на хорошенького мальчика, а вот что жёнка, видно было за версту.
– А ты, я вижу, вконец опустошила нашу конюшню: бедный козёл один там скучает, – проворчал Хотен. Бросил быстрый взгляд на саквы Белонога. – Ага, запасной доспех, я вижу, прихватила… Вот что, доставай шлем, цепляй к нему бармицу и держи у себя под рукою. Встретим кого, или вот мимо Песочного проезжать будем, ты и надевай. И что-то я не помню, чтобы приказывал тебе со мною ехать.
– И не мечтай о том, чтобы я тебя одного отпустила! Чтобы оставила на Сновидку, зелёного этого лопуха! Вы оба, что один, что другой, без меня пропадёте! Как дождь пойдёт, не догадаетесь под плащ укрыться!
Стяговник захихикал. Вот так, слышал ведь скоморошину и не смеялся, а вот Прилепа его рассмешила. Хотен молча развернул коня и махнул правой рукой, показывая десятку, что надо продолжить движение. Выехал вровень с Севкою-князьком – тот поглядел на него сочувственно. Уж лучше бы посмеялся! Угрюмо пояснил:
– Прилепа, домоправительница моя, раскричалась тут, оттого что ведает свою вину. Вообще-то нрав у неё ровный.
– А если бы женился на ней, совсем бы села на голову, – озабоченно предположил собеседник. – Хотя…
– Хотя, если бы женился, глядишь, и не кричала бы так, – кивнул головою согласно Хотен и вдруг повеселел. – А ты, княже… Словиша то есть, от самовольства Прилепиного только выиграл. Отдаю тебе теперь своего Сновида, сына Прилепы от меня, будет тебе в походе оруженосец и слуга. Ты хотя кольчугу взял с собою? Ну, слава Велесу! В случае военной нужды прикроет тебя щитом. А сам парень, глядишь, и обтешется возле тебя. Я ведь его, пока не прибрачил, держу в чёрном теле.
Севка-князёк начал благодарить – чересчур пылко для полностью протрезвевшего человека, а Хотен, слушая его вполуха, подумал, что сам он от сумасбродного поступка Прилепы так уж точно выиграл. Предстояло ведь разыскать в Рыльске Чурила, подозреваемого в убийстве отца Неудачи, да и в деле Несмеяны, нюхом чуял это старый сыщик, тоже замешанного. А кто лучше Прилепы сумеет это сделать?
Глава 13 В плену по-разному бывает
Кончак отогнул войлочный полог левой рукой, вошел в вежу и быстро осмотрелся в её уютной утренней полутьме. Был он одет по-дорожному, явно торопился. Игорь догадывался, куда. Сегодня половцы поднялись ещё до света, долго возились и шумели, а с полчаса назад орда, остававшаяся в стане верховного хана донских половцев, с пением труб и под бой барабанов выступила в поход. Кончаку предстояло догнать её, возглавить и привести в тайное место сбора, где уже стояли основное его войско и дружины союзных половецких ханов.
После обмена приветствиями хан уселся на корточки напротив входного отверстия, то бишь на месте для почётного гостя, улыбнулся и заговорил первым. Говорил он на кыпчакском, чем вовсе не затруднял Игоря: за несколько дней плена князь вспомнил все половецкие слова, которые знал, и понимал почти всё, что ему говорилось. Сам же пытался объясниться на кыпчакском только в том случае, если убеждался, что собеседник-половец не понимает его русской речи.
Кончак сказал, что давно хотел спросить, зачем его кунак попросил Беловода привезти ему из Руси попа. Хотел спросить, да забывал.
– Я, знаешь ли, друг, не такой уж и богомольный, – осторожно ответил по-русски князь Игорь. – Мне поп не для себя нужен.
– Слава Тенгри! – снова улыбнулся Кончак. – Конечно, гость в дом – Бог в дом, как у вас на Руси говорят. Да и у нас гость в юрте – первый человек, и гостеприимство – святое дело. Но… Я уж испугался, что ты очень долго хочешь пробыть у меня.
Игорь и себе усмехнулся, чтобы показать, что оценил шутку. Кончак тотчас принялся уверять его, что не шутит: он тотчас бы выпустил приятеля и свата, будь его воля, однако не может этого сделать, пока не разойдётся ополчение, собравшееся со всей огромной Дешт-и-Кыпчак. А ханы сейчас пойдут на Русь, затем должны ещё вернуться, разделить по справедливости русскую добычу и полон, попировать вместе… Кончак сказал, что ему не удалось уговорить главного своего соперника, Кзу Бурновича, ударить сомкнутым кулаком на Киев, чтобы разграбить и сжечь города Русской земли. Кза и с ним многие приморские ханы пошли на Посемье, рассчитывая на добычу в Путивле и окрестных сёлах и городках. Он, Кончак, о том глубоко сожалеет, однако не смог переубедить могучего Кзу отомстить именно Киевской земле, где множество половцев прошлой весною погибли и где были убиты его, Кончака, сын Тарлук и великий хан Кобяк Карлиевич. И все послушали Кзу и восхвалили его за мудрость и назвали великим полководцем, когда Кза сказал: «Зачем трудиться осадою Переяславля и Киева, если на Посемье дружины избиты или у нас в оковах, а их жены и дети – готовый нам полон?» Трудно было возразить на столь разумную речь, и если часть ханов пошла всё же за ним, за Кончаком…
Князь Игорь, не дослушав, заскрипел зубами.
Кончак, по-прежнему улыбаясь, добавил, что перед тем, как отпустить Игоря, он должен решить вопрос о выкупе. Нет, речь идёт не о том стаде, которое он уже приказал отогнать удалому батыру Чилбуку. Ханы выставили русским князям требование выкупа за голову Игореву в две тысячи гривен, за прочих князей по тысяче. Выкуп огромный, кто спорит, даже и непомерный. Однако меньший нельзя было выставить: гривны должно разделить между главными ханами, потому что победа была совместной.
– Спасибо, друг, что хоть предупредил, – наклонил голову побледневший Игорь Святославович. – А попа я просил, чтобы детей наших обвенчать, как договаривались. Конечно, ты волен поженить их по вашим обычаям, я же не против. Однако для их душ будет полезнее, если и мой поп их обвенчает. И для моего Владимира полезнее, и для твоей Свободы, которой ведь жить придётся среди православных.
Кончак не стал возражать. Сказал, что свату любопытно будет узнать, что его войско проломит дорогу на Правобережье и Киев через Переяславль, где сидит общий их враг Владимир Глебович. Заявил, что оставляет в распоряжении Игоря своего сокольничего с пятью нукерами, всеми соколами и всеми остающимися в стане своими конями. Игорь может охотиться с ловчими птицами, когда захочет, сколько хочет и где пожелает. Разрешил бы и бить дичь из лука, да ведь у друга левая рука всё ещё болит. И он, Кончак, совершенно не боится, что друг его Игорь определит и запомнит место у речки Тора, где стоит его стан, чтобы привести сюда ратных. И если возникнет у его друга обычное для здорового мужа желание, достаточно приказать сокольничему – и приведёт ему сокольничий Бюльнар, ту плутовку, которую Игорь, наверное, запомнил, ту, из вежи на берегу Суурлия.
Тут, не дослушав Игоревой благодарности, хан легко поднялся на ноги, поглядел на друга смеющимися глазами и хлопнул в ладоши. Вошел нукер, подал господину с поклоном какую-то вещицу, завёрнутую в русское вышитое полотенце. Кончак полотенце развернул, позволил ему упасть под ноги на кошму – и протянул Игорю то, что тот уже никогда в жизни не чаял увидеть. Это была его любимая фляжка, отобранная Чилбуком при пленении, чуток только помятая и потяжелевшая.
– Доброе вино там, – пояснил хан уже в дверном отверстии вежи, открытом для него нукером, откинувшим полог. – И весь мой погреб твой. Сей муж тебе тож. Толмач. Показать винный погреб.
Кончак исчез. Игорь хотел было спросить его, удалось ли свату выкупить Владимира и как содержатся брат его и племянник, но посчитал зазорным бежать за ханом, словно надоедливый проситель. Не хотелось ему и наблюдать, как ускачет из стана Кончак в окружении своих нукеров. Куда как любопытнее и полезнее было бы рассмотреть половецкий войсковой обычай, когда отправлял хан в поход целую орду, но и тогда князь не покинул вежи. И не потому, что боялся заклятий половецких волхвов, шаманов, чьи завывания доносились до него прежде, чем прозвучала напутственная речь Кончака (Господи, до чего же похожа была на те, что он сам произносил!) и зазвучала походная музыка. А почему не вышел? Не захотелось – и всё.
За тонкой стеной вежи прозвучало негромкое «Айда!», после небольшой заминки глухо ударили копыта и вскоре стихли. Испарился и Кончак, стало быть. Солнце только поднимается сейчас над степью – тогда, быть может, стоит хлебнуть вина да лечь досыпать? Заснёшь тут – с такими новостями: Кза идёт на Посемье, Кончак на Русскую землю, и тем вроде бы одолжение ему, Игорю, делает! Нукер, оказавшийся толмачом, всё торчит в веже. Отчего не уходит? Игорь чувствовал, что приязнь, испытываемая им ранее к Кончаку и другим кыпчакам, такое себе незлое, даже благосклонное любопытство к их нравам и обычаям, что эти чувствования исчезли и едва ли восстановятся в его душе после освобождения. Хоть и добр к нему Кончак – кто и когда так вольно содержал пленника?
– Я вижу, ты не узнал меня, княже, мой господине…
Игорь прищурился, и не так по неясному в полутьме жёлтому лицу, как по белому кожуху с красной вышивкой и безупречному киевскому произношению русской речи узнал толмача, коего на поле битвы присылал к нему Кончак. Да, и в этом проявил свою щедрость к нему заклятый друг и сват. Хотя… В сегодняшнем походе он и без толмача обойдётся, потому что другим языком, языком огня и сабли, станет с русским людом разговаривать. А вот Игорю сей болтливый полукровка может пригодиться… Как же его?
– Лавр?
– Овлур по-половецким наречиям, княже, мой господине, Овлур Менгуевич. Я польщен, что великий князь запомнил моё ничтожное имя.
– Обращайся ко мне просто: «князь». Тебе Кончак приказал за мною присматривать – разве не так? И докладывать обо всём, что от меня услышишь?
– И не только мне приказал, но и сокольничему Буртасу. Только Буртасу сказал, что тот головой ответит, если ты сбежишь, а мне не грозил. Буртасу тебя приказно стеречь день и ночь, княже.
– Испить вина не хочешь ли, Лавор? – протянул ему Игорь флягу.
– Не стану я сего вина пить, великий княже, – зашептал вдруг толмач, помотав головою. – И тебе не советую. Шаманы могли туда своего зелья намешать, чтобы у тебя язык развязался, и ты о своих тайнах поведал. Тебе Кончак милостиво открыл свой погреб, так лучше я отведу тебя туда, чтобы ты сам выбрал себе пару лагвиц с добрым греческим вином.
– Какие там у меня тайны? О чем могу я мыслить сейчас, как не о попавших в беду родичах? Где Владимир, сын мой? Что с ним? Где брат мой Всеволод и племянник Святослав?
Толмач Лавор подумал. Князь всмотрелся в его лицо, расплывающееся жёлтым пятном, и вдруг ему любопытно стало, молод толмач или стар, умён ли – или просто по-восточному хитёр. Однако же, если Лавор и не побоится ответить на его вопросы, чтобы потом о беседе с пленником донести своему господину, ничего для себя опасного в собственном любопытстве Игорь не усматривал.
– Ладно, отвечу я тебе, княже. Думаю, что и великий хан не преминул бы ответить тебе, ежели бы ты его вопросил. Сын твой живёт в юрте в стане Вобурцевичей, в оковах, но его не обижают. Великий хан Кончак не успел договориться с Елдичуком о выкупе твоего сына, закончит торг уже после похода. Брат твой Буй-Тур сидит в яме у Кзы Бурновича, и в яме не сняли с него оковы, однако только его буйный нрав виною, что держим так крепко. Кза, однако, его, твоего брата-батыра, не заморит, потому что ждёт за него большой выкуп. А вот Алпар-батыр, хан ковуев, казнён позорной смертью. Думаю, уже отдал Богу душу, на кол посаженый, – и толмач истово перекрестился.
Игорь перекрестился тоже:
– Мир праху его. Впрочем, об Алпаре пусть у дяди моего Ярослава голова болит. А я зол на ковуев. Скажи лучше, как дела у племянника моего князя Святослава?
Лавор ответил не сразу. Сначала попятился почти к самому пологу, потом заговорил осторожно:
– Худы его дела. Полонил молодого князя Копти Улашевич, и его почти тотчас же весьма дорого перекупил мурза Алтын из задонских Улагаевичей. Ведь это его младшего брата Сарбаза князь Святослав, в полон взяв, обесчестил и искалечил. Мурза Алтын господина князя Святослава Ольговича судил и назначил ему казнь для знатных людей, без пролития крови. Я думаю, ещё жив твой племянник. Вчера под вечер был совсем ещё живой. Великий хан ездил к нему поговорить и меня с собою брал.
– Как же так? – удивился князь Игорь, у которого вдруг защемило в животе. – Почему он жив, Святослав, если повешен, как ты поведал?
– А хребет ему сломали, княже, не повешен он. Казнь почетная у кыпчаков, для самых знатных она.
– Ну, вы и дикари! – скривился князь.
– А чем русичи лучше? Вон ваш великий князь Святослав, твой родич, приказал же пленному великому хану Кобяку Карлыевичу отрубить мечом голову прямо у себя в гриднице, где пьют и едят!
– Поберегись, толмач! Если не замолчишь, смотри, чтобы тебе самому хребет не сломал! – тут князь замолчал надолго. Потом проговорил уже негромко, сдерживая себя. – Видно, недалеко отсюда вы с ханом Кончаком ездили. И ты, толмач, знаешь, где. Не проведёшь ли меня к племяннику?
– Пожалуй, что и проведу. Я ведь на тебя не сержусь за твои слова, ибо понимаю родственные чувства, – раздумчиво произнёс Овлур. – Сокольничий Буртас провожает великого хана до города Балина, а как вернётся, станет тогда за тобою по пятам ходить.
– Тогда пошли, Лавор.
Игорь повесил фляжку себе на пояс, и они вышли на яркий солнечный свет. Овлур поддержал для Игоря стремя своего вороного, щипавшего травку у вежи, и, взяв повод, повёл князя через стан. И не успели они, миновав вежи, выйти в чистое поле, как Овлур тоже оказался на коне, рыжем с белыми чулками, а повод его вороного коня – в руке у князя Игоря.
– Далеко ли? – полюбопытствовал князь, увидев, что Овлур поворачивает на запад.
– Не потратим и получаса, княже.
Слава Велесу всемогущему, Овлур не докучал Игорю в пути разговорами. А князю было о чем подумать. Если Кза пошёл с большими силами на Северщину, то не на Чернигов он повернёт, а именно что на Посемье, где города стоят пустые, без дружинников. Путивль, тот устоит, и лесные дороги на Новгородок-столичный там и без него догадаются перекрыть, однако сколько сел погибнет и сколько крестьян и горожан окажутся в степном полоне! Он молился Богу, чтобы его семья не высовывала носа из Новогородка и чтобы непутёвый зять его Владимир Галицкий не принял воеводство на себя и не наломал спьяну дров…
– А вот и примета, княже!
Игорь прищурился и увидел на ближнем зелёном бугре жердь, к которой, продолжая её, была подвязана другая, потоньше. На самом же верху трепыхался на ветру обрывок белой или добела выгоревшей тряпки. Не оглянувшись на толмача, ударил вороного в бока коленями. Большие чёрные вороны, лениво ворочая крыльями, поднялись в воздух и тут же опустившись, разместились полукругом невдалеке.
Молодой князь Святослав, в одной рубахе, грязной и в бурых кровяных пятнах, но в сапогах лежал на боку в двух шагах от приметы, на скате бугра, лежал, будто на колесе был растянут и снят с позорного колеса. Спешившись и подойдя поближе, увидел Игорь Святославович, что ноги у его племянника сыромятными ремнями подтянуты сзади к затылку, а лицо и руки обезображены и в крови.
Игорь пошарил на поясе, но ему оставили только маленький ножик, мясо за едою разрезать, да и тот валялся где-то в веже.
– Давай сюда саблю! – прорычал он с земли Овлуру, оставшемуся в седле.
– Не могу, княже, – услышал в ответ. – Да и не поможет уже ничто господину князю Святославу Ольговичу.
– Ты… что ли… дядя Игорь? – заговорил вдруг казнённый. – А попа… ты… мне привёз?
– Попа привезут через несколько дней, – отвечал Игорь. – Про тебя же я только сегодня узнал…
– Жаль… Тут, рядом, косоглазый сначала валялся, меня сторожил. Тот хоть зверей и птиц отпугивал… Исчез… Проклятые вороны… Правый глаз не выклевали ещё… Но не вижу… Кровь… Вода есть ли?
Игорь полил из фляжки, щедро обмыл лицо мученика и с бережением налил вина в кровавую дыру рта.
– Спаси тя Бог… Не щиплет… я и боли второй день не чувствую… противно только… Ночью крысы полевые прибегают, шуршат… Нос отгрызли… Нет попа… Дай хоть тебе, дядя… исповедуюсь…
– Я не имею права принимать исповедь и отпускать грехи, – сокрушённо покачал головой Игорь. Он уже не рад был, что приехал сюда. Есть вещи, о которых лучше не знать и которые, во всяком случае, лучше не видеть. Однако сказал он о другом. – Я и сам окаянный грешник. Тебе же не стоило, наверное, над тем половецким мальчишкой измываться.
– Тебе бабы по душе, а мне нет… Ты бодаешь себе просто, как сельский бычок, дядя, а мне утешнее было ещё и помучить… Думаешь, я один такой среди Рюриковичей? Меня иное тяготит… Всё ведь на меня свернёшь, что я в разгроме виноват… А про своего Владимира забудешь… А ты сам будто без вины?.. Отчего ты нас вслепую в степь повел… и ковуев-разведчиков не послушал?.. Что ж ты… подставу не распознал, военачальник хренов?.. Отчего не послал… за нами гонцов… чтобы вернуть к Суурлию? Отчего не приказал, когда мы возвратились, удирать… бросив добычу, хоть и на своих двоих… хоть и бегом, за стремена чужие держась?.. Ты, а не я… если по справедливости… если каждому по делам его… должен был валяться здесь… со сломанной спиной… И как тебя ко мне пустили, дядя? Почему я… почему не слышал, как звякают твои цепи…? Да ты в полоне ли или… или нарочно сдал… нас твоим приятелям-половцам?
Несчастный замолк и замер неподвижно, продолжая шумно, с хрипами дышать. Игорь перестал креститься и твердить Иисусову молитву, присмотрелся к страдальцу: не лучше ли будет попросить Лавора, чтобы придушил племянника? Едва ли удачна сия мысль: если не чувствует парень боли, конец его не будет тяжек. И недаром же сторож-половец оставил примету: дай Бог, ещё похоронят останки, пощажённые зверем и птицей, и не будет мятежная душа грешника Святослава летать, завывая, ночами над степью…
Игорь вздохнул. Перекрестился, прочитал молитвы, какие помнил. Молодой Святослав лежал неподвижно, однако по-прежнему ещё дышал.
– Пора ехать, княже, – напомнил Лавор.
Игорь кивнул. Тяжело поднялся с колен, огляделся. Поднял с травы фляжку, проверил, надежно ли заткнута пробка. Степь цвела вокруг первыми весенними цветами, в небе звонко выпевал свою бесконечную трель жаворонок. Вороны сидели на зелёной травке, пробившейся сквозь бурые плети прошлогоднего ковыля, и внимательно наблюдали за князем Игорем. Он в последний раз перекрестил племянника и подошел к вороному. Приметил, что на сей раз Лавор не сошёл с коня, чтобы придержать ему стремя.
Игорь самостоятельно взобрался на вороного, укротил его, когда конь попытался побаловать под чужим тяжёлым седоком. Что ж, сюда ехали они, держа напротив солнечного восхода, а возвращаться будут на восток, прямо под набирающего силу сверкающего Хорса, под светлое и пресветлое солнышко. Вон по тем следам, ещё заметным на примятой копытами траве. И не оглядываясь на просто немыслимое, несусветно позорное зрелище.
Было бы с собою хоть какое-то оружие, он в два сч1та справился бы с этим хлипким, в летах, толмачом, не побоявшимся, имея только саблю у пояса, выехать в степь наедине с ним, грозным и могучим князем. И тогда, забрав и второго, рыжего коня как поводного, повернулся бы он спиной к благодатному Хорсу, объехал бы стан на безопасном расстоянии и скакал бы на запад, пока не оказался бы в Русской земле. Однако… Беглец должен бежать и ночью, а по звёздам он, в отличие от покойного Рагуила, увы, пути не найдёт. Да и оружия никакого – чем кормиться по дороге? И левая рука всё ещё плохо повинуется… Одной же правой и этого Лавора не задушить…
– Княже, будь благоразумен, – раздалось из-за спины.
Видно, он насторожился и задеревенел, готовясь к броску, а половец, не будь дурак, заметил неладное. Игорь заставил себя расслабиться, навесил на лицо выражение печали и обернулся к спутнику. Оказалось, что Лавор отстал. Загородившись конём, он выпрямился в седле, положив руку на рукоять сабли, и глядел на князя с этой их, косоглазых, проклятой невозмутимостью.
– Чего ты испугался? – неискренне удивился Игорь. – Мы ведь возвращаемся в стойбище – или нет? Я вот думал, а отравлено ли всё-таки вино во фляжке?
– А я не прислушивался к вашей беседе, русских князей. Чужие тайны господ опасны для здоровья простого толмача. А вино лучше вылей, княже.
Пожалуй, несчастный племянник говорил с ним откровенно не потому, что был одурманен отравленным вином. Порочному юнцу нечего было терять перед смертью, и уж о его, старшего родича, благорасположении вовсе он не заботился. Нет, обвиняя дядю-военачальника, Святослав оправдывал себя. Хотя бы и перед самим собой. А вино… Зачем жалеть полфляги, если тебе открыт целый подвал? Князь отстегнул флягу, отвинтил крышку и наклонил посудину. Седой ковыль позади и справа окрасился тёмно-красными пятнами. Нет, это вино мало походит на кровь.
На краю видимой земли поднялись косые на ветру дымы костров, потом выглянули верхушки юрт с косыми же и загнутыми вниз, чтобы дождь и снег не попадали, а потому издалека похожими на кобыльи головы, кожаными трубами-дымоходами. Ещё ближе подъехать – и завоняет испражнениями кочевников, простодушно опорожняющих свои желудки вокруг стана.
Князь протянул руку к поясу и привычно провёл большим пальцем по крутой попке серебряной красотки, двумя ручками удерживающей горлышко утраченной и вновь обретенной заморской фляги. Приказал уже беззлобно:
– Веди меня прямо к винному погребу, Лавор.
Глава 14 Дорожные беседы
– Нет, мы не должны отрекаться, как Вани-дурани, не помнящие родства, от отечественных верований. И потому хотя бы, что они красивы, – заявил князь Всеволод, он же понарошку боярин Словиша Боянович.
– Да разве я с тобою спорю, княже? – пробурчал в ответ Хотен, в тот момент прикидывающий, успеют ли они доехать до Чернигова к обедне. Кажется, успевают…
– Я о чём, боярин? Я представляю Перуна не только грозным и скорым на расправу, но также сверкающим и блестящим, как его молния. А разве молния не прекрасна? Я думаю даже… Если бы не предок мой Владимир Святой с его скорым, грозным и поголовным крещением, у нас воспиталось бы поколение своих художников, резчиков и живописцев, кои создали бы прекрасные кумиры наших славянских богов, не хуже, чем у греков-язычников.
– Да? – и вспомнились Хотену единственные два греческих бронзовых кумира, виденные им в своей жизни. Одни киевляне по незнанию называют их медными, а другие – мраморными. Старый сыщик, не прочь скоротать нудную лесную дорогу, напомнил о них Севке-князьку.
Покойный верховный волхв киевский Творила в своё время, когда ещё не отказался от задумки передать свои знания и духовную власть именно Хотену, много рассказывал ему об этих кумирах. Будто бы Владимир Святой привез их из захваченного им греческого Корсуня, чуть ли не как приданое за царевной Анной. Вот эти два кумира и четвёрку коней, тоже бронзовых, он и поставил на Горе как знаки победы над греками, а когда была построена Богородица Десятинная, оказались сии греческие творения у неё на задворках. Волхв Творила говорил, что он, проверяя древнюю байку, согласно коей кумир-мужик изображает солнечного бога Аполлона, а баба с веретеном и штукою сукна в руке – богиню Клею, расчистил надписи на капищах. Так и есть. Аполин и Мусаклея.
– Конечно, пришлось твоему Твориле потрудиться, расчищая, и, надо думать, славно потрудиться, – ухмыльнулся Севка-князёк. – Благочестивые и мудрые наши киевляне приобыкли справлять большую и малую нужду под медным мужиком, а прекрасные и разумные наши киевлянки почему-то в убеждении пребывают: если разбить тухлое яйцо о голову медной бабы, куры станут лучше нестись.
– Помню, есть такие обычаи. К тому же благочестивым дуракам, протерпевшим всю долгую службу, ближе добежать до капищ, чем до церковного забора, – ответил с улыбкой Хотен. – Творила ругался и жаловался, что одной рукою приходилось зажимать нос. А вот четвёрку медных коней в Киеве любят. Говорят, будто в ночную грозу они летают над Горою, ржут, как дюжина медных труб, и принимают удары гневного Перуна на свои мощные груди.
– Как ты сказал, богиня названа в надписи – Мусикия?
– Если я запомнил правильно, княже, Творила говорил о Мусаклее. Он признавался, что об Аполлине слыхал кое-что, а вот о Мусаклее – нет.
– Тогда, возможно, это муса Клео, и выходит, что у нас, в Киеве, за Десятинной стоит кумир богини летописания, мусы Клеи. Я к тому кумиру присматривался, правда, издалека, и теперь мне кажется, что у этой отменно вонючей бабы в руке не веретено, как ты сказал, а писало.
– Летописание, княже, дело достойное. Творение великого отца Нестора русичи будут читать, пока не исчезнут с лица земли, да и нынешние летописцы делают важное и нужное дело. Великие князья, во всяком случае, внимательно следят, чтобы из их деяний в летопись вносились только добрые, и стараются для этого одарить летописцев. Мне о том рассказывал знакомый и тебе киевский тысяцкий, Петр Бориславович, сам летописец.
Севка-князёк расхохотался от всей души.
– Ты так важно говоришь об этом, толстошеий сыщик, выбившийся у доброго дяди моего Изяслава в бояре! Да только посуди сам: если мои родичи князья одаряют нынешних летописцев, чтобы они записывали о них только хорошее, а их врагов чернили, разумно ли тогда доверять теперешним летописям? Я не говорю о древнем Несторе, само собою. А тот тысяцкий, твой приятель? Ведь это же он, злобясь на тогдашнего великого князя, открыл сыновьям Юрия Долгорукого слабые места в городской стене! На его совести гибель и полон моих домочадцев, разорение, смерти и страдания тысяч киевлян, и знай, что я, как и все, каюсь, злорадствовал, когда его отравили на пиру, как и суздальского покровителя твоего Петрухи!
Хотен помолчал. В самом ли деле Прилепа распекала кого-то за его спиной или ему только послышался её звонкий голос? А Севка-князёк… Едва ли он хочет поссориться. Просто норов у него такой, что всех задирает. Неужто был таким и в ту пору, когда в него втрескалась юная боярышня Несмеяна? И тут вспомнилась Хотену игуменья Алимпия такой, какой была она в столь далёкие времена, что они и ему теперь кажутся временем его юности, хоть и был он тогда на самом деле, в отличие от Севки-князька, зрелым мужем. И многое вспомнилось ему из тех лет, связывающее его до сих пор грешными узами с белокожей красавицей-полуваряжкой, перехватило у него дыхание, и забыл Хотен Незамайкович, пожилой, всеми уважаемый боярин киевский, на каком он свете…
– Эй, боярин! Ты заснул?
– Задумался, княже, – виновато вздохнул Хотен, с сожалением наблюдая, как растворяется в воздухе соблазнительный образ юной, но бесстыдной Несмеяны, сбрасывающей с себя тёмное одеяние черницы Алимпии.
– Я говорил, что тысяцкого Петруху за дело отравили.
– Меня тогда не было в Киеве, но мне говорили, что Петр Бориславич перед тем крепко повздорил с твоим двоюродным братом великим князем Мстиславом Изяславичем. И вина была будто бы не Петра. А что стал доброхотом Глеба Юрьевича, то разве не в обычае твоих родичей, княже, сегодня воевать с каким-нибудь князем, а завтра вступать с ним в союз? А Петр Бориславич был человеком знатным и влиятельным. В молодые годы он на клиросе пел с великим князем Игорем Ольговичем, а потом многие годы служил твоему славному дяде Изяславу Мстиславичу, который так и не очистился от обвинения в убийстве Игоря Ольговича. Давай, чтобы не поссориться без толку, поговорим о чём-нибудь другом. Хотя бы и о языческих кумирах, княже.
– Или о летописании. Или и о том, и о другом. Я иногда прихожу на тот холм, где Владимиром было устроено большое капище, им же самим потом и разорённое. Я понимаю, что дерево, из коего были сделаны Владимировы кумиры, сгнило, но ведь Нестор писал по воспоминаниям людей, помнивших те события и поведавших ему, что у Перуна голова была серебряной, а ус золотым. Я часто пытался представить себе, какова была судьба того серебра и того золота, что сделали из него и принесли ли эти вещи счастье их владельцам.
Хотен тяжело вздохнул. В его жизни было серебро из клада Владимира Мономаха, откопанного им по поручению великого князя Изяслава, но это серебро, охранявшееся мертвецами-половцами, утекло у него между рук точно так же, как и другие заработки. А серебряная голова Перуна с золотым усом – если подумать, разве она кому-то мешала?
– Мне кажется, княже, что не стоило разрушать языческие храмы, сбрасывать в реку идолов и сплавлять по Днепру дубового Перуна даже и до порогов только потому, что Владимир сам принял христианство и насильно крестил в Почайне тех киевлян, что не успели убежать из города. Мне рассказывали, что в Риме и в Царьграде стоят себе спокойно на площадях идолы древних цезарей, кои все как один были обожествлены. Владимир же поступил, как ребенок, который, обрадовавшись новой игрушке, ломает и выбрасывает старую.
– Вот, вот! – весело засмеялся Севка-князёк. – Мы всё ещё дети-несмышленыши, тогда как римляне и греки – пожилые, мудрые народы. Однако ты ошибаешься, если думаешь, что на Руси все языческие храмы разрушены. Я уж не говорю о том, что невозможно срыть святые горы, осушить святые озёра и вырубить священные рощи…
– Вот рощи как раз повырубывали, – проворчал Хотен, однако Севка-князёк не услышал его. Он размахивал руками и пел, как соловей, который, всем известно, слушает только самого себя.
– …но есть и сохранившийся каменный храм. Чтобы попасть в него, нам надо было бы ехать от Киева почти точно на запад. Я не скажу тебе, в каком он княжестве и на какой реке он стоит, потому что местные язычники его прячут.
– Как можно спрятать каменный языческий храм, если попы теперь в каждом русском городе? – удивился Хотен. – А святые рощи как раз и вырубали, слыхал я.
– Храм стоит на лесной поляне, а ближайшим поп сидит в городке в десяти верстах и за добрые куны закрывает на местных язычников глаза. А те на всякий случай забрасывают хворостом единственную дорогу к святилищу, за два столетия успевшую превратиться в узкую тропинку, и разбирают хворост только однажды в году, на Большой праздник. Осенью, через три дня после православного Госпожина дня.
– Какой большой праздник? Творила не говорил мне о нём!
Хотен испытал тут чувство, похожее на ревность. Хотя… Он всё-таки не был посвящен во все тайны волхования, и едва ли мог старый Творила считать его стойким язычником. Вот если бы он согласился принять сан преемника верховного жреца и обучиться всем тайным премудростям… Однако жизнь Творилы, из года в год бесстрашно ожидавшего, что его схватят младшие дружинники князя и потащат к попам на расправу, не казалась Хотену привлекательной даже в самые чёрные часы его жизненного пути.
– Местные убеждены, что Большой праздник заставит уходящее лето снова вернуться после зимы. Для сего необходимо принести жертву, точно так, как это изображено на каменной стене храма, возведённого в незапамятные времена. Они убеждены, что в том году, в начале коего обряд не будет совершён, наступит вечная зима и люди начнут вымирать от голода… Вот! Я вспомнил, Хотен, кого ты мне напомнил, когда я у брата Рюрика впервые после многих лет увидел тебя – заматерелого, седого, почти без шеи совсем! Ты теперь похож на жреца, выбитого из известняка на стене того храма, звероподобного мужа, правду сказать, настоящего медведя!
– Спасибо тебе, княже, на добром слове! – склонил Хотен голову. – Однако всё же трудно мне понять, как сохранился тот храм в те времена, когда всё языческое безжалостно разрушалось.
– Разве я говорил, что он полностью сохранился? Христиане снесли три его каменные стены, а четвёртую оставили. Её-то как раз трудно было разрушить: это обтёсанная сторона огромной глыбы известняка, уходящей в каменный же высокий берег речки Лозовой… Вот (о Белее великий!), таки проговорился я! По преданию, попы пошвыряли камни в стену, содрали немного краски с вырезанной на ней святой картины, да на том и успокоились. Я даже подумал тогда, когда был там на Великом обряде, что слишком уж большой беды нападение попов тому святилищу не принесло. Ведь когда все четыре стены стояли, войти в храм и наблюдать святой обряд могли только те, кто помещался в его стенах, а остальные не видели, что происходит внутри…
– И толпились снаружи, как киявляне на Пасху у Десятинной и вокруг Софии, – подхватил Хотен.
– Вот, вот, только там дело происходило на большой поляне. А теперь уже всем, кто на поляне поместился, хорошо видно действо у каменной стены.
– Слушай, княже, нам до Чернигова остался самый нудный кусок дороги: сосна да песок, сосна да песок… Расскажи мне подробно, Велесом-богом молю, если не жаль тебе, и что на камне там вырезано, и что на обряде том делалось.
– Чего жалеть-то? А что донесёшь на меня, того я вовсе не опасаюсь. Не с руки тебе, боярин, в блюстители православной веры записываться. Ты уж прости меня, это всё одно, что со свиным рылом да в колашный ряд! Сам ведь дружил с волхвом, а теперь живёшь в блудном смешении с красоткой младше тебя лет на тридцать, старый ты медведь!
Вспыхнул Хотен и, пришпорив ни в чём не повинного своего Черныша, выскочил вперёд. Не оборачиваясь, поблагодарил ядовито:
– Спасибо тебе моё огромное, княже Всеволод Ростиславович! Не очень-то и нужно мне тебя выслушивать, а захочу узнать, о чём твою милость спрашивал, так лучше сам на место съезжу. Ведь это святилище под селом Ямполем, в Теребовльском княжестве, от стольного города Теребовля верстах в тридцати – разве не так? Вспомнил ужи сам…
Тут же Севка-князёк снова нарисовался слева. Хлопнул строптивого слушателя по плечу, скривился, удивлённо посмотрел на ушибленную ладонь (Хотен не счёл нужным ему докладывать, что после неких прискорбных событий предпочитает не выходить из дому без кольчуги, а в дороге так уж точно не снимает) и заговорил как ни в чём не бывало:
– Рассказывают, что в древности на тот обряд олень сам выходил из лесу к храму, чтобы его принесли в жертву. А после того, как некие невежи очередного оленя перед обрядом обидели, тот олень не остался у них и исчез в лесу. Старцы градские долго совещались с тогдашним жрецом, и решено было вместо оленя принести в жертву его замену, красного быка. Зима в тот год выдалась нестерпимо долгой, но лето, хоть и короткое да холодное, всё-таки наступило. После олени ни разу больше не приходили.
– А чем их обидели те невежи, княже?
– По-разному говорят. Слыхал я, что из лесу выходило два оленя, а не один. И одного приносили в жертву, другого же по обычаю жрец отпускал. А невежи будто бы закололи и второго. А Весёлка покойный мне рассказывал, будто бы олень приходил всегда один, да как-то припоздал, его не дождались и закололи быка – а олень посмотрел-посмотрел, развернулся, ушёл в лес, и больше уже олени на праздник не приходили.
– Весёлка-скоморох? Знал я его…
– Ну да, у него же та книга Боянова хранилась, что ты её потом у меня силой отобрал… Несмеяну увёл, книгу заветную отобрал – и почему это я с тобою ещё разговариваю, сыщик?
– Почему? Да скуку дорожную разгоняешь, только и всего… И как это я у тебя девицу увёл, если ты сам позволил ей уйти в монастырь? А книга моя была, собственная, мне моим духовным отцом старцем завещанная…
– Да Бог уж с тобою, толстошеим везунчиком! Я на тот праздник со старым Весёлкой ездил, а он ехал с учёной козой, которая за нашими клячами бежала, словно охотничья собака. Я в те поры до того древней нашею верою увлекся, что даже крест с шеи снял да выбросил, ходил вместо него со змеевиком. А тогда, когда мы до того святилища добрались, я сперва, ещё до обряда, стену ту сохранившуюся добре рассмотрел, а потом и весь обряд наблюдал – и не вру, ей-богу! – с трепетом сердечным. На стене же было вырезано и раскрашено красками вот что. Если справа начать рассматривать, то стоит там олень, красной краской, суриком подкрашенный: пришёл только что, стало быть, на заклание. Далее на коленях стоит жрец, тот самый, на тебя, сыщик, и на медведя разом похожий, и протягивает перед собою чашу с красной же кровью, оленьей, понятно, сцеженной из уже заколотого оленя. А предлагает он чашу святому дереву, и на дереве том сидит петух – тот самый святой петух Будимир, что нам время жизни нашей отмеривает.
– Затейливо, затейливо… Любопытно всё же мне, что было вырезано или нарисовано на других стенах святилища, попами разбитых.
– А я могу сказать, мне Весёлка рассказывал, а он ещё в молодые свои годы от старцев тамошних слышал. Будто бы прямо напротив были вырезаны селяне, взявшиеся за руки, – смотрят на обряд. Справа на стене – тот же жрец, но уже в княжеской шапке, две жены его и дети. А слева – скоморох с козой: он на козу замахивается, хочет заколоть.
– Что-то не пойму я, при чём тут скоморох…
– А ты поймёшь, когда я про обряд подробно расскажу. Деялся он прямо под священной стеной, и всё совершалось именно так, как на стене. Заранее вкапывали святое дерево, сухую липу, украшали её злачёными и серебряными листьями, подвешивали на ветви яблони и груши, репки, редьку и луковицы. А на толстую ветвь привязывали за ногу петуха. Жрецу подводили быка. Он же, называя быка оленем, сначала восхвалял его за то, что тот добровольно пришёл на заклание, а потом закалывал его большим ножом с серебряной рукоятью. Подставлял под струю крови чашу, наполнял её и становился на колени перед святым деревом. Он ругал зиму, восхвалял благодатное лето, богатое плодами земными, столь необходимыми человеку, просил петуха Будимира не проспать конец зимы и разбудить лето, а потом просил святое дерево, чтобы мать сыра земля была добра ко всему посеянному и посаженному и дала щедрое лето. Ну, примерно так… Потом он выливал кровь под корни дерева, чашу вешал на конец толстой ветви и резал петуха. До сей поры народ одним ухом слушал жреца, а другим к петуху прислушивался. Если петух во время речи кукурекал, год обещал быть добрым и богатым, если молчал – таким-сяким, обычным, если (не дай того Боже!) начинал кудахтать, как курица-несушка, – жди большой беды.
– Я так и не понял, что делал там скоморох…
– Неужели ты не знаешь, что скоморох на всех обрядах передразнивает жреца, чтобы закрепить силу его молитв? Вот и Весёлка во время обряда плясал вокруг жреца, все его действования перекривляя, а потом, когда жрец уходил, а заколотого быка утаскивали, сам становился на его место, а на место оленя приводил свою учёную козу Маринку. Он повторял все, что делал и говорил жрец, только гнал ужасную похабщину, а я по молодости и неопытности не всё и понимал. Народ, тот хохотал, а когда Весёлка стал просить бедного Будимира, который, безголовый, свисал со святого дерева на верёвке, которой был привязан за ногу, чтобы тот не будил слишком рано любовников, тут и я засмеялся. Потом Весёлка с жуткими ужимками понарошку заколол козу, а она понарошку сдохла. Он давай её оплакивать, а Маринка вдруг как заблеет. Ожила, вскочила и ну танцевать! К тому времени мясо быка уже варили в двух огромных котлах, а на костре под одним из них, тоже по обычаю, Весёлка поджарил петуха. Мне довелось попробовать и жертвенного быка, и жертвенного петуха, а заливалось всё это крепчайшим, нарочно для Великого праздника сваренным канунным пивом.
– Выходит, княже, что у тебя на шее и теперь нет креста?
– Есть, есть на мне крест, я завёл себе новый нательный крестик, иногда теперь и в церковь захожу. Ходил искать в Софии и в Десятинной икону или на стене изображение святого Евпсихия (Евпсихий моё крестильное им), да не нашёл. Я ведь испытал глубокое разочарование в язычестве после того, как побывал ещё на одном тайном обряде. После того, как увидел человеческое жертвоприношение… То есть младенцев. Не скажу тебе, где это было. Мало ли что. С тех пор я о язычестве продолжаю говорить хорошее и уважать его как религию наших предков, но держаться от него, настоящего, стараюсь подальше. А поскольку ни во что не верить для человека невозможно… Кто его знает. Вон и собака верит хозяину, считает его то ли богом своим, то ли матерью-сукой. Вот таким образом принялся я толкаться в церковные двери, продолжая много хорошего знать и думать про отечественное язычество.
– Так скажи, княже, вдобавок что-нибудь хорошее про веру предков наших. Впрочем, можешь и не говорить… Вон епископа Ростовского Фёдора, племенника Петра Бориславича, замучили за то только, что ратовал за разрешение есть мясо на Пасху и Рождество.
– Да твой Федорец погиб совсем не за язычество своё: не сумел повести себя с князем, возгордился вельми… Да и не предвидел, что князья выдадут его головой греку-митрополиту Константину. Сам виноват, что позорно погиб. А про язычество я много думал и, скажу я тебе ещё раз, нашёл в нем много доброго. Начать хотя бы с того, что новая вера – он ведь чужая, и не греческая даже, а иудейская. Наши русские христиане не знают даже, и ты, небось, не знаешь, что все пророки были правоверными иудеями, такими же, как наши киевские иудеи?
– Да брось ты! Неужто и царь Давид?
– В том-то и дело! Славный певец, сочинивший «Псалтырь», да и сын его, премудрый Соломон, тоже иудей был. Великий Соломон, которого у нас помнят по его смехотворным делишкам с Китоврасом, он ведь создал «Песнь песней». Доводилось ли тебе читать, Хотен?
– По-гречески не разбираю, – чопорно ответил славный сыщик, сам не понимая, на что обижается. Было бы на что…. Сей Севка-князёк всю свою жизнь пробездельничал, даже на войну ездить боялся, вот и начитался книг до того, что вот-вот премудрость из ушей полезет.
– Да есть в книгохранительнице Ярослава Мудрого, что в Софии на хорах хранится, и «Песнь песней», перетолмаченная по-славянски. Дважды чёл – и не верится мне доныне, что там о любви души человека и церкви поётся, а не о сладкой человеческой любви. Впрочем, я не богослов. Однако мне кажется, что греческие отцы церкви перемудрили-таки. Если уж у вас вера новая, основанная на учении Иисуса Христа, так зачем почитать священными и святые книги иудеев? Отсюда и путаница, русичу, скажем так, малопонятная. Взять того же Иисуса Христа. Тут Севка-князёк, до того оравший так, будто в дремучем лесу наедине с Хотеном ехал, а не большой черниговской дорогою, малолюдной только из-за военного времени, наконец-то понизил голос.
– Даже взять Иисуса Христа. Чего он хочет от человека? То говорит: если тебя ударили по левой щеке, подставь правую. Это мне как раз понятно. Если бы все сему правилу следовали, сначала прекратились бы войны, а потом и драки. Разве что на Масленицу остались бы кулачные бои. Но в том же Евангелии написано: «Не мир я принёс в мир, но меч». Как мне, русичу, с молоком матери впитавшему обычай мести, теперь решить, когда я должен подставлять врагу вторую щеку для оплеухи, а когда выхватывать меч?
– Любой поп тебе скажет, княже, что не рассуждать надо, а веровать слепо, по-детски, – проворчал Хотен. Он понимал, что старец его покойный и митрополит Клим, человек ума более лукавого, чем старец, но веры столь же несомненной и искренней, сумели бы развеять недоумение князька-самоучки, и жалел, что сам в своё время не задал своим учёным знакомцам такой вопрос. Однако для этого пришлось бы прочесть «Евангелие Апракос» с начала до конца, а на такой подвиг у Хотена не нашлось времени даже и тогда, когда ему удалось выменять эту книгу за две гривны кун, и она оказалась в его распоряжении на полке рядом с Бояновыми песнями.
– Хорошо, хоть ты не поп… А старая славянская вера, она привлекает сердца уже и тем, что не чужая, а своя, от предков. И она очень понятная, хоть и не простая. Что может быть естественнее, чем почитание Хорса-Солнца, всему на земле дарующего жизнь? А вера в Род и рожаниц, без которых не продолжилась бы жизнь человеческая? И что ещё мне нравится в язычестве, так это…
– О! Прости, княже, только давай вернёмся к этой весьма любопытной для меня беседы попозже. Сейчас мы увидим первые курганы, и я бы очень хотел, чтобы мы не с тобою говорили о столь опасных вещах на улицах Чернигова, где и у стен есть уши. Скажи лучше, ты ведь явишься к великому князю Ярославу Всеволодовичу под своим настоящим именем?
Издалека всегда яркий, расписной Чернигов показался на сей раз Хотену словно бы поблекшим. Глаза к старости ослабели, что ли?
Глава 15 Кончак под Переяславлем
Великий хан Северной степи Кончак неуклюжей походкой человека, всю жизнь пешком ходившего только по юрте, подошел к шаману, упавшему без памяти чуть ли не головой в костёр, и беззлобно подтолкнул его под ребра носком сафьянового сапога. Кожух на шамане дымился, распространяя острую вонь, а одна из шумящих деревянных подвесок, которыми был он обвешан от шеи до пят, уже почернела и готова была полыхнуть пламенем. Шаман пошевелился и пробормотал неразборчивое.
– Так что удалось увидеть тебе, славный Куль-оба, пока летал ты соколом по поднебесью? – благосклонно вопросил Кончак.
Шаман Куль-оба рывком откатился от огня и сел на корточки. Не сбрасывая дымящегося кожуха, он застыл неподвижно, и маленькие тусклые глазки его смотрели словно бы сквозь хана, по-прежнему созерцая недостижимое для других людей. И вдруг запел-запричитал:
– В сокола превратился дух мой, и неутомимы были крылья мои. Сердцем замирая от священного ужаса, в оперении соколином я высоко поднялся. Месяц-отец светил мне ясно, и увидел я под собою всю землю: спереди, где восходит Мать-солнце, слева, где Мать-солнце в полудне, позади, где заходит Мать-солнце, справа, где ночь темнеет, – всюду проникли мои зоркие очи. И взмахнул я крыльями, чтобы развернуться в полёте, и увидел там, где Мать-солнце заходит, великую и широкую реку Данапр, несущую в море ужасающее множество воды-губительницы, и за нею огромное постоянное стойбище урусов, людей воды, Кыов. Тёмен и страшен был Кыов, спал он. Ужас свой смелостью степного сердца побеждая и Великого Тенгри на помощь призвав, всмотрелся я в берега великой реки и увидел на высоком, правом берегу три дружины урусов, людей воды. Поблескивая острым оружием, у костров они сидели, у костров, над которым варился их пилав, люди воды сидели. Тут урус-шаман зловредно плеснул в костер растопленного бараньего жира: огонь выплеснулся вверх, достиг высокого неба и опалил мне крылья. Так я низвергся вниз и очутился на малом курилтае, великий хан Кончак.
– Мы наградим тебя после курилтая, а теперь больше не нуждаемся в тебе, Куль-оба, – милостиво произнёс Кончак и хлопнул в ладоши.
Тотчас же два нукера, почтительно взяв шамана под мышки, вынесли его, звякая оружием, из освящённого костром круга. Кончак же, не торопясь, вернулся на свой ковер, уселся и обратился к собранию ханов, спрашивая, не желает ли кто высказаться по поводу увиденного шаманом.
Высказаться пожелал Суу-тегин, властелин орды, кочующей у самого Лукоморья. Поглаживая ус, он осведомился, можно ли доверять свидетельству шамана, если он приписывает урусам, лесным людям, обычаи, присущие обычным людям, кыпчакам. Видывал он шаманов-урусов, попов греческой веры, и не стал бы такой безумный человек приносить бараний жир в жертву благодатному огню.
Кончак, прежде чем ответить, счел нужным приятно улыбнуться. Пусть темновато, и не каждый из ханов увидит его дружественную улыбку, пусть. Раз улыбается, значит, хозяин. Он сказал:
– Великий и прославленный храбростью своею Суутегин! Шаман Куль-оба не покидает пределов моих кочевий, чтобы лишние знания не нанесли ущерба его чудесной проницательности. Я не беру его с собою в походы, и он не знает, что через широкий Данапр есть удобные броды, и что я, великий хан, плавал по нему на ладье, и губительная вода меня не пожрала. Однако то, что Куль-оба увидел с помощью благосклонных к нему духов, полностью совпадает с донесениями моих разведчиков. Конязи урусов стоят станами у переправ через широкий Данапр, однако сами на левый берег не переправляются. Нам ничто не помешает совершить набег на Переяславльский улус, владение личного врага моего конязя Владимира Глебовича, и взять большую добычу и большой полон.
– Значит ли это, великий воин и могучий властелин Кончак, что ты предлагаешь нашему храброму и великому войску идти не на богатый Кыов, а только разорить всего лишь один улус многочисленного народа урусов? – хмуро спросил хан Турундай, успевший привести для битвы с Игорем свою дружину из далёких кочевий у реки Итиль, шириной, говорят, не уступающей Данапру.
Кончак спокойно объяснил, что Кыов – город очень большой, и укреплён столь хорошо, что без осадного снаряжения, с одними саблями и луками, его не взять. Когда кыпчаки перекочевали сюда, Кыов уже стоял и был древен и могуч, и за все эти годы кыпчакам только один раз, пятнадцать лет тому назад, удалось ворваться в него и пограбить – но только потому, что они были в союзе с конязями урусов, воевавшими против великого конязя, что сидел в Кыове. Тут Кончак помолчал и не без яда добавил:
– Конечно, если бы великий хан Кза не убедил бы на великом курултае большинство ханов, что нужно идти на Посемье, и если бы мы двинулись в поход на следующий же день после победной битвы, перехватывая по дороге купцов и опережая всех вестников, мы могли бы успешно пограбить окрестности Киова. А если бы Великий Тенгри помог, проломили бы стену торговой части Киова, Подола, не столь укреплённой, как город на Горе. Тогда добыча была бы столь огромной, что её воспели бы гудцы наши.
– Наши, кыпчакские, гудцы воспоют любую нашу добычу, даже двух тощих кляч, – раздался голос из темноты, и собравшиеся вокруг костра ханы пристойно посмеялись.
Кончак не сумел распознать по голосу, кто именно из ханов пошутил, однако он тоже вежливо хихикнул. Потом продолжил:
– Что толку вспоминать, каким жирным был тетерев, если он вырвался из силка? Ведь упрямому Кзе удалось увести большинство кыпчаков грабить бедные, затерянные в лесах городки на севере. А ещё мы к конязям Уруской земли послали купца, предупредив, что идём на них! Коварные и бессовестные урусы только посмеялись, наверное, над нашим степным благородством.
– Как ты предлагаешь устроить наш совместный набег, могучий и хитроумный Кончак? – степенно спросил хан Темирбий, предводитель Чарговой чади.
– Может быть, я снова разочарую вас, могучие ханы и славные храбрецы, но я предлагаю надёжный и наиболее безопасный способ набега. Мы ведь только что добились великой победы над урусами, о которой уже сложили песни наши гудцы, а им на сей раз и привирать ничего не пришлось. И не хотелось бы случайной неудачей испортить впечатления от нашего блистательного успеха в Дешт-и-Кыпчак и во внешнем мире, от Понтийского моря и до Аравийских пустынь. Поэтому я предлагаю внезапным ударом захватить предместье Переяславля, защищённое острогом, а на крепость и не замахиваться – разве что нам вдруг повезёт, и мы сумеем ворваться в город через незакрытые ворота. Если мы возьмём в правильную осаду крепость Переяславля, то можем дождаться на свою голову те дружины урусов, что выжидают за Днепром. Уж не напоминаю вам, владетельные ханы, что у нас этой весной нет осадных орудий.
– А почему ты думаешь, славный Кончак, что те урусы, за Днепром, не придут на помощь Переяславлю? – спросил голос из темноты. И на сей раз Кончак его узнал: то был голос батыра Копти, воеводы и представителя хана задонских Улашевичей, старца Тобрука.
– Их дружины встали далеко от Переяславля, у Треполя, и, если вздумают переправляться, мои разведчики сумеют нас предупредить. Вообще же уруские князья весьма разобщены и враждуют между собою. Посему скорой помощи коняз Владимир Глебович, что сидит в Переяславле, не дождётся. Если же не станем осаждать город Переяславль, то для разграбления его посада не понадобится всё наше войско. На Переяславль поскачут со мною вместе только личные враги конязя Владимира, те ханы, дружинам и кочевиям которых он больше навредил. Кто из вас хочет отомстить? Верно ли я догадываюсь, что это могучие ханы Тузлук и Темирбий?
– Да, – сказал хан Темирбий, – я с радостью воздам этому псу сторицею.
– Верно, славный Кончак, – сказал Тузлук. – Я помчусь так, что уши моего коня со свистом разрежут воздух.
– Вы тотчас же отправляетесь в путь, я поведу вас Золозным шляхом и выведу точно на Переяславль. Мы обойдём его с севера и ударим со стороны Кыова, будем сразу жечь ограду и вырубать ворота острога. А к вам, ханы, к каждому из вас после курултая подойдет мой проводник, который выведет каждого из вас на городок урусов на Суле – на Ярышев, Снятии, Песочен, Ромен, Лубно и Лукомль, и все сёла вокруг каждого – ваши! Я хочу очистить Сулу от урусов, я хочу приблизить свою большую мечту: чтобы только кони кыпчаков пили из этой славной реки! Если не удастся сжечь остроги и взять города с ходу, посылайте тех же проводников за помощью к нам, под Переяслав, а потом на Залозный. На Залозном шляху купцов не трогаем, договорились? А встречаемся все в моём улусе, только не здесь, тут уже и травы не осталось, а у Шарукани, десятью верстами ниже по течению Донца. Там и добычу справедливо разделим, и попируем вместе, отдохнём. Все ли согласны?
– А кому достанется богатый Глебов? Или ты забыл о нем, славный Кончак? – спросил старенький Башкорд.
– На месте Глебова теперь пепелище, почтенный сединами хан, – с необидной усмешкой напомнил Кончак. – Бывший мой союзник коняз Игорь, что сидит сейчас у меня в плену, сделал с Глебовым и с урусами, его жителями, то же, что я предлагаю сделать с городами урусов на Суле.
– Странно, как это я забыл…
Переждав хихиканье ханов – почтительное и недолгое (любопытно ведь, как он поделит города Посулья?), Кончак продолжил:
– И вот как я позволил себе прикинуть предварительно, кому какой город достанется…
Два дня бешеной скачки по утоптанному, как глиняное блюдо, и широкому, как река Сула, Залозному шляху, и вот уже передовой разъезд Кончака под стрелами противника обкладывает хворостом и соломой ворота переяславского острога. Как ни торопились, но весть о подходе половцев, особыми густыми дымами поданная по цепочке тревожных вышек, намного обогнала кыпчакских коней.
Кончак на расстоянии, не позволяющем стреле из самострела долететь до него, огляделся, нашёл среди густо осыпавших поле курганов достаточно высокий и с плоским верхом. Судя по всему, курган давным-давно, во времена незапамятные, раскопан степными шакалами, осквернителями могил, однако великий хан пробормотал, склонив голову, слова извинения перед неведомым батыром, лежащим здесь, прежде чем заехал на курган с подручными гонцами и жестом попросил ханов Тузлука и Темирбая последовать его примеру. Отсюда стычка у ворот острога была хорошо видна. Просматривались и выходившие в посад ворота города, в которые протискивался со скотиной и пожитками посадский народ, торопящийся укрыться за городскими стенами. Людей и скота в городе успело скопиться уже столько, что купола и расписные крыши Переяславля начали таять в беловатом тумане. Кончак сердито хмыкнул, подозвал нукера и приказал поставить самострельщиков на соседнем кургане. Пусть бьют в створ городских ворот и не дают уходить законной добыче кыпчаков!
Ворота острога уже пылают, и стены острога занимаются ещё в трех местах, однако над стенами рядом с языками пламени поднимаются в небо и белые облака пара: это горожане обливают водой стену изнутри. Кончак всё щурится, всё пытается рассмотреть, не блеснул ли где на забороле городской стены золочёный шлем. Очень ему хотелось бы выманить конязя Владимира если не в чисто поле, то на улицы пылающего предместья – это уже когда удастся прорваться в острог.
И не только походный недосып мешает сейчас думать кыпчакскому полководцу, его злит постоянный и частый гул уруских колоколов. Это шаманы урусов призывают сейчас на помощь своего бога и малых святых-боженят, да только что-то не часто их волшебство помогает. Какой плач, какой стон стоял над кыпчакскими кочевьями, когда уруские шаманы заставили Чёрного Змея почти полностью поглотить Солнце-Жену! Однако перемудрили уруские шаманы, и беда оборотилась и пала на головы самих урусов – да ещё какая! И сейчас волшебство не поможет им, ведь Кончак замечательно продумал набег и заручился поддержкой Великого Тегри-Неба и Умат Матери-Земли.
Жидкая ограда острога надёжно горит в двух, по крайней мере, местах. Вот оно! Горящие ворота острога распахиваются, и появляется в них всадник в золочёном доспехе и алом плаще. С ходу обнажает сверкающий меч и давай рубить кыпчаков, подносчиков хвороста. Кто отбивается, кто неподвижен остаётся на земле… Спите спокойно, батыры, вы будете похоронены по обычаю предков, а семьи ваши получат вашу долю в добыче. Кончак считает теперь, сколько копейщиков выехало сейчас из города с конязем Владимиром… Тридцать пять, тридцать восемь… Вся дружина?
– Могучий Тузлук, бери своих батыров и ударь в правый пролом, а ты, мощный Темирбай, в левый! Отсекайте урусов от городских ворот! А мои копьеносцы переведаются с конязем и его шайкой.
– Не убивай конязя, Кончак! Оставь мне, – обернулся на скаку, оскалив зубы в улыбке, темнолицый Темирбай.
Тузлук и гонец уже скатились с кургана.
И вот он, прекрасный миг! С трёх сторон, из-за трёх холмов с визгом и гиком выплеснулось три волны кыпчакской конницы, две ватаги, проскакав сквозь огонь, проломали стену острога и проникли в предместье, а третья, ощетинившись копьями, вонзилась в кашу из людей и лошадей, кипящую у острожных ворот. В остроге поднялся крик, едва ли не заглушивший набат. Трещат копья! Немногочисленные урусы-копейщики сразу же оказались притиснутыми к стене. Вот первое кыпчакское копье достает конязя Владимира, и он роняет свой сверкающий меч. Конечно, находится нукер-урус, который прикрывает его грудью, и Владимир отступает сквозь обгоревшие обломки ворот в острог. Ему дают другой меч, он вяло отмахивается, однако копейщики-кыпчаки снова напирают, и Владимир получает второй удар копьём. Кончак успевает увидеть, как острие копья исчезает в кольчуге конязя, вдавливая её кольца в тело… Пожалуй, Владимир обречён.
А подумать, так ведь сам виноват, что держится уруского обычая. Он ведь военачальник, полководец. Ему надлежит обдумывать происходящее на поле битвы и изобретать ловушки для противника. А о чём можно думать, когда ты выбиваешься из сил, орудуя тяжелым мечом, и что можно рассмотреть на поле боя, когда твои глаза заливает едкий пот, а ты только и знаешь, что увертываешься от оружия противника? Кстати, отчего же сам он, Кончак, удобно и в безопасности наблюдающий сейчас за ходом боя, не делает своей работы полководца, почему не думает? Тридцать-сорок человек – это не дружина для такого большого города и это не дружина для столь воинственного молодого князя. Значит, не все выехали вместе с ним, значит, остальные побоялись… Однако урусы – народ странный, способный чуть ли не одновременно и на скверные, злые дела, и на добрые, обеспечивающие человеку спокойную, сытую жизнь на том свете… И каяться любят, признаваться в своих злых делах своим «шаманам».
Уже согнул палец Кончак, чтобы подозвать предпоследнего остающегося возле него гонца и передать через него приказ отсечь раненого коняза от крепости, когда понял вдруг, что опоздал: городские ворота распахнулись, и оттуда вырвался отряд тяжеловооруженных дружинников. Закованные, как и их кони, в железо, с уставленными грозными копьями, они с пугающей Кончака быстротой проскакали по главной улице посада, отбрасывая в стороны и давя копытами увлечённых грабежом и полоном кыпчаков, и ввязались в свалку вокруг конязя Владимира за воротами острога. Видно было, что из города на сей раз выехали матёрые, опытные мужи. Споро окружили они своего конязя, бессильно поникшего в седле, а двое ратников, не обращая внимания на осыпавшие их сабельные удары, подхватили уже обречённого, казалось, на смерть в бою или плен Владимира под руки, другие, работая мечами, прикрыли их щитами. Теперь дружина урусов, в короткое время заметно поредевшая, начала отступать по главной улице предместья к городским воротам.
Кончак и сам не заметил, как очутился у тлеющих обломков ворот предместья. Слева ударили и стихли копыта, упала тень, и голос Темирбия произнес:
– Ещё осталась возможность ворваться на плечах урусов в крепость.
– Нет смысла, – ответил Кончак, не отрывая глаз от схватки. – Наших слишком мало. Пусть лучше займутся добычей и полоном, а то, я вижу, бабы начали уже разбегаться. Нет, ты лучше скажи мне, славный Темирбий, почему у наших воинов храбрости достаточно, однако нет такой стойкости, как у этих урусов?
– Я думал над этим, великий хан. Воину-кочевнику всегда есть куда отступить, и он знает, что в случае беды может увести в другое место свой скот и семью. Урусы же с дикарским упрямством поселяются навсегда в своих городах и селах, обнесенных жидким частоколом, отступать им некуда из-за их же глупости – вот и бьются насмерть. А конязю Владимиру не выжить после трёх ранений копьём.
– Трёх? О… Разве что урус-шайтан поможет. Мне не нравится, что наши воины гибнут в предместье под стрелами урусов, которые снова собрались на заборолах города. Эй, нукер! Скачи к самострельщиками, пусть бьют теперь по заборолам, не давая высунуться лучникам.
Через полчаса, послав гонцов снимать разъезды разведчиков возле днепровских бродов, Кончак приказал воинам, выгнавшим полон и захваченный скот из пылающего предместья, отступать по Залозному шляху. Сам же с основными частями дружин готовился отправиться вслед, чтобы прикрыть полон от возможного преследования. Разведчики должны были донести, если конязи, стоявшие на том берегу Днепра, вопреки ожиданиям, всё же переправились, однако в чужой земле надо быть готовым к любым неожиданностям. А вот и очередная, кажется…
Скачет к нему гонец, вот только не понять, откуда. Слезятся и горят у Кончака глаза, как и всегда, когда не выспится, и не может он по узорам на кожухе и малахаю определить, из какой орды гонец.
– Великий хан, вечно живи! Меня послал могучий хан Елдичук из-под Римова. Ничего не может сделать там Елдичук. Просит помощи или совета.
– Подробнее скажи, воин.
– Урусы успели подготовиться, великий хан. Они очистили и сами сожгли посад, а теперь отбиваются с городской стены, не давая нашим воинам к ней подойти.
– Какая там стена? Обычная деревянная или двойная, в середине забитая глиной и землей?
– Не поведал мне сего Елдичук. Однако, на мой взгляд, обычная бревенчатая.
– Поменяй коней у моего конюха и возвращайся к Римову как сможешь быстро. Скажи хану Елдичуку, чтобы никого не выпускал из города и ждал меня… Постой! И чтобы к моему приезду раздобыл два больших бревна. Если не найдёт готовых в посаде, пусть воины срубят и обтешут две высоких сосны. Вот теперь скачи к моему конюху.
Кончак смежил горящие на ветру глаза. Надо было решить, кого из ханов оставлять для защиты добычи и полона, а кому скакать вместе с ним на Римов. А это ещё двое суток в седле… Нет, не найти справедливости под великим Тенгри-Небом! Почему он, победитель, вынужден подыхать на пыльной дороге от смертельной усталости и бессонных дум, а коназ Игорь, позорно проигравший войну, валяется себе на коврах юрты со сладкой Бюльнар или пьёт его вино, или тешится, разъезжая душистой степью с соколом на руке?
Тут красное, блестящее от жира лица хана расплылось в ухмылке. Он поцокал языком и ответил сам себе вслух:
– А потому, что я так захотел. Только потому, что таково было моё, великого и мудрого Кончака, желание.
Глава 16 По дороге на Путивль
– О мужи! Неужели вам доставляет радость меня мучить? Я ведь уже трижды вам всё рассказал! – взмолился Беловод Просович. С невежливой горячностью вонзил он свою ложку в Хотенов котелок с кашей, обжигаясь и хлюпая, всосал в себя жидкую кашу, облизал ложку, вызверился на неё, будто превратилась она в лягушку, и, едва не переломив, засунул за голенище сапога.
– И не раз ещё всё снова перескажешь, боярин. Дорога долгая, – успокоил его, думая о своем, Хотен.
А думал Хотен о вот о чём. Хоть и держит он в памяти все услышанное в Киеве и Чернигове об Игоревом походе, ни к какому мнению о виновности или невиновности князя Игоря Святославовича покамест не пришёл. Надо будет изловчиться, выбрать время и пересказать повествование Беловода Просовича умнице Прилепе. А хоть бы и на следующем ночлеге: забраться с нею в лес подальше и… Что там говорит князь-неудача?
– …столько раз ты об этом ещё в Чернигове рассказывал, что твои слова стали круглыми и гладкими, как речная галька. Я даже не могу понять, как ты сам относился к приказам князя Игоря.
– Как относился? А никак! – окончательно разозлился Беловод Просович. – Это ты, князь без удела, и ты, киевский боярин не у дел, можете к чему-то там относиться да разглагольствовать! А мое дело – получил приказ, так исполняй! Вот моё отношение… И с чего бы это я стал с вами, добрые мои попутчики, откровенничать? Ну сами посудите: ты, княже, Ростиславович, родной брат великого князя Рюрика, который оружием отвоевал у Ольговичей свое великое княжение, и ты, боярин, служил Изяславу и сыновьям его, а я весь свой век служу Ольговичам!
Хотен, не выпуская своей ложки из руки, перевалился на спину. Если каша горяча, можно и подождать. Звёздное небо, яркое и чёткое, бросилось ему навстречу. Таких звёзд никогда не увидишь в Киеве, там между городом и звёздами вечно висит не то дым, не то пар. Слева громко плеснуло, потом еще. Крупная рыба водится в Семи, ничего не скажешь. Это про какую речку ему рассказывали, что в пору нереста её можно было перейти по спинкам сазанов? Половину прошлой ночи и цельный день Хотен провёл в седле и так устал, что, пожалуй, закрой он сейчас глаза, тотчас уснул бы, не дожидаясь, пока каша остынет. Закрыть глаза – и перед внутренними очами тотчас поплывут цветущие кусты ивы, нависающие над звериной тропой по берегу Семи, и замелькает, то скрываясь, то выныривая из яркой зелени, спина отрока, высланного в передовой дозор… Хотен встряхнул головою и заставил себя прислушаться к разговору у посольского костра.
– И всё-таки, боярин, твой князь Ярослав Всеволодович послал тебя с нами, значит, согласился с задумкой великих князей, – заговорил Севка-князёк, проявляя не свойственную ему рассудительность. – А я готов согласиться, что послан ты, чтобы привести нас на поле битвы и чтобы помочь объясниться с половцами, ведь у тебя много приятелей, а не для того, чтобы без конца сказывать нам об Игоревом походе.
– Вот и оставь, наконец, меня в покое, княже, – желчно заметил Беловод. – Понимаю, что послан с вами как ничтожный слуга, без права голоса. Однако почему вы не послушались моего совета и у Хоробора свернули на эту безлюдную тропинку?
Хотен встрепенулся.
– Здесь безопаснее, боярин, – пояснил. – Семь выведет нас прямо к Путивлю, и уж лучше нарваться на лесных разбойников, чем на орду диких половцев, коим наплевать на наш посольский значок. А через кусты можно и прорубиться, в крайнем-то случае. Как там каша, не простыла?
– Каша в самый раз, Хотен, – ответил с полным ртом Севка-князёк, а прожевав, быстро спросил. – Послушай, Беловод, а всё-таки… Быть может, ты почувствовал что-нибудь необычное, когда наблюдал завершение битвы, держим половцами?
– Да, я почувствовал! Почувствовал бешеную радость, что остался живой! Счастье почувствовал, что я не ковуй, а природный русич, поэтому жив буду, даже если кыпчаки передумают и оставят меня у себя. И вот что… В самом деле, глядя, как Игорь снимает шелом и скачет наперерез бегущим ковуям и отрокам… Да, я почувствовал тут неладное. Каждый, кто имел дело с кочевниками, знает, что уж если побежали они с поля боя, остановить их невозможно… Почему же пытался это сделать Игорь – да ещё раненый, с подвязанной левой рукой?
– Тебе подумалось, что он хотел поскорее попасть в плен? – медленно проговорил Хотен. Он сел – сна ни в одном глазу – и потянулся к котелку. – Или… что он хотел погибнуть?
Черниговский боярин рывком поднялся на ноги, едва не опрокинув дымящийся котелок. Закричал:
– Сколько раз повторять тебе, хитрая ты лиса, что думать мне не положено, за меня думают всегда другие, князь Ярослав вот думал да покойный Ольстин Олексич! И новгород-северский князь думал, пока не додумался, великий умник! Можете донести то, о чём я сейчас скажу, князю Ярославу, но я желаю Игорю позорно сдохнуть в той смрадной яме, где он сидит сейчас в оковах. А если выкупят его, я хочу, чтобы его лишили удела и отослали в темницу к цесарю в Царьград… Что ты там бормочешь, князь-неудача?
– Я сказал, что теперь, когда русские великие князья не ходят на Царьград войною, это единственная возможность для неимущего князя посмотреть мир – в оковах пропутешествовать в темницу где-нибудь на Родосе. Ишь ты, князь-неудача… А я думал, что так называет меня только раба моя Настка… Ты продолжай, я не обиделся.
– Не промолчу теперь, не бойся! А всего лучше бы его посадить в отечественный поруб, чтобы я мог приехать в Киев и плюнуть на бревна, под которыми он задыхается в собственной своей вони. Твой родич Игорь погубил тысячи людей, и никогда не удастся посчитать, сколько именно. Я понимаю, что полководец может ошибиться, но он не может ошибаться всякий раз, когда отдает приказ. Если так было с Игорем, то либо он предатель собственного войска (я понимаю, как дико это звучит), либо перед нами та простота, что хуже воровства. Бездарный полководец, распоряжающийся судьбами людей только по праву рождения и старшинства в роде, – что может быть нелепей и опасней? Вон твой, князь, двоюродный дедушка великий князь Вячеслав Владимирович, он знал, что боги не дали ему дара полководца – и не водил никогда дружины! О тебе самом и не говорю! А Игорь ещё и запутался в своих плутнях с хитрым Кончаком.
– В плутнях, говоришь? – Хотел оставил ложку в котелке и приподнялся. – Что тебе ведомо, боярин, о сих плутнях?
Беловод Просович растерянно оглянулся и вдруг отпрыгнул в темноту. Раздался топот, потом затрещали кусты.
От большого костра, у которого ужинали дружинники, донёсся спокойный голосок Прилепы:
– Ты напрасно надавил на него, хозяин. Муж устал, не отдохнул после Игорева похода, издёргался – а тут опять его в посольство князь Ярослав отправил. Нельзя пока рассудить, правду ли говорит. Дорога у нас долгая, он успеет обо всём поведать, и ты во всём разберёшься.
– А ты уже поела, Прилепа? – осведомился Хотен, безумно довольный тем, что жёнка, оказывается, слышала разговор у посольского костра и не нужно будет его вспоминать и ей пересказывать. Не слушая её ответ, повернулся к Севке-князьку. – Уж доедай кашу сам, князь. Пойду, поищу нашего проводника. А то, не дай того Бог, медведь загрызёт.
Севка-князёк не ответил. Прилепа черной тенью обошла костер и остановилась на краю поляны, там, где вломился в кусты боярин Беловод. Хотен обнял её за плечи, и они, не сговариваясь, повернули на тропинку, что ведёт в сторону Путивля. Вскоре открылся перед ними заливчик с сухим песком, и они прилегли рядом на границе песка и травы. Ногам на песке, ещё не остывшем после дневного солнца, не стало холоднее. В камышах безбожно орали уж очень голосистые в этих краях лягушки. Когда на мгновение замолкали, слышны становились шорохи в кустах: там шныряли божьи создания покрупнее.
– Соскучился я, – заявил Хотен, укладывая голову на маленькую, как в юности, грудь подруги.
– Тоже мне, соскучился он, – нежно повторила за ним жёнка. – До тебя, и захотела бы, не доберёшься. С отъезда ведь кольчуги не снимал.
– Да знаешь ведь сама, почему.
– На меня в дороге и не посмотришь, Хотенушко! И Сновидка жалуется, что ты на него внимания не обращаешь, и мальчишка этот, Неудача, на тебя обижен, что ты только с Хмырем порой словом перемолвишься, а его, децкого, будто и в походе нет.
Хотен хмыкнул. Ему лень было оправдываться тем обстоятельством, что всё дорожное время его занимают разговоры с болтуном Севкой-князьком, сегодня вдруг вздумавшим допрашивать Беловода Просовича. Сказал лениво:
– Ты вот что, Прилепа. Всегда жаловалась, что знаешь мало из книжной премудрости, а читать тебе некогда, хоть и целые две книги в доме у меня. Не стесняйся, держись в дороге за мною, сразу за спиной, прислушивайся к тому, что князь говорит. Смех смехом, а ведь я от него дорогой много любопытного узнал. Это не покойный отец митрополит Клим (помнишь ли его, Прилепа?), не столь учён, конечно, зато язык у него без костей, не боится никого и ничего, что подумает, то и скажет.
– Я ведь отца митрополита только и помню, что в скором походе на Киев, когда его да книги его драгоценные на повозке везла. Он тогда если и говорил что учёное, мне, девчонке, не понять было, Хотенушко.
– А теперь слушай князя, говорю. А Сновидке скажи, чтобы тоже отирался возле нас с князем, ко князю чтобы присматривался: как ложку держит, как ест, как пьет, как за здоровье собеседника чару поднимает, когда сидит, когда кланяется и кому как кланяется. Если не дурак, переймёт и будет знать, как в Киеве к людям подойти. А то медведь медведем твой Сновидка, хоть и дедом меня успел уже сделать.
– Ты несправедлив к парню. Разве он виноват, что не дали ему рожаницы твоего счастья да моей светлой головы?
– Да уж, вспомнила свою светлую голову…
– А что? Ведь нет ничего у меня, а если дал Бог что-то всё-таки, не грех тем и похвастать. Мне бы более счастливых родителей и другое детство, я бы…
– И куда бы ты? Разве есть у нас, куда умной бабе податься? Разве что в монастырь – да ведь ты на черноризиц всегда только фыркала, как кошка… А у меня ты при деле: я твоей умненькой головке работу подкидываю…
– Работа мне, а вся слава тебе. Тьфу на тебя, такую славную минутку испортил, охальник. И надо же было тебе монашек вспоминать? Вспомнил бы что-нибудь из хорошего, что у нас с тобою было, Хотенушко.
А Хотен, привыкший к тому, что перед Прилепой бывает часто виноват и в том, в чём не виноват, лежал себе спокойно. Тихая Семь плыла перед ним сонной чёрною лентой, и уже явилась на реке лунная дорожка, и пересекла её, покачиваясь, коряга. Или то не коряга была? У сыщика легко и приятно закружилась голова, голос Прилепы растворился в громком лягушечьем хоре, а глаза сами закрылись.
Очнулся он оттого, что холодная вода полилась ему на лицо. В последнем видении сна почудилось ему, что русалка затаскивает его в Семь, однако, когда открыл глаза, увидел над собою голую Прилепу, выкручивающую волосы.
– Чего творишь? – отмахнулся он от струйки нетвёрдой спросонья рукою. – Не балуй… Дай поспать…
– Беда! Даже не знаю, что я увидела… Ты заснул, я попробовала воду – а она тёплая, как парное молоко. Давай, думаю, выкупаюсь – вон и защитник мой на бережку храпит. Зашла в воду, а над ней пар, а у берега мелко. Иду себе, под ногами песочек, подумываю потихоньку, а не стащить ли и с тебя кольчугу и прочее, загнать в воду, да и выкупать, как коня. Больно уж от тебя конским потом вперемежку с ржавчиной несёт, дружочек. Щётки, вот беда, не было с собою, чтобы тебя вычистить, словно коня, или пакли… Ну, кое о чём прочем, признаюсь, подумала – и так хорошо мне чистой-вымытой, утешно, Хотенушко…
– Прилепа, говори наконец, что ты там увидела? Водяного хозяина, что ли?
– Вот и я о том… Поплыла вперёд, на середине речки решила возвращаться, пока не снесло далеко течением, развернулась в воде и почти сразу же глянула перед собою – а над лесом зарево. Чуть с перепугу под воду не ушла. Посмотри сам, уже и отсюда видно.
С треском разогнув колени, поднялся на ноги Хотен. Действительно, над вершинами берез прибрежной рощи трепещет красноватый полукруг. Лесной пожар? В начале лета редки лесные пожары, да и леса здесь безлюдны до самого Путивля. А вот Путивль в той стороне.
– Это Путивль горит, Прилепа. Половцы уже там.
И с ужасом вспомнил Хотен видение-догадку, мучившую и тревожившую его во время недолгого сна. Не колода пересекла тогда лунную дорожку, а человек, ничком в воде лежащий. Труп.
Глава 17 Княжье непособие
Шатры великих князей Рюрика и Святослава стоят рядом на холме у Заруба, их знамена трепещут на свежем утреннем ветру рядом, дружины их в готовности встали станом у брода, и единомысленны полностью нынче великие князья Рюрик и Святослав, и дружны между собою, как никогда прежде за все пятнадцать лет совместного правления. И эти единомыслие и дружба только и радовали великих князей в те тяжкие для Русской земли дни. Над краем земли, за которым прятался Переяславль, к небу поднимались дымы, и оба понимали, что это означает.
– Посол от князя Владимира Глебовича из Переяславля, великие князья!
Великие князья сидели на вершине холма каждый под своим знаменем и на одинаковых складных стульчиках. Они переглянулись и разом кивнули головами.
Посол появился из-за Рюрикова шатра и поклонился великим князьям. Не было на нём следов бешеной скачки, поэтому соправители снова переглянулись, и Рюрик спросил:
– Как ты добирался до нас, посол?
– Половцы держат разъезды на Правобережье, и к сему броду не проехать. Я переправился челном выше по течению, пристал у Чучина.
– Правь своё посольство, посол, – промолвил Святослав Всеволодович и прикрыл глаза, готовясь выслушать.
– «Владимир Глебович Переяславский великим князьям Святославу Всеволодовичу и Рюрику Ростиславичу. Как ни просил я вас, отцы и братия, однако не помогли вы мне. В том вашем непособии Бог вам судья, отцы мои и братия. Я же тремя копьями пронзённый, жив пока, хвала Богови. Острог не сберёг я, Кончак пожёг посад, уводит полона бесчисленно. Покуситесь хоть полон отбить, отцы и братия».
– Отойди, посол, мы призовём тебя, – распорядился Рюрик Ростиславич и, не дожидаясь исчезновения боярина, поднял глаза на Святослава Всеволодовича. Тот пробормотал:
– Не о чем раздумывать, брат. Ответим, как есть.
– Кто скажет?
– А хоть бы и ты.
Призвав посла, Рюрик снова встал, воздавая в его особе честь князю Владимиру Глебовичу, и заговорил, послу в глаза не глядя:
– «От великих князей киевских князю Владимиру Глебовичу. Раны твои целуем, а помочь по-прежнему не можем. Уже извещали мы тебя, что у нас не дружины с собою тут, на Зарубском броде, а жалкие остатки. Мои, Святославовы, мужи ушли с сыном моим Олегом защищать Посемье, а мои, Рюрюковы, стали на всех Днепровских бродах. Плывет к нам от Треполья на ладьях Давид Ростиславич Смоленский с большой дружиной. Ждём помощь и от других князей. Вместе с ними немедленно выступим на помощь». Езжай, посол.
Великие князья обменялись тяжёлыми взглядами.
– Сколько ещё может продолжаться вече у смолян в Триполье? – желчно спросил Святослав Всеволодович. – И уверен ли ты, что твой брат-увалень не замедлит поспешить к нам, как только вече закончится?
– Брат мой Давид, – помолчав, ответил Рюрик, – быть может, и засиделся в своих болотах и на пиру ведёт себя далеко не как Дюк Степанович, однако уважение к нам с тобою имеет.
– А я вот думаю, не погрызть ли нам с тобою сушеной оленины, запивая глотком-другим вина? – произнес Святослав Всеволодович. – Ибо чует мой желудок, что не съесть нам сегодня обеда. Потому что через полчаса, приплывёт ли, не приплывёт твой Давид с дружиной, я, пожалуй, несмотря на почтенные седины свои, поведу наших знаменосцев, трубачей и поваров через Днепр.
– Добрая мысль, отец и брат мой. И я с тобой, разумеется, поеду.
Однако князья не успели всласть обгрызть оленьих косточек, обмениваясь охотничьими байками и рассказами. Вдруг замычал Рюрик Ростиславич, выплюнул кость и вскрикнул:
– Смотри, смотри! Наконец-то!
Да, на сияющей глади Днепра появилась ладья. Плыла она по течению, попутный ветер задувал в парус, да ещё и гребцы усердствовали. Быстро плыла ладья, вот только за нею так и не выплыли из-за крутого правого берега остальные ладьи, набитые дружинниками, словно печь пирогами, а общим числом двадцать да девять.
Прибежал оруженосец Святослава.
– Чего тебе, Сёма? – зарычал на него великий князь. – Сами видим, что ладья! Держит к пристани, без тебя видим!
– Великие князья, я не о ладье. Половецкий разъезд ускакал с брода.
– Стой здесь, сейчас получишь приказ. Ну, как, брат, поскачем? – и дождавшись Рюрикова кивка, закричал Святослав:
– Трубить общий сбор! Сажай на коней поваров и конюхов! Пусть Воротислав построит дружины, мы вы ступим сразу же, как разберёмся с ладьей.
Князья уже были в доспехах и на конях, когда ладья причалила, и на мостки выскочил сначала долговязый боярин, богато, не по-походному, одетый, за ним оруженосец, начавший выводить коней.
Вот, наконец, боярин подскакал к великим князьям.
– Здорово, Жигун, – ответил Рюрик Ростиславич на приветствие боярина. – Здоров ли брат мой Давид Ростиславич?
– Твой брат здоров, великий княже, и вот что говорит тебе и великому князю Святославу Всеволодовичу: «Давид Ростиславич отцу и брату моему Святославу Всеволодовичу и брату моему Рюрику Ростиславичу. Вече решило: "Мы пошли до Киева, и если бы Киеву угрожали ратные, то бились бы. А искать нам теперь другой рати не можно, мы уже изнемогли". А я теперь иду с дружиной на Киев, оттуда в Смоленск».
– Они изнемогли, приплыв на ладьях из Смоленска и повалявшись на травке под Трепольем? Да за такие дела… – вскипел Святослав Всеволодович.
Рюрик Ростиславич побагровел и понурился.
– Так что мне сказать своему князю? – глядя в сторону, осведомился Жигун.
Великие князья переглянусь, и Святослав Всеволодович пожал плечами. Рюрик Ростиславич воткнул в посла сузившиеся от бешенства глаза:
– Те слова, что у нас с князь-Святославом сейчас с языка просятся, князь князю говорить не должен. А ты поедешь с нами, а потом просто расскажешь моему брату обо всём, что увидишь.
– Я ведь должен…
– Посмей мне только ещё раз свой лукавый рот раскрыть! Нам сейчас каждый меч в дружине на вес золота. Кличь паробка своего, становитесь сразу за моим трубачом.
Кони, пугаясь неоглядной водной шири, неохотно шли в Днепр. Пятились, становились на дыбы, поднимая облака сияющих на солнце брызг. Хотя Днепр-Славутич ещё не полностью вернулся в свои берега после половодья, плыть, однако, никому из переправлявшихся не пришлось, только Святослав Всеволодович предпочёл пересечь Днепр на смоленской ладье. У него второй день текло из носа, а простуживаться окончательно в его возрасте было бы опасно. Все остальные не успели высохнуть в быстрой скачке вдоль речки Трубежа, как открылся красавец-Переяславль. Город, благодарение Богу, остался цел, дымилось расположенное за ним предместье.
Великие князья, не мешкая, повели своё малое войско к Залозному шляху, когда Кузнечные ворота растворились, и выехали несколько десятков вооружённых всадников под знаменем князя Владимира Глебовича Переяславльского.
– Никак с нами сечься надумали переяславльцы, – усмехнулся Рюрик Ростиславич, натянул поводья и поднял руку. – Придержите коней, молодцы.
– И ведь то не князь Владимир под его знаменем, – пояснил дальнозоркий его соправитель. – Он в помощь нам свою недобитую дружину посылает, вот что. А под знаменем его тысяцкий Олекса Суздалец.
– Они там все через одного суздальцы, – проворчал князь Рюрик. Резко оборотился к соправителю. – Давай обсудим выходку, которую учудил мой брат Давид. Подъедет твой Суздалец, не сможем говорить свободно.
– Твой Сузделец, твой Суздалец… Такой же твой, как и мой, брат…
– Ну не скажи, отец мой и брат, не скажи! Это мы тут в Киеве привыкли к тонким отношениям, к увёрткам и словоблудию, к хитрым проискам за спинами друг у друга. Порой мне кажется, что не на простецкой Руси живу, а в Царьграде, что тону в кознях хитрых греческих царедворцев. Ты что, не видишь разве? Не мы правим, а хитрозадые киевские бояре. Брат мой Давид позорно повернул назад из Треполья, а киевские полки вообще не вышли из города! А где чёрные клобуки, где берендеи? На них ты почему-то не гневаешься. Мне, Ростиславичу, князь Владимир природный соперник – давно ли я с ним воевал? Я, как и чёрные клобуки, а тем паче киевские ратники, прекрасно помню, кто на щит взял Киев и пустил в него половцев – отец Владимира недоброй памяти Глеб Юрьевич, разоритель Киева! Однако я твой соправитель, и я понимаю, что князь Владимир только что принял на себя удар половцев, направленный на всю Русскую землю. И не думал, кровь свою проливая и пот мужественный утирая, что открыл половцам ворота на Русскую землю его заклятый враг Игорь Святославович. А брат мой Давид – человек простой, лесной и болотный житель. Ты уговорил его идти летом глубоко в Половецкую степь – он и согласился. Ты предложил выйти раньше, чтобы отбить половецкое нашествие на Киев, – он и приплыл по Днепру. А на защиту Переяславской земли Давид идти не захотел. И если раньше ты не догадывался, теперь знаешь, почему.
– А что ж тогда за глупости он несёт про вече? Какое может быть вече в дружине, а? – прищурился князь Святослав. По его мнению, в этом разговоре не было большой нужды, тем более перед довольно опасной попыткой отбить полон у огромных половецких полчищ. Однако в том и состоит одна из тягот разделения великокняжеской власти, что приходится обсуждать все свои действия с соправителем, словно в ранней юности с наставником-боярином, отцовской властью тебе навязанным.
– Никакого. Старшие бояре имеют право совета князю, и только. Будто сам не знаешь! Если бы в моей дружине попробовали созвать вече, я бы, не задумываясь, зарубил мечом зачинщиков. Мы с тобою в спешке не задумались, как моему брату Давиду удалось собрать такое большое войско, тридцать насадов, по завязку набитых всадниками. А с ним пришёл смоленский полк, ратные горожане, вот они-то и устроили вече.
– Если бы твой брат хотел биться, он приплыл бы с одной своей дружиной.
Рюрик рассеянно наблюдал, как переяславльцы переправляются через Трубеж. Раньше напротив обоих главных ворот, Княжих и Кузнечих, устроены были мосты. То ли ещё не успели их навести заново на месте снесенных ледоходом, то ли сожгли сами горожане перед нашествием половцем, то ли половцы, уже отступая… И почему он обязан в любом случае промолчать? Почему бы ему не сказать то, о чём только что подумал?
Великий князь Рюрик Ростиславич резко повернулся в седле и прямо взглянул в лицо соправителю. Оказалось, что у того в бороде запуталось несколько волокон сухой оленины.
– Ты бороду-то оправь, Святослав Всеволодович, – крошки… Обещай, что не обидишься, а?
– За крошки, что ли? – промычал соправитель, снял боевую перчатку и принялся усердно расчёсывать седую бороду бледной пятерней в коричнево-жёлтых старческих пятнах. – Ладно, говори.
– Не за крошки… Когда Юрий Долгорукий отдал Киев Глебу Юрьевичу, тот оставил вместо себя в Переяславле сына своего, а Юрьева внука, вот этого самого храбреца Владимира Глебовича. А из Переяславского удела всегда лежала прямая дорога на золотой киевский стол. И не потому ли мы с тобой, князья, коих в трусости никто никогда не посмеет обвинить, не сдвинулись у Зарубского брода с места, пока князь Владимир не был разбит?
– Говори о себе, сват Рюрик, – усмехнулся Святослав Всеволодович. Казалось, он совсем не рассердился. – Я же никогда раньше, да и теперь не решился бы преследовать большие силы половцев без конницы чёрных клобуков или берендеев на худой конец. Меня подвигла, в конце концов, на такое безрассудство только обида на твоего брата Давида. Кстати, я удивляюсь и тому, что Кувдундей не привёл чёрных клобуков к Зарубскому броду, как обещал. Похоже, что рушится наша с тобой власть на Руси, а?
Князь Рюрик не стал отвечать, потому что уже придерживал подле великих князей своего коня пучеглазый Олекса Суздалец.
– Вечно живите, господа великие князья киевские Рюрик Ростиславич и Святослав Всеволодович. Наш князь Владимир Глебович не может устроить посольство по всем правилам, потому что лежит пластом, а его лечат медвежьим салом. Он пеняет вам, что пришли в малой дружине, и послал нас, остаток своей дружины, теперь уже вам на подмогу. Под Переяславом был сам Кончак, иные ханы разошлись веером в города по Суле. Гонцы уже прибыли из всех городов, кроме Песочена и Римова. Плохи дела, великие князья. На Посулье остались одни пожарища, а сохранившийся народ выходит из лесов на родные пепелища. У нас, на Переяславле, у кого из дружинников были дворы вне детинца, все сожжены, а многие наши и убиты. Иные и пойманы.
– Кем пойманы? Половцами на бою? – встрепенулся Рюрик.
– Эх! Проболтался, дурак! – побагровев свекольно лицом, боярин сорвал с головы шелом, бросил под ноги коню, и на лбу его открылась свежая ссадина, уходящая под подшлемник. – Да что толку теперь таить, всё едино узнаете! Когда половцы начали поджигать ворота и стены острога, и наш князь понял, что посад может быть взят, он приказал открыть ворота детинца, а нам, дружине, вместе с ним выехать на помощь защитникам острога. Однако малое число дружинников его послушались, два-три десятка всего.
– Отроков или старших? – прищурил глаз князь Святослав.
– В том-то и беда, что больше отроки, великий княже, – склонил голову боярин Олекса. – Князь выскочил за ворота острога, начал сечь мечом половцев-поджигателей, и тогда Кончак ударил с трёх сторон большими полками. Князь наш, раненый несколькими копьями, был втиснут половцами-копейщиками внутрь острога, и тут старшие бояре увидали с заборола, что беда, снова отворили ворота и поскакали выручать князя. Многие, выручая князя Владимира Глебовича, и погибли. А те, кто и тогда побоялся выехать против супостата, заперты теперь в гриднице без оружия и сапог, ждут княжьего суда, а ихние же товарищи стерегут.
– А ты, боярин, когда из города выехал? – глядя в сторону, осведомился князь Святослав.
– Я-то? Вместе с князем, конечно, – ещё сильнее выпучил глаза Олекса. – Не понимаю, что делается в дружине… Уж не перед концом ли света такое творится, господа великие князья?
Великий князь Рюрик Ростиславич хмыкнул. Великий князь Святослав Всеволодович мысленно согласился с переяславльским тысяцким. Ему самому часто снилось в последние годы, что стоит он на краю огромной песчаной ямы, и песок осыпается у него перед ногами. Под слабыми, бессильными, старческими его ногами – в жизни ещё твёрдыми и сильными. Думал сперва, что сей сон близкую смерть ему вещует, а потом внезапно понял, что сон-то о Русской земле. Не ко времени такие думы, и потому спросил он у боярина:
– Всё ли ты сказал нам, что велел передать сын мой и брат Владимир Глебович? Не запамятовал ли чего?
– Ой, запамятовал я! Прощения прошу у вас, у великих князей, – боярин недоумённо, будто и не видел его раньше никогда, посмотрел на поданный оруженосцем свой шлем и напялил его, легко покривившись, на голову. – Князь торческий Кувтундей присылал гонца от города Ярищева, что погнал за половцами, надеясь отбить захваченный в Ярищеве полон.
– Можно подумать, что русский полон его заботит, – проворчал Рюрик Ростиславич. – Очень нужен хитрозадому Кувтундею тот полон: взятую добычу отбить надеется. И почему же не пришёл к Зарубинскому броду, как обещал?
– Так или иначе, Кувтундей уже преследует половцев, а мы только совещаемся, – примирительно заметил Святослав Всеволодович, давно понявший, что его соправитель недолюбливает торческого батыра. – И скажи, тысяцкий, давно ли Кончак отступил от Переяславля?
Олекса Суздалец пошевелил губами, соображая и подсчитывая:
– Не меньше, как пять часов назад, великий князь.
Только Кончак сперва отправил полон и добычу, а потом сам ушёл.
Великие князья снова переглянулись. Обоим стало ясно, что поскольку полон гонят пешком, возможность догнать Кончака остается.
– Что ж, – промолвил Рюрик Ростиславич, – веди нас за Кончаком, тысяцкий. Тебе сии места лучше ведомы.
Западный ветер выдул уже с Залозного шляха запахи половецкой орды, однако следов колёс не было на нём, только бесчисленные отпечатки неподкованных копыт, и все вели на восток.
На полпути до развилки, от которой Золозник раздваивался на полуденный и полунощный пути, встретился им первый купец, бухарец-басурманин на трёх возах. Он не захотел отвечать на вопросы о половцах, только кланялся великим князьям, и те, ничего не добившись, отстали от него. Ещё через несколько вёрст они поняли, что напугало бусурманина, – если, конечно это не Кончак запретил ему разговаривать с воинами-русичами. На обочине валялись грудой голые трупы переяславцев, были то юноши и средовеки, посечённые саблями. То ли отказывались скоро идти, то ли попытались бежать…
Перекусывали на скаку, ночью, не останавливая погони, дремали в седлах. Солнце поднялось уже довольно высоко, когда доскакали до развилки. По следам копыт стало им понятно, что половецкое войско разделилось и двинулось по обоим путям Залозника, единственно, что тысяцкому Олексе удалось убедить великих князей, что следы копыт на полуденном пути более свежие. Туда и свернули. Через час скачки увидели впереди дымы: это на противоположном берегу сверкающей под солнцем Сулы догорал Горошин; на сей раз городок, обслуживающий потребы купцов на шляху, не спасли прежние договоры с половцами о мире. Тут к пепелищу Горошина подоспел караван купцов из разных стран, ехавших в чаянии большей безопасности вместе. Когда караван переправился через Сулу, великие князья послали боярина опросить купцов. Те клялись-божились, что не встретили никакого половецкого войска.
Тем временем подъехал к великим князьям Олеса Суздалец и сообщил, что следы орды свернули на дорогу к Римову. Тут клюющие носами в сёдлах великие князья оживились. Если половцы от Римова будут возвращаться на Золозный шлях, то оставалась возможность, что поедут той же дорогою вдоль Сулы, что и приехали.
– Станут возвращаться, тут-то мы на них и напоремся, – предсказал князь Святослав.
– Не мы на них напоремся, а они на нас! – пылко возразил князь Рюрик. – Мы будем готовы к внезапной встрече, а они нет. Мы ударим первыми, хоть нас и немного, – а они, глядишь, и побегут, как уже не раз бывало.
– Что ж, поехали, только блюдясь вдвойне.
Завидев в той стороне, где ожидался Римов, дымы, великие князья приняли сугубые меры предосторожности, и на берег Сулы к Римову их войско выскочило из-за прибрежного холма в боевом строю с копьями наизготовку. Открывшееся перед воинами зрелище заставило многих из них натянуть поводья, и строй смешался. Города Римова больше не существовало. Пепелище, оставшееся от посада, было уже холодным, на месте детинца ещё тлели и дымили остатки построек и стены, а поскольку и церкви в Римове были только деревянными, не торчали над пожарищем, как обычно бывает в таких прискорбных случаях, закопчённые остовы каменных храмов, только глиняные печи над тёмными квадратами пепла и обгорелых брёвен на месте домов.
Святослав Всеволодович потянул носом: в смраде гари различался и ужасный запах сгоревшей плоти, однако трупов не было видно. Тем временем навстречу войску вышли первые горожане. Один за одним поднимались они из подвала, уцелевшего между руинами обвалившейся церкви и большой хозяйственной постройки, судя по всему, трапезной.
Опоясанные мечами, чёрные от гари и покрытые своей и чужой кровью мужи нетвёрдо стояли на ногах. Принюхался Святослав Всеволодович: от граждан Римова веяло стоялым мёдом.
– Что принюхиваешься, защитник хренов? – заворчал вдруг ближайший к нему горожанин, седой, коренастый, с висящим за спиною двуручным мечом. – Где вы раньше были? Похоронили мы наших в братскую могилу и сели поминать… А уж как проспимся, тогда и станем думать, как жить дальше… Деток, стариков и старух половцы проклятые посекли, а молодых и сильных, кто в бою не погиб, увели к себе в рабство… Для кого жить теперь? Отстраивать ли заново Римов? А…
Горожанин махнул рукой и отвернулся от воинов.
– Давно ли ушли половцы? – спросил Святослав Всеволодович.
– Часов пять, а то и шесть, как ушли. Пошли вдоль Сулы вниз. Смекаю, что на переправу возле Желни.
– Они не смогли бы так быстро явиться сюда с полоном, – проворчал Рюрик. – Ты ничего не путаешь, достойный муж?
– Я не бываю настолько пьян, чтобы не понимать дела, – пояснил горожанин. – И я не из тех, кто станет врать. Половцы обложили город пять дней тому назад, на великомученика Фёдора Стратилата. Мы хорошо подготовились, сами очистили посад, свезли добро, семьи и скотину в детинец – напрасно, выходит, трудились! Да, а посад выжгли. Пришли половцы, обступили город, мы перестреливались, они пытались поджечь стену детинца, а мы им не позволяли. Мы уж надеялись, что уйдут нехристи, несолоно хлебавши, однако два дня назад пришло новое большое войско, но без полона, господин князь, и они тут же начали долбить стену большими бревнами, то справа от ворот градских, то слева. Мужи наши начали бегать по заборолу, чтобы отгонять врагов от бревна. Вот тут-то несчастье и случилось. Сразу два участка городской стены рухнули, прямо на те бревна, вместе с мужами, что стояли там на стенах. Половцы, понятно, тут же ринулись внутрь детинца. Старцы градские, что распоряжались обороной, собрались все на одном забороле, как назло, и погибли сразу. Слава Богу, я, простой децкий, не растерялся. Вразумил меня Господь, и начал я кричать: «Кто жив быть хочет, за мною на болото!» Пробились через пролом и ушли на болото. На конях нехристи не могли к нам подъехать, а для рубки пеши да по колено в тине кишка у них тонка. Вот так и отбились. Спаслись, господине, только те, кто, отчаявшись живота своего, рубился на болоте, остальные убиты или взяты.
– Постой, скажи мне, какие стяги были у половцев? – спросил князь Рюрик.
– Дай, господине княже, припомнить, – сморщил свой ободранный лоб мужик. – У тех, что первыми пришли, простой бунчук с лошадиным хвостом, выкрашенным хною. У тех, что прискакали два дня назад, у одних на красном древке две барсучьих шкурки, одна чёрная, вторая красная, у других – сверху вроде как золочёная луковица, ниже перекладинка, а на ней три конских хвоста – белый, чёрный и красный.
– И здесь был сам Кончак! – ахнул кто-то за спиной Святослава. Тот вспомнил голос – боярина Олексы.
– Да, последний бунчук – Кончака, – согласился князь Рюрик. – А прочие ханы издалека пришли, раньше редко появлялись на наших рубежах. Значит, два дня прошло, как ушёл отсюда Кончак. Давай, великий князь Святослав Всеволодович, отъедем в сторону, посоветуемся.
И хотя можно было велеть отрокам отогнать столпившийся возле них народ подальше, великие князья действительно предпочли отъехать самим – на берег Сулы у брода, истоптанный копытами половецких коней и захваченного ими русского скота.
– Два дня выиграл Кончак, – промолвил Рюрик. – Однако кони у нас, конечно же, свежее, а его отягощает полон.
– Он, понятно, вернётся на Залозный шлях. И уйдёт с него на полночь, в свой улус. Ты прикинул ли, где мы Кончака настигнем?
– У меня получается, что не ближе, чем за Чёрным лесом. Это уже их земля, брате и отче. В своей степи половцы не побегут, а если посчастливится отбить полон – нам его оттуда не вывести, самим бы унести ноги. Да и куда нам и соваться на такое полчище? Там ведь всё войско самого Кончака и ещё две неизвестные орды. Мы поступили бы не умнее твоего племенника Игоря Северского, а мы ведь великие князья.
Святослав Всеволодович нахмурился. Проговорил, понизив голос:
– Ты прав, как ни обидно. Однако же нам нельзя возвратиться прямо отсюда.
– Пожалуй.
– Преследуем до Залозного, а по нему – до Голтава. Если Кончак под Голтавом задержится, ударим на него – и как нам Бог даст. От Голтава возвращаемся.
– По рукам, отче и брате!
Они стукнули рукавицей о рукавицу и вернулись под свои стяги. Давешний пьяный горожанин стоял на коленях, окружённый конными боярами. Поднял простоволосую голову:
– Простите великодушно меня, господа великие князья! Не знал я, что вы такие великие господа, два царя наши. Да и обидно стало, хотя бы и вам сказать… Как подати платить, так вот она – Русская земля, а как враг навалился – и нет её.
– Мы на тебя не в обиде, – промолвил быстро Святослав Всеволодович. – Сами видим болезнь Русской земли, а как её лечить, не знаем.
– Послушай, – свесился к горожанину, поднявшемуся уже с колен, князь Рюрик. – Ты говорил, что здесь у тебя никого и ничего не осталось. А мне нужны такие твёрдые бойцы, как ты. Приходи в Белгород и друзей своих приводи. Возьму вас к себе в дружину отроками, поживете на первый случай в гриднице на всём готовом, а там видно будет.
Хмельной горожанин почесался в затылке. Потом сказал неуверенно:
– Да спасут тебя боги на добром слове, великий княже.
Вот только мы станем думать о том завтра утром, когда протрезвеем. Земля распахана, рожь посеяна – как своё пропитание бросать? Да и земля ведь наша, не половецкая же…
Великие князья оборотились к дружине. Святослав Всеволодович закричал:
– Нет времени устраивать военный совет, мы тут с великим князем Рюриком наскоро посоветовались. Скачем за Кончаком! Удастся – отобьём у него и русский полон, и добычу! С нами Бог, русские храбрецы!
Первые кони дружинников уже вступили в мутные воды Сулы, когда князь Рюрик заметил неладное. Развернул коня, и тот, разбрызгивая воду, вернул его на пологий речной берег. Там под знаменем князя Владимира Глебовича столпились остатки его дружины. Навстречу великому князю выехал пучеглазый тысяцкий.
– Что тут у вас стряслось, Олекса?
– Прости, великий князь, но мы за Кончаком не поедем. Кончак пришёл сюда изгоном, без полона. Это означает, что наших переславльцев погнала Залозным шляхом другая орда. Мы возвращаемся в Переяславль, великий княже, уж ты не гневайся.
Глава 18 Снова на путивльском забороле
На забороле пахло вчерашней, запекшейся кровью и дымом. Тонкие ноздри княгини Евфросинии Ярославны раздулись, она застыла на последней ступени лестницы, готовая вернуться. Там, в детинце, подувший на рассвете свежий ветерок уже почти рассеял душную вонь жуткого скопища людей и скота, начавшую рассасываться только после вечерни, когда стало ясно, что половцы действительно ушли, а не спрятались в окрестных лесах, задумав сыграть с путивлянами в одну из своих опасных восточных игр.
Однако княгиня пришла сюда вовсе не для того, чтобы полюбоваться сожжённым посадом и скучным видом на окрестные поля, открывшимся после того, как сгорели Глуховские ворота острога. По пожарищу посада бродили белые тени женщин и мужчин. Женщины оплакивали мёртвых, мужчины складывали трупы на волокуши и свозили к братской могиле, уже вырытой на загородном кладбище. Иные горожане под заунывный вой жёнок бродили по уже очищенным от трупов улицам посада; утоляя неизбывную душевную тягу хозяина, они искали на пепелищах вещи, которые можно было ещё использовать, отстраивая собственный двор. Для таковых и железный кованый гвоздь, раскалившийся и остывший на пожаре, был бы желанной находкой. Из мирных жителей на посаде погибли не горожане, а малые дети и старики из сельских семей, не успевших укрыться со своим скотом в битком набитом детинце. Угнанные в полон родичи не могли оплакать и похоронить сих мертвецов, поэтому занялись этим горожане. А из них, путивлян и путивлянок, погибли в основном сражавшиеся на заборолах. Для своих убитых тоже успели уже вырыть братскую могилу, и княгиня договорилась, что дьякон отец Евламний, заместивший протопопа отца Ивана, отпоёт над ними чин погребения ближе к вечеру.
Княгиня вздохнула и решительно ступила маленькой своей ногой в красном сафьяновом сапожке на скрипучий помост заборола. Пук стрел, вонзённых кучно в балясину, едва не порвал ей плащ. Прижимаясь к стене, обогнула княгиня засохшую лужу крови и, наконец, вышла на место, мало-мальски удобное для деяния, на которое она решилась.
Давно уже Ярославна лелеяла свою обиду на непонятного иудейского Бога, позволившего мужлану Игорю увести в лесную северскую глушь не младшую её сестру Глафиру, девушку туповатую и хозяйственную, а её. Её, тонко чувствующую и жадно впитавшую всё, что доходило до Галича из сопредельных западных стран, пусть тоже во многом варварских Венгрии и Польши, однако всё едино близких к загадочной Европе, удивлявшей и привлекавшей её к себе куда больше, чем сказочная Индия в былинах скоморохов. Зато её сводили с ума песни, услышанные на княжьих пирах в Галиче от заезжих немецких шпильманов, чьи слова с грехом пополам переводил отцов толмач. Конечно же, теперь она понимала, что те благородные бояре и прекрасные боярыни, о коих сказывали сладкоголосые немецкие певцы, на самом деле не всегда были так изысканны и в жизни своей занимались не только любовными приключениями и служениями. Пусть её увлечение было наивным, пусть её мечта о заезжем королевиче, который увезет её в неведомые чудесные края, как Соловей Будимирович Забаву Путятичну, была нелепа! Пусть это даже грехи её (да какие там вообще могли быть грехи у четырнадцатилетней мечтательницы?), но разве соответствуют они полученному от Бога за них земному воздаянию? И это после того, как она тысячи раз молилась в своей светёлке перед иконой Иисуса Сладчайшего, такого красавца, столь сочувственно, как ей казалось, на неё взиравшего! Молилась: «Господи мой Боже! Пошли мне моего Соловья Будимировича или королевича Василия Златовласого!» А в ответ на молитву – путешествие в северскую глушь с тупым палачом, мучителем… Да что у них там, в этой непонятной Троице, делается? На голубка, Духа Святого, у неё не было подозрений, но не выходит ли, что Иисус-Сын молитвы только выслушивает, а суровый Бог-Отец карает всех просителей, не разбираясь? Быть может, найдись в Новгородке начитанный умница-поп или хотя бы такой искренне верующий священник, как покойный отец Иван, и примирилась бы юная княгиня с властью над собою обидевшей её Троицы. Однако её духовным отцом оказался подобострастный архимандрит Мисаил, который мужу её, дикому охотнику, в глаза смотрит, угадывая его желания, а ей отпускает грехи, и не спросив ни о чём. Вот и уклонилась княгиня в местное простонародное язычество, а посвятили её ключница, кухарки и няньки её детей. Стала убегать из терема на завораживающие своей запретной прелестью женские обряды: крутилась в танце на Русалиях в сорочке с широкими и длинными рукавами, кумилась, целуясь сквозь кольцо, выплетенное из берёзовой ветви, с красавицей-горничной, ощущая свою особую бабскую близость в судьбе и в чувствах с этими по-праздничному нарядными девочками-подростками и молодыми бабами. Поцелуи с синеглазой кумой и любострастные игры молодёжи уже вечером у русальных костров вызвали в ней целую бурю неизведанных чувств, и она не спала после Русалий несколько ночей, пока не донесла ей ключница, что повеса-муж не обошёл господским вниманием и русальную куму своей супруги.
Прадедовское язычество северян привлекло юную княгиню-галичанку и своей несомненной человечностью, короткостью связи между человеком и божеством. Христианский Бог и святые его пребывают где-то далеко, на небесах: языческие боги и духи – тут, рядом с тобой: Белее и Мокошь – в домашних идолах, домовой за печкой, баенник в бане, леший в лесу. Заболеешь, пойдёшь к попу: он скажет тебе, что надо терпеть, потому что это всемогущий Бог насылает болезнь в наказание за грехи, и в лучшем случае окропит тебя святой водичкой. А пойдёшь к ведунье-знахарке, она тебя пожалеет, пошепчет над тобой, прогоняя болезнь, даст своих трав, чтобы пила отвары, – болезнь и отступит. Охотник заговор перед охотой своею произнесёт с верою, в лесу жертву лешему оставит – и возвратится с богатой добычей. Да мало ли… Особенно поразили княгиню новогодние девичьи гаданья, а чем поразили, так тем, как часто оправдывались их пророчества. Девушка, вынувшая свое кольцо из блюда с водой под песенку «Полно, иголка, шить на батюшку! Пора, иголка, шить на подушку», действительно выходила замуж. К девке приходили сваты именно из того околотка, куда указывал носком переброшенный ею через забор сапог… Нет, сама княгиня не гадала: смешно было надеяться, что к ней, бабе с тремя, а затем уж с четырьмя детьми приедет, наконец, вымечтанный некогда королевич Василий Златовласый, однако… Кто знает, подружившись в Галиче с дворовыми девчатами и присоединившись к их гаданиям, не была бы ли она предупреждена о сватовстве ненавистного увальня Игоря? Тогда можно было надеяться спрятаться в темном уголке терема и отсидеться, пока не уедет со своими сватами…
– Эй, сестра, что ты здесь делаешь?
Ярославна ахнула в душе… Это надо же было так крепко задуматься, чтобы не слышать, как скрипят ступени под телесистым братом Володькой! Вот уж кто сейчас некстати так некстати… Княгиня нахмурилась:
– А ты сюда зачем поднялся, брат?
– Не знаю, что ты замыслила, а я к тебе по делу и по весьма важному, – князь-изгой подошел к борту заборола, выглянул, осмотрелся. Присвистнул. – Да, от такого зрелища и есть перехочется. То-то пуста поварня. Я же, тебя послушавшись, на время осады укрылся в соборе. Вознесения, что ли? Ага… Присмотрелся от нечего делать к росписи. Дикая та твоя роспись, гаже только косорукими русичами выложенная… Ну, знаешь, что из стеклянных камешков на стенах киевского Михайловского собора. Потом начали стрелы падать на крышу, а одна (самострельная, небось) разбила стекляшки в окне. Тогда прибежал поп, отчего-то в смешной старинной кольчуге, и отворил для меня ризницу в подвале. Я зажёг там свечи, нашёл амфору с церковным сладким вином, приспособил кубок для причастия, ну да, потир, отдохнул немного и не заметил, как заснул. Утром проснулся, опохмелился, конечно, поднялся в собор. Слышу, что бабы воют, а вот стрел не слышно – не свистят и о крышу не бьются. Зову, зову отца Ивана, чтобы ризницу закрыл, – пропал куда-то старый чудак… Эй, сестрица, а зачем ты это нарядилась с утра пораньше?
– Отец Иван застрелен на забороле. Лежит в часовне, ждет отпевания, – отрезала Ярославна. И тут же привычно смягчилась: какой-никакой, а брат всё-таки, родная кровушка, живая весточка из Галича, от предавшей её, отдавшей девочкой-подростком мучителю на расправу, а всё же родной семьи. – Какое у тебя дело, говори скорее!
– Прикажи, сестра моя государыня, чтобы на поварне огонь развели поскорее, сварили бы чего. Есть зверски хочется, тем более что нечем было закусить ни вечером, ни утром.
Увидев, какую рожу скорчил сей тридцатилетний баловник, княгиня не могла не улыбнуться. Однако заявила сурово:
– Распорядись, Володька, от моего имени. А поесть и выпить ещё успеешь. Будем прямо сегодня поминать всех невинно убиенных: нельзя оставлять столько трупов на посаде, ведь теплынь. И прошу: найди моего Ростика в тереме, он с нянькой там. Расскажи ему байку, успокой, пожалуйста.
– Я на поварню бегу, у меня живот подводит, – заявил князь Владимир, поворачивая к лестнице. – А в терем пошли Измиря: хватит старику прохлаждаться. Двенадцатый сон уже видит.
– Измирь спит вечным сном, – нахмурилась она и зачем-то продолжила, хоть и помнила прекрасно, что брату на всём свете любопытен только он сам. – Лежит в часовне рядом с отцом Иваном. Не будет теперь со мною неотступного моего защитника, Володька.
Не отвечая, князь Владимир прогрохотал сапогами вниз по лестнице, его высокие, железом подкованные каблуки отозвались ещё с дощатой мостовой и умолкли.
Княгиня выпрямилась и сосредоточилась. Это было необходимо для деяния, на которое она сегодня решилась. Возможно, никогда бы не отважилась на такое, если бы не случившееся вчера событие. В самый тяжёлый момент битвы, когда половцы захватили посад, переплыли смрадный ров и пытались взойти на городские стены, Ярославну, поставленную Измирем за стеной в безопасном месте, куда не могли попасть половецкие стрелы, разыскала старуха-стряпуха Белянка.
– Без толку руки тут ломаешь, госпожа княгиня, – заявила сурово. – Сына спрятала ли? А точно ли в надёжном месте укрыла? Пойдём со мною – поможем нашим отбиться.
Ярославна не сказала стряпухе, куда спрятала сына, однако пойти с нею согласилась. Костлявая и мозолистая лапа старухи ухватила её чистенькую холёную ручку, они бегом пересекли площадь, где уже посвистывали половецкие стрелы-перелёты, и заскочили в теремный двор, а там и в княжескую баню. В сенях старуха попросила княгиню снять с шеи крестик, а потом с поклоном распахнула перед нею дверь. У Ярославны перехватило дыхание: маленькие окна бани были завешены шкурами, очаг ярко горел, а на полатях высились идолы, в которых она узнала Перуна-Воина и Велеса-Медведя. На цветных каменных плитах пола стоял посадский волхв Славен, а вокруг него толпились городские ведуньи, в большинстве своём тоже знакомые княгине.
Они расступились, и Славен подошел к ней, поклонился и попросил принять участие в обряде, ведь боги не захотят отказать в просьбе ей, княгине. Ей даже говорить ничего не придётся: только по знаку его отрезать голову петуху. Ей тут же вручили живого красного петуха и кривой нож: петух заметался и вдруг успокоился у неё на руках.
В голове у Ярославны зашумело, и она не слышала, с какими именно словами обращался волхв к богам. Однако когда Славен обернулся к ней и указал на неё богам своим тёмным пальцем, она, словно не в первый раз это проделывала, спокойно взяла петуха за голову в левую руку, вытянула её перед собою и полоснула ножом по тощей шее. С ужасом и надеждой глядела княгиня, как Славен обмазал петушиной кровью головы богов, и вместе с ведуньями последовала примеру волхва, когда он встал перед Перуном и Белесом на колени.
И что же? Ведь жертва богам сделала свое дело – не прошло и нескольких часов, как половцы отступили. Вот тогда-то и задумала Ярославна произнести заклинание, чтобы вернуть себе сына и мужа. Она помнила, что есть заговоры, позволяющие выкликать из объятий смерти умерших родичей, но в таком ужасном деянии не было нужды: уже дошли до Путивля вести, что Игорь Святославович и Владимир Игоревич живы и в плену. Да и наверняка она не захотела бы вернуть себе и оживить мёртвых: всем известно, что от оживших и вернувшихся к живым мертвецов не бывает ничего хорошего родичам. А вот в половецком плену её сыну и мужу делать нечего, они должны вернуться. Сына Ярославна любила как первенца своего, его рождение хоть немного примирило её с неудачным браком. Ну, а муж… Какой ни есть, но он муж её, отец её детей. И князь, который тяжесть управления княжеством осмелился переложить на её хрупкие плечи. Они должны вернуться! Сразу же после того, как половцы отошли, княгиня призвала к себе Словена, чтобы посоветовал, к каким богам и как ей нужно обратиться.
Едва ли на больше двух часов спала она этой ночью, однако на забороло взошла в лучших своих одеждах из привезенных в Путивль, накрашенная и набеленная – чтобы показать своё уважение к богам, которых будет молить и заклинать. Уже подняла она руки, уже готова была выкрикнуть-выпеть заготовленные слова, когда вдруг поняла, что обращается в ту сторону, на полунощь, откуда половцы пришли и куда они отступили. Однако ведь покойный Измирь говорил ей, что половцы обошли город, совершенно неприступный для них со стороны Семи. Так где же тогда, в какой стороне их проклятая Половецкая земля, их степь, в которой они держат её сына и мужа? Она определилась, прошла по заборолу и обратилась теперь на полуденный восток. Теперь можно и начинать. А начинать надо с выхода своего: описать то место, откуда обратится она с просьбой – не эти скрипучие, политые кровью доски заборола, а духовное, открытое полёту священной мысли пространство.
Глядела перед собой и не видела чудесные зелёные луга и речку, как невеста фатой, приодетую утренним туманом. Снова вытянула вперёд и вверх руки и невольно сама удивилась, каким высоким и сильным запричитала голосом:
– Полечу чайкою по Дунаю, омочу шёлковый рукав в Каяле-реке, утру князю кровавые его раны на жестоком его теле!
Далеко разнеслось над лугами и речной водой начало заклинания, и на тропинке, ведущей от реки к сожжённому острогу, встрепенулся в седле князь Всеволод Святославович, и сон сразу ушёл из его мутных глаз. Нашарили они на стене детинца тонкую женскую фигурку и уже от неё не отрывались.
– Славно заклинает, – одобрил, зевнув во весь рот, Хотен. – А что за река Каяла? Не слыхал о такой…
– Замолчи, боярин, – прошипел Севка-князёк. – А то зарублю ненароком. Тупым своим мечом. Каяла же – от каять, река печали… Молчи, прошу.
– О, Ветер-Ветрило! Почему, господин, столь сильно веешь? Зачем на своих легких крыльях приносил китайские стрелы на воинов моего лады? Разве мало тебе было высоко под облаками веять, лелея корабли на синем море? Зачем ты, господин, мое веселье по ковылю развеял?
– А теперь уже плачет скорее, – удивленно заметил Хотен.
– Заткнись!
– Светлое и тресветлое Солнце! Всем ты тепло и красно. Почему, господин, простёр ты жаркие свои лучи на воинов моего лады, в поле безводном жаждою им луки иссушил, тоскою им колчаны заткнул?
Заклинательница качнулась на забороле. Князь Всеволод Ростилавович догадался, что набирает сейчас в грудь воздуха и собирается с духом. Осталось ей самое главное – просьба. Кого будет просить – Стрибога-Ветер или Солнце – Хорса?
– О ты, Днепр-Словутич! Ты пробил каменные горы сквозь землю Половецкую; ты лелеял на себе Святославовы насады до войска Кобякова. Прилелей, господин, мою ладу ко мне, чтобы больше не слала к нему слез на море рано!
– Рано… – ответило заклинательнице эхо, прокатившись над речной гладью. И замолкло. А там и тонкая фигурка исчезла со стены.
– Вот чего довелось мне на старости лет услышать, – протянул Хотен. – А ты, княже, будь добр, выбирай слова, когда ко мне обращаешься. Нрав у меня тяжёлый, рука ещё тяжелее, не заткнул бы, осердившись, твой колчан.
– Путивль на Семи, а князь, её муж, полонен в Половецкой степи, – отозвалась Прилепа из-за спины Хотена, желая замять начинающуюся ссору. – Почему ж сия княгиня просила у Днепра?
– Прости, боярин, за грубое слово, – вдруг широко улыбнулся Севка-князёк. – Кажется, я знаком с сею княгинею… А ты, почтенная, живёшь на великом и могучем Днепре, что тебе до малых-то речек? Однако Сейм впадает в Десну, Десна в Днепр, а в народе считают старого Днепра-Славутича отцом и покровителем всех тех рек и речек, чья вода в нем течёт. Княгиня думает, что и та речка, возле которой становище Кончака, тоже одна из таких Днепровых помощниц. Однако поедем, мне хочется поскорее увидеть Фросинку вблизи. Неужто я ошибся?
Не доехав десятка сажен до обгорелых, но уже снова запертых ворот острога, увидели они странное зрелище. Мужик лет сорока, простоволосый, в одной драной сорочке, лыком подпоясанной, и в меховых опорках на ногах, однако с усами и грязной щетиной на лице, следовательно, младший дружинник, крестился на крест Воскресенского собора и отбивал земные поклоны. Рядом с ним на истоптанной копытами глине стоял медный котёл на несколько ведер.
Хотен натянул поводья:
– Кто ты, почтенный муж, и за что благодаришь Бога?
– Меня, боярин, зовут Ярмышом, я отрок князя Владимира Игоревича, и в последней битве несчастливого нашего похода получил я сильный удар по голове. Очнулся уже вечером, на земле, без доспеха, раздетый. Ладно бы коней только увели бесовы дети, да на заводном, Дичке, у меня был приторочен дружинный наш котёл. Я вообще-то стрелок, но на привалах помогаю кашевару и на походе отвечаю за….
– Давай короче, Ярмыш, – бросил Севка-князёк, тоскливо поглядывая на снова явившийся над остатками частокола участок городской стены.
– Успокойся, э… боярин, – прогудел Хотен. – Разве ты не видишь, что у нас новый свидетель? А то и проводник. Давай, рассказывай, Ярмыш, да подробнее.
– Какой из него свидетель? – фыркнул выехавший вперёд Беловод Просович. – А за проводника берите мужика, ради Бога, берите, а я домой вернусь.
– Кстати сказать, боярин, ты и вправду из Путивля возвращайся в Чернигов, – распорядился Хотен. – Расскажешь князю своему Ярославу, что мы видели, а проводника мы найдем.
– Не пойму, о чем вы, господа бояре, – отрок с трудом поднялся с колен и обвёл красными, воспалёнными глазами обступивших его всадников. – А я, говорю, на походе за котёл перед князь-Владимиром отвечал. Куда ж мне было без котла податься? Если коротко, украл я, прости меня за то Господь, у детей бесовых ихний котёл и вот на плечах принёс. Теперь пусть сперва отец Иван святой водою поганскую посудину побрызжет, чтобы есть из него было можно, не брезгуя.
– Как же ты прошёл через степь? Не дурачишь ли нас? – изумился Беловод Просович.
– Зачем мне бояр дурачить? Днем в оврагах хоронился, а ночью шёл – так и добрался. Чуть на орду не напоролся – вот тогда, в самом деле, натерпелся страху.
– Ладно, муж, – склонился к нему с седла Хотен и похлопал по плечу. – Ты молодец, настоящий хоробр. Я Хотен Незамайкович, посол от великих князей к Кончаку. Ты отдохни, поешь, поспи, а если захочешь съездить со мною проводником на Суурлий и в становище Кончака, приходи к вечеру в терем и спроси меня. А я всё улажу с твоей княгиней, а тебя щедро одарю.
Ярмыш помотал полуседой головой:
– Благодарствую, господин посол, но я едва жив. А был бы силён и здоров, тоже ни за что бы не поехал. Снова на то проклятое поле, полное воронов, да ещё теперь, когда ещё одна неделя прошла? Да ни за какие куны.
Бояре и дружинники переглянулись. Один Севка-князёк, улыбаясь, думал о чем-то своем.
Глава 19 Задумывая побег
Поп, приведённый ко князю Игорю из церкви в половецком граде Шарукани, исповедав и причастив несчастного пленника, тут же принялся истязать его рассказами о чудесах местного святого мниха Лаврентия и о происках греческих церковников, не желающих провести правильное причисление к лику святых первого православного мученика в Половецкой земле. Потом начал отец Памфилий сначала намекать, а затем и просто вымогать у Игоря Святославовича куны на обустройства раки мученика. Пленник, у которого над душой висела необходимость выкупа двумя тысячами гривен, злобно отмалчивался. Была у него раньше докука – рука ушибленная болела, рука успокоилась – болтливого попа принесло на его голову! Он уже дал себе слово прогнать отца Памфилия из стойбища плёткой, как только Кончак выручит Владимира, и они с ханом обвенчают своих детей. Грех совершит, кто же спорит, но дома есть архимандрит Мисаил, человек добрый и услужливый, тот разрешит своего князя от любого греха. Только бы домой добраться! С утра пораньше гонял теперь князь Игорь по степи за зайцами с ястребом или соколом, но уже не только сокольничий Буртас и его подручные сопровождали его, но и русские пленники из своей, новгород-северской дружины, конюший Ставр Спехович и копейщик Незнай, оказавшийся побочным сыном покойного тысяцкого Рагуила. Оказалось, что держали их в оковах в этом же стойбище отдельно, однако Кончак перед отъездом на войну приказал расковать их и не препятствовать, если захотят проводить время со своим князем. Было в становище ещё с два десятка отроков из новгород-северской и рыльской дружин, однако они мыкали свою рабскую долю на чёрных работах, князю на глаза не попадаясь. Толмач Овлур на охоту выбирался не часто, а вот вечерами исправно навещал Игоря.
Вечера же пленники и Лавор коротали теперь в веже, отведенной Игорю, за вином коротали и к вину за неспешными разговорами – пока не приходила уже надоевшая князю своими ужимками девка Бюльнар, а иногда вместо неё иная, помоложе и поглупее, так что имя её князь не пожелал и запоминать. Стояла прекрасная в степи пора начала лета, князь-пленник как сыр в масле катался, и, казалось бы, некогда было Игорю Святославовичу задумываться о своей судьбе, однако чёрные мысли не покидали его и в самые восхитительные мгновения соколиной охоты.
«Придёт, придёт оно, время, – с кривой усмешкой предсказывал он себе, – когда ты горько пожалеешь, что Богом назначенный тебе срок полона не отсидел в смрадной яме с железным ошейником и на цепи». Да на него успели уже всех собак повесить за тот злосчастный разгром – а тут ещё эта привольная жизнь в плену, и о ней прошла, небось, уже молва по Руси. Нет что-нибудь хорошее, доброе о человеке поведать, а уж если худое – как сорока на хвосте через все непроходимые леса и болота разносит! Если ещё и две тысячи выкупа придётся у родичей выпрашивать – на Русь потом хоть и не возвращайся.
Думал, думал Игорь Святославович и убедился, наконец, крепко-накрепко убедился, что его спасти сможет только смелое, будто у былинного хоробра, деяние: надо бежать, прихватив с собою конюшего и сына тысяцкого. Скажет тогда злопыхателям, что привёл дружину в степь и сам же её вывел на родину. Кто вспомнит, что привёл и положил в степи две тысячи мужей, а вывел двоих? О выкупе тогда придётся забыть жадным ханам, и свои не станут укорять – тоже ведь выгода немаловажная.
Вот только как убежать? Лука и стрел ему так и не дали, и на охоту русичи-пленники ездят безоружными, в то время как Буртас и его товарищи не расстаются с саблями, а из луков стреляют столь метко, что не раз, когда в бегущего зайца вонзалась стрела, выпущенная из седла на скаку, у князя Игоря неизвестно почему чесалось между лопатками. Да и не уйти от них на охоте: у самого князя конь, положим, совсем неплохой, а конюшему и сыну Рагуила дают сущих кляч, они то и дело отстают. К тому же и кормят прочих пленников впроголодь, объедками, только и отъедаются, что у него в юрте за ужином. Он знает, в какую сторону уводят его приближённых, но не знает, как их там держат, и ночью едва ли бы нашёл это место. После обеда, когда почивает князь по отеческому обычаю, его усердно стерегут нукеры с оружием, по очереди. Для них и юрта напротив княжей юрты поставлена. Бежать ночью? Однако всю ночь до утра у выхода из его вежи горит костёр, и нукеры там в доспехах: один сторожит, а прочие у костра дремлют. Только и осталось, что надеяться на счастливый случай…
Случай такой представился, однако вовсе не тот, на который Игорь смутно надеялся. Как-то раз вечером, когда несколько осоловевший от вина Игорь поглядывал уже на полог юрты, поджидая появления Бюльнар (привязчива, как муха, и стыда во лбу нет), Лавор нецеремонно вытолкал конюшего и сына тысяцкого, а затем плотно, как в годину бури, завязал полог. Поклонился:
– Бюльнар сегодня не будет, княже.
– Придёт та… как её? – щёлкнул пальцами князь.
– Не будет девок.
– Ты вместо них? – не удержался Игорь Святославович.
Лавор не улыбнулся. Он вообще казался князю Игорю чересчур каким-то правильным, коли не сказать занудным. Вот и сейчас поднял ко князю очагом освещенное плоское жёлтое лицо и принялся объяснять:
– Я христианин, как и ты, княже, а мужеложство у православных есть смертный грех. Я же, во-первых…
– Да будет тебе, чудак! Пошутил ведь я.
– Тогда это первая твоя шутка за три дня, княже. Опять задумался о побеге?
– Йок, йок! – подражая Буртасу, возразил князь.
– Очень тебя прошу, – невозмутимо заявил Лавор, – говори только по-русски. В строже сегодня нукеры, кои русской речи не разумеют. Я помогу тебе бежать, княже, если решишься на побег. Мне легко подготовить коней, запас еды и оружие. Тебе же надо будет только решиться.
– Решиться я, почитай, что уже решился, – прищурился Игорь. – Да только вот не пойму, с чего бы тебе, толмач, заботиться о моем побеге? Какая тебе с него корысть?
Моложавое лицо Лавора оживилось, что бывало нечасто.
– Уж не знаю, держишь ли ты в своей памяти, княже, что я тебе некогда поведал. А поведал я тебе, княже, что мать моя была русской, и что с юных лет служил я в толмачах великому князю киевскому Изяславу Мстиславичу. А ушёл я от него, когда увёл он дружину на Волынь…
– Помню!
– …а я предпочёл вернуться в родную степь. Но прошли годы, многие годы, и стало мне в отчизне моей тяжело. В языческом этом невежестве. Не изведав таинства крещения, мои степные сородичи боятся воды, и я, чтобы сходить в баню, должен для того целый день скакать в Шарукань. И чтобы мне, православному, помыться в бане духовной, тоже надо туда поехать, в сей грязный Шарукань, пачкать свои колени в церковке-развалюхе и терпеть разглагольствования и выпрашивания безумного отца Памфилия! О! Он здесь теперь, бродит по становищу, пристает к тебе, ко мне, к встречным кыпчакам и может оказаться без головы! Я хочу жить возле настоящей церкви, большой, красивой, с ароматами, со святыми мощами, кои помогут мне в случае болезни. А болезни наступают, и вот – спина время от времени сильно болит. Летом, сам видишь, в степи хорошо и приятно человеку, однако врагу своему не пожелаю прожить студеную зиму в юрте. А с моею спиной теперь… Да я просто страшусь следующей зимы. Я желаю остаток жизни провести в тепле, больной спиной привалившись к русской печке-матушке… Ты задремал, княже?
Игорь раскрыл глаза и хлебнул вина из заветной фляжки. Привычно провёл пальцем по крутой заднице серебряной прелестницы. А сказал совсем не о том, что подумалось.
– Задремлешь тут с тобою… Я сображаю, толмач, есть ведь о чём подумать. Ты только излагай покороче.
– А куда спешить? Вот именно надо всё обдумать. Ты спросил меня, я отвечаю, но ещё не ответил до конца. И ещё я хочу помочь тебе, потому что жду за такую помощь от тебя награды. Хорошей награды, такой, чтобы я смог спокойно и удобно дожить свои дни на Руси. Теперь уже всё сказал.
– Откуда я возьму тебе хорошую награду, толмач? Из рукава, что ли, как скоморох, вытащу? – искренне удивился Игорь. – Твои сородичи меня ограбили, поистине обчистили, как липку, и ещё требуют две тысячи серебряных гривен выкупу.
Протянул Лавору фляжку, тот отказался («Сначала договориться надо»), дёрнул плечом, сам сделал хороший глоток и вдруг оживился.
– Есть! Знаю теперь, как наградить тебя! В походе погиб мой тысяцкий Рагуил, земля ему пухом, – тут Лавор перекрестился. А за ним и князь. Помолчал, ухватил за хвост ускользнувшую было мысль и продолжил. – Двор у него в Новгородке моём, земли там же в княжестве, под моей рукой, а все богатства старика, многолетней службой у разных князей собранные, в тереме на дворе же. Осталась после него одна дочка незамужняя, перестарок, а внебрачный сын, тебе известный, что со мною в плену, Незнай сей не в счёт. Я тебя женю на дочке Рагуила – и все Рагуиловы богатства твои!
– Ты сказал «перестарок», – осторожно промолвил Лавор. – Не сразу и вспомнил это слово… А насколько она перестарилась, Рагуилова дщерь?
– Помню только, что засиделась в девках… Ну, годков двадцать ей или немного за двадцать, – тут князь Игорь ухмыльнулся. – Всё одно ведь тебе под семьдесят, а, Лавор?
– Я пережил на свете Божьем шестьдесят две зимы, – чопорно заявил толмач. – Не в том дело, что невеста моложе меня. У меня тут, в кочевье моём, три жены, младшей и двадцати нет, а в том беда, что со старухой моей мы обвенчаны. Двоеженство есть страшный грех.
– А мы просто не скажем моему архимандриту Мисаилу про твою старуху, а? – и князь подмигнул. – И он тебя обвенчает как миленький. Во соборном храме моего Новгородка. А грех возьму на свою душу, так и быть.
Лавор промолчал. Князь посуровел лицом:
– Главное, что ты предложил помощь, а я принял.
В долгу не останусь. Теперь слушай: мне нужны будут три коня (ханского Барса, что я на охоту себе выбрал, не трожь) и три к ним поводных, три одеяла, кресало, трут, лук, стрелы, котелок… О себе же сам позаботься, толмач.
– Шесть коней, княже?
– Ну да, я же возьму с собою двух своих дружинников. Бояр, в общем. У меня в становище ещё с десяток отроков, но я же не прошу коней и для них, Овлур, я же понимаю…
– Нет, я могу вывести только тебя, княже.
Игорь нахмурился. Не много ли он на себя берет, толмач? И в глаза перестал глядеть…
– Разве не всё ли едино, что одного вывести на Русь, что трёх?
– Трёх не могу, княже.
– А я могу бежать только вместе с дружиной моей – ну, с теми двумя…
– Нам не миновать бросить коней и прятаться, княже. Двум от погони, да и от пограничных разъездов легче укрыться, чем четырём.
– Ты за кого меня принимаешь, толмач, – за княжича-несмышлёныша?
Толмач промолчал, уставившись на кошму пола.
– Ладно, поговорили, и будет. Что-то меня на сон клонит, – заявил Игорь и в самом деле зевнул.
Лавор, однако, не сделал и движения, показывающего, что собирается уходить. Игорь возмущённо воззрился на него, однако не успел открыть рот, как Овлур с несчастным видом быстро прошептал:
– Нельзя брать с собою Ставра и Незная. Великий хан Кончак разрешил бежать тебе одному.
– Что?!
– Великий хан говорил, что не настаивает на выкупе в две тысячи: его ведь пришлось бы разделить между многими ханами. С тебя он возьмёт двести гривен (за тот скот, что пришлось отогнать Чилбуку) и сто пятьдесят за молодого Владимира. Вдобавок за коней его ханских, для побега потребных, – недорого, по-божески. А Владимира с женою, своей, ханской дочерью, отпустит, когда от тебя гривны привезут. Только ты должен молчать и об этой вашей сделке.
– Промолчу, а то как же? – скрипнул Игорь зубами. – Уж промолчу.
– Только имей в виду: если – не дай того Бог! – тебя поймают, великий хан за тебя больше не вступится. Если пленник бежит и его изловят, у нас такового казнят, чтобы иным неповадно было, а всех других, что с ним сидели, заковывают и держат с жесточью великою, уже без всяких послаблений. Меня, если схватят нас кыпчаки из другой орды, Кончак тоже не станет выручать.
– Куда ни кинь, везде клин, – проворчал князь Игорь. – Вот уж хитрозадые вы все какие! Никому нельзя верить.
– Ты и сам бы про сие догадался, княже, что я действую по поручению великого хана, – с каким-то даже укором поднял глаза на князя Лавор, – если выпил бы сегодня поменьше вина и если бы дал себе труд задуматься: отчего бы это я, решившись помочь тебе сбежать, обрекаю на смерть или на рабство всю свою семью?
Игорь в свою очередь опустил глаза. Ему-то как раз наплевать было и на судьбу этого полукосоглазого, и на судьбу его косоглазой семейки, однако показывать своё равнодушие было нельзя.
– Да уж, не подумал я! А когда поедем? И как обманем сторожу?
– Поедем уже через два дня, когда вернётся войско с Кончаком. Сегодня прискакал скорый гонец от него. Великий хан идёт неспешно, бережет полон. Когда приедет, будет всеобщий той, и я тогда… – и Лавор подвинулся на кошме, чтобы приблизить свои уста к уху князя Игоря.
Утром князь Игорь убедился, что слух о возращении половцев с полоном дошел и до других русских пленников. После завтрака вдруг полил ливень, ни о какой охоте не могло быть и речи. Поскучав с русичами, язык которых он понимал с пятого на десятое, Буртас, странным образом стеснявшийся русского конязя, увёл Овлура в юрту для сторожи, пообещав угостить кумысом.
– Беда, князь, беда, – зашептал конюший, и князь, вообще старавшийся не приглядываться к оборвавшимся и покрытым грязью товарищам по плену, увидел, что на нём лица нет. – Войско злого Кончака возвращается. Говорят, что великий хан злобствует, что не удалось взять Переяславль, и теперь сорвет злобу на пленниках, всех нас перебив, а кто говорит, что и разноличными пытками замучит.
Игорь помолчал. Потом прошептал:
– Мне тут один половецкий муж обещал помочь убежать за большие куны, но только одному. Я же ему, други, ответил: «Я славы ради и на поле битвы от дружины не бежал, и теперь не вздумаю пойти неславным путем». В общем, я отказался. Как же мне, свою шкуру спасая, вас, дружину мою, оставить?
Конюший опустил голову. Молодой Незнай, лицом совершенно не похожий на старого Рагуила, посмотрел на князя с таким выражением, будто тот предложил ему сейчас же и вместе бежать на Русь. Игорю Святославовичу стыдно стало смотреть в горящие на измазанном лице глаза юноши, и он повторил:
– Ваша судьба – и моя судьба, други.
– Нет, так неправильно, княже. Коли можешь бежать, беги, – медленно, будто и себя самого в сказанном убеждая, произнёс конюший. – Что доброго для Руси в том будет, если и ты погибнешь, и мы? А на воле если окажешься, сумеешь и для нашей свободы постараться, это коли живы останемся.
– Бежать мне одному – неславною тропою бежать. Лучше уж я вместе с вами погибну, а княжеской чести не уроню.
– Убьют, княже, не будет тебе ни жизни, ни чести.
Игорю надоело повторять одно и то же вранье. Он обрадовался, когда в юрте резко посветлело, и оказалось, что дождь уже некоторое время не шуршит по войлочным стенам юрты. А там и Чилбук заглянул, мокрый, пахнущий острой кислятиной кумыса. Откинув левой рукою полог, он окинул презрительным взглядом русских дружинников, по невежеству усевшихся на женской половине юрты, и радостно улыбнулся князю Игорю:
– Айда, коняз! Тенгри кок!
В течение дня, правда, синее небо неоднократно затягивалось тучами, охотников намочил ливень, и дважды моросило, однако в целом охота выдалась удачной. Игорю Святославовичу, в отличие от Чилбука, она не доставила много радости. Он понял вдруг, что не готов поменять привольное, не требующее от него никаких умственных усилий и ответственности, день да ночь – сутки прочь, житьё в плену на опасности и лишения побега. Да и что ждёт его на Руси? Свобода свободой, вот только не обернётся ли она порубом в Киеве, а того пуще в Переяславе, принадлежащем злейшему врагу Владимиру Глебовичу, тем порубом на дворе церковном, где чуть не отдал Богу душу его, Игорев, дядя, в честь которого и назван – великий князь киевский Игорь Ольгович? И ещё мучила Игоря мысль о том, означает ли его сносная жизнь в плену и прикровенное предложение самого Кончака убежать, что прервалась злосчастная цепь его невезений в этом походе? Первым звеном той цепи стало двухдневное опоздание брата Всеволода на место сбора, а потом пошло-поехало, только и успевай их, невезения, подсчитывать. Если невезениям конец – отлично! А если милости к нему Кончака злодейка-судьба дозволила только для того, чтобы очернить его в глазах князей-сородичей? А если Кончак задумал очередную хитрую каверзу, а следующим, последним звеном невезенья станут поимка и позорное, лишающее княжеской чести, наказание? Однако никакого другого для себя выхода не видел князь, кроме как очертя голову решиться на побег.
Когда человек бессилие своё ощущает перед всевластием судьбы-злодейки, когда не ведает, в какую бы щель ему втиснуться, остаётся у него возможность обратиться к высшим силам. Князь Игорь незамедлительно, и заветной фляжки на святое дело не пожалев, попросил бы знаменитого шамана Кулобу устроить камлание и узнать, удастся ли побег, – попросил бы, коли не был бы уверен, что шаман посул возьмёт, а сам тут же побежит доносить Чилбуку. Русские провидцы, волхвы да православные прорицатели, юродивые и печерские старцы-прозорливцы, те далеко. Поп здесь, да что с него толку? Хотя… Князь вдруг нашёл применение отцу Памфилу, точнее, его, из Шарукани привезённым церковным вещам, покрутил головою, понял, что не просто в седле докучливо трясётся, а мчится по ковылю (сокол в небе, впереди на два конских крупа улюлюкающий Чилбук), и вернулся к мгновенным радостям бытия.
Когда уже показались крайние юрты становища, Игорь как бы нечаянно поравнялся с сыном тысяцкого и шепнул ему:
– Разыщи попа – и ко мне в юрту. И пусть иконы с собою прихватит.
Отец Памфилий вошел к нему в юрту уже после обеда, когда князь возлежал на кошме, ковыряясь в зубах, и размышлял о достоинствах и недостатках половецкой кухни – это чтобы голову освободить от мучительного чередования надежды и сомнений. Попытку попа завести вечную свою песню о пожертвовании на церковь Игорь Святославович решительно пресёк, а в ответ услышал:
– Да уж, милостивый княже, я ведь мог и не довезти до Шаруканя твои куны. Ты вот убежишь, и как бы мне за тебя потом голову не срубили.
– Я убегу?!
– Да все говорят, что навострил лыжи.
– А кто говорил тебе, отче? Наши русичи или кыпчаки?
– Наши русские говорили, да. А что нехристи говорят, я и не прислушиваюсь, чтобы не согрешить.
– Худо дело, – вздохнул князь. – Мне, отец Панфилий, надобны иконы твои, что привёз ты с собою для церковной службы. Покажи, что прячешь?
– Да вот она, икона. Иисусова, княже. «Спас Ярое Око».
– А Богородичной нету у тебя?
– Одну икону взял, княже… Эй, княже, мы так не договаривались!
Игорь, отняв доску и приставив её к стене, заявил веско:
– Не кричи, отец. Никто не забирает у тебя твоего Спаса. Когда я… ну, настанет когда время, сам придёшь и возьмёшь. А я тебе на твою церковь пришлю куны из Руси. Хочешь, в том крест поцелую?
– Да будет, верю тебе, княже. Нет, уж лучше всё-таки поклянись.
Игорь не стал целовать крест, вместо этого спросил:
– Слушай, книжная душа, какой день сегодня у нас, если по-нашему, по-русски?
– Четверток сегодня, число двадцатое месяца июния, – подчитав на пальцах, ответил поп. И уже не столь уверенно продолжил. – Кажись, священномученика Мефодия, епископа Патарского.
– Это надо же, какие бывали епископства! – удивился князь. – Спасибо. А теперь иди, мне подумать надо.
Глава 20 На лесном просёлке
Хотен тяжело повернулся в седле, чтобы взглянуть на Путивль перед тем, как кресты на куполе Вознесенской церкви скроются за очередным лесистым холмом. Увиденное на путивльском посаде его потрясло (коли перед собою не хорохориться), и теперь путешествие в Половецкую степь, на которое он необдуманно согласился, казалось сыщику куда более опасным предприятием, чем представлялось вначале. Быть может, и этот город, маленький, однако красиво расположенный среди лугов и лесов, он видит в последний раз… По-иному расценивал теперь и возможность поездки в степь Прилепы. Да и Сновидку, что ни говори, родную кровушку, не хотелось теперь тащить за собою в сей ад. Дорогою в Рыльск надо было ему, наконец, поговорить по душам с молодым Неудачею Добриловичем: впереди была охота за убийцею его отца, а от парня в конце её очень многое зависело.
Хотен покосился на Севку-князька. Тот мычал нечто невразумительное, заводил глаза к небу, улыбался блаженно и вообще выглядел не как человек, способный обидеться на спутника, если тот отъедет на минуту-другую. Хотен промолвил осторожно:
– Мне тут, княже, надо децкому кое-какие указания дать, так что…
– Господа ради, боярин! Ах, что за женщина, что за женщина… Ладно, я тебе потом расскажу, толстошеий…
Пожав плечами, старый сыщик натянул поводья, а поравнявшись с Неудачею и Хмырем, кивком попросил Хмыря выехать вперед.
– Потолковать нам надо, децкий.
– Да уж, надо бы, господин боярин и посол. Я хотел бы у тебя вопросить, кто старший в моём десятке – я или твой бывший оруженосец Хмырь?
– Прекрасное время – молодость, когда хочется самому распоряжаться, самому за всё отвечать, – улыбнулся Хотен. – А станешь постарше, будешь думать уже о том, как от такого бремени уклониться. Тебя же припомнить прошу, что ты в это посольство поехал по моей просьбе великим князьям. Я надеялся, что в Рыльске мы узнаем полезное про Чурила, которого подозреваю я в убийстве твоего отца. Хоть и обидел его твой отец, соблазнив девицу, на которую и Чурил имел виды, я не вижу тут достаточного повода для убийства дружинником своего боярина, почти что отца родного, от которого жизнь и благосостояние дружинника зависит. А девица… Да мало ли девиц в Киеве? Однако если он убил за куны, то как умный человек (а разве глупец придумал бы так замаскировать убийство, что только я сумел догадаться, как он всё устроил?), то как умный человек, говорю, не стал их тратить в Киеве. А в далеком Рыльске – почему бы уже не потратить куны? Или бы почему не похвастаться, как хитро он избавился от своего боярина? В Киеве он боялся похвастаться, хоть и хотелось ему (такие хитрые убийцы, уж не знаю почему, Неудача, все непременно бахвалы), а то и проговорился где-то, ведь слухи пошли.
– Я тоже думаю, что проговорился, – заметил Неудача. – Только, смекаю, не славы желая, а по пьянке – любит сей муж в пиве язык помочить.
– Вот видишь! Тогда и прошлось ему скрываться аж в Рыльске. Однако почему бы не похвастать в здешнем медвежьем углу, сказав, что дело происходило не с ним, а с другим дружинником? Я думал, что самого Чурила мы не застанем, ведь ушёл он в поход в дружине князя Святослава Ольговича, следовательно, погиб наш хитроумный Чурил или в плену сидит… Ладно, смекаю, самого его нет, так логово его обшарим, у людей спросим – авось, дело и прояснится. Потом моя помощница нас догнала – вот, думаю, и прекрасно: она в Рыльске слухами и займётся, мимо Прилепы ни один бабский слух не проскочит. Однако в беседе с княгинею Евфросинией Ярославной вдруг узнаю я, что среди бежавших с поля последней битвы Игоревой был и рыльский дружинник именем Чурил.
– Да не может такого быть…
– Потом я сообразил, что как раз может такое быть. Если сей отрок настолько бесчестен, что убил своего боярина, понятно, почему бесчестно с поля битвы бежал. А если сумел мгновенно сообразить, как убить ненавистного боярина и перекинуть вину на половцев, не удивлюсь уже, что сумел и погони избежать. Но оставалось, конечно, сомнение: ведь Чурилов, крещённых Кириллами, на Руси немало. Говорю княгине: «Христом-богом тебя молю, вспомни, не слышала ли ты ещё что-нибудь об этом отроке?». Она удивилась, конечно, моей горячности, однако припомнила, что он в Рыльске, говорили ей, недавно, а раньше не то в Чернигове служил, не то в Киеве. Чует моё сердце, что повезло нам с тобою – наш человек!
– Дай-то бог! – молодой Неудача даже в седле подпрыгнул от радости.
– А я вот смотрю на тебя, не рано ли радуешься? – покосился на него Хотен. – Ну, ладно, допросим мы с Прилепой того Чурила (а как на допрос его взять, чтобы не заподозрил подвоха, я уже придумал), и окажется он убийцей. Тогда твоё право мстить, мы со Сновидкой будем свидетелями – да только решишься ли ты его, Чурила, жизни лишить?
– Рука моя не дрогнет, боярин, – прошептал Неудача.
– А тебе приходилось ли людей жизни лишать? – спросил, глядя в сторону, Хотен. – На войне, я войну имею в виду, а коли убил кого не на войне, то о сем сейчас промолчи.
– Я не бывал на настоящей войне, – растерянно улыбнулся юноша. – Выезжал в дозор, был в перестрелке… Нет, вряд ли убивал кого…
– Ладно, я что-нибудь придумаю. А ты подумай, чем действовать будешь.
– Мечом, чем же ещё.
Хотен хмыкнул.
– Ладно, что тут поделаешь… Пока доедем, постарайся подготовиться душевно. А на Хмыря не сердись.
Выехал вперёд Хотен и оказался рядом с Севкой-князьком, а тот уже созрел для задушевной беседы. Спросил проникновенно:
– Ну, и как тебе, боярин, показалась княгиня Евфросиния Ярославна?
– Ничего не скажешь, баба твердая. Мужественная баба, справная. Муж ей должен быть благодарен, что без дружины удержала Путивль. – Хотен задумался. – А ещё показалась мне разумной жёнкой. Что у жёнки волос долог, а ум короток, – не про неё.
– Разумной показалась, мужественная баба… Эх ты, толстошеий… Да ведомо тебе будет, что я знавал её ещё галицкой княжной, когда Фросинкой кликали? Ей лет четырнадцать было, уже на выданье…
– То бишь лет двадцать тому назад, – прикинул Хотен.
– Мы с братьями Рюриком и покойным Мстиславом Хоробрым ездили в Минск на свадьбу, уже не помню, кто и на ком женился, и Фросинка приехала с сестрою из Галича. Славно повеселились. Это сейчас Рюрька такой важный, а тогда был рубаха-парень. И я ещё в своей жизни изгоя тогда не утвердился. Хотя волости у меня тогда уже не было, но куны ещё водились. Мой отец, тогда уже великий князь, по случаю какого-то праздника или мира, не помню, сменил ко мне гнев на милость, и хоть волости не дал, зато одел-обул в самое лучшее, подарил двух коней и дорогое сменное платье.
– Я понял: ты мог ещё приударить за хорошенькой княжной.
– Приударить не то слово… Фросинка держалась королевной. Сначала Рюрька за нею принялся ухаживать, но очень скоро она начала его избегать, и я понимаю, почему: он развлекал её рассказами о волостях да междукняжеских ссорах, а ей это было не любопытно. Меня же она начала отличать с тех пор, как мы с нею вдвоём станцевали венгерский: музыканты заиграли венгерский, ей очень захотелось поплясать, а все князья, кто умел сей танец, были уже слишком пьяны, вот мы с нею вдвоём и станцевали. Помнится, среди матушек-княгинь о нас и разговоры пошли, что вот не вся же княжеская молодежь спивается, остались же и пристойные молодые люди. Через несколько лет, когда я снял с груди крест и повёл жизнь скомороха, обо мне бы так не сказали. Да и я не смог бы уже увлечься Фросинкой: привык развлекаться с пустыми, весёлыми бабенками, вовсю отгуливал за слишком уж суровую свою молодость. А Фросинка уже была замужем за этим своим дубоватым Игорем.
– Говоришь, хороша она была девкой, княгиня Евфросиния Ярославна?
– Хороша она и сейчас, сам же видел, как она красива! – воскликнул Севка-князёк столь восторженно, что Хотену показалось на мгновение, будто говорят они о разных жёнках.
Любопытно ему стало, как оно так выходит, что увидели они княгиню будто разными глазами: он, Хотен, разглядел в ней жёнку за тридцать, пожалуй, что высокую, спору нет, что стройную, однако сухопарую и тощую, явно недостаточную телом в тех местах, где жёнке Бог повелел быть телесистой. Черты лица резко заострены, щеки под румянами запали, глядит гордо, пронзительно – вот кому пошло бы монашеское платье, вот бы кому, а не роскошной Несмеяне, монашками распоряжаться! Севка-князёк глядел на него выжидательно, и Хотен выдавил из себя:
– Глаза у неё, у княгини Ярославны, очень красивые.
И тут же услышал за спиною, как возмущённо задышала Прилепа. Боже мой, он же сам велел ей прислушиваться к их с князь-Всеволодом речам!
– Сказать, что в юности Фросинка красива была, – это всё едино, что ничего не сказать, боярин. Я, постаревши, вижу теперь, что все юные девы прекрасны, и эту красу всевластная Мокошь дарует им для брачных игр, всё одно что фазану его яркие перья. В юной же Фросине была тайна, в которую хотелось проникнуть, загадка, которую тянуло разгадать. Боюсь, что ты не поймёшь меня…
Хотен кивнул поспешно. Сам он в ответ и не подумает исповедаться в таких вещах – тем более с прислушивающейся Прилепой за плечами. Однако, что ж дивного в том, что юница таит в себе тайну? Случилось так, что и у Несмеяны, и у жены его покойной, и у той же Прилепы такие загадки он не разглядел вовремя, в чём сам же и виноват. Да только что же мог он разглядеть в той же боярышне Несмеяне, если бешено влюбился не в ту земную девушку, которой была, а в придуманный им самим её образ? А Севка-князёк меж тем о любопытных вещах заговорил… Ничего, Прилепа перескажет, если чего пропустил.
– …замечательно умела рассказывать. Помню, как будто только что услышал, её повесть о том, как Галич затопило в половодье. Как люди спасались на деревьях, а они с сестрой сидели на крыше терема, и Фросинка убеждала сестру, что повторился тот самый всемирный потоп, о котором на пиру рассказывал подвыпивший отец протопоп. И ещё много раз пересказывала песни, которым им с сестрой пел немецкий скоморох, а толмач князя Ярослава Володаревича, её отца, в меру сил своих переводил. И понял я тогда, что она мечтает о тех рыцарях (она говорила – «знатные бояре»), что влюбляются в княгинь, служат им, будто государям своим, и совершают ради своих государынь разные подвиги. Смешно, но мне нравилось, что княжна каждый раз по-разному пересказывала те песни.
– О рыцарях, ты говоришь? – усмехнулся Хотен. – В Угорщине я насмотрелся на венгерских рыцарей, не похоже было, чтобы они служили своим государыням. Ничем не лучше наших бояр, только что посвящены в рыцари. Меня, кстати, король Гейза тоже в рыцари посвятил по просьбе незабвенного великого князя Изяслава Мстиславовича: в соборе ихнем поставили меня на одно колено, король хлопнул меня мечом святого Стефана по плечу и подарил мною же купленные золотые шпоры.
– Удивил ты меня, толстошеий, – после недолгого молчания заявил Севка-князёк. – Я и помыслить не мог, что такие, как ты, рыцари бывают.
– Да я и не говорю, что настоящий рыцарь, – Хотен всё-таки обиделся. – Сказал уже ведь, что это великий князь Изяслав попросил своего зятя короля Гейзу меня посвятить. «Ты, – говорит, – роду незнатного, отец твой выслужился в мечники из безвестного отрока, а если станешь венгерским палатином, труднее будет кичливым боярам тебя сожрать». Я же не кричу на всех перекрестках, что рыцарское звание имею, только что золотые шпоры в сундуке берегу.
Беседа прервалась, потому что подъехали они к первому по дороге из Путивля в Рыльск броду через Сейм, месту, удобному для засады. Когда же тревога миновала, и посольство снова растянулось по узкому и кочковатому просёлку, князь вернулся к прерванной беседе.
– Я понимаю, что ты не стал бы выбирать среди княгинь и боярынь себе государыню, чтобы совершать в её честь подвиги, однако, коль уж ты получил рыцарство от венгерского короля, ты обязан ему служить.
– Да знаю я, – отмахнулся Хотен. – И я поехал бы служить, если бы король меня призвал (кто у них сейчас, даже не знаю – Бела, кажется). Однако на самом деле я отслужил королю Гейзе ещё раньше: ведь великий князь Изяслав послал меня разыскать об одном преступлении при королевском дворе в Буде, и я нашёл преступника. И поклялся, что буду молчать.
Севка-князёк кашлянул. Искоса взглянув на него, обнаружил Хотен, что на лице князя снова появилось мечтательное выражение, повернулся на седле назад и, сдерживая желание громко закряхтеть, показал Прилепе, чтобы, коня придержав, отстала. Та покачала головой, и видно было, что подслушивание доставляет ей неописуемое наслаждение. «Да бог уже с ней, – подумал сыщик, – трясётся бедная бабёнка целыми днями в седле, пусть уж получит удовольствие».
– Я тогда, когда подружились мы на той свадьбе в Минске, подумывал, а не посвататься ли к Фросинке. Ведь мало того, что я души в ней не чаял, она тоже была ко мне благосклонна, иначе не позволяла бы мне часами играть ей на гуслях и петь песни – и не только Бояновы, но и мои, как я теперь понимаю, весьма несовершенные. Конечно, дочь богатющего галицкого князя, была она настоящей королевной, о которой многие могли только мечтать, но и мой отец был великий князь киевский, и он сумел бы высватать мне Фросинку, если бы я пообещал ему образумиться, – тут Севка-князёк испустил глубокий вздох. – Об-ра-зу-мить-ся… Когда я прикинул, что скрывается за этим словом… Чтобы содержать жену-королевну и наших детей, мне пришлось бы ловчить и подличать, добывая волости, ездить на войну, захватывать в полон и убивать людей, стать клятвопреступником и ханжой. Подумал я, подумал, поплакал даже (зачем теперь скрывать?) и отказался от своей мечты.
– Тебе, княже, всё-таки было хорошо уже за тридцать, – неловко выговорил Хотен. – В зрелом возрасте, слава Богу, таковые беды легче переносятся.
– Зато у юноши остается надежда, что его чувство ещё повторится, – вздохнув, ответил Севка-князёк, – а зрелому мужу не на что уже надеяться. Зато теперь, после второй нашей встречи… Знаешь ли, боярин, теперь я готов провозгласить княгиню Ярославну своей государыней и совершать для неё, как положено рыцарю, всякие безумства. А перво-наперво сочинил бы я песню в её честь и под гусли пропел бы её под её окошком…
– …чтобы князь Игорь, её муж, послал копейщика воткнуть копье тебе в задницу. И ни за что я не поверю, что даже ради службы такой своей государыне ты пошёл бы на войну, княже, – или ты желаешь совершать монашеские подвиги?
Прилепа за спиной Хотена хихикнула, не удержалась. Севка-князёк не обиделся. Хохотнул коротко:
– Есть и другие способы прославить сию замечательную княгиню, – помолчал и добавил напыщенно. – Я придумаю, как это совершить.
А Хотен размышлял уже об ином. Если не побояться заночевать в лесу, то можно поберечь коней и не нестись, как на пожар, а если попытаться засветло доскакать до Рыльска, тогда, напротив, надо поторопить ребят – если не хотят до утра кукарекать под запертыми по военному времени городскими стенами.
Глава 21 Бегство!
Наконец! Кончак с войском и полоном вернулся, и становище бурлит. Праздник! Чилбук со сторожами после обеда и не вставал от своего кострища: пьют беспрерывно кумыс, ведь слабенький сей их напиток, долго и усердно нужно его пить, чтобы у здорового, крепкого мужа поселилась в сердце радость. Игорь посидел с Чилбуком, пригубил кумыса из вежливости, потом выпил полную чашу. Он теперь ничего не боялся: дело запущено, и нельзя повернуть вспять. Лавор, наверное, уже ждёт в условленном месте на другом берегу Тора с оседланными лошадьми и припасом.
Как только солнце склонилось к закату, князь зевнул пару раз, потом поднялся и сообщил Чилбуку, что пойдёт в юрту подремать.
Чилбук заметил заботливо, что вообще-то спать на закате нельзя, потому что душа отлетает от человека, а злые духи могут её украсть. Потом пьяно ухмыльнулся и добавил, что душу урус-конязя кыпчакский шайтан, глядишь, и не тронет.
Закрыв за собою полог юрты, князь тщательно завязал его ремни, чего раньше никогда не делал. Потом достал припрятанную икону и поставил её на правильное место – на полку в правой стороне юрты, где оставались ещё кольца от крови и жира, стекавших с домашних идолов прежнего владельца.
Встал на колени и, вглядываясь в суровый лик Иисуса Христа, зашептал:
– Господи! Ты прости, что не Тебя буду сейчас молить спасти меня. Такому великому грешнику, как я, Ты помогать не станешь. Я прошу Тебя попросить за меня добрую Матерь Твою, которая многих от смерти спасала. А я хоть и грешник лютый, однако не из последних в Северской земле и моим подданным необходим живой, а не мёртвый или в поганых половецких руках. И если поможет Твоя Всеблагая Мати спастись мне из рук бесовых детей, то обещаю…
Князь запнулся, потому что так и не решил, что пообещать Матери Божьей за своё спасение. Хорошо бы церковь каменную построить – да разве сейчас на такое можно пойти? Это ж будет сущее разорение! Однако молчать дальше становилось опасно, и он пробормотал быстро:
– Великое воздаяние Мати Твоя от меня воспримет. Аминь.
Повторяя беспрестанно Иисусову молитву, князь накинул на плечи старый бухарский халат, подпоясался верёвкой, подвесил на неё заветную свою фляжку. Сняв со вздохом княжескую шапку, напялил на вдруг вспотевшую плешь облезлый кыпчакский малахай. Остро отточенным накануне ножичком принялся обрезать ремешки, скрепляющие планки решётки-основы задней части юрты. Мельком ужаснулся: если его заставят за таким делом, ничто уже не спасёт. Отогнул вверх решетку, поднял плотный слой войлока и выполз в вонючую траву с внешней стороны юрты. Не сразу поднял глаза: боялся увидеть кого-нибудь из сторожей, вытаращившегося на удивительно одетого урус-конязя.
Слава Богу, никого. Он выпрямился и пошёл через стойбище, чувствуя, что оказался вдруг в страшном сне, в том самом, когда ожидаешь каждое мгновение стрелу в спину и не можешь ничего поделать. Оглянуться побоялся. Встречных не было: народ пировал и веселился возле ханских юрт. Вот, слава Богу, и Тор. Игорь, приуставший уже от непривычно долгой ходьбы, перебрёл через речку и разыскал в остатках прибрежной рощи, давно сведенной на дрова и обглоданной скотом, невозмутимого, как всегда, Овлура с четырьмя конями.
– Нам надо проехать мимо двух десятков окраинных юрт, – заметил спокойно Овлур. – Народ весь на тое. Если встретим кого-нибудь, молчи. Я буду говорить, княже.
Игорь молча кивнул. Всегда он недобрым словом поминал двух своих половецких бабушек, коим обязан выдающимися скулами и редкой порослью на щеках, однако сейчас… Ладно, он помолчит.
Никто им не встретился по дороге, только забытый у одной юрты маленький, недавно извлечённый из бесик, степной колыбели, мальчик. Засунув грязный палец в рот, он внимательно следил за двумя дядями, что покидали аил, хотя могли поехать на той и замечательно там наесться.
Вот и растаяла в воздухе вонь загаженной полосы луга сразу за аилом. Игорь вздохнул полной грудью, но не захотел оглянуться. Что там увидишь? Разве что только очертания юрт на темнеющем небе.
Уже не опасаясь, что их выдаст топот копыт, Овлур огрел своего чалого камчой и помчался прямо в догорающий закат. Князь хотел пришпорить доставшегося ему саврасого, однако обнаружил, что нечем: на сапогах нет шпор. Он принялся со всех сил работать коленями, однако по-прежнему сильно отставал.
Наконец, Овлур придержал своего коня:
– Что случилось, княже?
– Ни шпор, ни плётки! Почему ты не взял камчу на мою долю, толмач?
– Надо было не бросать в юрте ту, что тебе Чилбук подарил. У каждого кыпчака своя камча, одна на всю жизнь. У должника или осуждённого ханом забирают всех коней и последний кафтан, но камчу оставляют…
– Кончай нудить, толмач! – схватился Игорь за голову. – Лучше придумай что-нибудь.
– Хорошо, княже. Давай езжай вперёд.
Теперь Овлур держался сзади и обхаживал камчой то своего коня, то саврасого. Вскоре саврасый сообразил, что от него требуется, и Игорь больше не отставал. Стемнело, кони хрипели, груди их покрылись пеной. Князь ожидал, что Овлур на скаку молодецки перепрыгнет на заводного коня. Однако, когда пришла пора, Овлур спешился. Забираясь на поводного, сказал задыхаясь:
– Кони нам нужны, чтобы добраться до речки Бритай. Там в воде запутаем следы и спрячемся.
– Разве остались следы?
– Конечно. Ведь скоро выпадет роса. Погоня увидит две дорожки на траве. Это что для русича следы на песке разбирать… Ты там не долго, княже. Дай лучше мне повод.
Это князю вдруг совершенно необходимо стало отойти на несколько шагов: выпитая чаша кумыса мучила его на скаку, пучила живот, и вот теперь пришлось спускать штаны… Прислушиваясь к ночным степным звукам, Игорь думал о том, что совершенно не понимает, как Овлуру удаётся находить дорогу безлунной ночью.
Отчаянная скачка продолжилась. Они безжалостно загоняли коней, сначала загубили чалого и саврасого, а потом и заводных буланых бросили подыхать на берегу небольшой степной речки. Долго брели против течения мерцающим под ногами мелководьем, пока Лавор не повернул влево и не затащил князя в пещеру. Сунул ему кусок бастурмы. Игорь отрезал полоску, положил в рот – да так и заснул, не разжевав, под шелест хвороста: им толмач пытался прикрыть выход из пещеры.
Разбудил князя топот копыт. Это были глухие удары неподкованных конских копыт по земле, но показалось ему спросонья, что бьют они прямо по голове, ведь лежит он уже в земле, в могиле. Тут Овлур горячей сухою рукой попытался зажать Игорю рот. Опомнившись, князь освободился, замер и стал прислушиваться. Всадники переговаривались между собою, удары копыт и голоса кыпчаков приближались. Хоть и шумело в ушах у Игоря, он различил голос Чилбука, и как сокольничий сказал:
– …Урус-коняз шайтан йок, урус-коняз маскаран…
Потом стихло над головою, Игорь подождал немного для верности, потом спросил шепотом:
– Что есть «маскаран»?
– А! Чилбук сердит, ругает тебя, княже. Забудь! Важно, что ехали они по течению речки, стало быть, возвращалась погоня. Доехала до границы улуса Кончакова и вернулась. Теперь нам бояться надо пограничных разъездов да охотников. Всех бояться в кыпчакских малахаях. Но всё равно уже легче нам будет, княже.
Сквозь кучу хвороста в пещеру сочился серый рассвет. Князь Игорь ощутил такую благодарность к зануде Овлуру, что с радостью выслушал бы ещё какие-нибудь его объяснения.
Однако очень скоро понял князь, что бегство из степного полона есть тяжкий труд, даже более тяжёлый и угнетающий человека, нежели воинский. Они продвигались рывками от одной малой речки, названия которых князь не желал и запоминать, до другой. Ночами (слава Богу, хоть луна появилась!) пересекали водоразделы, калеча ноги о скрытые темнотой камни, раздирая платье о кустарник, днём прятались в прибрежных рощах, перекусывали, отдыхали. Когда кончились запасы вяленого мяса, Лавор, который тяжелее переносил пешие переходы, безропотно отдал Игорю лук и стрелы. Князь давно уже не сердился на него за то, что не прихватил с собою второго налучья и колчана. В пешем походе неимоверно потяжелела даже любимая фляга, болтающаяся на поясе, и он приспособился нести её за плечами.
– Я не очень хорошо стреляю из лука, Лавор, – признался князь, принимая оружие. – С вами, кыпчаками, мне не сравниться.
– Молодые гуси и лебеди ещё не стали на крыло, а на земле в них только слепой не попадёт, – оскалил жёлтые зубы заметно похудевший толмач. – Прошу тебя только: уйди охотиться назад по нашему пути, бей их как можно дальше от сей дневной стоянки и старайся поменьше шуметь. Трёх-четырёх птиц довольно будет, чтобы хватило нам до Донца.
Бить птиц из лука для еды оказалось занятием потруднее, чем гонять по полю верхом с соколом на рукавице. Птичьего крику и гаму тоже хватило. Тем не менее через час Игорь вернулся на стоянку с двумя лебедями и гусем. Завидев его, Лавор тут же подхватился с лапника, на котором лежал, побросал его в речку, взял у князя добычу, зашёл в воду и повернулся спиной. Игорь покорно зашлепал вслед за ним против течения.
Наконец Лавор увидел подходящий ручей, вытекающий из глубокого оврага, и свернул в овраг. Сели на холмике над ручьём. Люди, если и бывали здесь, следов своего присутствия не оставили – в отличие от лисиц, которые, по-видимому, любили здесь завтракать и не позаботились убрать грудки птичьих косточек и грязные кучки перьев.
Лавор присел на корточки, развязал лозину, которой князь связал ноги птиц, одного лебедя протянул князю, второго оставил на земле, а гуся принялся тут же ощипывать.
– Зачем терять силы на женскую работу? – возмутился князь. – Обмажь птиц глиной, положи их в неглубокую ямку, а сверху разведи костёр. Когда откопаешь, перья сами слезут. Немного соли – и просто объедение!
– Мы не будем разводить костра, – невозмутимо заявил Лавор. – Ощипывай, княже, не теряй времени.
Князь попытался припомнить, видел ли кресало и трут в кожаном мешочке, подвешенными к поясу толмача. Да, висели там, как положено. Неужели потерял, проклятый кыпчак?
– Дым от костра издалека видно, княже. А ночью – огонь. Мы уже недалеко от границы. А кыпчаки границу охраняют конными разъездами и разведчиками. Русичи рубят для дозорных бревенчатые вышки, а у кыпчаков разведчики сидят на высоких дубах. Мы в улусе Кзы Бурновича, и он весьма будет рад, если нас привезут к нему связанными.
– Ты хочешь сказать, что нам придётся есть сырое мясо?
– Сейчас поедим сырого, а оставшееся будем на привалах провяливать. Я такой же христианин, как и ты, княже. Однако мне жизнь и свобода дороже.
Князь сцепил зубы и молча принялся ощипывать гуся. В голове у него мутилось от голода. Да, косоглазый прав: потом можно и признаться на исповеди в сыроядении. Поп прикажет бить поклоны, а там и простит грех. Всего-то! Иное дело, что противно русскому человеку…
На следующую ночь они повернули на полунощь, переправились через Донец (Овлур чуть не утонул) и прошли самый опасный участок пути – невдалеке от половецких полугородов, полустойбищ Балина и Сугрова. Отблески многочисленных костров сперва Балина, потом и Сугрова появлялись справа на низких облаках, разгорались и гасли, а незадолго перед рассветом, когда из рощ у недальнего Донца грянули свою предутреннюю песню соловьи, беглецы увидели впереди на краю земли далёкие дрожащие огни Шаруканя.
Из последних сил добежали они до Донца, с первыми полосками алой зари на востоке забились в прибрежные кусты, худо-бедно схоронились, пожевали уже припахивающей вяленой лебедятины и дружно помолились перед сном.
– Аминь, – еле ворочая от усталости языком, проговорил Игорь. И вдруг задумался о совершенной чепухе. – Малая пташка соловей, а сколь громко свистит и щёлкает! Так и не услышишь, как конники подъедут.
– Да, княже, – ответил толмач, не раскрывая глаз. Игорь увидел это, потому что измождённое лицо собеседника уже выплывало перед ним из серой рассветной мути. – Очень маленькая птичка. Надо много съесть соловьев, чтобы наесться человеку.
День выдался жарким, и князь Игорь провёл его не то в дрёме, не то в бреду. В темноте его разбудил Лавор, и они осторожно побрели звериными тропками вдоль Донца, пока князь не схватил за плечо спутника: впереди брезжило слабое зарево.
– А… Шарукань, – промолвил тогда Лавор. – Надо искать брод, княже. Правым берегом Донца поднимаясь, выйдем уже на Русь.
– Помнишь ли ты, где тут брод?
– Йок, – ответил Лавор зачем-то по-кыпчакски.
Они так и не нашли брода, зато князь обнаружил на берегу большую корягу. С трудом столкнули её в воду, Игорь велел толмачу уцепиться за корягу, а сам поплыл, толкая её перед собою. На сей раз уже ему не хватило сил, и он, матерясь, хлебнул-таки речной воды, однако тут же почувствовал под ногами дно. Когда убедился, что малорослый Лавор тоже твёрдо стоит на песке, отпихнул корягу, и она, медленно поворачиваясь, поплыла по течению. Они стояли по шею в воде, отдыхая, и когда у Игоря восстановилось дыхание, он сказал:
– Вот ведь беда, мы не можем поплыть за водой. Ни разу за всю дорогу!
– Это вы, урусы, виноваты, что в степи все реки текут в сторону кыпчаков. Некоторые называют вас «сугду-урус», а некоторые детьми воды, и говорят, что вы колдовством заставили реки течь в нашу сторону, чтобы смыть нас губительной водою из нашей Дешт-и-Кыпчак.
– Да кто теперь поймёт, где чья земля, – примирительно заметил Игорь. – Было время, когда русские князья сидели в Тмуторокани. Ты вот что, Овлур. Если будут тебя на Руси спрашивать, куда ходил я своим несчастливым походом, так и скажи – шел Игорь Святославович отвоёвывать у половцев Тмуторокань.
– Дай сперва прийти на Русь, – отмахнулся Овлур. – Ещё поймают нас мои сородичи на самом кордоне, вот когда станет обидно! Скажи лучше, зачем помог мне переправиться?
– Скучно одному бежать – с товарищем лучше, – отшутился князь. Не скажешь же дружку желтолицему, что нельзя ему одному появляться на Руси. Хоть толмач с тобою – и то какая-то дружина!
Выбрались сквозь камыши на берег, улеглись под ивами. Когда руки высохли, начали разбираться с припасами. Лук промок в налучье, а вот тетива в кожаной коробочке осталась сухой. Значит, днём можно будет поохотиться. Переглянувшись, они выбросили вонючие остатки гусятины, и всю ночь пришлось идти на голодный желудок. До первого русского города, Донца, оставалось, по словам Лавора, чуть больше тридцати вёрст. Верхом, на свежих конях, и не заметили бы, как промчались бы это расстояние, однако для них, пеших и смертельно усталых, путь растянулся на три перехода, два ночных и последний уже дневной. В первую же ночь набрели на стадо лебедей, устроившееся на ночлег. Игорь удачно поохотился, а утром Лавор осмелился развести костерок в овраге. Донец кишел рыбой, берега его – птицей, и беглецы надеялись встретиться с дружиной русских охотников либо рыбаков, однако, судя по всему, те покамест боялись по военному времени выходить на промысел.
К городу Донцу они вышли на закате. Игорю долго пришлось объяснять сторожам на городских воротах, кто он такой и почему оборван. Половцы не тронули город за большую мзду, однако Кза мог припомнить со временем горожанам, что они приняли Игоря. К тому же Донец стоял на границе Переяславльского княжества, под рукой заклятого Игорева врага Владимира Глебовича. Тем не менее, местные старцы градские посчитали своим христианским долгом помочь беглецам, ускользнувшим из рук неверных кыпчаков. Для них вытопили баню, их накормили кашей, напоили пивом, наполнили пивом Игореву фляжку и водой – бурдюк Лавора, на рассвете же их разбудили, подвели осёдланных коней – и вывели за городские ворота. Князь клятвенно обещался возвратить коней и сёдла и просил занять ему из городской казны гривну, чтобы дорогой не кормиться именем Христовым, однако получил только три куны.
Игорь помолился на дорогу и вдруг спросил:
– Слушайте, отцы, а какой вчера был день?
– А вчера, княже, был вторник, – степенно ответил местный попик, – день же был второе июлия, и праздновали мы, православные, положение во Влахерне честныя ризы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы.
– Подумать только, я шёл Половецкой землею одиннадцать дней! – воскликнул Игорь. И добавил задумчиво. – А Мати наша Богородица мне таки помогла.
Они поскакали на полунощь, снова вдоль Донца к его верховью, чтобы скорее покинуть земли Переяславльского княжества, и целую неделю ехали проселками и просеками от одного безвестного села до другого, пока не выехали на дорогу, что вела из Курска в Новгород-Северский. Чем ближе продвигался князь к своему дому, тем делался мрачнее, а Лавор, напротив, веселее и разговорчивее. Они переночевали в городке Ольгове и проскакали мимо Рыльска, стольного города покойного Святослава Ольговича: Игорю не терпелось как можно скорее оказаться в своей волости.
На следующее утро, сразу после заутрени, они выехали из деревни монастыря Святого Михаила, чтобы уж не останавливаться до самого Новгородка-Северского. И тут князя Игоря подстерегало несчастье: его конь вдруг споткнулся на ровном месте и рухнул так неудачно, что отдавил всаднику ногу. Конь встал опять на ноги как ни в чём не бывало, а Игорь не смог снова на него вскарабкаться. Овлуру пришлось отвести его назад в деревню. Князя уложили в лучшей избе на чистую солому.
– Вот что, Лавор, – приказал, кривясь, Игорь Святославович неотлучному доселе спутнику. – Бери эту клятую скотину за поводного и скачи сам в Новогородок. Пусть моя княгиня пришлёт за мною сани. И поторопись!
Ещё через сутки расписные сани, запряжённые четвернёй, въехали в предупредительно распахнутые ворота села Святого Михаила. Здесь трясло уже меньше, чем на лесной дороге, и княгиня Евфросиния Ярославна со вздохом привстала с целой груды шуб и ковров, на коей сидела в дороге. Она понимала, почему муж приказал выслать ему навстречу не воз, а сани: на возу пристало перевозить раба или пленного, князю же или там епископу следует ездить на санях, что особенно почётно летом. Достаточно было бы отослать мужу к Святому Михаилу сани с почётной охраной из оставшихся дружинников, а самой заняться подготовкой к торжественной встрече, однако Ярославна впервые за многие годы чувствовала себя виноватой перед мужем, поэтому поехала сама.
Все эти дни после отъезда посольства великих князей она мечтала, почти так же увлечённо, как в юности. Всего один вечер проговорила она с внезапно явившимся из девичьего прошлого князем Всеволодом, который так мило ухаживал за нею много лет тому назад на свадьбе у подруги её Малфриди Юрьевны. Ожидала она некоторое время, что посватается, а потом её выдали замуж, и до неё только доходили слухи о нём, весьма скверные. Теперь явился он под чужим смешным именем (Словишей Бояновичем, ты ж понимаешь!), в платье с чужого плеча, с гуслями за плечами, будто скоморох, одним из послов совершенно непонятного посольства: если к Кончаку они едут на Тор, что за блажь была делать такой крюк? Можно было бы сказать, что и с другим лицом приехал Севка-князёк, как привыкли звать его родичи, до того избороздила морщинами его лоб и щеки слишком бедно и слишком весело прожитая жизнь, – можно было бы сказать, если бы не глаза. Глаза, те сияли, как и без малого двадцать лет тому назад, и смотрели на неё с таким же восхищением.
А какие повести он рассказывал, как здорово научился петь и играть на гуслях! Долгий вечер пролетел как одно мгновение, княгиня успевала только удивляться, почему это её Ростик прикорнул прямо на ковре, отчего это столь громко и неприлично зевает, стоя в углу, его няня. Потом и мнимый Словиша Боянович понял, что засиделся, встал со скамьи и попрощался. Глаза его сияли по-прежнему, как в начале вечера, и он выпил только ритуальные полглотка из поднесённой ему по обычаю чаши. Он и пальцем не коснулся в тот вечер княгини, а утром уехал. Однако княгиня и рада была, что так сложилось: грубые мужские объятия – последнее, что ей нужно было от него, несостоявшегося королевича её юности. Зато ей стало о чём мечтать – о том, как повернулась бы её жизнь, если бы вышла за Всеволода, и как его – если бы женился на ней. Она придумывала их совместные жизни с князем Всеволодом, одну в том случае, если бы он вернулся в мир князей, вторую – независимую, скоморошескую, и о том, какое бы место она в каждой из этих вымечтанных жизней заняла при нём…
Ярославна вдруг обратила внимание на то, что визг полозьев по хвое и лапнику стих, а из-под саней поднимаются клубы пыли. Сани тащились уже по сельской дороге-улице, и впереди мелькнула спина того полукровки, что принёс весть о побеге её мужа. Почему он отмалчивался, когда она спрашивала, с Игорем ли её первенец, Владимир? И ничего не говорил о судьбе двух других князей…
А вот и калитка в деревенском плетне отворилась, и появился в ней, хромая и на плечо своего нового раскосого слуги опираясь, её супруг Игорь Святославович. В рванье неописуемом, похудевший чуть ли не наполовину, с поседевшею бородой, заспанный какой-то… Да что ей до него? Она спрыгнула с саней, подскочила к плетню и заглянула во двор. Владимира там не было. Внезапно она поняла, что этот хитрый Игорев слуга её не дурачил: сын остался в полоне. Отец спасся, а сына-первенца бросил…
– Да как же ты посмел сюда явиться без нашего Владимира, ирод? Как ты посмел покинуть моего сына в плену?
Глава 22 Рыльские хлопоты: розыск и суд
Хотен довольно улыбнулся: Прилепа, как всегда, поработала отменно. Подкатилась на базаре к старенькой доброй калачнице, напросилась проводить её домой, помогла отнести пустые корзины, навесила по дороге ей на уши какую-то слезливую повесть (а какую, хозяину не сказала – ну и ладно!), попросила одежонку поплоше, помогла ставить тесто, валять и крутить калачи, чуть ли не сама их выпекла, а потом подсобила дотащить в нагруженных с верхом корзинах на базарную площадь. Вот там-то и поработали дружные бабские языки, и не осталось тайной для ловкой Прилепы ничего из того, что судачили в Рыльске о красавчике-киевлянине Чуриле, устроившемся в дружину покойного невинно убиенного юноши-князя Святослава Ольговича и чудом Божьим спасшемся из рук поганых половчинов.
– А ведь сей ловкач купил себе двор с новым жилым срубом на нем, Хотенушко, а вот про убийство боярина ничего не рассказывал. Намекал, что были у него в Киеве шашни с боярыней – но очень туманно, имени не называл. Пьет голубчик наш, не просыхает. Пил на свои (а это тоже куны немалые), пока в поход не ушёл, а теперь каждый мужик в городе считает своим долгом его напоить – как же, чуда сподобился! Богородица его от пленения спасла!
– Сколько наш хитрец выложил за двор? – прищурился Хотен.
– Двенадцать кун, Хотенушко. Здесь, в лесной глухомани, дворы дёшевы, а лесу на постройки вокруг немеряно. А сколь много пропил, подсчитать нынче невозможно.
– Знаешь, Прилепа, я всё больше убеждаюсь, что не было у убийцы Неудачиного батьки никакого заказчика. Зато очень похоже, что именно он пустил стрелу с грамоткой к Несме… к игуменье Алимпии. Быть может, и боярина убил только для того, чтобы не помешал тот, человек горячий, доить куны с матери-игуменьи.
– Брать пора голубчика, хозяин. Вот тогда всё сам нам расскажет.
– Кто ж спорит… Хмырь с его парнями должен уже быть на месте. А прежде есть у меня к тебе, Прилепа, ещё одно дело…
Нахмурился Хотен и замолчал, недоговорив. Потому замолчал, что услышал топот за стеною клети, которую нанял для себя, Прилепы и Сновидки на постоялом дворе. Дверь распахнулась, и влетел Севка-князёк. Зевнул, рот узкой ладошкой прикрывая.
– Горим, княже? Или коней у нас увели?
– Ни то, ни другое, боярин, а новость великая: меня из-за неё хозяин постоялого двора, в клеть мою невежливо вломившись, со скамьи поднял. Говорит, Игорь Северский сбежал из плена и, оказывается, сегодня проехал мимо Рыльска на Новгород-Северский сам-друг со слугою, мирным половцем, и даже без поводных коней. Едва его встречные новгородские купцы узнали. Поскачем теперь вдогонку, а?
– Что ж он мимо Рыльска-то проехал? – всплеснула руками Прилепа. – Сменил бы хотя коней. Его дома жёнушка, небось, ждёт не дождётся.
Тут князь-неудача крякнул, а Хотен, бросив на него быстрый взгляд, призадумался. Заговорил неспешно:
– Почему проехал мимо, разумею. Ведь горожане спросили бы его: за что ты загубил нашего князя, молодого Святослава Ольговича? Где дружина наша? Где брат твой Буй-Тур и сын твой Владимир? Уж лучше мимо проехать… А нам в его Новогородке делать нечего. В плену у Кончака князь, быть может, и стал бы с нами разговаривать, а допросить его в Новогородке, где он хозяин, – пустая мечта. И не заметим мы, княже, как окажемся с тобою в порубе и задохнёмся там, пока великие князья успеют нас выручить.
– Ну и дела! Что же мы тогда предпримем? – растерялся князь.
– Я, ты уж прости меня, княже, всё придумал. Сейчас мы все едем в церковь. Княже, ты же не откажешься подержать венцы над нами с Прилепой? А в товарищах у тебя будет молодой Неудача. Он сын боярина, следственно, порухи не нанесёт чести твоей.
– Да, конечно же, я с радостью! – и усмехнулся князь, и подмигнул насупившейся некстати Прилепе. – Я люблю храбрецов, потому что сам трусоват, признаться, а ты решился сегодня на подвиг, смелости требующий не меньше, чем у Добрыни Никитича, когда выехал он на битву со Змеем.
– И куда это мы сейчас поедем, ты сказал? – подбоченилась жёнка.
– В собор местный, Всесвятский, я с отцом протопопом Фёдором уж договорился. Он к званию моему посольскому уважение проявил, а того пуще к моим кунам. И обручение совершит, и венчание разом, – отвечал осторожно Хотен, глядевший на помощницу свою во все глаза. – А потом сразу же за дела. Сперва мы, княже…
Тут жёнка набросилась на него и принялась колотить кулачками по железной под шубою груди. Простонала:
– Мне под венец – и в сей драной одежке? Где же твоя совесть?
Хотен почувствовал, что вот-вот обидится. Сама ведь хотела замуж. В конце концов, была бы честь предложена…
– Может быть, ты и права, и лучше бы снять сей передник, весь в муке… Мы вот с князем поедем в Половецкую землю, всякое может случиться… И в таком печальном случае мой двор возьмут на великого князя, а вы все окажетесь на улице. А так мы получим венчальную запись. Тогда, если меня на посольстве убьют, вы со Сновидкой будете законными наследниками.
– Как это тебя убьют, а мы с сыном живы останемся? – вопросила неблагодарная, и Хотен почувствовал, что она обнимает его за шею. – Мы же в Половецкое поле все вместе поедем? Разве не так?
– Не так! Вы со Сновидом прямо отсюда вернётесь в Киев. Лучше через Путивль, а там на пристани подсядете к купцам на попутную ладью. В плавании по Семи и Десне отдохнёте. Можно бы и отсюда поплыть, да сами видели, какая здесь торговля. Купца-попутчика можно полгода ожидать – и не дождаться. А мы с князем поскачем на Суурлий, где Гза и Кончак встали на костях, быстро там осмотримся – да и назад. Может быть, и раньше вас окажемся дома. Единственно, что меня беспокоит: колец нету. Придётся тебе, Прилепа, сперва пробежаться по базару, по кузнецам.
– Ну, это мы ещё посмотрим, как я тебя одного к половцам отпущу, – проворковала Прилепа, не снимая рук с шеи жениха. И вдруг затараторила. – А кольца у меня с собою, старый ты затейник. Всегда в особливом кошельке на поясе. Белее ведь только знает, чего от тебя, медведя моего, ожидать в следующую минуту! Так что о кольцах не беспокойся. Спасибо тебе, что позаботился о нашем сынке-увальне. Теперь я за него спокойна буду.
– Ну и ладно. А свадьбу отгуляем дома. По всем старинным обычаям. Попросим вот господина князя Всеволода Ростиславича обвести нас вокруг куста, а ты покрасуешься на пиру перед своими подружками-кумушками. Так поехали в собор? В сумерках поп не станет венчать.
– За тобою, милый, хоть на край света!
Севка-князёк расхохотался. Когда уже сели на коней, огляделся он и спросил озабоченно:
– Эй! А куда войско наше подевалось?
– Все при деле, княже, – степенно пояснил Хотен. – Децкий Неудача сторожит отца Фёдора, чтобы не сбежал из собора. Хмырь с копейщиками окружил двор на Ильиской, там один наш свидетель пребывает, а остальные пасут другого, тот клеть снимает на Путивльской площади. Там я главным назначил самострельщика, да тот, второй парень и не столь опасен, как первый. Ты прости, что я всем распорядился, пока ты пиво пил и ну… отдыхал, что ли.
– Я не отдыхал, – гордо заявил Севка-князёк. – Я сочинял песню. Про этого самого неудачника, что мимо Рыльска проехал.
– А как же ты сочиняешь, если его, Игоря Святославовича, в глаза не видел? – это раскрасневшаяся Прилепа притворилась, что ей любопытно княжье сочинительство. Хотен, во всяком случае, ей не поверил.
– Почему же не видел я его? Доводилось видеть Игорька-хорька, – грустно пояснил Севка-князёк. – Грубый лесной мужик, да ещё и кривоногий. Вот только дело не в нем самом, а в том, что именно я спою про него. Думаете, славный Илья Мурамленин был лучше Игоря?
– Добре, княже. Теперь собирай всё своё хозяйство, буди Сновидку, пусть поможет. Дружинники уже всё наше забрали, и поводных коней из конюшни тоже, а я расплатился с гостинником. Нам сюда лучше не возвращаться.
Возле собора бросился к ним навстречу молодой Неудача Добрилович. Натянул поводья.
– Боярин! Прости, княже! Боярин! Поп хотел выйти, а я не пустил!
– О Белес всемогущий! А если по нужде хотел? Ему же ещё надо венчальную память без ошибок написать! Оставь коня у коновязи, беги к батюшке и вежливенько спроси, не нужно ли ему выйти, да и проводи его туда и назад!
Через полчаса они вывалились из церковных дверей. Прилепа сияла, то и дело поглядывая себе на грудь: хорошо ли спрятала заветную венчальную память? Повязала на голову бабий платок, потом со вздохом напялила сверху шлем с бармами. Супруг её хмурился, ему сильно докучало кольцо на пальце: видать, Прилепа припасла это колечко давненько – когда он не настолько ещё растолстел.
Солнце садилось, а надо было управиться до вечерни. Сели на коней, поехали на Ильинку. Слава богу, в крошечном городке всё так близко, только руку протяни. Вот и тот самый двор.
Пеший Хмырь шагнул им навстречу, взял под уздцы Хотенова коня.
– Не пойму я, боярин, спит он, что ли? Зажёг было огонёк, да тут же и погасил. А вот ворота на засове. Прикажешь ломать?
– Нет, нам лишний шум не к чему. Кто из ребят полегче? Подсадите, а он пусть откинет засов да нас всех и впустит.
Ловкий отрок-стрелок, Худяк, кажется, по имени, вскарабкался, звеня железом, на забор. Хотен недовольно оттопырил губу: его нежелание шуметь на сонной улице могло стоить парню жизни, ведь хозяин двора мог сейчас застрелить Худяка из самострела и объяснить потом, что принял за вора. Стукнул засов, ворота со скрипом распахнулись, заранее наученные дружинники тяжело пробежали через двор, треснула дверь клети, сорванная с ремней могучей рукою Хмыря. Хотен махнул рукою, прося князя и Прилепу оставаться на месте, и въехал в маленький двор. Такой и у него был когда-то на Подоле. Неужели и там так же несло мочой и перекисшим пивом? Вот, наконец, вывалилось из клети целое кубло: молодой парень, по-видимому, тот самый злодей Чурил, и двое дружинников у него на плечах.
– Он ли? – спросил Хотен у Хмыря, возникшего на крыльце.
– Он, он, – тоже вполголоса подтвердил Хмырь, отряхивая руки в боевых рукавицах. – Пьяный только, как ночь.
Хотен кивнул, наклонился с седла к парню, положил ему руку на плечо:
– Пойман еси великими князьями киевскими Рюриком Ростиславовичем и Святославом Всеволодовичем как свидетель по тайному державному делу. Понял? Ладно, ребята, вы послухи, что я сказал, кем пойман и для чего. Вяжите его и устройте на поводном коне.
Теперь он развернул коня к воротам:
– Прилепа! Только быстро!
Помощница, прикрывая полою шубки уже зажжённую свечу на маленьком медном подсвечнике, просеменила через двор и скрылась в чёрной дыре двери. Через мгновение дверь слабо осветилась, равно, как и щели в волоковом окне. Темнеет, темнеет! Прилепа должна обшарить клеть, найти тайник, забрать всё, что покажется ей подозрительным, и обязательно все грамотки, оружие, куны, одежду. Всё это парню, скорее всего, не понадобится – однако, кто знает, что выяснится на допросе? Быть может, и отпустить молодчика придётся…
– Хмырь, мы теряем время. Возьми двух человек и привези второго беглеца, сего отрока Непогода. Что сказать нужно, запомнил? Пусть прихватит одежду, запасец в дорогу какой, оседлает коня, а тогда уже свяжи ему руки. Сильно не пугай, он нужен нам и вправду, как свидетель.
– Трудно испугать человека, сбежавшего из половецкого полона, – проворчал Хмырь.
– По-разному бывает, прошу тебя, поторопись, а то не сможем выехать из города.
Темнело быстро, словно повисла над городком грозовая туча. Или будто снова начиналось затмение. Уже и Хмырь вернулся с понурым молодым пленником, когда свет в клети погас, и озабоченная Прилепа вылетела на крыльцо с тощей чересседельной сумой и дымящимся огарком в руках.
В ответ на недоуменный взгляд Хотена заявила:
– Одежда и оружие парню ни к чему. Наш человек.
– Мужи, построились! – зарокотал Хмырь.
Соборный колокол дребезжал уже, созывая прихожан к вечерне, когда посольский десяток подрысил к городским воротам.
– Эй вы, со значком! Если какой товар вывозите, платите пошлину! – закричал из башни, не соизволив спуститься, стражник.
– Мы, послы великих князей, везём поиманых по их приказу свидетелей, – отвечал Хотен. – Спустись лучше посмотри, чтобы не было недоразумений.
Страж ворот, в кожаном нагруднике и в обычной шапке, однако с саблей у пояса, погремел сапогами по невидимой лестнице, потом вынырнул из-за башни.
– Разбой! Это разбойники, дядя Синяк, – захрипел вдруг перекинутый через седло Чурил. – Помоги!
– Ты, что ли, Чурил? – скучно спросил сторож и вдруг плюнул под ноги кобыле, с которой взывал пленник. – Ваш киевский ходок, вы его и забирайте нахрен! Пусть он вам в Киеве девок портит.
Прошагал вдоль строя, опасливо всматриваясь в лица молчаливых дружинников в полном доспехе, остановился подле связанного Непогода. Тот отвернулся.
– А, и Непогода взяли… Понятно мне теперь. Что ж, парень, уж если струсил ты, надо ведь и ответ держать. А вы, мужи, ещё кого не увозите из наших рыльских?
– Больше не увозим. А не хочешь ли, дядя, сам с нами поехать в Половецкую степь? – спросил Хмырь, замыкающий цепочку.
– Дураков нет, вояка. Проезжайте с Богом!
Отряд сразу съехал с дороги к Семи. Когда достаточно удалились от Рыльска, чтобы там не услышали воплей, Хотен начал подыскивать подходящую бухточку. Нашлась она довольно скоро. Хмырь выставил охрану, а Хотен подошел к Севке-князьку, спешившемуся и самозабвенно мычавшему что-то себе под нос.
– Княже, сейчас мы будем допрашивать одного из беглецов, некоего Чурила. Сначала он расскажет нам всё, что помнит о походе, тут ты, пожалуйста, слушай и мотай себе на ус. Однако мы с Прилепой подозреваем его в убийстве отца молодого Неудачи, боярина Добрилы – быть может, помнишь? По сему же делу пытать будем, а если признается, Неудача по закону отомстит за отца. Зачем тебе это зрелище?
– Закон предков – дело святое, однако… Вы допрашивайте, а когда я не нужен буду, скажи только «Княже!», и я пойду, потружусь над своею песней.
– Хмырь, прикажи, чтобы нарубили лапника для князя, и пусть положат вон под той сосной! Только лучше я скажу не «Княже!», а «Словиша!»
– Тогда уж лучше «Словиша Боянович». Сделай мне приятное – напрасно я, что ли, себе новое имя придумывал!
Дружинники развели костёр на прибрежном песке. Стащили Чурила с коня и поставили перед Хотеном, князем, молодым Неудачей и Прилепой. Сыщик присмотрелся: красавчик то ли до конца не протрезвел, то ли придуривается. Добро же!
– Хмырь! – позвал Хотен. – Пусть двое мужей заведут его в воду, а ты станешь сзади. Самострельщика ещё оставь на берегу. А всех остальных уведи подальше, чтобы не слышали тайных речей… Эй, да разденьтесь вы сначала, ребята! Зайти надо по грудь.
Слава Богу, бухточка оказалась глубокой, и Хотену, чтобы при свете костра наблюдать за лицом преступника, не пришлось самому набирать воды в сапоги.
– Так, готово, – удостоверился сыщик.
Спросил небрежно:
– Ты ли Чурил, бывший копейщик князя Святослава Ольговича Рыльского, а до того отрок боярина киевского Добрилы Ягановича?
– А кто дал тебе, старик, право похищать честных людей?
– Хмырь, не в службу, а в дружбу, попроси-ка молодца нырнуть.
Бывший Хотенов оруженосец кивнул и мощной дланью надавил на голову связанного Чурила. Та ушла под воду.
Прилепа схватила супруга за руку:
– Эй, а мы его не утопим?
– Утопим, моя радость. Скажи лучше, что ты нашла у него в берлоге?
– Улики по делу твоей блядки-черноризицы, – прошипела Прилепа ему в ухо. И продолжила уже погромче. – А нашла я две грамотки от некоей Настки, уж не знаю, боярыня она или купчиха. В одной расписывает, как они с Чурилом славно любились. Вот ведь дура какая – сходила на сторону, так помалкивай себе в тряпочку! В другой клянётся, что не сможет больше выплачивать Чур илу по три куны в месяц. Он в Рыльске снова взялся за своё и тем себя выдал, Хотенушко.
– Боюсь, если не признается, дело об убийстве Добрилы Ягановича так и не разъяснится… Довольно, Хмырь!
Голова Чурила показалась на поверхности. Пока преступник приходил в себя, Хотен думал о том, до чего же по-дурацки проводят они с Прилепой свою первую законную брачную ночь. Впрочем, если побыстрее разобраться с сим любострастным Чурилом, можно будет и стать, подальше отсюда, на ночлег…
– Да, я Чурил… О котором ты спрашивал… – выдавил из себя пленник, отдышавшись.
– Теперь расскажи подробно об Игоревом походе. Всё, что видел и слышал, – с выступления из Рыльска и до твоего бегства с поля последнего сражения.
– Отроки часто бегут, спасая свои жизни, а чёрные клобуки – почти всегда, если дело сразу не заладится, но что-то я не слыхал, чтобы за такой побег судили…
– Эй, Хмырь!
Снова всплеск. Хмырь говорит раздумчиво:
– Вот держу пакостника под водою, а вдруг его сейчас Речной хозяин утащит? А спрос с меня.
– Не бойся, водяной только девок-купальщиц ворует, – заметила Прилепа. – И живой ещё ни одну не отпускал… Слушайте, а он там не задохнётся?
– А я тебе, боярин, верю, – ни к селу ни к городу вдруг заявил Хмырь. – Знаю, что ты не станешь пытать невиновного. Отпускать?
С большим шумом выскочил из воды пленник – будто парень, что поднырнул к купающимся девкам, дабы испугать. Теперь он уже дольше приходил в себя. Наконец-то…
– Со мною следует говорить, называя меня боярином. Это раз, – Хотен кряхтя и с треском в коленках поднялся с крутого бережка, подошёл к самой кромке воды, и Семь принялась лизать его сапоги. Сказал уже потише. – С чего ты взял, что тебя судят за бегство? То, что расскажешь, нужно мне для суда над другим человеком. Ты свидетель, Чурил. Это два.
Несколько успокоившись и поняв, как ему казалось, что от него требуется, Чурил принялся весьма толково рассказывать о походе, рисуя князей, а в первую очередь, молодых, Святослава Ольговича (его он именовал только матерно) и Владимира Игоревича, самыми черными красками. При этом Всеволода Святославовича он назвал тупым рубакой, а предводителя, Игоря Святославовича, – бездарным неудачником. И так выпукло показал ошибочность распоряжений князя Игоря, что сыщику невольно подумалось: если бы сей Чурил был там главным, страшного несчастья удалось бы избежать. Покосился Хотен на Севку-князька, присевшего на пригорок рядом с Прилепой, – тот слушал, раскрыв рот.
– Значит, ты не видел, как князь Игорь Святославович пытался заворотить бегущих?
– Нет, боярин, не видел я, потому что сам бежал, трудился. Не до дружка мне было, а до своего брюшка. Но если он действительно поступил так, как о том рассказывают, значит, хотел пораньше сдаться в плен. Князь Игорь дурак, если боялся плена, – ведь на поле был его приятель Кончак.
– Ты доволен ли повестью, э-э-э, Словиша Боянович?
Князь кивнул, однако остался на месте.
– Словиша Боянович!
Князь кивнул снова, поднялся и ушёл.
– Радость моя, и ты уходи.
Исчезла Прилепа. Хотен повернулся, не вставая, к молодому Неудаче.
– Согласен ли ты с тем, что мой друг Хмырь услышит обо всем, что будет сказано?
– Нет, боярин, не согласен я. У нас такого уговору не было.
– Тогда раздевайся. Оставь только меч на себе. Васко-самострельщик! Возьми преступника на прицел. А ты, Хмырь, вылезай, друг, из воды, спасибо тебе за службу.
Голый Хмырь вылез на прибрежный песок, гоня перед собою волну не смытых речной водой походных запахов. Собрал в две охапки свое барахло, взял под мышки и заявил негромко:
– Хватит с меня и того, что услышал. В какой грязи мы барахтаемся, боярин! Я всегда старался держаться подальше от княжеских и боярских тайн. Из отроков незнайке не выбиться, зато остатки совести незнайка сохранит.
– Ты прав, друг. Я тебя прошу об одном: отведи и Васка-самострельщика подальше. Но так, чтобы он по-прежнему видел Чурила.
Тем временем молодой Неудача Добрилович, щуплый и белокожий, как ощипанный цыплёнок, и по белой, светящейся в темноте коже опоясанный чёрным длинным мечом, вошел, поойкивая, в воду и занял место Хмыря.
– Я не понимаю! – вдруг визгливо закричал пленник. – Я рассказал тебе о том, что знал и что понял! Не ведаю я никаких других княжеских тайн!
– Зато боярские тайны тебе зело любопытны. Ты ведь для того убил боярина своего Добрилу Ягановича, чтобы не помешал тебе тянуть куны с его бывшей полюбовницы? Рассказать тебе, как ты исхитрился его добить?
И Хотен рассказал, не обращая внимания на протестующие возгласы убийцы.
– Враньё! Я потребую суда у великого князя! Тебе никогда не доказать!
Тогда Хотен, привирая без зазрения совести, поведал о двух синяках, найденных им на груди мёртвого боярина и о смертной ране на его горле, о том, что якобы сохранилась грамотка, переброшенная Чурилом на стреле в монастырь, а его руку легко определить. О том, что любой судья поверит, что он вымогал куны с игуменьи, увидев грамотки от Настки из Рыльска.
– Это не я! – закричал тогда обвиняемый. – Это Узелок, оруженосец Добрилы, придумал, как разжиться кунами! Это Узелок вёл с пира пьяного Добрилу, и тот вдруг проговорился, что сын у него вправде выблядок, а мать его черница… Я только подражал ему в Рыльске.
– А ведь ты сейчас признался, Чурил. Узелок никак не мог убить боярина Добрилу, потому что ранен был ещё до того, как ты поехал с ним в гонцах. Это ты убил его – не потому ли, что увёл у тебя девку?
Лицо красавчика исказилось, он завопил:
– Как бы не так! Что мне в той девке? Девок в Киеве будто грязи, я с любой мог переспать, всех бодал, каких хотел. И ту игуменью, мать выблядка, что у меня за спиной прячется, тоже бодал, и Настку, и всех жёнок, каких хотел. Тут рядом с тобою сидела сучка, которую ты и в поход с собою таскаешь, так вот: оставь меня с нею наедине на четверть часа – и твоя сучка от меня отстать уж не захочет…
Тут, словно бы бесстыжие речи красавчика сопровождая, донеслись из темноты гусельные перезвоны. Обвиняемый замолчал, все замерли, слушая. Когда же смолк звон струн, Хотен промолвил удивлённо:
– Что ж это было?
– Цареградский наигрыш, а больше похоже на ерусалимский стих, – буркнул Чурил. И снова заорал. – Дабодал я тебя и всех твоих сучек с тобою!
Тут замычал молодой Неудача и, положив обе руки на мокрую голову убийцы, попытался погрузить её в воду. Речка вокруг них забурлила, Неудача откинулся назад, и оба ушли под воду. Вскоре ниже по течению вынырнула голова черноволосого Чурилы. Раздалось шипение, и на месте головы размазалось тёмное, неразличимое в слабых отблесках костра пятно.
– Добре стреляет Васка, – промолвил, неизвестно к кому обращаясь, Хотен.
Потом началась суматоха. Прибежала, причитая, Прилепа, а за нею с гуслями в руках Севка-князёк. Наконец, двумя ласточками бросились в речку голые дружинники: они обсыхали на траве, не желая мочить одежду. Вытащили на берег своего децкого, вылили из него воду. Он же, как пришёл в себя, попросил позвать к себе Хотена. Лежал на мокрой траве по-прежнему нагой и с мечом, и мошка начинала клубиться над ним.
– Извини, Хотен Незамайкович, если подвёл тебя, но тот негодяй меня лягнул, вот и… – проговорил тихо.
– А я мнил, что ты плавать умеешь… А ещё децкий.
– Пару саженей всегда проплывал, а тут растерялся отчего-то… Послушай, а что поганец про мать мою говорил? Моя же мать померла давно…
– Твоя мать жива, – подумав, прошептал сыщик. – Она знает про тебя и любит, как матери положено. Она, правда, грешница, как почти все бабы. А подумать, так мы, мужики, чем лучше? Ты сам после решишь, желаешь ли, чтобы я вас свёл. Что ни говори, а по крови она самый близкий тебе человек.
Молодой Неудача отвернулся. Старый сыщик пожал плечами и протопал по песку у кромки воды к недавнему своему собеседнику, от которого не приходится теперь ожидать трудных вопросов.
Прибитый к берегу течением на самом краю бухты, у камышей, он, полубезголовый труп убийцы, легко покачивался себе навзничь на воде, раскинув руки, и напоминал убитую лягушку. В детстве любил Хотен, вооружившись палкой, поохотиться с товарищами на зелёную дичь. После меткого удара, вот так же раскинувшись, уплывала неподвижная лягуша по медленному течению Лыбеди – и вдруг вызывала острую жалость, и мучило чувство вины ещё не огрубевшую мальчишескую душу.
Подошёл неспешно Васка-самострельщик, сел на корточки, вытащил из разбитой головы бывшего красавчика короткую железную стрелу, ополоснул её рядом в водичке.
– Я рад, что ты бережёшь стрелы, Васка, – сказал ему тихо Хотен, – однако тебе, меткому стрелку, следует поберечь и себя. Этого вот следовало было бы твоему децкому жизни лишить, а не тебе. Впрочем, не беда. Ты где живёшь-то?
– В гриднице у великого князя нашего Святослава Всеволодовича в Киеве. А где ж ещё? Я сирота.
– А сам откуда ты?
– Я из Белгорода, боярин.
– Тебе лучше пожить, пока дело не забудется, на дворе у децкого твоего Неудачи Добриловича. Он объявит тебя родственником и домочадцем своим. Тогда я сумею вас обоих защитить и в великокняжеском суде. Когда мы в Киев вернёмся. Нам ещё надо суметь туда вернуться.
Глава 23 Там, где Кза и Кончак стояли на костях
В Половецкую степь посольство повёл отрок Непогод. В ночь, когда непоседливый Чурил с камнем, к ноге привязанным, обрёл свое последнее пристанище в тихой Семи, второй беглец поседел. Утром Хотен объяснил Непогоду, что княгиня Евфросиния Ярославна хорошо отозвалась о нём и что великие князья простят его вину, если он справно выведет посольство у Суурлию, на поле битвы, а оттуда снова на Русь. Сказать об этом парню надо было раньше, и ведь не был Хотен таким уж бесчувственным чурбаном, напротив, известен как сыщик скорее даже человеколюбивый, да так уж вышло. В оправдание боярина можно сказать, что тогда очень уж беспокоился о своей новой семье, очутившейся на его мощной шее после обряда в Рыльском соборе.
В то утро Прилепа в сопровождении увальня Сновида, обвешенного оружием с головы до пят, отправилась в Путивль, и Хотен молил всех известных и неизвестных ему богов, прося, чтобы его отныне венчанная жена и прибраченный сын невредимыми добрались до Киева, домой. Севка-князёк, широкая душа, предлагал отправить с Хотеновыми домочадцами половину десятка, однако Хотен слишком хорошо знал, что в Половецкой степи каждый дружинник на счету.
Старый сыщик не очень-то надеялся на посольский значок, посему, перебредя Донец, отряд далее продвигался, будто дозор разведчиков: ночами пересекал водоразделы, а днями отсиживался в оврагах или прибрежных рощах. Не слишком Хотен и торопился, рассчитывая, что на свежих, не утомлённых конях, глядишь, и удастся, сбросив груз с поводных коней, ускакать от случайно встреченных вооруженных половцев. Судьба, казалось, благоволила отряду, даже дождь не мочил, и через неделю проводник вывел его к мелкой, издалека видно, речке. Плеткой показал на холмы на её берегу:
– Суурлий! Там стояли половцы в доспехах, а туда дальше, за ними, вежи. Отселе не видно было.
– Каяла, река печали и жалоб! – поправил его Севка-князёк, горящими глазами озирая ничем, казалось бы, не примечательный уголок степи. – Попробуй сам это пропеть – Суурлий…
Хотен натянул поводья и обратился к обступившим его конникам:
– Мужи! Мы, наконец, на месте. Теперь моя работа начинается, сыщика. А для сыщика главное что? А чтобы следы не затоптали. Посему едем дальше шагом. Мы с боярином Словишей и проводником впереди, а все вы за нами держитесь саженях в двадцати. Мы остановимся – и вы придерживайте коней. Это понятно? А все помнят, как поступить, если я подниму правую руку, и придётся нам всем смазывать салом пятки? Да? Тогда с Богом, мужи.
Проехали немного обычной степью. Если и была в месяце травене побита трава ковыль копытами, то за прошедшие недели успела выправиться и отрасти.
– Тут построились в боевой порядок. Наши, рыльские, стояли вон там, – снова показал плёткой Непогод.
Хотен даже не посмотрел в ту сторону. Ну, построились – и какая ему с того пожива? Вся его работа впереди.
– А тут уже случилась перестрелка. Половцы по стреле, и мы по стреле. Они сразу и побежали. Ну, мы за ними…
– Ясно, что кыпчаки потом подобрали стрелы – и свои, и ваши. Они и со сломанных стаскивают наконечники, – пробурчал Хотен и внимательно огляделся. – А что ж так скверно стреляли? Разве не попали ни в кого?
– У половцев не знаю, а у нас одному ковую стрела прямо в глаз ударила, он и мёртвый скакал дальше, и упал уже прямо в речку. Сколь много людей потом погинуло, неисчислимо, но его я и сейчас будто перед собою вижу!
– Вот он, наверное. Зажимайте носы!
Скелет, почти полностью объеденный птицей летающей и мелким зверем, лежал на низком берегу – искривлённый, с поломанными и раздробленными костями. Наверное, уже по мёртвому прошла тяжёлая конница, копейщики Игоря и Всеволода. Гол, как сокол, только невдалеке блеснуло… Сыщик свесился с седла – пустяк, раковинка раздавленная. Перебрёл на коне речушку, заехал на высокий пригорок. За Суурлием лежала зловонная пустыня. Ту траву, которую не выщипали здесь кыпчакские кони, они вытоптали копытами, а также загадили и обмочили с помощью своих всадников. Тут уже проходило то кольцо окружения половецкими ордами, за которое русичи в Игорев поход так и не выбрались. Подобное безобразие Хотен видел только в околицах Киева, когда союзные великому князю Изяславу Мстилавичу племена черных клобуков, печенегов и берендеев привели под защиту подгородных валов и острогов великого города свои семьи в юртах и весь свой скот.
– Веди теперь, где вежи стояли, Непогод. Эй, Хмырь, скажи ребятам, пусть на стоянке перекусят. Дальше, боюсь, ничто им в глотки уже не полезет.
На месте злополучных веж Хотен возился очень долго, вышагивал пеший то по кругу, то пересекал бывшее становище, с кряхтеньем присаживался на корточки. Дружинники тем временем валялись на траве, жевали сушёное мясо, одним ухом прислушиваясь к наигрышам гуслей мнимого Словиши: тот под них, уставившись в синее, без облачка небо, напевал нечто неразборчивое, мычал самозабвенно.
Наконец сыщик, тяжело топая, подошел к Севке-князьку. Заговорил, явно безразличный к тому, слушает ли его собеседник.
– Странное то было стойбище, княже. Ни одного отпечатка копыт скота, тут одни кони толклись. Кострища только русские…
– Ну да, тут же нас ждали старшие князья с дружинами, пока мы за половцами-беглецами гонялись, а потом была общая ночёвка, – встрял подошедший тихо Непогод.
– Кострища только из хвороста, говорю, – тяжело взглянул на него сыщик, – ни одной обгорелой бараньей или бычьей кости, из которых кыпчаки разводят огонь под своими котлами. Много следов колёс, похоже, что все вежи тут были на колёсах. Осколки от двух разбитых корчаг с вином, есть следы вина на траве, но совсем не пахнет молоком – ни коровьим, ни кумысом. Подстава, княже, воинская хитрость – и сотворенная на скорую руку! Можно ехать дальше.
– Тогда моё дело дрянь, – Севка-князёк бережно отставил в сторону гусли и замахал руками. – Если подстава несомненна, значит, и первоначальной победы, самой маленькой, но победы, её тоже не было? О чём же тогда мне петь? О том, что русичи смело заглотнули наживку и храбро оказались на крючке?
– Худые, скверные дала тут вершились, – заговорил Непогод, понурив голову. – Князь Святослав Ольгович взял со всей дружины клятву молчать, да только ну её к лешему, эту клятву, когда и князь в полоне, и ребят уже нет! Давно уже тогда стемнело, ближе к полночи, когда мы, гоняясь за половцами-беглецами, чуть не напоролись на большую орду. Половцы стояли станом, горели у них костры, нас не преследовали. Князь Святослав Ольгович сказал, что если главный князь узнает, то все быстро отступят, а нам на усталых конях не уйти.
– Тьфу ты! – плюнул Хотен. А Севка-князёк беспомощно развёл руками.
– Однако в стане у веж и так все знали, что половцев вокруг тьма-тьмущая. Ничем нам то враньё не помогло.
– Поехали, однако.
С коня легко было определить направление – на ближнюю большую груду скелетов в том месте, где северские дружины в первый раз пытались прорвать окружение.
– Непонятно мне всё же, – пробормотал Хотен, – почему же Игорь не ударил сразу назад к Суурлию, чтобы прорваться к воде и чтобы уходить на запад, наконец? Посмотрим хоть на эти кости.
Сам понимал, что многого там не увидишь: половцы своих убитых собрали и сожгли согласно обычаям предков, а у русских мертвецов по праву победителей забрали всё, чем те временно владели, – от коней, сёдел и оружия до последней нитки на теле. И русичи не лучше бы поступили с мёртвыми кыпчаками, если их была бы победа, разве что не такие жадные они, как степняки, на любую холстинку: дешёвые на Руси льняные холсты, как известно, в степи из земли не вырастают.
Жуткий стоял смрад на поле боя, и до сих пор сидели у скелетов серые вороны, неохотно разлетающиеся в стороны, когда Хотен заставлял своего фыркающего Махая подъехать поближе. И даже как именно погиб рождённый под несчастливой звездой дружинник, с какой стороны принял смертельный удар, не всегда можно было понять и ему, человеку, немало трупов повидавшему: конечно, следы от ударов булатной сабли и на костях остаются, отрубленная голова или рука в сторону отлетают, а вот стрелы кыпчаки тоже вытаскивали из не объеденных ещё тел. Да и ясно было, что степняки, раздевая трупы, перетаскивали их по земле, повёртывали да поворачивали, как им удобнее было.
Так и ехали они по скорбному пути, и расположение россыпей скелетов на широком вытоптанном и загаженном поле заставило Хотена вспомнить, как волк мечется в кольце загонщиков. Наконец, Непогод привёл их к солёному озеру, где случилось последнее побоище, и тут сыщик, чувства которого успели даже несколько притупиться, охнул: такого количества человеческих скелетов он не видел никогда. Здесь легла не одна тысяча северян! Однако чуть позже, когда подъехал поближе, он вздохнул с облегчением: в белеющих костями грудах особенно много оказалось конских костяков: это северские кони пали в множестве здесь от усталости и жажды. Следственно, несколько меньше всё-таки скопилось здесь людских трупов, чем было показалось ему.
– Хреново же мы собирались в сию поездку, Хотен, – грустно заявил князь и снял шапку с плешивой, как выяснилось, головы. – Прихватили с собою жёнку, гусли да самострельщика, а вот самого нужного здесь человека, попа, как раз и забыли.
Хотен тоже снял шапку, за ним остальные. Сыщик помолчал, потом покачал головой:
– Я догадался, что ты задумал, княже. Наверное, каждый из нас об этом же подумал. Однако нас здесь только дюжина, и пришлось бы нам трудиться не меньше месяца, чтобы похоронить всех. А мы не можем тут надолго оставаться. Я также боюсь, княже, что после того, как ты закончил бы сию работу, ты больше никогда не слагал бы песен. Поэтому давай лучше доделаем здесь нам порученное. А потом все вместе помолимся, скажем все молитвы, кои помним. Эй, Непогод! Покажи мне, в какую сторону ты отсюда бежал!
И когда рыльский дружинник, не колеблясь, показал рукой, Хотен огляделся ещё раз и призадумался. Спросил:
– А куда поехал князь Игорь Святославович, когда вас, беглецов, пытался вернуть в строй?
– Я не видел! – и добавил, отвернувшись. – Если бы увидел такое, обязательно бы вернулся. Боже мой…
– Кончай ныть, Непогод! – рявкнул сыщик. – Помнишь ли хоть, где стоял стяг Игоря Святославовича?
И вперившись взором в то место, куда показал грязный палец рыльского беглеца, попробовал Хотен вместо груды белых, в страшных бурых пятнах костей увидеть бравого князя на белом коне, в золотом шоломе и алом корзне, а за ним строй конных молодцов-дружинников – не смог и невольно всхлипнул. Ещё раз внимательно оглядел поле, прогнав туман из глаз. Теперь всё.
– Ну, мужи, – сказал. – Давайте спешимся, на коленки встанем и помолимся за души убиенных.
Смолк нестройный гомон молившихся, вразнобой читавших кто Иисусову молитву, кто Отченаш, а кто и Трисвятое, и Хотен, в последний раз перекрестившись и так и не обретя покоя в своей душе, встал с колен. Нет, недаром ему показалось, что вокруг них потемнело, будто солнце зашло за неизвестно откуда взявшуюся тучу. Их окружало кольцо половецких всадников, и, судя по тому, что он насчитал перед собою девятерых, было их не меньше сорока. Случилось то, чего он всё время опасался, однако, коль беда уже случилась, страх покинул его душу.
Он выпрямил спину, сколь было это возможно, задрал кверху бороду, ткнул пальцем в копьё с посольским значком, воткнутое в землю, и прокричал:
– Се посольство от великих князей киевских Рюрика Ростиславовича и Святослава Всеволодича к великому князю Кончаку Отраковичу!
– Вот ведь какой удача вам вываливаться! – раздался вдруг голос справа, и Хотен, повернувшись на него, увидел роскошно одетого кыпчака средних лет. – Вот ведь я и быть то самая конязь Кончак.
– А я посол от великих князей боярин киевский и палатин угорский Хотен Незамайкович, – подумав мгновение, решил Хотен не называть вторым послом Словишу Бояновича. Он много слышал о Кончаке, да и сейчас не показался хан ему таким, которому можно безопасно скормить любую ложь. – Так править ли мне посольство, великий княже?
Кончак отвечал ему по-русски же, сыпал словами быстро, неправильно, но вполне понятно. Хан заявил, что ему подозрительно посольство, вооруженное до зубов, кое едет ночами, а днем прячется, будто на самом деле у него скверные намеренья, а вовсе не посольские дела на уме.
– Помилуй, великий князь, – отвечал Хотен, давно подготовивший ответ на подобные вопросы, – как можно было нам, идучи в твой улус, не беречься? Время военное, мир не заключался, в Половецкой степи много диких половцев из других краев, а что такие нападали и на послов, случаи бывали.
Хан переспросил, как имя посла. Котян? Гостил он у конязя Башкорда, так там спел ему гудец песню про урус-батыра Котяна, который разыскал в огромном, как степь, Киеве белого арабского коня Аль-арслана, украденного у Башкорда, а того коня отбивая, уложил тысячу киевских разбойников. Поехал батыр Котян послом от великого урус-конязя возвращать Башкорду украденного коня, а на него бесчестно напал злой коняз Белдуз, за что и поплатился жизнью со всею своею дружиной… Не ты ли, спросил, тот Котян?
– Да, про меня это было спето, – весьма польщённый, поклонился Хотен. – Вот только приврал тот гудец немилосердно. Что старый коняз Башкорд на войну ездил, ведомо мне, а вот здорова ли супруга Башкордова, княгиня Звенислава Всеволодовна? Здорова ли княгиня в свои почтенные лета, того он, Кончак, не ведает, зато набелена и нарумянена, словно молодая. Они со стариком до сих пор лаются, однако княгиня остаётся его старшей женой… Айда теперь, посол Котян, править свое посольство.
– «От великих князей киевских Рюрика Ростиславовича и Святослава Всеволодича к великому князю Кончаку Отраковичу. Скажи нам настоящую цену выкупа за Игоря Святославовича. И поведай, где и у кого пребывают Всеволод Святославович, Владимир и Святослав, и какой выкуп вправду, а не бахвалясь, хотят за каждого князя». Вот.
Хитро усмехнувшись, заявил Кончак, что великим князьям, очевидно, остался неизвестным побег Игоря Святославовича. О каком же выкупе теперь может идти речь? Всеволод Буй Тур у Кзы, к нему и следует обращаться. Конязь Святослав помер, был он в полоне у мурзы Алтына, а теперь тот вернулся в свое кочевье у реки Итиль. Кости же Святослава родичи могут забрать бесплатно, ибо лежат они в его, Кончака, улусе. А молодой Владимир у меня, перекупил я его, выкупу за него не нужно, а вот свадебные подарки понадобятся.
Хотен помедлил, запоминая. Потом поклонился:
– Все твои слова будут переданы в точности, великий хан. А теперь, поскольку посольство завершено, не будет ли послу дозволено удалиться? У нас впереди долгий, тяжелый путь.
Опять скривил в усмешке свое желтое лицо Кончак. Разве может быть тяжким путь по душистой степи и мимо тенистых дубрав? К тому же он, Кончак, как только ему дозорные донесли о том, что малая дружина урусов с посольским значком устроила дневку в Лисичей балке, сразу решил поехать навстречу. Думает он, что великие князья киевские поручили послу Котяну заодно осмотреть место недавнего побоища, вот и сам он с удовольствием посетил это славное место. Он приглашает посла Котяна выехать за пределы негодной для пастбища земли и там, на вольном воздухе, побеседовать.
Делать было нечего Хотену, пришлось согласиться, и два отряда поехали дальше вместе. Действительно, вскоре сумел он вздохнуть полной грудью, а когда увидел у зелёной, не объеденой конями березовой рощицы, расписную вежу на колесах, а перед нею расстеленный бухарский, должно быть, ковер, у него гора с плеч свалилась: речь, очень на то похоже, действительно шла о мирной беседе.
Хан пригласил посла присесть на ковер, а когда Хотен устроился, наконец, кое-как, увидел он, что хозяин уже сидит, как ему удобно, на корточках с чашею кумыса, и такую жу чашу предлагает ему размалёванная молодая половчанка с голым животом. Девица улыбнулась прельстительно, Хотен побагровел, в голове у него зашумело, и он не сразу расслышал, что она ему говорит.
– Коназ Игор куны давать, – вот что она сказала, понял посол.
Кончак усмехнулся. Девка Бюльнар полагает, что его друг коняз Игор должен вознаградить её за их частую любовь. Вот когда молодой коняз Владимир и Свобода поженятся, а ещё лучше, когда скрепят свое супружество младенцем, он, пожалуй, отправит Бюльнар вместе с ними к конязю Игорю, пусть сами разберутся. Он, великий хан, после бесчестного поступка отца вовсе не изменил своего отношению к сыну. Не то что другие ханы, те за побег Игоря наказали русских пленников: все теперь сидят в оковах, а многие и биты плетьми… Будет случай, скажи Игорю, что любимый его сокол Сапсай крепко заболел и едва ли выздоровеет… А посол Котян, он что, брезгует кумысом?
– Вовсе не брезгую, великий хан, – возразил Хотен, взял чашу и отхлебнул. Подумал, что после такого зрелища выпил бы и чего покрепче, но от кислятины хоть не вывернет. – Подумалось мне, великий хан, что хорошо бы мёртвых русичей отпеть по православным обрядам, да и похоронить в братских могилах. Если бы ты дал свое позволение, я бы сообщил о нём на Северщину.
Помолчав, хан заявил, что предложенное послом расходится с его, великого хана, намерениями. Ведь эти груды белых костей урусов-воинов есть готовый памятник великой кыпчакской победе над иноземными грабителями и насильниками. Чего искали северяне в Дешт-и-Кипчак? Он устроит так, что сюда будут привозить юношей и подростков, чтобы они учились тому, как надо защищать свои степи. Заметил он: хотя на костях и мяса-то не осталось, вороны по-прежнему прилетают сюда. А может быть, это молодые птицы, которых старые учат, как обходиться с трупами пришельцев?
– Великий хан, – трудно вымолвил Хотен, – а разве предки не завещали нам с почтением относиться к мёртвому телу, пусть бы даже и пришельца?
Кончак погрустнел. О, если бы сами урус-конязи подавали в том пример! Разве хоть раз кыпчакы, убитые в набегах на Русь, были похоронены по-человечески? А сколько ханов и знатных батыров после пленения было утоплено, казнено отвратительной для степняка смертью? Впрочем, он совсем не о сих старых обидах хотел поведать урус-послу для точной передачи на словах великим князьям киевским.
Тут хан повёл жидкой бородкой в ту сторону, откуда они только что приехали, и заявил, что Игорево побоище вовсе не означает, что теперь начнется долгая война. Война прекращает торговлю, а мир выгоден всем. Он хотел пояснить, почему и дальше будет дружить с северским князем, а с переяславским воевать. Он думает, как кыпчакский хан, и хочет добра для своего улуса и для всех кыпчаков. А кыпчакам не нужны леса, в которых спрятались северяне и суздальцы. Русь ослабела, а кыпчакам следовало бы снова отобрать у неё все степи до самого Киева, всё Левобережье, а русские города там подчинить кыпчакам, как Шарукань или Сугров. Пусть в Переяславле останутся урусы-ремесленники, пусть даже церкви стоят, а хан и дружина пусть будут половецкие. Это благодатные места, в степях есть где выпасти скот, а в рощах найти дрова и жерди для юрт, дерево для всяких необходимых в кочевом быту поделок. Кроме того, разве не свидетельствуют бесчисленные курганы на сей земле, что и в давние времена ею владели кочевники?
– Русичи-язычники тоже насыпали над своими князьями высокие могилы, – осмелился заикнуться Хотен.
Кончак только отмахнулся. Все великие страны и державы со временем распадались и гибли, а их соседи усиливались. Вон как велик и страшен был Искандер Двурогий, полмира завоевал, а кто даже знает теперь, где была его родина? Великий Данапр, по-уруски Славутич, станет надежной границей между земледельцами и кочевниками, а тогда и войны прекратятся – ведь с тем же Киевом выгоднее долго, десятилетиями торговать, нежели однажды захватить его и ограбить. Но всё это в будущем, если ему, Кончаку, или его сыну удастся навести порядок в степи, сплотив все кыпчакские орды и племена. Или сопернику его Кзе, что было бы нежелательно для всех. Да, всё это в будущем, а сейчас он велит передать великим князьям два предложения. Первое: пусть охраняют торговый путь Гречник только до города Донца, а дальше уже забота кыпчаков. Второе: пусть присылают в степные ставки ханов родичей для выкупа русских пленных, их не ограбят. А теперь можешь ехать, посол Котян. И не прячься больше! Десять моих нукеров проводят тебя до Гречника.
– Позволь на прощанье спросить тебя, великий хан Кончак Отракович, об одной вещи, – наклонил голову Хотен, а увидевши, что Кончак кивнул, решился. – Скажи, почему половцы, когда захватывают в полон, убивают младенцев и малых детей? Я понимаю, почему стариков, но зачем младенцев?
Хан усмехнулся. Он не очень хорошо понимает, что удивило посла. Ведь ребёнок – это и не человек вовсе ещё, и с ним столь же мало надлежит церемониться, как и с животным. Да и то подумай, посол, – разве бабы-уруски не нарожают новых?
Глава 24 О чём доложил Хотен великим князьям
Только переглянулись великие князья, когда Хотен изложил всё сказанное Кончаком во время нечаянного своего посольства.
– А где князь-неудача Всеволод Ростиславович? Неужто снова пьян? – вспомнил вдруг великий князь Святослав Ольгович.
Рюрик Ростиславович нахмурился. Хотен пояснил торопливо, что Всеволод и не пил вовсе во время всего посольства, а сейчас заперся у себя в доме, сочиняет заказанную великими князьями песню про Игоря Святославовича.
– Да разве мы заказывали этому обалдую песню? – с оскорбительной для чести певца ухмылкой снова спросил Святослав Ольгович.
– Выходит, сват, что заказывали, ежели сочиняет, – промолвил младший брат певца и спрятал улыбку в бороду. – Будет на Петра и Павла у нас княжеский съезд, мы устроим над Игорем суд, а Всеволод пусть споёт на пиру свою песню. Хоть развлечёт родичей после судебных препирательств. А сейчас давай, Хотен, спой ты нам свою песню об Игоревом походе. Говори всё, что думаешь, не стесняйся. Мой сват, хотя и дядя Игорю, но на него по-прежнему сердит.
– Ещё бы! Коли бы не сей погром, разве осмелился бы Кончак на такую наглость – требовать половину пошлин с Гречника? Да мы теперь каждого купца будем вооруженной рукою провожать до самого Понтийского моря! А выкупать пленных северцев будем в городе Донце: покажи нам сперва, что живой, а тогда тебе куны, а нам голова… Мы тебя слушаем, боярин.
Не торопясь, выбирая слова, рассказал Хотен о главном из того, что видел и услышал. В душе перекрестился и перешёл к выводам.
– И вот к чему я пришел, великие князья. Сам отдельный выход в поход против половцев северских войск в то время, как великие князья собирали общерусский поход в степь, весьма для меня подозрителен. По поручению Ярослава Черниговского его боярин Ольстин Олексич провёл в половецких степях в переговорах с половцами несколько месяцев, и он же повёл ковуев с Игорем и северцами. Эта особая какая-то, плохо пахнущая игра с половцами. Кончак – давний приятель Игорев, и с ним воевать Игорь как раз и не собирался. Даже в последней битве, когда именно орда Кончака прикрывала путь к воде, Игорь предпочёл ударить в другую сторону, но по орде Кзы. Боюсь, что тут дело нечисто.
– Если Ольговичи постоянно приводят половцев на Русь в часы усобиц, что удивительного было бы, если бы Кончак привёл Ольговича в степь, дабы ослабить своего соперника Кзу? – Рюрик Ростиславович произнёс это тихо, не глядя на свата. – Отчего Игорь надеялся легко пограбить кочевья Кзы? Не потому ли, что Кончак сообщил ему, когда Кза выведет воинов в совместный большой поход кыпчаков на Русскую землю?
– Я тоже так думаю, – кивнул Хотен. – Однако что-то у Кончака не заладилось. Пограничные сторожи или разведчики донесли Кзе о дерзком проникновении Игоря в Половецкое поле, и Кза сумел бросить против северских полков все половецкие войска, собранные для большого похода. Кончак не смог сему воспрепятствовать, однако постарался выручить лично своего приятеля.
– Это одни догадки, – пробурчал Святослав Ольгович.
– Прости, великий княже, но имеются косвенные доказательства, – твёрдо заявил сыщик. – Ольстин Олексич, который вёл тайные переговоры, погиб, но из Чернигова можно вызвать боярина Беловода Просовича, он об этих переговорах на суде расскажет. А побоится на суде, поведает вам, великим князьям, в особицу. Кроме того, Кончак дал мне понять, что Игорь в плену у него охотился с соколами и развлекался с девицей, и даже… И даже, что он не сердится на Игоря за побег. Да было ли когда такое возможно, великие князья?
Рюрик Ростиславович решительно покачал головой. Святослав Ольгович отвёл глаза от узоров персидского ковра на полу палаты и заявил:
– Хитрому Кончаку недолго было и соврать.
– Девицу я своими глазами видел. Она сказала мне, что коназ Игор задолжал ей за любовь.
– Молодчина Игорь! И месяца в плену не пробыл, однако времени не терял! – подхватился со стула великий князь Рюрик.
– Ты теперь про главное, про главное давай, – поглядев на развеселившегося соправителя снисходительно, предложил Святослав Ольгович.
– Про главное… – тут Хотен призадумался, хотя в возвратном походе много раз возвращался мыслями к этому главному, и даже о том думал, какими словами о нём сказать. – У нас на Руси теперь войны почти каждый месяц, и каждый горожанин-ремесленник, каждый мужик-деревенщина за пивом бесстыдно ставит себя на место князя-полководца, почитая себя докой в военном искусстве. Я про себя такого сказать не могу: хоть и боярин именем, но занимался в своей жизни иным. Однако и на войне мне не раз доводилось побывать, и даже рядом с таким славным полководцем, как твой, великий княже Рюрик Ростиславович, дядя, великий воин Изяслав Мстиславович. Было с чем сравнить…
– Не тяни, боярин, – промолвил великий князь Святослав. – Если мы со сватом спрашиваем тебя, значит, нам любопытно твое мнение.
– А мнение мое таково. На войне может произойти всё что угодно. Когда сходятся равные по силе войска, кто возьмётся предугадать исход битвы? И разве не было случаев, когда войско, превосходящее противника и числом, и вооружением, вдруг бежало от него? Тут греческая богиня удачи, Хвортуна, вмешивается в ход битвы, а с богинею не поспоришь. Однако дело князя-полководца – принимать решения, и вот их, решения эти, можно и обсудить. Вот сие, мол, решение было правильным, а это ошибочным. Именно о таких решениях князя Игоря Святославича, обусловивших судьбу его войска, я и решусь высказаться.
Великие князья переглянулись, и князь Святослав промолвил:
– Тогда сама подготовка лукаво скрытого от меня особого похода в степь была ошибкой Игоря. Тем более, что он не посмел признаться мне в том, когда я гостил в Новгородке-Северском за несколько дней до его отправления в поход.
– Так ты полагаешь, боярин, что Игорь должен был вернуться, когда разведчики донесли, что половцы готовятся к войне и ездят с доспехом? – спросил Рюрик Ростиславович.
– Я, скорее, думаю, что ему надо было вернуться раньше, когда брат его Всеволод неведомо почему опоздал на два дня к месту сбора дружин на реке Осколе. Если половцы готовились к большой войне, они высылали во все стороны дозоры и уже тогда засекли Игорево войско. А на Сальнице… Тут всё зависело от того, выдал ли Кончак свату Игорю место и время сбора половецких орд для большого похода на Русь. Если выдал и если степь кишела половцами в доспехах именно в том месте, которое указал Кончак, надо было, как задумано, быстро продолжать набег в тыл Кзы, на его беззащитные кочевья.
– Опять одни догадки! – бросил князь Святослав.
– Если же никакого тайного сговора не было, тогда Игорь, безусловно, ошибся. Он тогда шёл в набег, чтобы внезапно пограбить, а тут готовые к бою войска. Идти вперёд было решение храбрым, однако же… – замялся Хотен.
– …неразумным, – закончил за него князь Рюрик. – Всё равно что надеяться раздавить муравейник голым задом.
– Наша беда в том, – хмуро заметил князь Святослав, – что на Руси не умеют отступать. Отступление у нас сразу же обращается безумным, с потерей голов по дороге бегством. У пугливых половцев научились, что ли?
– Осмелюсь заметить, господа великие князья, что были на Руси полководцы, кои умели отступать, отводя войска в полном порядке и не потеряв ни одного человека, ни одного коня, ни одной телеги в обозе. Хотя бы и незабвенный великий Изяслав, о котором я упомянул, он любил говорить: «Утёк не славен, да пожиточен». Или вот ты, великий княже Рюрик Ростиславович, ты тоже прекрасно владеешь этим воинским исскуством.
– Да, приходилось отступать. Хоть бы и от сего вот дорогого свата моего с его проклятыми половцами, – усмехнулся князь Рюрик. – Теперь про вежи. Ты, боярин, убедил нас: была то, без всяких сомнений, подстава. Половцы перехитрили Игоря, задержав его на месте, пока собирали все свои орды и надёжно окружали полководца-недотепу.
– Недотёпа? Князь Игорь не недотёпа, – Хотен покачал головою. – Это невозможно, чтобы князь не распознал степную хитрость, когда пришёл к вежам с основными силами. Он тут проявил иной недостаток, для полководца поистине губительный. Нерешительность! Мне ли напоминать вам, господа великие князья, что на войне хуже нет, чем мямля-военачальник? Следует быстро принять решение (пусть и не лучшим оно потом окажется) и быстро его выполнять. Князь Игорь должен был немедля послать гонцов и вернуть молодых князей и ковуев назад к вежам – и отходить, конечно, сразу же отходить.
– Тут ты ошибся, боярин, – нехотя промолвил князь Святослав. – Мой племянник – человек как раз решительный, даже туповатый в сей своей доблести. Он нашёл в вежах вино и девок, вот и задержался.
– Теперь уж я скажу, сват, что это только догадка, – князь Рюрик усмехнулся и вдруг подмигнул Хотену. – А может быть, у самого Игорька-хорька спросим?
– Даже ночью, когда он дождался возвращения ковуев и молодых князей, ещё не поздно было уходить. Можно было оставить костры – есть же такая хитрость… Курская и новогородская дружины поделились бы заводными конями с рыльской и путивльской, а ковуи и на своих сумели бы ускакать. Однако Игорь заявил следующее: «Коль помирать, так всем». Разумно ли это было, господа великие князья?
– Зато благородно, по-княжески.
– Что ж тут благородного, великий княже Святослав Всеволодович? Я понимаю, что при таком отступлении уйти удалось бы не всем. Половцы, отправленные в погоню, действительно могли захватить в плен или убить некоторых отставших. Однако какие тогда могли быть потери? Ну, сотня, пусть даже две или три. Простите меня, однако это же не полторы тысячи пленных (со всеми князьями!) да ещё больше убитых – эти горы костей неплохо бы вам своими глазами увидеть!
– Может быть, и увидим мы, – великий князь Святослав произнес это, уставившись на ковёр. – Кончак напрасно думает, что мы не отомстим. Вот будет съезд, и договоримся на следующую весну. Потреплем поганых так, что не рады будут своей победе. Слава богу, хоть Владимир Глебович оправился, говорят, от ран.
– Не забывай, сват, что сей суздальский хоробр для нас с тобою сейчас единственный соперник. Чем чаще Владимир Глебович будет бить половцев, хоть и в составе нашего общего войска, тем ближе окажется к золотому киевскому столу… Впрочем, боярину эти подробности скучны. Ты ведь ещё не закончил, боярин?
– Нет, великий княже. И вот просыпается полководец – и видит, что его войско со всех сторон окружено противником. Свидетели поведали, что половцы стояли вокруг, словно леса, за ночь выросшие. Кто говорит, двадцатикратное было превосходство у поганых, кто, что и посчитать было невозможно – ведь вся Половецкая земля собралась на Игорево войско! А половцы стоят, хотя могли сиверян, между кострами снующих, раздавить, ударив со всех сторон копейщиками, а ещё для них безопаснее – засыпать стрелами. Между тем, они стоят, не нападают. Ладно уж, оказался Игорь в таком сложном положении. Как ему следовало поступить тогда? Александр Македонский, тот умел и с малой дружиной гнать бесчисленное войско персов, вот только наш князь Игорь далеко не Александр Македонский и даже не славный хоробр Илья Муравлении, которому достаточно было бы схватить одного половца за ногу да им же перебить всех остальных.
– Да ясно, как поступить, – начать переговоры, – заявил князь Рюрик. – Отправить к ним посла, навязать торг.
– Вот, вот, великий княже! Среди кыпчакских ханов много таких, что участвовали в русских усобицах, и им знакомы случаи, когда договариваются с более сильным противником, уступая город или даже удел или обещая выкуп.
– Ну, такого я не помню, чтобы откупаться от плена в чистом поле… К тому же он попытался договориться позже, а ханы отказались от переговоров и задержали посла, – напомнил великий князь Святослав.
– Конечно, отказались! После того отказались, как он дважды бросался в бой, пытаясь прорваться, и раздразнил их. Ему надо было, говорю, попытаться договориться раньше, однако он разозлился на Кончака, думая, что тот его обманул…
– А ударил всё-таки не на воинов Кончака, прикрывавших от него воду, а на Кзу! – засмеялся Рюрик. – Дружба есть дружба…
У Хотена промелькнула мысль, что великие князья что-то уж слишком легко воспринимают его слова. Неужели они приняли какое-то решение заранее? Тем не менее, он решил продолжать:
– Далее начинаются метания в кольце окружения, из которого половцы его так и не выпустили: то сиверцы прорываются с копейщиками впереди, то рубятся, сойдя с коней, то опять верхом – и всюду оставляет Игорь горы трупов своих дружинников. Меня возмущает не поражение Игоря (на войне всякое бывает), а то, что по его вине поражение перешло в избиение русичей. Я никак не мог понять, откуда такое количество убитых, неужели действительно нужно было биться до последнего дружинника и боярина, а уже потом сдаваться?
– Мёртвый дружинник – хоробр, его оплачут и воспоют, – проговорил Рюрик, не глядя на свата и сопровителя. – А дружинник в плену – хворый бедняга, его придётся выкупать.
– Не смей так говорить о моём племяннике!
– У меня другое объяснение, господа великие князья, и не думаю, чтобы оно для Игоря Святославича было бы намного более приятным. Сей полководец видел, что сдаваться всё одно придется, если не случится чуда, и у коней сиверян не вырастут вдруг крылья. Однако сдаваться, имея в потерях одного-двух ковуев, он считал позорным, а вот сдаться, когда большая часть войска полегла, это уже не позорно, это по-кляжески, благородно.
– Я не обижаюсь на тебя, безродный сыщик, что ты плохо думаешь о нас, Рюриковичах, – помолчал тут великий князь Святослав и вдруг криво усмехнулся. – Я, быть может, и сам о нас не лучше думаю. Но с чего ты взял, что всё, что князь делает, он делает с обдуманным намереньем? По мне, так просто не хотелось Игорю сдаваться – вот и всё!
– А мне всю дорогу, пока возвращались мы в Киев, не давала покоя загадка – для чего князь Игорь поскакал заворачивать полки? Ведь вы согласны, господа великие князья, что кочевников, уж если побежали они с поля битвы, ни за какие коврижки не вернуть в строй?
Великие князья кивнули. Рюрик сказал:
– Игорь мог одуреть совсем с недосыпа да от жажды, вот и всё объяснение.
Святослав только плечами пожал. Сыщик, в душе перекрестившись, продолжил напористо:
– А я думаю, что он нарочно дал себя пленить, чтобы выйти из боя раньше, чем его стяги падут и дружины сдадутся. И ему на руку оказалось, что брат его Буй-Тур впал в неистовство и сражался до конца, пока его не схватили. Игорь мог быть доволен: когда его стяг был брошен на землю, уже половина северского войска оказалась на том свете. Убей человек, хотя бы и Рюрикович, князь, в мирной жизни столько русских людей, сами понимаете, кем бы его надо назвать. А если это совершил полководец на войне? Я всё сказал, а вам, господа великие князья, решать.
Хотен тяжело поднялся со скамьи и поклонился.
Великие князья обменялись взглядами, и Рюрик сказал:
– Мы благодарим тебя за труд твой, Хотен Незамайкович. Куны свои получи сегодня же у казначея. На Петра и Павла после обедни приходи в сей терем, к свату моему Святославу Всеволодовичу, на княжий съезд. Тебе будет любопытно послушать, как дело Игоря Святославовича свершится, да и повеселишься потом заодно.
Глава 25 Чудесное превращение Игорька-хорька в горностая
Хотя празднование свадьбы, по настоянию Прилепы, было отложено на осень, чтобы как у добрых людей, счастливая жёнка всем своим подружкам показывала венчальную память, и постепенно Хотен стал чувствовать себя снова, как и без малого тридцать лет тому назад, женатым человеком, а теперь и с многочисленным законным потомством. Счастливее ли и веселее ли ему теперь стало, это уже другой вопрос, а что спокойнее и увереннее, так это уж точно.
На Петра и Павла, после обедни новоявленный молодожён, принарядившись сколь возможно и нацепив даже золотые рыцарские шпоры, поехал в Святославов терем на Ярославовом дворе. Оставив коня у коновязи на попечение Сновида, он остановился на мгновение перед расписной лестницей Святославова терема и подумал, что, сложись судьба его по-иному, могла бы сейчас стоять здесь рядом с ним разряженная и по-прежнему блистающая поздней женскою красой боярская дочь Несмеяна. Хоть и трижды законная его жена, смуглая умница Прилепа не имела на это права. Разгадывать самые сложные загадки, проникать в тайны, хоть бы и княжеские, – это ей дозволяется, да только не сплетничать с боярынями за сладким вином в особливой палате княжеского терема. Тут же невольно припомнились Хотену все известные ему любовники неукротимой игуменьи Алимпии, и он, хмыкнув, почесал в затылке.
– Папаня, а мне что теперь делать? – раздался позади голос Сновида.
– А как привяжешь коней, ты поди, узнай, где тут оруженосцев угощают, – посоветовал, не оборачиваясь, Хотен. Ишь ты, «папаня»… Что ж, теперь имеешь право, сынок.
Просторная гридница терема была битком набита старшими дружинниками приехавших на съезд князей. Хотен нахмурился: предстояло толкаться, а то и ссориться за достойное место, что ему совсем не улыбалось. К тому же бояре уже пировали вовсю: похоже, служба в Софии завершилась раньше, чем в Десятинной, где Хотен отстоял обедню. Тут к нему подошел безбородый слуга с носом-пуговкой, справился об имени, взял за рукав и провёл в следующую палату.
Здесь заседали только князья да тысяцкие по выбору, и Хотен безропотно занял последнее место, под волоковым окном. Случись сей княжий съезд зимой, и вся сажа из печи была бы его. Тот же слуга принес ему серебряный кубок, ложку да по новейшей немецкой моде тарелку, вырезанную из черствого каравая: после обеда её, пропитанную мясным соком, следовало бросить собаке или скомороху, а если оставишь на столе, слуги отдадут нищим. Сыщик отстегнул от пояса нож, чтобы отрезать ломти мяса, и обрёл наконец возможность осмотреться и прислушаться.
Сразу же кольнуло в сердце: князья были уже заметно нетрезвы, а разве возможно им судить своего родича в таком состоянии? От главы стола ему улыбнулся Рюрик Ростиславович, соправитель же Рюриков был занят разговором, судя по всему любезным, с Игорем Святославичем. Если Новгород-северского князя собрались судить, как оказался он на почётнейшем месте за этим столом? С конца стола кивнул небрежно Хотену принарядившийся Севка-князёк. Выглядел он несчастным и потерянным, однако сыщик поклонился ему так же низко, как и прочим князьям.
Некоторое время участники съезда продолжали утолять жажду и насыщаться. Хотен, жуя, с жадным любопытством всматривался в князя Игоря. Одетый беднее других, как и положено страдальцу-пленнику, он не выглядел изможденным или угнетенным, хоть и похудел; в волосах, не прикрытых княжьей шапкой, и в бороде седых волос как будто не прибавилось, и взгляд был тот же, запомнившийся после встречи у Софии три года назад: наглый, в то же время презрительно-ласковый.
Потом встал седой, как лунь, Святослав Всеволодович, подождал, пока гости притихнут. Хотена снова кольнуло в сердце: ведь он помнит великого князя ещё робким юношей, после победы великого Изяслава над Игорем Ольговичем спрятавшимся в алтаре Ирининской церкви. Сколько же лет прошло, и как теперь выглядит он сам, если был тогда старше князя на несколько лет?
– …и ешьте, дорогая братия. Я успел переговорить со всеми вами отдельно, и мы условились, что следующей весной выйдем в Половецкое поле и тряхнем поганых так, что мало им не покажется. Мы отомстим за раны храброго Владимира Глебовича и за полон северских князей! Конечно же, во времени выступление наше в поход зависеть будет от того, какая выдастся весна и скоро ли просохнут дороги. Как только мои разведчики донесут…
Тут сыщик, которому сей предполагаемый поход был мало любопытен, позволил себе отвлечься. Долгий допрос охромевшего Узелка, бывшего оруженосца покойного боярина Добрилы Ягановича, принёс-таки плоды: устрашенный страшной смертью ловкача Чурила, калека сознался. Это он, когда хитрец убежал в Рыльск, решился добыть себе деньжат у прогрешившейся игуменьи Олимпии, выдав себя за неизвестного ей вымогателя. Чтобы не подставлять мать-игуменью, избитого Узелка заставили дать страшные клятвы, что будет держать язык за зубами. Поразмыслив над сим делом, Хотен пришел к выводу, что для жертвы подобных Чурилу и Узелку хитрецов единственный надёжный способ избавиться от вымогателя, торгующего в рассрочку чужою постыдною тайной, – это его убить. И самому попасть под карающий меч закона? Преступление ужасно зловредное и подлое, тут ничего не скажешь, однако в то же время как бы не существующее, ибо не предусмотрено в «Русской правде»… Любопытно, какое вознаграждение для него, разумника, придумает Несмеяна… Что?
– …нашего дорогого гостя, брата и сына нашего Игоря Святославича. Не удержав порыва храброго своего сердца, захотел он напоить коней своей дружины из Дона, а сам поискать града Тмутороканя на самом конце земли Половецкой. Сердит был я на Игоря, когда он своей неразумной храбростью открыл ворота поганым на Русскую землю, жаль мне его было, как сына, когда оказался он в плену, счастлив я теперь, когда Бог простил сего храбреца и грешника и помог ему бежать из горького плена, из рук детей бесовых! И теперь…
– Великий княже, отец и брат мой, дозволь слово молвить!
Вместе с князьями повернул и Хотен голову, отыскивая невежу, прервавшего речь Святослава Всеволодовича, и увидел, как, опираясь обеими руками на стол, поднимается на ноги Владимир Глебович. Злоба исказила бледное, в болезни исхудавшее лицо переяславского князя. Он и первую, обдуманно вежливую свою просьбу, не сдержав сердца, выкрикнул, а потом закусил удила и просто уже провизжал:
– Братие, да что же тут деется? Я на своё здоровье не посмотрел, приехал сюда, чая оказаться на суде нашем над Игорем, а тут ему хвалу воздают! Дружины северские загубил, все князьки, что с ним были, томятся в плену, мои города на Суле сожжены, не говоря уже о его Посемьи! Мы должны лишить его удела – и это ещё слабое наказание для преступника, посрамившего наш славный род Рюриковичей!
Князья, ворча, начали подниматься со скамей. Толстый Ярослав Черниговский, потрясая кубком, заявил:
– Не ты, Глебович, Игорю удел давал, не тебе и отнимать! Мы, Ольговичи, с Сиверщиной сами как-нибудь разберёмся.
Незнакомый Хотену высокий князь с добрым, красным от уже выпитого лицом развёл руки, будто хотел заключить всех присутствующих в объятья:
– Братие и друга! Да успокойтесь же! Надо же и снизойти к слабости родича! Да где это видано, чтобы чуток князь провинился – и тут же судить?
Ярослав Всеволодович всё не мог успокоиться:
– Да ты, Глебович, не в поруб ли желаешь Игоря посадить? В тот самый на епископском дворе, где погибал святой родич наш с Игорем, великий князь Игорь Ольгович?
Теперь ропот усилился, и уже все князья поднялись со своих мест. Хотен, почувствовав себя неловко, тоже встал, как, впрочем, и присутствующие на съезде тысяцкие. Порядок удалось навести великому князю Рюрику Ростиславовичу. Убедив всех снова усесться и замолчать, он произнес речь. Сказал, что брат его Давид прав, призывая не судить слабости своих родичей («Значит, краснолицый – это Давид Смоленский, – сообразил Хотен, – а у него в сей истории у самого рыльце в пушку»), и суда над Игорем они, великие князья, не позволят. Тут великий князь Святослав желчно заявил, что отобрать у Игоря Новгород-северское княжение может только Ярослав Черниговский (Ярослав на сии слова важно кивнул и одарил племянника своего Игоря ободряющей улыбкой), а у них, у великих князей киевских, если и пожелали бы они, на такое деяние власти недостанет. Да и зачем, спрашивается, наказывать Игоря? Русь слабеет с каждым годом, и ей сейчас не князь-преступник нужен, чтобы соседние страны её позор обсуждали, а князь-хоробр и страдалец, убежавший из половецкого плена…
Тогда Владимир Глебович со стоном перевалился через скамью, поднялся с помощью подскочившего к нему пучеглазого боярина на ноги и поковылял к дверям. У дверей обернулся к родичам и принялся, словно из последних сил, выкрикивать:
– Поесть и выпить… и дома сумею… я на таковый ваш съезд… Только попробуйте не поставить меня… весною… в передовой полк…
Ворвались из гридницы в палату крик и гам – и тут же снова стихли.
Рюрик Ростиславович наклонил голову, развёл руками и сказал:
– Худо-бедно наш съезд завершился, братие и сыны. А теперь повеселимся, наконец, позабыв о заботах… Гей, скоморохи!
Уже прокатились колёсами по палате, явившись будто бы из-под земли, три бескостных мужичка в уморительно смешном платье, уже грянули из тёмного угла гудки, бубны и сопели, когда подскочил со своего места Севка-князёк и бросился в начало стола, принялся размахивать руками перед великими князьями. Великий князь Рюрик переглянулся с соправителем, ухмыльнулся и хлопнул в ладоши:
– Эй, весёлые, повремените-ка! Брат мой Всеволод пожелал вашу славу перенять, сложил он песню про поход Игоря Святославовича.
Князья зашумели, скорее недовольно, чем радостно. Явилась скамейка, а на ней гусли. Севка-князёк уселся, взял гусли на колени и пробежал пальцами по струнам. Откашлялся и повторил тот же наигрыш. Наконец, запел:
НЕ ПРИШЛА ЛИ ПОРА, БРАТИЕ, НАЧАТИ СТАРЫМИ СЛОВАМИ НОВУЮ ПЕСНЬ О ПОХОДЕ ИГОРЯ, ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА? НАЧНУ ЖЕ Я СИЮ ПЕСНЮ О БЫЛЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, И ВОВСЕ НЕ ТАК СПОЮ, КАК СЛАГАЛ СВОИ ПЕСНИ БОЯН. ВЕДЬ ВЕЩИЙ БОЯН, ЕСЛИ ЖЕЛАЛ КОМУ ПЕСНЬ СОТВОРИТИ…Хотен хмыкнул – а при чём тут вообще Боян? – да и перестал вслушиваться. Впрочем, когда Севка-князёк запел, в меру сил своих, громко, голос его, хоть и надреснутый, дребезжащий немного, показался сыщику приятным. И играет на гуслях вполне прилично, сгодится на пиру. А если слова песни окажутся глупы – то чего же ты ожидал от песни?
С удовольствием отхлебнул он заморского вина из почётной круговой чаши, закусил добрым куском осетрины и, тихонько, пристойно отрыгнув, вернулся к своим размышлениям. Если бы вздумала Несмеяна отблагодарить его, как бывало в старые годы, замысел этот встретился бы с трудностями. Где теперь они бы сошлись на свидание, к примеру? Не у него же в тереме, у женатого, не говоря уж о её келье, куда мужику вообще дорога загорожена… Да и сколько можно им Бога гневить, пора ведь и о загробном воздаянии подумать. Последний их с белокожей и пылкой матерью Алимпией любовный поединок случился лет десять тому назад и до сих пор снился Хотену в предутренних жарких снах. А теперь, не помешает ли ему теперь…
Тут чья-то рука подёргала тихонько Хотена за рукав. Не разобрав, что к чему, подумал он почему-то, что ему предлагают прислушаться к песне:
«ХОЧУ Я, – ГОВОРИТ, – ОБ КОНЕЦ ПОЛЯ ПОЛОВЕЦКОГО КОПЬЁ ПРЕЛОМИТИ, С ВАМИ, РУСИЧИ, ХОЧУ ГОЛОВУ СВОЮ ПОЛОЖИТИ, ТОЛЬКО БЫ ШЕЛОМОМ ДОНУ ИСПИТИ!»Чепуха и враньё полнейшее! Тут Хотена снова подёргали за рукав, и он еле разобрал сиплый говорок давешнего слуги:
– Велят тебе великие князья к ним пересесть. Кубок и ложку твою я принесу.
На сей раз оказался сыщик в обществе самом избранном: кроме великих князей, были тут два самых богатых и сильных князя, черниговский и смоленский; галицкий князь, тот не приехал вовсе, не говоря уже о не жаловавшем подобные в Русской земле съезды суздальском самодержце Всеволоде Большое Гнездо. Попытался вернуться на своё место возле великого князя Святослава отошедший было Игорь Святославович (почуял, небось, неладное!), однако Рюрик отогнал его:
– Поди, княже, отсель – вон лучше песню про себя послушай!
РАНО В ПЯТНИЦУ ПОТОПТАЛИ ПОГАНЫЕ ПОЛКИ ПОЛОВЕЦКИЕ И, РАЗЛЕТИВШИСЬ СТРЕЛАМИ ПО ПОЛЮ, ПОМЧАЛИ КРАСНЫХ ДЕВОК ПОЛОВЕЦКИХ, А С НИМИ ЗОЛОТО И ДОРОГИЕ ОКСАМИТЫ С ПАВОЛОКАМИ…– …известный в Русской земле сыщик, он по нашему со сватом поручению это дело разыскал, – говорил князь Рюрик. – Побывал в Путивле, в Рыльске, в Половецком поле на месте побоища, правил наше посольство к Кончаку, допрашивал беглецов-дружинников. Нам обо всём доложил, и мы с его выводами согласились. Игорь виноват, у нас со сватом сомнений нету. Хотите ли сами боярина послушать?
Давид Ростиславич заявил, что сыщику вполне доверяет, а князь Ярослав буркнул, что дело важное, и надо бы послушать. Посему пришлось Хотену повторить некогда поведанное великим князьям, и любопытно вышло бы, если бы кто из слушающих его мог одновременно прислушиваться и к песне Севки-князька. Однако человек может слушать только одного, а не двух сразу…
А СВЯТОСЛАВ МУТНЫЙ СОН В КИЕВЕ ВИДЕЛ НА ГОРАХ. «СЕЙ НОЧЬЮ С ВЕЧЕРА, – ГОВОРИТ, – ЧЁРНОЙ РИЗОЙ ОДЕВАЛИ МЕНЯ, СИНИМ ВИНОМ С ПЕЧАЛЬЮ ПОТЧЕВАЛИ МЕНЯ…»– Вот и вышло у меня, что князь Игорь Святославич виноват, – закончил Хотен и, почувствовав сухость в горле, заглянул в свой кубок. Слуга, стоявший за спиною у великого князя Святослава, тут же оказался рядом и наполнил посудину.
– Пей, боярин, – невесело усмехнулся Святослав. – Это тебе не синее вино из черники, разбавленное, надо же такое придумать, печалью… Что скажете, братья и сыновья мои, Давид и Ярослав?
– Мы ведь тоже не лыком шиты, боярин, и мне почти всё то же самое приходило в голову, – промолвил князь Давид. – Однако ты сумел разложить по полочкам, будто посуду в поставце. Я согласен, что Игорь виновен.
Ярослав помолчал.
УЖЕ В ПОХОД СОБРАЛАСЬ ХУЛА НА ХВАЛУ, УЖЕ ВЫРВАЛАСЬ НУЖДА НА ВОЛЮ, УЖЕ СВЕРЗИЛСЯ ДИВ НА ЗЕМЛЮ…– А что бы это значило – «Уже свалился див на землю»? – вдруг спросил князь Рюрик.
– Половец-дозорный задремал, да с дуба и брякнулся, – ляпнул Хотен. – Только и всего, княже.
– Ты погоди шутки-то шутить, сыщик! – махнул рукою на Хотена нахмуренный князь Ярослав. – Да, я согласен, братие, что Игорь виноват во многом, если не во всех несчастьях. Но разве мы уже не договорились, что лучше его восславить?
– Речь о другом, брат и сыне. И сейчас нам даже и не важно, виновен ли Игорь или просто не повезло человеку. Мы должны принять меры, чтобы он больше никогда не приносил таких несчастий Руси. И ты, его дядя, не можешь остаться в стороне.
– Чего же ты хочешь, Рюрик? – окрысился Ярослав. Хотен подумал, что толстые люди обычно добры и беззаботны. Каково же толстяку Ярославу сейчас злобиться и защищать Игоря, заведомого преступника?
– Первым делом мы все четверо – мы со сватом моим, великим князем Святославом Всеволодовичем, и с братом Давидом, да ты, Ярослав, – сейчас поклянёмся, и детям нашим велим поклясться, что никогда, ни при каких условиях не дадим Игорьку-хорьку сесть на золотой киевский стол – хоть бы он и дождался права на это вокняжение по старейшинству! Ты же, Ярослав, присягнуть должен в особицу, что твои сыновья никогда не пустят Игоря и на черниговское великое княжение!
– Да разве он способен сесть когда-либо на киевский стол? – спросил князь Давид, покосившись в ту сторону, где с видом школяра, ожидающего порки, сидел Игорь. – Он туп, самонадеян и бездарен, твой Игорь. Его никогда не поддержат киевские бояре – ибо он из лесу вылез, ибо дик, и чёрные клобуки – потому что дружит с половцами, а те наших косоглазых друзей в плен не берут.
– Господи, Давид, сколько раз на твоей памяти Киев брали силой, наплевав на мнение о себе бояр киевских и ч1рных клобуков? И ещё, забыл я, поклянёмся, что не будем никогда и поручать ему совместное ополчение Русской земли, как было то два года назад и когда полки хоть назад бесславно повернули, а не половцам сдались. А вон и архимандрит Поликарп идёт, я попросил его принести особый крест для присяги.
Появление архимандрита Хотен уже учуял – не то чтобы спиной, просто настоенный на запахах вина, стоялого мёда и жареного мяса густой воздух палаты прорезал аромат ладана и острый запашок залежавшегося в сундуке ношеного шёлка. Архимандрит Поликарп поклонился князьям, благословил их, а заодно и Хотена, – и вдруг вопросил:
– Что у вас здесь деется, великие князья? Только что я слышал песнопение о бесовском Хорее: ему, названному злоречиво «великим», некий князь, обратившись волком, путь пересекал. Разве воспевание языческого бога возможно в тереме благочестивого государя?
– Не обращай внимания, святой отче, – усмехнулся князь Рюрик. – Это мой беспутный старший братец развлекается, песню сложил про поход Игоря Святославовича. Тебе просто послышалось, отче.
Все шестеро невольно прислушались.
ТОГО СТАРОГО ВЛАДИМИРА НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПРИГВОЗДИТЬ К ГОРАМ КИЕВСКИМ, А НЫНЕ ЗДЕСЬ СТАЛИ СТЯГИ РЮРИКОВЫ, А ТАМ ДАВЫДОВЫ, НО В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ИХ ПОЛОТНИЩА ВЕЮТ, ДРЕВКИ ПОЮТ НА ВЕТРУ…– Да, сейчас не про безбожного Хорса… А се, господа князья, крест, дорованый в монастырь наш Печерский незабвенным князем Миколой Святошею. Он дубовый, одначе заделана в него частица мощей святого Иосаафа, царевича индийского, его святых царских костей.
Князья по очереди, бормоча клятву, приложились к небольшому, простому с виду деревянному кресту. Хотену, в нерешительности остановившемуся перед крестом, Рюрик торопливо сказал:
– От тебя столь страшной клятвы сохранить слышанное в тайне не требуем, ты и без того довольно тайн Рюриковичей верно хранишь. Если желаешь, присягни как-нибудь попроще.
Тогда Хотен коснулся толстым своим пальцем золотого наперсного креста архимандрита и брякнул:
– Да стану я жёлт, как сие золото, если разглашу услышанное здесь.
Архимандрит Поликарп вытаращился на него, как на зачумлённого, наскоро поклонился князьям и отступил поспешно к двери. Хотен побагровел, великие князья и Давид расхохотались, Ярослав указал слуге на кубок и новую хлебную тарелку Хотена:
– Не дай, дружок, нашему гостю боярину ослабеть от жажды.
А Хотен грешил только на песню Севки-князька: голова-то и расколоться может, когда в важнейшей беседе участвуешь, а тут ещё тебе всякая песенная чушь в уши лезет! Только подумать, что за нелепости…
А ИГОРЬ-КНЯЗЬ В КАМЫШИ ПОБЕЖАЛ ГОРНОСТАЕМ И ПО ВОДЕ ПОПЛЫЛ БЕЛЫМ ГОГОЛЕМ, ВСКОЧИЛ НА БОРЗОГО КОНЯ И СОСКОЧИЛ С НЕГО БОСЫМ ВОЛКОМ, И ПОБЕЖАЛ НА ЛУГ ДОНЦА, И ПОЛЕТЕЛ СОКОЛОМ ПОД ОБЛАКАМИ, ИЗБИВАЯ ГУСЕЙ И ЛЕБЕДЕЙ…И хотя остальные князья по-прежнему шумели и почти в полный голос переговаривались, четвёрка во главе стола, усмирённая только что принесённой клятвой, внимательно вслушивалась в пение. И Хотен неволею вместе с ними, и ещё заметил он, что и архимандрит не ушёл, остановился у двери. Голос Севки-князька заметно охрип, однако он упорно продолжал описывать весьма подробно побег Игоря (а зачем?), а потом придуманную беседу двух соперников, гордых ханов Кзы и Кончака, которые будто бы лично рядышком ездят по следу Игоря. Редкая нелепость! И без того немало позаимствовал из «Песен Бояновых», но уж лучше бы побольше вспоминал самонадеянный певец оттуда, чем нового своего сочинял… Слава Богу, дело идёт к концу…
СОЛНЦЕ СВЕТИТСЯ НА НЕБЕСИ — ИГОРЬ-КНЯЗЬ В РУССКОЙ ЗЕМЛИ!Ничего себе! Оглянулся Хотен на четвёрку князей – они ухмылялись. Князь Игорь встал с места, кое нашел себе в середине стола, приложил руку к сердцу и принялся раскланиваться. Подумалось Хотену, что шутит Игорёк-хорёк, но, встретившись с ним глазами, понял сыщик, что о шутке и речи быть не может. Страх, страх прятался в сих пустых глазах, и понятно стало, что Игорь всё это время боялся. Он узнал о поездке ведомого сыщика, и нетрудно было догадаться о цели. Только что его напугало внезапное особливое совещание главных князей с Хотеном. Сейчас он молил Бога, чтобы и сия хвалебная песнь ему не оказалась последней насмешкой перед тем, как Рюрик прикажет схватить его и бросить в поруб.
ПРОПЕВ ПЕСНЬ СТАРЫМ КНЯЗЬЯМ, СПЕЛ Я И МОЛОДЫМ! СЛАВА ИГОРЮ СВЯТОСЛАВЛИЧУ, БУЙ-ТУРУ ВСЕВОЛОДУ, СЛАВА МОЛОДОМУ ВЛАДИМИРУ ИГОРЕВИЧУ!Вот и конец, еле дождался. Несколько усталых наигрышей. Тишина. Севка-князёк снимает шапку и вытирает плешь ширинкой. Поднимается со скамейки, бережно укладывает на неё гусли, потягивается. Подходит к знакомому, видать, ему скомороху, спрашивает гордо:
– Ну, Севрюжка, прикинь, легко ли переймёшь?
– Прости, не стану перенимать, княже. Да кому она нужна будет, такая песнь? Погиб бы хотя в битве… Растянуто бесконечно, и про всех князей на свете сразу… И то подумай, кому это будет любопытно через год-два? Нет, прости.
В наступившей после пения внезапной тишине слова скомороха прозвучали на всю палату. Многие князья засмеялись, а Святослав, усмехнувшись, приказал скоморохам продолжать свою игру. Скамейку с гуслями мгновенно прибрал Севрюжка под стену – и вот уже снова пошёл колесом…
Хотен, извинившись перед великими князьями, подскочил к певцу, лицо которого опасно налилось кровью, ухватил под руку, потащил из палаты. На крыльцо, на свежий воздух, не хватил бы в душной палате его старого знакомца и спутника удар…
Оказалось, что на дворе чудесное тихое предвечерье. Старый Киев, резной каменный и расписной деревянный, теснился перед ними в сиреневой закатной дымке, и казалось невероятным, что когда-нибудь всё это снова сможет потонуть в пламени и дыме, наполниться боевыми воплями кочевников и женским визгом. А вот вышел на крыльцо, с крестом под мышкой, и архимандрит Поликарп. Набрал в грудь воздуху, выпустил с шумом…
– Лепота, лепота-то какая! Одначе у нас, в монастыре, к Днепру ближе, да и воздух чище, – и, оказавшийся за пределами дворца вельми высоким, нагнулся он к певцу. – Не обижайся на невежду-скомороха, княже. Давно нет на свете Гектора и Ахиллеса, а греки до сих пор в школах заучивают наизусть Омировы творенья. Я ещё не записывал в свою летопись повесть об Игоревом походе, ждал, что именно великий князь Святослав укажет сказать об Игоре Северском. Но хорошо было бы тебе записать свою песнь, а я дал бы чернецу сделать с неё список. Только без всех этих богомерзких Хорсов, добре?
– А скажи, отче, пришлась ли тебе по сердцу моя песнь? – вопросил Севка-князёк столь жалостно, что Хотен отвернулся от него, прикусив страдальчески губу.
– Береста и не такое выдерживала, княже, – усмехнулся архимандрит. – А если без шуток (прости меня, Господи!), то я убедился, что единственный способ научиться творить – это призвать Бога на помощь и дерзать. Аз, грешный, не умел сочинять акафисты – а теперь сочиняю, не умел писать великняжескую летопись – и научился, говорят. Ну, дай вам Бог, господа, не упиться сию ночь до полусмерти.
И перекрестил наскоро случайных собеседников. Потом калиги архимандрита мягко простучали по ступенькам, а внизу, у длинной коновязи он вручил монашку крест, забрался на жуткую клячу и снова принял на руки реликвию. Монашек взял клячу за повод, и черноризная двоица скрылась за углом.
– Это же надо – «Береста и не такое терпела»! – возмутился князь. – Да я свою Игореву песнь самолично на телячьей коже перепишу!
– Послушай, княже, я желал бы, чтобы ты на меня не обиделся. Хоть и враждовали мы с тобою, но сей весною немало каши съели из одного походного котелка… – начал осторожно Хотен. Он знал про себя, что во хмелю становится смел и задирист, и хотел покончить с сим делом сейчас, пока голова его только легко и приятно туманилась.
– Давай уж, вещай, толстошеий! Уж от тебя-то ничего хорошего я и не ждал услышать про мою песнь! – отодвинулся, заранее обидевшись, певец.
– Да я не про песню, собственно… Почему ты восхвалил Игоря, княже? Ведь ты сам его не жалуешь, видел и слышал многое в нашей поездке… Скажу прямо, не ожидал я от тебя такой лжи.
– Так ты об этом? – повеселел вдруг Севка-князёк. – Да ведь всякая песня – ложь! К тому же, разве дружинники не сражались храбро и разве не за Русскую землю сложили головы? Есть, конечно, у варягов хулительные песни, да у нас они не в чести, и даже славный Боян таких не сочинял. Обиженный князь сгоряча может певца и головы лишить. Да и натура у меня слишком лёгкая, весёлая, чтобы обхаять в песне человека, к тому же князя-родича. Конечно, сей Игорь – тупой скот, изменник и убийца, но пусть живёт! К тому же его княгиня нынче во дворце Святославовом и должна быть в Софии на вечерне. Я сейчас пойду, найду её, попробую поговорить, наконец, по душам. А как смог бы я к Ярославне подойти, если бы мужа её в песни, прилюдно пропетой, обвинил бы и обсмеял?
Впрочем, задолго до полуночи Хотен увидел певца за княжеским столом, а заснул он прямо в палате, в тёмном уголке, с гуслями под головою. Хотен, тот доехал до дома, поддерживая в седле пьяненького Сновида, а быть может, это Сновид папаню поддерживал. Встреченные у ворот Прилепой, отец и сын подверглись её яростным заботам, исторгнувшим из Хотена несколько не к месту откровенных замечаний. Удивительно ли, что поутру славный сыщик и не вспомнил об Игоревой песни?
Эпилог
Об одном трудовом утре святого Димитрия Ростовского. Ростов Великий, архиерейское подворье. 15 мая 1708 года
Ростовский митрополит Димитрий открыл глаза – и вернулся из хаотически соединённых воспоминаний далеко не безоблачного киевского детства в скромный уют своей кельи в Ростове Великом. Он всегда легко просыпался, когда по древнему монастырскому обычаю позволял себе вздремнуть после заутрени. Иное дело – вставать на заутреню, да ещё после ночи, проведённой за книгами, да ещё под бамкание огромного колокола, варварски названного «Сысоем»…
Почему-то каждый раз после такого пробуждения митрополит ощущал обиду на государя царя и великого князя Петра Алексеевича, но не сразу, потому что с кровати видна только келья, которую можно было обставить и устроить по своему вкусу, а как обувался и подходил к окну, чтобы проветрить. За окном открывался вид на Соборную площадь, и тут уже одного взгляда хватало, чтобы понять, что ты не дома, на милой, хоть и разорённой бесконечными войнами Украине, а в чужой и холодной Московии. Архитект, построивший эти Архиерейские палаты, желал, наверное, в простоте своей московской, привыкшей перед начальством пресмыкаться души, чтобы господин отец митрополит, в оконце выглянув, потешился зрелищем всех каменных церквей, сгрудившихся на митрополичьем подворье, в народе называемом попросту Ростовским кремлём, вокруг гигантской коробки Успенского собора. Да, хоть не чёрные бревна это с мохом и тараканами меж ними, однако куда сим угрюмым строениям чуть ли не византийского ещё пошиба до весёлых, обильной лепниной и резьбой украшенных храмов милой отчизны!
Отец Димитрий понимал, что обижаться на российского царя не по-христиански, да что поделаешь? Тот оторвал его от мирных церковно-учёных трудов на родине, назначив митрополитом Тобольским. Предшественник его, Игнатий Корсаков, сошёл с ума в диких местах, а отец Димитрий в Москве, в Сибирь не успев отправиться, разболелся. Свирепый и придирчивый самодержец ему не поверил, лично приехал навестить на подворье Крутицкого монастыря, осмотрел, определил горячку и от назначения освободил. Почти год провёл киевский учёный чернец в пестрой толпе, окружавшей Петра, – среди жадных придворных, красномордых иностранцев и проныр-купцов: царь-novator переворачивал Россию кверху дном, безумно возжелав в несколько лет из татарской державы, воображающей себя Третьим Римом, сделать европейскую, – и как тут было обойтись без голов украинского учёного монашества, перенявшего основы латинской образованности? Потом назначен он был митрополитом Ростовским.
Время от времени отец Димитрий наезжал в огромную и бестолковую Москву, читал проповеди в кремлёвских церквях и однажды исполнил свой христианский долг пастыря, бесстрашно упрекнув стоявшего на клиросе среди певчих царя Петра в гневной ярости и в приверженности Бахусу, чревоугодному богу, а также прелестной, однако же коварной Венере. Устройство школы, наставление священников, невежественных не менее, чем их паства, борьба с влиянием на сию паству старообрядческих учителей, коих он считал квинтэссенцией московской дикости и суеверия, отнимали немало времени у занятий наукой. Но всё-таки отец Димитрий закончил труд своей жизни, фундаментальную «Книгу житий святых…», и подержал в руках отпечатанный в Киеве последний, четвертый её том (в десть, толстенный!) на три последние в году месяцы, июнь, июль и август. Теперь все силы свои бросил он на другую давнишнюю свою задумку, которую называл шутливо «Летописью келейной» и которая должна была стать общедоступно и живо написанной библейской историей.
В Киеве ещё достал отец Димитрий и не пожалел времени и труда, переписал для себя огромный рукописный «Хронограф», который о библейской истории собственно и рассказывает, однако совершенно устарел и для современного чтения даже в Российских Европиях совсем не годится. Годился он как источник исторических библейских сведений, но тот свой список отец Димитрий вынужден был оставить в Киеве. На днях ему привезли из книгохранительной палаты Спасова монастыря в Ярославле тамошний список «Хронографа», не больно и отличающийся от переписанного им киевского, взятого на время под самые страшные клятвы у головы московских стрельцов. Вчера отец митрополит закончил основную свою с ним работу: сделал потребные выписки и даже учёную ссылку на источник: «Хронограф Спасский ярославский».
Сегодня положил он себе проделать дополнительные с рукописью манипуляции, прежде чем вернуть её в Ярославль. Ведь ярославский «Хронограф» оказался сборником (по-латыни если, конволютусом), и предстояло ещё взглянуть на дополнительные рукописи, присоединённые при переплёте к переводному историческому труду. Отец Димитрий достал с полки толстенную рукопись, приятно пахнущую старой кожей и немножко пылью, поднёс к своему столу, установил на подставку. Отдышавшись (было ли отчего запыхаться, спрашивается?), осторожно отжал и отщёлкнул защёлки (с одной из них улыбнулся ему вырезанный уверенным резцом на меди круглолицый человечек), разогнул книгу на том месте, где оставил любимую свою закладку зелёного шёлка…
Помедлил немного, потому что хотел растянуть восхитительное ощущение, кое едва ли сумел бы выразить словами. С таким чувством, наверное, на берегу дальнего полуденного моря смуглый пловец раскрывает ножом раковину, в которой надеется обрести жемчужину. Так и здесь, в российских рукописных сборниках, может оказаться что угодно: от никому не нужных сказочных, не всегда и пристойных повестушек до неведомого доселе поучения Василия Великого. Итак, слева на странице заканчивается «Хронограф», и последние строки выписаны сужающимся книзу мыском с завитушкой, справа же (ах, сердце замирает…), справа – да, «Временник, еже нарицается летописание русских князей и земли Русской». Бумага пошла уже другая, лощёная, и почерк древний, который малорусу куда легче читать, чем современную московскую скоропись….
Называется «Временник», а дальше правильно – «летописание», летопись это, и чем же она заканчивается? «Лета 6951-го… (следственно, от Рождества Христова 1443-го), в Новгородской земли…». Ещё одна летопись, уж её-то редкостью не назовёшь… Далее смотрим. Вязь заголовка довольно замысловата… Ага, «Сказание об Индии богатой». Начало: «Аз есмь Иоанн, царь и поп…» Так, так… Вот оно! О том, что не описать ему, греческому царю Мануилу со всеми его писцами, всех богатств Индийского царства, а цены царства Мануйлова не хватит даже на покупку пергамена для сего описания… Знакомая сказка: в молодости по-латыни её читывал. Пролистнём. «Синагрип, царь Адоров и Наливския страны». Странно, это не заголовок, а первые слова сочинения – однако же киноварью, как заголовок. Опять замысловатая восточная сказка, он уже встречал её в одном московском рукописном сборнике. Стар он стал, дабы тратить драгоценное время (ох, немного ему осталось!) на перечитывание пустых сказок… Пролистнём. Теперь: «Слово о полку Игореве, Игоря Святъславля, внука Ольгова». Вот наконец-то нечто поистине новенькое! А недлинное сие «слово», чуть больше десятка листов. Забавно заканчивается: «Князем слава, а дружине аминь». Оставим на закуску. Отец Димитрий пролистал фолиант назад, к заглавию древней проповеди, перенёс сюда закладку. Теперь: «Деяние прежних времен храбрых человек о борзости, и о силе, и о храбрости». О вдове какой-то греческой, про неведомого сарацинского царя Амеру… «Преславный Девгений 12 лето мечем играше, а на 13 лето копьем, а на 14 лето похупается всех зверей победити». Тьху ты! И дальше до конца рукописи, до доски, всё сказка тянется об этом греческом богатыре-подростке, всё его имя («Девгений» да «Девгений») мелькает…
Отец Димитрий передвинул на лоб очки и прикрыл глаза, утомлённые быстрым просмотром фолианта. Сладостное предчувствие открытия вернулось к нему, но в ослабленном виде: если повезло ему сегодня, «Слово» окажется никому ещё не известным древним историческим сочинением, да к тому же в своеобразной форме проповеди. А буде оно достаточно благочестиво, то не грех было бы его и подготовить к изданию, чтобы напечатано было вместе с «Келейной летописью» – конечно же, после его смерти, когда – дай то Бог! – настанут лучшие для православного просвещения времена.
Прошло полчаса, отец Димитрий добрался снова до смешной обмолвки насчёт «аминя дружине» и разочарованно вздохнул. Прочитал он усердно до того места, где «ветры, Стрибожьи внуки» осыпают стрелами русские полки, а потом так, просмотрел наскоро. Неведомый сочинитель мыслит словно бы в пиитическом восторге, однако какой беспорядок себе дозволяет – ни повествования сколько-нибудь связного, ни ритма, ни размера, ни рифмы – одни восклицания да смеху годные дискурсы! Отец Димитрий и рад бы тут ошибиться, но увы!.. Знает ведь, о чём говорит: православная муза доныне его посещает. Вот весьма кстати вспомнилось:
Аще кая письмена испытати требе, Хотящим живот вечный с тех стяжать в небе, Житий святых наипаче требе чести книгу, И в благом Животдавца труждатися игу.Вот так – и красиво, и затейливо, однако же и поучительно ведь… Русские (в «слове» названные почему-то «русичами»), егда с половцами бились, уже были, несомненно, христианами, а сего в «слове» даже и не видно. Сочинитель сыплет именами языческих богов, не боясь геенны огненной. И вовсе не для благочестивой какой аллегории, как киевские поэты времен Петра Могилы, что очумели, отхлебнув вершков латинской образованности, – те додумались и мать всех наук, богословие, печатно назвать «Минервой православно-кафолической», а благодетеля своего митрополита изобразить в виде Муция Сцеволы…
И всё-таки любопытная вещь, древняя к тому ж. Отечественного умоустроения, не переводная, как те сказки. Не дать ли Савке Яковлеву переписать? Есть ведь у него, грешного архиерея, заветная тетрадка под собственноручным заглавием: «Книжка различных вещей неисправленных». Чего там только нет – и даже о том, как святой Пётр Муромский поразил Агриковым мечом летающего огненного змия… Однако переписывать опус, исполненный славянского язычества, – не значит ли это способствовать вредному распространению древних суеверий?
Отец Димитрий вздохнул ещё раз, взял, не глядя, в руку повседневный свой посох, к стене прислонённый, и стукнул им об пол.
– Савва! – и ввалившемуся в келью косоплечему переписчику своему Яковлеву. – Бери сию книгу и отвези в Яроелавль, в Спасо-Преображенский монастырь. Отдай в руки отцу архимандриту. Скажи, что благодарю и что не нужна мне более. А вернулся чтобы к вечерне. Знаю я тебя, гуляку!
Визит митрополита Ростовского и Ярославского Арсения к Иоилю Быковскому, бывшему архимандриту Спасо-Преображенского монастыря. Ярославль, 10 сентября 1792 г.
– Что-то не пойму я, ваше преосвященство, чего вы от меня, немощного старика, хотите? – спросил Иоиль Быковский нежданного своего гостя, архиепископа Ростовского и Ярославского Арсения. – Я ведь на покое уже более четырёх лет, щедротами государыни нашей императрицы живу на пенсион, равный моему прежнему содержанию архимандрита и ректора семинарии. Ко книгохранительной казне Спасского сего монастыря давно уж отношения не имею.
– Вы – и немощный старик? Без малого в девяносто лет вы крепки и бодры, отче Иоиль, дал бы Бог и нам, грешным, такое долголетие, – заявил пятидесятилетний собеседник старого архимандрита. Изящно подстриженный и одетый, обрюзг он за те два года, что не виделись, и приобрёл синюшные тени под глазами, весьма не понравившиеся Иоилю. – И никогда я не поверю, отчинька, что вы забыли о четырёх древлеписьменных книгах, заимствованных мною из казны Спасского монастыря для графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, обер-прокурора Святейшего Првительствующего Синода, на прочтение его сиятельством.
– Как было забыть, господине отче? – всплеснул Иоиль своими большими мужицкими руками. – Ведь того же лета монастырь был закрыт, а мне пришлось сдавать всё имущество по описи. В описи так и стоит против каждой из сих рукописных книг – «Отданъ». Неужто его сиятельство возвращает книги?
– Увы, скорее напротив, – потупился на мгновение гость. – В одной из книг сих обнаружена настоящая уника – поэма древнерусская, творение неведомого отечественного Оссиана. Возник замысел сие сочинение, дав ему учёное истолкование и переведя на нынешнее наречие, предать типографскому тиснению. И вот что… Граф решил, что такие редкости куда лучше сохранятся в его собственной библиотеке.
– Не назову решение его сиятельства похвальным, – пробурчал старик.
– Неужто ваш келейник вам не рассказал, что оставшихся в здании монастырских книг никто не стережёт, что книг и свитков в башнях и на переходах валяются целые вороха? Мальчишки вырывают заставки да золотые инициалы и наклеивают на лопухи!
– Это давно уже не монастырь, сие теперь архиерейский дом, вам и отвечать за безобразия, господине отче.
– Вот как? Граф просит у вас благословения и испрашивает позволения объявить в случае необходимости, что купил сии книги у вас, отче, из собственной вашей библиотеки.
– Благодарю покорно, господин отче, – старик схватился за сердце. – Моя библиотека собрана на деньги, честным трудом заработанные, между прочим, и печатанием душеполезных книг, мною самим составленных, в Чернигове, Петербурге и тут, в Ярославле. Когда же сгорела библиотека моей славной alma mater, Академии Киево-Могилянской, я отправил туда книги собственные, и от моих трудов также, для посильного восполнения. А ваш друг и начальник просит разрешения объявить меня книжным вором!
Архиепископ, несколько стушевавшись, поднялся с кресла и прошёлся, шаркая сияющими сапогами, по периметру кельи, обозревая полки, заставленные книгами до самого потолка. Снова уселся, оправив полы шёлковой рясы, словно дама юбку. Во время проходки приметил он, что высокая ранее стопка переплетённых экземпляров последней книги Иоиля «Истина, или Выписка о Истине», стоявшая прямо на полу, уменьшилась на две трети. Старик не бедствует, нет, а до денег и ранее не был особенно лаком…
– Ну что ж, отче, нет так нет, – вздохнул. – В таком случае я прикажу в описи ваши «Отдан» счистить, а взамен написать, что за ветхостию и согнитием уничтожены. Вы не возражаете, надеюсь?
Отец Иоиль только руками развёл.
– И кстати, его сиятельство спрашивали, не желаете ли вы, отчинька, продать ему свою библиотеку, о которой по Ярославлю сказки рассказывают, а он их в здешнем своем имении слыхал?
Подумав, ответил Иоиль:
– Передайте его сиятельству, что я благодарен за внимание к моей скромной персоне, да только не могу я сейчас расстаться с книгами: они мне в старости моей и друзья единственные, и, хе-хе-хе, коханки ненаглядные. А после смерти моей завещал я библиотеку любимому детищу своему – Ярославской нашей семинарии.
– Завещание уже написано? – поинтересовался архиепископ. И снова пошарил взглядом по полкам.
– И свидетели руку приложили, как положено.
– Что ж, не буду мешать вашим трудам, отче.
Отец Иоиль проводил сановного посетителя до двери, потом, тяжело дыша, вернулся в своё покойное кресло. Постепенно дыхание успокоилось, но не улеглось в душе праведное возмущение. Давненько не писал старик душеполезных виршей, драм и комедий, давно не читал ярославцам проповедей, однако до сих пор любил в минуты душевного подъёма как бы слово перед невидимой паствой произнести, и вот что вещал он тогда неслышно: «Нынче ваше время и власть тьмы! Безумный ваш император отменил патриаршество и поставил управлять православной церковью кучку чиновников-взяточников! Ваша царица-немка отобрала у монастырей землю и закрыла добрую половину православных обителей! Теперь православный архиепископ заискивает перед обер-прокурором синода и, чтобы светскому своему начальству угодить, ворует древние книги, церкви православной принадлежащие!»
А потом успокоился немного старый чернец, и потекли его мысли по иному руслу. И вот что забормотал он про себя: «Нынче новое время и власть Просвещения! Уже не одна церковь о просвещении народа заботится, а и светская власть! Императрица пишет комедии и издаёт сатирический журнал, её вельможи, оставив роговую музыку и бесстыдный разврат, собирают и изучают старинные рукописи! Что ж плохого в том, что место крепостных сералей занимают театры и библиотеки? Поднимают просвещённые россияне свои головы, рабски склонённые перед учёными немцами, и не верят уже в иноземные басни, будто древняя Русь была лишь средоточием азиатчины и дикого невежества. Пусть и не верится мне, что соблазнительное своим язычеством ораторское сочиненьице из спасского Хронографа уместно приравнять к творениям Гомера или новонайденного барда Оссиана, да послужит и оно просвещению отчизны!»
Из беседы бродяг Семёна Гудка и Спирьки Непомнящего. Москва, подвал особняка графа Мусина-Пушкина в Басманной части, на Разгуляв, 8 октября 1812 года
Пито было с утра, как в лучших домах Лондона, вот только кислое графское вино голодные желудки бродяг еле уже принимали, однако лучшего питья сегодня они не нашли. Семён и Спирька устроились на каменном полу подвала сразу возле лестницы, развели костерок на оставленном французами пыльном кострище. Пили прямо из бутылок, не боясь пораниться об отбитые горлышки. Слева темнел вход в винный погреб, в место благословенное. Его французские солдаты, как ни старались, так и не смогли до конца опустошить. Там поблёскивала куча зелёного бутылочного стекла. Справа такой же сводчатый проход был наскоро заложен кирпичом, а в нём выбита большая овальная дыра. Из дыры воняло, как из общественного нужника на Хитровке.
– Что рожу-то кривишь, Спирька? – захохотал Гудок. – Али воображал, что французское дерьмо не смердит?
– Я вот соображаю за нас двоих, и за тебя, дурака, тоже – да точно ли фармазоны совсем ушли? А ежели возвернутся, придётся нам тут солоно.
– Ушли, ушли, чего им тут теперь… А наши служивые сразу не войдут, побоятся. Вся Москва твоя, друг мой Спирька! Пей, гуляй!
– Много нас тут, таких хозяев, – скривился Гудок. – Вернётся крикун Ростопчин, начнёт опять свои дурацкие порядки наводить. Да когда ещё то будет… В огонь бы чего подбросить.
– Русские порядки завернут татю лопатки, – некстати припомнил Спирька, обругал главнокомандующего Москвы графа Ростопчина матерно и засмеялся, будто что смешное сказал. – А требуется тебе дровец, так и полезай за ними в дыру.
Ночью они крепко замерзли, потому что октябрь выдался холодным. Ночевали наверху, в сожжённых и обвалившихся палатах. Забились в каморку под каменной парадной лестницей, где и продрожали всю ночь. Спустившись утром в подвал, они нашли, наконец, из чего развести огонь. Топливо тут имелось, и сейчас надо было решить, чья очередь за ним идти. Они долго спорили, косясь на потухающий уже костерок, прикончили между делом по второй бутылке. Наконец Гудок показал на свои босые, от грязи чёрные ноги:
– Ты в сапогах, ты и иди – а я ещё ноги в ночном золоте испачкаю.
Спирька окинул гордым взглядом свои лаковые, со шпорами гусарские сапожки, почесал в затылке и важно кивнул. Вытащил из-под задницы бумажный свиток с большой печатью красного сургуча, сосредоточенно сунул край свитка в костёр, подождал, пока разгорится, поднялся на ноги и, держа это подобие факела перед собою, пролез в дыру. Некоторое время только и слышны были шорохи, да как Спирька матерится.
Наконец, бродяга появился в дыре. Под мышками тащил с одной стороны стопу исписанной бумаги, обвязанную розовой ленточкой, с другой – большую тёмную книгу.
Первым делом присыпали еле тлеющий костер бумажками. Сразу же в подвале потеплело и посветлело, а любопытный Гудок потянул к себе громоздкую книжищу.
– Ты смотри, там чего-то написано. На наклейке!
– Ты, Гудок, грамотный, ты и читай! – буркнул Спирька, недовольный тем, что товарищ не похвалил его, добытчика.
– «Нумер 323», а тут «Хро-но-граф». Что такое?
– Вишь, как много тут было книжек припрятано, а почти не осталось. Одни бумажки исписанные. А сия книга знатно нас согреет – она в деревянные доски заделана. В сухие!
– Слушай, друг, давай отложим её, а там спустим хотя бы целовальнику…
– Одурел, что ли, с голодухи? Кому нужны старые книги, когда Москва-матушка вся дымом ушла?
Словарик
Байдак – плоскодонное речное судно.
Бармица – железная сетка, крепилась сзади к шлему, защищала шею.
Батыр – сильный, храбрый воин, подобный эпическому герою, в языке тюрков древнекиевских времен. Слово родственно монгольскому «багатур» (отсюда современное русское «богатырь»). В древнерусском языке это понятие выражалось словом «хоробр».
Берендеи – тюркское племя кочевников, осевшее под Киевом и служившее у великих князей.
Ведунья – знахарка, колдунья.
Волхв – древнерусский языческий жрец.
Гривна – (1) серебряный или золотой шейный обруч; (2) крупная денежная единица, равна слитку серебра.
Десница – правая рука.
Доспех – комплекс стальных предметов защиты средневекового воина.
Децкий – старший дружинник, командир десятка младших дружинников.
Забороло – площадка или галерея наверху крепостной стены, защищенная с внешней стороны зубцами и навесом.
Келейник – слуга церковного иерарха.
Комонь – боевой конь.
Кыпчаки – самоназвание половцев.
Лагвица – стеклянная бутыль для вина, оплетённая лозой.
Насад – большой речной корабль. Обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода – в 1722–1917 году чиновник, руководивший собранием церковных иерархов, заменой патриарха.
Отрок – младший дружинник.
Писало – заострённая костяная или деревянная палочка, с другой стороны с тупым расширенным концом. Собственно, античное стило, в древней Руси использовавшееся не столько для писания на навощенной поверхности, как для выдавливания букв на бересте и выцарапывания надписей (граффито) на стенах церквей. Носилось прикреплённым к поясу.
Полудень – юг.
Полунощь – север.
Поруб – яма, сверху перекрытая брёвнами, в которой держали узников.
Послух – свидетель.
Светец – устройство для удерживая горящей лучины.
Стол – слово употреблялось и в значении «престол».
Сулица – короткое метательное копьё.
Толмач – переводчик.
Тысяцкий – боярин, руководитель городского ополчения.
Фарь – арабский конь.
Хоробр – эпический герой или дружинник, приравниваемый к герою эпоса. Современное слово «богатырь» пришло из монгольского языка, в послекиевское уже время.
Чёрные клобуки – племя каракалпаков, вместе с другими тюркскими кочевниками, печенегами, торками и берендеями, перешедшее под власть великих киевских князей и составляющее их своего рода конную гвардию. Иногда чёрными клобуками называли все тюркские кочевые племена на русской службе.
Ширинка – платок типа носового.
Шуйца – левая рука.


![Абреки Шамиля [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/548350/primary-medium.jpg)

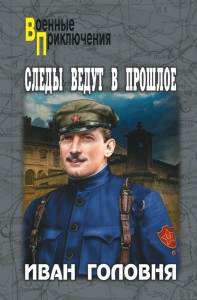
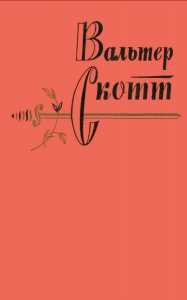
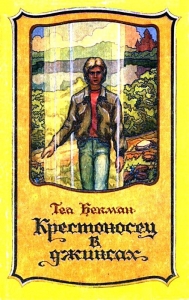
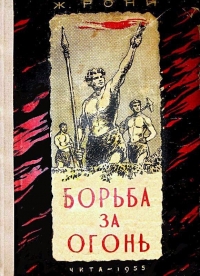

Комментарии к книге «По следам полка Игорева», Станислав Казимирович Росовецкий
Всего 0 комментариев