Петр Полежаев Фавор и опала. Лопухинское дело (сборник)
Фавор и опала
Часть первая Фавор
I
– Затеял ты, брат Алексей Григорьевич, высоко взлететь, только, смотри, не спуститься бы где-нибудь в сибирских палестинах! – говорил своим обычным мягким голосом князь Василий Лукич Долгоруков
двоюродному брату своему, князю Алексею Григорьевичу Долгорукову, на другой день после коронации Петра II Алексеевича, внука Петра Великого, в дружеской беседе в кабинете последнего один на один.
– Кому спуститься? Мне? Нет, брат Василий Лукич, не знаешь еще ты меня, – самодовольно отзывался Алексей Григорьевич. – Кто, по-твоему, низвергнул нерушимого статуя Данилыча? Кто, по-твоему?
Василий Лукич тонко улыбнулся:
– Нерушимый статуй Меншиков, братец Алексей Григорьевич, рухнул от того, что грузен очень стал, пьедестал не выдержал. Рухнул бы он и сам собою, да только после, а теперь сронить его постарались многие персоны, только не ты, брат Алексей.
– Кто же, по-твоему? Кто? – горячился Алексей Григорьевич.
– Кто? Хочешь знать? Так я скажу тебе: подкопался под статуя барон Андрей Иванович Остерман, которому, сами того не ведая, дружно помогали сестрица государева Наталья Алексеевна, тетка-цесаревна Елизавета да твой сынок Иван.
– Андрей Иваныч! Ха, ха, ха! Барон Андрей Иваныч! – захлебывался от смеха Алексей Григорьевич. – Насмешил же ты меня, брат Василий. Вот и видно, что господином посланником состоял – видишь там, где ничего нет. Андрей Иваныч, брат, человек хворый; хоть и немец, а простой, даром что воспитателем считается государевым, а из моей воли никогда не выйдет. Захотел бы я, так завтра же его не было бы, да не хочу: человек он нужный, работник без устали, смирный и послушливый. Андрей Иваныч, что ль, посадил нас, меня и тебя, в Верховный совет? Я, Василий, сам сел и тебя посадил. Хорош воротила, хороши и помощники! – И Алексей Григорьевич снова захохотал до слез.
Князь Василий Лукич не возражал; он только по привычке едва заметно повел правым плечом да досадливо забарабанил по столу тонкими, длинными, точно выточенными пальцами, на которых блестели перстни с драгоценными камнями.
– Хороши помощники, нечего сказать! – продолжал князь Алексей Григорьевич, лукаво прищуривая на брата зеленоватые глаза. – Девочка несмышленая и хворая, да ветреница, у которой на уме только пляски да песни. А что ж касается до сынка моего, то всем известно, какой он отпетый идол.
– Ивана хулить тебе не след, брат, через него и вы все пошли, – заметил Василий Лукич. – Любит его государь чуть ли не больше себя.
– Любит, правда, да какая же Долгоруковым-то от этого польза? Иван не токмо что порадеть семейству своему, а, напротив, норовит, как бы насолить ему. Кутежами только единако в мыслях своих преисполнен.
– Молод еще, выработается, – оправдывал племянника Василий Лукич.
– Нет, братец любезный, не в молодости тут сила. Вот другой мой сын, Николай, и моложе его, а понимает, что он князь Долгоруков. Задумал я отвести государя от Ивана и поставить в фавориты Николая, а если не удастся Николая, то кого-нибудь из чужих сподручного.
– Напрасно. Алексей Григорьевич, напрасно ты это задумал. Отведешь Ивана, так и сам останешься ни при чем. Поддержки-то, как я знаю, у тебя нет.
– Какой же мне еще поддержки, окромя государя?
– Государь государем – это главное, а не худо бы заручиться и разными альянсами с другими фамилиями.
– А где же ты, милостивый мой князь, отыскал другие фамилии, кроме нашей? – с хвастливостью возразил Алексей Григорьевич. – Всех таких фамилий покойный государь либо разогнал, либо поравнял с подлым народом.
– Ну нет, есть еще, – задумчиво заметил Василий Лукич.
– Ну скажи, где они такие фамилии?
– Ну Головкины, например.
– Канцлер Гаврило Иваныч? Ну уж выбрал кого! Головкин, братец мой, не из больно знатных персон, да и сам Гаврило Иваныч ни то ни се, ни рыба ни мясо. Нешто сделался силен, как выдал дочку замуж за жидка Ягужинского? Славная поддержка!
– Ну, есть кроме Головкиных и другие фамилии, Голицыны, например.
– Голицыны, не спорю, древнего рода, Гедиминовичи, да только они теперь не в силе. Государь их не любит.
– Государь молод, на привязанность или неприязнь его рассчитывать много не след, – с задумчивостью проговорил Василий Лукич. – Да и где же проявилась неприязнь к Голицыным?
– Об этом не беспокойся – дело сделано. Как только отослали нерушимого статуя, я, зная, что со стороны Голицыных, особенно со стороны Михайлы Михайловича, будет какая-нибудь вспышка в пользу Данилыча – были они, ты знаешь, хороши между собою, служили вместе покойному, – я тогда же шепнул о дружбе фельдмаршала Михайлы с Меншиковым, предупредил, значит, как следует. Вот когда Михайла Михайлович явился из Украйны в Петербург и, получив аудиенцию, начал укорять государя, что ссылать людей заслуженных без суда неподходящее дело, так государь обернулся к нему спиною и явную показал немилость. С тех пор нам Голицыны не опасны. Где их сила? Знаешь сам, какие у них, у Дмитрия Михайловича и Михайлы Михайловича, упрямые характеры, а такие характеры Петр Алексеевич не любит.
Василий Лукич, по обыкновению, не показал ни одобрения, ни осуждения, только после небольшого раздумья он спросил брата:
– Заметил я, что цесаревна Елизавета в последнее время стала к Голицыным особливо благосклонна. Не было бы тут чего!
– А чему быть? – вопросом ответил Алексей Григорьевич. – Цесаревне понравился племянник фельдмаршала Михайлы, молодой Бутурлин, – вот и все тут. Боишься ты, брат Василий, влияния на государя цесаревны, больно он уж ее любит, а, по-моему, это ничего. Цесаревне не ребенок нужен, ведь это только немцу Андрею Иванычу могла прийти такая шальная мысль: женить племянника на цесаревне для совокупления-де воедино двух царственных ветвей! Цесаревну мы отведем, выдадим ее замуж за границу, Иван постарается… Да и самого государя можно отвлечь: иной раз и служанка покажется не хуже госпожи…
И Алексей Григорьевич, вплоть наклонившись к уху Василия Лукича, начал шептать:
– Заметил государь камеристку у цесаревны, смазливенькую такую, как будто схожую с цесаревною, вот Иван и уладил… Не пожалел заплатить и пятидесяти тысяч рублей… Проводил девушку к государю… Слюбились… С той поры государь не по-прежнему дорожит и сестрою своею Натальею Алексеевною.
– Неужто? – удивился Василий Лукич. – Да как же это? Ведь государю только двенадцать лет минуло с прошлого октября.
Алексей Григорьевич самодовольно хихикнул и утвердительно мотнул головою.
Как ни был свободен от предрассудков относительно служения Эроту князь Василий Лукич, видевший разные виды при иностранных дворах, но и он заметно смутился от рассказа брата. «А впрочем, – тотчас же мелькнуло в его голове, – оно, может быть, и к лучшему…» В изобретательном уме дипломата моментально обрисовались картины перенесения и на русскую почву тех порядков, какие он видел за границею, в Швеции и Польше, картины, вполне удовлетворявшие олигархическому духу, в которых все было: и власть, и слава, и почести, не было только одного – мысли о подлом народе.
Беседа братьев протянулась до полночи; об всем, казалось, было переговорено и условлено, но через несколько часов случилось обстоятельство, которое все-таки не предвиделось.
На другой день после совещания, утром, весь придворный круг облетело известие о каком-то подметном письме, поднятом у Спасских ворот близ Кремля и тотчас же представленном господину обер-камергеру Алексею Григорьевичу. В письме содержалось прошение за павшего статуя Александра Даниловича Меншикова. Гневом вскипел Алексей Григорьевич, прочитав это письмо, и по первому побуждению предположил было скрыть его от всех, уничтожить без следа, но потом, обдумав хладнокровно, решил, напротив, показать его государю и прочитать, разумеется, с приличными пояснениями. Письмо, написанное, как видно, неопытным человеком и притом поясненное ядовитыми примечаниями, не могло не раздражить государя, не могло не оскорбить его самолюбия и гордости. В нем, после упоминания о заслугах Данилыча, высказывался извет о низких замыслах окружающих теперь государя любимцев, ведущих его к образу жизни, недостойному царского сана. «Кто мог быть автором этого письма? – задавался вопросом Алексей Григорьевич. – Где отыскать его?» Ясно, что автор должен быть кто-нибудь из сторонников Меншикова, но после падения статуя этих сторонников вовсе не оказывалось: все тогда отшатнулись от опального семейства. Одни только Голицыны в то время не лягнули упавшего – не их ли дело и подметное письмо? Однако же как ни казалось с первого взгляда подобное объяснение естественным, но оно до того противоречило всем известному характеру обоих Голицыных, что не представлялось никакой возможности к назначению над ними инквизиции. Да и к чему бы повела против Голицыных инквизиция? Только к возбуждению против себя фамилии сильной, всеми уважаемой, ссориться с которою, при неутвердившемся еще собственном положении, было не совсем безопасно. И Голицыных оставили в покое, направив в иные сферы все тайные силы к разысканию виновного автора. Кроме легиона шпионов составили и обнародовали манифест, в котором обещалось прощение автору, если он сознается добровольно сам, назначалась награда тому, кто донесет о виновном, и жестокая кара тому, кто, зная виновного, укроет его.
Долго не отыскивалось никаких следов, но наконец по каким-то темным слухам, ходившим между монахинями Новодевичьего монастыря, где проживала бабушка государя, царица Евдокия Федоровна – инокиня Елена, – подозрение остановилось на духовнике ее, монахе Клеонике.
Постельницы и послушницы, прислуживавшие у бабки-государыни, большие охотницы, как и во всех обителях, подслушивать и подсматривать, стали сначала только между собою, а потом и с другими смиренными сестрами – монахинями Новодевичьего монастыря, шушукать о том, что монах Клеоник, духовник старой царицы, стал в последнее время особенно частенько навещать свою духовную дочь и о чем-то толковать шепотом, выслав предварительно всех докучных свидетелей. Как ни тихо шептал отец Клеоник, но острое ухо смиренных сестер подслушало, что он уговаривает царицу похлопотать перед государем о помиловании родной сестры Дарьи Михайловны Меншиковой, Варвары Михайловны Арсеньевой, самой приближенной к опальному семейству и сосланной в Александровскую слободу. Сплетни об этих переговорах, перелетая от одной к другой, перешли за монастырскую ограду к дворцовой челяди, а потом и к самим господам, княгине Прасковье Юрьевне и к мужу ее, самому князю Алексею Григорьевичу.
Монаха Клеоника притянули к розыску.
На первом же допросе духовный старец чистосердечно сознался в своих хлопотах перед царицею в пользу Арсеньевой, сославшись на просьбы Ксении Михайловны Колычевой, тоже сестры Меншиковой и Арсеньевой, жившей постоянно в Москве, и к которой привел его знакомый монах, отец Евфимий. Привели к розыску Колычеву. Ксения Михайловна сначала заперлась было, но потом, под пыткою хомутом и ремнем1, во всем повинилась, добавив еще то обстоятельство, что отец Клеоник, рекомендованный ей через знакомую Бердяеву, взял с нее за свои хлопоты взятку тысячу рублей. Притянули отца Евфимия, Бердяеву и всех, кто сколько-нибудь соприкасался к этому делу, допытывались, не было ли участия в подкупе Меншиковых и не было ли подброшенное к Спасским воротам анонимное письмо сочинением самого Александра Даниловича. Но как ни пытали, как ни разыскивали, но автор письма не открылся.
Отцов Клеоника и Евфимия, Колычеву и Бердяеву разослали по разным отдаленным местам, но этими наказаниями не удовольствовались. Алексею Григорьевичу все мерещилось непосредственное участие Меншикова в подметном письме, все чудилось, что до тех пор, пока Данилыч не погребен в сибирские снега, а живет в своем Ораниенбурге и пользуется громадным богатством, подобные попытки постоянно будут возобновляться и наконец могут сделаться небезопасными. Под давлением таких опасений Алексей Григорьевич сумел возбудить в государе заснувшее раздражение, представить участие Меншикова в сочинении письма делом доказанным и достигнуть совершенной гибели всего опального семейства. Александра Даниловича с женою, сыном и дочерями отправили в Березов в простой рогожной кибитке и в двух простых телегах, лишив решительно всего имущества, а Варвару Михайловну Арсеньеву сослали в Белозерский Сорский женский монастырь под строгий присмотр и на нищенское содержание.
II
Розыск производился негласно, и во все продолжение его инокиня Елена, бывшая царица, оставалась совершенно безучастною. Никто ее не беспокоил. Тихо, уединенно текла ее жизнь в монастырских стенах, среди полного обилия царского содержания, назначенного ей тотчас же по вступлении на престол внука. Но внешняя безмятежность не есть еще безмятежность внутреннего мира. Правда, ее государственная честь была восстановлена – на другой же месяц по воцарении Петра II Верховный тайный совет сделал распоряжение об уничтожении повсеместно манифеста о преступлениях царевича Алексея Петровича и о скандальных отношениях ее с майором Глебовым, – правда, ее освободили из тюремного заточения, назначили большую сумму, ежегодно до шестидесяти тысяч рублей, отписали ей несколько деревень, образовали ей особый придворный штат, но все это далеко не удовлетворяло ее честолюбия. Почти двадцатилетняя монастырская жизнь, кончившаяся разгромом всех ее тайных надежд, потом почти десятилетнее строгое тюремное заключение в Шлиссельбурге, полное лишение самых первых удобств, убелили некогда роскошные волосы, провели глубокие морщины на пожелтевшем лице, высушили барскую полноту, согнули прямой стан, но не сломили родовитой гордости и лопухинского упрямства.
Не мир и спокойствие внесли новые почести в душу старой царицы, а самую едкую и самую жгучую скорбь. И в монастыре, и в крепости она надеялась, не отдавая себе ясного отчета, на поворот своей судьбы, на возвращение к старому после зловредных и небывалых затей покойного мужа-тирана. Но вот этот поворот как будто и совершился: на престоле ее родной внук, а не дети ненавистной немки; все почти сподвижники гонителя-мужа, не исключая и злодея Меншикова, исчезли, а лично для нее этот поворот не принес именно того, чего так жаждала ее душа. Сначала счастье как будто бы улыбнулось: вскоре по приезде ее в Москву из Шлиссельбургской крепости все высокопоставленные влиятельные персоны – вице-канцлер и воспитатель барон Андрей Иванович Остерман, бывший вице-канцлер Шафиров, Голицыны и Долгоруковы домогались ее внимания раболепными искательствами, кто письменно, кто лично, все ожидали, как и она сама, что ребенок, родной внук, из власти ее не выйдет, как бывало по родительскому старинному уважению, но на деле вышло иное. Родной внук оказался чужим, показал ей все наружные знаки почтения, но не только не открыл ей своего сердца, а, напротив, совершенно бесповоротно и видимо для всех отшатнулся. Родной внук не пригласил ее жить с собою в царском дворце, выслушал равнодушно, если не с досадою, ее советы о бережении здоровья, придал своему свиданию какой-то официальный характер, взяв с собою на это свидание кроме сестры Натальи Алексеевны и цесаревну Елизавету, которую как дочь ненавистной немки старухе царице видеть было в высшей степени неприятно. По примеру государя отшатнулись от нее и все высокие персоны, увидев, что нечего в ней искать, что без силы и значения она, как развалина прошлого. Только и раболепствовали перед нею монахини, послушницы, приживалки, церковные чины да свой штат, получающие от нее хлебные даяния.
В душе вдовствующей царицы началась тяжелая борьба, более тяжелая, чем во все пережитое время в монастыре и крепости. Там хотя и было много лишений, но там было и своего рода спокойствие безмолвной покорности перед силою, но теперь, в каждую минуту, обман самого напряженного ожидания. Не слышала она в церкви молитв, не слышала дома в келье обращенных к себе вопросов послушниц, все прислушиваясь как будто к отдаленным шагам высоких персон, присланных раболепно умолять ее занять подобающее место власти, место полной безотчетной царицы и руководительницы государя, но – все кругом тихо, с утра до позднего вечера утомительно тихо. Ни внука и никаких высоких персон не появлялось. И сознает она порою свое положение, силится усмирить мятежные помыслы, побороть их молитвою, постится, как постились самые строгие подвижники, по целым дням ничего не ела, а все не может переломить себя, а все желчь накипает, поднимается, душит и обрушивается на прислужниц, ни в чем не повинных.
Забыли старуху бабку государь-внук, государыня-внучка и весь придворный чин; у них у всех свои интересы, свои заботы – удовлетворить жажде молодых сил, ничем не сдерживаемых.
Двенадцатилетний государь въехал в Москву за три недели до коронации и занял с сестрою своею, старше его годом, Натальею Алексеевною, с теткою Елизаветою и приближенными придворными Лефортовский дворец в Немецкой слободе. Москва ликовала, а с нею ликовал и весь русский народ. Массы народу провожали государя по всему пути из Петербурга до Москвы и еще большими несчетными толпами теснились с утра и до вечера около дворца, желая хоть только взглянуть на своего надежу-царя, о котором ходили такие добрые и хорошие слухи. Истомился народ от тяжелых войн покойного деда-государя за какое-то тухлое болото, от которого он в душе открещивался, которого и даром не желал бы взять и в котором погибал тысячами в пригнанных туда серых работниках, истерзался народ от новшеств, ненавистных русскому сердцу, и охотно верил, что тяжкие времена миновали, что новый юный царь не пойдет по следам деда, а по пути православных исконных царей. Мил был русской душе юный царь по печальной судьбе отца. Все: богатый и бедный, горожанин и крестьянин, – все передавали друг другу, что царевич Алексей Петрович был замучен отцом за любовь к русской старине, что по злобе своей старый дед хотел передать престол детям от немки, для этого им и коронованной, но вот Бог не попустил неправды и все-таки возвел на державство законную отрасль.
Коронование императора Петра II совершилось по обыкновенному церемониалу и с обычными празднествами, милостями и увеселениями. Целую неделю, изо дня в день, продолжались торжества, целую неделю оглушал весь город звучный трезвон всех московских колоколов, а по вечерам зажигались потешные огни. Для увеселения народного были пущены в Кремле и в других частях Москвы хитро устроенные фонтаны, выбрасывавшие водку и вино.
Не успели еще кончиться коронационные забавы, как получено было известие, которое тоже должно было отпраздновать особым торжеством: в Киле у Анны Петровны, герцогини Голштинской, родился сын, будущий император Петр III. Казалось бы, что сыну царевича Алексея Петровича не было особого повода радоваться рождению двоюродного брата, сына Анны Петровны, но радовалась Елизавета Петровна, глубоко и нежно любившая сестру, а что радовало тетку Елизавету, то радовало столько же, если не больше, и племянника. Предположено было отпраздновать семейную радость великолепным балом.
К ярко освещенному подъезду Лефортовского дворца нескончаемою вереницею тянутся всевозможных видов кареты, колымаги и возки, из которых выпархивают или вываливаются важные персоны того времени. Гости в парадных кафтанах, вышитых золотом, и гостьи в легких богатых робах наполняют обширные залы, то величаво прохаживаясь, то собираясь кружками. Давно ли требовалась вся мощная сила Петра Великого, чтобы вывести русскую женщину из запертого терема на учрежденные им зловредительные ассамблеи, а вот через два года после смерти Петра эта самая женщина не только совершенно освоилась со своим новым положением, не только усвоила западные манеры, но и пошла в уровень, если не дальше, по легкости отношений к мужской половине. Конечно, бывали исключения, встречались еще женщины, не смевшие поднять глаз на мужчин, не отвечавшие на их вопросы или отвечавшие только односложными «да» и «нет», считавшие чуть ли не позором подать кавалеру свою руку, да вдобавок еще обнаженную, но зато нередко можно было видеть и дам, которые по костюму и манерам не уступали самым элегантным версальским богиням. Давно ли, три-четыре года назад, при деде Петре ассамблейные костюмы отличались крайнею простотою, такою простотою, что на самом государе, с которого, разумеется, брали пример и другие, не в редкость бывали чуйки и кафтан, заштопанные заботливою рукою Екатеринушки, а теперь бальные робы стали поражать иностранцев изумительною роскошью по изысканности тканей и по дорогим отделкам из драгоценных камней.
Трудно представить такую разнообразность общества, какая была на Руси в начале второй четверти XVIII столетия вообще и в особенности на придворном бале, данном по случаю рождения голштинского принца, на котором толпились все официальные и неофициальные представители Петербурга и Москвы. Приехал весь дипломатический корпус, присутствовавший на коронации: имперский посланник граф Вратиславский, испанский – герцог де Лирия, датский – Вестфален, польский – Лефорт и другие с семействами и свитами, придворные, министры, сенаторы, президенты и некоторые приехавшие провинциальные административные чины. Женский персонал представлял собою роскошный букет, из которого особенно выделялись замечательные красавицы того времени: цесаревна Елизавета Петровна; замужние дочери канцлера Головкина, графиня Ягужинская и княгиня Трубецкая; княжна Катерина Долгорукова, дочь Алексея Григорьевича; Наталья Федоровна Лопухина и только что в первый раз выехавшая пятнадцатилетняя графиня Наталья Борисовна Шереметева.
В ожидании выхода государя все приехавшие разделялись на отдельные две группы, мужскую и женскую, состоявшие из групп более мелких. Не было только сестры государя, царевны Натальи Алексеевны, и ее отсутствие удивляло всех, так как все знали, как дружны между собою брат и сестра. О причинах этого отсутствия все обращались с вопросами к ее придворному штату и получали в ответ, что царевна нездорова, но этот ответ никого не удовлетворял.
– Как же нездорова, когда она вчера вечером навещала тетку, герцогиню Курляндскую? – с недоумением спрашивали друг друга придворные.
Спросили Анну Иоанновну, но та не дала никакого положительного ответа.
Заиграла музыка, и из внутренних покоев показался недавно пожалованный обер-камергер Иван Алексеевич Долгоруков, за которым шел юный государь в сопровождении двух своих воспитателей, барона Андрея Ивановича Остермана и князя Алексея Григорьевича Долгорукова. Для открытия бала Петр Алексеевич пригласил тетку, цесаревну Елизавету, с которою и начал первый контрданс. Император и цесаревна бесспорно составляли самую красивую пару. Государь в последние месяцы заметно изменился, вырос, похудел, все черты сделались резче, и он, вкусивши от прелестей мира сего, казался гораздо старше двенадцати лет. В его больших голубых глазах, постоянно смотревших на свою даму, блестел далеко не детский огонек, а на побледневших щеках горел густой румянец, вспыхивавший яркою краскою каждый раз, когда голова его наклонялась к тетке. Для Елизаветы Петровны, которой в то время только что минуло двадцать лет, наступил тот возраст, в котором женская красота владеет полным очарованием. И невольно, смотря на эту парочку, приходила мысль, что, пожалуй, шальной Андрей Иванович едва ли не был прав в прожекте совокупления двух царственных ветвей.
Тетка и племянник танцевали естественно, с изумительною привлекательною грациею, хотя, отдавшись оживленному разговору, по-видимому, нисколько не заботились о выделывании па.
– Отчего, государь, Наташи нет? – спрашивала тетка.
– Вчера и сегодня я ее не видал. Андрей Иванович говорит, будто больна, да я думаю, совсем не от болезни.
– А отчего же?
– Ревнует, Лиза, к тебе.
– Ко мне? – удивилась тетка. – С какой стати? Ты так ее любишь!
– Люблю ее, а тебя больше, много больше… Тебя очень, очень люблю… Как никогда не любил и никогда не буду.
– Полно, Петруша, ты молод очень, не понимаешь еще, что такое любовь, – с улыбкою, но наставительно заметила цесаревна.
– Что ты, Лиза, меня все коришь, молод да молод… Не ребенок я и понимаю, все понимаю, – с грустью и слезами в голосе порывисто шептал государь.
– Что же ты понимаешь, Петя?
– А то, что ты меня никогда не любила и не любишь.
– Вот и совсем неправда… Хочешь докажу тебе?
– Докажи, Лиза, – умолял племянник.
Цесаревна приняла серьезный вид и с комическою важностью стала декламировать слова, написанные государем сестре своей на другой день после восшествия своего на престол, а потом, через несколько недель, высказанные им лично в заседании Верховного тайного совета:
«Богу угодно было призвать меня на престол в юных летах. Моею первою заботою будет приобресть славу доброго государя. Хочу управлять богобоязненно и справедливо. Желаю оказывать покровительство бедным, облегчать всех страждущих; выслушивать невинно преследуемых, когда они станут прибегать ко мне, и по примеру римского императора Веспасиана никого не отпускать от себя с печальным лицом».
– Видишь, как люблю тебя, выучила наизусть… Какие хорошие мысли у тебя, Петруша!
– Не мои они, Лиза, Андрей Иванович написал и дал мне выучить, – уныло сознался государь, но потом быстро добавил: – Но не думай, Лиза, я и сам могу написать не хуже.
– Верю, государь, твои воспитатели с отменною похвалою отзываются о твоих способностях. Все говорят, что ты развит не по летам.
– Опять, Лиза, годы, – упрекнул племянник.
– Что же делать, Петруша, не виновата же я, что родилась твоею теткою и за столько лет прежде тебя.
– А я не хочу иметь тебя теткою!
– А чем же, Петруша?
– Моею женою, – решительно высказал государь.
Лицо цесаревны сделалось серьезно, как будто какое-то облачко не то нерешительности, не то сожаления пробежало по нему; но это мелькнуло моментально, и тотчас же с прежнею ласковою улыбкою она обратилась к своему влюбленному кавалеру:
– Какой ты упрямец, Петруша, сколько раз я тебя просила не говорить мне об этом… Я тебя люблю как племянника, как брата, как дорогого друга, но не могу любить как мужа… Вспомни, что тебе только двенадцать лет, а мне за двадцать, чуть не старуха! Какая же пара! Посмотри, сколько хорошеньких молоденьких девушек! – уговаривала цесаревна, указывая на танцующих дам.
– Мне никого не нужно, кроме тебя! – упрямо настаивал племянник. – А я знаю, Лиза, почему ты не хочешь быть моею женою.
– Отчего же, по-твоему, государь?
– Ты любишь кого-нибудь, и я подозреваю кого…
– Ну говори, а я сама не знаю.
– Бутурлина Александра Борисовича. Вчера я застал его у тебя… Ты была так ласкова, так счастлива.
От неожиданности замечания и от пытливого взгляда ребенка-государя цесаревна смутилась, немного покраснела, но до того немного, что это укрылось даже от ревнивого взгляда влюбленного.
– Александр Борисович хороший человек, такой добрый, веселый, с ним приятно иной раз поговорить, но я его не люблю, да и никого не люблю, – серьезно оправдывалась тетка.
– Спасибо за это, Лиза. Так решительно никого не любишь?
– Никого.
– И если за меня не пойдешь, так и за другого ни за кого не выйдешь, никогда? Обещай мне это!
– Охотно. Петруша. Я и сама хотела просить тебя запретить Андрею Ивановичу заниматься моею судьбою и сватать за кого бы то ни было. Ни за кого не пойду. Просватана была раз, полюбила жениха… умер… Значит, не судил Господь мне счастья!
Во второй паре, по желанию государя, требовавшего всегда подле себя присутствия любимца, танцевал Иван Алексеевич Долгоруков с Натальей Борисовной Шереметевой. Молодой человек увидал свою даму на этом балу в первый раз, и какое-то новое, еще никогда не испытанное им чувство произвел на него этот только что распускающийся цветок. Ему, известному женскому сердцееду, менявшему любовниц едва ли не чаще своего белья, бесстыдному в клятвах и обольщениях, вдруг стало неловко, как будто стыдно встречать эти тихие глубокие глаза, в которых так ясно и полно отражалась вся чистота девственных чувств. Ни один из обычных приемов ловеласничества теперь не приходил ему в голову; он не знает, как и о чем ему говорить, так все прежние волокитства кажутся ему грязными и пошлыми.
– Вы знаете, графиня, что государь назначил охоту на будущей неделе? – наконец придумал он начать разговор.
– Слышала, князь, – коротко и спокойно отозвалась молодая девушка.
– С нами едут цесаревна, княжна Наталья Алексеевна и мои сестры. Не присоединитесь ли и вы, графиня?
– Я не понимаю удовольствий охоты, князь, никогда не бывала… да если бы и понимала, то теперь не могла бы. Бабушка так слаба, что едва в состоянии выезжать со мною в город.
На этом разговор и оборвался. Первый контрданс кончился; кавалеры, расшаркиваясь, целовали ручки у дам по моде того времени; государь поцеловал у цесаревны щеку.
– Второй контрданс со мною, Лиза? – спрашивал он у тетки.
– Как прикажешь, государь.
– Не приказываю, Лиза, а прошу.
– С удовольствием. Мне так с тобою приятно, Петруша.
Антракт продолжался недолго; по приказанию государя музыка заиграла второй контрданс, в продолжение которого все заметили те же оживленные разговоры у государя с цесаревною. Ребенок не сдерживал своих чувств, не хотел знать ни о каких пересудах и сплетнях.
Вслед за вторым контрдансом следовал третий. Государь опять танцевал с красавицею теткою, но на этот раз придворные подметили какую-то ссору в царственной паре. По окончании танца государь не поцеловал тетку, не остался около нее, а, напротив, быстро, даже не поблагодарив, как бы следовало по законам этикета, убежал в соседнюю комнату, где и уселся в углу. Все заметили, не показав, впрочем, виду, как крупные слезы нависали на его длинных ресницах и как падали они, уступая место другим. Попытался было подойти к государю барон Андрей Иванович, но тот с ожесточением отмахнулся рукою.
Между тем танцы продолжались. Из залы доносилось под звуки музыки шуршание платьев и глухой неопределенный говор. Успокоившись несколько, государь встал и подошел к дверям, откуда можно было видеть всех танцующих. Глаза его быстро окинули все группы и остановились на тетке, танцевавшей четвертый контрданс с его задушевным другом Иваном Алексеевичем. Болезненно сжалось от ревности юное сердце. «Вот я мучаюсь, страдаю, – шепчет он, – а она по-прежнему весела, даже веселее… С какою неприличною ласкою она смотрит на своего кавалера… Отвечает… Да и какой же дерзкий этот Иван, как нахально наклоняется к ней, любуется, что-то шепчет, чуть не на ухо?» И, не выдержав более, государь порывисто подходит к паре и делает строгий выговор своему обер-камергеру за неисполнение его обязанностей, а каких – неизвестно. Не привыкший к выговорам фаворит с изумлением смотрит на государя, не зная, чем заслужил немилость, но у государя жгучая ревность прошла, и он по-прежнему ласково смотрит на любимца.
На другой стороне дворца, в апартаментах государыни царевны, тихо, туда изредка едва-едва доносятся отдельные музыкальные звуки. Царевна сидит в ночной блузе в постели; ей не хочется спать, ей тяжело, очень тяжело, но тяжело не от физической боли, и не по болезни она отказалась от бала. Подле кровати на кресле поместилась ее любимая нянька, или гофмейстерина, Роо, рыжая немка, сумевшая обрусеть, оставаясь верною милой далекой родине, и успевшая привязаться к своим обоим царственным питомцам, а в особенности к девушке-царевне.
– Скучно. Расскажи что-нибудь, няня милая, – говорит царевна, полузакрывая глаза.
И няня начинает монотонным голосом одну из старых легенд седой старины своей милой родины, столько раз уже рассказанную; под этот монотонный говор девушка думает свою думу. Вспомнила она все еще такое недавнее детство с милым братом, круглыми сиротами в чужой семье, под надзором чужой бабушки, хотя женщины и незлой, но у которой свои кровные дети. И росли они, брат и сестра, инстинктивно чувствуя, что ни в ком не найти им теплого, родного привета, кроме как друг у друга; с колыбели сознавая, что в их особом мире они только и счастливы, росли они неразлучными друзьями. Она, как старшая годом брата, болезненнее – у нее постоянно болит грудь и кашель – и развитее чувством, привыкла смотреть на него как на существо, неотделимое от себя. Росли они до того времени, когда вдруг странная судьба неожиданно поставила ее брата в исключительное положение самодержавного императора. В первое время эта перемена не влияла на их отношения, брат оставался все прежним же милым, неизменным другом, но потом постепенно стали являться лица, отводившие от нее брата. Явились любимцы, познакомившие его с какими-то нехорошими делами, наконец, встала между ними и женщина как самый опасный враг – тетка Елизавета. О, как ненавидит она эту женщину! «Как странно, – спрашивала себя царевна, – ведь всегда и прежде он видел тетку-красавицу, а не замечал же. Отчего же вдруг она словно приколдовала его, обворожила до того, что он забыл сестру свою, и готов для нее бросить все и всех». Ведь вот и теперь она сказалась больною, да и действительно грудь сильно ноет, а он даже целый день не наведался об ней и, верно, теперь танцует, ни разу не вспомнив о сестре. Добрый Андрей Иванович утешает, говорит: это пройдет, что это только напускное от злых людей, будто ненадолго, но пройдет ли! А может быть, она сделается его женою? «Тогда я умру…» И с царевною сделался сильный припадок кашля, а на прижатом к губам платке показалось кровяное пятно.
III
Князь Иван Алексеевич Долгоруков – не античный герой, в своей кратковременной жизни не отличился никаким прославленным подвигом во всемирной истории, не был ни вожаком партийным, ни представителем какой-либо политической идеи, напротив, сам был чистейшим продуктом и выразителем современных ему общественных условий, был отъявленный повеса, не знавший удержу, и если представляет собою интерес, то разве только для одного психолога. Иван Алексеевич1 родился первенцем если не любви, то простого супружеского сожительства князя Алексея Григорьевича Долгорукова и Прасковьи Юрьевны, урожденной княжны Хованской, и первенцем, вразрез общего мнения, нелюбимым. Оттого ли, что Алексей Григорьевич и Прасковья Юрьевна венчались по приказу родителей, в виде приличной партии, и не успели еще спеться, или по какой-нибудь другой неизвестной причине, но ни отец, ни мать не встретили свое первое чадо родительскою любовью и ласками. Но если ребенок не видел ласкового привета от родителей, то зато встретил обилие нежной ласки от своих деда и бабушки. Дедушка Григорий Федорович, а в особенности старушка бабушка полюбили ребенка с тою беспредельною привязчивостью, которая так часто присасывается к последним нашим земным привязанностям. Бабушка предсказывала в ребенке-внуке будущего красавца, будущего умницу, одаренного всеми земными благами, и имела, впрочем, полное право верить своим предсказаниям. Ребенок Ванюша рос очень красивым мальчуганом. Нельзя было не залюбоваться его розовым милым оживленным личиком, обрамленным шелковистыми кудрями, с большими голубенькими глазками, бойко и весело смотревшими из-под пушистых ресниц, с алыми пухлыми губками нежно очертанного рта.
Без границ бабушка любила внука, и ребенок почти постоянно гостил у нее, вдоволь наедаясь разными сластями и поцелуями. Ребенку минуло семь лет, когда первое горе надвинулось было над его курчавою головкою: Григорий Федорович получил назначение быть посланником в Варшаве при дворе короля Августа II. Приходилось расставаться, но бабушка и внук до того ревели, до того привязались друг к другу, что Григорий Федорович предложил сыну Алексею Григорьевичу отдать Ванюшу ему на воспитание, обещаясь сделать из него будущего великого дипломата. Разумеется, Алексей Григорьевич и Прасковья Юрьевна обрадовались предложению и поспешили согласиться – одним крикливым ртом в доме меньше, да к тому же и не надобно было заботиться о воспитании. В то время по указу Петра Великого все молодые люди родовитых фамилий должны были получать образование за границею; конечно, о таком образовании Ванюши рано еще было думать, но, во-первых, такого удобного случая в будущем может не встретиться, а, во-вторых, еще лучше, если не только образование, но и все воспитание будет заграничное.
В Варшаве зажилось Ванюше привольно. Квартира русского посольства большая, убранная роскошно, так как Петр Великий, скаредный эконом в домашнем быту любил обставлять внушительно в иноземных царствах русское представительство. За домом тянулся тенистый сад на версту – есть где побегать. В гости к дедушке и бабушке наезжают все такие нарядные да ласковые, с панычами и паненками. Год пролетел незаметно, а на другой Григорий Федорович посадил мальчугана за книжку, пригласил учителя, а в виде наблюдателя за образованием приставил к нему известного в то время развитого человека Генриха Фика, того самого, который помогал великому преобразователю вводить коментальные порядки и с которым так дружен был князь Дмитрий Михайлович Голицын. Конечно, ученость Фика мало приносила пользы ребенку, которому нужен был простой букварь, а не ученый трактат, но все-таки иное слово нет-нет да и западет в умненькую головку.
Впрочем, учением не особенно морили Ванюшу: всего каких-нибудь час или два в день, да и некогда было. Только что, бывало, усядутся в классной комнате, а к подъезду подкатывает объемистый рыдван с панычами и паненками, звонкие голоса которых громко раздаются в передней. Ванюша был милый мальчик, с общительным, открытым характером, мудрено ли, что молоденькие гости полюбили его, в особенности паненки. Зацелует, бывало, иная хорошенькая паненочка русского медвежонка, а русскому медвежонку это нравится, и с лихвою возвращает он данные взаймы поцелуи. Молодежь брала пример с взрослых, а взрослые, в особенности придворного круга, отличались крайнею легкостью нравов. Около трона короля Августа II кружились роями обольстительные красавицы, интриговавшие розовыми губками гораздо действеннее своих усатых панов и, в сущности, управлявшие государством.
К тринадцатому году Ванюша выровнялся стройным, красивым возмужалым мальчиком, на которого засматривались не одни девочки, а уже и более взрослые подростки. В ласках девочек не было прежнего открытого излияния; порою начинались романические авантюры. Затем, в следующем году, Ванюша, которого стали называть Иваном Алексеевичем, испытал обольщение запрещенным плодом, отчего окончательно развратилась его легкомысленная головка.
У стариков Долгоруковых нередко гащивала дочь одной приятельницы бабушки, Гедвига, девушка лет за тридцать, несколько поблеклой красоты, но с помощью различной косметики все еще смотревшаяся юною и красивою. Отчего не вышла замуж Гедвига в пору своей первой юности, никому не было известно в подробности, хотя ходили темные слухи о каких-то интимных отношениях ее с каким-то бедным шляхтичем, о каком-то плоде любви, потом исчезнувшем вместе со шляхтичем неизвестно куда, но все это были только одни слухи по зависти. Сама же красавица Гедвига объясняла свое одиночество своим отвращением к брачному сожительству, своим невыгодным мнением о всех мужчинах вообще и о польских кавалерах в особенности. Панна Гедвига казалась тихою, скромною, безупречно нравственною девушкою, любившею пошутить только с мальчиками-подростками, из которых, видимо, отличала Ванюшу, на котором чаще и упорнее покоился ее взгляд.
Раз в последних числах мая, когда Гедвига гостила у бабушки, старики Долгоруковы собрались навестить по приглашению одного влиятельного магната его в фамильном замке недалеко от Варшавы. Так как визит должен был продолжаться до вечера, а взять Ванюшу с собою было нельзя, то бабушка, уезжая, поручила Гедвиге строго смотреть за Ванюшею, а ему во всем слушаться гостьи. Все шло по порядку, и никакой авантюры не предвиделось. Вскоре после отъезда стариков пришел учитель, Ванюша занимался с ним, по обыкновению, довольно лениво и, по обыкновению же, рад был, когда учитель ушел, задав уроки к следующему дню. Ванюша собрал все учебные принадлежности и подошел к открытому окну. День был безоблачный, жаркий, воздух не освежал, а как-то нежил, расслаблял, волновал кровь.
– Тебе скучно, мой милый мальчик? – раздался позади его серебристый, ласкающий голосок.
Ванюша быстро обернулся и увидел всю облитую солнечными лучами улыбавшуюся Гедвигу, тихо положившую свою тонкую ручку на его плечо.
– И мне скучно… Пойдем ко мне.
Ванюша не раз бывал в девичьей комнате Гедвиги, но теперь он переступал порог с каким-то особенным чувством. Странное приятное ощущение пробежало по его нервам от этой душистой атмосферы, от этих пушистых ковров, поглощающих звуки, от этой белоснежной кровати.
Прежде бойкий Ванюша теперь как будто чего-то смутился и робко опустился в кресло, а между тем он не мог оторвать глаз от обольстительной надзирательницы, которая так близко к нему, так близко, что ее обнаженное плечо касается к нему, прижимается.
– Как жарко, милый Ваня, дышать нельзя, – шепчет она, распуская свои темные волосы густыми волнистыми прядями, из которых выглядывало ее личико еще нежнее, еще белее. Гедвиге, видимо, трудно дышится, грудь ее поднимается порывисто и высоко, а горячее дыхание жжет ребенка.
– Какой ты бледненький, милый, – снова шепчет она, – истомили тебя… Что за учение в такую духоту! Хочешь, я принесу тебе освежиться? – И она вышла в другую комнату. Через несколько минут Гедвига воротилась уже в белом кружевном пеньюаре с двумя рюмками вина.
Ванюша с жадностью выпил рюмку, но не освежение, а, напротив, точно палящий огонь полился по всем его жилам и затуманил голову. Он не сознавал, как они оба очутились на постели, как ее белые ручки, не скрываемые широкими рукавами, обвились кругом его шеи… как они слились губами… как опустились.
Во весь этот роковой день, погубивший всю будущность Ванюши, разнуздавший безнравственные инстинкты, развитые привольною придворною жизнью, ребенок чувствовал себя как в чаду. Ему было и стыдно и приятно. Стыдно было взглянуть на старого дворецкого Ивана Парамоныча; всё, казалось, будто странно сурово и подозрительно смотрят старые глаза из-под седых бровей; даже и казачонок Федотка служит не так, как всегда, а словно подмигивает да подсмеивается. Вместе с тем было и приятно чувствовать себя, что я, дескать, уж большой, сделался любовником, да еще не какой-нибудь служанки, а красивой панны из хорошего дома. Особенно стыдно было Ванюше на другой день встретить любящий взгляд бабушки, выслушать вопрос ее: слушался ли Гедвигу? А потом еще стыднее при всех поздороваться с любовницею. Никто, однако же, ничего не замечал, и Гедвига продолжала развращать ребенка все успешнее и успешнее; не стыдясь и не краснея, Ванюша стал входить в ее комнату… Недолго, впрочем, продолжалось счастье Гедвиги. Скоро ей пришлось горько раскаяться в своем преступном деле. Ванюша, сначала так гордившийся своею неожиданною победою, такой влюбленный в свою очаровательницу, скоро, и очень скоро, стал находить ее и несвежею, и вовсе не привлекательною. Снова его потянули к себе те молоденькие паненки, которых недавно он так невинно, не краснея, и всенародно целовал.
Из всех сверстников-панычей Ванюша сделался самым развязным и озорным, хотя и они не могли похвалиться особенною застенчивостью. Но при всей своей испорченности Ванюша остался прежним добрым мальчиком, отзывчивым на все благородное, чутьем понимавшим хорошее, хотя и легко увлекающимся дурными примерами. Во всех его дерзких, иногда бездумных по летам озорствах проглядывала легкомысленность, но никогда подлость или низость. Напротив, сколько раз ему случалось быть перед товарищами-панычами, несмотря на их насмешки, самым горячим защитником обиженных и угнетенных. Раз, например, в доме одного богатого пана Боржковского польские панычи вздумали было поглумиться над своим учителем из немцев, добродушнейшим и невиннейшим существом; поглумиться не прочь был и Ванюша, но не одобрил способа глумления, отвратительного и унижающего человеческое достоинство мирного педагога. Ванюша тотчас же заступился за жертву, и товарищи уступили перед его воинственною позою, засученными рукавами и диким огоньком засверкавших глаз. Нередко на охоте, когда какой-нибудь надменный паныч ради забавы ни за что ни про что начинал стегать арапником бедного ободранного хлопца, Ванюша расплачивался за хлопца здоровою затрещиною.
И однако же все панычи, не говоря уже о паненках, любили веселого Ванюшу. Жизнь его текла привольно в доме старого дедушки. Бабушка смотрела на все его проказы сквозь пальцы, а самому Григорию Федоровичу некогда было наблюдать за мальчиком, отчасти за постоянными хлопотами по дипломатическим поручениям, которыми не уставал наделять его неугомонный реформатор, а отчасти по постепенно усиливавшемуся нездоровью. Григорий Федорович страдал подагрою.
Неизвестно, заметил ли государь какую-нибудь неисправность в деятельности нашего польского посольства или вследствие просьбы самого посланника Григория Федоровича, но только его отозвали в Петербург, а вместо него приехал в Варшаву сын его Сергей Григорьевич Долгоруков, на попечение которого для окончательного образования должен был перейти и наш Ванюша. Горько плакала бабушка, расставаясь с внуком, нелегко было и внуку. Кроме того что он лишился любви и нежности, самая свобода его стеснилась более бдительным надзором дяди. Избалованному ласками племяннику трудно пришлось уживаться с новыми порядками; он не слушался, вызывал беспрерывно замечания и внушения. Так продолжалось года полтора и наконец кончилось тем, что по жалобам брата Алексей Григорьевич вызвал сына к себе.
Пятнадцатилетний Иван Алексеевич по возвращении на родину поселился в родной семье при отце, занимавшем тогда довольно видное место президента Главного магистрата. Отвыкшая от Ванюши семья встретила его недружелюбно, в особенности отец, осыпавший сына градом упреков и язвительной брани. Алексей Григорьевич корил сына за леность, нерадение, за напрасно потраченное время за границею, корил за то, что только и было хорошего в характере сына: за прямодушие, непрактичность, за неумение прислужиться где следует. Полтора с лишком года терпел Иван Алексеевич домашнюю пытку, вплоть до своего назначения, при восшествии на престол Екатерины I, на место гофюнкера при царевиче Петре Алексеевиче.
Судьба улыбнулась Ивану Алексеевичу. Десятилетний царевич искренне и горячо полюбил своего семнадцатилетнего гофюнкера, такого веселого, такого симпатичного, умевшего так хорошо забавлять его. Царевич до того привязался к своему новому другу, что не мог расстаться с ним ни на один день, ни на один час. Когда по болезни Иван Алексеевич не являлся в апартаменты царевича, тот приказывал переносить в комнату гофюнкера свои занятия, свои игрушки и даже свою постель. Положение царевича при бабушке, хотя и неродной, сразу улучшилось. При жизни деда на царевича никто не обращал никакого внимания, за воспитанием никто не следил; дед не хотел удостоверяться лично в познаниях внука, даже не исполнил просьбы о том воспитателей, хваливших способности и любознательность ребенка. Все знали тайные желания деда передать наследство детям любезной Катеринушки; все умышленно и неумышленно забывали о ребенке.
Со своей стороны, и ребенок не любил и боялся сурового, никогда не ласкавшего его деда, так беспощадно сгубившего своего сына, а его отца, о трагической смерти которого услужливые люди успели ему передать под великим секретом. Под влиянием этих рассказов ребенок рано познакомился с мучительным чувством мести, но так как детское сердце не может питаться одним злобным чувством и не может обойтись без любви, то царевич с еще большею силою привязался к своему другу гофюнкеру. Иван Алексеевич едва ли не первый высказал царевичу и чувство личной привязанности, и чувство преданности к будущему наследнику престола: едва ли не первый он опустился перед ребенком на колени как перед будущим государем.
К счастью для царевича, Екатерина, любившая своих дочерей не до ослепления, ясно понимала их положение. Сама обязанная престолом, несмотря на свое коронование покойным мужем-государем, единственно энергии нескольких решительных и влиятельных лиц, она понимала невозможность передать престол дочерям, удел которых замужество за каким-нибудь иностранным принцем, а не самодержавство в России, где искони привыкли к преемству самодержавной власти по мужской линии. Она понимала, что по смерти ее русские всех партий и всех убеждений сойдутся в одной мысли о законности наследства сына царевича Алексея Петровича, и, к чести ее, она не возненавидела этого ребенка, не постаралась убрать его, а, напротив, приблизила и полюбила, насколько могла полюбить.
Вслед за государынею признал права ребенка и нерушимый статуй, светлейший князь Меншиков.
IV
Два года правления Екатерины I были едва ли не самыми счастливыми годами в жизни будущего государя и его любимца. Нестрогое учение, потом разные забавы, охоты в петергофских лесах, катания – время летело незаметно. Молодой гофюнкер умел разнообразить удовольствия и вместе с тем сумел не мозолить собою жадности других. Его почти все полюбили, за исключением, разумеется, близких родных; из родственников Долгоруковых он сошелся только с одним Федором Васильевичем, тоже молодым человеком, но совершенно противоположного характера. Насколько Иван Алексеевич был боек и решителен, настолько же Федор Васильевич скромен и тих; впрочем, были в них и сходные черты – доброе, отзывчивое сердце и отсутствие долгоруковского честолюбия. Оба друга считались чужаками в родных семьях. В одну из минут откровенности, под влиянием лишней рюмки, Федор Васильевич признался новому другу и родственнику в любви своей к старшей дочери нерушимого статуя, Марье Александровне Меншиковой.
– А она тебя любит? – спросил Иван Алексеевич.
Федор Васильевич печально опустил голову.
– Как же это? – недоумевал Иван Алексеевич, никак не могший понять возможности любить девушку и не быть любимым; в его многосложной практике такой странности еще не случалось.
– Она любит молодого графа Петра Сапегу, сына Яна, старосты бобруйского, а нашего фельдмаршала, и, говорят, скоро выйдет за него замуж, – объяснил Федор Васильевич.
– Не выйдет, брат Федя, утешься. Вчера, как я был у императрицы с царевичем, так слышал разговор светлейшего с Екатериною Алексеевною. Сапега женится, да только не на Меншиковой, а на племяннице государыни Софье Карловне Скавронской.
Федор Васильевич оживился было, но потом снова затуманился.
– От этого нелегче, – проговорил он. – Если Александр Данилыч не выдаст за Сапегу, так за кого-нибудь другого, но выше, брат Ваня, нас с тобою.
– Ну, об этом еще бабушка надвое сказала… Случай-то такой странный… а то я бы знал, как сделать.
Светлейший Александр Данилович действительно забирался высоко. Уверившись, что по крайне расстроившемуся здоровью императрица долго прожить не могла, он принялся действовать энергически относительно определения престолонаследия, не упуская из виду своих выгод и интереса. Выгоднее же всего при существующем положении представлялась кандидатура Петра II. При таком выборе удовлетворялось общее желание всех русских, отдалялась немецкая партия голштинцев, не раз становившаяся ему поперек дороги, и, наконец, при малолетстве государя явилась полная возможность захватить всю власть в свои руки. В успехе Александр Данилович не мог сомневаться; он слишком хорошо, до мельчайших тонкостей изучил характер императрицы, как-то расплывшейся и обезличившейся после смерти мужа. Притом же в его руках сосредоточивались все силы: сила войска, привыкшего ему повиноваться, сила громадных денежных средств и, наконец, сила поддержки иностранных дворов. Имперский посланник Рабутин и датский Вестфален не уставали подстрекать его на попытку в пользу Петра. Для обоих этих дворов воцарение малолетнего государя составляло живой интерес: при Петре II, сыне сестры австро-венгерской императрицы, венский кабинет всегда мог рассчитывать на поддержку России во всех политических комбинациях; для Дании же важно было отстранение по шлезвигскому вопросу голштинской претензии, которая, естественно, возникла бы при усилившемся влиянии голштинского герцога, мужа Анны Петровны.
Одно только еще останавливало Александра Даниловича – это бывшее оскорбительное и жестокое отношение его к царевичу Алексею Петровичу, о котором, вероятно, позаботились передать сыну. Но и это затруднение услужливые дипломаты устранили. «Почему бы молодому государю и не жениться на дочери светлейшего князя?» – шепнул Рабутин Данилычу в дружеской беседе, и Данилыч ухватился за эту мысль, исполнение которой ставило его в весьма прочное положение тестя государя. Светлейший соединил оба вопроса, о наследстве и о браке, в один и, не встретив в государыне серьезного противодействия, успел в обоих.
Однако же, как ни скрытно вел игру свою светлейший князь, но об ней скоро догадались. Перепугались все, испугалась цесаревна Анна Петровна с мужем, испугалась цесаревна Елизавета, испугались все палачи Алексея Петровича – Толстой и Ушаков с К0, испугались все личные враги Александра Даниловича, которых было немало и впереди которых самым злейшим врагом стоял шурин Данилыча, генерал Девьер. Велика была вражеская партия числом, но слаба единством и энергиею; дорогое время проходило в переговорах и условиях, каждый старался выставить другого, а самому спрятаться за его спину. Сделали попытку только одни цесаревны: они на коленях и рыдая умоляли мать не соглашаться на брак Петра с дочерью Меншикова, но ослабевшая императрица на этот раз сказала решительно, что о браке кончено, воротить своего слова не может, но что вопрос о наследстве еще не решен.
В то время как трусили и медлили враги, не трусил Александр Данилович. С обычною своею энергиею он принял быстрые и решительные меры против недругов и, воспользовавшись первою необузданною опрометчивостью шурина, назначил над ним инквизицию. Поводом к розыску послужили оскорбительные будто бы выходки генерала с цесаревнами и великим князем. Цесаревна Елизавета и великий князь рассказывали, что будто Девьер в один из дней, когда императрице было особенно дурно, не только не печалился, а, напротив, веселился, плакавшую племянницу государыни, Софью Карловну, вертел, словно танцуя, не соблюдая «должного рабского решпекта», советовал цесаревне не печалиться, а выпить рюмку вина; в комнатах же великого князя вел себя еще неуважительнее, садился на государеву постель, приглашал князя кататься с собою в коляске, обещал после смерти императрицы ему полную волю и подсмеивался, как будут волочиться за государынею-невестою.
Существенною целью назначения следствия, конечно, было не раскрытие оскорбительных выходок, которые видны были и сами собою, а розыск заговора и участия заговорщиков. И цель была вполне достигнута: не вытерпев пыток, Девьер сознался во всех переговорах и выдал всех соучастников.
Императрица-мать, успокаивая своих дочерей относительно наследства престола, или обманывала их, или обманывала себя; при ослабевших от болезни силах она иногда теряла ясное сознание.
Утром, в день смерти государыни, тотчас же по выходе дочерей в спальню к ней вошел Александр Данилович с бумагами в руке.
– Вот, государыня, проект завещания, о котором вы приказали, насчет бракосочетания великого князя с моею дочерью и о наследстве престола, – доложил Александр Данилович, подвигая к постели столик с пером и чернильницею.
– Хорошо, князь, оставь… прочту… – проговорила едва слышно императрица.
– Нет, государыня, откладывать нельзя, – настаивал князь Меншиков. – Дела такой важности не откладываются… Если бы я медлил да не решался два года назад, так вам бы не властвовать… Да и зачем откладывать? Все написано в бумаге, как приказывали.
Государыня покорно приподнялась на подушки и, поддерживаемая князем, с трудом подписала бумагу. Но это было не все. Вслед за первою бумагою светлейший подложил другую.
– А это что? – испуганно спросила императрица, совсем уже теряя силы.
– Это весьма нужное распоряжение для спокойствия государства, – уклончиво отвечал князь.
Государыня подписала и эту бумагу, не читая.
В последней бумаге содержался указ императрицы о наказаниях тем лицам, которые желали не допустить к русскому престолу великого князя Петра, собственно, как зятя Меншикова. Указом предписывалось: генерал-лейтенанта графа Антона Девьера и Григория Петровича Скорнякова-Писарева – знаменитого следователя по обвинению Евдокии Федоровны – по лишении чинов, чести и имущества наказать кнутом и сослать в Тобольск; графа Петра Андреевича Толстого с сыном Иваном сослать в Соловецкий монастырь на строгое заточение; генерала Бутурлина и Александра Львовича Нарышкина по лишении чинов сослать на безвыездное житье в отдаленные деревни; князя Ивана Алексеевича Долгорукова выслать из столицы в полевой полк поручиком.
К вечеру положение больной государыни стало ухудшаться с каждым часом. По симптомам болезни императрица страдала чахоткою, но так как ясные признаки болезни явились, когда государыне было за сорок лет, то можно было бы надеяться на весьма медленный ход. К несчастью, государыня не береглась, не исполняла предписаний докторов и вся отдавалась удовольствиям. Болезнь стала быстро развиваться, и еще в половине апреля доктора опасались за ее жизнь; но тогда опасность миновала, государыне сделалось легче, появился укрепляющий сон, а вместе с ним и надежда на излечение. Впрочем, облегчение продолжалось недолго; вскоре в легких больной образовался нарыв, который сначала затруднял дыхание, а потом, прорвавшись 7 мая, повлек за собой смерть. Екатерина Алексеевна умерла в восемь часов вечера тихо, спокойно, жадно глотая весенний воздух и любуясь последними лучами заходящего солнца.
На другой день с рассветом во дворце началось особенное движение; вся гвардия, состоявшая тогда из двух полков, Преображенского и Семеновского, расставлена кругом у окон, а к подъезду подъезжают экипажи знатных персон, членов Верховного тайного совета, генералитета, сановников, высшего духовенства и дворянства. В зале открылось торжественное заседание в присутствии двенадцатилетнего государя Петра II, сидевшего в кресле на возвышении под балдахином; кругом государя, на стульях, сидели цесаревна Анна Петровна с мужем, цесаревна Елизавета Петровна, родная сестра государя княжна Наталья Алексеевна и главные вожаки: адмирал Апраксин, канцлер Головкин, князь Дмитрий Михайлович Голицын, светлейший князь Меншиков, а позади кресла стоял вице-канцлер и воспитатель барон Андрей Иванович Остерман.
По распоряжению Александра Даниловича принесли и громко прочитали духовное завещание покойной императрицы, по которому преемником назначался Петр II с обязательством бракосочетания с княжною Меншиковою. Все присутствующие единогласно крикнули: «Виват!» Не слышалось никакого протеста, только фельдмаршал Сапега вполголоса и нерешительно заметил, что он не отходил от умиравшей государыни, но никакого завещания не видел и не слышал об его подписании. На заявление фельдмаршала не обратили никакого внимания; вероятно, не слышали, да если бы и слышали, то не придали бы ему никакого значения. На наследство Петра II все государство смотрело как на дело такое законное, что во многих епархиях давно уже без всякого распоряжения местным духовенством на ектениях возглашалось моление о здравии и благоденствии наследника престола Петра II.
Между тем как во дворце происходила торжественная церемония восшествия на престол, в доме князя Алексея Григорьевича Долгорукова готовились к проводам в полк бедного гофюнкера Ивана Алексеевича. Невеселы были проводы, неласково выкрикивал голос отца, покрывавший шум и суету дорожных сборов.
– Молокосос! Матернее молоко на губах не обсохло, а туда же, заговоры сочинять! Как же! Я, мол, с светлейшим вздумал тягаться! Какая важная птица – гофюнкер! Выклянчил я тебе это место, так и на нем не умел усидеть! – выкрикивал, то повышая, то понижая голос, князь Алексей Григорьевич, привыкший придираться к сыну за все.
– Вы сами ведь знаете, батюшка, что никаких заговоров я не сочинял, в них не участвовал, а если говорили при мне, надеясь на мое благородство, так доносить не приходилось, нечестно, – оправдывался сын.
– Как же… неблагородно! А вот благородно теперь князю Долгорукову служить поручиком в напольном полку? Вот и сиди в глуши, высиживай цыплят… Хорошо благородство… нечего сказать. А если бы шепнул светлейшему, вот, мол, так и так… в гору бы пошел, Долгоруковым бы честь.
– На такую честь не способен я и доносчиком никогда не буду, – решительно отозвался Иван Алексеевич. – Буду служить в напольном полку, и там тоже живут люди… Да, думаю, служить-то там долго не придется… Государь не забудет меня!
– Как же, дожидайся!.. Будет помнить! Только и заботы-то, что об Иване Алексеевиче!.. Не очень-то рассчитывайте, доблестный рыцарь… Государь из воли будущего тестюшки не выйдет.
С руганью простился с сыном Алексей Григорьевич, неласково простилась и мать, боявшаяся показать сыну при отце любовь и нежность, точно так же недружелюбно проводили братья и сестры, а в особенности старшая, Катерина, видимо, нелюбившая старшего брата.
Иван Алексеевич действительно недолго жил в полку. Не успел он доехать до места назначения, как вслед за ним был получен указ, призывавший его опять к прежнему же посту при дворе. Государь, затосковав о своем друге, стал неотступно просить будущего тестя и главу правительства о возвращении любимца. Александр Данилович легко согласился на просьбу – молодой гофюнкер не заявлял никаких честолюбивых стремлений, не казался опасным да и в заговоре недругов не участвовал.
По смерти императрицы светлейший князь сделался еще гордее. Получив сан генералиссимуса и титул нареченного тестя государя, Александр Данилович, в обольщении своего высокого положения и своих громадных заслуг, не обращал внимания на мелких людей, обходился со всеми кичливо и с нестерпимым высокомерием; даже с самим государем отношения его были надменны и повелительны, как будущего отца, которого слово должно быть законом. Зная, что образование государя в ребячестве было пренебрежено, он теперь захотел загладить прошлое усиленным учением и потребовал от ребенка занятий, к которым тот не привык, которому такие занятия казались тяжелыми.
Иван Алексеевич воротился. Государь обрадовался так, как никогда еще не радовался. Казалось, короткое отсутствие любимца еще более скрепило их связь. Иван Алексеевич полюбил великого князя без всяких видов и честолюбивых стремлений, беззаветно, и немудрено, что эта любовь вызвала страстный отклик в нежном сердце, не избалованном ласкою. Без отца и без матери почти с пеленок, при суровом деде, который даже с намерением выказывал к нему холодность и пренебрежение, ребенок всегда видел около себя или важные, равнодушные, или явно недружелюбные к себе лица. Мудрено ли, что весь постоянно сдерживаемый детский порыв отдался человеку, который первый выказал к нему любовь, который был сам чрезвычайно симпатичен и который сумел сделаться совершенною необходимостью.
С приездом фаворита государь повеселел, но вместе с тем ему еще неприятнее стал суровый надзор будущего тестя, его требования мучить себя, учиться, когда молодые, пробуждающиеся силы бродили и требовали любви и беззаботного веселья. Государь постоянно жаловался своему другу на взыскательность Меншикова, на несносную принужденность и неприятное положение выказывать жениховскую внимательность к нелюбимой девушке, равнодушной к нему, холодной и далеко не красавице. Иван Алексеевич, конечно, сочувствовал жалобам и из желания помочь другу старался внушить, что высказанная в завещании воля покойной императрицы относительно брака не может быть безусловно обязательною для него как для государя и что по самодержавной своей воле он может уничтожить даже самого светлейшего.
Вероятно, жалобам, внушениям и желаниям долго бы оставаться только в мечтах, если бы не вмешались в дело хитроумный воспитатель Андрей Иванович и действовавшая по его внушениям сестра государя, княжна Наталья Алексеевна. Между Александром Даниловичем и Остерманом начались раздоры; и тот и другой инстинктивно понимали, что им, как двум медведям, в одной берлоге ужиться нельзя. Раз между ними дошло до крупной ссоры. Александр Данилович с обычным высокомерием выскочки, ставшего на высоте, и почти с ругательством высказал выговор Андрею Ивановичу за то, что ребенок воспитывается не как православный государь, а как какой-нибудь атеист, что за такое зловредное воспитание следует отправить воспитателя в Сибирь на вечную ссылку.
Такая дерзость вывела из самообладания даже и осторожного Андрея Ивановича.
– За мною ты не знаешь ничего, – почти выкрикнул барон, – а за тобою я знаю много такого, за что тебя следовало бы не то что в Сибирь, но и четвертовать1.
Но Андрей Иванович ясно понимал, что открытая борьба со светлейшим ему не под силу, что ему не сломить Данилыча, а потому стал тайно, но постепенно и постоянно внушать государю мысль о возможности сложить с себя тяжелое ярмо.
Желаниям Андрея Ивановича деятельно помогал и сам светлейший строгим отношением к будущему зятю, постоянными требованиями учиться, отказами в желаниях и, наконец, самоуверенными приказами, отменявшими распоряжения государя. Но все-таки при уме, проницательности и решительности Александра Даниловича едва ли было совладать с ним Андрею Ивановичу, если бы не помогла сама судьба. В самый разгар возникших неприятностей светлейший князь захворал, и захворал так сильно, что в продолжение нескольких недель опасались за его жизнь. Этим обстоятельством и поспешили воспользоваться. Дружными усилиями Андрея Ивановича, Ивана Алексеевича и Натальи Алексеевны государь доведен был до такого раздражения против диктатора, что когда тот выздоровел, то поправить дело было уже невозможно.
Борьба кончилась полным поражением несокрушимого статуя. По распоряжению Верховного тайного совета, вследствие повеления государя, переданного его обер-гофмейстером и воспитателем Остерманом, Александр Данилович, по лишении своего высокого звания, был сослан в Ораниенбург, нынешний Раненбург, с женою, ее сестрою Арсеньевой, сыном и дочерьми, не исключая государыню-невесту. За светлейшего генералиссимуса печальников не оказалось.
По отъезде Александра Даниловича малолетний государь, не стесняемый никакою уздою, воспользовался полною свободою. Учение было почти отброшено; с утра до вечера, иногда и по целым ночам государь забавлялся то охотами, то балами, то приключениями, свойственными более зрелому возрасту. Руководителем этих забав, конечно, явился девятнадцатилетний Иван Алексеевич, получивший звание обер-камергера, майора гвардии и пожалованный зараз двумя орденами, Александра Невского и Андрея Первозванного. Юноша подошел к небывалому фавору.
Во главе двора стояли три лица, любившие глубоко и нежно государя, желавшие ему полного добра, но не владевшие такою железною волею, какая была у светлейшего князя. Познакомив ребенка с преждевременными удовольствиями, Иван Алексеевич, несмотря на свою ветреность, скоро понял, по какому гибельному пути он его повел, и стал отстраняться, стал заговаривать о благоразумии, об обязанностях, но уже было поздно. Между придворными ходил рассказ о том, как однажды, когда государю подали для подписи какой-то смертный приговор, Иван Алексеевич, стоя позади кресла, наклонился и больно укусил государя за ухо.
– Что с тобою, Иван? – спросил государь, оборотившись к своему любимцу.
– А то, государь, что прежде чем подписывать приговор, надобно вспомнить, каково будет несчастному, когда ему будут рубить голову.
Может быть, постепенными и настойчивыми усилиями воспитателю Ивану Алексеевичу и сестре Наталье Алексеевне и удалось бы подействовать на государя благотворно, но, к несчастью, явился другой воспитатель с другими взглядами, другими убеждениями – в лице Алексея Григорьевича Долгорукова, особенно сблизившегося с государем в Москве после коронации.
V
– И любит же надежа-государь поохотиться, словно все по-старому, как бывало при прадедушке, тишайшем царе Алексее Михайловиче, – говорили седые московские обыватели, провожая глазами воскресшие царские охотничьи походы с нескончаемыми обозами.
И чего не было в этих поездах – царские кареты, экипажи придворных, членов Верховного тайного совета и сенаторов, объемистые колымаги, брички, рыдваны и, наконец, простые телеги, в которых помещались домашняя челядь, подвижные кузни и припасы. Припасов, впрочем, особенно много не забиралось – отъезд часто назначался на неопределенное время, а в дороге живность портится скоро да и надобности большой нет – догадливые торговцы не пропускают случая зашибить лишнюю копейку. Как только государь укажет, где быть полю, устроят палатки, оправятся от дороги люди, – торговцы тут как тут с товарами на подвижных ларях, и пойдет торговля – точь-в-точь ханские кочевья по степям.
Окрестности Москвы полтора века назад изобиловали лесами, местами дремучими, болотами и другими угодьями для разного рода охот. В непроходимых дебрях или в громадном сосновом бору за селом Всехсвятском, по берегам реки Химки, не в редкость поднимали медведей; в перелесках охотились за волками, лисицами и зайцами; по болотам вспугивали птицу. Государь любил всякую охоту и не отдавал предпочтения ни одной из них; какая выпадала сподручная местность, такая назначалась и охота. Когда попадется по пути болото, в котором непочатое количество дикой птицы, непуганой выстрелами охотников, тотчас же начинались приготовления. Раскидывались палатки в удобном месте, спускались гончие для выпугивания птиц, и кречетники, ястребники и сокольники становились настороже с учеными хищными птицами на кляпышах, у которых глаза покрыты маленькими клобучками. Как только вспархивала из куста или болота утка или какая иная птица, очередной кречетник, ястребник или сокольник снимал клобучок с глаз своей птицы, хищник стрелою нападал на жертву и, убив ее ловким ударом, сам снова возвращался на руку своего хозяина. Иногда лучшего сокола держал сам Петр Алексеевич, и тогда с какою гордостью он следил за смелым полетом своего хищника, как сверкали его глаза, точь-в-точь как у его прадедушки, тишайшего царя Алексея Михайловича, знаменитого знатока соколиной охоты.
В местностях, изобильных мелким пушным зверем, другого рода охота: зверей или затравливали борзыми, или ловили тенетами. В травле больше жизни, больше собственного участия, и потому она практиковалась везде, где только представлялась возможность. Стремянные, егеря и охотники на лошадях, одетые в живописные костюмы, в красных шароварах, в горностаевых шапках и зеленых кафтанах с золотыми и серебряными перевязями, с блестящими золотыми и серебряными рогами, расставляются по опушке на сторожевых местах; у каждого охотника на своре борзая1. Все охотники в томительном ожидании, с напряженным слухом – где послышится лай и в каком направлении побежит зверь. Вот в ближайших кустах послышался легкий шум, и вслед за тем показался зверь; охотник мгновенно спускает на него своих собак и сам летит за ними, летит очертя голову, не разбирая ничего впереди себя, в каком-то диком бешенстве, и редко, редко уцелеет жертва от такой отчаянной погони. В этой охоте государь почти всегда участвовал на лучшей лошади и с лучшими собаками.
Совсем другой характер в охоте с тенетами, употреблявшимися только там, где предполагалось обилие волков. Кругом лесного места, которое на техническом охотничьем языке получало название «острова», расставляли тенета и выгоняли зверя дружным криком охотников и лаем собак. Выгнанный волк запутывался в сетях и делался жертвою.
Наконец, в дремучих лесах устраивалась охота на медведя. Этот род охоты считался самым опасным, и на этой охоте допускали государя присутствовать только тогда, когда не было уже никакой опасности, когда медведь был проколот рогатиною или поражен метким выстрелом. На борьбу с медведем отваживались немногие из охотников, или известные стрелки, или люди сильные, здоровые, ловкие, привыкшие бороться с опасным врагом один на один с рогатиною. В охотничьем мире эти борцы пользовались особенным почетом и славою.
На охотах государя сопровождали члены иностранного дипломатического корпуса, все приближенные и высшие сановники государства, не исключая даже и членов Верховного тайного совета, заседания которого, конечно, на все это время прекращались; все важные влиятельные персоны если по каким-либо обстоятельствам не рыскали по полям, то уезжали по своим вотчинам для сбора доходов на придворную жизнь, требовавшую денег и денег; дороговизна росла, а из вотчин получались только одни жизненные припасы, и то наполовину испортившиеся в дороге. Из высших персон один только Андрей Иванович не бросал своих государственных работ и часто в самом разгаре охоты возвращался в Москву. В делах полнейший застой, но зато какая веселая жизнь!
В женском персонале, обыкновенно, бывало, выезжавшем на охоту, с последних чисел мая все заметили перемену. Страстная любительница охоты цесаревна Елизавета, прежде постоянно сопровождавшая со своим штатом государя, теперь всегда отказывалась выезжать. У нее было тяжкое горе: в двадцатых числах мая пришло известие о смерти ее сестры Анны Петровны. Перестала сопровождать государя и сестра Наталья Алексеевна, здоровье которой видимо слабело. Но зато стали постоянными спутницами Прасковья Юрьевна Долгорукова с дочерьми, старшею Катериною и двумя младшими.
Поздняя осень. В двадцатых числах ноября лежит глубокий снег, навалившийся по опушке высокими сугробами. Много пришлось работать по очистке удобного места для стоянки царской охоты. Дремучий лес стоит очарованным, заснувшим великаном, и не смогут его разбудить шум и говор далеко разносившихся по ветру голосов. Ясный морозный день, ярко, до режущей боли в глазах освещают прогалину солнечные лучи, отражаясь миллионами сверкающих искр на ветвях деревьев, покрытых инеем, и на снежном полотне. В середине прогалины стоит рослый коренастый парень, опираясь на рогатину. Спокойно смотрит он по направлению какого-то следа через прогалину в чащу, добродушные светлые глаза точно улыбаются, будто приветливо ждет друга, ровное дыхание в густом воздухе обдает облаками пара и садится на окладистую бороду и мохнатую шапку алмазными блестками. Тихо, ни одного звука по лесу. Но вот вдруг вся чаща огласилась дружным окриком, и спустя несколько минут из глубины на прогалину показалось бурое косматое животное, медленно и важно переступавшее по снегу. Это был громадный медведь. Выступив на открытую прогалину, освещенную солнцем, он приостановился, тревожно осмотрелся кругом и, увидев ждавшего его человека, зарычал, как будто инстинктивно почуял врага. Лесной царь, видимо, раздражен за такое наглое нарушение его покоя, да и как было не рассердиться, когда этот непрошеный гость, человек, стоит перед ним спокойно и словно дразнит его рогатиною, словно вызывает на бой. Медведь пошел прямо на человека тою же увалистою тяжелою поступью. Но, не доходя несколько шагов, он снова зарычал и поднялся на задние лапы. В это мгновение парень, ловко взмахнув рогатиною, сделал шаг вперед и со всего размаха вонзил ее в живот медведя. Страшный рев раздался в воздухе, животное рассвирепело, глаза налились кровью, и, обвив передними лапами рогатину, он силился или сломать, или отнять ее у врага, но вместе с тем в ослеплении ярости, подступая все ближе и ближе к человеку, оно все глубже и глубже само вонзало в себя орудие.
Борьба не могла продолжаться долго, и победа, видимо, клонилась к человеку; могучие движения заметно стали ослабевать, кровь лилась ручьями по мохнатой шерсти и, скатываясь, окрашивала снег широким полукругом; в самом звуке дикого рева стали слышаться жалобные стоны врага, понявшего наконец свое бессилие и как будто просившего помощи или пощады. Еще два-три последних отчаянных усилия, и страшный зверь грузно свалился на землю с широко раскрытою пастью, из которой вырывалось глухое хрипение; скоро стихли и последние признаки жизни, только по лапам пробегали еще судорожные движения.
В это время место побоища окружила толпа придворных, наблюдавшая издали. Государь, подойдя к издыхавшему зверю, наблюдал последние проявления жизни, и, казалось, вид агонии не производил на него тяжелого впечатления.
– Как тебя зовут? – спросил государь победителя.
– Андрюхой, великий государь, Андрюшкой прозываюсь, из Сизова, – отвечал парень, добродушно улыбаясь и обтирая грязным рукавом тулупа вспотевшее лицо.
– Спасибо, Андрей! Жалую тебе десять рублей и чарку вина, – и государь подал победителю свою серебряную чарку. – Которого бьешь, Андрей? – любопытствовал потом государь.
– Да вот с этим, государь, четвертый пяток покончил.
– Молодец! Ну расскажи, Андрей, страшно тебе бывает, когда эдакой зверь на тебя полезет? – продолжал расспрашивать государь.
– Большого страха не должно быть, ваше величество, привычка, да опять же и опасности большой нет, – вмешался князь Алексей Григорьевич.
Андрюха перевел свои добрые большие глаза на князя.
– А что, ваша милость, – вдруг обратился он к князю с невиннейшим видом. – Богу ты молишься, чай, кажинный раз, как ложишься спать?
– Ну что ж тебе из этого? – грубо и надменно оборвал князь.
– А зачем молишься? – с тем же добродушием продолжал Андрюха. – Знамо, из того, что не ведаешь своего часа. Кажинному человеку свой час страшен, а в нашем деле евтот час близок, ух как близок… Иной зверь ни за што не станет на лапы, хоть што хошь, вот тут и ломайся с ним! Иной раз рука сфальшивит, рогатина по шерсти скопынет, альбо мишка сорвет…
Между тем привезли дровни и стали наваливать тушу, насилу навалили зверя, такой оказался грузный.
Вечерело. Охотники отправились к палаткам, где приготовлена была для придворных обильная закуска. Бывая почти постоянно на охоте, государь привык выпить лишнюю рюмку, а за ним пили и все, старые и малые, мужчины и дамы, иззябшие на морозе. Вино развязывало языки, со всех сторон сыпались остроты, шутки, анекдоты, хвастливые рассказы и споры охотников. Вообще в отъезжем поле дышалось всем вольнее, о придворном этикете не было и помину, почти каждый из охотников мог обращаться к государю свободно. За столы садились без чинов, но как-то случалось так, что подле государя всегда занимала место старшая дочь Алексея Григорьевича, княжна Катерина, а подле нее свояк австрийского посланника, молодой и красивый офицер Миллезимо.
– Изволили забыть, государь, откушать своего любимого венгерского, – напоминал князь Алексей Григорьевич, указывая на стоявшую перед государем бутылку.
Государь выпил полстакана.
– А где наш Иван? – вдруг спросил он, вспомнив, что несколько дней не видел друга.
– В Москве, государь, – отвечал отец и потом добавил с ядовитою улыбкою: – Видно, скучно ему здесь.
– Верно, охотится в Москве за дичью, – улыбнулся государь. – А тебе что, князь Федор? – спросил он, увидев подходившего к нему своего обер-егермейстера Федора Васильевича Долгорукова.
– Прошу, ваше величество, меня уволить.
– Куда и надолго ли едешь, Федор?
– Может, и надолго, государь, надо в вотчину.
– Катя! Княжна Катя! – кричал между тем Алексей Григорьевич дочери, о чем-то с заметным оживлением говорившей с Миллезимо. – Отчего ты не потчуешь государя?
Княжна с едва уловимою досадою обернулась к государю и налила ему снова стакан вина. Государь поблагодарил, взяв ее руку и поцеловав. Оттого ли, что выпитое вино возбуждало кровь или действительно воодушевленное личико княжны Катерины как-то показалось особенно привлекательно, но только остальное время государь почти не отрывал жадного взгляда от нежной грациозной фигуры девушки.
Давно стемнело, и было время собираться на назначенный ночлег. Вслед за государем все охотники поднялись с мест.
– Завтра вечером, в саду, – тихо обронила княжна Катерина своему соседу Миллезимо.
По заранее определенному расписанию для ночлега была выбрана деревня Горенки, принадлежавшая князю Алексею Григорьевичу, но на этот раз судьба расстроила предположение. В то время как государь вышел из палатки и готовился сесть в ожидавшие его сани, подскакал гонец из Москвы с письмом от Андрея Ивановича. С досадою и явным нетерпением государь развернул записку и прочел несколько строк кудреватого почерка воспитателя:
«Не благоугодно ли будет вашему величеству поспешить возвращением в Москву, если пожелаете проститься с сестрицею! Здоровье ее высочества Натальи Алексеевны в таком положении, что надеяться на продолжение драгоценной жизни невозможно».
С минуту стоял государь в нерешимости. Ему так хотелось ехать в Горенки, где так приятно проходило время, не то что в Москве, где скука, принуждение да нравоучения; притом же в его ли власти помочь сестре! А с другой стороны, если сестра умрет, не простившись с ним, сестра, которая так любит его и которой, может быть, сделается лучше, если он приедет, может быть, и совсем выздоровеет. Нет, надобно ехать к ней… Андрей Иванович недаром зовет… И доброе чувство взяло верх.
Через минуту сани государя летели в Москву, далеко оставляя за собою растянувшуюся цепь отставших экипажей. Государь торопил. По чрезвычайной подвижности чувств он теперь горел желанием скорее увидаться с сестрою, забыв о Горенках и об охоте.
– Который час, Андрей Иваныч?
– Двенадцать, матушка-княжна, только двенадцать.
– Что это, как тянется время, тоска… Словно свинцом сдавило грудь… Не нарочно ли ты переводишь часы, Андрей Иваныч? – жаловалась великая княжна Наталья Алексеевна, полусидя на постели и опираясь спиною на подушки, сидевшему против нее в глубоком кресле барону Андрею Ивановичу.
В последнее время княжна заметно изменилась. Пароксизмы удушливого кашля стали возобновляться чаще, продолжаться упорнее, и после каждого пароксизма обильнее появлялись излияния крови из горла; цвет лица и прежде нежный, сделался совершенно прозрачным, до того прозрачным, что стали видны все синеватые жилы, видно, как вспыхивали и загорались ярким румянцем ограниченные пятна на впалых щеках; голубые глаза ушли еще глубже, искрясь каким-то электрическим блеском. Наталья Алексеевна даже похорошела, но было больно смотреть на эту красоту. Для каждого было видно, что в княжне совершалась решительная борьба молодых сил с разрушительным началом, последними вспышками. Она видимо таяла; слабый организм подламывался под двойными ударами недуга и тяжелых нравственных страданий. Никто не знал и не подозревал, сколько сердечных мук переживала девушка, одинокая, покинутая любимым братом, неразлучным с нею с пеленок, никто, разве только один хитрый Андрей Иванович, у которого на глазах развивались эти две жизни, брата и сестры, которым расти бы да цвести, а не гибнуть.
Княжна Наталья Алексеевна и старый Андрей Иванович жили дружно. Ему одному поверяла она все свои зарождавшиеся мечты, и только от него слышала добрые советы, живые и теплые речи, для нее одной Андрей Иванович был не хитрою лисицею, ловким интриганом, как его считали все другие, а простым, хорошим человеком. Обоих их связывало одно чувство – любовь к государю, и оба они сокрушались, что их кумир отшатнулся от них, попал в нехорошие руки, где ему сгореть…
– Да писал ли ты, Андрей Иванович? – снова допрашивала княжна, только что успокоившись от мучительного припадка и вскинув на воспитателя блестящие пытливые глаза.
– Как же, родная моя княжна, тот же час написал, как и говорил, – уверял Андрей Иванович.
Больная, казалось, успокоилась, прилегла и закрыла глаза, но потом вдруг поднялась и заговорила торопливо и испуганно:
– А что, если он не приедет?
– Как не приехать, родная моя, приедет, непременно приедет.
– Может, его не найдут… Далеко уехал с охотой?
– Отыщут, матушка, как не отыскать, не иголка какая.
– А если и отыщут, да не захочет приехать?
– Да что ты это… полно, милая княжна моя, по-пустому тревожиться… К тебе-то еще бы не приехать!
– Пожалуй, и приедет, да будет поздно?!
– Как поздно? – с испугом переспросил Андрей Иванович.
– Меня не увидит больше… умру… – глухо прошептала княжна.
– Да выкинь ты из головы эти негодные мысли, милая моя, успокойся… Ну, больна ты, спора нет, да мало ли кто бывает болен… Полежит, полежит, да и встанет… потом все по-прежнему, по-старому.
– Ах, Андрей Иваныч, как хорошо было прежде… Помнишь, как мы – ты, я да брат, бывало, гуляли по петергофским рощам… Воздух такой ласковый… цветы всякие… птицы… Счастливы мы были… Тогда бы мне умереть…
– Э… полно, бог даст, все опять будет по-прежнему. Только бы нам, родная моя Наталья Алексеевна, вырвать его отсюда… перевезти бы в Петербург… Вот как приедет, уговори ты его, возьми с него слово.
– Хорошо, Андрей Иваныч, только и ты согласись на мою просьбу… мою последнюю просьбу… Когда я умру…
– Да что ты опять…
– Не мешай мне, Андрей Иваныч, знаю, что говорю… чувствую… Когда я умру, не покидай его… люби его, как я любила… остерегай его, береги… отведи его от этих Долгоруковых… злодеи они… а главное… главное… никогда не допускай свадьбы… на цесаревне… не хочу этого…
– Ручаюсь тебе, голубушка моя, не женится он на ней никогда.
– Спасибо, Андрей Иваныч, поправь свою вину… Ведь ты… навел на мысль.
– Я… – начал было оправдываться Андрей Иванович.
– Перестань… Никогда ты мне не лгал, не лги и в последнюю минуту… Не сержусь я на тебя… простила… добра же хотел, без злого умысла…
Княжна замолчала, истощенная продолжительным разговором и внутренним волнением, она тихо положила головку на подушки и, казалось, забылась. Через несколько минут она снова вдруг встрепенулась и стала жадно прислушиваться.
– Слышишь, Андрей Иваныч, слышишь… – чуть слышно шептала она.
Но Андрей Иванович, как ни напрягал свой острый слух, различить ничего не мог.
– Он… он… – продолжала шепотом княжна. – Спешит… слава богу… Как спешит-то, голубчик мой…
Скоро и барон Андрей Иванович стал различать отдаленные и отрывчатые звуки колокольчика. Звуки ближе и ближе и наконец совсем оборвались возле подъезда.
Княжна вся подалась вперед, не отводя тоскливых глаз от двери.
– Петя… голубчик… милый!
– Наташа, родная моя!
Брат и сестра поцеловались, тесно обнявшись друг с другом. Осторожный Андрей Иванович хотел было высказать совет, что волнение вредно, что оно может окончательно оборвать последние силы больной, но, подумав и посмотрев на обоих, только отмахнулся рукою, тихонько уходя из комнаты.
Княжна совсем выздоровела – таким густым здоровым румянцем запылало все лицо ее и таким ярким блеском заискрились широко раскрытые глаза, казавшиеся еще глубже и еще блестящее от окружавшей их широкой синей полосы.
– Сядь, Петруша, подле меня, не отходи… недолго мне с тобою быть… – заговорила сестра, совершенно задыхаясь и с отчаянным усилием стараясь втянуть в себя как можно больше воздуха.
– Что ты, Наташа, да ты совсем, совсем здорова, – успокаивал брат, по-видимому и сам не подозревая безнадежного положения сестры.
– Здорова, Петя, совсем, – шепотом повторила княжна. – Только не отходи ты от меня… Мне много, много нужно с тобою переговорить… Постой, вот я отдохну…
Помолчав несколько минут, сестра снова заговорила, уже более спокойно:
– Ты был на охоте, Петя?
– На охоте, Наташа. Повалили медведя; если бы ты видела, какого громадного да сильного! Шкуру я велел приготовить для тебя, положу вот здесь, у твоей кровати, – рассказывал государь.
– Весело ли было тебе? Кто был? Была ли тетка? – перебила его сестра, не обращая никакого внимания на медведя.
– Лиза? Нет не была, – покраснев и несколько заикаясь, поспешил ответить брат. – Да разве ты не знаешь, она уехала в Покровское и, может, долго не воротится.
– Ну и хорошо… спасибо… Теперь мне совсем легко… Да, вот еще что… Петруша, милый, голубчик, обещай мне… успокой… обещаешь?
– Обещаю, Наташа, да разве я не хочу исполнять всех твоих желаний?
– Уезжай отсюда, Петя, как можно скорее уезжай… Отгони от себя ты этого… Алексея Григорьевича… Погубит он тебя… Слушайся Андрея Иваныча… он хороший… тебя любит… Уедешь, Петя?
– Уедем, Наташа, вместе уедем… Как только вот ты поправишься.
– Меня не дожидайся… я не поправлюсь… Оставлю тебя… скоро… скоро… Прощай… ненадолго… Скоро мы опять будем вместе…
Наталья Алексеевна откинулась на подушку и закрыла глаза; грудь, высоко поднявшаяся усиленным вздохом, опустилась и не поднималась больше, румянец сбежал мгновенно, и легкая нервная дрожь пробежала по всему телу.
– Наташа, тебе дурно? – обеспокоился государь, наклоняясь к лицу сестры, он хотел поцелуем привести ее в чувство, но поцеловал холодные губы. Он порывисто схватил руку – и рука тоже какая-то странная, холодная.
Государь вскрикнул и упал без чувств.
Андрей Иванович распорядился в этот же день перевезти государя в Кремлевский дворец.
VI
Едва ли не нежнее всех русских, близких и родных, любил двоих сирот, Петра и Наташу, барон Андрей Иванович Остерман, этот хитрый, лукавый, двуличный человек, ловкий дипломат, иноземец, но которому Русь обязана столько же, если не больше, как и любому из своих родных сынов. В Андрее Ивановиче являлось странное сочетание крайностей: любви и холодного презрения к людям, бескорыстия, честности и лжи, мужества и трусливости, заставлявшей его лукавить, притворничать и обманывать, ума и какой-то детской наивности. Судьба во всем играла с ним, одарила громадными дарованиями, подняла высоко и опустила в снежную могилу на безлюдном Севере.
Сын вестфальского пастора, Генрих Остерман, истый немец, которому жизненная дорога казалась такою определенною, вдруг переносится в совершенно другую сферу, и мало того, что переносится, он вполне сливается с этою сферою. По установившемуся обычаю в пасторских семействах, наш Генрих Остерман мирно занимался науками в Йенском университете в надежде сделаться пастором со временем в каком-либо уголке немецкой земли, а вместо этой карьеры несчастная дуэль с товарищем, в которой этот товарищ был проколот шпагою, заставила его бежать из Йены и родной земли в Голландию, без всяких определенных планов о будущем. В Амстердаме он видится с русским вице-адмиралом Крюйсом, поступает к нему на частную службу и переезжает в Россию.
Переезд иностранца как искателя счастья в Россию во времена Петра Великого не был необыкновенным событием, но необыкновенно было то, что с переездом в новое отечество юный Генрих сбросил с себя генриховскую кожу и совершенно отрешился от немецкой кичливости. Поступив на службу хотя и к русской должностной персоне, но все-таки немцу по происхождению, он не пошел по следам своих собратьев, державшихся упорно своего немецкого диалекта, а, напротив, принялся за изучение русского языка, в чем при своих блестящих способностях успел настолько, насколько мог успеть немец. Через два года наш Генрих Остерман, уже хорошо говоривший и писавший по-русски, поступил на государственную службу и сделался Андреем Ивановичем.
Раз его какая-то деловая записка, написанная по-русски, попалась в руки Петра Великого; государю понравилось толковое изложение, и он спросил об имени составителя – ему указали на немца Андрея Ивановича. Как глубокий знаток людей, преобразователь взял Андрея Ивановича к себе в канцелярию, испытал его и стал ему доверять все секретные и важные государственные бумаги. Андрей Иванович ни разу не обманул ни доверия государя, ни расчетов на его служебные способности.
«Никогда ни в чем этот человек не сделал погрешности, – не раз говаривал об нем государь. – Я поручал ему писать к иностранным дворам и к моим министрам, состоявшим при чужих дворах, отношения по-немецки, по-французски, по-латыни, он всегда подавал мне черновые отпуски по-русски, чтобы я мог видеть, хорошо ли понял он мои мысли. Я никогда не замечал в его работах ни малейшего недостатка».
Петр Великий поручал Андрею Ивановичу самые сложные дипломатические сношения, и во всех поручениях Андрей Иванович оказывался одинаково исполнительным, умным и самым тонким политиком. Интересы России отстаивались им сильнее, энергичнее самих русских. По Ништадтскому миру Россия приобрела Выборг единственно благодаря ловкости, умению и энергии Андрея Ивановича.
Истощенный Северною войною, Петр Великий, отправляя для переговоров о мире со Швецией своих послов, генерал-фельдцейхмейстера Брюса, Ягужинского и Остермана, поручил им настаивать на удержании за Россией Выборга как города, имевшего важное значение и притом уже занятого русскими войсками, но вместе с тем разрешил в случае решительного несогласия шведов согласиться и на уступку. Переговоры тянулись долго, шведы упорно требовали Выборг и грозили порвать мирные переговоры. Между русскими уполномоченными тоже возникли раздоры: русские решались на уступку, не решался только один Андрей Иванович. Для прекращения споров наши послы условились послать Ягужинского за разрешением к Петру Великому. Так как в разрешении не могло быть сомнения, то Андрей Иванович употребил хитрость: он уговорил коменданта Выборга, генерала Шувалова, задержать отправку Ягужинского на несколько дней, необходимых для окончательного устройства своих личных переговоров со шведами. Шувалов угощал Ягужинского, любившего выпить, два дня, а когда потом Ягужинский воротился с разрешением, то было уже поздно – мир был подписан и заключен с удержанием за Россией Выборга. Этим успехом русские обязаны были исключительно только одной ловкости нашего обрусевшего немца, почти без денежных расходов. Когда отправлялись послы на конгресс, Петр Великий передал Андрею Ивановичу сто тысяч червонцев для подарков шведским уполномоченным, но из этой суммы Остерман возвратил государю девяносто тысяч, потратив только десять.
За Ништадтский мир Петр Великий наградил Андрея Ивановича титулом барона, потом в 1723 году назначил его вице-канцлером на место отрешенного от должности барона Шафирова.
«Андрей Иванович лучше всех понимает истинные нужды и выгоды государства и России, без него обойтись нельзя», – говорил незадолго до своей смерти великий преобразователь, и говорил правду.
В двухлетнее правление Екатерины I барон Андрей Иванович был произведен в действительные тайные советники и награжден орденом Андрея Первозванного. При Екатерине же к его многосложной обязанности вице-канцлера присоединено было управление почтовым ведомством и торговлею, а затем, перед смертью императрицы, он был назначен воспитателем и гофмейстером к великому князю Петру.
Андрей Иванович был женат на Марфе Ивановне, урожденной Стрешневой, глубоко его любившей и впоследствии доказавшей эту любовь, но была ли счастлива супружеская жизнь – об этом Андрей Иванович никогда и никому не высказывался. Женился Андрей Иванович без пылкой страсти, вернее сказать, женила его на себе Марфа Ивановна энергично, не давая времени на составление и обсуждение всех возможных комбинаций и конъюнктур. Марфа Ивановна знала характер своего мужа, благоговела перед его громадным умом, высоко ценила его, но умела также верно ценить уклончивость и нерешительность мужа, доходившие иногда до слабости; своею энергиею она дополняла недостаток его энергии.
Сирот, вверенных ему, великого князя и княжну Наташу, Андрей Иванович любил нежно, и оба ребенка платили ему тем же, в особенности же княжна. С любовью принялся воспитатель за новые свои обязанности. С полным знанием и опытностью выбрал он наставников, составил программу, но не мог выполнить своей задачи. Он не мог вырвать своего воспитанника из той губительной среды, которою тот был окружен, у него не было ни силы, ни энергии. Ему нельзя было не видеть, что сближение с молодым Иваном Алексеевичем, добрым, симпатичным, благородным по природе, но вместе с тем и развращенным варшавским воспитанием, вредно и губительно для ребенка, но недоставало твердости отстранить это вредное влияние. Мало того, он даже сам воспользовался этим влиянием для своих личных целей – низвержения несокрушимого статуя.
Вскоре, однако же, по ссылке нареченного тестя, Андрей Иванович сам испытал, как нужна была железная рука Данилыча. Увлечения самодержавного отрока грозили принять крайние размеры: прежде послушный и кроткий воспитанник, теперь поглощенный весь новою жизнью, вечною погонею за увеселениями, он перестал совсем слушаться. Избалованный угодливостью и раболепством придворных, он сделался своенравным, надменным, не терпящим противоречий, полюбил разгульное общество, стал пристращаться к вину.
– Ваше величество моих советов не слушаете, – усовещивал своего державного воспитанника Андрей Иванович, – а я должен за вас отдать отчет перед Богом и своею совестью! Я бы просил вас определить меня к другим делам или вовсе дать отставку.
Но государь не хотел слышать ни о других делах, ни об отставке. С глубоким чувством, с глазами, полными слез, он по-прежнему ласкал старого воспитателя, уверял, как он его любит, как дорого ценит его добрые советы, что постарается исправиться, будет учиться и отстанет от дурных людей. Но добрые минуты продолжались недолго, слезы скоро высыхали, и на другой, если еще не в тот же день – новые хлопоты о забавах.
По переезде в Москву стало еще хуже. В Петербурге Андрей Иванович был, по крайней мере, в своей стихии, как рыба в воде, в Москве же для него все чужое – здесь он потерял всякую надежду. Государя окружили новые люди, явился и другой воспитатель, тогда как и первому-то, Андрею Ивановичу, делать было нечего. Новый воспитатель, князь Алексей Григорьевич Долгоруков, пошел дальше своего сына в порче отрока-государя.
«Совсем споит ребенка, растлит вконец, не человеком сделает. Да ему что, лишь бы только самому стать выше», – думает Андрей Иванович, по целым ночам ворочаясь с боку на бок, все придумывая меры, но и его изворотливый ум ничего не может придумать.
А между тем в политическом мире становилось все серьезнее и мрачнее. Из Малороссии получены тревожные вести о татарских замыслах, и хотя послали туда фельдмаршала князя Михаила Михайловича Голицына с войском, но, благополучно ли кончится кампания, неизвестно, так как за татарскими смутами скрываются турецкие происки. Да и на севере не лучше. Швеция не только подстрекает Турцию, но и сама явно готовится к войне – хочется ей воротить потерянное по Ништадтскому миру. И не страшна была бы война со шведами, да рук нет, флот почти весь сгинул. Корабли хотя и оставались еще, но без орудий и без экипажей, корабли старые и гнилые, а новых судов не строили. Известно было, что молодой царь не любит моря, а за ним и все перестали обращать на него внимание. Конечно, еще можно бы поправить дело, исправить и снарядить старые корабли, да разве можно принимать меры из Москвы? «Нет, надобно ехать в Петербург, надобно во что бы то ни стало», – повторяет в уме своем Андрей Иванович чуть не каждый час.
Не меньше беспокоят вице-канцлера и дела внутренние. Везде бедность да нищета. В торговле полный застой. Подлые людишки совсем ободрались, не могут даже уплачивать и податей, которых накопилось в недоимке больше пяти миллионов рублей. Но отчего серому люду поправиться? Северная война истощила казну, как истощился и народ людьми и деньгами. Кончилась война, можно было бы надеяться, что вот теперь вздохнется свободнее, а тут сами сделали себе врага похуже войны. По милости русских важных персон покойная императрица отменила чуть не все коллегиальные учреждения и устроила в провинциях единоличную губернаторскую власть неограниченною, как судьи и администратора. И пошли в ход взятки, поборы да всякого рода обирательства, от которых стало народу еще тяжелее войны. «Изломал все покойный благодетель, – не раз думалось Андрею Ивановичу, – новое не успело окрепнуть, а теперь снова стали ломать – и вышло черт знает что такое. Никому теперь ни до чего дела нет, никто не хочет никаким делом заняться, лишь бы только охотиться, гулять да пьянствовать. Да и может ли быть доброе, когда все захватили в свои руки Долгоруковы? А все оттого, что мы сидим здесь, в Москве. Рассчитывал, что вот уважит последнее моление умирающей… и то ничего. Поплакали мы, погоревали, начали было собираться домой, в Петербург, потом стали откладывать день за днем, и пошло все по-прежнему».
Не любил Андрей Иванович Москву и все напасти приписывал ей одной. Ему, как ближайшему сотруднику великого преобразователя, сказывался единственным спасением только Петербург, откуда должно было исходить одухотворение бесформенной массы, явиться регламентация всего существующего и создание государственного строя.
И думает Андрей Иванович и день и ночь, а все путного ничего не выходит. Один в поле не воин. Думает вот и теперь за своим письменным столом, на свободе, никем не стесняемый. В кабинете тихо, только изредка проносится какой-нибудь крикливый возглас Марфы Ивановны, воевавшей по хозяйству с прислугою в кухне. Окна в кабинете отворены, и вливается свежими струями утренний летний воздух. Андрей Иванович с наслаждением втягивает в себя мягкие, ласкающие струи; как вечно закупоренный с пером за бумагами и знающий поэтому цену отдыха, он дорожит теперь свободною минутою. Парик мирно валяется в углу, подле туфель Марфы Ивановны, зеленый тафтяной глазной зонтик тоже брошен под стол, незачем теперь его, глаза смотрят так зорко и бодро, ноги не окутаны, как у подагрика, а вольно перекинуты одна на другую – совсем хорошо Андрею Ивановичу, если бы только не эти черные мысли.
Несмотря, впрочем, на раннее утро, вице-канцлер и воспитатель недолго наслаждался полною свободою. В соседней комнате скоро послышались торопливые шаги и нечесаный, заспанный камердинер доложил о приезде молодого обер-камергера князя Ивана Алексеевича Долгорукова. Мигом зеленый зонтик очутился на глазах, ноги протянуты на скамейку, шлафрок плотно запахнут – хозяин встретил гостя прежним, озабоченным больным стариком.
– Я нарочно забрался к вам, барон, пораньше, чтоб застать дома. Очень нужно посоветоваться. Но не собираетесь ли вы на охоту? – спросил молодой человек, дружески пожимая руку хозяина и усаживаясь против него прямо к окну на приготовленное для гостей кресло. Андрей Иванович всегда устраивался так, что сам со своими слабыми глазами оставался в тени, а гостей, напротив, обливал полный свет.
– Что вы это, ваше сиятельство, подсмеиваться изволите над стариком? Какой я охотник без ног и слепой! Пробовал было раз выехать с государем, так только смех один вышел. Вот вам, молодым людям, другое дело, можно забавляться, – любезничал Андрей Иванович с гостем.
– Видите, однако же, почтеннейший мой Андрей Иванович, не все молодые люди любят забавляться. Вот я почти совсем перестал ездить на охоту с государем.
Андрей Иванович не преминул удивиться, хотя он не хуже самого Ивана Алексеевича знал, что тот с некоторого времени не только не выезжал с государем, но даже и дома в Москве зажил как-то странно, монахом каким-то, так тихо, что про него ничего и слышно не было. Сколько бывало разговоров в городе о молодом царском любимце, сколько рассказов про его проказы! Хорошенькие женщины грозились даже совсем перестать ездить в дом Долгоруковых. Беда, бывало, иной гостье не застать дома самой Прасковьи Юрьевны! Как только увидит хорошенькую гостью Иван Алексеевич, тотчас и пригласит, как будто мать дома, та войдет, а он и начнет обнимать ее и целовать, а иной раз созорничает и того хуже – только от стыда не рассказывали. Сколько ходило анекдотов при дворе о княгине Трубецкой, влюбившейся в него до того, что связи своей не скрывала, стыд совсем потеряла. А вот в последнее время замолкли все слухи. Вчера еще Марфа Ивановна рассказывала мужу, будто Иван Алексеевич совсем другим человеком стал; всех полюбовниц своих бросил, сидит все дома, словно в скиту каком, тоскует, а когда выедет, так ненадолго, и возвращается таким веселым, светлым солнышком. О прежнем пьянстве и помину нет! Слышал все эти вести Андрей Иванович, принял их к сведению, но теперь не показал и виду, что знает.
– Верно, князюшка милый, здесь вас что-нибудь притягивает аль опять размолвка с родителем? – лукаво, но не без примеси добродушия спрашивал Андрей Иванович.
Против воли его, несмотря даже на укоренившуюся неприязнь к Долгоруковым как к самым злейшим врагам своего воспитанника и личным своим недоброжелателям, Андрей Иванович не мог не поддаться открытому, симпатичному обращению молодого человека.
– Вы слишком мягко называете, добрейший Андрей Иванович, наши отношения с родителем размолвками. Не в размолвках мы, а в какой-то вражде – и бог ведает, не я тому причиною. Я готов любить и почитать родителя, как повелевают Божеские законы, но показывал ли он мне когда-нибудь, с самого моего детства, какую-нибудь ласку? Слышал ли я от него какое-нибудь слово без брани и ругательства? И теперь могу ли я исполнять то, чего он требует? Послушайте только, Андрей Иванович… – И Иван Алексеевич стал говорить торопливо, задыхаясь, как будто спеша высказать все разом, все, что давно накипело на душе; даже слезы выступили на его добрых глазах. – Я давно хотел посоветоваться с вами, Андрей Иванович, поговорить откровенно, да все откладывал, знал ведь, что вы не можете любить нас, Долгоруковых, а в особенности, может быть, меня… И вы правы… Мы, а в особенности я… злодеи, хуже злодеев. Те оберут, да душу оставят в покое, а мы обираем и чистую душу, всю жизнь молодую губим… Я знаю, вы обвиняете в испорченности ребенка-государя меня, и вы опять-таки правы… Мне нет пощады, и больше всего я казню себя самого. Но поверьте, я делал злое дело без умысла, без расчета… Привык я в Польше к гулянью, разврату… молод очень был… И когда поступил к великому князю, все продолжал свою жизнь и не подумал тогда, какая страшная ответственность на меня ляжет… Научил я ребенка худому, потому что сам был тогда худым человеком… Потом уже, как сделал зло, стал спрашивать себя, пытать, и мне становилось до того гадко, что хоть убежать бы куда… А между тем оторваться от прежней жизни не мог, да и поздно было. Так я все и мучился до сих пор… Теперь же мне особенно ясно и мучительно стало мое прежнее злодейство… Теперь я совсем оторвался от прошлого… Хотелось бы мне поправить свою вину, да не знаю как… Научите меня разуму, Андрей Иванович, век за вас буду Бога молить.
Андрей Иванович понял страстную речь, вылившуюся прямо из сердца, нерасчетливую, порывистую и бессвязную, понял скорбное и страдальческое выражение лица молодого человека и давно уже, почти с самого начала исповеди, отбросил с глаз свой тафтяной зеленый зонтик куда-то под стол. С ясностью, приветливостью и вместе с тем с каким-то странным недоумением смотрит теперь на кающегося грешника вечно серьезный и загадочный сфинкс-оракул и теряется сам, как теряется врач, встретивший больного субъекта, разрушившего вдруг все его прочно сложившиеся знания и убеждения.
– Что же, Андрей Иванович, неужто моему греху и помочь ничем нельзя? – тоскливо спрашивал Иван Алексеевич с крупными слезами, катившимися по исхудалому лицу.
– Право, не знаю… как и сказать… случай такой небывалый, – нетвердо отвечает сам Андрей Иванович.
– Где же бывать такому случаю, ни в каких историях, – с горечью проговорил молодой человек.
– Злодейство твое, не хочу скрывать и потакать тебе, видя твое раскаяние, тяжкое злодейство… не перед людьми – многие готовы сделать так, как ты совершил, – но перед своею совестью… Но ты сознаешься… хочешь исправить… да не вижу я, как исправить-то… Скажи мне, по чистой правде, чего желает твой родитель, что он замыслил?
– Что замыслил? Да разве не видишь сам? Хочет споить отрока… сделал его совсем не способным ни к чему… привязать к себе… самому властвовать… Катю хочет поставить… заставить государя жениться на ней и закрепить за собою власть. Я хоть почти совсем не бываю в Горенках, а все знаю… все.
– Старая история, и разрушится так же, как прежняя, – раздумчиво высказал Андрей Иванович. – Но не в ней суть, не это страшно, а страшно то, что вконец сгубит ребенка, у которого в руках миллионы людей… Этому надобно помешать… Постарайся, князь Иван, искупить свою вину, оторвать государя от пагубного общества.
– Пробовал, Андрей Иванович, да не в силах теперь, государь меня не слушает больше. Видя, что слова мои не действуют, я перестал ездить с ним, думал соскучится… и это не помогает.
– Напротив, князь, я советовал бы тебе именно теперь ездить постоянно с государем, мешать родителю… внушать ребенку, может, иной раз и послушает… Будет доброе дело… Приказал я сюда доставить войско… Государь любит забавы, а в прежние годы страшный был охотник до воинских упражнений, может быть, это отвлечет его сколько-нибудь, а главное… главное, старайся всеми силами уговорить, убедить его уехать отсюда в Петербург. Кстати, и благовидный предлог есть: ведь тело тетки его, Анны Петровны, до сих пор остается непогребенным в ожидании возвращения государя в столицу. А в Петербурге я уж постараюсь окружить его и заставить позабыть прошлое.
– Исполню в точности твои советы, Андрей Иванович, буду зазывать государя на воинские упражнения в лагеря, буду, сколько смогу, мешать отцу, неотступно звать в Петербург, буду ездить к ним часто, но постоянно быть там не могу… Здесь у меня, Андрей Иванович, дело… большое дело…
VII
Под свежим впечатлением разговора Иван Алексеевич выходил из кабинета вице-канцлера с полною решимостью тотчас же ехать в деревню, где проживал в последнее время государь почти постоянно, если не бывал на охоте, но дорогою эта радость несколько изменилась. «Не все ли равно, сегодня или завтра буду в Горенках, – раздумывал он, – ни пользы, ни вреда не будет, а между тем я могу свидеться с Натальей Борисовной». И он действительно тотчас же отправился, только не к государю, а на Воздвиженку.
Уныло стоял большой шереметевский дом на Воздвиженке после смерти фельдмаршала, знаменитого покорителя Ливонии, и его жены. Покойный Борис Петрович славился доступностью, русским широким хлебосольством, и при нем по всей Воздвиженке беспрерывно сновали экипажи знатных персон и толпы бедного люда, а в доме каждый день шум, гам и беготня разных поваров, поваренков, стряпух и всякой домашней челяди. Теперь же во всех палатах полная тишь, притихла челядь, и заросли дорожки к боярскому дому – некому было принимать гостей. Старший сын, Петр Борисович, шестнадцатилетний мальчик, новичок в придворной жизни, не мог поддерживать старых порядков; да и характером, мелочный и надменный, далеко не напоминал отца; младший же брат, Сергей, – еще ребенок. Старшая сестра Наталья Борисовна, погодка с братом Петром, конечно, еще меньше могла быть представительницею старого дома, да если бы и могла, то не захотела бы. Росла Наталья Борисовна как-то странно – не так, как другие девушки придворного мира. С детства ее не занимали ни парижские робы, ни украшения из самоцветных камней, а, напротив, занимали книжки на иностранных диалектах, рассказы бывалых людей да нескончаемые беседы с любимою своею мамзелью, Марьей Штауден. Девушка не любила выездов и только, против желания своего, поддерживала редкими визитами с бабушкою, переехавшею в дом Шереметевых, Марьей Ивановной Салтыковой, немощною старухою, прежние связи с родственными домами влиятельного круга. Мирно текла ее девичья жизнь, и не думала она, сколько придется ей испытать горя и скорби.
Наталью Борисовну все любили, кто только знал ее. Трудно было представить наружность более привлекательною и менее поддающеюся описанию. Никакие слова, никакие красноречивые фразы не могут нарисовать того глубокого и вместе с тем симпатичного выражения, которое было разлито во всех движениях, в каждой черте правильного милого личика, в каждом взгляде больших глаз, смотревших спокойно и любовно на все, в грациозном изгибе талии, нежной и женственной.
В первый раз Иван Алексеевич увидел Наталью Борисовну на придворном бале, данном по случаю рождения принца Голштинского, танцуя с нею первый контрданс, и этот несчастный контрданс решил судьбу девушки и его. На Ивана Алексеевича она произвела сильное впечатление, но совсем не такое, какое испытывал он в своих бесчисленных донжуановских подвигах с красавицами. Любил он, как по крайней мере ему казалось, и дочь Миниха, и графиню Ягужинскую, и княгиню Трубецкую, но испытываемое им теперь чувство совсем не то, теперь стало невозможно любить и увлекаться зараз несколькими женщинами. Не один раз Иван Алексеевич в этот вечер подходил к Наталье Борисовне и говорил с нею, но говорил тоже не так, как с другими, а как-то неравно, робко, конфузясь, смущаясь и вдумываясь в свои слова, чего прежде никогда не бывало.
Через несколько дней Марья Ивановна и Наталья Борисовна приехали с визитом к Прасковье Юрьевне. В прежнее время Шереметевы и Долгоруковы виделись часто, но в последние годы, от дряхлости ли бабушки или от несходства характеров девушек, но знакомство почти совсем рушилось. Иван Алексеевич первый увидал из окна подъезжавшую карету Шереметевых и опрометью бросился в парадную гостиную, к крайнему изумлению матери и сестер, не видавших его у себя по нескольку недель.
Утром, в простеньком платье, Наталья Борисовна казалась еще милее. Иван Алексеевич успел перекинуться с нею только немногими незначительными фразами, но зато очень значительно говорили его выразительные, симпатичные глаза, почти не отрывавшиеся от девушки. Наталья Борисовна обращалась к нему ясно, спокойно, с тою ласковою отзывчивостью, которая иногда встречается при первом свидании и которой, наоборот, не бывает часто и при близких отношениях. Прощаясь, Иван Алексеевич просил у бабушки позволения лично представить ей свой решпект.
И действительно, не далее как на другой же день он поехал на Воздвиженку, но просил доложить о себе не Марье Ивановне и Наталье Борисовне – это почему-то показалось ему неловким, – а Петру Борисовичу, визит к которому всесильного любимца, обер-камергера и андреевского кавалера не мог не показаться странным, особенно в то время, когда ранги и отличия имели весьма важное значение. Такой визит, понятно, поднял Петра Борисовича на самую вершину фортуны, он кланялся и изгибался, стараясь выказать почетному гостю свою всенижайшую почтительность.
– Дома ли графиня Наталья Борисовна? – наконец-то решился спросить Иван Алексеевич, опасаясь не увидеть девушку. – Я к ней с поручением от сестры, – добавил он, хотя никакого поручения не было, да и сестры не дали бы никакого поручения ветреному брату.
Молодой граф побежал за сестрою, может быть, догадавшись, чего именно желает влиятельный гость.
Для Натальи Борисовны приезд Ивана Алексеевича, казалось, не был неожиданностью; она будто ждала его, как это видно было и по более тщательной прическе, и по робе именно того цвета, какой более шел к ней, и того покроя, который обрисовывал ее стройную талию.
– Я был в отчаянии не видать вас, графиня, – встретил молодой человек Наталью Борисовну, едва прикасаясь к ее руке.
– Боялись не исполнить поручения вашего? – спросила девушка, улыбаясь.
– Какого поручения? – в свою очередь удивился князь.
– Брат мне сказал, князь, будто вы имеете что-то от вашей сестры.
– Ах… да… я сказал… но простите, графиня, никакого поручения у меня нет… выдумал я, боясь, что вас не увижу, что вы не захотите меня видеть…
– Почему же бы я вас не захотела видеть, князь?
– Потому… потому… графиня… что у меня такая дурная слава… что по-настоящему каждой женщине следовало бы бежать от меня, как от какой-то заразы, – с отчаянием в голосе выговорил Иван Алексеевич.
– Полноте, князь, кто говорит о себе так дурно, тот не может быть заразою. – И девушка так ясно и доверчиво смотрела в его глаза.
Молодые люди не замечали, как проходили минуты, часы, и проговорили бы они, вероятно, до ночи, если бы появление молодого графа не напомнило им, что для светских приличий визит продолжался слишком долго.
Иван Алексеевич стал ездить на Воздвиженку все чаще и чаще, ранее возвращаться с охоты, а потом перестал и совсем сопровождать государя. Занятые собою, влюбленные не замечали ничего, не замечали, как добрые люди, заботливые к судьбе ближнего, тщательно подмечали все эти визиты и жалели о доброй барышне-графине. Иван Алексеевич и Наталья Борисовна зажили особою жизнью. Для него это было полное перерождение: все, что было в нем благородного, честного, великодушного, все теперь всплыло, заговорило громко и сильно; в невинной девушке он нашел своего ангела-хранителя.
В Наталье Борисовне любовь ничего не изменила, она только олицетворила все те неясные мечты, которые волновались во всем существе, как волнуется электричество в воздухе. Теперь все эти туманные грезы воплотились в дорогой образ, и она прильнула к этому образу.
Соскучившись сидеть одиноким в Москве, зарывшись, как крот, в ворохе бумаг, Андрей Иванович собрался наведать государя в Горенках и лично посмотреть на житье своего царственного воспитанника. Кстати, накопилось немало серьезных вопросов, требовавших неотложного решения, в особенности же заботило вице-канцлера одно дело, о котором он накануне проговорил целый вечер с имперским посланником, графом Вратиславским. Андрей Иванович приехал в Горенки как раз к обеду. Гостей почти никого не было, кроме своего семейного кружка, не было даже и тех молодых людей, которые считались более или менее приближенными государя: Иван Алексеевич сидел в Москве; молодой Бутурлин отослан в армию; Александр Львович Нарышкин выслан в деревню под опалу за дерзостные будто бы слова о государе; Сергей Дмитриевич Голицын, в последнее время особенно понравившийся государю, отправлен посланником. Из посторонних лиц находились только Миллезимо, как нисколько не вредный человек, по мнению Алексея Григорьевича, да еще какой-то незначительный гофюнкер. Тесно и плотно окружившая государя семья Долгоруковых не допускала к нему никого, кто не был посвящен в интересы хозяина.
Обед сервирован был запросто, по-семейному. Подле государя сидели с одной стороны Андрей Иванович как почетный гость, а с другой, по обыкновению, княжна Екатерина, на которую, впрочем, государь, казалось, не обращал особенного внимания. Разговор преимущественно велся об охоте, на которую государь собирался на следующий день.
– Ваше величество можно поздравить с небывалым успехом. Говорят, что вы затравили до четырех тысяч одних зайцев, не говоря уже о пятидесяти лисицах, пяти волках и трех медведях? – спрашивал Андрей Иванович государя.
– Да что такое зайцы… я лучшую дичь затравил, Андрей Иванович, видишь, я везде вожу с собою четырех двуногих собак, – отвечал государь, наклонившись к старому воспитателю, но, однако же, и не так тихо, чтобы нельзя было слышать и другим.
Кто были эти собаки, государь не высказал. Андрей Иванович, казалось, совершенно не понял намека, а постоянно сопровождавшие государя Алексей Григорьевич и Прасковья Юрьевна с двумя дочерьми не имели никакого желания принять этот ответ на свой счет. Вице-канцлер, видимо, остался доволен всем, только высоко поднимались его брови всякий раз, когда государь, не ограничиваясь угощениями соседки, сам не уставал подливать себе вина. К концу обеда государь заметно повеселел, глаза его заблестели, и яркий румянец заиграл на щеках.
– Не хочешь ли с нами на охоту? – спрашивал он старого воспитателя, когда все мужчины после обеда перешли в гостиную и расположились в глубоких креслах перед камином.
– Нет, государь, меня уж увольте… стар становлюсь. Притом же сегодня надобно воротиться в Москву – я и приехал-то по самому нужному делу.
При слове «дело» лицо государя наморщилось.
– Ну, говори, Андрей Иванович, какое дело, вот вместе мы и рассудим… да говори только скорее: тебе некогда, и нам время дорого.
Андрей Иванович покряхтел, понюхал табаку, как делал всегда, когда содержание доклада было щекотливо, и начал несколько издали:
– Известно вам, государь, что в каждом благоустроенном государстве…
– Вот и занесся Андрей Иванович! В благоустроенном ли, не в благоустроенном ли, разве не все равно… ты говори прямо дело… ведь сказал тебе, что время дорого, – с нетерпением перебил его государь.
– Вчера, ваше величество, был у меня граф Вратиславский, по разным дипломатическим кондициям, и, между прочим, высказал желание императора породниться с домом вашего величества.
– Это каким образом? – оживился вдруг государь. – Не сватается ли за принцессу Лизу? Скажи ему, чтобы убирался… И вечно ты, Андрей Иванович, с прожектами!
– Нет, государь, не о цесаревне Лизавете Петровне речь была, а об вас самих.
– Да ведь мы и так, кажется, родственниками приходимся? Какого же еще нужно родства?
– Император желал бы видеть свою родственницу, принцессу Брауншвейг-Бевернскую, за вашим величеством, – наконец высказал разом вице-канцлер.
– В-о-т что! – протянул государь. – А хороша она, Андрей Иванович? Видел портрет? В каких годах?
– Не зная мыслей вашего величества по сей акции, я не осмелился входить с графом ни в какие конверсации.
– И умно сделал, Андрей Иванович. Чаю, какая-нибудь немчура! Навяжешь себе обузу на шею и будешь маяться целый век. Император во все будет ввязываться. Не хочу я немки… То ли дело свои, русские. Если надоест или в противность что сделает… отпустить можно… в монастырь отослать, и никому никакого отчета не давай.
– Позвольте и мне, ваше величество, высказать свое мнение, – вмешался князь Алексей Григорьевич.
– Ну, говори, князь Алексей, какие такие у тебя завелись свои мнения, – разрешил государь, с явным пренебрежением оборотившись к старому Долгорукову.
– Искони веков, – начал князь Алексей Григорьевич, – как ведется наше царство, московские государи всегда женились на своих же подданных, по своему собственному выбору, кого излюбят. И было все хорошо. Своя раба угождает мужу-государю и не ссорит его с другими государями, не было никогда никаких ссор и кляуз. Первый завел новшество о супружестве на чужестранной принцессе покойный император Петр Алексеевич, женив на принцессе Шарлотте сына своего покойного, дай Бог ему царство небесное, родителя вашего, царевича Алексея Петровича, и вышло дело самое несчастное… Царевич всю свою жизнь плакался горькими слезами на свою супругу, и до войны чуть было не доходило… По моему мнению, Москве не след заискивать в чужих землях, когда дома хорошо. Лишние только путы себе.
– Слышишь, как рассуждают умные-то люди. Вот у кого нам, Андрей Иванович, с тобою поучиться, – обратился государь к вице-канцлеру, насмешливо кивая на князя Алексея Григорьевича.
– Препозиции императорского двора заслуживают не такой аттенции, ваше величество, – серьезно и внушительно заговорил Андрей Иванович. – Блаженной памяти ваш дедушка…
– Да что ты пристал ко мне с дедушкой, Андрей Иванович, не любил я его и не хочу жить по его указке, – перебил государь тоном капризного ребенка, не терпевшего нравоучений.
Андрей Иванович замолчал, о предложении австрийского посланника более не заговаривал, но, однако же, и не собирался уезжать; видно было, что он желал что-то высказать, но стеснялся присутствием князя Алексея. Со своей стороны, и князь Алексей Григорьевич не желал оставлять государя наедине с бароном вице-канцлером и почти не отходил от государя. Только на одну минуту, когда князь Долгоруков вышел зачем-то по приказанию государя, Андрей Иванович успел спросить воспитанника:
– Что же, ваше величество, когда соизволите осуществить предсмертное завещание вашей покойной сестрицы?
– Это ты опять все о поездке в Петербург досаждаешь? Сказал тебе, что перееду, так и исполню. Вот только последний раз поохочусь… Сам я теперь желаю уехать, надоело мне здесь и охота прискучила! Почти половину собак раздарил. Только, Андрей Иваныч, не надоедай. Люблю я тебя, а не люблю, когда ты поешь все старые песни.
Вошел князь Алексей Григорьевич, и разговор оборвался. К вечеру вице-канцлер уехал.
«Совсем-таки испортили ребенка, – думал дорогою старый воспитатель, – так испортили, что и поправить, кажется, нельзя. А всему виноват этот Иван… Ох, Иван, Иван… поплатишься ты… Что будет – и предвидеть человеческому разумению невозможно… Одно только хорошо, уедем отсюда… самому наконец наскучило. Рассчитывали сиятельные, да ошиблись – пойдете по той же дорожке, как и светлейший…»
По отъезде барона Андрея Ивановича молодежь собралась в зале и принялась для развлечения государя играть в фанты.
– Чей фант вынется, что тому делать? – спросила, встряхивая узел с фантами, некрасивая девушка, дальняя родственница Долгоруковых, жившая у них для компании дочерям.
– Поцеловать сестру Катю! – бойко решила младшая сестра Анна, подбегая к хранительнице фантов.
Она запустила руку в узел и с торжеством вынула оттуда царский платок. Но вместо того чтоб поторопиться выполнить приятный штраф, государь с неудовольствием отвернулся, встал и вышел в другую комнату. Игра расстроилась, все почувствовали себя неловко, а побледневшая княжна Катерина проводила государя недобрым взглядом.
Весь этот вечер государь был в раздражительном и придирчивом расположении духа – так, по крайней мере, объяснили себе Алексей Григорьевич и Прасковья Юрьевна грубую выходку и беспрерывные насмешки государя над всеми ими. И отчасти они были правы. Как все нервные люди, государь всегда ощущал на себе резкие перемены погоды, может быть, даже в более сильной степени, так как его истощенный организм сделался чрезвычайно восприимчив и чувствителен. Погода же действительно стояла самая отвратительная, способная нагнать сплин на самого неподатливого человека. Глубокая осень со сплошным серым небом, мелким неустанным дождем, сыростью, воем ветра и постоянным хлопаньем ставней невольно нагоняла тоску. Государь рано пошел в свою спальную, и вслед за ним разошлись по своим комнатам гости и хозяева.
Огни потушены. Сонная тишь, и в этой тиши еще громче раздается храп челяди, еще слышнее и отчетливее хлещут дождевые капли по стеклам, заунывнее воет буря в печных трубах и во всех скважинах, жалобнее стучит ночной сторож в разбитую доску. Во всем доме, казалось, все заснули, но вот тихо, почти неслышно скрипнула дверь из комнаты в мезонине, и в полосе света мелькнула белая женская фигура, которая, проскользнув через узкий коридор, спустилась с лестницы, стараясь не выдавать своих шагов непрошеным скрипом. Женщина осторожно подошла к двери одной из комнат для прислужниц. Княжна Катя – это была она – прислушалась и, тихо отворив дверь, вошла в простенькую комнату своей верной фрейлины Аксюты. Посещение, по-видимому, было не в первый раз; Аксюта не удивилась, а, напротив, она будто ждала и тотчас же по входе барышни вышла. Княжна Катя осталась и словно застыла в напряженном ожидании, с широко раскрытыми глазами и вытянутою вперед головкою.
Снова скрипнула и отворилась дверь; на пороге показалась красивая фигура Миллезимо, но княжна не встретила его и как будто даже не замечала.
– Милая моя Катя, что с тобою? – испуганно шептал Миллезимо, обнимая девушку и страстно целуя ее холодные руки и бледное лицо. – Не случилось ли чего?
– Случилось? Да… случилось… Только что же такое случилось?.. Не помню… в голове смутно… больно… ничего не помню…
– Голубка моя, дорогая, испугалась?.. Да посмотри же на меня… – ласкал и успокаивал девушку Миллезимо.
– Теперь все вспомнила… все вспомнила… Слушай! – И княжна порывисто высвободилась из его объятий. – Мы видимся в последний раз, понял ли ты меня… в последний… последний раз! – И Катерина Алексеевна сама привлекла любимого человека, страстно обняла его и с каким-то самозабвением прильнула к нему.
– Как в последний? Отчего, Катя, в последний? – растерянно и пугливо спрашивал Миллезимо. – Разве узнали?
– Не бойся, не узнали, никто не узнал… Да я сама не хочу… в последний раз ты мой… а там… там…
– Да что ж там-то, Катя?
– Скажи, милый, хороша я собой? – горячо целуя, шептала Катерина Алексеевна точно в бреду.
– Ты хороша ли собою? Да кто ж лучше тебя на свете? Ты гордая, неприступная красавица, ты царица…
– Ха, ха, ха! Царица! Вот и угадал, сам угадал… – истерически смеялась и плакала девушка.
– Как угадал, милая, что такое?
– Нечего говорить… сам сказал, что я царица… и буду царицею!
– Какою царицею, Катя? – все больше и больше путался Миллезимо.
– Русскою царицею… императрицею…
– Что ты шутишь, Катя, ведь государь – ребенок.
– Какой ребенок, когда он два года назад был женихом Меншиковой!
– Катя, Катя, милая, перестань шутить, не мучь меня!
– Не мучь? А разве я не мучусь… Разве мне не больно пачкаться грязью, продаваться?..
– Да кому ж продаваться, Катя? Как я заметил, государь к тебе равнодушен… – и сомневался и не доверял Миллезимо.
– Ты называл же меня красавицею, а разве можно красавицею не увлечься?
– Увлечься не значит любить, дорогая моя… Разве государь тебе сделал предложение? Когда же?
– Нет, не делал.
– Так как же это? – совсем растерялся Миллезимо.
– Отец и мать решили и все устроили… Разве меня спрашивали? Распорядились мною, как вещью… не спросили, люблю его или нет. Полную инструкцию сейчас дали, как вести себя… Сначала буду любовницею… а потом царицею. Поверил теперь? Что же ты молчишь, на что решился?
– А? Да как мне решать… с какого права?
– С какого права! Разве я не люблю тебя, разве ты не клялся мне в вечной любви?
– Клялся, Катя, и теперь клянусь… люблю тебя… люблю так, как и высказать не могу… Да что же я могу сделать?
– Ты мужчина, и спрашиваешь меня?! Если бы я была на твоем месте, я бы не спросила… я бы сумела найти средства… Увези меня… Я с тобою убегу, куда ты хочешь.
– Нельзя, Катя… Куда мы убежим? Нас везде отыщут… Что скажет брат Вратиславский?
Княжна порывисто, долгим и страстным поцелуем прильнула снова к любимому человеку, но потом вдруг, оторвавшись и прошептав: «Прощай!» – убежала.
VIII
Ничтожному острожку за тысячу с лишком верст к северу от Тобольска, в снежной равнине, судьба назначила быть усыпальницею самых видных русских людей первой половины XVIII столетия. Трое государственных деятелей, управлявших почти неограниченно империею, располагавших судьбами миллионов людей, обладавших полным земным могуществом, сложили там свои головы на вечный покой, унося с собою свои последние думы.
Сурова и скудна природа Березова1. Более семи месяцев покрывают землю глубокие снега, окутывая беспредельную окрестность однообразным мертвенным саваном. В половине мая только начинается оживление – но что это за оживление? Кругом болота и тундры с однообразною флорою, изредка прорезываемые лесными чащами из красного леса сосны, ели и мелкорослой березы; зато вдоволь разного пушного зверя. Березов, теперь жалкий уездный городок, был в то время такою же незначительною кучкою хижин первобытной постройки, с острожком да одною или двумя деревянными церквами.
Население Березова составляли семьи остяков и самоедов, занимавшихся исключительно звериным промыслом; земледелия тогда не было, только русские поселенцы стали вводить огородничество. Да и какое же могло быть земледелие, когда зимою сорокапятиградусный мороз захватывает дыхание, земля и лед трескаются, птицы падают мертвыми, а летом беспрерывные перемены – то сырость и туман, то нескончаемые ветры.
Истомленною и измученною прибыла в августе 1726 года в Березов семья нерушимого статуя Александра Меншикова: он сам, светлейший князь, тринадцатилетний сын Александр и дочери, четырнадцатилетняя Александра и шестнадцатилетняя обрученная невеста Марья. Несчастная Дарья Михайловна не доехала до места ссылки – она умерла на руках семьи, окруженная солдатами и крестьянами, три месяца назад на пути в казанской деревне Услон на берегу Волги, где и погребена у самой церкви: не выдержал ее болезненный организм дороги в простой телеге.
По прибытии ссыльную семью поместили в городском остроге, жалком деревянном строении, низком, длинном, с узкими полукруглыми вверху окнами, до того узкими, что через них и среди дня едва проникал Божий свет. Мрачно смотрела эта тюрьма, обнесенная высоким тыном из толстых стоячих бревен, холодная и неудобная для жилья, недавно переделанная туземным усердием из здания упраздненного мужского Воскресенского монастыря, из которого монахов за три года перед тем перевели в другой монастырь. Следы этого острога, в двадцати саженях на запад от каменной Богородице-Рождественской церкви на берегу реки Сосьвы, сохранились и до настоящего времени. Весь острог, назначенный для помещения ссыльной семьи, состоял только из четырех комнат, из которых одну заняли сам Данилыч с сыном, другую – дочери, третью – прислуга, а четвертую определили в кладовую для съестных припасов.
Падение с высоты совершенно изменило характер Александра Даниловича. Из прежнего надменного, не терпевшего ни малейшего противоречия вельможи, он сделался добрым, кротким и религиозным. Одно только оставалось в нем прежнее: эта ненасытная жажда деятельности. Как и прежде, князь не мог оставаться ни одной минуты без дела. Вскоре после прибытия он задумал выстроить церковь и исполнил это намерение с тою же железною энергиею, какою отличался в фаворе: он сам копал землю, носил камни, сам с топором в руках обтесывал бревна, прилаживал венцы – не пропали даром уроки великого преобразователя. А потом, когда церковь была выстроена, он неуклонно всегда исполнял в ней обязанности сторожа, старосты и дьячка, ставил свечи, читал Апостола, звонил в колокола, чистил пол в церкви и пел на клиросе. Немало было тоже работы и дома, надобно было заняться прикосами, купить или заготовить впрок, а по вечерам сам читал Священное Писание, или заставлял читать детей, или же диктовал им некоторые воспоминания из своей жизни.
В первое время строго смотрели за ссыльными; им не позволялось выходить за острожный палисад, но по мере того как надзираемые и надзирающие осваивались друг с другом, когда надзирающие убедились, что бежать некуда, что и намерения такого не может быть, присмотр стал постепенно слабеть, и ссыльным стали позволять выходить из ограды, гулять по берегу Сосьвы, принимать гостей – кого-нибудь из обывателей; запрещалось только ходить по городу. Одним из самых частых посетителей Меншиковых был тамошний мещанин Матвей Егоров Бажанов, коренастый малый лет около сорока, простодушный, здоровый, ретивый работник, плотник, столяр и слесарь, способный на всякие работы. Бажанов считался главным помощником Александра Даниловича по постройке церкви и часто, почти каждый праздник, бывал в остроге послушать назидательного чтения и поговорить о любопытных приключениях. Отрадно было и самому светлейшему князю передавать наивному собеседнику прошлое, вспоминать самому и, не раз он говаривал Матвею Егоровичу:
– Вот ты сидишь со мною рядом, а прежде наши вельможи, иностранные принцы и князья платили деньги за то, чтобы попасть ко мне во дворец, и каждое слово мое считали особою милостью. Теперь же самые дорогие для меня гости – неимущие.
Не обманывал и не обманывался Александр Данилович. Под сибирскими снегами он узнал истинную цену мирской славы, открывшимся сердцем понял высокое учение Христа и не лицемерил, когда почти постоянно шептал:
– Благо ми Господи, яко смирил мя еси!
И Александр Данилович действительно не жалел о прошлом фаворе, так он нравственно вырос, вырос до той высоты, до которой он никогда бы не достиг около престола, вырос в тот момент, когда с сердечною простотою высказал сидевшему рядом с ним мещанину Бажанову:
– Теперь мне смерть не страшна, а как боялся я ее на высоте величия!
Даже по наружности Александр Данилович поздоровел, видимо пополнел от физических трудов, добрые глаза смотрели бодрее, отпущенная широкая борода придавала мужественный вид; но это только казалось. В действительности же та болезнь, которою он страдал в величии, от которой ломило грудь, изливалась кровь и от которой он падал без чувств, незаметно, но постепенно продолжала свое разрушительное дело.
Единственное темное облачко, которое пробегало порою по светлому облику Данилыча, – облачко о судьбе своих детей, но сами дети не давали никакого повода печалиться о них; все они казались веселыми, покойными и счастливыми. Сын, бойкий мальчик, деятельно помогал отцу, учился и скоро привык к новой жизни; младшая дочь во всем брала пример со старшей, а старшая Маша, бывшая обрученная невеста государева, не только нисколько не жалела о прошлом, а, напротив, радовалась, что это прошлое минуло навсегда. Немного она еще жила, но много испытала. Как цветок, выращенный в теплице, она в тлетворной среде развилась быстро, и когда ее сверстницы еще учились или переходили от кукол к грамоте, она уже любила, и любила глубоко, своего милого доброго жениха Сапегу. Жизнь ей тогда улыбалась, но вот вдруг, в самый расцвет счастья, нежданно-негаданно налетело горе. Императрица Екатерина отняла от нее жениха, назначив его своей племяннице, и суровый отец приказал быть невестою, которой все завидовали. Ни она не любила жениха, ни государь-жених не любил ее, а тут каждый день перед глазами любимый человек – жених, а потом и муж другой. Изнылось, истомилось ее сердце от постоянного принуждения, от постоянной борьбы с собою – и почувствовала она себя легче, когда очутилась в новой жизни. Нелегко и здесь! Во всем лишения, недостатки, но нет, по крайней мере, постоянного мучения; неустанные заботы об отце, о брате и сестре, хлопоты по хозяйству, к которому надобно было приучаться, занимали все время, умиряли и успокаивали волнения. Порою, правда, память рисовала ей минувшее счастье, вспоминала она о балах, где за нею так все ухаживали, льстили ей, уверяли в любви и преданности, многие казались ей тогда такими преданными, такими любящими. Вспоминала она, например, обожание, какое-то благоговение перед нею князя Федора Васильевича Долгорукова, но вслед за тем с горечью чувствовала, что все это было поддельное, лживое, и она успокаивалась; мало-помалу вытеснялся из сердца и образ жениха Сапеги.
И чем более проходило время, чем ближе арестанты осваивались со всеми окружающими их простыми людьми, тем больше они находили сами в себе силу, мир и спокойствие.
Жизнь текла однообразным, определенным порядком. Даже когда работы по устройству церкви кончились и у Александра Даниловича оказывалось более свободного времени, даже и тогда ни разу жалоба или сожаление о прошлом не мелькнули у него в голове. Первую острую боль победил физический труд, а потом религиозное чувство расширило иное миросозерцание. Александр Данилович как будто даже полюбил дикую местность, яснее она говорила ему о назначении человека. Полюбил он пустынный берег Сосьвы, куда уходил после вечерней церковной службы, усаживался на излюбленном своем местечке и, смотря на быстро струившуюся реку, которой воды журчали и неслись куда-то вдаль, задумывался и просиживал там неподвижно целые часы до тех пор, пока не вызовет его домой ласковый голос бывшей обрученной невесты.
Прошел год, и ссыльные стали пользоваться значительно большею свободою. Раз, пользуясь хорошею погодою, в конце августа Марья Александровна вышла гулять по знакомой укатанной береговой дорожке и отошла довольно далеко. Исчезли из виду острог и городские лачуги, только еще церковный крест, освещенный последними лучами заходящего солнца, блестел над ближним пригорком. Кругом, в пустынной равнине, мертвая тишь: ни голоса человеческого, никакого следа его неугомонной деятельности. Марье Александровне по душе это безлюдье, могилою сказывается оно, и самой ей становится так же спокойно, как спокойно лежать в могиле.
Но вот где-то простучала как будто телега, затем все смолкло, потом через несколько минут стук повторился ближе, еще ближе, и из-за поворота дороги показался экипаж местной конструкции. В той будничной, серенькой жизни, какую вели ссыльные, каждое самое мелочное обстоятельство составляет событие, к которому невольно приковывается внимание. Марья Александровна с любопытством вглядывается: на облучке остяк, новый их знакомец, иногда доставляющий им припасы, но кто же другой? По одежде не то мещанин, не то крестьянин. Незнакомец, как видно, торопится, он то оглядывается кругом, то пристально смотрит вдаль, наклоняется к туземному вознице и нетерпеливо дергает его за рукав. Телега равняется с девушкою.
– Стой! – кричит незнакомец и, моментально соскочив с телеги, становится прямо перед удивленною и испуганною Марьею Александровною. – Княжна Марья Александровна! – едва выговаривает от волнения незнакомец, задыхаясь и не отрывая от нее глаз.
Странно прозвучал титул в ушах княжны, отвыкшей уже от почестей, почти забывшей их.
– Княжна Марья Александровна, не узнаешь меня? – переспрашивал проезжий.
– Я не знаю тебя… Кто ты? – спрашивает и княжна.
– Вглядись хорошенько, может, и припомнишь.
Но как ни вглядывалась, как ни припоминала девушка, но она никак не могла признать в этом запыленном, в сером зипуне, в обросшем бородою проезжем никого из старых знакомых. Да и как бы эти старые знакомцы могли попасть сюда?
– Никого… – решительно отказывается княжна.
– Вспомни… не был ли у тебя, когда ты была в величии, преданный тебе человек, который тогда не высказывал своих чувств, потому… что тогда ты не выслушала бы… любила другого… – отрывисто напоминал серый зипун.
– Да… ты… но это не может быть… – вспоминала Марья Александровна. – Ты похож…
– Да на кого ж? – нетерпеливо допрашивал проезжий.
– Ты схож… да это не может быть!
– На князя Федора Васильевича, – наконец высказал странный человек.
– Да… правда… Так ты князь Федор Васильевич? Но как ты здесь? Зачем? В опале? Кто же там теперь? – закидывала вопросами девушка, с недоумением оглядывая окладистую бороду и запыленный зипун.
– Не в опале я, милая княжна, по-прежнему состою обер-егермейстером при государе, по-прежнему в милости, и там… ничего не переменилось.
– Так как же это? – еще более путалась княжна.
– Пойдем к вам… дорогою расскажу.
И рассказал Федор Васильевич просто, без витиеватых фраз, как он после отъезда Меншиковых разума лишился, как щунял его отец Василий Лукич, как потом махнул на него рукою, и как наконец он отпросился у государя будто по делам в вотчину, а сам сочинил себе паспорт под именем мещанина Федора Игнатьева и приехал сюда. Федор Васильевич не сказал зачем, да этого и не нужно было – княжна давно все поняла, и давно уже, с самого начала рассказа, румянец заиграл на ее похуделых щеках, а с густых длинных ресниц скатывались слезинки.
– Пойдем к батюшке, и скажи ему все… – решила девушка, когда князь Долгоруков кончил свой рассказ.
– А ты что скажешь?
– А я?.. Можешь и сам догадаться… – тихо проговорила счастливым голосом Марья Александровна.
Подошли к острогу; часовые затруднились было пропустить незнакомого зипунщика, но согласились по усиленной просьбе княжны, которую любили все – и караульные и обыватели.
Федор Васильевич повторил рассказ свой Александру Даниловичу и по окончании упал перед ним на колени.
– Хотя ты из Долгоруковых… из врагов моих, и прежде бы я не согласился, но теперь у меня врагов больше нет, все мы нищие духом, и если Маша согласна, то с радостью благословлю, – решил Александр Данилович, поднимая Федора Васильевича и трижды любовно целуя его.
Мещанин Федор Игнатьев для своего жилья нанял светлицу у старого отца Прохора, священника церкви, выстроенной Меншиковым, но бывал дома только по вечерам и ночам, дни же все проводил в остроге у ссыльного семейства. Скоро к новому поселенцу приехало несколько подвод с какими-то тюками, тщательно запакованными. «Видно, в торговлю пойдет», – порешили местные обыватели; поговорили, поговорили да и замолкли, привыкнув к новому лицу и не заметив с его стороны никакого утеснения. Не обращало на него внимание и местное начальство с приставленными караульными, да как им и не быть снисходительными, когда Федор Игнатьев явился таким тороватым: кому подарит шубу, кому материи, кому какую ценную вещь.
Скоро совершилось и венчание князя Федора Васильевича, или Федора Игнатьева, с ссыльною княжною Марьею Александровною в той же новой меншиковской церкви, в тайности, без свидетелей и без записки в метрические книги, которых, впрочем, в те времена не велось и в любой церкви внутри государства. Никто из посторонних не знал об этом браке: начальство, может быть, и догадывалось об нем, но, вероятно, считая его делом домашним, не видело в том никакой провинности. Все видели, как молодой приезжий каждый день гулял с девушкой по любимой ими береговой дорожке, оба такие красивые, он в новом кафтане из тонкого сукна, а она, такая веселая, в черном бархатном платье, и оба они казались до того счастливыми, что ни у кого не достало злобы на донос.
Прошел еще год. Семья Меншиковых наслаждалась тихим счастьем, не замечая времени, не имея никаких сведений о придворных конъюнктурах и не желая знать об них. Александр Данилович, казалось, совершенно успокоился. Прежде по временам его мучила мысль о будущности своей семьи, что будет с его малолетними детьми, когда его не станет, но теперь у них явился защитник надежный, который любит их, сумеет оградить, в случае напасти, и здесь и там, если переменятся обстоятельства, и они снова воротятся. Но вместе со спокойствием, как замечали дети, он стал чувствовать себя хуже. Появились прежние обмороки и кровохарканье, стало усиливаться стеснение в груди – раз даже его принесли без чувств с его обычного местечка, где он любил оставаться один.
С наступлением зимы болезненные явления увеличились до того, что с каждым днем можно было ожидать роковой развязки, которую и ожидал больной со спокойствием, с ясностью древнего христианина. 12 ноября Александр Данилович умер тихо, без всяких страданий, благословляя и утешая плачущих детей. На третий день его похоронили, согласно с его желанием, близ церкви, на любимом его месте на берегу Сосьвы.
Теперь нет и следов могилы светлейшего… Ее давно снесли воды Сосьвы, отмывавшей в этом месте каждый год выдающиеся части берега.
По смерти нерушимого статуя надзор за ссыльным семейством значительно уменьшился – не стало главного виновника и опасного человека. Заключенным позволили беспрепятственно выходить во всякое время, и даже местный воевода подал надежду, что, вероятно, скоро разрешится им жительство в городе на вольной квартире. Впрочем, данным позволением широко воспользовался только один сын Александра Даниловича, с утра до вечера резвившийся на свободе; Марья Александровна Долгорукова почти не в силах была выходить от тяжелой беременности, приближавшейся к концу.
Огорчение от смерти отца расстроило до крайней степени истощенный организм молодой женщины, здоровье которой не могло не пошатнуться от непривычного сурового климата. По несчастью, к общим неблагоприятным условиям присоединилась еще роковая неосторожность. Возвращаясь из отцовской церкви после панихиды в сороковой день, Марья Александровна оступилась на крыльце и упала, ударившись о ступени. Во весь этот день появлялись и продолжались опасные признаки, в следующий произошли преждевременные роды мертворожденных двойничек.
Недолго продолжалось счастье Федора Васильевича. На другой же день после родов скончалась Марья Александровна от родильной лихорадки или от потери всех жизненных сил – это, по неимению в Березове ученых акушерок и медиков, осталось тайною. И опустили молодую женщину в глубокую могилу в негостеприимной земле, а на гробе ее поставили гробики двух ее младенцев. Не дожила бедная обрученная невеста до лучшего времени, а оно было близко.
Куда девался после смерти жены князь Федор Васильевич – никому не известно.
IX
– В лице Кати, государь, обесчещена не она одна, а весь род наш долгоруковский, древний род из Рюриковичей, нередкий свойственник московских царей. Не меня одного убьет этот позор, а всех нас – и князя Василья Лукича, и фельдмаршала князя Василья Владимировича, которого оскорбление отзовется и на всем войске… – плакался князь Алексей Григорьевич утром 13 ноября в спальне государя, один на один.
Смущенный государь-отрок не находил слов к оправданию. Он сам не понимал, каким образом могло случиться такое дело. Княжну Екатерину он видал каждый день, каждый почти час, но никогда к ней ничего не чувствовал; видел, что она хорошенькая, но никогда не было никакого желания с нею сблизиться – пригляделась. Смутно вспоминает он вчерашний вечер, вспоминает, что пил немного больше обыкновенного, что ощутил в себе какое-то волнение, словно все в нем дрожало; помнит он, как все разошлись по спальням, все уснули, а ему приходилось проходить в свою комнату через гостиную. В этой-то комнате он и встретил девушку, и показалась она ему почему-то очень хорошенькою и обольстительною; он подошел к ней спросить о чем-то, взглянул в ее влажные, такие манящие глаза, обнял ее, поцеловал… а потом не помнит, что было… А затем вдруг откуда-то, словно из земли, вырос отец.
– От любви, государь, к вам моя дочь пала и пожертвовала для вас собою. По рыцарской чести, коею моделью ваше царское величество, взыщите отдавшуюся вам девушку, как неоднократно взыскивались из нашего дома и не для покрытия позора, – продолжал князь Алексей, выдавливая слезы из усиленно моргавших глаз.
– Полно хныкать, князь Алексей, ну я виноват… завлек девушку, так сумею и поправить, – смущенно оправдывался государь.
– Так ваше величество изволите вступить в брак с княжною Екатериною… по примеру славных предков? – умиленно допытывался князь.
– Кончено, вступлю, – подтвердил государь, желая как можно скорее отделаться от докучливых упреков.
– Соизволите разрешить учинить надлежащие распоряжения, ваше величество? – продолжал спрашивать князь, видимо желавший заручиться более продолжительным словом.
– Делай, как знаешь. Сказал, так от своего слова не отрекусь.
Князь Алексей Григорьевич бросился целовать руки государя, а потом побежал обрадовать радостною весточкою княгиню Прасковью Юрьевну и дочь.
Со следующего же дня женский персонал многочисленных родичей Долгоруковых принялся готовиться к свадьбе. Хотя о предложении государя и не было еще официально объявлено, но по усиленным семейным хлопотам, по разным приготовлениям в московском государевом дворце все стали догадываться о предстоящей свадьбе. Много толков и пересудов ходило по городу: князь Алексей Григорьевич не пользовался общим расположением, и сплетням завистников не было конца. Не только лица других фамилий, но даже и самые близкие люди нисколько не радовались родству с государем, а следовательно, возвеличению князя Алексея Григорьевича.
– Хитришь ты, брат Алексей, – с обычною своею прямотою высказал Алексею Григорьевичу фельдмаршал Василий Владимирович на объявление того о сватовстве.
– Никакой хитрости, фельдмаршал, тут с моей стороны не было. Сам я заметил, как молодые люди полюбили друг друга, – не запинаясь лгал будущий государев тесть.
– То-то и видно, что полюбились! Как сядут рядом, словно двуглавый орел, смотрят врознь, – заметил фельдмаршал.
Кто, кажется, ближе брата родного, но и тот не показал большой радости. Сестру поздравил холодно, сдержанно, зато и сестра отвечала брату так же. Чего бы, кажется, ему-то завидовать! Мало того, что холодным, Иван Алексеевич выказал себя явно недоброжелательным. Когда стали готовиться к свадьбе, Прасковья Юрьевна отводит сына в сторону и говорит ему:
– Навел бы ты государя одарить невесту-то царским подарком. Вон лежат попусту бриллианты покойной Натальи Алексеевны. Ему они не нужны, а девушке лестно. Государь тебя послушает.
Всякий другой брат, если бы сам не догадался, то уже, наверное, сейчас бы согласился, а Иван Алексеевич – хорош родич – наотрез отказал:
– Не пойду просить государя об этом, знаю, как после покойной ему каждая вещь ее дорога. – Да потом вдруг и бухнул: – Мало еще вам, что совсем государя обобрали, вы и душу-то его готовы обобрать.
Больше всех радовался господин вице-канцлер барон Андрей Иванович и не брал на себя никакой личины, когда, выслушав официальное извещение своего коллеги, он с сияющим от радости лицом его поздравил. Да и как ему, оракулу, было не радоваться, когда он знал, что этой свадьбе не состояться, а между тем скорая развязка вырвет наконец ребенка из тлетворной среды.
Меткое замечание фельдмаршала о двуглавом орле глубоко врезалось в голову Алексея Григорьевича, поселив опасения и побудив к лихорадочной деятельности. Сам он яснее всех видел, как жених и невеста холодны друг к другу, знал, сколько труда он сам положил уломать дочь свою, которая и сама немалой гордости, сколько труда и неприятности стоило ему отвадить последними днями этого офицеришку-мотышку Миллезимо, на которого он прежде не обращал вовсе внимания и на которого теперь вдруг вспало какое-то подозрение. Уломалось наконец все, а как на самой-то вершине разрыв? «Казалось бы, обеспечил себя хорошо, – постоянно думалось князю Алексею Григорьевичу, – внушал немало, что царское слово переменно не бывает, да разве можно оберечься от каждого слова завистников, от каждой случайности». И Алексей Григорьевич стал еще более торопить приготовлениями, еще настойчивее внушать государю, что необходимо поспешить торжественным объявлением, которое обелит невесту и защитит от всяких сплетен.
Государь легко согласился ускорить все церемонии, если они неизбежны, – всегда эти церемонии казались ему неприятными, а в последнее время все так опротивело! Порою думалось, не будет ли лучше, когда переменится жизнь, да переменится ли она?
Через два дня государь и Долгоруковы переехали из Горенок в Москву и разместились: государь в слободском Лефортовском дворце, Долгоруковы – в Головинском, а вслед за тем были разосланы повестки ко всему дипломатическому корпусу, ко всем сановникам, генералитету и знатному духовенству: собираться 19 ноября во дворец для выслушивания воли государя, о которой, впрочем, в городе стало известно всем и каждому.
В этом торжественном собрании государь объявил о своем намерении вступить в брак с княжной Екатериной Алексеевной Долгоруковой. Все казались осчастливленными таким выбором, все с такими сияющими лицами спешили поздравить невестину родню и насказать ей самых радужных пожеланий.
С таким же объявлением накануне государь ездил к бабушке в Новодевичий монастырь. Бабушка тупо выслушала слова внука. В ней двухлетнее бесплодное напряженное ожидание почестей и власти наконец уступило место полной апатии, и она в последнее время вдалась в самое точное и мелочное исполнение монашеских уставов.
– Ну что же, хорошее дело задумал, внучек, лучше, чем рыскать по чужим гнездам, – холодно выговорила она, перебирая четки и оканчивая заданное число молитв.
Да и молодой внук тоже не выказал особенной нежности, а, напротив, вслед же за объявлением стал собираться уезжать.
– Княжна Екатерина, говоришь ты, внучек, помню, как же, помню, хорошенькая такая… Только сам ли выбрал? – вдруг с каким-то оживлением спросила государыня-инокиня.
– Сам, бабушка, – несколько закрасневшись, отвечал внук.
– То-то сам, на себя плакаться некому, а то, как выберет роденька, потом живи век да горюй… Долгоруковы семья почтенная, верная нам. Покойница матушка Наталья Кирилловна не раз говаривала со мною об этой семье и хвалила.
День именин княжны Екатерины прошел тихо, без торжества. В семье Долгоруковых и в государевом дворце все готовилось к торжественному обручению, которое было назначено на 30 ноября. Приезжали только утром все высокие персоны государства и иностранные посланники с обычными поздравлениями, да приезжал воспитатель государя Андрей Иванович, насказавший столько кудреватых любезностей как милой невесте, так и отцу ее, что Алексей Григорьевич от избытка чувствительности принимался несколько раз благодарить, обнимать и крепко целовать товарища и вице-канцлера.
Настал наконец торжественный день обручения, которое должно было совершиться по нарочно составленному князем Василием Лукичем церемониалу, с целью придать событию как можно более важности и торжественности. В обоих дворцах многочисленные собрания: в Лефортовском, у государя, в назначенный час кроме особ царской фамилии, цесаревны Елизаветы, мекленбургской герцогини Екатерины Ивановны с десятилетнею дочерью Анною Леопольдовною и бабушки – инокини Елены, съехались в сверкавших золотом, серебром и камнями кафтанах все первые государственные сановники, члены Верховного тайного совета, генералитет, высокое духовенство, все знатные московские персоны и, наконец, иностранные министры с семьями. В то же время в Головинском дворце собралась немалая свита всех родственников, свойственников и ближних людей Долгоруковых, определенных окружать и сопровождать невесту. В числе подруг государыни-невесты находилась и графиня Наталья Борисовна Шереметева.
Когда в Лефортовском дворце к назначенному часу собралось большинство приглашенных, отправился за невестою сам светлейший князь Иван Алексеевич1 как старший обер-камергер с поездом императорских карет, в которых разместились господа камергеры по старшинству. В настоящем торжестве Иван Алексеевич считался не братом невесты, а ближним человеком государя. В этом качестве он по приезде и объявил официальным тоном государевой невесте, что все готово и что государь изволит ожидать свою нареченную избранницу.
Громадный поезд двинулся из Головинского дворца в Лефортовский через Салтыков мост на Яузе. В первой карете ехал Иван Алексеевич, за которым следовали кареты камергеров свиты государя. За царскою свитою торжественно подвигалась карета невесты со стоявшими на передней части императорскими пажами и окруженная верховыми камер-юнкерами, гофкурьерами и пешими гренадерами, скороходами и гайдуками. Церемониальный поезд замыкался каретами свиты невесты, в которых помещались особы по близости родства и общественной важности. Когда первая карета подъехала к подъезду Лефортовского дворца, князь Иван Алексеевич вышел и, стоя на крыльце, ожидал приезда невесты; а когда она изволила выйти из кареты, принял ее под руку и ввел во дворец при громе заигравшего оркестра.
Между тем в главной зале дворца все было приготовлено сообразно этикету. В передней части залы, посередине, на шелковом персидском ковре стоял четырехугольный стол, покрытый дорогою тканью, на котором находились ковчег с крестом и золотые тарелочки с обручальными кольцами. По обеим сторонам стола были приготовлены места для участвующих. На левой стороне стояли два кресла для бабушки государя и невесты, а рядом с ними стулья для Елизаветы Петровны и мекленбургской герцогини; позади и в нескольких рядах стояли стулья для значительных дам, сопровождавших невесту. На правой стороне находилось одно богатое кресло для государя.
Обряд обручения совершал знаменитый вития и пиит того времени новгородский архиепископ Феофан Прокопович.
Над обручающимися во время совершения обряда господа генерал-майоры держали балдахин из серебряной парчи, вышитой золотыми узорами.
По окончании обручения жених и невеста сели на кресла рядом, и при громе труб, литавр и пушечной пальбы начались обычные торжественные поздравления, начавшиеся с близких родных и высокопоставленных лиц. Одним из первых подошел дядя – фельдмаршал, князь Василий Владимирович Долгоруков, с характеристическою речью, высказанною им громко, отрывисто и резко, как он обыкновенно говаривал:
– Вчера я был твой дядя, нынче ты мне государыня, а я тебе верный слуга. Даю тебе совет: смотри на своего августейшего супруга не как на супруга только, но как на государя и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твой род многочислен и, слава богу, очень богат, члены его занимают хорошие места, и если тебя станут просить о милости для кого-нибудь, хлопочи не в пользу имени, а в пользу заслуг и добродетели. Это будет настоящее средство быть счастливою, чего я желаю.
Каждый из поздравлявших целовал руку государевой невесты. Катерина Алексеевна как во все время обручения, так и теперь, принимая униженные поздравления, казалась бледною и убитою; с опущенною головою она походила на подневольную жертву, а не на счастливую невесту. Безучастно и машинально подавая руку каждому подходившему, она по странному процессу мысли унеслась в совершенно противоположную сферу, от ярко блестевшей и наполненной толпами придворных залы к убогой полутемной каморке, к последнему свиданию, к милому человеку… и вот вдруг этот дорогой образ перед ней живой – подошел Миллезимо. Она сделала невольное движение, подалась вперед, рука поднялась к нему и в то же мгновение опустилась снова: княжна очнулась, встретив яростный взгляд Алексея Григорьевича. Как ни быстро произошло все это, но все заметили, что хотели заметить, что внимательно следили, когда подходил к целованию руки член имперского посольства красивый Миллезимо, о взаимной любви которого с княжною уже ходили по городу темные слухи. Заметил странное движение невесты и государь, но удержался, не выдав своего неудовольствия ничем, кроме яркой краски, вспыхнувшей на всем лице. Едва ли не в первый раз он сделал над собою тяжелое усилие для сохранения величия царского достоинства.
Между тем церемония не прерывалась. Следующий за Миллезимо член посольства ловко поспешил отдалить товарища от невесты и занять его место. Когда же Миллезимо отошел, его окружили и по распоряжению графа Вратиславского увезли домой из опасения какой-нибудь дерзкой выходки. «Наконец-то мучения кончились», – думает княжна-невеста, когда все присутствующие выполнили обряд и когда она встала вместе с женихом. Но не кончились, а только еще начинались ее муки. Вслед за государем и его невестою все гости потянулись в следующий апартамент, а перед дворцом загорелся блестящий фейерверк.
X
По церемониалу, торжество закончилось балом, в котором участвовали все приглашенные. Танцы, согласно с этикетом, открыли жених и невеста. Государь-отрок любил танцы и всегда участвовал в них охотно, но с последней зимы он по случаю частых охотничьих переездов почти не пользовался этим удовольствием. Ему нравились в танцах грациозные движения дам, их обнаженные плечи, одушевленный говор, тихие, никому другому не слышимые речи, гром музыки, покрывавший эти речи, ему хотелось жизни, хотелось испытывать наслаждения. Но теперь нет прежнего оживления. Государь с невестою почти не говорил ни слова; он казался утомленным, а она точно преступницею под плахою. Оба они представляли собою, по едкому замечанию Василия Владимировича, двуглавого орла.
Алексей Григорьевич и Василий Лукич стоят рядом за танцующими и меняются наблюдениями. От обоих, конечно, не скрылись странные отношения обрученных.
– Видишь? – шепотом спросил князь Алексей.
– Всем достаточно видно, – лаконически отвечал князь Василий.
– Слюбятся после свадьбы, – утвердительно заметил первый.
– А позволь узнать, когда будет она, свадьба-то? – спросил князь Василий, насмешливо улыбаясь.
– Вот это-то и заботит меня, – еще тише, почти на ухо, зашептал Алексей Григорьевич. – Нельзя откладывать… сам видишь…
– Нельзя, – подтвердил дипломат, – так как же?
– Да так… думаю свадьбу отпраздновать на этой неделе.
– Постом-то? – удивился князь Василий.
– Что ж, что постом, – не затруднился Алексей Григорьевич, – можно тихонько, а потом объявить.
– Какая же это будет свадьба? Смех один… Кто признает такой брак законным? Ты разве один только…
Алексей Григорьевич понял, что брат сказал правду, и решил свадьбу отложить до конца поста и рождественских праздников, назначить тотчас же после Крещения, а до тех пор неусыпно держать государя в надзоре, в чем сильно рассчитывал на Андрея Ивановича.
На противоположной стороне, против Долгоруковых, стояла группа дипломатов, любовавшихся танцами; между ними, в первом ряду, сам вице-канцлер, а по обеим сторонам граф Вратиславский и герцог де Лириа. Андрей Иванович олицетворял собою избыток счастья, даже сама Марфа Ивановна едва ли бы подметила в лице его и речах фальшивую черточку. Дипломаты беседовали, разумеется, о настоящих событиях.
– Какая счастливая и достойная пара, как они любят друг друга, – говорил граф Вратиславский, указывая глазами на сидевших жениха и невесту и смотревших в разные стороны, – если мой всемилостивейший монарх и огорчен в неудаче породниться еще ближе с царем, то он вполне будет вознагражден, узнав о таком прекрасном выборе.
– О конечно, лучшего выбора сделать было невозможно, – соглашался Андрей Иванович. – Государь еще молод, нуждается в руководстве, а в семействе своей будущей супруги он найдет экземпляр всех человеческих добродетелей.
– Скажите мне, насколько справедливо, достоуважаемый барон, – обращался в то же время к Андрею Ивановичу герцог де Лириа. – Говорят, будто уже сделано распоряжение о новых назначениях: князя Алексея Григорьевича – генералиссимусом, князя Ивана Алексеевича – великим адмиралом, князя Василия Лукича – великим канцлером, князя Сергея Григорьевича – обер-шталмейстером, а Марью Григорьевну Салтыкову – обер-гофмейстриною?
– Не слыхал, почтеннейший герцог, ничего не слыхал об этом, но в возможности ничего нет сомнительного, принимая в соображение высокие квалитеты сих персон, достойно ценимые всем светом.
– Не могу не сообщить вам, барон, как персоне, от которой у меня нет ничего сокровенного, – продолжал шептать на ухо Андрею Ивановичу граф Вратиславский, – что я намерен представить моему августейшему государю о достоинствах князя Ивана Алексеевича, об его уме, влиянии и добродетелях, в надежде, что его величество Петр Алексеевич будет весьма доволен, если его фаворит-свойственник получит какой-либо знак расположения императора.
Андрей Иванович выразил такую нелицемерную радость, как будто дело шло о награде его самого или сына. Впрочем, он и не мог удивиться – еще задолго он знал от верного человека из австрийского посольства, что граф Вратиславский уже писал о необходимости пожалования, ввиду неограниченного влияния, Ивану Алексеевичу титула князя Римской империи и вместе с тем того княжества в Силезии, которое было подарено князю Меншикову.
– Завтра я посылаю в Вену нарочного гонца, так не будет ли от вас какого поручения, Андрей Иванович?
– Просил бы только представить его императорскому величеству мои нижайшие уверения в глубочайшей преданности, – с низкими поклонами просил Андрей Иванович и при этом добавил: – А кого изволите посылать, милостивый граф?
– Человека надежного, который может дать все необходимые объяснения как очевидец, свояка своего Миллезимо…
– И скоро он выезжает? – любопытствовал Андрей Иванович.
– Завтра, как можно ранее.
А между тем к другому уху вице-канцлера уже совсем примостился герцог де Лириа с таинственными вопросами: зачем наряжено на торжество такое значительное количество воев – целый батальон гренадеров в тысячу двести человек. Любопытен очень был герцог де Лириа, не устававший вечно допытываться: как, что, почему, зачем, и отписывавший обо веем своему двору.
Под влиянием ли торжественного обряда, или от принужденности жениха и невесты, или оттого, что это был первый зимний бал и танцующие еще не спелись, но первый контрданс тянулся лениво, пары кружились, делали реверансы вяло и неохотно. Одной только бабушке-государыне-инокине он доставлял истинное наслаждение. С широко раскрытыми от изумления глазами, она с какою-то жадностью следила за всеми движениями танцующих. В ее время, во время ее молодости, таких зрелищ не бывало.
Более оживленно начался второй контрданс, в котором государь танцевал с теткою, цесаревною Елизаветою Петровною.
– Что, Лиза, теперь довольна мною? – спрашивал государь, по-прежнему наклоняясь и заглядывая в глаза тетки.
– Чем же, государь?
– Как чем? По твоему совету выбрал невесту.
– Я, государь, не выбирала вам невесту.
– Не выбирала, а помнишь, когда отказалась быть моею женою, тогда посоветовала выбрать кого-нибудь из девушек.
– Это правда, государь, но выбрать именно княжну Катерину я вам не советовала.
– Разве ты недовольна моим выбором?
– Нет, государь, не то что недовольна, но я ее не настолько знаю, чтобы советовать, – уклонилась цесаревна.
– А я на тебя, Лиза, сердит, – снова начал государь, возвращаясь к своей даме.
– За что, государь?
– Во-первых, за то, что ты называешь меня государем, а не по-прежнему – Петрушею.
– Теперь вы жених, и мне неприлично быть с вами по-прежнему, как с мальчиком.
– Для тебя, Лиза, я всегда буду прежним и прошу тебя по-прежнему же называть меня Петрушею.
– Хорошо, Петруша, за что ж еще ты сердишься, во-вторых?
– За то, что ты живешь в своем Покровском, а не здесь.
– Мне жить здесь невозможно, Петя.
– Почему?
– По очень простой причине – жить нечем. Знаешь ли, Петя, что у меня иногда не бывает соли к обеду? Такая скудость во всем… Долгоруковы захватили все доходы государева дворца.
– Не я, Лиза, виноват в этом. Я не раз приказывал исполнять все твои требования, да меня не слушаются… но скоро, скоро я найду средства разорвать свои оковы… – проговорил отрок-государь, с какою-то злобою взглянув на будущего тестя и невесту. Во всем его лице, в тоне голоса проявились теперь те же порывы необузданного гнева, которые бывали нередки у его дедушки и отца.
– Что ты, Петя? – испугалась цесаревна. – Да ты не любишь вовсе своей невесты?
– Не люблю.
– Так зачем ты женишься?
– Надо, Лиза, я должен жениться…
Контрданс кончался, и государь поспешил проговорить тетке:
– Знаешь что, Лиза, я женюсь на Долгоруковой, а ты выходи замуж за Ивана – мы всегда будем вместе.
– Ах, Петя, Петя, ты опять за свое. Говорила я тебе, что ни за кого не пойду, а за твоего Ивана и подавно.
Разговора тетки с племянником не было слышно, но от слова до слова его мог бы передать Андрей Иванович, зорко наблюдавший за своим воспитанником.
Гнетущее настроение обручального вечера отразилось даже и на единственной счастливой паре из всех приглашенных, на князе Иване Алексеевиче и графине Наталье Борисовне Шереметевой, которым, казалось, не было никакого дела до других.
С полгода Иван Алексеевич зажил иначе, и в эти полгода его нельзя было узнать: внешность все так же привлекательна, те же черты лица, но иное выражение приняла эта внешность и эти черты от нового неузнаваемого налета. Иван Алексеевич переживал тот период, в котором человек нервный, живший до того деятельностью сердца, с женскою природою, вдруг весь поглощается чувством и неведомыми прежде вопросами. Любовь к Наталье Борисовне заставила, без ведома его самого, глубже относиться к себе и ко всему окружающему, наложила на открытое, милое, но беспечное лицо выражение вдумчивости и какой-то заботы. Напротив, Наталья Борисовна осталась все та же, в ней не было перемен, в ней только сложилось в ясные, положительные черты все, прежде носившееся туманно.
– Пойми меня, милая Наташа, – говорил Иван Алексеевич Наталье Борисовне, – люблю тебя глубоко, люблю больше своей жизни, так люблю, как не считал себя способным уже любить, но именно из-за этой-то любви я и умоляю тебя: подумай… теперь еще время… откажи мне… я, может быть, перенесу, уеду куда-нибудь, а если и не перенесу, то от этого никому потери не будет.
– Я не понимаю тебя, Ваня, – прошептала побледневшая Наталья Борисовна, вскинув на него свои глубокие темные глаза с навернувшимися слезинками.
– Я и сам себя не понимаю… боюсь за тебя… боюсь сделать тебя несчастною… Я дурной человек, не скрываюсь перед тобою, Наташа… Я испорчен до мозга костей с ребячества… с детства… Не знаю, достанет ли у меня силы переломить себя. Сколько раз я оглядывался на себя, видел всю гадость, всю свою подлость… Поверишь ли, иной раз плакал… давал себе слово перемениться, и моей решимости только хватало до первого взгляда смазливого личика, до первого предложения кутить.
– Перестань, милый, не клепли на себя, я тебя узнала и полюбила… Изменить своей любви не могу… и если бы нам не суждено было жить вместе, то за другого я никогда не пойду… – с глубоким убеждением высказала девушка.
После обручального вечера начался нескончаемый ряд придворных торжеств, не дававших государю ни одной минуты трезво взглянуть на свое положение, да он и сам как будто желал забыться, отогнать от себя всякую мысль о будущем. Но всех пышнее и всех оживленнее отпраздновалось в старом шереметевском доме на Воздвиженке обручение Ивана Алексеевича и Натальи Борисовны накануне рождественского праздника 1729 года.
Молодые обрученные были счастливы последними минутами улыбнувшейся им жизни. Иван Алексеевич наслаждался полным фавором.
Часть вторая Опала
I
В Лефортовском дворце, в полночь с 18 на 19 января 1730 года, умирал четырнадцатилетний царственный отрок Петр II.
Над умирающим совершалось елеосвящение, последнее земное напутствие. Умилительно произносились торжественные молитвы старшим из архиереев, совершавших таинство:
– Владыка Боже, услыши меня грешного и недостойного раба Твоего в час сей и разреши раба Твоего Петра, нестерпимые сея болезни и содержащие его горькие немощи и упокой его, иде же праведных души. Яко Ты еси упокоение душ и телес наших и Тебе славу воссылаем… – читал архиерей, но ложились ли его слова небесплодно на душу умирающего и каждого из присутствующих, Бог один знает.
Подле изголовья постели усердно кладет земные поклоны бабушка, инокиня Елена; ее сухие бескровные губы повторяют слова молитвы, слезы катятся по изборожденным щекам, но какие это слезы и чем полна ее омраченная горем душа?.. Не шевелятся ли там, в глубине ее старческого, иссохшего сердца иные мысли, иные желания… Желания себе жизни, полной земного величия и власти, надежды, не очистит ли эта преждевременная смерть внука дорогу ей к царскому месту, принадлежащему ей по праву и ни за что ни про что отнятому у нее насильно ненавистною рукою ненавистного ей человека?
С другой стороны того же изголовья кряхтел и морщился воспитатель умирающего, знаменитый вице-канцлер Российской империи барон Андрей Иванович Остерман. Его бледное, несколько полное и опухлое лицо еще более побледнело, и из глаз катились непритворные слезы. Ему жаль было этой так преждевременно угасающей жизни внука того, которому он был обязан всем и перед памятью которого он благоговел. Бессонная ночь, возбужденные нервы и захватывающий сердце вид смертного часа невольно поднимали в его голове вопрос: исполнил ли он свято свой долг воспитателя, не должен ли он был более энергично, не жалея себя, оберегать своего питомца от гибельных примеров, развращающих молодые силы?
Кроме бабушки, воспитателя и духовных при совершении обряда окружали постель умирающего императора другой воспитатель его, действительный тайный советник обер-камергер князь Алексей Григорьевич и князь Иван Алексеевич Долгоруковы. Расстроены и искажены лица у обоих князей, но далеко не одно и то же чувство отражалось в них. Отчаяние, страх потерять все, что имело значение в жизни, потерять силу и власть, потерять первенствующую роль в государстве грызло сердце отца и выдавливало едкие слезы. Не жаль ему было им же погубленной жизни, а жаль себя, и только одного себя. И вместо молитвы за умирающего невнятно, но назойливо вертелся на губах его вопрос: что будет? Все ли пропало или удастся встать еще повыше, подломить под себя всех и захватить в свои руки все?
Совсем другое переживалось в эти страшные минуты сыном его, князем Иваном. Не опасность потери почестей и блестящего положения страшила его, а ела жгучая грусть потерять друга нежно любимого, цена которого узнается только при вечном расставании, ело раскаяние за прошедшее, за собственное участие в преступном деле, за собственный свой почин в деле развращения души, так недавно еще непорочной.
Обряд кончился. Больной бессознательно приложился к кресту и бессвязно повторил молитву. Агония, видимо, вступала в свой последний период.
6 января 1730 года, в день Богоявления, государь, приехав на Москву-реку для присутствования на водосвятии, стоя на запятках саней своей невесты, княжны Екатерины Алексеевны Долгоруковой, простудился и захворал оспою. В тот же день он слег в постель. Сначала болезнь, казалось, обещала счастливый исход, и через девять дней больной почувствовал себя значительно лучше. Нетерпеливый и привыкший свою волю ставить выше всего, он не слушал предостережений докторов1 и, как только позволили силы, встал с постели и подошел к окну, из которого дуло холодным воздухом. Высыпавшая было оспа скрылась, и положение больного стало заметно ухудшаться. Воспаленное состояние с бредом не уступало усилиям докторов. В ночь на 19 января наступила агония. От природы нежный и в последний год истощенный преждевременным общением с женщинами организм не мог выставить достаточных сил для борьбы с разрушительным началом.
С полночи дыхание сделалось затруднительнее, хрипение чаще и резче, беспамятство и забытье продолжительнее. Больной тоскливо метался, раскидывая руками и запрокидывая голову; воспаленные глаза то широко раскрывались и бессмысленно обводили присутствовавших, то закрывались. Больной лепетал какие-то бессвязные звуки, между которыми можно было, однако же, ясно различить имена Андрея Ивановича и покойной сестры, которую он так любил. Наконец порывистые движения стали ослабевать, больной как будто успокоился, дыхание сделалось ровнее, казалось, он заснул. Но это спокойствие продолжалось недолго. Как будто электрический ток пробежал по организму, члены дрогнули и конвульсивно сжались, государь быстро приподнялся и проговорил громко и отчетливо:
– Скорей запрягайте сани, хочу поехать к сестре!
И он действительно уехал к сестре. С последним словом голова запрокинулась и вытянулись члены.
Доктор взял руку, ощупал пульс, внимательно всмотрелся в тусклые, остановившиеся зрачки и торжественно объявил:
– Все кончено. Государь скончался!
Все перекрестились. Было три четверти первого.
Земное величие, приравнявшись со всеми бедными и убогими, не требовало уже ни восхвалений, ни поклонений. Их заменили общая для всех торжественность и сила смерти.
Тихо, как будто боясь потревожить покой усопшего, стали выходить присутствовавшие из комнаты. К барону Андрею Ивановичу подошел князь Алексей Григорьевич.
– Там… во дворце… – и Алексей Григорьевич махнул рукою, – собрались, Андрей Иванович. Надобно решить теперь, кому быть на царстве. Воля покойного государя…
– Не мне, слепому и беспомощному, решать, Алексей Григорьевич, кому следует быть на царстве. Не мое это дело. Вот и теперь… кха… кха… кха… ты намекнул на волю государя, а мне она неизвестна… Да и где мне слышать, когда я не выезжал никуда.
– Пойдем же, Андрей Иванович, – продолжал настаивать князь Алексей Григорьевич, – я тебе все передам как воспитателю покойного и российскому вице-канцлеру…
– Идти не могу, видит бог, не могу, Алексей Григорьевич, сил нет. Принесли меня сюда в великих страданиях по желанию покойного моего государя да по твоему наказу… А больше быть мне здесь невмочь…
– Как же голос твой, Андрей Иванович, в какую надо считать его сторону?
– Голос мой, Алексей Григорьевич! Да какой же у меня, больного и расслабленного, голос? Где большинство, там и мой голос. Я что – пришелец-иностранец… Вам, родовитым, старинным русским фамилиям, принадлежит решение, а мне только повиноваться вашему избранию.
И Андрей Иванович еще более закряхтел и заморгал глазами, еще сильнее и мучительнее сделался припадок подагры. Со стонами и оханьями его снесли к экипажу, уложили в сани и повезли домой.
Князь Алексей Григорьевич остался, видимо, очень доволен разговором с вице-канцлером. «С этим не будет хлопот, – думал он, – с Головкиным тоже, думаю, уладится, а кто бы и вздумал против, так можно и пугнуть…»
Однако бессонные ночи и постоянное тревожное состояние отозвались и на нем самом. Чувствуя себя не в силах, он и сам уехал домой отдохнуть и сообразиться до формального заседания государственного собрания.
Между тем захудалые лошадки благополучно довезли домой больного Андрея Ивановича, на которого свежий ночной воздух подействовал живительно. Не слышалось от него во всю дорогу ни стонов, ни жалоб, даже довольная усмешка пробежала по губам, когда его зоркие глазки заметили на дворе его дома стоявший экипаж. Довольно бодро, судя по летам, вошел подагрик по ступеням лестницы в прихожую, без затруднений снял верхнюю меховую шубу, и только в приемной, где его обдало слишком нагретым воздухом, он почувствовал себя снова нездоровым; по обыкновению, закряхтел он, и по привычке заволочились ноги при проходе через приемную в кабинет.
В небольшой комнате, известной под названием кабинета, заваленной бумагами и отличавшейся образцовым беспорядком, нетерпеливо прохаживался поверенный курляндского двора, лифляндец по происхождению, русский камергер граф Карл Густав фон Левенвольд. Бывший любимец герцогини Курляндской, как передавалось по секрету в придворном кружке, граф Карл Густав в это время еще вполне сохранил красивую наружность и выделялся замечательною придворного ловкостью.
– Почтеннейший Андрей Иванович, дождался я вас, – любезно проговорил он, встречая хозяина в кабинете и дружески пожимая его руку. – Что нового?
– Дурные новости, граф, очень дурные. Государь наш изволил скончаться.
– Этого и надо было ожидать. В котором часу? Был ли в полной памяти? Не назначил ли преемника? Что Долгоруковы?
– Его величество изволили скончаться в три четверти первого, исполнив, как следует, все обряды и церемонии, – неторопливо говорил Андрей Иванович, облекаясь в свой замасленный меховой халат и опускаясь в глубокое кресло перед письменным столом. – И меня его величество вспомнил перед кончиною, изволил несколько раз проговорить мое имя, – продолжал хозяин, устанавливая ноги на мягкой скамейке и надевая на глаза зеленый зонтик, закрывший ему почти все лицо.
– Сделал ли распоряжение? – нетерпеливо торопил граф.
– Распоряжение! Какое распоряжение?
– О наследстве… Ведь понимаете меня, Андрей Иванович?
– Никакого распоряжения не слыхал я, граф, хотя по немощи своей и не отходил от постели… да и государь все больше изволил быть в беспамятстве.
– Стало быть, завещание не подписано.
– Какое завещание? – в свою очередь спросил Андрей Иванович, стараясь выразить на лице своем удивление.
– Видите что, барон, будемте говорить откровенно! Мы старые друзья. Как уполномоченный моей государыни-герцогини, я всеми силами служу ее интересам и знаю, что она рассчитывает много на вашу помощь. Дело в том, кто будет наследником умершего государя? Партии разделены: одни, из старорусской партии, не прочь видеть на престоле Евдокию Федоровну, но эта партия слаба и не может иметь успеха, как и вы, барон, сами убедились, когда сближались с нею. Не отрекайтесь, я это хорошо знаю. Другая партия – Долгоруковы; эта партия состоит только из одного их семейства и не должна бы иметь значения, но… разве ловкий, своевременный удар не дает иногда удачи? Вот поэтому-то я старался собрать положительные сведения об их намерениях и целях… и вот что узнал. Несколько дней тому назад, когда государь застудил оспу и положение сделалось безнадежным, датский посланник Вестфален писал к Василию Лукичу Долгорукову письмецо, с которого вот эту копию я и считаю нужным сообщить вам, почтеннейший Андрей Иванович.
В поданном письме Андрей Иванович прочитал следующее:
«Слухи носятся, что его величество весьма болен, и ежели наследство Российской империи будет цесаревне Елизавете или голштинскому принцу, то датскому королевскому двору с Россиею дружбы иметь не можно, а понеже его величества нареченная невеста фамилии вашей, то и можно удержать престол за нею, так как после Петра Великого две знатные персоны, Меншиков и Толстой, государыню императрицу Екатерину удержали, что и вам, по вашей знатной фамилии, учинить можно, и что вы больше силы и славы имеете».
Прочитав внятно и с расстановкою, Андрей Иванович бережно сложил письмо и отдал графу.
– Что вы теперь скажете, Андрей Иванович?
– Похваляю и одобряю господина посланника за его усердность к пользам своего двора.
Такой невозмутимый ответ раздражил наконец и самого уполномоченного:
– Да, помилуйте, Андрей Иванович, и я похваляю, да от этого похваления может моей государыне произойти вред. Послушайте, что будет дальше. Получивши это письмо, Василий Лукич передал его Алексею Григорьевичу, а тот собрал на семейный совет всю свою родню: Сергея Григорьевича, Василия Лукича, сына своего Иванушку и Василия Владимировича с братом его Михайлой.
– Как, и фельдмаршал Василий Владимирович был? – с каким-то недоверием перебил Остерман.
– Был, да он в стороне. На семейном совете положили они составить духовную от имени государя, в которой будто бы он назначил преемницею своею обрученную невесту, дочку Алексея Григорьевича, княжну Екатерину. Написал духовную со слов Василия Лукича князь Сергей, в двух экземплярах, один без подписи поручили Ивану поднести государю в благоприятную минуту, а другой экземпляр подписал под руку государя князь Иван, на тот случай, если бы первый экземпляр не удалось поднести государю.
– Ах, бедный мальчик! Бедный мальчик! А ведь золотое сердце! – с сокрушением ворчал Остерман, покачивая головою.
– До нынешней ночи, – продолжал граф, не обращая внимания на соболезнования вице-канцлера, – князю Ивану не удавалось, а может, даже и сам не хотел поднести государю духовную для подписи, а в эту ночь, вы говорите, Андрей Иванович, что не отходили от постели… Стало быть, духовная осталась только подложная. Понимаете, Андрей Иванович?
Но Андрей Иванович все продолжал повторять: «Ах, бедный, бедный мальчик, золотое сердце!» Только когда кончил граф свой рассказ, он с некоторою живостью спросил:
– А Василий Владимирович? Вы говорите, он остался в стороне?
– Фельдмаршал при самом начале совета высказал им наотрез: «Племянница Екатерина с государем не венчалась». А на это князь Алексей сказал: «Если не венчалась, так обручалась». – «Иное дело венчание, а иное обручение, – настаивал на своем фельдмаршал. – Хоть императрица Екатерина и была на престоле, так она была коронована самим государем, а кто же будет слушаться и повиноваться только обрученной? Врете вы, ребячье!» С этим Василий Владимирович и уехал с братом Михайлой.
– Так… так… – подтвердил Андрей Иванович. – Не любит господин подполковник1 князя Алексея. И обручение-то было задумано против его воли.
– Так что же вы думаете относительно подложной духовной?
– Да ничего, граф, ровно ничего.
– Вы полагаете? Ведь семья Долгоруковых сильна, а особенно если к ним потянут Голицыны. Ловкий маневр – и, пожалуй, явится Екатерина II.
– Не явится, граф, – разговорился Остерман, – на это надо сильную и стойкую волю, какая была у Александра Даниловича, а у Долгоруковых, кроме спеси, ничего нет. Конечно, и они люди умные и даровитые, – спешил прибавить осторожный вице-канцлер, – да нет у них единодушия. Все они лезут врознь, готовы грызться друг с другом. Семья сварливая. Князь Алексей духовную и не представит.
– А Голицыны?
– У Голицыных вся сила в Дмитрии Михайловиче. Этот старик крепкий и держит всю семью в руках старого покроя. Да он к Долгоруковым не пойдет, не захочет быть под рукою у князя Алексея. Скорее бы уж он пошел к старой царице Евдокии Федоровне, если бы она была посильнее.
Граф Карл Густав вспомнил, что и сам Андрей Иванович недавно был не прочь сойтись со старою инокинею, но замечания своего не высказал, а только как будто про себя, мимоходом проговорил:
– Не одни Долгоруковы и инокиня, есть и другие наследники… Дочери Петра… цесаревна Елизавета и голштинские.
– Кстати напомнил, граф, об цесаревне. Еду я вот вчера поздно вечером во дворец на прощальную ночь к государю, еду по немощи своей тихонько и вижу – ночь-то такая светлая, как день, – насупротив меня скачет тройка во весь опор. Смотрю и думаю, кто это не боится сломать себе головы, а это сама цесаревна Елизавета изволит кататься с Иваном Бутурлиным. Длинная коса так и развевается из-под меховой шапочки. Красавица, загляденье цесаревна, да молода еще… только забавы да любовь на уме.
Граф Карл Густав зорко взглянул на Андрея Ивановича и улыбнулся, хотел что-то высказать, но остановился, подумал и спокойно проговорил:
– Понятно, Андрей Иванович, цесаревне жить еще хочется, сил много, придет время и для нее в свою очередь.
– Да… да… придет… конечно, придет, – ответил вице-канцлер и крепко задумался.
Не нарисовалась ли в это время в дальновидном уме русского немца будущая судьба бездетной Анны Иоанновны и своя незавидная горькая участь? Долго, может быть, продолжалось бы необычайная задумчивость, если бы не послышался резкий хрипловатый голос из соседней комнаты:
– Андрей Иванович! Андрей Иванович!
Встрепенулся Андрей Иванович при звуках этого слишком для него знакомого голоса сварливой своей супруги Марфы Ивановны и тревожно заторопился:
– Прощайте, государь мой граф, прощайте. Заговорились мы, а время поздно. Советую поторопиться, – и хозяин особенно подчеркнул это слово, – самым конфидентным способом известить милостивейшую государыню вашу и мою, Анну Иоанновну, обо всем, в чем сами известны, и поздравить.
Хозяин не договорил, да и не нужно было договаривать всего ловкому немцу Карлу Густаву, знавшему, с кем имел дело, понимавшему вполне с полуслова своего немца-собрата.
Граф Карл Густав ушел, а из дверей появилась сама Марфа Ивановна. Андрей Иванович засуетился отыскивать свои туфли и ночной колпак между ворохами разбросанных бумаг, наваленных беспорядочно на письменном столе, разрисованном в прихотливых узорах чернильными потоками.
– Сейчас, дружок мой Марфа Ивановна, сейчас, вот только туфельки отыщу, – успокаивал старик заискивающим голосом свою заботливую половину, наблюдавшую за своим супругом не менее зорко, чем тот наблюдал за ходом политических конъюнктур и комбинаций.
На этот раз гнев Марфы Ивановны казался грознее обыкновенного, как это сейчас же заметил Андрей Иванович по небрежности ее ночного туалета. Носовой платок, вместо чепца покрывавший ее голову, торчал громадным узлом на стороне, над самым ухом, не закрывая выбившейся косички седых волос.
– Полуночник ты беспутный! Ну в твои ли года? Не с Иванушкою ли Долгоруковым беспутничал всю ночь?
Смешными казались подобные подозрения на человека, если и не немощного в действительности, то, во всяком случае, и не обладающего хорошим здоровьем, вечно погруженного в глубокомысленные соображения; но бедный барон не смеялся. Он боялся своей жены, он знал, что на нее не подействуют никакие логические настроения, никакие очевидные разумные доказательства. Одно было только действительное средство: это выставить тотчас же ее любознательности какую-нибудь поразительную новость, до которых она была страшная охотница. К этому-то средству он и прибегал всегда в критических обстоятельствах, им же воспользовался он и теперь:
– Был, Марфушка, у нашего покойного милостивого государя.
– Умер? Когда? Что покойный говорил? Кто был при нем? – закидывала вопросами Марфа Ивановна, крестясь и мигом забыв свою досаду.
Андрей Иванович в это время отыскивал свои туфельки и ночной колпак. Облекшись в то и другое, он со своею супругою отправился в спальню, откуда долго еще слышался их дружеский говор.
Между тем Карл Густав, воротившись домой, и не подумал о покое. Зная положение дел до тонкости и все интриги в придворном кружке, он из полуслов Андрея Ивановича понял более, чем из иного подробнейшего трактата. В этих полусловах он видел обстоятельную программу своих дальнейших действий.
Войдя в кабинет и приписав несколько строк к заранее заготовленному письму, он приказал позвать к себе самого бойкого и смышленого из скороходов, состоящих в его свите.
– Вот тебе, Вурм, письмо… секретное, о котором никто не должен знать. Понял?
Скороход вместо ответа поклонился.
– Это письмо, – продолжал граф, – ты должен доставить моему брату, который, как ты знаешь, живет в имении своем близ Митавы. Передай ему лично и оставайся у него впредь до особого распоряжения. Поезжай сейчас же. Выбери из моей конюшни самых лучших лошадей и выстави их к заставе, куда сам отправляйся пешком, переодевшись… чтобы никто тебя не узнал! У заставы садись на лошадей и скачи как можно скорей. Лошадей и денег для их смены не жалей. Вся важность и успех во времени. Никому, решительно никому не говори ни здесь, ни на дороге, куда и зачем едешь. Выдумай какой-нибудь предлог: болезнь родных или что-нибудь, чтобы не показалось странным. Ежели выполнишь все хорошо, будешь награжден самою государынею выше твоих ожиданий.
Через полчаса из дома графа Левенвольде вышел какой-то крестьянин, который, обычною неуклюжею походкою пройдя городом до заставы, быстро сбросил там крестьянский армяк и сел в ожидавшие его пошевни. Лихая тройка помчалась по дороге в Курляндию.
II
В Лефортовском дворце умирал император-отрок, а в Кремлевском уже шло предварительное совещание членов Верховного тайного совета и некоторых из первых родовитых сановников о том, кому быть преемником1. В совещании участвовали: великий канцлер Российской империи граф Головкин, князья Василий Владимирович и Василий Лукич Долгоруковы и князья Дмитрий Михайлович и Михаил Михайлович Голицыны; не было князя Алексея Григорьевича и вице-канцлера Остермана, уехавших после кончины государя домой. В это же собрание прибыли и архиереи, совершавшие последний обряд над умирающим, неизвестно, по приглашению ли, по собственному ли побуждению, или по распоряжению владыки Феофана Прокоповича, мечтавшего играть политическую роль.
Вторжение духовенства, этого нового элемента, и притом элемента враждебного, в совещания, почти что семейные, двух родовитых фамилий Долгоруковых и Голицыных, конечно, не согласовалось с их видами, а потому князь Василий Владимирович поспешил объявить архиереям, что собрание для совещания о престолонаследии назначено в дворце не прежде десяти часов утра. Оскорбленные иерархи ушли.
По уходе их начались шумные споры. Вопрос действительно выставлялся в первый раз в исторической жизни государства. Потомков царствующего дома по мужской линии по смерти Петра II не оставалось никого, а по женской линии, напротив, несколько лиц. По духовному завещанию Екатерины I на престол Российской империи более всех имел право сын покойной старшей дочери Петра Великого, Анны Петровны, – наследный принц Шлезвиг-Голштинский Карл Петр Ульрих, но воцарение этого еще ребенка-государя более всех других не могло нравиться русским вельможам. Оно, во-первых, ставило Россию в неприятные отношения с Данией за Шлезвиг, а во-вторых, угрожало наплывом голштинцев; а каковы были голштинцы, это могли знать русские по Бассевичу, насолившему и надоевшему всем в царствование Екатерины I. Поэтому, естественно, что кандидатура принца Карла Петра Ульриха провалилась почти по единогласному мнению.
Названо было кем-то имя второй дочери Петра, Елизаветы Петровны, но точно так же единогласно отвергнуто. Цесаревна так молода, так любит удовольствия. Выйдет замуж – бог знает кому придется кланяться, то выйдет еще хуже… Явятся фавориты неизвестно из какой среды, вроде Шубиных… пострадает амбиция старых родичей. «Царица-инокиня Евдокия Федоровна?» – высказал было Дмитрий Михайлович, да и сам одумался – стара, на ладан дышит; конечно, отсрочка, а все вопрос опять тот же, только будут ли еще они, верховники, после такой отсрочки в таком же авантаже, как теперь? И Евдокия отстранена. Остаются дочери Ивана, старшего брата Петра: Екатерина, Анна и Прасковья. Но Екатерина, бывшая замужем за герцогом Мекленбургским и уже лет десять как бросившая мужа, жила постоянно в Москве и не пользовалась общим расположением.
– А что же можно сказать против Анны Иоанновны? – спросил Василий Лукич Долгоруков, как видно забывший о им же самим диктованной духовной или рассчитавший, что возвышение семьи князя Алексея не принесет ему личного интереса.
Возражений не высказано – значит, выбор удовлетворял всем ожиданиям. Да иначе и быть не могло. Анна Иоанновна была вдова, нестара, но и не в таких, однако же, летах, чтобы можно было опасаться нового замужества. Живя в Митаве, как герцогиня Курляндская, она не прерывала тесных отношений с русским двором, имела при нем своего постоянного агента, временно наезжала сама и была ко всем так ласкова, да и не только ласкова, а, нуждаясь постоянно в деньгах и подарках, ко всем влиятельным лицам относилась всегда искательно и предупредительно. Правда, говорили про ее интимные отношения, про влияние Бестужева и фаворита, какого-то Бирона, но эти лица не казались опасными. Сам Бестужев не имел партии, друзья его все разосланы, а проходимца немецкого фаворита можно было бы и не пускать в Россию. Разве нельзя было заменить немца и получить фавор кому-нибудь из партии верховников! Сам Василий Лукич, предложивший в императрицы Анну, в бытность свою два года назад в Митаве разве не пользовался ее благосклонностью? И разве не мог надеяться на продолжение такой же благосклонности? Наконец, думалось и то, что всем обязанная им и чувствуя свою женскую неопытность в правительственных делах в такой обширной империи, она по необходимости должна будет держаться их и согласиться на все их требования. Познакомившись сначала из подневольных петровских путешествий за наукою и из более участившихся посольских пересылок, а потом и из собственной книжной начитанности с порядками чужих краев, в особенности Швеции, русским родовитым фамилиям захотелось пересадить и на родную почву те же порядки, обеспечивающие их от произвольных опал и ссылок, а подчас и более чувствительных дисграций. Под влиянием таких-то соображений и произошло то, что когда произнеслось имя Анны Иоанновны, то, по свидетельству современника Феофана Прокоповича, «тотчас чудное всех явилось согласие».
Единодушно решили об избрании Анны Иоанновны предложить на рассуждение общего собрания членов Верховного тайного совета, сенаторов и других влиятельных сановников, назначенного в десять часов того же утра. По решении главного вопроса некоторые уехали, и остались только канцлер Головкин да верховники Долгоруковы и Голицыны.
– Воля ваша, – по выходе многих персон начал говорить Дмитрий Михайлович Голицын, – а только надобно себе полегчить.
– Как себе полегчить? – спросил один из Долгоруковых.
– Да так полегчить, чтоб воли себе прибавить, – пояснил Дмитрий Михайлович.
Это предложение как будто удивило князей Долгоруковых, и один из них, более выдающийся, Василий Лукич, заметил опасливо:
– Хоть и зачнем, да не удержим.
– Нет, удержим, – настаивал Дмитрий Михайлович, – только надобно, написав, послать к ее величеству пункты1.
По этому разговору видно, что почин первого формулирования стремлений верховников принадлежит Дмитрию Михайловичу, хотя нельзя сомневаться в существовании предварительных тайных переговоров по этому поводу в высокопоставленных фамилиях. Почему же именно Дмитрий Михайлович, а не кто-нибудь другой, взял на себя этот почин?
Дмитрий Михайлович – тип старого русского боярства, уже знакомого с западною наукою. В семействе его сохранялись черты прежнего допетровского семейного духа: то же глубокое уважение, безропотное повиновение ему, как главе, от всех членов и то же властолюбивое, не терпящее никаких замечаний отношение с его стороны. Почтение к нему в семье доходило до того, что никто из семейных не смел сесть в его присутствии без его приглашения. Сам Петр Великий, не любивший стесняться ни с кем, уважал обычаи Дмитрия Михайловича. По рассказам Н. С. Голицына, Петр Великий любил часто захаживать по утрам к князю Дмитрию Михайловичу, чтобы сообщать ему свои новые предприятия или выслушивать его мнения. Князь имел обыкновение никого не принимать к себе, не кончив утренних молитв. Нередко случалось, что прибытие высокого посетители было ранее срочного часа; Петр Великий не прерывал благочестивого уединения князя. «Узнай, Николушка, когда старик кончит свои дела», – говорил государь родственнику Дмитрия Михайловича, мальчику князю Голицыну, жившему у него в доме, и терпеливо ждал выхода старого князя.
Как образованный, начитанный человек, князь понимал необходимость реформ Петра, но не понимал и не одобрял увлечения, не одобрял развода Петра с Евдокиею и второго брака с Екатериною, осуждал наплыв иностранцев и чуть ли не видел в этом поруги русского имени. Не раз он говаривал: «К чему нам нововведения; разве мы не можем жить так, как жили отцы, без того, чтобы иностранцы являлись к нам и предписывали нам новые законы». К упрочению недружелюбного взгляда много содействовало и несчастливое его общественное положение. Конечно, его, как умного, опытного и влиятельного вельможу, не отстраняли вовсе от государственной деятельности, но как-то случалось так, что его держали постоянно в тени, вдали от центра, от двора, где фигурировало много фаворитов-проходимцев как из русских, так и из немцев.
Под постоянным давлением желчной накипи Дмитрий Михайлович пришел к убеждению в необходимости установить такой порядок, который устранил бы фаворитизм, а следовательно, и ограничивал бы самодержавие. Для достижения же этой цели настоящее время представлялось самым удобным. Анна Иоанновна, натерпевшаяся от скудости средств, наголодавшаяся, без всякого сомнения, из одного уже чувства благодарности за избрание будет держаться за Верховный тайный совет и не выйдет из его воли во все время своего царствования, в которое между тем новый порядок успеет установиться и окрепнуть.
Но в чем должно заключаться ограничение самодержавия, в каких именно пунктах формулироваться – отчетливо не сознавалось и самим Дмитрием Михайловичем. Смерть императора Петра II неожиданно застигла его врасплох, а между тем теперь же, неотложно, в какие-нибудь три или четыре часа, необходимо определить новое положение, по крайней мере, в главных существенных чертах. Необходимо представить общему собранию, которое соберется не далее как в десять часов, избрание Анны Иоанновны фактом уже готовым и выработанным. Как опытный человек, Дмитрий Михайлович знал, что толпа, из кого бы она ни состояла, в особенности славянская толпа, всегда расплывается в мелких спорах и сама никогда не придет к определенным выводам без руководительства намеченной заранее программы.
И вот Дмитрий Михайлович, почти шестидесятилетний старик, в той же комнате, после бессонной ночи, при помощи только Василия Лукича – граф Головкин уехал домой – принялся за работу составления адреса к императрице об избрании и главных оснований кондиций этого избрания. Эти кондиции, по свидетельству Манштейна, составлены были в следующих чертах: 1) императрица должна была управлять государством по определениям Верховного совета, 2) самовольно не могла объявлять войны и заключать мир, 3) не могла назначать податей и располагать важными государственными должностями, 4) не могла казнить смертью дворянина без доказательства его преступления, 5) не могла конфисковать имущества, 6) не могла распоряжаться государственными землями и раздавать их, 7) не могла вступать в супружество и назначать себе преемника без согласия Верховного совета1.
В десятом часу стали съезжаться в палаты Верховного тайного совета, где назначено было собрание, члены Сената, Синода, генералитет, все первоклассные сановники, вельможи, придворные и «великое всех штатов множество», по выражению Феофана Прокоповича. Когда это множество штатов собралось, явились и члены Верховного тайного совета, за исключением заболевших: графа Головкина и вице-канцлера Остермана. За болезнью их старший из членов Тайного совета князь Дмитрий Михайлович Голицын, сообщив собранию о кончине императора Петра II, объявил, что, по мнению совета, российский престол должна занять, по неимению мужской линии, тетка усопшего, герцогиня Курляндская Анна Иоанновна, на что и требуется согласие всех чинов Московского государства.
Все сознавали затруднительность положения и потому, естественно, всех обрадовал выбор, не задевающий ничьих интересов. Со всех сторон поднялись крики: «Так, так… Нечего рассуждать… выбираем Анну!» За гулом общих криков нельзя было расслышать тонкого, дребезжащего голоса князя Алексея Григорьевича; его никто не слушал, да и сам он убедился теперь в полной невозможности выставить права дочери, обрученной невесты усопшего. После такого единодушного желания преосвященным Феофаном Прокоповичем предложено было совершить торжественное благодарственное молебствие в Успенском соборе, но это предложение, к немалому удивлению присутствующих, отклонилось верховниками как преждевременное до получения согласия герцогини.
Порешив такое трудное дело, члены стали разъезжаться. В общем собрании не было высказано ни слова ни об ограничении самодержавия, ни о кондициях избрания ввиду того, что эти серьезные обстоятельства, естественно, возбудили бы толки, споры и затянули бы время, которым так дорожили верховники. Да, впрочем, в сообщении и не было крайней необходимости, потому что за общим согласием избрания вся дальнейшая обрядность должна была совершиться уже от имени только одного Тайного совета, которому, следовательно, оставалась полная возможность тасовать карты по произволу. Но так как действовать только от себя, не заручившись согласием других влиятельных персон, было бы слишком рискованно, то и было решено: не вводя в дело всего собрания, привлечь к участию некоторых из первоклассных вельмож, на сочувствие которых верховники могли рассчитывать. Поэтому, когда члены собрания стали разъезжаться, то Дмитрий Михайлович распорядился некоторых воротить, высказав, «чтоб не было от них чего». Воротили Дмитрия Мамонова, женатого тайным браком на царевне Прасковье Ивановне, сестре герцогини Курляндской, Льва Измайлова, Павла Ягужинского и некоторых других. Этим-то лицам князь Голицын уже прямо высказал: «Станем писать пункты, чтоб не было самодержавия».
Верховники страшно торопились. В несколько часов были сочинены, написаны и переписаны письмо к герцогине Курляндской и самые кондиции. В письме, после извещения о кончине императора и об ее избрании, верховники писали: «А каким образом вашему величеству правительство иметь, то мы сочинили кондиции, которые к вашему величеству отправили из собрания своего с действительным тайным советником князем Василием Лукичом Долгоруковым, да сенатором тайным советником князем Михаилом Михайловичем Голицыным и генерал-майором Леонтьевым и всепокорно просим оные собственною своею рукою пожаловать подписать и, не медля, сюда в Москву ехать и российский престол и правительство восприять. 19 января 1730 года». Письмо подписали: канцлер граф Головкин, князь Михаил Голицын, князь В. Долгоруков, князь Дмитрий Голицын, князь Алексей Долгоруков, Андрей Остерман.
Верховники не могли не предвидеть, сколько их проект возбудит против себя интриг, но надеялись на свою силу, громадные связи и влияние своих фамилий, а главное – на быстроту удара. Одновременно с написанием письма они сделали распоряжения о посылке нарочного гонца для заготовления лошадей депутатам и для распоряжения останавливать всех проезжающих, даже почты, по всему пути из Москвы к Митаве, прохожих обыскивать, и если окажутся при них письма, то их отбирать. В тот же день, 19 января, выехали и депутаты с письмом, кондициями и наказом. В последнем верховники уполномочивали депутатов взять от императрицы торжественное обещание не привозить с собою в Москву митавского любимца, камер-юнкера Бирона.
Верховники сообщили свой проект ограничения самодержавия только лицам, в которых рассчитывали видеть себе поддержку, но они ошиблись; даже и в этих лицах нашлись такие, которые если не явно, то тайно желали повредить им из личного интереса. В ту же ночь генерал-поручик Ягужинский отправил в Митаву своего адъютанта Сумарокова уведомить обо веем герцогиню и уверить, что согласие ее на предложенные условия необязательно и не может остановить впоследствии, по вступлении на престол, их совершенной отмены. Кроме Ягужинского с такою же целью отправил в Митаву гонца и владыка Феофан Прокопович.
III
Нынешний способ передвижения не может дать никакого понятия о сообщениях, бывших полтораста лет назад. Не говоря уже о железных дорогах, даже конная езда при отсутствии правильной почтовой организации далеко не соответствовала нынешней. Прадеды наши вообще не любили торопливости и крепко держались пословицы: «Поспешишь, людей насмешишь». Ездили тихо, с растахами, помолившись на путь-дорогу и отслужив напутственный молебен за сохранение путешествующего и за благополучное возвращение. Поездка за триста верст казалась делом нелегким.
Но выпадали случаи, когда и русские люди первой половины XVIII века умели спешить. Князья Василий Лукич Долгоруков, Михаил Михайлович Голицын и генерал Леонтьев выехали из Москвы вечером 19 января, а прибыли в Митаву 24 января, тоже вечером, проехав, следовательно, тысячу с лишком верст в пять суток. Более быстрой езды по их боярским костям, казалось, не могло быть, но немцы и тут опередили.
Посланный лифляндцем, но русским камергером и графом Карлом Густавом Левенвольдом, его скороход Вурм с письмом, зашитым в шапке, выйдя из Москвы 19 января около полудня, приехал в поместье графа Рейнгольда Левенвольда, лежащее за Митавою, 22-го числа вечером, не пользуясь заранее заготовленными по пути подводами, как было устроено для депутатов. Впрочем, надобно объяснить, что тракт его был иной, отклонявшийся от большого пути, по более прямой проселочной дороге, сокращающей расстояние на сотню верст.
Утомленный, разбитый, с пересохшим горлом, явился Вурм прямо с дороги в кабинет графа Рейнгольда и молча протянул ему свою меховую шапку. Граф понял, в чем дело, опытными руками ощупал шапку, распорол подкладку и осторожно вынул письмо. С должным вниманием прочел он письмо брата с известием о предстоящем избрании герцогини и с советом принять это избрание, в какой бы форме оно ни было предложено. Рейнгольд Карла дополнил, взвесил, оценил, и через час тройка несла его к резиденции Курляндии по ровной дороге, скованных морозом вод Дризома.
Митавский дворец или, лучше сказать, замок герцогов Курляндских находился на том же самом месте, на котором существует нынешний дворец, не напоминающий, впрочем, нисколько прежнего замка. Основанный в 1264 году гроссмейстером немецкого ордена Кондратом фон Майдерсом в виде укрепления, окруженного рвом, замок постоянно и постепенно укреплялся и наконец приведен был почти в неприступное положение. Это было неуклюжее, грубой работы здание с толстыми стенами, узкими окнами, как и все немецкие замки того времени. В таком виде замок существовал до 1703 года, когда русские взяли его приступом, срыли укрепления, но оставили самый замок нетронутым. Ныне дворец окружают парки и сады, но в то время это была самая непривлекательная, печальная местность, безлесная и болотистая, по которой уныло пробирался мутный Дризом, приток Аа.
На другой день, 23 января, утром, чуть божий свет стал брезжиться и выводить из полумрака незатейливый дворец герцогов Курляндских, а немецкие головы обнажаться от ночных колпаков, граф Рейнгольд уже входил в то отделение, примыкавшее ко дворцу, где имел пребывание камер-юнкер Эрнст Иоганн Бирон.
День 23 января 1730 года – роковой счастливый день для Эрнста Иоганна Бирона, круто повернувший его незавидную долю, поставивший этого внука конюха в графы, владетельные герцоги и, наконец, в распорядители судеб одной из великих империй в мире.
– Ах, граф! Извините… простите… чему я обязан чести видеть… принимать… – говорил Эрнст Иоганн Бирон входившему в его кабинет графу Рейнгольду Левенвольду. – Я не одет… в таком костюме.
Видно было, что раннее и неожиданное посещение Левенвольда озадачило камер-юнкера. Он заметно смутился и, в торопливости закрывая рукою голую шею, тем незаметно раскрывал полы шлафрока.
– Важные новости, любезный господин камер-юнкер, сегодня ночью привез мне гонец от брата.
– Из Москвы?
– Из Москвы.
Господин камер-юнкер изменился в лице: он знал нерасположение к себе московских бояр и боялся их.
– Важные новости… – продолжал между тем граф, понижая голос и оглядывая комнату.
– Не беспокойтесь, господин граф, мы одни… нас не могут слышать… Но садитесь, граф… вот вам здесь удобнее.
– Новости, которые требуют величайшего секрета.
Бирон обратился весь в ожидание.
– Российский государь Петр II скончался… Брат думает… и Остерман тоже полагает… заметьте… и Остерман… – продолжал граф уже шепотом, – что московские бояре выберут нашу всемилостивейшую государыню.
– Как?! – только и мог пробормотать Бирон, совершенно растерявшись и отупело смотря на гостя.
– Нашу всемилостивейшую государыню в императрицы всероссийские… Мой брат и Остерман… тоже… предполагают, что бояре воспользуются этим случаем и потребуют различных условий… Какие это будут условия – неизвестно, да, вероятно, об них еще и не говорили, так как гонец послан тотчас же по кончине государя, но, во всяком случае, брат и Остерман советуют принять какие бы то ни были условия. Когда сделается наша государыня императрицею, тогда от нее будет зависеть исполнять или не исполнять… Понимаете?
– О… да… конечно… господин граф!
– Предупредите об этом государыню, и более никому ни слова… решительно никому… Надобно, чтобы государыня все заранее обдумала и решила, но не показывала бы и вида, что ей известно, когда приедут посланные… Вы, как секретарь государыни, можете приказать немедленно доносить обо всех, кто будет приезжать из Москвы, и следить за ними.
– Конечно… конечно… – повторял Бирон.
– Засвидетельствуйте государыне нашу, брата и мою, глубочайшую преданность. Лично я не могу теперь этого сделать: во-первых, так рано…
– Государыня встала, но еще не одета.
– Во-вторых, – продолжал граф, как будто не замечая промаха секретаря, – я здесь по своим частным делам… по хлопотам и по покупкам… понимаете? И когда все это исполню, тотчас отправлюсь домой.
Граф уехал, а секретарь Иоганн, наскоро одевшись, отправился к герцогине, куда и был беспрепятственно допущен.
Весь тот день приближенные государыни удивлялись ее странной рассеянности, видимой озабоченности и волнению. Она казалась то как будто необыкновенно весела, приветлива ко всем, то грустна и боязлива до нервного потрясения. Она задумывалась, соображала, решала что-то, чаще обыкновенного призывала в свой кабинет секретаря и даже, к крайнему общему удивлению, отменила назначенную было на тот день свою любимую охоту.
Общее недоумение разрешилось приездом из Москвы депутатов: Долгорукова, Голицына и Леонтьева, допущенных тотчас же по приезде на аудиенцию к Анне Иоанновне. После аудиенции герцогиня объявила о смерти племянника и о своем избрании на московский престол.
Депутаты казались довольными после аудиенции. Получив торжественное согласие на все предложенные кондиции, скрепленные подписью государыни, они считали свое дело окончательно выигранным.
На другой день после приема у государыни депутатов прибыл в Митаву и запоздавший гонец Ягужинского, несчастный Сумароков, миссия которого увенчалась печальным финалом. Тотчас же по приезде в Митаву он был узнан одним из служителей Долгорукова и по приказанию князя немедленно схвачен. Его обыскали, нашли подлинное доношение Ягужинского, допросили с приличным собственноручным пристрастием от князя Василия Лукича Долгорукого и посадили под караул.
IV
В Москве, по отъезде депутатов в Митаву, заметно было общее волнение. Народ любил своего юного государя, помнил горькую долю его отца и крепко веровал в свое лучшее будущее при сыне мученика. После грозного тридцатипятилетнего царствования Петра Великого, почти сплошь проведенного в войнах и внутренних беспрерывных ломках, беспощадного в преследовании своей цели, не терпевшего протестов, серый народ стал успокаиваться и отдыхать. Нерадостна была его и прежняя доля, дореформенная. Прикрепленный к земле, обираемый своими господами, обдираемый местными властями – воеводами, без защиты и управы, он прежде имел хотя то утешение, что льстился возможностью заявить о своих нуждах государю купною челобитною от имени таких-то людишек, при грозных реформах исчезла и эта возможность. Принося и жизнь, и последние достатки на военные потребности и новые порядки, он не понимал, к чему ведут эти новые порядки, он только чувствовал, что ему стало тяжелее.
По смерти Петра I беспрерывное введение новых порядков приостановилось, не получалось новых приказов о высылке людишек туда-то и туда-то к границам, для каких-то утомительных работ, в которых погибало их такое множество. В народе носились слухи об остроте ума молодого государя, о его справедливости, и народ полюбил его, как родного московского царя, и стал веровать, что с возмужанием его настанут лучшие времена. Но тогда как народ, этот вечно серый работник, благом которого одинаково прикрывались и действительно полезные государственные меры, и корыстолюбивые, эгоистические стремления, оплакивал преждевременную смерть, разбившую его надежды, и терпеливо, благодушно ожидал будущего, но не так терпеливо и благодушно относились к этому будущему другие группы.
На другой же день после кончины царя и избрания ему наследницы стали по городу распускаться слухи об ограничениях самодержавной власти вновь избранной императрицы властью верховников. Заговорили об этом вдруг все, но кем были распущены эти слухи – оставалось неизвестным. Однако же, если бы кому-нибудь вздумалось дорыться в этом мотке до основы, то ниточки непременно привели бы любознательного к дому Марфы Ивановны.
По мере распространения слухов распространялось и всеобщее неудовольствие. Волновались все классы московского общества, кто по отвращению ко всякой новизне, а кто из личного расчета. Высшее дворянство видело в затеях, или, как выражался Феофан Прокопович, затейках, верховников только прибавление лиц гнетущих, оттирающих от источника милостей, к которому каждый стремился и на который каждый рассчитывал. Более мелкое дворянство, выдерживавшее и так тяжелое давление сильных мира сего, конечно, не могло желать еще большего давления, ставившего в полную небезопасность и личность, и имущественные права их, ставившего их под постоянную угрозу при малейшем подозрении и немилости какого-нибудь сиятельства, светлости или высокопревосходительства странствовать всю жизнь по хладным степям Сибири. Натерпевшись и без того от произвола, оно и желало бы ограничения, но такого, которое обеспечивало бы их права; а такое ограничение не было выработано и подготовлено. Не менее волновалось против верховников и духовенство, верное своему традиционному направлению и видевшее в самодержавии постоянный источник к себе милостей.
Совершенно верно охарактеризовал состояние тогдашнего русского общества Рондо, английский резидент при нашем дворе, в депеше к своему правительству от 14 февраля 1730 года: «В России до сих пор все привыкли повиноваться неограниченному владыке, и ни у кого нет правильной идеи о правлении ограниченном. Аристократия желала бы забрать всю власть в свои руки, но против этого среднее дворянство, предпочитающее одного господина вместо нескольких, если не может быть гарантий их прав от тирании высших особ».
Верность замечания умного резидента доказывается и сохранившимся письмом дворянина средней руки, бывшего казанского губернатора Артемия Петровича Волынского: «Слышно здесь, что делается у вас или уже и сделано, чтоб быть у нас республике. Я зело в том сумнителен. Боже сохрани, чтоб не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти самовластных и сильных фамилий, и так мы, шляхетство, совсем пропадем и принуждены будем горше прежнего идолопоклонничать и милости у всех искать, да еще и сыскать будет трудно, понеже ныне между главными, как бы согласно ни было, однако ж впредь, конечно, у них без разборов не будет, и так один будет миловать, а другие, на того яряся, вредить и гудить станут».
Москвичи заволновались. Собирались кружки, толковали, спорили; были голоса и за верховников, но их было мало. Некоторые дома влиятельных особ, как, например, дом князя Алексея Михайловича Черкасского, сделались центрами, куда ежедневно приезжали дворяне обсуждать и решать, как поступить в отпор затейкам верховников. Каждый предлагал примеры, сообразные своему характеру и убеждениям, кто говорил о необходимости и возможности силою двинуться на верховников, захватить их, заставить отказаться от затеек, кто советовал осторожность, выжидать, подождать, по крайней мере, приезда императрицы. Наконец из общей массы стали выделяться люди с определенным взглядом, образованным умом, и около них стали группироваться остальные. Из числа этих заметных людей особенно выдавался передовой человек того времени, наш первый историк Василий Никитич Татищев…
Две недели прошли в бесплодных толках, не приведших ни к какому окончательному решению. Наконец, 3 февраля все члены Сената, Синода и весь генералитет получили повестки из Верховного тайного совета с приглашением пожаловать завтра в собрание по важному государственному делу, но по какому именно делу, в повестке ничего не говорилось, как не говорили и посланные с повестками. Открылось обширное поле для догадок и сомнений. Ехать ли? Не подвох ли это от верховников?.. Заманят, арестуют да и отправят странствовать по снежным дебрям. Тем более опасно, что у посланных такие веселые лица! В некоторых домах успели, однако, допытаться от посланных о получении какого-то письма из Митавы от императрицы. Весть об этом быстро разнеслась по городу, и на другой день собрание открылось многочисленное, но всех поразило одно весьма серьезное обстоятельство: у дверей залы, в смежной комнате и в переходах везде стояли военные караулы.
С довольным лицом вошел в собрание князь Дмитрий Михайлович Голицын, с бумагою в руках, в сопровождении верховников. На всех лицах выражалось ожидание.
– Всемилостивейшая государыня Анна Иоанновна, – начал он торжественно, – соизволила согласиться на наше избрание и удостоила нас следующим милостивым письмом. – И он, развернув сверток, прочитал:
– «Хотя я рассуждала, как тяжко есть правление столь великой и славной монархии, однако же, повинуясь Божеской воле и прося Его, Создателя, помощи, к тому ж не хотя оставить отечества моего и верных наших подданных, намерилась принять державу и правительствовать, елико Бог мне поможет, так, чтобы все наши подданные, как мирские, так и духовные, могли быть довольны. А понеже к тому моему намерению потребны благие советы, как и во всех государствах чинится, того для пред вступлением моим на российский престол, по здравом рассуждении, изобрели мы за потребное, для пользы Российского государства и к удовольствованию верных наших подданных, дабы всяк мог ясно видеть горячность и правое наше намерение, которое мы имеем к отечествию нашему и верным нашим подданным, и для того, елико время нас допустило, написав, какими способами мы то правление вести хощем, и подписав нашею рукою, послали в Верховный тайный совет, а сами сего месяца, в 29-й день, конечно, из Митавы к Москве для вступления на престол пойдем».
После этого были прочтены князем и самые кондиции, внизу которых находилась следующая подпись императрицы: «По сему обещаю все без всякого изъятия содержать».
Как гром оглушил собрание рескрипт императрицы.
– Видите ли, как милостива государыня! – заговорил громко Дмитрий Михайлович. – Какое благодеяние оказала она отечеству нашему! Бог ее вразумил, и отныне счастлива и цветуща будет Россия!
Ответа не было. Все стихло под гнетом нового благодеяния «кондиций российскому правлению». Каково положение было присутствующих, можно видеть из оригинального рассказа очевидца этих событий Феофана Прокоповича: «Никого, почитай, кроме верховных, не было, чтоб, таковые слышав, не содрогнулся. И сами те, которые вчера великой от сего собрания пользы надеялись, опустили уши, как бедные ослики».
Радовались одни только верховники. Перешептываясь между собою и показывая вид, что будто бы и они удивлены такою неожиданною милостью императрицы, вместе с тем они зорко и подозрительно следили за всеми присутствующими.
Молчаливое положение становилось неловким, и, чтобы прервать его, князь Дмитрий Михайлович проговорил:
– Не желает ли кто-нибудь чего высказать, хотя и говорить-то нечего, кроме благодарности милосердной государыне?
Из толпы послышался чей-то тихий и боязливый голос:
– Не ведаем и чуждаемся мы, отчего бы государыне пришла такая мысль?
Но этот трусливый вопрос не удостоился ответа. Верховникам были известны другие, более деятельные интригующие попытки, которые требовали ответа решительного, отбившего бы охоту на дальнейшие протестации.
Подле князя Дмитрия Михайловича стоял генерал-прокурор Павел Ягужинский, которого гонец так нещадно был избит собственноручно князем Василием Лукичом Долгоруковым и затем доставлен в Москву в колодках генералом Леонтьевым, привезшим и письмо государыни. Павел Иванович не знал еще участи своего посла, но тем не менее невольно тревожился гордою самоуверенностью верховников и подмеченными им раза два странными взглядами на него князей Долгорукова и Голицына. Конечно, он имел заручку в среде верховников в тесте своем канцлере Головкине, но вместе с тем он близко знал тестя, знал, что тот ни за какого близкого человека не рискнет ни на какую решительную меру. Подозрительны казались ему эти странные взгляды. До сих пор верховники считали его из своих, не скрывались перед ним, и вдруг такая перемена! Как будто они прочли в его сердце, увидели там на дне неугомонно грызущего самолюбивого червячка, не терпевшего впереди себя никого и смертельно оскорбленного неполучением места в Верховном тайном совете.
Вдруг князь Дмитрий Михайлович круто повернулся к Павлу Ивановичу и, подавая ему кондиции российскому правлению, сурово проговорил:
– Не угодно ли господину генерал-прокурору прочитать кондиции и сказать свое мнение?
Ягужинский смутился и видимо потерялся.
– Так я приказываю вам не выходить отсюда, – продолжал князь еще более сурово, отворачиваясь от побледневшего Павла Ивановича и подзывая рукою статс-секретаря Степанова. – Поговори-ка с генералом пояснее, – поручил князь подошедшему статс-секретарю.
Тот взял под руку Ягужинского и вывел в соседнюю комнату, куда почти следом пришел князь Василий Владимирович Долгоруков с майором гвардии.
– Возьми-ка, господин майор, у генерал-прокурора шпагу, – распорядился князь Василий Владимирович, – и отведи его под арест в дворцовую караульную.
Ягужинского увели.
Эпизод этот не мог не произвести должного эффекта. Кто совершенно застыл, кого нервно передергивало, но у всех появилось одно общее желание, скорее бы выйти из этой западни, хотя бы провалиться. Несогласных с верховниками была масса, но масса не подготовленная, не сплотившаяся, не решившаяся окончательно на какую-либо меру. Только после нескольких минут успел оправиться выдвинутый обстоятельствами в вожаки князь Алексей Михайлович Черкасский. Он нерешительно подошел к членам Верховного тайного совета и почтительнейше просил даровать господам дворянам время «порассудить свободнее».
Со своей стороны, и верховники тоже чувствовали себя в неловком положении. Правда, у них была сила, было войско, так как в среде их было два фельдмаршала, но они видели против себя молчаливый, но тем не менее упорный протест всего общества. Нельзя же было всех подвергать допросам с пристрастием или посылать путешествовать. Надобно было и им обсудить свое положение, а теперь освободиться от этой упрямой, не понимающей своей пользы толпы.
По данному разрешению толпа радостно хлынула из собрания, как школьники, не приготовившие урока и вдруг отпущенные домой по болезни страшного учителя.
В то же утро отслужено было во всех соборах и церквах московских благодарственное молебствие по случаю изъявленного герцогинею Анною согласия на воцарение. Феофан Прокопович не упустил благоприятного случая подставить ножку верховникам. На ектениях о здравии государыни диакон по распоряжению Синода провозглашал ее имя с титулом самодержавной. «Не любо было это верховникам, – рассказывает сам Феофан, – и каялись они в оплошности своей и запамятовании, но уж было поздно». В тот же день от Синода разосланы были титулованные формы по всем городам.
Не рискнув на крутую меру против массы недоброжелателей, бывших в собрании, верховники налегли на отдельных лиц, в надежде устрашить остальных и отбить охоту к противодействию. Начались аресты, обыски и допросы лиц, по чему-либо выделившихся или подозрительных князьям Долгоруковым и Голицыным. Но эта мера привела к совершенно противоположному результату. Правда, она напугала многих, заставила скрываться, прятаться, переодеваться, но в то же время и всполошила недовольных. В некоторых центрах кружки стали теснее, составлялись более образованными людьми записки, в которых выражалось уже определенное желание.
Более многочисленные кружки образовались в доме богача того времени князя Алексея Михайловича Черкасского, около Василия Никитича Татищева, под запискою которого подписалось до двухсот девяноста трех лиц. В этой записке говорилось, что дворянство не прочь было от ограничения власти, но отвергало только решительное преобладание аристократической партии, казавшейся ему пагубнее самодержавия. Следуя логическому настроению, Василий Никитич прежде высказал мнение о непорядочности избрания наследника четырьмя или пятью лицами, тогда как в избрании должно бы было быть согласие всех подданных, или персонально, или через поверенных, как это производится в других государствах. Затем высказывается главная мысль записки: «Хотя мы ее (императрицы Анны Иоанновны) мудростью, благонравием и порядочным правительством в Курляндии довольно уверены, однако ж как есть персона женская, так многим трудам неудобна, паче же ей знания законов недостает, для того на время, доколе нам Всевышний мужескую персону на престол дарует, потребно нечто для помощи ее величеству вновь учредить».
Эти новые учреждения, по мнению Василия Никитича, должны были заключаться в следующем: 1) в Сенате, долженствующем состоять из двадцати одного, в том числе и членов Верховного тайного совета, 2) в другом, «нижнем правительстве», заведующем внутреннею экономиею, из ста человек, разделенных на три части для занятий по третям года; в случаях же важных члены «нижнего правительства» должны собираться в общее собрание, которое, впрочем, может продолжаться не более месяца. Кроме этих главных мер, Василий Никитич предлагал еще некоторые дополнительные, как, например: места сенаторов, президентов и вице-президентов коллегий, губернаторов и вице-губернаторов замещать баллотированием в Сенате и «нижнем правительстве». Проекты новых законов должны быть предварительно рассмотрены в коллегиях. В Тайной канцелярии должны присутствовать депутатами два сенатора и т. д. В заключение излагались меры к развитию образования.
Почти подобного же содержания была и другая записка, подписанная князем Куракиным и пятнадцатью дворянами, с тем только различием, что в нем предлагалось оставить при Сенате и «нижнем правительстве» и Верховный тайный совет. В заключение этой записки заявлялось желание на переезд двора в Москву, которая должна оставаться постоянной государственной резиденцией.
Эти две записки должно считать собственно протестующими, так как в третьей, подписанной генералом Матюшкиным и девяноста тремя дворянами, предоставлялось право рассмотрения и решения вопроса об изменениях в образе правления одному Верховному тайному совету.
Татищевская записка представлена была совету на другой день после собрания, то есть 4 февраля, князем Черкасским с просьбою от дворян о немедленном ее рассмотрении и обсуждении вместе с депутатами из среды подписавшихся дворян. Сопоставляя число внесения записки генерала Матюшкина, 5 февраля, с числом внесения записки Татищева, 4 февраля, нельзя не видеть в первой желания верховников парализовать стремление оппозиционной партии.
На все эти заявления верховники отвечали гордым и решительным отказом, что «им одним надлежит все учреждение учинить, не требуя ничьего совета», но в действительности в совете, только подходящем к их партии, они сильно нуждались. Кондиции российскому управлению, составленные князем Дмитрием Михайловичем, заключали только общие черты без подробностей, без соглашения их с существовавшим строем. Необходимо было определить новые формы для преобразований, новые функции для отправления новой власти, необходима спешная организаторская работа, а между тем людей, способных для выполнения ее, не было. Сам Дмитрий Михайлович был человек, бесспорно, большого ума, но не отличавшийся быстрым соображением и не подготовленный к быстрому проведению государственных реформ. Необходимо было углубиться, всецело отдаться разработке заданного себе вопроса, а это-то и невозможно было при беспрерывных отвлечениях практическими вопросами, возникавшими от столкновений с партиями. Кроме же Дмитрия Михайловича, никого из верховников, способных и желавших заняться этим делом, не было. Князья Долгоруковы способны были только на придворные интриги; граф Головкин по нерешительности характера отклонил от себя всякое личное участие; Остерман, осторожный до крайности, не считал себя вправе быть главным руководителем дела, которому будто бы мешало его иностранное происхождение.
Точно так же и противная партия не могла выставить, кроме Василия Никитича, даровитых деятелей. Большинство ее состояло из людей неразвитых, слепо приверженных к старине и не понимавших иных потребностей, но зато они были в более выгодном положении, их роль ограничивалась простым отрицанием.
Развязку борьбы составлял приезд новой императрицы, и обе партии с напряженным нетерпением ожидали этого приезда.
V
Февраля 10-го прискакал гонец с известием о приближении к Москве государыни. Немедленно по распоряжению Верховного тайного совета к ней отправились три архиерея и три сенатора, встретившие ее в селе Чашники. Посланные поздравили императрицу, выслушавшую их с благосклонною улыбкою и удостоившую их милостивым словом; при приеме этих первых депутатов находился сопровождавший Анну Иоанновну и почти не отходивший от нее князь Василий Лукич. Зорко присматривался к ним князь Василий и, как рассказывает Феофан, остро наблюдал за всеми их движениями: «толико, сиречь, трусливо и опасно было оно и властолюбивое шатание».
Из Чашников императрица выехала в тот же день после обеда, а в третьем часу по полуночи прибыла в село Всехсвятское, отстоявшее от Москвы в семи верстах, где и предположила оставаться до торжественного въезда в столицу, назначенного совершиться после погребения тела усопшего императора. По прибытии во Всехсвятское к императрице приехали ее сестры, Екатерина Ивановна и Прасковья Ивановна, а затем начались и торжественные приветствия. 11 февраля, тотчас после погребальной церемонии, из Москвы явились члены Верховного тайного совета, сенаторы и другие сановитые особы; вместе с тем прибыл для почетного караула и батальон преображенцев с отрядом кавалергардов. Государыня встречала всех милостиво и была особенно любезна с верховниками.
Члены Верховного тайного совета просияли от такого благосклонного приема и стали обнадеживаться в успехе предприятия. Через два дня, то есть 14 февраля, все сановники снова приехали во Всехсвятское для поднесения государыне ордена святого Андрея Первозванного. В речи, сказанной князем Дмитрием Михайловичем, верховники просили ее величество принять на себя звание гроссмейстера этого ордена, по примеру предшественников, а самые орденские знаки были поднесены государственным канцлером Головкиным. Анна Иоанновна соизволила благосклонно выслушать речь и принять знаки, но в этот приезд верховники не казались особенно сияющими.
Дело в том, что императрица, слишком уже ласково приняв явившихся для караула преображенских и кавалергардских офицеров, тотчас же самовольно назначила себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов, а генерал-поручика Семена Андреевича Салтыкова – полковником Преображенского полка1. От этой милости офицеры, конечно, пришли в восторг и со слезами радости, как рассказывает герцог Лирийский, целовали руки государыне. Одновременно с этим назначением солдаты обильно угощены были водкою, что, разумеется, вызвало горячие изъявления их преданности. В сущности, это было первое нарушение кондиций, так как назначения в гвардию и армию зависели от Верховного тайного совета. Государыня, видимо, желала приобрести расположение войск, а опыты уже столько раз доказывали, что значит войско! Наконец и князь Василий Лукич, надзирающий зорко за императрицею, стороживший ее как «некий дракон», в первый раз заметил в императрице как будто какую-то принужденность в отношении к себе.
Между тем в Москве все приготовлялось к торжественному въезду императрицы, назначенному на 15 февраля по особому церемониалу, составленному Тайным советом. Вся столица пришла в движение и приняла на этот день особенно радостный, торжественный вид. Устроены были двое триумфальных ворот, у Земляного города и у Воскресенских ворот, между которыми по обеим сторонам улицы стояли шпалерами полки: 1-й и 2-й Московские, Выборгский, Воронежский, Копорский, Симбирский, Бутырский и Вятский; от Красной же площади и Воскресенских ворот до Успенского собора, точно так же шпалерами, стояли полки Преображенский и Семеновский. Самые улицы преобразились, усыпанные песком и обставленные перед каждым домом еловыми деревьями, эффектно зеленевшими на снеговом фоне. На всем пути толпились несметные громады народу.
В объемистой золотой карете, запряженной девятью богато убранными лошадьми, ехала императрица. Кучер и форейтор были одеты в лазоревые бархатные ливреи, обложенные золотым позументом; у каждой лошади шел особый конюшенный служитель. По сторонам кареты шли пятеро гайдуков и ехали верхами: на правой стороне князь Василий Лукич, имея за собою генерал-майора Леонтьева, на левой стороне князь Михаил Михайлович Голицын, имея за собою генерал-майора Шувалова. При въезде в Земляной город императрицу встретил семьдесят один пушечный выстрел, а в Белый город – восемьдесят пять выстрелов. На Красной площади ее ожидало духовенство с иконами и крестами. Наконец, когда торжественный поезд вступил в Кремль и императрица вошла в Успенский собор, раздался оглушительный залп из ста одного орудия, сопровождаемый троекратным беглым ружейным огнем всех полков.
Из Успенского собора государыня в сопровождении блестящей свиты вельмож и придворных изволила шествовать в Архангельский, а оттуда в приготовленные дворцовые апартаменты.
Но с великим, радостным торжеством не гармонировало душевное настроение участвующих и зрителей. Лицо императрицы казалось сумрачным и как будто печальным; ее, не привыкшую к таким почестям, загнанную в молодости и всегда забитую, пугали и эти церемонии, и эти громкие крики. Лица верховников были озабочены и пытливы, а в массах зрителей, сквозь любопытство, пробегало невольное беспокойство о будущем. Народ инстинктивно понимал, что все делается как-то не так, не по-прежнему, и что самое избрание императрицы вышло какое-то странное. О державных правах даже и отца-то ее, Ивана Алексеевича, в народе не сохранилось никакой памяти по немощности его, слабоумию и постоянному отдалению от правительственных дел, а тем более о правах дочерей, повышедших замуж и уехавших. В памяти народной держался резкий и величавый образ Петра как единственного государя, а от него невольно переводились права на детей его, из которых одна величавая и веселая Елизавета пользовалась полною его симпатиею. Да и можно ли сравнивать этих двух двоюродных сестер, Анну и Елизавету: одна, невольно наводящая тоску осенней невзгоды, другая светлая и сияющая.
Под тяжелым впечатлением расходился народ с церемонии.
В первые же дни по прибытии избранной императрицы должен был решиться вопрос о присяге, вопрос весьма важный, так как им главным образом всенародно очерчивались будущие отношения правительственной власти. Верховники занялись им тотчас же. Верный своей идее, князь Дмитрий Михайлович предположил составить новую форму присяги, в которой бы клятва произносилась общая, на имя государыни и Верховного тайного совета.
– Лучше, по-моему, – говорил он, насупливая густые брови, – зараз поставить так, чтобы всяк понимал и не имел никакого шатания в разуме своем.
Но это решительное мнение встретило возражения почти от всех его товарищей-верховников. Великий канцлер Головкин, большой любитель компромиссов и полумер, первый заговорил о рискованности, о том, что подобная резкая перемена непременно возбудит общее неудовольствие и может погубить их всех. За ним вице-канцлер Андрей Иванович не преминул вставить свое иностранное происхождение, вследствие которого будто бы неминуемо должно было возникнуть обвинение в своекорыстных расчетах иностранца. С мнениями канцлеров согласились и остальные – Голицын и Долгоруковы.
В чем же должно состоять изменение? А оно необходимо ввиду изменения значения Верховного совета – в этом согласны были Голицыны и Долгоруковы, но не согласны Головкин и Остерман, высказавшие наконец мысль, что особенной надобности нет в новой форме присяги, как не имеющей никакого влияния на значение Верховного совета.
Несколько дней прошло в совещаниях и спорах; наконец решено было на том, чтобы в присяге выразить ограничение самодержавия словами клятвы на имя государыни и отечества.
Мучились верховники в сочинении новой реформы присяжного листа, но не менее мучилась напряженным ожиданием оппозиционная партия, а в особенности владыка Феофан Прокопович. Каждый день бегали секретари из Синода в канцелярию Тайного совета за новою формою, но каждый день получался один и тот же ответ: «Не готова». Убежденный в существенных переменах, Феофан, желая подготовить противодействие, витийствовал в Синоде, в кругу собравшегося духовенства, и везде, где только мог, о том, что «великое весьма дело есть присяга и вечно наводит бедство, если кто присягнет на то, что противно совести, или чего и сам не хощет или не ведает».
Каково же было изумление сладкоглаголивого Феофана, когда вдруг, неожиданно, утром 20 февраля, в собрание Синода прибежал секретарь совета с приглашением пожаловать в Успенский собор для совершения присяги, где уже находились верховные господа и вельможи. Смутились архиереи, а еще более сам знаменитый вития.
– Не идем в сонм зложелательных, – начал было говорить он духовенству, но ему заметили с должною настойчивостью, что собор окружен войском и что сопротивление может повести только к неприятным последствиям. Архиереи убедились и немедленно отправились в собор, а за ними и сам вития Феофан.
При входе духовных в собор, наполненный уже всеми военными, придворными и статскими особами, князь Дмитрий Михайлович подошел к Феофану Прокоповичу и высказал просительским голосом:
– Соблаговолите, преосвященный владыка, первые учинить присягу, яко пастырь всего народа и предводитель духовных дел.
На это упрямый предводитель духовных дел прежде всего потребовал разрешения сказать приличное слово. В этой речи он, точно так же, как и в Синоде, распространился о бедствиях, совершающихся от необдуманно данной клятвы, предостерегал всех присутствующих не торопиться присягать и в заключение потребовал предварительного прочтения вслух присяжного листа.
– Не подобает черноризцу… – заговорил было своим суровым голосом князь Дмитрий Михайлович, но и на этот раз его товарищи, заметив общее волнение, поспешили вмешаться согласием на просьбу архипастыря. Потребовали подлинный присяжный лист, и, к общему изумлению, налицо не оказалось в храме ни одного экземпляра, из чего Феофан выводит заключение, как «фракция оная все торопко и непорядочно делала, и в затейках своих больше имела страха, нежели упования». Наконец принесли форму, прочли, и так как в ней все изменение заключалось только в опущении слова «самодержавие» и в добавлении, что присягают «государыне и отечеству», без упоминания «осьмомочия», по выражению Феофана, то все духовные и сановники присягу в обыкновенном порядке совершили.
За присягою в Успенском соборе безостановочно последовала присяга остальных жителей столицы и в провинциях. Таким образом обойден был этот первый подводный камень.
VI
С самого приезда в Москву Анна Иоанновна не улыбалась. Пасмурная и грустная, с угрюмо нависшими бровями, она, видимо, тосковала в московском дворце. Жаль ли ей было прежней митавской жизни, скудной средствами, но, по крайней мере, свободной в домашнем быту, или сердце изнывало по оставленном друге в Митаве, или ее не привыкшей к сдержанности природе слишком претило постоянное шпионство Василия Лукича, но только со дня на день государыня становилась все более озабоченнее и раздражительнее. Впрочем, надзор Василия Лукича действительно мог раздражить и натуру более спокойную и мягкую. Поселившись во дворце, рядом с покоями императрицы, и выказывая ей в публике все знаки верноподданнического уважения, он в то же время в интересе своих товарищей-верховников, а может быть, и в надежде воротить к себе когда-то мимолетную благодарность государыни, отдалял от нее всех, следил за каждым ее движением, за каждым шагом, не допуская к ней без себя не только мужчин, но даже и многих дам. Истинно, как «некий дракон»!
Целый час ходит императрица своею обыкновенною тяжелою поступью по своему апартаменту из угла в угол, молча, иногда перебрасываясь словами со старшею сестрою Екатериною Ивановною.
– Что ты за императрица? – чуть ли не в сотый раз повторяет Екатерина Ивановна, особенно не любившая верховников, обошедших ее перворожденные права. – Воли ты имеешь меньше, чем мы.
Анна Иоанновна продолжала ходить, как будто не вслушиваясь в слова сестры.
– На что уж тетушка покойная, судомойка, а силу имела не твою, а ведь ты дочь царя, старшего брата!
– Силы нет… Что я стану делать одна? – оборвала Анна Иоанновна, остановясь перед сестрою. – У тетки были преданные люди, а у меня где они?
– И у тебя они есть. Вот Марфа Ивановна мне сегодня рассказывала, как муж ее Андрей Иванович стоит за тебя. Да не один ее муж. Множество дворян съезжаются друг к другу… говорят, не желают верховников.
– А где войско? У них два фельдмаршала.
– Что значат фельдмаршалы без воев?.. Ничего… Семен Андреевич говорит, что все преображенцы грудью станут за тебя.
– Да, говорят… Мало ли что говорят… иногда так, зря… а иной раз и не зря, да и других введут в беду, – отрывисто обронила слово Анна Иоанновна, шагая из угла в угол. – А мне так поступать не следует… Вспомни, сестра, что вытерпели все мы, дочери, как ты называешь, старшего царя, – продолжала императрица, снова останавливаясь перед сестрою. – Были ли мы в чести, смотрел ли кто на нас как на царских детей? Даже и именами-то не называли, а так просто, Ивановнами. Повыдали тебя и меня замуж, разве дядя спросил, любы ли нам мужья? Ты опять воротилась сюда, а я, хотя и жила в своем герцогстве, да жила не лучше твоего… жила скаредно. Свои местности все были в залоге по займам. Одному Бестужеву сколько переплатила. Бывало, за милостынею ездишь сюда, кланяешься, кланяешься этим же фаворитам… подличаешь, собачек им отыскиваешь, ну и дадут какую-нибудь подачку… Нет, сестра, к прежней жизни поворота нет… да и не может быть… Теперь в случае неуспеха поворот поведет подальше… – И императрица снова зашагала по комнате.
– Ну а если, сестра, все шляхетство будет просить тебя принять самодержавство, как было по-прежнему? Разве откажешься?
– Откажешься? Какая ты странная, сестра. Да разве мне весело сидеть под замком у этого Василия Лукича? Разве я не ненавижу всех этих Долгоруковых и Голицыных? Тут начнет шляхетство…
– Прасковья Юрьевна заверяет, что все сообща хотят просить тебя… будто и день, послезавтра, назначали.
– Знаю… сестра, и у меня своя корреспонденция есть… Обо всем знаю… Пусть начинают. Я потому медлю и ратификациею кондиций… Вчера князь Дмитрий Михайлович пристал: нужно, дескать, ратификовать кондиции для обнародования, а я ему и говорю: как же мне ратификовать их? Если я выбрана, как вы говорите, всем народом, то и кондиции должны быть предложены от всего народа, а если выбрана только вами, верховниками, то таковое избрание действительно ли? Он и смутился, не знает и сам, что делать… – закончила императрица уже мягче и даже улыбаясь.
В это время дверь распахнулась, в комнату вбежал мальчик и бросился прямо на шею к Анне Иоанновне.
Это был старший сын Бирона, любимец государыни, которого она взяла с собою из Митавы, поместила подле своей спальни и за которым ухаживала с материнскою нежностью.
– Вот мой курьер, – сказала государыня, с любовью целуя мальчика и вынимая бумажку, спрятанную у него за рубашкою. – Я ведь все знаю… только не говорила, а теперь, почитай, уж можно. Милый ты мой, скоро ты увидишься с папою.
Императрица развернула бумажку, прочитала несколько слов и подошла к столовым часам, на днях поднесенных ей в знак усердия Феофаном Прокоповичем, подняла доску и взяла оттуда сложенную бумагу, вею исписанную. В этой бумаге подробно описывались все предположения дворян, их окончательное решение и даже назначение дня.
– Молись Богу, Катя, наша участь может измениться.
Мог ли предположить «некий дракон» Василий Лукич, зорко стороживший за всеми движениями императрицы и всех являвшихся к ней, в этом миленьком, невинном белокуром мальчике – злого гения, покончившего с ними, великанами.
Накануне заговора сестер, вечером, в покоях обширного дома генерал-поручика князя Ивана Федоровича Барятинского собралось довольно большое общество. Более семидесяти дворян, или, как они сами тогда себя называли, шляхтичей, шумели и кричали: всех занимал один и тот же серьезный политический вопрос о кондициях российскому правлению.
– Ну их, к черту, верховников! Мы не крепостные! Будет ломаться над нами! – раздавалось в разных местах из общего гула.
Гости разделились на две кучки, но видно, что большинство тяготело к одной группе, в которой находились хозяин Иван Федорович и Василий Никитич Татищев. После долгих споров наконец все остановились на том, чтобы написать челобитную к императрице, в которой просить ее приказать рассмотреть мнение их, шляхтичей, поданное Верховному тайному совету 4 февраля, и затем решить по большинству голосов, какой должен быть введен образ правления. В силу такого решения все единодушно стали просить Василия Никитича написать сейчас же от них прошение к императрице. Для Василия Никитича, как человека опытного в писании, это не представило никакого затруднения, и прошение было действительно изготовлено в какие-нибудь полчаса.
– Опробуем! Опробуем! – отозвались все, когда Василий Никитич прочитал свое произведение.
Но заявление от одного все-таки малочисленного для такого дела собрания не могло иметь особенного значения, а потому хозяин, Иван Федорович, предложил немедленно же передать эту просьбу князю Алексею Михайловичу Черкасскому, у которого постоянно собиралась более значительная партия. Поехал с прошением сам автор Василий Никитич, как владеющий полною возможностью доставить все объяснения и убедить в необходимости единодушного содействия в таком рискованном деле.
У князя Алексея Михайловича Василий Никитич застал большое, шумное сборище, человек более девяноста, в котором много было и из генералитета. В числе собравшихся находились: князь Григорий Дмитриевич Юсупов, Дмитриев-Мамонов, Антиох Дмитриевич Кантемир и несколько гвардейских офицеров. Объяснив окончательное решение барятинского кружка, Василий Никитич прочел сочиненное им прошение, которое все единогласно одобрили, а князь Антиох Дмитриевич предложил переписать его тотчас же набело. С переписанным и подписанным всем кружком Черкасского прошением Татищев воротился к нетерпеливо ожидавшим его товарищам, поспешившим сейчас же подписать свои имена. Оппозиция, наконец, действовала решительно и быстро. В один вечер написалось прошение, рассмотрелось и подписалось в двух собраниях. Кроме того, бывшие у князя Черкасского граф Матвеев и князь Кантемир отправились собирать подписи по гвардейским полкам, в которых подписались пятьдесят офицеров из гвардии да тридцать кавалергардов. Всего же в один вечер подписались двести пятьдесят восемь человек. В заключение условились на следующий день собрать подписи, а затем, в среду 25 февраля, всем собраться в доме князя Черкасского и потом отправиться во дворец к императрице для личного представления прошения.
С рассветом 25 февраля вереницы экипажей различного вида и объема направились к обширному дому князя Черкасского1. Персоны в блестящих костюмах, шитых кафтанах, чулках и башмаках наполняли парадные покои. На всех лицах торжественное выражение приготовления к чему-то таинственному, к какому-то многознаменательному событию в жизни; не слышалось обычной суеты, толкотни и перекоров. Молча поприветствовав хозяина, каждый отходил и занимал место, по возможности соблюдая должное чинопочитание рангов. Скоро съехалось до трехсот дворян, и хозяин как-то внушительно и важно произнес: «Пора!» «Пора!» – тихо повторили несколько голосов, и все направились к выходу.
– Господа! – предложил граф Матвеев, когда все гурьбою размещались по своим экипажам. – Мы не немцы и не на позорище какое едем, а на великое государственное дело. Подобает нам прежде ехать в Успенский собор помолиться и отслужить молебен за успех.
– В Успенский! В Успенский! – заговорили все, и к собору потянулась несметная вереница экипажей, к которым по дороге присоединялись новые, запоздавшие или по осторожности выжидавшие дворяне. У собора столпилось более шестисот экипажей.
VII
Тревожно провела ночь на 25 февраля императрица Анна Иоанновна. Не освежающий и укрепляющий сон, а какая-то дрема, то с грезами из мира фантазий, то с образом из недавно покинутой жизни, томила ее в длинные, зимние ночные часы. Ранее обыкновенного, хотя она вообще вставала рано, далеко до рассвета, поднялась она с постели и занялась своим туалетом. На вопрос любимой горничной Авдотки Андреевой о том, какую приготовить робу, императрица выбрала одну из самых нарядных и красивых.
– Разве выход? – недоверчиво переспросила девушка несколько фамильярным тоном, каким обыкновенно говорят служанки в фаворе, поверенные сердечных тайн и убежденные в своем влиянии на госпожу.
Анна Иоанновна любила слушать болтовню своей любимицы Дунюшки во время туалета, но теперь совсем не то, теперь она не слыхала или просто не хотела отвечать на вопрос. Вообще в это утро многому пришлось удивляться Дунюшке. С необычною заботливостью императрица занималась хитрою уборкою волос по тогдашней моде, с особенным вниманием вглядывалась в свое отражение в зеркале, как будто изучая позу и выражение, казалась то нетерпеливою и раздражительною, то вдруг застывающею в принужденном положении под влиянием какого-то внутреннего вопроса, охватившего все ее существо до нечувствительности ко всему внешнему. Каждый шум внизу, шорох, каждое движение заставляли ее вздрагивать, попеременно краснеть и бледнеть.
Только что успела императрица кончить свой тщательный туалет и напиться чаю, как внизу действительно раздался шум, а вслед за тем беготня. Это был приезд дворян.
По окончании молебна в Успенском соборе дворяне в том же порядке двинулись ко дворцу, прибыв куда, потребовали немедленного доклада государыне о даровании им аудиенции. Вместо государыни к ним вышел встревоженный князь Василий Лукич Долгоруков.
– Если имеете какую меморию, – обратился он к приезжим нетвердым голосом, – то передайте ее мне. В свое время я повергну ее на всемилостивое воззрение ее величества.
Раздался общий говор, шум и крики, из которых можно было только расслышать некоторые отдельные фразы:
– К государыне! К государыне!.. Нельзя подданных от государыни и государства, сынов от матери отрывать… Кто не так мыслит… мудрствует… тот враг общий и государыне и государству.
Так и ушел ни с чем князь Василий Лукич.
Через несколько минут дворян ввели в тронную залу, где уже находилась императрица на троне, окруженная гвардейцами, расставленными по зале и во всех внутренних покоях дворца в двойном количестве предусмотрительным Семеном Андреевичем Салтыковым. Кругом трона также находились и члены Верховного тайного совета, но смущенные и растерявшиеся.
Среди наступившего молчания торжественно от всей толпы дворянства отделяются вперед маститый и старейший из генерал-фельдмаршалов князь Иван Юрьевич Трубецкой, с челобитною в руках, и генерал-лейтенант Юсупов.
– Нам оказали честь, ваше величество, – сказал, обращаясь к государыне, генерал Юсупов, – позволив выразить наше мнение относительно новой формы правления. Мы осмеливаемся передать вашему величеству прошение, содержащее наши единодушные желания.
Государыня приказала стоявшему вблизи Василию Никитичу Татищеву принять из рук генерал-фельдмаршала бумагу и прочитать ее вслух. Это была челобитная – произведение того же Василия Никитича.
В челобитной после выражения благодарности за подписание условий в Митаве, предложенных Верховным тайным советом, излагалась самая суть дела, состоящего в том, что в кондициях имеются статьи, пугающие весь народ бедственными в будущем времени происшествиями, ввиду чего шляхетство уже представляло свои соображения Верховному тайному совету и просило, ради блага и спокойствия империи, установить по большинству голосов надежную и твердую форму правления. В заключительном же пункте испрашивалось повеление ее величества о рассмотрении мнения шляхетства генералитету и дворянству, выбрав для сего по одному или по два из каждого семейства. Эти же депутаты, рассмотрев основательно все статьи, установят форму правления по большинству голосов, с утверждения ее величества.
По окончании чтения Василия Никитича выдвинулся вперед князь Алексей Михайлович Черкасский, но не успел он высказать и двух слов, как князь Василий Лукич перебил его:
– По какому праву, князь, ты делаешь из себя законодателя?
– Я поступаю так потому, – отвечал князь Черкасский, – что вы обманули ее величество, уверив ее, будто она поступает по единодушному желанию всех чинов государства, подписав пункты, принятые ею в Митаве, а между тем вы составили эти пункты без нашего участия и ведома.
– Не соблаговолите ли, ваше величество, пожаловать в другой апартамент для обсуждения ответа на петицию шляхетства, – поспешил громко проговорить князь Василий, обращаясь к императрице.
Анна Иоанновна колебалась. Ее смутило содержание петиций, так противоречившее ее ожиданиям. Марфа Ивановна от имени мужа, Прасковья Юрьевна и муж ее Семен Андреевич Салтыков, Феофан Прокопович и таинственные послания уверяли ее совсем в другом. Уверяли, будто ее хотят просить о самодержавии, по примеру предков, а теперь совсем не то.
«Может быть, шляхетство сочинит кондиции еще горшие, так что ни мне, ни друзьям моим и житья не будет», – неясно промелькнуло в ее голове, и она растерялась, не зная, на что решиться. Но не смутилась сестра Катерина, герцогиня Мекленбургская. Быстро сообразив, что в другой комнате члены Верховного тайного совета успеют убедить государыню в опасности подобной меры, напугают ее вдоволь необузданною вольностью шляхетства, герцогиня подошла к сестре и проговорила:
– Незачем, сестра, ходить в другую комнату и нечего обсуждать… Все шляхетство ожидает, и надо сейчас же подписать челобитную.
Императрица не знала, на что решиться. В зале поднялся общий говор, который, возвышаясь громче и громче, доходил до крика. Из общего неопределенного гула стали отчетливо слышаться громкие возгласы:
– Нам надо самодержавия! Самодержавия!
Общее волнение и крики окончательно напугали Анну Иоанновну. Побледнев и дрожа, она подозвала к себе жестом капитана гвардейского караула и тихо проговорила ему:
– Я небезопасна… Защитите меня…
Тогда гвардейцы бросились к трону и окружили его со всех сторон; некоторые падали на колени и кричали:
– Мы верные слуги вашего императорского величества! Верою и правдою служили предкам вашим, государыня, и теперь готовы положить за ваше величество свою жизнь! Прикажите только, и мы истребим всех бунтовщиков, всех выбросим за окно! Мы не хотим, чтоб вашим величеством повелевали!..
Преданность гвардейцев расходилась до того, что императрице же пришлось их успокаивать.
– Я верю вам, – повторяла она им, – я спокойна, безопасна. Только приказываю вам не слушаться никого, кроме Семена Андреевича.
Затем императрица приказала подать себе перо и на челобитной шляхетства подписала: «Учинить по сему».
Положение членов Верховного тайного совета было критическое. При шуме и общем возбуждении говорить было невозможно, да и кто же решился бы ввиду угроз. Не испугался, может быть, Дмитрий Михайлович, но и он в эти минуты почувствовал, что один в поле не воин, что речь его теперь будет совершенно лишняя, никто не поймет и понимать-то не захочет. Зато ликовали и восторгались гвардейцы; все благонамеренные возрадовались до того, что в избытке благодарности захотели проявить во всем блеске свою верноподданническую преданность, захотели вдруг отказаться от своего зрело обдуманного плана и вручить императрице полное самодержавие, каким владели прежние самодержавцы; такому неожиданному решению немало содействовали и те голоса, которые неуклонно, без всякого шатания, твердили о необходимости самодержавия.
И вот у выхода из той же тронной залы столпилось шляхетство и общим советом решило отправить к императрице новую депутацию с новою петициею о принятии ею самодержавия. «Нам, всемилостивейшая государыня, – говорили они, – соизволила предоставить самим избрать форму правления, то мы теперь единодушно избираем прежнюю». Этой новой депутации Анна Иоанновна, уже не колеблясь, назначила прием в тот же день в три часа пополудни.
«Так Андрей Иванович и Прасковья Юрьевна правы, – подумала она, но в то же время мелькнуло и опасение. – Ну а если в эти часы оба фельдмаршала успеют собрать преданные им воинства и силою заставят подписать кондиции, а может, еще учинят что худшее?» Сообразив это, императрица тотчас же с любезною улыбкою обратилась к верховникам и пригласила их остаться во дворце на ее обеде.
Этим ловким распоряжением реформаторы отдавались безоружными в ее власть.
В назначенное время тронная зала вновь стала наполняться дворянами, а ровно в три часа вышла государыни, окруженная прежнею свитою, но не смущенная и нерешительная, а с видом самоуверенным и поступью твердою. Теперь во главе дворянства не видно было ни генерал-фельдмаршала Ивана Юрьевича Трубецкого, ни Василия Никитича Татищева – места их заняли князь Алексей Михайлович Черкасский и князь Антиох Дмитриевич Кантемир.
Приняв из рук князя Черкасского петицию, императрица приказала прочитать ее вслух князю Кантемиру. В ней говорилось:
«Долг верных подданных обязывает нас не оставаться неблагодарными перед милостями вашего императорского величества, а потому мы, все дворяне, предстаем, исполненные благоговения, для изъяснения нашей верноподаннической признательности и всенижайше умоляем соизволить восприять самодержавие по примеру царственных ваших предшественников и уничтожить подписанные вами кондиции, присланные вашему величеству Верховным тайным советом».
Далее высказывалась просьба о восстановлении учрежденного Петром Великим правительствующего Сената в комплекте двадцати одного члена вместо Верховного тайного совета и высокого Сената, и чтоб сенаторы, губернаторы и президенты коллегий избирались по выбору дворянства и по жребию. И наконец, в заключение говорили: «Мы, нижайшие подданные, надеемся быть осчастливленными новою формою правления и при уменьшении налогов по прирожденному вашему императорскому величеству милосердию и уповаем спокойно кончить жизнь у ног ваших».
Ошеломленные, как громом пораженные, стояли члены Верховного тайного совета. Не выказалось с их стороны никакого движения, по свидетельству дюка Лирийского, и понятно… Они видели, что их дело окончательно проиграно.
– Как! Так подписанные мною в Митаве условия не были составлены по желанию всего народа? – обратилась императрица к собранию, выказывая крайнее изумление.
– Нет, государыня, нет! – заговорила толпа.
– Так принеси сюда кондиции из Верховного совета, – приказала императрица стоявшему вблизи статскому советнику Маслову.
Когда принесли из совета кондиции, Анна Иоанновна приказала Семену Андреевичу Салтыкову читать их вслух, порознь каждый пункт.
– Таково ли желание народа? – спросила она по прочтении первого пункта.
– Нет, государыня, нет! – продолжала кричать толпа.
Таким образом прочтены были все пункты, с теми же вопросами и ответами.
– Так ты обманул меня, князь Василий Лукич? – обратилась она к князю Долгорукову и затем, взяв из рук Салтыкова кондиции, разорвала их и бросила на пол…
Потом, приняв одну из тех величественных поз, которые так шли к ее видной наружности и которые она так умела принимать в иные минуты, императрица обратилась к собранию с торжественною речью:
– Я принимаю власть самодержавную и вступаю на престол не по избранию, а по наследству, и всякий сопротивляющийся моей воле будет наказан как изменник. Но, – продолжала она с большей мягкостью, – я желаю царствовать с кротостью и правосудием и меры строгие буду принимать только в крайних, необходимых случаях.
Речь вызвала восторженные восклицания благодарности. Все собрание преклонилось, приветствуя новую самодержицу, поклонились члены Верховного тайного совета, поклонился и Дмитрий Михайлович.
Аудиенция кончилась. Анна Иоанновна удалилась во внутренние апартаменты, а участвовавшие стали разъезжаться по домам, развозя по всем углам Москвы свое восторженное настроение.
Москва ликовала. Траур по умершем Петре сложили на три дня! Со всех несметных московских церквей разносился веселый трезвон, а знаменитый Феофан излил всеобщую радость в торжественных виршах:
В сей день Августа наша свергла долг свой ложный, Растерзавши на себе хиреграф подложный, И вынула скипетр свой от гражданского ада, И тем стала Россия весела и рада. Таково смотрение продолжи нам, Боже, Да державе Российской не вредит ничто же. А ты всяк, кто не мыслит вводить строй отменный, Бойся самодержавной, прелестниче, Анны, Как оная бумажка, все твои подлоги, Растерзанные, падут под царские ноги.26 февраля от великого канцлера Головкина разосланы были ноты по всем нашим посланникам и министрам при иностранных дворах с извещением о вступлении императрицы в самодержавство, а на следующий день в Успенском соборе, во всех московских монастырях и церквах отслужены были благодарственные молебствия.
– Трапеза была уготована, – пророчески сказал в тот же день Дмитрий Михайлович Голицын в кругу своих ближних, – но приглашенные оказались недостойными; знаю, что я буду жертвою неудачи этого дела. Так и быть, пострадаю за отечество, мне немного остается, а те, которые заставляют меня плакать, будут плакать долее моего.
Да и не у одного Дмитрия Михайловича сжималось сердце тяжелым предчувствием… Простой народ, этот серый народ, от имени которого и во имя которого совершалось столько новшеств, совершенно для него чуждых, – этот народ, глядя на странное небесное знамение, покрывшее с вечера 25 февраля весь горизонт кроваво-багровым светом, набожно крестился и смиренно шептал молитву.
С изумлением и недоумением слышал он вслед за молебствием слова манифеста:
«Понеже верные наши подданные все единогласно нас просили, дабы самодержавство в нашей Российской империи, как издревле прародители наши имели, восприять соизволили, по которому их всенижайшему прошению мы то самодержавство восприять и соизволили, а для того вновь присягу сочинить и в печать издать повелели».
Спокойствие не нарушалось никаким протестом. Через два дня приехал Бирон. Императрица казалась веселой и довольной.
VIII
Отрок-государь унес с собою в могилу счастливые дни Долгоруковых. Все те, которые прежде унижались и раболепствовали, теперь, на другой же день после смерти государя, бойко и развязно заговорили другим тоном. Всем развязала язык неизбежность опалы всесильной семьи, и все ждали этой опалы с каждым днем.
Странные слухи стали разноситься по всему городу: кто говорил о похищениях громадных сумм из государственного казначейства и государственных дворцов, кто таинственно передавал о неудавшейся попытке бывших фаворитов возвести на престол обрученную невесту – и каждому слуху верилось легко. Сторонников и преданных лиц многочисленная семья Долгоруковых имела очень немного, но зато много завистников и недовольных.
Сама императрица имела повод быть недовольною фамилией Долгоруковых, и в особенности Василием Лукичом, самым видным представителем этой фамилии. При всем уме своем Василий Лукич не понял новых отношений Анны Иоанновны; не понял, что сердце женщины, раз отдавшись вполне и безраздельно, не может так вдруг уже оторваться от настоящего и воротиться к минувшему, может быть мимолетному, чувству. Победные притязания оскорбляют женщину. Но не понял этого умный, даровитый дипломат и упрямо пошел по дороге, которая и привела его к крепости. В надежде воротить прежнюю благосклонность, может быть, более, чем из верховнических видов, он так зорко следил за нею, не допускал к ней никого, сторожил ее, как «некий дракон». Человек всегда остается человеком и в политической сфере, и в обиходной жизни. Василий Лукич увлекся до непростительной для дипломата слабости – до беззаветной откровенности. Дорогой из Митавы в Москву он чистосердечно рассказал самой Анне Иоанновне всю историю о подложной духовной от имени императора Петра II, и эта откровенность погубила его самого и всю фамилию.
В томительном ожидании грозы вся семья Алексея Григорьевича жила в Горенках, то тревожась и вздрагивая при приезде каждого гонца из Москвы, то успокаивая себя и обнадеживаясь, что минуется буря и гроза пронесется стороною, их не задев. Менее всех боялся за себя князь Иван, может быть, и потому, что он был поглощен совершенно другим, дома почти не бывал, а проводил все время у невесты, тоже переживавшей тогда тяжелые испытании.
Гостеприимные шереметевские палаты сделались домом печали и плача: больная бабушка Марья Ивановна доживала последние дни; старший брат, Петр Борисович, лежал в оспе – кругом все томительно и мрачно… да еще к тому же беспрерывные вести, одна другой тоскливее и грознее. Сегодня Наталья Борисовна услышит, что ее милого Ваню сошлют в ссылку; завтра, что его лишат всех званий и кавалерии; бедная невеста плакала до истерики. «Какое это злое время! Мне кажется, и при Антихристе не тошнее того будет. Кажется, в те дни и солнце не светило», – писала она впоследствии в своих записках. Горе сблизило молодых людей еще теснее: вместе плакали они и в слезах почерпали новые силы. Нашлись услужливые люди, которые стали убеждать невесту не выходить за князя Ивана как за человека опального, с которым жене придется вынести горя немало, но такие советы действовали на Наталью Борисовну совершенно иначе; они заставляли ее, напротив, торопиться со свадьбою. «Теперь-то, – думалось ей, – и настало то время, когда испытывается и доказывается истинная любовь и женщина исполняет свое высокое назначение».
В первых числах апреля, когда умерла бабушка Марья Ивановна, а молодому графу Петру сделалось полегче, Наталья Борисовна решилась не откладывать далее свадьбы. «Сам Бог выдавал меня замуж, больше никто», – писала она – и совершенно справедливо. Свадьба совершилась в Горенках, куда приехала молодая графиня без всякого кортежа, провожаемая только одним братом Сергеем. Венчальное торжество более походило на похороны: одинокая невеста плакала до потери сознания, а семья Долгоруковых, вся собравшаяся в Горенках к Алексею Григорьевичу, казалась словно приговоренною к казни.
И казнь действительно была близка, она подвигалась медленно, но верно. Через три дня после свадьбы приехал в Горенки сенатский секретарь с объявлением указа о ссылке князя Алексея Григорьевича со всем семейством в пензенскую его деревню Касимовского уезда, в село Никольское, куда вся семья и принуждена была по настоянию секретаря выехать на другой же день. Но это были первые удары грома, отдаленные и безопасные; опальность как будто постепенно приучала к своим железным иглам. Одновременно со ссылкою Алексея Григорьевича и Сергея Григорьевича с их семьями в деревни состоялся указ о почетных ссылках для всех почти родичей Долгоруковых: князь Василий Лукич назначен был губернатором в Сибирь, князь Михаил Владимирович – в Астрахань, князь Иван Григорьевич – воеводою в Вологду.
Кроме объявления указа сенатский секретарь имел еще и другое поручение – допросить Алексея Григорьевича и Ивана Алексеевича «о завещательном письме Петра II». На этом полуофициальном допросе оба, как отец, так и сын, объявили, что «ни о какой духовной или завещательном письме или проектах никогда ни от кого не слыхали, и у самих у них не бывало». Давая такие объяснения, оба князя оставались покойными; они уверены были в полнейшей бесследности своей попытки. Правда, духовные были сочинены, но никто из посторонних их не видел, и были они уничтожены тогда же. Иван Алексеевич без особенного насилия совести отрекся от всякого участия, убаюкивая себя тем, что подписывал один экземпляр под руку государя в уверенности полнейшей безуспешности затеи отца, и вовсе не имел намерения предлагать духовную для подписи государю, а если и сделал фальшивую подпись, то единственно как шалость, для избежания вечных упреков отца.
Опалу свою Долгоруковы приписывали интригам Ягужинского, нисколько не подозревая, что за кулисами действовала другая рука, более опытная, рука Андрея Ивановича, невидимо, но исключительно заправлявшего всеми действиями правительства Анны Иоанновны в первое время. Остерман знал ненасытную алчность Алексея Григорьевича, не любил его по личным отношениям и ненавидел за грустную историю своего воспитанника.
Семья Долгоруковых стерлась из политической жизни. Не стало двух верховников из этой фамилии: князя Василия Лукича и князя Алексея Григорьевича, но остался третий верховник, Василий Владимирович, до которого не коснулась опала. Остерман понимал необходимость по крайней мере на первое время относиться к нему осторожно, как к русскому фельдмаршалу, понимал и то, что этот Долгоруков не разделял безумных притязаний родственников, да и вообще не ладил с ними. Но Василий Владимирович был все-таки Долгоруков и потому мирился с невзгодою своих родичей настолько, насколько эта невзгода казалась ему справедливою. Лично он не любил брата Алексея Григорьевича и считал его опалу заслуженною карою, но впоследствии, когда эта опала переступила границы справедливости, бурный фельдмаршал вскипел и высказывал свое негодование в обычной бесцеремонной форме. Последствием его дерзких выходок было то, что его самого заперли в Шлиссельбургскую крепость. В манифесте о винах Василия Владимировича сказано: «Презря нашу к себе многую милость и свою присяжную должность, дерзнул не токмо наши государству полезные учреждения непристойным образом толковать, но и собственную нашу императорскую персону поносительными словами оскорблять».
Кроме Долгоруковых в числе верховников находилась и другая, не менее сильная фамилия Голицыных, которых тоже не коснулась опала. В попытке ограничить самодержавие, в сущности, более виновною была фамилия Голицыных, а между тем сам Дмитрий Михайлович даже получил сенаторство в преобразованном Сенате, а Михаил Михайлович, другой русский фельдмаршал, получил место генерал-кригскомиссара. Оба Голицыны не были опасны. Открытый и резкий Дмитрий Михайлович не был способен по характеру своему к изворотливости и, раз признавши самодержавие, не повел бы против него подпольных интриг: да ему бы не позволило создавать новые «затейки» и дурное здоровье, крайне расстроенное подагрою и хирагрою. Оставив же в стороне Дмитрия Михайловича, не было повода касаться и Михаила Михайловича, бывшего, как и все члены этой фамилии, под полным влиянием старшего брата как главы семейства.
Голицыны остались, но государыня не могла относиться к ним доверчиво и благосклонно. И действительно, современные записки передают постоянные жалобы Голицыных на отдаление себя от правительства. Во время коронации всем бросилось в глаза, как государыня, обращавшаяся к другим более или менее милостиво, на Голицыных ни разу не посмотрела и не обронила им ни одного слова. Такая немилость и полное удаление от двора преследовали Голицыных во все время царствования Анны Иоанновны.
IX
Половина июня 1730 года. Летние жары, нестерпимые в душном городе, гонят всех в загородные деревенские окрестности, где дышится свободно в густых лесах и рощах, где нет зараженного душного воздуха и стеснительных городских условий. Спасаясь от зноя, и императрица Анна Иоанновна переехала на летнее житье в загородный дворец села Измайлова – где так любили отдыхать московские государыни.
Девять часов утра. По одной из тенистых аллей измайловского сада проходили императрица и Бирон, пожалованный тотчас по приезде в Москву кавалером орденов святого Александра Невского и Андрея Первозванного, в день коронации назначенный обер-камергером1 и возведенный австрийским императором в графское Священной Римской империи достоинство, вместе с пожалованием ему портрета императора, осыпанного бриллиантами.
Характерное лицо обер-камергера сияло довольством, вероятно, вследствие полученного вчера солидного подарка в двести тысяч талеров, поднесенных ему австрийским посланником графом Вратиславским от имени императора. Почести и отличия, чины и звания еще тешили новизною своею фаворита, не успели пресытить его; глаза его еще не успели привыкнуть бросать вечно недовольные взгляды, а губы складываться в вечно презрительную, вызывающую усмешку.
Еще больше удовольствия сказывалось в лице Анны Иоанновны, постоянно отражавшем расположение духа любимца. Придворные скоро заметили эту черту и скоро испытали, что когда он бывал раздражителен и недоволен, тогда она делалась воплощенною тревогою и беспокойством, когда он выказывал кому-нибудь свою благосклонность, к тому и она делалась необыкновенно любезна и приветлива.
Анне Иоанновне было в то время тридцать семь лет. Наружность ее если не отличалась красотою и женскою мягкою миловидностью, то и не лишена была вовсе привлекательности. Черты лица довольно резкие: глаза большие голубые, открытые, смотревшие строго; нос орлиный; губы, правильно очерченные, при улыбке выказывали прекрасно сохранившиеся зубы; волосы каштанового цвета; рябоватое лицо смугло; голос густой, нерезкий; но особенно выделялась она высоким ростом, стройностью, величавою походкою и благородством манер.
– Ты, граф, находишь? – говорила императрица, идя подле графа Бирона и особенно в словах налегая на титул, из желания сказать приятное новопожалованному. – Находишь… нужны перемены?
– Необходимы, совершенно необходимы… Все это уродливо, безвкусно, как и все у этих москвичей! О! Этих варваров надо пересоздать, надобно ввести европейские нравы, развить вкус в общественности.
– Поймут ли тебя, граф, они так недавно начали жить… Будут ли довольны?
– Мне нет никакой надобности смотреть, довольны ли они или нет. Мы укажем, как надобно жить, на наших балах, маскарадах… Я покажу им пример. Не могут же они выезжать иначе, как одеваюсь я…
– Правда, Эрнст, конечно, но…
В это время послышался стук экипажей, подъезжавших ко дворцу.
– Неужели десять часов и приехали господа Сенат? Как скоро! – проговорила Анна Иоанновна, и глаза ее, смотревшие так добродушно и ласково, подернулись озабоченным выражением. – Мне нужно к ним, а ты, Эрнст, где будешь?
– Я пойду в конюшню посмотреть жеребца, которого прислал вчера граф Вратиславский.
Императрица сделала уже несколько шагов к террасе, ведущей к внутренним покоям, но потом воротилась и как будто не решалась.
– Я хотела тебе сказать, но не успела… граф Вратиславский приискал мне жениха, португальского инфанта дона Мануила, о котором сильно хлопочет имперский двор. Император просит дозволения приехать инфанту сюда…
– По-моему, незачем и пускать сюда всяких авантюристов…
– И я хотела было так, да одумалась… нельзя… Пусть приедет и уедет ни с чем…
– Аня! Аня! – кричал мальчик, бежавший к императрице по аллее вприпрыжку; подбежав, он протянул ручонки и, припрыгнув, ловко обвил ими наклонившуюся к нему Анну Иоанновну. – Аня, поди туда, там тебя господа ждут.
– Сейчас, голубчик Петруша… – И императрица, взяв за руку мальчика, вошла во внутренние покои.
Учрежденный, согласно петиции, поданной 25 февраля шляхетством, правительствующий Сенат, в комплекте двадцати одного члена, в дворцовых покоях имел постоянные ежедневные заседания, в которых, от одиннадцати до двенадцати часов, обыкновенно присутствовала и сама императрица. Кроме того, что она лично участвовала в рассмотрениях докладов, она приказала каждую неделю подавать себе ведомости о делах оконченных, о делах, поданных на ее утверждение, и каждую неделю напоминать себе о неоконченных. С переездом же в Измайлово этот заведенный порядок изменила. По новому распоряжению господа Сенат должны были собираться в Москве ежедневно, а два раза, по средам (по иностранным делам) и субботам (по делам внутренним), приезжать в Измайлово. В этот приезд слушались доклады о ходе работ по двум указам императрицы: относительно отменения закона о майорате и об основании кадетского корпуса, по вопросам, особенно интересующим тогдашнее общество, начатых еще при верховниках, но не оконченных ими. Впрочем, несмотря и на личное настойчивое наблюдение императрицы, разрешение этих вопросов замедлилось необходимыми предварительными работами, и они окончились только – первый через полгода, в декабре, а второй – через год, в половине 1731 года.
По окончании заседания господа Сенат стали разъезжаться.
– А ты, граф Андрей Иванович1, останься со мною пообедать чем бог послал. Мне с тобою нужно поговорить о некоторых серьезных материях, – обратилась императрица к Остерману, копотливо собиравшему свои бумаги.
Обед же императрицы обыкновенно начинался в двенадцать часов и состоял из простых кушаний при небогатой сервировке. Вообще Анна Иоанновна вела жизнь чрезвычайно правильную: вставала в шесть или семь часов, с десяти часов занималась делами, присутствовала в собраниях или принимала министров с докладами у себя в апартаментах или в манеже, куда стала ездить из желания угодить своему Эрнсту, страстному охотнику до верховой езды; в полдень обедала, в девять часов вечера ужинала, а в одиннадцать ложилась спать. За стол, в обыкновенных ежедневных обедах, садилось все семейство Иоганна: Бирон, то есть он сам; жена его, женщина далеко не красивой наружности, урожденная Трейден, из фамилии, находящейся в родстве с Бисмарками; основательница Екатерининского митавского института Екатерина фон Бисмарк, урожденная Трейден; дочь Гедвига, девочка на вид лет пяти, с умными, на все внимательно смотревшими глазами; и старший сын Петруша, любимец императрицы, на высоком детском креслице.
Разговор за обедом долго не завязывался; императрица ни к кому особенно не обращалась. Иоганн Эрнст, все еще под влиянием новости о португальском инфанте, видимо, был не в духе, жена его преспокойно кушала, не обращая как будто ни какого и ни на что внимания, а между тем все видевшая и за всем следившая, а Андрей Иванович весь погружен был в созерцание своей порции.
– Утомили вы меня, Андрей Иванович, – наконец проговорила императрица. – Толкуете, толкуете, а все к концу не подходите с этим майоратом. Ведь, кажется, ясно, что он к нам не подходит, что покойный дядя взял его с иной земли.
– Но, ваше величество, различные консидерации…
– Консидерации!.. консидерации!.. – с раздражением перебил Андрея Ивановича Бирон, объяснивший, не без основания, предложение супружества с инфантом португальским инициативою Остермана. – Вы со своими консидерациями скоро потеряете здравый смысл… Лучше бы занимались делом.
Такая грубая выходка против вице-канцлера смутила императрицу, и разговор оборвался.
После обеда императрица обыкновенно уходила одна в свои апартаменты, но с переездом в Измайлово она иногда отступала от порядка, приглашая с собою для совещания графа Остермана.
– Садись, Андрей Иванович, – сказала императрица, ласково улыбаясь, как будто стараясь загладить грубость Бирона, указывая ему на стул против себя, и сама опускаясь в глубокое кресло, – хочу я поговорить с тобою.
– Рабская преданность моя вашему величеству…
– Знаю, знаю, Андрей Иванович, не трудись изъяснять; и сама тебя знаю, и много слышала о тебе от учителя моего, а твоего братца, мекленбургского посланника. Я тебе верю. Вчера Рейнгольд Карлыч сказывал мне, будто, несмотря на мои неусыпные заботы, много недовольных… Скажи мне по совести, откуда эти недовольные и какая тому причина?
– Виновного каждой акции, всемилостивейшая монархиня, должно искать в тех, кто от той акции может приобрести авантаж…
– Авантаж… авантаж… – раздумчиво повторяла Анна Иоанновна. – Точно ты оракул какой… Андрей Иванович, никогда не скажешь прямо… Долгоруковы, что ль? Так они высланы.
– Но их конфиденция и адепты пребывают здесь, ваше величество. Родственники и приближенные могут льститься их скорым возвращением, а милосердие к их великой продерзости может подать повод к мечтаниям о слабости правительства и о великом их могуществе…
– Что правда, то правда, Андрей Иванович, нужно их лишить всяких мечтаний о возвращении прежнего… Изготовь указ о ссылке их подальше, кого куда, смотря по их винам.
Императрица задумалась. Как женщина далеко не глупая, она сознавала справедливость замечания вице-канцлера; как женщина впечатлительная, она укололась намеком на слабость; а как женщина много пострадавшая, она отворачивалась от крутых мер, за исключением тех случаев, когда считала себя оскорбленною. В этих же последних случаях ее меры напоминали жесткий характер из рода Салтыковых. Решив вопрос о ссылке Долгоруковых, она в то же время живо представила себе тяжелую жизнь в снегах Сибири, страшную еще более для опальных, привыкших к роскошной жизни.
– Знаешь ли что, Андрей Иванович, это моя первая казнь, и мне… хотелось бы… искупить ее чем-нибудь… В Сибири живет семейство Александра Даниловича Меншикова… Ко мне хотя он и не был хорош, да и зла большого не делал, хочу воротить… Кто из них жив-то?
– В прошлом году скончался сам Александр Данилович…
– Царство ему небесное… – императрица набожно перекрестилась.
– За ним скончалась и старшая дочка Марья Александровна, нареченная невеста покойного государя, племянника вашего величества. Теперь остались только сын и дочь.
– Жаль мне их. Прикажи поскорее послать за ними.
– Завтра же будет исполнено повеление вашего величества.
Императрица, видимо, обрадовалась, глаза ее засветились теплым выражением, и в звуке голоса отзывался более мягкий тон.
– Казнить тяжело, Андрей Иванович, не хотела бы казней… разве уж по крайности… Да вот еще что. По своей воле и по твоему совету я уничтожила Преображенский приказ и дела велела передать в Сенат… Ко мне теперь пристают господа Сенат, что дел много им несвойственных, волокита будет, просят взять от них те дела… Вот и Эрнст, граф, тоже говорит, будто во всех европейских государствах злоумышления на царское величество ведаются особо, а наипаче же здесь, при мятежническом духе. Как быть?
– Если благоугодно вашему величеству потребовать от меня, вашего преданнейшего и всенижайшего раба своего, консидерации по сей материи, то я осмеливаюсь доложить, что все опасения мятежнического духа преувеличены. Народ и шляхетство здесь смиренны и не способны к пертурбациям… Существуют действительно некоторые особые фамилии, интригующие, но они, как растения без почвы, не могут произрастать, и их опасаться нечего, для вящей же крепости и устранения всякой сумнительности я полагал бы достаточным увеличить комплект преданной гвардии новым полком, под руководством надежных людей, а главное, переехать в Санкт-Петербург.
– Недобрую память оставил по мне ваш Петербург… везде болота… вода… Здесь кости отца моего…
– Вода служит, ваше величество, знатным проводником для иностранных альянсов, а блаженной памяти премудрый дядя ваш в основании Петербурга имел особую партикулярную цель. На московской почве не могло произрасти насажденное им дерево, понеже новые порядки требовали и нового места. В Петербурге, августейшая государыня, мятежного духа не пребывает, а только рабы по рангам.
– Подумаю… а насчет регимента гвардии спасибо за совет. Поговорю с Рейнгольдом Ивановичем… Ну, теперь, Андрей Иванович, прощай.
Вице-канцлер опустился на колени и, почтительно поцеловав благосклонно протянутую ему руку, удалился.
Несмотря на видимые знаки благосклонности императрицы, граф Остерман, однако же, постоянно казался озабоченным. Его, как человека дальновидного и всегда смотревшего вперед, заботила будущность престолонаследия. Если императрица останется вдовствующею, кто будет ее наследником? Опять смута, а в смуте могут исчезнуть труды того единственного человека, планам которого Андрей Иванович был верным рабом, которого предначертаний он будет верным исполнителем до могилы. Необходимо устроить брак государыни, решал он, обдумывая выгоды того или другого альянса и советуясь с своею супругою, знавшею до тонкости характер императрицы, но Марфа Ивановна на все комбинации мужа только щурила глазки да сомнительно покачивала головою. С целью лично поразведать он и ехал на заседание в Измайлово, но, взглянув на домашние отношения императрицы, сам убедился в бесполезности всякой попытки. Нечего и говорить, что предложение графа Вратиславского было сделано под тайным влиянием Андрея Ивановича, и Бирон инстинктивно угадал истинного виновника, по обыкновению оставшегося в стороне.
X
Получив повеление императрицы, Андрей Иванович решился покончить с противными Долгоруковыми под каким бы то ни было благовидным предлогом. Так как выставлять основанием обвинения неосторожную откровенность князя Василия Лукича было неловко, то в обвинительном манифесте о ссылке Алексея Григорьевича в Березов, о духовной не упомянуто ни слова, а исчисляются только вины князя Алексея относительно зловредного воспитания покойного императора, преступного небрежения к его здоровью и похищение государственных достояний. В обвинительном же манифесте о заточении князя Василия Лукича в Соловках сказано неопределенно: «…о многих против государыни бессовестных и противных поступках».
В конце сентября 1730 года Березов оживился приездом семейства Долгоруковых, состоявшего из старого князя Алексея Григорьевича, жены его, сына Ивана с женою Натальею Борисовною, трех братьев Ивана и трех сестер, в числе которых была и «разрушенная невеста» Петра II, с прислугою в пятнадцать человек и с сопровождавшею их командою.
Тяжело было положение прибывших узников, много тяжелее положения Меншиковых. Их по прибытии тотчас же заперли в острожек с полным запрещением выхода. К довершению несчастья, и финансовая сторона не могла облегчить их участи. Лишенное по конфискации всех своих вотчин и движимости, все семейство должно было жить только деньгами, отпускаемыми на содержание его от казны, по одному рублю в сутки, тогда как даже самые необходимые съестные припасы, привозимые туда, были неимоверно дороги. Вследствие таких скудных средств, опальные, привыкшие к расточительности, принуждены были довольствоваться похлебкою, которую ели деревянными ложками, и водою в оловянных кружках.
Однообразно, утомительно и бездеятельно потянулась жизнь заключенных. Бумагу, чернила и книги им запрещено было давать, и мужчины весь день оставались без дела. Только для женщин сделано было исключение: им дозволялось заниматься рукоделием. И они воспользовались позволением, постоянно занимаясь кроме домашней швейной работы рисованием и вышиванием священных изображений на материях и шитьем церковных одежд. В Воскресенском соборе и до сих пор хранятся две священнические ризы с орденскими звездами святого Андрея Первозванного на оплечьях. Одна из этих риз шита дочерьми князя Меншикова, а другая – дочерьми князя Алексея Долгорукова.
Если и в фаворе семья Долгоруковых отличалась сварливостью, то теперь, когда лишения ожесточили их друг против друга, взаимные ссоры, брань и упреки сделались ежеминутными. В особенности раздражение усилилось после смерти матери, жены Алексея Григорьевича, умершей через месяц по приезде в Березов. Более всех доставалось лучшему из них, князю Ивану, которого сестра и отец обвиняли в умышленной оплошности относительно подписи покойным императором духовной.
– Ну что, доволен? Рад? – подступал к сыну Алексей Григорьевич. – Упрятал-таки отца в каторгу… Ну да подожди… не вечно же этой Анне царствовать, будет и на нашей улице праздник…
– Из ненависти ко мне ты всегда отводил государя от меня, тебе бы только самому величаться… – упрекала, с другой стороны, «разрушенная невеста» брата, забывая, что холодность покойного государя была вызываема не другими, а ею самою.
Не помнила она, как, бывало, царственный отрок, истощенный физически, иной раз желал бы встретить в невесте не продажную любовь, а нравственную поддержку здорового чувства, в котором так нуждался, но находил только одну холодную готовность к исполнению пожеланий государя. Другой образ стоял тогда между нею и царственным женихом, стоял постоянно, незримо, заставляя отворачиваться от сердечного призыва и отдаваться бездушно правам жениха. Страшный удар, оторвавший от нее блестящую будущность, оторвал вместе с тем и другой, милый образ, оставив пустоту, в которой свободно стала бродить семейная закваска эгоизма.
Защищала Наталья Борисовна мужа, да бесполезно; изредка только удавалось ей перенести брань и ругань с мужа на себя, и тогда она была довольна. Наконец эти ссоры приняли такие размеры, что заведовавший караульною командою вынужден был описать об них высшему начальству, откуда и последовал высочайший указ: «Сказать Долгоруковым, чтобы они впредь от таких ссор и непристойных слов, конечно, воздержались и жили смирно, под опасением наижесточайшего содержания».
Прошло семь лет. В довольно просторной комнате бревенчатой избы, как видно недавно срубленной, живет несчастное семейство Долгоруковых в Березове. Изба, как и все простые русские избы, с тем же крылечком, с колонцами и с навесом, с обширными сенями, с горницею, в которой большая русская печь занимает чуть ли не треть всего пространства; в светлице брусевые чистые стены, лавки кругом, в переднем углу простой некрашеный стол перед образами в поставце, полки у печи с незатейливою посудою. Нет никаких вычурных украшений – да и не сумели бы их срубить простым топором березовские плотники. Имеются, однако же, и орнаменты, которых не встретишь нигде, – предмет постоянной любознательности высшего березовского общества и утешения самих хозяев. На стене рядом висели три топорные рамки с двумя патентами и манифестом. Оба патента – один о назначении Ивана Алексеевича гофюнкером, другой о назначении обер-камергером – за подписью покойного друга, императора Петра II, а манифест, с раскрашенным бордюром, о кончине Петра и о воцарении императрицы Анны Иоанновны. В поставце, под защитою образов, хранится драгоценная книга, писанная церковно-славянским уставом, о коронации Петра II, в похвалу его императорского величества, а в книге не менее драгоценная картина, изображающая «персоны императора Петра, сидящего на престоле, и России стоящей перед престолом на коленях, в образе девы в русском одеянии». Оставались еще припрятанными и утаенными от фискального погрома и многие другие ценные вещи, но не дорожили ими хозяева, без сожаления назначая их на подарки разным березовским власть имеющим лицам. С патентами же и с книгою хозяева не разлучались при жизни своей. Они были единственным утешением в нескончаемо долго тянувшиеся годы.
Семья Долгоруковых все в том же составе: Иван Алексеевич с женою Натальею Борисовною, братья Николай, Алексей и Александр, сестры Екатерина, «разрушенная невеста», Елена и Анна, недостает умершего года три назад от горячки самого старика Алексея Григорьевича, да прибыл сынок князя Ивана, семилетний мальчик Михаил.
Непродолжительно лето в Березове, но именно вследствие этого оно и имеет особенную прелесть. При этой быстро развивающейся жизни нет возможности усидеть в четырех стенах; так и тянет в поле дышать свежим воздухом, успокоить глаз на яркой зелени и разнообразии оттенков далеко раскинувшегося пространства.
Из мужчин Долгоруковых никого нет дома. Иван Алексеевич пошел к кому-то в гости – после смерти отца он опять пустился в прежнюю разгульную жизнь, поливаемую крепким зельем; братья – кто в ближний лес за дичью, кто в реке ловить рыбу для семейного обеда. В горнице оставалась Наталья Борисовна у оконца с вечною работою, сшить то, починить другое, заштопать третье в белье большого семейства, да младшая из сестер, Анна, подле топившейся печки.
– Наташа… Наташа! Где братец Иван?
– Не знаю… Верно, пошел к Петрову или к отцу Федору1.
– Нет, Наташа, не у них бывает Иван. От них он не возвращался бы таким сердитым, не придирался бы к тебе за каждую малость.
Девушка замолчала. Наталья Борисовна наклонилась еще ниже над работою, слезы текли на вышивание и застилали глаза.
– Наташа! – снова послышался голос девушки. – Где братья?
– Пошли в лес да на реку; может, принесут нам чего на обед.
– Я есть хочу, Наташа!
– Подожди, милая, скоро они вернутся. Приготовить недолго… А уж если очень проголодалась, так возьми отрежь хлеба да посоли.
Девушка отрезала себе ломоть от каравая черного хлеба и, густо посолив его, с удовольствием съела.
– А где, Наташа, сестра-государыня? – опять начала свои допросы утолившая голод княжна. В семье старшую сестру даже заочно всегда называли государынею.
– Вышла… на задворки. Слышишь, у калитки с кем-то говорит.
Действительно, от ворот временами доносились звуки отдаленных слов; смысла разговора разобрать было невозможно, но, однако же, слышалось, что какой-то пьяный, хриплый голос то требовал, то умолял о чем-то, а в ответ отзывались односложные слова сердитого женского голоса.
– Фролка Тишин с сестрицею на скамейке у ворот, – определила княжна, прислушавшись к голосам. – И чего этот Фролка пристал к государыне-сестрице… прохода ей не дает… Наташа! Наташа! Отчего Фролка за сестрицею все бегает?
– Так, милая, любит разговаривать с нею… – уклончиво объяснила Наталья Борисовна.
На широкой скамейке у несколько покосившихся ворот сидели тобольский таможенный подьячий Фрол Тишин и «разрушенная невеста».
Фрол Филиппович Тишин, бывавший и прежде в Березове по делам службы, в последнее время заметно участил приезды. Познакомившись с семейством Долгоруковых, он скоро сделался их постоянным, хотя и нежеланным, гостем. Грубый мужицкий говор подьячего никак не мог подходить к утонченному вкусу князей и княжон, но делать было нечего. Подьячий тоже своего рода была сила, перед которою не раз приходилось заискивать развенчанному семейству. Не раз его услужливость выручала бедную семью из голодной нищеты, снабжая ее то тем, то другим из необходимых житейских потребностей. Да и, кроме того, как лицо должностное и видное у начальства, Тишин мог повредить, мог доносами или неосторожным словом у начальства стеснить еще более заключение, которое в последнее время стало свободнее. Правда, в них принимали участие все сильные люди Березова, воевода Бобровский, майор Петров, все гарнизонные и казачьи офицеры, но разве все это не могло измениться снова? Разве не могло быть нового доноса? Был же ведь донос два года тому назад от мещанина Ивана Канкарова и потом, позже, от офицера Муравьева. Наезжали следователи, приезжал из самого Петербурга капитан Рагозин, обыскивали, отобрали уцелевшие было некоторые вещи, но, к счастью, особенно дурных последствий не было. Канкаров, объявивший первый «слово и дело», оказался сумасшедшим, а по муравьевскому доносу только и было, что отобрали вещи да на некоторое время стеснили свободный выход из острожного помещения, даже не запретили посещений заключенных местными обывателями.
Фролку в Березове не любили. Помимо общего нерасположения и недоверия ко всем подьячим того времени, получавшим от своей грамотности обильный доход, выжимавшим разными кляузами и крючками у бедного люда последние крохи, самая личность Тишина по наружности и по манерам от себя отталкивала. Сизый расплывшийся с бугорками нос, серенькие глазки с белобрысыми реденькими ресницами, бегавшие неспокойно, широкие, мясистые губы, раскрывавшиеся вплоть до ушей и выказывавшие желтые с черными пятнами огромные зубы, хриплый голос, сильный, отшибающий даже самое неприхотливое обоняние, ему только свойственный запах, конечно, не могли составить особенной привлекательности. Вдобавок к безобразию Фролка был ревностным служителем Бахуса и в особенности Венеры, и редкой из молодых и пригожих обитательниц Березова удавалось ускользнуть из его пахучих объятий.
Этому-то Фролке понравилась «разрушенная государыня-невеста». Бывая все чаще и чаще в Березове, он скоро сделался домашним человеком в семье Долгоруковых, привозя с собою каждый раз подарочки, то гребешок для расчески роскошной косы Екатерины Алексеевны, то пряников с разными другими сластями, то материи для платьев. С самим Иваном Алексеевичем он сошелся по-дружески, угощая его привезенным вином. Беззаботная и открытая натура князя Ивана легко поддавалась всякому влиянию, хорошему и дурному, и скорее дурному, так как это более совпадало с его легким воспитанием. Иван Алексеевич стал по-прежнему пить, только не прежние заморские вина, а простую русскую сивуху. Все чаще и чаще становились угощения, и все чаще стал возвращаться домой князь Иван пьяным, в развратном виде, сварливым и придирчивым.
Тяжелее отзывалась эта перемена на бедной жене его, Наталье Борисовне, на которой лежала вся житейская забота о всем семействе. Пожертвовав блестящим положением, состоянием, молодостью и красотою для выбранного ее сердцем, она безропотно несла и теперь свой тяжелый, непосильный крест. К несчастью, жертва ее оказывалась бесплодною и не оцененною. Напрасно она изобретала тысячи средств удержать мужа дома, отвлекать его от ежедневных попоек, в которых погибали его здоровье и вся будущность, напрасно она старалась ободрить его возможностью возврата к прежнему величию, в чем подавали некоторую возможность родные и близкие, с которыми она вела деятельную переписку, но князь Иван втягивался в разгульную и безобразную жизнь все глубже и глубже.
Из всех гульливых товарищей мужа Наталья Борисовна более всех не любила подьячего Фролку. Чуяло сердце ее, вечно страдающее за любимого человека, угадывало в нем не простого гуляку и пьяницу. Сколько раз ей удавалось вовремя предостеречь мужа от нескромной болтовни или дать невинный оборот какой-нибудь дерзкой и озлобленной выходке против угнетательницы. Иван Алексеевич в редкие трезвые минуты сознавал справедливость слов жены, порою давал слово исправиться, быть осторожным, но все эти благие решения продолжались только до первой рюмки, до прихода Фролки.
– Ныне не государыня у нас, – заговаривал обыкновенно князь под пьяную руку, – а шведка. Знамо, за что она жалует Бирона-то… Знамо, про что сгубила и нашу фамилию. Послушала Елизавету, а та зла на меня за то, что я хотел, когда был в фаворе, заключить ее в монастырь по легкой ее жизни…
– Негоже говорить такие речи, князь, а лучше бы Бога молил о здоровье ее государского величества, – подзадоривал Фролка хмелевшего князя.
– А что? Доносить хочешь? Да где тебе доносить! Ты ведь сибиряк! А донесешь, так первому же голову снесут… – успокаивался князь.
– Доносить не пойду, а донесет, пожалуй, майор Петров.
– Ну, этот из наших… не донесет. Немало получал подарков, – неосторожно проговаривался Иван.
Таких-то откровенных речей и добивался Фролка. Ими он заручался, обеспечивал свое влияние и ставил опальное семейство в зависимое от себя положение. Чем более проговаривался князь, тем дерзче становился Фролка, тем яснее становились его наглые требования от «разрушенной невесты».
И теперь, в это утро, увидев уходившего из дома князя Ивана, Фролка, с утра полупьяный, поспешил отправиться к острожку, где на широкой скамейке у ворот увидел сладкий предмет своих пожеланий.
Катерине Алексеевне только что минуло двадцать два года, но раннее свободное обращение как с невестою развило ее уже женщиною. Она не отличалась ни бросающеюся красотою, ни симпатичностью, но развившийся стройный стан, видный даже и в грубой местной одежде, довольно правильные черты лица, снежный цвет кожи, сохранившейся и в суровом березовском климате, грациозность манер отличали ее от самых красивых березовских девушек.
– О чем, милочка, кралечка ты моя, задумалась? – говорил с полупьяною развязностью Фролка, подходя к княжне и стараясь осиплому голосу придать сладенькую нежность.
Катерина Алексеевна не заметила его прихода и не слыхала нежного приветствия. В своей любимой позе, прислонясь боком к стене и опрокинув голову, она бесцельно смотрела вперед, не замечая около себя никого и ничего. Она вся уходила в себя, как будто прислушивалась к иным голосам, звучавшим когда-то так нежно и льстиво в ее ребяческом ухе, как будто вглядываясь в иные картины, которыми праздное воображение рисовало ей давно минувшее величие. «Тогда я была глупа… не умела, не воспользовалась… О, если бы теперь, хотя день, один только день», – думала она.
Княжна не заметила, как Фрол Филиппович грузно опустился подле нее на скамейку.
– Красотка ты моя золотая, все-то ты одна тоскуешь, голубушка… – ласкал он, обнимая правою рукою стройный стан девушки.
– Отстань, Фролка! – резко оборвала очнувшаяся Катерина Алексеевна, освобождая свою руку и отклоняясь станом от грязных объятий.
– Нет, золото, не отстану… Поцелуй меня… обними покрепче… помилуй дружка полюбовно, – бормотал Фролка, обнимая все крепче девушку и наклонясь к ней своим тучным телом.
– Мерзец! – отчаянно крикнула княжна и с силою, которая является даже и у слабых людей в минуты отчаянной решимости, оттолкнула подьячего, рванулась и, не заметив, как разорвалось ее платье, за которое цеплялись руки Тишина, побежала в комнаты.
– О, о! Сударынька! Вот как! Небось благородная кровь туда же заговорила! Мерзец! Постой… мерзец даст вам себя знать. Придешь к нему сама и попросишь, да будет поздно… Надругаюсь вволю тогда… – шипел Фрол Тишин, вставая со скамейки и отправляясь домой. Дорогою он обдумывал планы овладеть девушкою против ее воли.
Девушка, вбежав в комнату, где были Наталья Борисовна с Анной, не говоря ни слова, порывисто села к столу и, облокотившись на него, обеими руками закрыла лицо. Она не плакала – не в натуре ее было разливаться слезами, но вся дрожала, грудь ее судорожно поднималась и опускалась. В ней отзывалась не оскорбленная скромность девушки, а гордость государыни-невесты. «До чего дошла, до чего дошла! Осмелиться – и кому же, подьячему!» – шептала она.
Наталья Борисовна с участием следила за молодою девушкою, догадываясь о том, что случилось, но не расспрашивая. Вообще странные отношения установились у Катерины Алексеевны к братьям, сестрам и невестке. Гордая, постоянно сосредоточенная в себе, княжна-государыня казалась какою-то чужою в семействе, стояла всегда особняком, почти не принимая никакого участия ни в ком и ни в чем. Младшие сестры, на три и на пять лет моложе старшей, всегда смотрели на нее с какою-то опаскою и никогда не решались сами заговорить с государынею-невестою, вымещая зато свою никем не стесняемую живость на доброй, ласковой Наталье Борисовне.
Часа через два воротился домой и князь Иван Алексеевич, к крайнему удивлению жены совершенно трезвым, в обществе офицера местного гарнизона поручика Овцына. По наружности Овцын казался молодым человеком лет около тридцати, не красавец, но и не урод, с лицом типично русским, расплывающимся в море безбрежного добродушия. Поручик Овцын бывал точно так же частым гостем Долгоруковых. Обоих, как Тишина, так и Овцына, тянуло туда одно и то же чувство, но в проявлениях совершенно противоположных. Насколько груба была животная страсть Фролки, настолько, наоборот, было идеально платоническое обожание поручика. Странные бывают явления природы! Овцын, сын отпущенника, а впоследствии кабацкого целовальника, выросший в среде развратных и порочных примеров, не замарался липнувшею к нему со всех сторон грязью, напротив, вдался в совершенно противоположное – в какое-то возвышенное миросозерцание.
Княжна Катерина Алексеевна казалась Овцыну ангелом, которому должны были бы все поклоняться, в котором не было, по его глубокому убеждению, ни одной человеческой слабости. Конечно, такое беззаветное обожание и безграничная преданность не могли же не нравиться молодой девушке, и она полюбила его, насколько могло полюбить ее преждевременно охолодевшее и тщеславное сердце.
XI
Князь Иван при входе не заметил никакой перемены в сестре, на которую, впрочем, он никогда не обращал внимания, но поручик инстинктивно, с чуткостью утонченных нервов, угадал, что с его идолом случилось что-то необычное, требовавшее его участия. Поняв значительный взгляд, который княжна бросила ему, выходя из горницы, он, обменявшись несколькими словами, поспешил проститься и уйти. На задворке, подле той же скамейки, ждала его девушка.
– Дмитрий Иваныч, ты любишь меня? – прямо спросила его девушка, кладя на его плечо свою нежную руку, казавшуюся еще нежнее от грубого холщового рукава. – Ты не потерпишь моей обиды?
Овцын не отвечал, да и что мог бы он сказать, когда весь он сам готов был за нее в огонь и в воду.
– Меня, мой дорогой, обидел Фролка… хотел меня сделать своею любовницею… Защити меня. Брату не говори, он иль взбесится, иль на меня же накинется.
– Изломаю его, Катерина Алексеевна, потрохов не оставлю-с, – наивно высказал Овцын, не подозревая возможности рисоваться.
– Нет, Дмитрий, я не хочу этого. Ты только постращай его… Сохрани бог, совершится убийство… Тогда и нам не сносить голов своих. Хорошо, Дмитрий, согласен? Только поучи.
– Хорошо-с. Как велите, так и будет.
Княжна с кокетством, врожденным каждой женщине и не покидающим ее во всяком положении, протянула свою руку к губам молодого человека и быстро взбежала на крыльцо.
Овцын воротился домой и стал обдумывать средства наказать Тишина и отвадить его от любезничанья с княжною. Сознавая свое физическое бессилие, он посвятил в свою тайну двух своих друзей, казачьего атамана Лихачева и боярского сына Кашперова, вечного охотника подраться и побуянить. На общем совещании было решено, не откладывая времени, поколотить Фролку на порядках в науку.
Сговорившись в подробностях, они стали караулить Тишина и в тот же день вечером уловили его на каком-то задворке одной из березовских красавиц, щедро наградили плюхами, помолотили, как зрелый сноп, и отпустили едва живого. Избитый подьячий прохворал несколько дней, а потом, оправившись, быстро собрался домой в Тобольск. Он хорошо понимал, за что его чуть не убили, и твердо решил отомстить сиятельному семейству.
Прибыв в Тобольск, Тишин сказал за собою государево «слово и дело» и затем подал сибирскому губернатору язвительный донос, в котором подробно и с различными украшениями описал «зловредительные поступки сосланных Долгоруковых и укрывательство, чинимое им от майора Петрова и березовского воеводы Бобровского». Губернатор отослал донос в Петербург, откуда немедленно сделано было распоряжение о посылке для исследования в Березов Ушакова, капитана сибирского гарнизона, родственника начальника Тайной канцелярии.
Прошла зима. Тишин не являлся, и об нем уже забыли березовские обыватели, забыла и семья Долгоруковых. Радовалась Катерина Алексеевна, избавясь от животного нахальства пьяного ловеласа, радовался и гарнизонный поручик, которого сердечные дела шли все по-прежнему в сентиментальном размене взглядов и вздохов. Княжна видимо отличала его, позволяла целовать свои руки, позволяла пожатия их, но этими дерзновениями все и ограничивалось; да, впрочем, о дальнейшем Дмитрий Иванович никогда не мечтал. Вспоминала лишь иногда о Фролке-подьячем Наталья Борисовна, и то про себя, как будто ожидая чего-то, как будто томясь от предвидения будущего горя.
Но вот с начала весны 1738 года опальная семья Долгоруковых встрепенулась. В Березов вместе с вестниками оживления природы приехал капитан Ушаков.
– Государыня по милосердию своему вспомнила о несчастных, – говорил он по приезде в Березов начальным и подначальным людям, – и послала меня разузнать, какое житье-бытье Долгоруковых, не нуждаются ли они в чем-нибудь, не терпят ли стеснений от приставов.
Не довольствуясь одними расспросами, Ушаков стал во все входить сам, познакомился с опальными и старался снискать их расположение.
Обрадованные неожиданною милостью, все начальные и подначальные люди наперерыв спешили успокоить сердобольного капитана, убедить его, что житье опальных вовсе не так тяжело, что им не делается никаких стеснений и что они пользуются по возможности свободою. Радовались Долгоруковы, но теперь только одна Наталья Борисовна не разделяла общих радостных надежд, вспоминала о Тишине, находила какую-то связь между ним и Ушаковым и горячо просила Бога о спасении.
Поблагодушествовав желанным гостем, капитан уехал, обнадежив в добром будущем. И действительно, недолго спустя после его отъезда получен был приказ, но только приказ недобрый. Вследствие этого нового распоряжения князя Ивана отделили от семьи и посадили в сырую, тесную землянку, около которой стоял часовой, не допускавший к нему никого. Содержание узника определилось самое суровое. Пищу приносили только раз в сутки, и то небольшой кусок черного хлеба да кружку испорченной воды. Сбылись предчувствия Натальи Борисовны: Тишин и Ушаков не даром ели их хлеб-соль…
Вместе с несчастьем вырастало героическое самоотвержение жены князя Ивана. По целым часам валялась она – дочь фельдмаршала Шереметева – у ног часовых, обливая их слезами, и наконец достигла-таки того, что ей позволяли по ночам подходить к землянке, приносить заключенному ужин и утешать несчастного. Это были их последние свидания.
Прошло несколько месяцев; в конце лета выехала из Березова вся семья Долгоруковых и все, кто принимал в них участие. И ныне еще старики рассказывают, со слов своих отцов, как в одну из темных дождливых ночей явился у Березова таинственный баркас с неизвестными людьми, которые захватили князя Ивана, его братьев Николая и Александра, Бобровского, майора Петрова, Овцына, трех священников, диакона, прислугу Долгоруковых и в ту же ночь отправили в Тобольск, как впоследствии оказалось.
Между тем в Тобольске была образована для исследования действий князя Ивана особая комиссия под председательством того же капитана Ушакова, из особо назначенных членов, в числе которых находился поручик Василий Суворов, отец знаменитого рымникского героя. По распоряжению этой комиссии привезенных из Березова рассадили по тюрьмам. Самое тяжкое содержание выпадало на долю опять-таки князя Ивана. Его заковали в ручные и ножные кандалы и приковали к столбу так, что он не мог сделать почти никакого движения. Начались допросы.
Все обвинения заключались в доносе Тишина и в донесениях Ушакова, то есть относились к вредительным и злым выражениям, поносящим честь государыни императрицы и цесаревны Елизаветы Петровны, к высказываемому под пьяную руку князем Иваном намерению во время заговора заключить цесаревну в монастырь. Затем выступили вопросы о подложном составлении духовной от имени Петра II, о житье в Березове, о подарках Петрову и о сохранившихся патентах. На первом допросе князь Иван отвечал обдумчиво и осторожно, но не так осторожен был его младший брат Александр, насказавший на него под угрозою дыбы, а еще более под влиянием обильно подносимой ему следователями водки много были и небылицы1. На дальнейших допросах с пыткою изнуренная скудным питанием и бесчеловечным содержанием натура князя Ивана совершенно сломилась. Он подтвердил, данное и при первом допросе, чистосердечное признание в участии по составлению духовной и потом наговорил на себя все, чего только желали инквизиторы.
Добытые показания комиссия представила в Петербург, откуда последовало распоряжение перевезти Николая и Александра Долгоруковых в Вологду, а князя Ивана в Шлиссельбург, куда тоже перевезли и прочих Долгоруковых, князей Василия Лукича, Ивана Григорьевича и Сергея Григорьевича. Участь березовских обывателей, обвиняемых в послаблениях и в участии к Долгоруковым, решилась скоро. Майору Петрову в июне 1739 года отсекли голову; священников били кнутьями и разослали по сибирским городам; из них более пострадал священник Рождественской церкви Федор Кузнецов, духовник князя Ивана, – его били кнутом нещаднее и, кроме того, вырезали ноздри; офицеров гарнизонных разжаловали в рядовые по разным сибирским полкам, а боярского сына Кашперова и атамана Лихачева били батогами и сослали на службу в Оренбург. Оставалась нерешенною дольше других участь самого князя Ивана… Об нем хлопотали и заботились высокопоставленные лица того времени: два Андрея Ивановича и новый кабинет-министр Артемий Петрович Волынский.
XII
Начало ноября 1739 года. Вода и берег одинакового сплошного сероватого цвета; туманно так, что не отличишь, утро ли, полдень ли, или вечер. На всем давящая пустынность; ни звука, ни шороха, кроме однообразного шуршания прибоя и всплеска волны, взбегающей на однотонные, сероватые прибрежные камни и падающей обратно пенистою полосою. Жизнь умерла, хотя и нет еще снежного покрова. Холодно и сыро; влажность проникает всюду: в воздух, в слои буроватой листвы, покрывавшей землю, в слоистый берег, в серые стены Шлиссельбургской крепости, такой же томящей, как вся окружность.
С небольшим лет пятнадцать, как Шлиссельбург перешел от шведов к нам и из пограничной сторожевой крепости сделался стражем, только не от внешних врагов, а тюремным внутреннего распорядка1. Да и действительно это назначение более подходило к ней. Толстые стены, недостаточно устойчивые для борьбы, оказывались совершенно достаточными для острожной службы, тюрьмою глядели узкие оконца с железными переплетами, из которых виднелся лоскуток пасмурного неба. Сырые конуры в стенах скорее были способны не поднять энергию, а подточить ее, стереть всякий мятежный, своевольный порыв.
С Анны Иоанновны началась новая верная служба Шлиссельбурга. Сюда стали привозиться неспокойные мечтатели новых порядков, сюда же для окончательного суда была перевезена и семья Долгоруковых – за исключением Николая и Александра, бывших в Вологде, – и размещена отдельно по разным тайникам и казематам. Внизу, в сырой и темной каморке, в три аршина длиной и в два шириной, с полом ниже водного уровня, в стены которой бились озерные воды, содержался Иван Алексеевич, прикованный к стене и скованный ручными и ножными кандалами. При каждом его движении бряцали тяжелые кольца, но тихо, едва слышно, как тихи и едва заметны были движения арестанта. Иван Алексеевич был еще не труп и не скелет, но какое-то странное подобие человека. Темно-синие полосы под ввалившимися, неестественно блестящими глазами, вместе с глубокими впадинами щек, при обострившихся чертах, всклокоченные пряди волос придавали лицу выражение не страдания – оно уже притупилось, – а того крайнего нервного возбуждения, после которого уже нет возврата к жизни.
Иван Алексеевич сидел на связке грязной, вонючей соломы, опираясь спиною о стену, к которой привинчивался конец железной цепи. Опустив голову и беспомощно сложив иссохшие руки на коленях, он оставался по целым часам совершенно неподвижным. Да и мудрено было делать малейшие движения при вывихнутых руках и ногах. Тобольский заплечный мастер не потрудился даже оказать последней услуги: вправить вывороченные дыбою члены из связок.
Жизни не было в этих отторгнутых членах; вся деятельность сосредоточивалась только в двух жизненных узлах: сердце и голове. Но зато и работала же эта жизнь головы, этого всевидящего духа, отвлеченного от всего внешнего. В нем не было повесы и кутилы, женского сердцееда, счастливого любовника Трубецкой и стольких дам тогдашнего большого света, не было и того невольного поселенца сибирского, грязного и грубого, который топил в вине уязвленное самолюбие и память о счастливой буйной юности. С убийством тела умер животный и просветлел человек внутренний.
В другой камере того же каземата второго этажа, более просторной и более светлой, содержался князь Василий Лукич Долгоруков. И Василий Лукич изменился в этот последний месяц, после того, как ночью его, сонного старика, неожиданно схватили, заперли и подняли на дыбу. Его с проседью волосы совершенно посеребрились; всегда гладко выбритый подбородок покрылся щетиною; лицо осунулось и потеряло свежесть; тонко деликатные манеры, учтивство и умение обращаться в высших сферах потеряли обычную мягкость. Изменился Василий Лукич, но не потерял присутствия духа и крепко веровал на перемену фортуны.
«Наболтал что спьяну да с дурости племянничек Иван, – перебирал в уме своем старый дипломат, отыскивая причины новой невзгоды, – а больше ничего, никаких других новых резонов к гибели нашей фамилии существовать не может».
Сколько ни разбирал и не отыскивал новых резонов Василий Лукич, но не находил. История о духовной известна была государыне тогда еще, и даже от него самого, история о кондициях самодержавства – старая, забытая история. Правда, не прошло еще трех лет, как пострадал князь Дмитрий Михайлович Голицын, но та акция, как выражался князь Василий, с иными кондициями. Государыня всегда недолюбливала сурового старика, а к нему, Василию Лукичу, особливо благоволила.
«И что за ослепление такое было на меня, – чуть не вслух проговаривал старый князь, – к чему была эта наша затейка? Одно суетное мечтание…»
А между тем эти суетные мечтания и теперь накипали в голове без спроса и без ведома, рисовали доброе будущее, награды за перенесенные случайные беды, вместо первенствующей персоны в государстве. Но не исполнились мечтания и не удалось Долгоруковым стоять первыми персонами. В природе не повторяется одно и то же. Старый дипломат в снегах Сибири, где он воеводствовал, заморозил свою прозорливость; не понял он, что пошли новые порядки с немецкою пробою, в которых русским людям нет места.
Остальные Долгоруковы, Сергей Григорьевич и Иван Григорьевич, содержались в другом каземате, примыкавшем под углом к первому. На них мало отразилось тюремное заключение: они веровали в счастливый исход. Опала и прежде не лежала на них особенно тяжело, а князю Сергею даже улыбнулась было и фортуна. По заступничеству тестя, старого петровского «птенца» Петра Ивановича Шафирова, князь Сергей был вызван в Петербург, получил посольский пост в Лондоне, совершенно собрался к отъезду – только оставалось получить прощальную аудиенцию и аккредитивные грамоты, – как вдруг ни с того ни с сего вместо Лондона – Шлиссельбург. Как будто сама судьба гнала Долгоруковых, убирая со сцены их дружинников и сподручников. Не далее полгода умер Петр Павлович, а из остальных кто в шуты попал, кто в ссылку, а кто и умер…
Мертвенно тихо внутри острожного шлиссельбургского двора. Временами слышатся то шаги караула, то вдруг звук мушкета, выпавшего из рук вздремнувшего часового. Встрепенется солдатик, подхватит ружье, запахнет ветром подбитую шинель, перекрестит размашистым крестом широкий зевок, прислонится к стенке и опять вздремнет.
– Ого-го-го… выноси, голубчики! – послышалось где-то за крепостью, потом стук колес по камням, забряцали бубенчики… ближе… ближе… и скоро на двор к комендантскому крыльцу подкатила тройка с телегою: это был гонец из Петербурга с важными бумагами к коменданту.
Разбудили коменданта, старого служаку, неспособного к строевой службе за ранами, добряка, которого судьба, ради потешки, назначила на суровый пост тюремщика. Прочел привезенные бумаги добряк и окаменел. Что это? Не сон ли? Не дьявольское ли наваждение? Снова прочел он, толстая отвислая губа задрожала чаще, и с усилием заморгали веки, перекрестился и чуть слышно проговорил:
– О Господи… Господи… еще… Иванушку!
Первая бумага была сентенция от 31 октября 1739 года генерального собрания кабинета министров, сенаторов, трех старших чинов Синода и депутатов от гвардии и других разных ведомств. В сентенции заключалось: «Изображение о государевых воровских замыслах Долгоруковых, в каковых по следствию не только обличены, но и сами винились». Потом излагался приговор: князя Ивана колесовать и потом отсечь голову, князьям Василию Лукичу, Ивану Григорьевичу и Сергею Григорьевичу отсечь головы без колесования. Поступки князей Долгоруковых – фельдмаршала Василия Владимировича и брата его Михаила Владимировича «хотя и достойных смертной казни, представить на высочайшую милость ее императорского величества». В заключение излагалось утверждение 1 ноября приговора государынею и определялось, чтобы исполнение решения совершено было публично в Новгороде, чтобы князя Василия Владимировича заключить в Новгороде, а Михаила Владимировича – в Шлиссельбург.
Вторую бумагу составляло строжайшее распоряжение о немедленной отсылке четверых первых Долгоруковых в Новгород для исполнения над ними приговора. Милосердные судьи, как видно, хотели избежать упреков в волоките.
Пятого числа обвиненные были уже в Новгороде, куда в тот же день приехал и сам Андрей Иванович Ушаков.
Неизвестно, какими соображениями руководились при назначении казни именно в Новгороде. Зачем перевозкою по скверной осенней дороге окровавили истязаниями последние дни перед смертью людей с раздробленными членами.
Андрей Иванович не любил тратить попусту времени и лишать себя долго душевного удовольствия. Тотчас же по приезде в Новгород он навестил страдальца Ивана Алексеевича и – подвергнул его новому допросу. Конечно, и по новым допросам, даже самого Андрея Ивановича, не могло получиться каких-либо новых сведений. Едва слышным голосом, выходившим из груди, князь Иван снова повторил старую историю о духовной, с раскаянием высказывался о зловредительных словах в Березове насчет государыни и цесаревны, но более ничего.
Накануне дня исполнения приговора, в полдень 7 ноября, из-за Новгородской заставы вышли несколько человек рабочих и две подводы с нагруженными досками, брусками и отрубками. Пройдя Федоровский овраг по мостику, перекинутому через высохший почти ручей, рабочие и возы поднялись на другой высокий берег и направились по болотистой местности. Обойдя кладбище для бедных, известное под названием Скудельничьего кладбища, эта небольшая группа остановилась за четверть версты расстояния от кладбища и, следовательно, с небольшим в версте от Новгорода. Выбрав ровное, удобное местечко, рабочие принялись за работу этого изобретенного человеческим умом моста к другой жизни.
На другой день, с рассветом, по этой прежде пустынной дороге потянулись толпы горожан, любопытных видеть, как будут рубить головы родовитым князьям. Если бы наблюдательный зритель пожелал подметить выражение большинства этих снующих, спешащих на даровое зрелище людей, то он жестоко бы ошибся: он не прочел бы ни горя, ни скорби, ни сожаления, ни радости, ни злобы, а только какое-то тупое, деревянное выражение любопытства приниженного, забитого человека.
– Смотрика-сь, родный, чтой-то за махина? – спрашивала женщина, протискавшаяся к первым рядам около эшафота, молодого парня, указывая на орудия, приготовленные на эшафоте.
– Разнимать будут, тетка, по составам да головы рубить, – отвечал парень.
– А за что рубить головы? – допытывалась любознательная тетка.
Вопрос был выше понимания парня. Он приподнял с затылка шляпу, почесал за ухом и бессознательно проговорил:
– Так, видно, надо, тетка. Начальство указало… стало, надо.
Из городской заставы показалась процессия. Впереди мерно выступал местный отряд войска, за ним траурные телеги с подсудимыми, и, наконец, шествие замыкалось лицами, официально присутствующими при совершении казни, – священником, служилыми и, наконец, отрядом войска. По сторонам в беспорядке толкались народные толпы.
Было уже светло. Солнце, прятавшееся за густою, темною полосою на востоке, вдруг выглянуло; луч его, мимолетно поиграв на стальных штыках, осветил страдающие лица и побежал дальше осветить другие лица, других страдальцев. Воздух морозный, чистый, безветренный, глухо отдавающий солдатский шаг; свечи живых покойников горят ярко, мерно колыхаясь.
Процессия перешла овраг, поднялась на высокий берег и стала приближаться к эшафоту. Барабаны затрещали дробью, солдаты выстроились по сторонам, и обвиненных подняли на помост. Старый священник, обходя осужденных с последними Христовыми словами любви, особенно долго оставался перед князем Иваном. О чем говорили они, никто, кроме Бога, свидетелем не был, но все видели просветлевшее лицо страдальца и благоговейную любовь старика священника, видели, как старик сам склонился перед ним, государственным преступником и лиходеем, не удерживая слез, падавших на голову мученика. Вот дан и последний прощальный поцелуй примирения, с которым должен явиться новый жилец нового мира.
Присутствующие сняли шапки и оставались с обнаженными головами во все время исполнения приговора. После громкого прочтения резолюции приступили к казни. Князь Иван, казалось, ни на что не обращал внимания, как будто все совершавшееся было делом совершенно посторонним. Бестрепетным взглядом встретил он подходящего к нему палача. Какая-то странная нечеловеческая мягкость и всепрощающая любовь светились из его глаз и разливались по всему лицу. В эти моменты жалок был не он, покончивший с миром, а жалки люди, совершающие такое дело во имя будто бы государственного блага. И вот, как будто желая сделать всех участниками своей славы, он стал молиться, отчетливо и громко выговаривая слова молитвы в то время, когда его привязывали к доске.
– Благодарю тебя, Боже мой… – говорил он, когда палач рубил ему правую руку, – яко сподобил мя еси… – когда рубилась левая нога, – познатитя… – при отнятии левой руки…
Это были его последние слова. Князь Иван лишился сознания при отсечении правой ноги, и палач поспешил окончить дело, отрубив ему голову.
Затем очередь была за князем Василием Лукичом. До самой последней минуты князь Василий надеялся, ждал, что вот сейчас, сейчас прочтется бумага от государыни о прощении, но бумаги не было, и голова его скатилась вслед за головою князя Ивана. Наконец зрелище кончилось казнью князей Ивана Григорьевича и Сергея Григорьевича.
Гробовое молчание продолжалось во все время совершения казни; народ оставался точно окаменелый.
Через несколько месяцев двух братьев Ивана, Николая и Александра, перевезли из Вологды в Тобольск, где 28 октября 1740 года состоялось замедлившееся исполнение над ними решения: их обоих наказали кнутом, урезали языки и потом сослали Александра на Камчатку, а Николая в Охотск. Замечательно, что по кончине Анны Иоанновны Бироном было сделано распоряжение об отмене, в поминовение об императрице, наказаний над Николаем и Александром, но это распоряжение получилось в Тобольске, месяц спустя после выполнения решения. Избегли уголовных наказаний только один средний брат – Алексей Алексеевич, сосланный в Камчатскую экспедицию матросом, сестры княжны да знаменитая русская женщина, супруга князя Ивана, Наталья Борисовна с двумя малолетними детьми. Впрочем, тяжкая доля постигла и виновницу общего погрома, «разрушенную государеву невесту». Сосланная в Новгородский Воскресенский Горницкий девичий монастырь, она в продолжение двух лет содержалась там в самом строгом заключении на заднем дворе, подле конюшен и хлевов, в арестантском помещении с узким отверстием вместо окна и под двумя замками. В тюрьму ее никто не входил, кроме настоятельницы и приставницы, носившей пищу. Несмотря, однако же, на такое суровое содержание, надменный характер девушки не сломился. Раз приставница, рассерженная грубостью, замахнулась на нее четками из деревянных бус.
– Уважь свет и во тьме, я – княжна, а ты – холопка, – гордо сказала государева невеста, и смущенная приставница поспешила уйти.
В другой раз она не только не отдала должного почтения, но даже не удостоила ответом какого-то генерала, приезжавшего из Тайной канцелярии в монастырь для осмотра колодниц. За такую грубость необходимо должно было следовать наказание, но, как нового придумать оказалось невозможным, то для обучения смирению заколотили досками единственное отверстие вроде окна.
При Елизавете Петровне княжна Екатерина была возвращена и назначена фрейлиною, а через три года, в 1745 году, вышла замуж за генерал-аншефа Александра Романовича Брюса. Государева невеста умерла вскоре после свадьбы, простудившись на возвратном пути из Новгорода, куда ездила для поклонения праху брата. За два дня до смерти она приказала сжечь при себе все свои платья, не желая, чтобы их кто-нибудь носил после нее.
Лопухинское дело
I
Не жаркий, но и не пасмурный апрельский день. Молочною рябью с серыми клубнями по небу несутся весенние облака, то покрывая проступившую землю темным скользящим налетом, то выставляя ее напоказ оживляющим теплым лучам. А выставить напоказ было что. Давно ли на всех перекрестках и в переулках лежали бурые сугробы разной смеси снега, мусора и навоза, а теперь, почти вдруг, в невылазной грязи петербургских улиц по всем направлениям появились тропки, а по окраинам и на берегу стали пробиваться яркие зеленые стебельки молодой травки. Давно ли, не прошло и двух недель, по широкой Неве можно еще было переходить без опаски человеку, а теперь вольные невские струи гонят массивные льдины прочь от себя к морю, вливаются, не удерживаемые, как теперь, гранитными стенами, в плоские берега и журчат им новые веселые речи.
Петербург празднует Пасху 1742 года.
Русский народ особенно любит этот первый весенний великий праздник. Умиляясь в глубоком религиозном чувстве торжественными церковными песнями о любви и братских объятиях, серый люд под веянием мягкой теплоты умягчается и сам, как будто бодрее смотрит на свою тяжелую будущность, и если не верит в лучшие времена, то, по крайней мере, укрепляется в силах нести дальше свой крест и терпеть…
Много таких пасхальных праздников во все десятилетнее царствование императрицы Анны Иоанновны провел этот серый люд в невольной сдержанности, в ежеминутной боязни шпионов и доносчиков, провел и не поминает лихом. В последний год отдохнул было он при ребенке-императоре и доброй правительнице Анне Леопольдовне. Но теперь снова перемена с загадочными признаками.
На том месте, где ныне Адмиралтейство, высилась полтораста лет назад Адмиралтейская крепость на берегу Невы, недалеко от прежнего Зимнего дворца, бывшего тоже на том же месте, на котором находится и нынешний.
Адмиралтейство недаром называлось тогда крепостью: крепостные казематы охватывал довольно глубокий ров с возвышающимся валом, с которого угрюмо смотрели жерла расставленных пушек. Адмиралтейская крепость вместе с находящеюся против нее Петропавловскою крепостью составляла тот замок, которым замыкался тогдашний Петербург от нападений незваных немецких гостей. От валов кругом почти до самой Мии, нынешней Мойки, простиралась луговая местность, по которой в летнее время мирно бродили и щипали травку коровы, лошади, овцы и другие домашние животные. Далее, за этим лугом, с левой стороны, начиная от берега, валялись нагроможденные кучи разного хлама, бунты бревен и склады камня, приготовленные для постройки нового Зимнего дворца. Почти подле этих разбросанных строительных материалов начиналась аллея Невской першпективы, убегавшей внутрь далеко – мимо Елизаветинского дворца у нынешнего Полицейского моста, мимо деревянных Гостиных рядов до самой Аничковской слободы и рощи. От Невской першпективы по берегу Мии тянулись ряды жилых строений – каменных и деревянных – с затейливыми, хитрыми узорами и с флюгерами, между которыми выделялись красивые дома Волынского, Остермана и других сановников, а против крепости, на самой середине, красовались увеселительные заведения и бильярдные дома.
На площади кругом Адмиралтейской крепости – народное гулянье.
Более тесные толпы группируются около качелей, около плохо сколоченных подмостков, на которых расхаживает и машет руками какая-то фигура с длинной льняной бородой и в высокой остроконечной шапке, около раевщика и около ларей со сбитнем, орехами, коврижками, гречишниками, пряниками, леденцами и тому подобными любимыми сластями.
В воздухе стоит шум, говор, щелканье орехов, женский визг и доносящийся со всех сторон праздничный трезвон церковных колоколов.
В особенности около качелей и арлекина с льняной бородой толпится народ; оттуда слышатся прибаутки и взрывы хохота, там заигрывают парни с молодухами. Вон на качелях поднялась какая-то пара, высоко, над головами зрителей, несется оттуда мужской раскатистый смех с аккомпанементом женской звонко выкрикиваемой брани, вслед за которой летит сверху мещанская шапка. Для толпы новый повод для веселья. Шапка от порывов ветра летит по направлению к Неве, упала на землю и катится все дальше и дальше по берегу к реке.
– Молодец, баба, лихо! Ай да козырь! Так его! – ободряют басистые голоса из толпы.
– Лови шапку-то, парень! К морю поплыла рыбу ловить! – визжат пискливые женские голоса.
И новый смех, с новыми прибаутками. Около раевщика тоже немалая толпа зрителей, охотников до диковинок.
Эй, честные господа, вы пожалуйте сюда! Вот, изволите видеть, – Москва Всем российским городам глава… –нараспев гнусавил раевщик, поворачивая картины под зрительным стеклом, а зритель усердно прикладывал свой глаз к стеклу, жмуря другой и кривя бородатое лицо.
– Не угодно ли свеженьких орешков либо сладеньких сусальных коньков? – бойко предлагал молодцеватый горожанин в немецком картузе молоденькой мещаночке, развертывая перед ней красный набивной платок с орехами и пряниками.
– Покорно благодарим-с, мы и сами имеем немало всяческих сластей, – жеманилась девушка, потупив голову, но успев, однако ж, до тонкости оглядеть учтивого кавалера.
В стороне от молодежи солидно прохаживались степенные купчины, размениваясь между собою серьезными речами о разных политических предметах. Разговаривали оживленно, но вполголоса: видно, что не совсем еще прошла опаска доносов и допросов.
– Дождались мы, милостивец мой Кузьма Ерофеич, свои пошли в ход, родовые, а басурманов – вон, – говорил приземистый торговец в тулупе, покрытом синим сукном, товарищу своему в меховой сибирке, торгующему в рыбном ряду.
– Давно бы пора нашей матушке-государыне вступиться за свой стол, – басом отвечала сибирка. – Говорил мне свояк, ученик бриллиантщика Граворова, будто еще при жизни государыни Анны Иоанновны у покойной с цесаревной были споры. Наша-то государыня-цесаревна упрекала покойную, за что-де императрица жалует иноземцев золотыми монетами, а своих прирожденных слуг только медными, просила у ней льготы от всякой тяготы на три года для черни, да покойная по смутам своего Бирона рассердилась на цесаревну, и была у них за то тогда превеликая ссора.
– Слышал и я, Кузьма Ерофеич, евти речи. Что и говорить, нынче времечко другое, вольготное. Вон и нашего Василия Владимировича, значит, Долгорукова, слышно, воротили с прежним почетом фельдмаршалом. Да… пошли мы на прежнее… Только, знаешь что, кум, ведь и басурманов-то иных жаль. Видел, чай, сам, как опосля Святок самых набольших немцев, Мыныха, Востерманова, ставили на шафот. Не дрогнули… словно награду какую им читали. Народ – кремень!
– Эх, братец, известно, басурманину сам нечистый помощь дает – от евтого самого и храбер.
– Оно так-то так, Кузьма Ерофеич, точно не без нечистого, а все жалостливо. Вот хоть бы и матушку-императрицу Анну Леопольдовну тоже жаль… Государыня была добрая, милостивая, никого-то она на веку своем не обидела. Отдохнули мы при ней. Оно, конечно, и нынче-то ничего, грех сказать, только вот силу превеликую взяли… – И синий тулуп, наклонившись к самому уху меховой сибирки, стал шептать, опасливо озираясь на все стороны. – И такую-то силу возымели они, Кузьма Ерофеич, – продолжал рассуждать первый торговец уже вполголоса, не заметив подле себя подозрительных лиц, – такую-то силу, что страсти. Пьянствуют, насильничают, грабят, по всем домам бегают с поздравлениями: где не дадут угощенья, там силком схапают. И никакой управы на них нет. Чего тут наши домишки, на днях, слышь, в самом дворце государыни приступили к канцлеру и ну требовать денег… Тот перетрусился, офицер ихний стал уговаривать: знаете ли, говорит им, с какой знатной особой говорите, как вы смеете? А они с озорством и ну кричать: плевать нам на знатных, сами мы всех знатнее.
– Нашел о чем толковать на людях, эвтаких-то сусниций не токмо болтать, но и в мыслях не дерзай иметь, – опасливо отозвалась меховая сибирка, отходя от приятеля к первому ближайшему столику со сбитнем.
К вечеру от моря повеяло свежей влажностью, но народу на площади прибывало все больше и больше. К группам присоединялись новые гуляющие из городских обывательниц и солдат.
От толпы у качелей отделились две девушки, направляясь от ларей и навесов к берегу Мии.
Обе девушки, по-видимому подружки, были очень красивы, каждая в своем роде.
Та, что была повыше, брюнетка, дочь мелкого торговца из отпущенных, Стеня Лопухинская, отмечалась энергическим, смелым типом. Все прекрасное, правильное и резко очерченное лицо девушки выражало стойкость и властный характер. Силою дышали ее темные глаза, смело глядевшие из-под черных длинных ресниц, загибавшихся кверху, окаймленные шелковистою, высоко поднятою черною бровью; жесткие, густые, воронова крыла волосы с трудом, казалось, держались в двух толстых косах, спускавшихся по душегрее до пояса; твердость, если не упрямство, сквозила в подвижных ноздрях прямого с небольшою горбинкою носа, в линиях, очерчивающих рот, и в небольшом, несколько выдающемся подбородке; поступь стройного стана уверенная, с едва заметным наклоном вперед.
Другая девушка, Феня Горохова, – смуглая блондинка, с ясным, простодушным характером, так и проступающим во всем ее существе, начиная с полного, несколько одутловатого лица, с сереньких небольших глазок, как будто заплывавших в золотушных веках, окаймленных редкими белокурыми ресницами, и кончая полным телом, без всякого почти изгиба шеи и талии. Но, несмотря на эти недостатки, Феня Горохова благодаря милому, наивному выражению казалась очень миловидной.
Девушки, может быть именно вследствие типического их различия, считались большими приятельницами; жили они рядом.
– Мы куда идем, Стеня? – спросила Феня Горохова, когда они подходили к мосту через Мию.
– Домой.
– Что ты! Да теперь только и стал сбегаться народ! Смотри! Вон идут кавалеры-солдатики… То-то будет веселье!
– Весело? Так оставайся.
– Нет уж, мне пошто одной!
Девушки прошли несколько шагов молча.
– Стеня, а Стеня!
– Что?
– Отчего ты такая?
– Какая?
– Да неразговорчивая… Все молчишь, о чем-то думаешь…
– Бог так создал.
Девушки опять замолчали.
– Стеня, а Стеня! – снова заговорила Феня Горохова.
– Да что тебе?
– А я знаю, зачем ты идешь домой!
– А зачем бы, по-твоему?
– Да думаешь свидеться с Иваном Степанычем.
– Очень мне нужно!
– Стало, нужно, если бегаешь чуть ли не кажинный день в Лопухинские палаты.
– А ты почем знаешь?
– Подмечала… Ты думаешь, я такая простоволосая, а я все в тебе вижу.
– Что ж ты видишь?
– Любишь ты Ивана Степаныча.
– Не знаю… Может быть.
– А он тебя любит?
– Не знаю.
– Уж верно, любит… Ты такая писаная. Только проку-то из евтого никакого не выйдет.
Стеня Лопухинская даже повернулась от изумления к подруге.
– Говорю тебе, проку не будет, – упорно настаивала Феня.
– Это почему?
– Одно слово – не пара… Он из знатного рода; тятенька говорит, что с царской родни, а ты дочь ихнего отпущенника. Побалуется он тобой да и бросит.
– Ну это увидим – не таковская, – с резкостью оборвала Стеня.
Девушки снова замолчали и, перейдя мост, пошли по проулку, который вел к отдаленной окраине Петербурга, к той стороне, где прежде была Калинкина деревня, а теперь обстраивалась домишками бедных городских обывателей. В это время до их слуха донеслись от площади какие-то звуки, странные, то хриплые, гортанные, то звонкие, визгливые, словно душили, грабили или резали кого-то. Девушки испугались и ускорили шаги.
Скоро им стали попадаться навстречу бежавшие на площадь солдатики, а затем встретился и целый отряд напольного полка под командой офицера.
Такие же отряды двигались, как слышно было по мерному отбивному шагу, и в соседних улицах, и также по направлению к площади.
С разных сторон барабаны били тревогу.
На площади происходил между тем дикий, необыкновенный курьез. Гвардейский солдат Семеновского полка, пошатываясь и припевая, проходя между ларей, недалеко от качелей, увидел корзину с красными яйцами, выставленными торговкой для продажи. Солдатику захотелось покушать яичек, и недолго думая он запустил руку в корзину, вынул оттуда два яйца и разбил. Торговка обозлилась.
– Ты пошто, разбойник, схапал, не торгуясь! Давай денежки! – завизжала она на всю площадь.
– Ах ты, рябая форма, да как смеешь спрашивать деньги за гнилые яйца с кавалера… Да я тебя, проклятая ведьма, да я…
– Что «я»! Яйца взял, так и деньги давай, не больно куражься, – вмешался молодой солдат-гренадер одного из напольных полков, племянник торговки, стоявший подле, у открытого ларя.
– Ах ты, щенок! – заревел гвардеец, оскорбленный заступничеством простого армейского солдата. – Я тебя выучу знать, кто я!
И гвардеец, накинувшись на гренадера, хватил его кулаком по уху.
Гренадер не остался в долгу и отплатил таким же ударом.
Началась рукопашная схватка. Около соперников сдвинулся кружок зрителей; женщины визжали, мужчины кричали, то одобряя, то подзадоривая дерущихся.
– Ай да молодец! Вот так его, так! Под микитки! – кричали одни.
– Куда гвардейцу супротив гренадера! Тех же щей, да пожиже влей! Жидок, брат, не выстоишь! – со смехом орали другие.
К даровому занимательному зрелищу хлынули толпы от раевщика, от балагана паяца и даже с отдаленных концов площади.
Прибежали несколько гвардейцев и солдат из напольных армейских полков и бросились было разнимать драку, но, получив хлесткие затрещины, сами приняли деятельное участие. Свалка между солдатами делалась общею; шум и суматоха принимали грандиозные размеры.
Крики и общее смятение привлекли внимание проходившего по площади офицера из иностранцев Гейкина, а по солдатскому прозвищу Гайкина.
Узнав, в чем дело, он протиснулся сквозь зрителей и бросился к драчунам с целью прекратить безобразие, но дело вышло еще хуже.
– Стой, шельм, ни с мест, пошел по казарм, мой велит палькой! – командовал офицер, коверкая русские слова к общей потехе зрителей, и, конечно, его комические угрозы произвели совершенно противоположное действие.
– А ты, колбаса, пошел прочь, пока цел! – крикнул один из драчунов.
– Молодец! – отозвался кто-то громко из толпы. – К черту немца! Свои собаки грызутся, чужая не мешай!
Ошалелый немец-офицер оторопел было, но оскорбленное военное достоинство закипело гневом, и он, бросившись к ближайшему солдату, схватил его за шиворот.
– Не тронь, немец! – дерзко огрызнулся тот, крутым поворотом освобождаясь из его рук.
– Не трожь, не трожь его! – заорали все – и товарищи, и недавние соперники в драке.
За этой сценой внимательно следили из окон второго этажа бильярдного дома, стоявшего на площади, в нескольких саженях от побоища.
Дом принадлежал иностранцу Бернару, и преимущественно посещался немцами-офицерами. По обыкновению, и теперь в бильярдной комнате второго этажа собралось несколько иностранных офицеров, из которых некоторые играли на бильярде, другие стояли у окон, наблюдая картину народного гулянья и перекидываясь между собой тяжелыми немецкими каламбурами. Сначала они громко хохотали над начавшейся дракой гвардейца с гренадером, но, когда в побоище приняло участие солидное число драчунов и в особенности когда попытка офицера Гейкина оказалась не только бесплодной, но даже вызвавшей энергический и оскорбительный отпор, офицеры решились немедленно же выручить товарища.
– Идем, господа, помогать Гейкину! – всполошился флигель-адъютант фельдмаршала Ласси Соутрон, первый бросившись к двери.
– Идемте! Идемте! – закричали офицеры фон Роз, Зитман и Миллер, тоже выбегая за адъютантом на площадь.
Но теперь усмирить возбуждение было не так легко. То, что представлялось возможным и легким вначале для сильного, быстрого и решительного человека, а не для немецкого мямли Гейкина, то по разгоревшемуся раздражению оказалось невозможным и опасным.
Град ругательств непечатными словами со стороны пьяных солдат и задорливых насмешек со стороны столпившегося народа встретил прибежавших офицеров.
Вспыльчивый фон Роз бросился на первого ближайшего к нему ругателя и вцепился в его воротник, но солдат сильным ударом кулака отшиб руку прочь.
– Славно, так его, так! Бей немчишек! – ревела толпа, окружающая кольцом и надвигаясь все ближе и ближе.
Офицеры, увидев опасность, бросились бежать назад к бильярдному дому Бернара. Толпа двинулась за ними с громкими криками, свистками и бранью; несколько комков грязи влепились в спины некоторых офицеров, но они успели, однако ж, добежать до ворот и скрыться за ними, заперев за собой как ворота, так и калитку.
Толпа приостановилась, но ненадолго. Под общие крики: «Бей иноземщиков!», «Мало они ругались над нами!» – солдаты дружно наперли в ворота, и плохо скрепленные полотна при первом же натиске отлетели с петель.
На крыльце стояла группа офицеров с обнаженными шпагами. На этой позиции, имея обеспеченными тыл и фланги, они считали себя достаточно сильными против безоружной массы, которой, по их мнению, стоило только показать лезвие шпаги.
Под натиском задних рядов передние подступили вплоть к самому крыльцу.
Настал тот решительный момент, когда громовое молодецкое слово на родном языке электризует массу и заставляет ее или падать на колени, или со слепой яростью бросаться напролом… но этим словом не владели немцы, и их вытянутые фигуры, даже и с блестевшими клинками, не были внушительны и грозны.
– Чаво стали? – кричали в задних рядах. – Аль испугались иноземщиков? Самой государыне любо казнить поганых немцев!
И двое передовых, притиснутые к крыльцу, уже подняли ноги на первую ступень. Один рыжеватый солдатик, плюгавый и юркий, тот самый, которого фон Роз душил за воротник, поднял руку с намерением вырвать шпагу из рук стоявшего впереди капитана Брауна.
– Пошел прочь, мерзец! – пропел капитан и, замахнувшись шпагой, порубил ею ладонь рыжеватого солдатика. Кровь брызнула и окончательно ослепила яростью головы нападавших. Теперь не один уже и не двое, а весь первый ряд под напором задних рядов хлынул на крыльцо; еще двое или трое были порублены, но это не останавливало, а, напротив, воспаляло остальных.
Видя невозможность удерживаться долее, офицеры бросились в комнаты, успев запереть за собою сенные двери.
Солдаты заняли крыльцо и стали ломиться в двери, которые, конечно, не могли выдерживать долго напора всей массы. Между тем в это время офицеры решились скрыться и выбрали чердак как самое удобное место, откуда открывалась возможность через слуховое окно выбраться на крышу. Только что успели они взобраться по узкой лестнице из задних комнат на чердак и набросать на спускную дверь разного хлама, как раздался треск разлетевшейся двери, а затем торопливое топанье в прихожей и передних комнатах. Пока бунтовщики толковали и спорили о том, куда могли утаиться офицеры, последние успели один за другим вылезти на крышу и оттуда непримеченными спуститься на соседний двор. На чердаке остались в виде арьергарда только адъютант Соутрон и капитан Браун, решившиеся задержать толпу и жизнью своей обеспечить спасение товарищей.
Выломав двери, солдаты и народ рассыпались по всем комнатам, отыскивая немцев, шарили по углам, заглядывали под диваны, столы, стулья, в ярости ломали мебель, били посуду, причем некоторые, не пропуская благоприятного случая, запрятывали кое-что в свои карманы и за пазуху, вероятно, на память. Наконец отыскали в углу чулана спрятавшихся там штаб-лекаря Фусади, иностранца, и хозяина бильярдного дома Бернара, из дружеских допросов которых узнали о лестнице на вышку. Намяв бока лекарю и трактирщику, толпа полезла на чердак, под предводительством того же рыжеватого солдатика, вооруженного теперь лекарской шпагой.
Выломать спускную дверь было делом одной минуты.
На чердаке перед дверью стояли с обнаженными шпагами адъютант Соутрон, капитан Браун и служитель капитана, верный Кампф, не хотевший отстать от господина в тяжелую минуту. Все они казались покойными, решившимися дорого продать свою жизнь и готовыми без страха встретить смерть. Легкая усмешка даже блуждала по губам Соутрона: как будто он прислушивался к чему-то отдаленному, к каким-то звукам, по временам неясно доносившимся из слухового окна. Казалось, ему нужно было выиграть время, но время не ждало. Отчаянная борьба завязалась только на несколько минут. Окруженный со всех сторон, Соутрон отбивался шпагой, но в то мгновение, когда он ловким ударом ранил напиравшего на него гвардейца, рыжеватый солдатик нанес ему со всего размаха тяжелый удар по голове лекарскою шпагой. Соутрон упал облитый кровью, и десятки кулаков, десятки сапог стали бить, топтать и уродовать несчастного офицера. Натешившись досыта, солдаты, подняв его за волосы и ноги, раскачали и сбросили вниз по лестнице, о ступени которой прыгала и стучала голова безжизненного трупа.
Такая же участь постигла Брауна и Кампфа.
Но это был последний эпизод печальной драмы. Звуки барабанной тревоги, слышавшиеся сначала издали и тихо, заглушаемые криками и ругательствами, стали со всех сторон доноситься явственнее. Все ближе и сконцентрированнее раздавались тревожные перекаты, и наконец загрохотала дробь на площади, на дворе, кругом всего бильярдного дома. Отряды, приближавшиеся с окраин к площади в боевом порядке, разгоняли народные толпы; как зайцы, бросились врассыпную, в разные стороны все, только что перед тем до хрипоты вопившие ругань. Охватившая цепь солдат забрала, как овец, всех бунтовавших в доме.
Фельдмаршал Ласси, оставшийся главным начальником столицы за отъездом двора в Москву на коронацию, распорядился удачно и энергично. Тотчас же, как только было им получено известие о смуте на площади, он разослал приказы к начальникам армейских напольных полков двинуться к площади, разогнать толпы и захватить виновных.
Бильярдный дом Бернара и площадь опустели; тихо – только во всю ночь и по всем улицам раздавались окрики и шаги обходивших патрулей.
II
– Спасибо, Стеня, что пришла.
– А разве не ждал меня?
– Ждал, как не ждать… сердце все изныло; да ты редко приходишь!
– Нельзя, Ваня, мать стала за мной смотреть зорко.
– Нет, не то, Стеня: мать не увидела бы, если б ты сама захотела… а не любишь меня.
– Стало, люблю, коли пришла.
– Пришла… да какая пришла – холодная, бесприветная.
– Ну какая уродилась.
– Не такая бы ты была, коли любила бы.
– А как же, по-твоему, любят?
– Не расскажешь, Стеня… Кто любит, тот только и думает о своем предмете, так вот он и стоит всегда и днем и ночью перед глазами точно живой. Все немило.
– Не знаю… – протянула девушка задумчиво. – А ты любишь? – быстро повернула она к говорившему свою красивую головку.
– Люблю тебя, Стеня, больше жизни своей люблю.
– Любишь… а кто любит, разве так ведет себя, как ты? Нет, кто чувствует так, как ты говоришь, тот не станет бражничать, день-деньской с товарищами гулять в разных вольных да непристойных домах.
– С горя, Стеня, с досады на тебя. Полюби ты меня крепко, отдайся мне вся и душой и телом – и буду я совсем другим человеком.
– Погоди… будет время.
– Да когда будет-то?
– А вот когда исполнится все, как ты говорил; когда мне будет не зазорно перед целым божьим светом глядеть на своего милого Ваню.
И девушка, порывисто охватив голову Вани, прижалась к нему и страстно поцеловала. Молодой человек потянул было к себе девушку, но та быстро и решительно отклонилась:
– Прощай, Ваня, пора домой… поздно.
Действительно было поздно.
Трепетная, мерцающая майская ночь спустилась над Петербургом; молодой месяц, прорезавшись в густой листве лопухинского сада, вдруг облил голубоватым светом молодую чету, заиграл огоньком в глубоких черных глазах девушки, осветил ее бледное, прелестное лицо, перебежал на голову молодого человека, скользнул с его курчавых волос, причесанных по-немецки, на длинный ус и побежал прочь, дальше, играя, переливаясь и заглядывая в другие потайные места.
В саду тихо, только шелест молодых, только что распустившихся листьев один таинственно вторил тихим речам молодых людей.
Иван Степанович Лопухин и Степанида Матвеевна, или, как ее все называли, Стеня Лопухинская, были молочные брат и сестра.
Небогатая и не особенно родовитая фамилия Лопухиных скромно, чуть не убого, жила в своих незначительных поместьях, строго выполняя в домашнем обиходе все мудрые уставы «Домостроя», по временам выставляя к московскому двору кого-нибудь из своих членов на должности второстепенных чинов, до тех пор, пока в конце XVII века злополучная судьба вдруг не выдвинула ее на первый план.
После свадьбы юного государя Петра I с молоденькой Авдотьей Федоровной Лопухиной все члены этой фамилии повыросли и получили права на большие оклады, поместья и на особенный почет.
Но не в пору выпала такая завидная доля Лопухиным, повитым и выросшим в ненарушимом почтении к старинным преданиям.
Молодому царю захотелось новых порядков, захотелось перекроить затхлую жизнь по новым образцам, и он принялся за это дело со всей силой своей энергической, страстной натуры. Хорошенькая, но неразвитая жена и вся новая царская родня не поняли замыслов юноши, нашли их законопротивными, вредными, стали наперекор и отнеслись к новым сотрудникам царя с явным недоброжелательством. Раз, например, на какой-то пирушке брат царицы, подвыпивши, не удержался и задал любимцу Лефорту такую встрепку, от которой у любимца многоэтажный парик съехал совсем набок. Конечно, подобный курьез не остался безнаказанным, и сам Петр тотчас поспешил надавать шурину порядочных пощечин, но дело не ограничилось дракой, а пошло дальше.
После возвращения Петра из первого заграничного путешествия Авдотья Федоровна попала в монастырь, а братья ее были удалены от двора для жительства в поместьях.
Между тем перекройка продолжалась упорно: с каждым днем и чуть ли не с каждым часом появлялись новшества, обязательные для всех и каждого, и скоро самые слепые, даже сами Лопухины, догадались, что делать нечего, что плетью обуха не перешибешь, что приходится и самим залезать в кургузое платье, – и они полезли с ловкостью заспавшегося в берлоге медведя. Лопухины поехали за границу, откуда налетали странные новшества, выучились, но, разумеется, выучились только внешним приемам, привыкли к новому костюму, освоились с новой обстановкой жизни, но сохраняли все еще в себе всю прежнюю суть.
Лопухины появились при дворе, поступили в служебные ранги и, по-видимому, примирились с новыми порядками. Мало того, перекройка у них дошла даже до того, что сын Василия Федоровича Лопухина, молодой Степан, даже примкнул к петровским «птенцам», женился на красавице Наталье Федоровне Балк и наконец, скрепя сердце, помирился с мыслью о замещении ею места тетки Авдотьи Федоровны из кровного новаторского семейства. Таким образом, Степан Васильевич очутился на двух стульях: по воспитанию, по убеждениям он упирался на старинные предания, на дедовские и отцовские взгляды, а по служебным отношениям и по связям жены невольно примыкал к вожакам новшества. Положение щекотливое, требовавшее особенной ловкости, умения искусно балансировать; но особенною ловкостью не отличался Степан Васильевич, а, напротив, во всей его фигуре было что-то прямое, медвежье. Правда, он получил по службе высокий пост, но большим влиянием никогда не пользовался.
Ловкости у Степана Васильевича доставало только на то, чтобы держаться на службе, и он держался не только при Петре, но даже и после его смерти, при лично ненавистной ему Екатерине, держался и получал награды с повышениями в рангах. Вдова-императрица не забывала любимого семейства Балк.
Более приветно улыбнулась судьба Лопухиным после Екатерины, в коротенькое царствование отрока Петра II. Юный государь выдвинул было всех Лопухиных, начиная с родной бабки своей, инокини Елены, приблизил к себе, и не из любви к ним, не по заслугам их, а чисто из протеста бывшим любимцам деда, не благоволившим к родне разведенной жены.
Инокиня Елена получила тогда восемь тысяч дворов, и к ней назначен был особый придворный штат, на содержание которого отпускалось из казны по шестидесяти тысяч рублей в год. Весь этот штат состоял из лопухинского рода, за исключением Степана Васильевича, которого назначили камер-юнкером к самому государю и которого наградили вотчинами из отписных имений ссыльного Меншикова.
Но царствование Петра II продолжалось недолго, и через два года снова невзгода налегла на экс-царское семейство. Императрица Анна Иоанновна лично ничего не имела против Лопухиных, напротив, по складу своего характера, по глубокому религиозному чувству она тяготела к старине, но волею ее владели немцы, сердцем – курляндец Бирон, а умом – Остерман, и за этими проходимцами на долю Лопухиных не выпадало ровно ничего.
Оттиснутый от расположения государыни, единственного источника милостей и общественного положения, Степан Васильевич становился даже, хотя нетвердо и нерешительно, на сторону оппозиции, посещал известные в то время либеральные собрания в доме кабинет-министра Артемия Петровича Волынского, выслушивал горячие речи министра против иностранцев, его осуждение даже самой императрицы, но – несчастный министр и его ближние скоро поплатились за свои речи головой, поплатились и его конфиденты, не поплатился только Лопухин, может быть, потому, что вся его вина заключалась в одних выслушиваниях и симпатиях, а еще более, вероятно, потому, что он не представлялся торжествующим вожакам чем-либо опасным. Лопухин уцелел.
В годовое правление Анны Леопольдовны счастье снова улыбнулось Лопухиным. Их приблизили ко двору: сам Степан Васильевич занял видный пост генерал-кригскомиссара, а сын его, Иван Степанович, был назначен камер-юнкером ко двору Анны Леопольдовны. Дружеские отношения Натальи Федоровны с одним из самых влиятельных семейств при принцессе, с семейством графа Михаила Гавриловича Головкина, давали надежду на продолжение милостей, и вдруг новый крах – несчастную принцессу сменила Елизавета.
Удалив с приличными взысканиями всех приближенных лиц свергнутой правительницы, Елизавета Петровна удалила и Степана Васильевича от занимаемой им должности, даже держала его несколько времени под арестом, а вместе с тем удалила и сына его, Ивана Степановича, из камер-юнкеров, переведя в подполковники неизвестно какого полка.
Невидное общественное положение Степана Васильевича, конечно, более всего зависело от быстро сменяющихся правительств, которых в продолжение пятнадцати лет насчитывалось не менее четырех, но частью и от личных его свойств. Степан Васильевич не отличался ни быстрым соображением, ни гибкостью, ни придворным чутьем, следовательно, ни одним из тех качеств, которые требовались в то время. Недальновидный, упрямый и самонадеянный, как почти все тогдашние Лопухины, он не видел и не мог оценить потребностей современного общества. Если Степан Васильевич и получил образование в поездках за границу, то это образование ограничивалось одним лоском, умением надевать парик, манжеты и камзол, подражанием всесильным фаворитам, да разве еще не совсем глубокими техническими сведениями. В другое бы время, при других условиях, Степан Васильевич прожил бы мирно свой век в мудром управлении поместьями, но судьба зло подсмеялась, кинув его в среду придворных интриг и соединив с Натальей Федоровной Балк.
Замечательная красавица своего времени, Наталья Федоровна была самой типичной представительницей русской женщины тридцатых и сороковых годов XVIII века, когда эта женщина, вырвавшись из когтей домостроя, вдруг получила полную свободу и, не заручившись общественными нравственными началами, зажила только легкими инстинктами женской природы. Наталья Федоровна славилась красотой, очаровательной любезностью, милым кокетством, любовью к светским удовольствиям – одним словом, всеми теми качествами, которые были диаметрально противоположны характеру Степана Васильевича. От этой противоположности и жизнь супругов сделалась двойственной, с постоянным разладом, в котором, впрочем, слабейшая сторона, как почти всегда, завладела решительным перевесом.
Плодом супружества было рождение сына-первенца, названного Иваном, и нескольких детей, мальчиков и девочек1. Степан Васильевич заикнулся было о необходимости кормления первенца-ребенка матерью, но Наталья Федоровна чувствовала себя нехорошо, слабой, утомленной, и потому решено было выписать из вотчин кормилицу.
Из тверской лопухинской вотчины прибыла для такого важного дела жена самого приказчика из крепостных, Арина Кузьминична, как самая надежная и самая подходящая. Арина Кузьминична оказалась действительно образцовой кормилицей и женщиной покладистой со всякой обстановкой. Кроме изобилия здорового молока, она обладала драгоценным свойством – не ценить своих небогатых умственных способностей, а, напротив, признавать их в других даже в более значительной степени, чем они были. Скоро она сделалась необходимым лицом в доме, начиная от самой барыни, которая, положась на усердие и заботливость кормилицы, стала продолжать свою светскую жизнь, наполненную приемами и выездами, и кончая последней судомойкой, которой приезжая успевала оказать какую-нибудь послугу.
Ариша работала без устали во весь досуг, когда лопухинский младенец спал, туго завернутый в пеленки, работала охотно, без ворчания, как будто услужить всем ей доставляло самой душевное удовольствие. Ее полюбили все, полюбили за работу, тихость, скромность и добродушие.
Когда пошел второй год Ивану Степановичу и наступила пора кончить кормление грудью, ребенок вышел здоровым, полным, как яблочко наливное; незаметно почти прорезались у него зубы и явилось желание поработать самому над более твердыми яствами. Все сознавали, сам Степан Васильевич, Наталья Федоровна и вся дворня, главный камердинер Терентий Карпович и приближенная юнгфера Василиса Ивановна, что пора отпустить кормилицу домой, и все как-то оттягивали отсылку. Наконец дело уладилось само собою очень просто. В награду за добрые услуги Ариши и усердие ее мужа, приказчика Матвея Андреича, им дали отпускную с обязательством переселиться в Петербург, где тоже нередко встречалась надобность в находчивости и расторопности бывшего приказчика.
Получив отпускную и приняв от благодетелей фамилию Лопухинский, Матвей Андреич устроился в Петербурге очень удобно благодаря щедрости господ и собственному капитальцу, сколоченному безгрешно во время управления вотчиной. Он купил небольшой домишко позади господских палат, перестроил его заново и занялся мелочной торговлей, в то время весьма прибыльной по наплыву в новую столицу разного рода людей волей и неволей. К изрядному доходцу от торговли немало также перепадало прибытку и от дома благодетеля. Степан Васильевич часто нуждался в деньгах, а Матвей Андреич всегда находил возможность выручить барина из беды, не забывая и себя, как не забывал себя и во время исполнения поручений Степана Васильевича по ревизии более отдаленных вотчин.
Но еще более необходимой для дома бывших господ сделалась Арина Кузьминична. Она исполняла поручения Натальи Федоровны, присматривала в кухне, за кладовыми, в которых необозримыми ворохами лежали запасы жизненных припасов, навезенных из вотчин, зорко глядела за детской, в которой проживал ее любимец, молочный сын Ваня. Чуть не весь день она проводила в господском доме, где все смотрели на нее как на свою. Зато немало и перепадало ей от Натальи Федоровны; помимо жизненных припасов: муки, зерна, масла, домашней птицы и разных подарков, ей дарилось и по части женского туалета, за исключением, разумеется, носильных господских платьев, которые всегда, по заведенному обычаю, с полненьких, пухленьких плечиков Натальи Федоровны переходили на более упругие, но не менее бойкие плечики поверенной юнгферы Кати.
Через год по переселении в Петербург новосозданных самостоятельных граждан у них родилась дочь, окрещенная Степанидой в честь празднования этой святой 11 ноября.
Были у Лопухинских и прежде дети, но все они умирали – кто от зубков, кто от родимчика, а кто и бог знает отчего. Понятно, как обрадовало родителей появление детища, для которого они в ожидании будущего копили, сберегали и приобретали. Конечно, больше было бы по душе Матвею Андреичу рождение сына как наследника новоприобретенного имени, увековечивавшего его в потомстве, но и это печальное обстоятельство скользнуло по сердцу родителя: ведь оба они далеко еще не стары – будут и сыновья, а теперь по крайности есть утешение.
С рождением дочери прежние близкие отношения двух соседей, Лопухиных и Лопухинских, нисколько не изменились. Арина Кузьминична, бывало, как только управится по хозяйству и накормит свою Стеню, тотчас бежит в господский дом взглянуть на барчонка. И барчонок платил ей такою же любовью. Придет, бывало, в детскую сам Степан Васильевич полюбоваться сынком, придет, кажется, такой ласковый, возьмет его на руки, тютюшкает, но как-то неловко, жестко, и барчонок заревет во все детское крикливое горлышко и начнет отпихиваться ручонками; приветливее встретит ребенок хорошенькую мамашу, Наталью Федоровну, улыбнется ей, поиграет ее шелковистыми локонами, подергает кружева, поцелует, но все-таки не так, как целует и смотрит он на свою ненаглядную кормилицу.
III
Ваня Лопухин и Стеня Лопухинская с колыбели сделались неразлучными друзьями. Правда, он был старше ее почти на два года, но рыхлее, и силы их уравнивались.
Дружба началась еще с того бессознательного состояния, когда они лезли друг к другу ручонками с явным намерением выцарапать глаза. В одно время стали они учиться ходить, поддерживаемые обеими руками Ариши, и грешно было бы сказать, что меньшая заботливость падала на долю молочного сына. С математическим равенством делила Ариша между друзьями-ребенками свою любовь и ласку, когда они заслуживали их; затруднение представлялось только в том редком случае, когда два друга совершали противоположные деяния: один, например, капризничал, а другой вел себя совершенно безукоризненно. В таких случаях Ариша хоть и журила капризного, укоряла, выставляла в пример друга-умницу, но в то же время в самой воркотне ее чувствовалось что-то приголубливающее.
Лет десяти посадили Ваню за учение, к общему неудовольствию Ариши и восьмидесятилетней няни Парани, бывшей за дряхлостью не у дел и только брюзжавшей весь день на все и на всех, не исключая и самого барина, в ее глазах молодого еще барчонка Степы. И Ариша и Параня – обе сходились в одинаковом мнении, что грамота нужна только разве проходимцам да беднякам, а у русских барчат от нее мозжечок портится да здоровье слабеет. Несмотря, однако ж, на протесты няни и кормилицы, для преподавания русской грамоты был приглашен Степаном Васильевичем – Наталья Федоровна в русское учение не вмешивалась – сам протопоп ближайшей Спасской церкви, отец Иринарх, славившийся в то время ученостью, а еще более беспримерным терпением.
Ване плохо давалась грамота; никак не мог он отличить «аза» от «веди», только «живете» врезалось в его память своей оригинальностью. Как ни бился отец Иринарх напечатлеть в голове ученика различные очертания букв, Ваня сонно глядел в букварь, вяло указывал пальчиком, и если называл правильно, то всегда с подсказок друга.
О Стене при условиях занятий ничего не говорилось отцу протопопу, но девочка казалась такой смирной, так настойчиво во весь урок стояла за кресельцем барчонка, с таким вниманием следила за указкой учителя, что изгонять ее из классной комнаты не представлялось никакой надобности. Скоро учитель заметил, что из девочки он может извлечь пользу и для себя. Она умела лучше приноровиться к пониманию друга, и иногда урок, видимо не понятый Ванею, оказывался приготовленным и вполне понятым к следующему классу. Это обстоятельство побудило отца Иринарха невольно привлечь и Стеню в круг своих занятий как посредника дарового и притом значительно облегчающего его самого. Стене это посредничество обходилось очень жутко.
Когда, например, несмотря на все разъяснения, на все разнообразные толкования, сопровождавшиеся обильными каплями пота на крутых висках отца протопопа, ученик все-таки не понимал и тупо смотрел в книжку, духовный отец, не смея оборвать сердце на знатном барчонке, протягивал мощную длань к девочке, схватывал ее за ушко и жестоко наказывал. Девочка не кричала, все обходилось благополучно – и урок приготовлялся.
Классная комната во время занятий считалась всеми обитателями каким-то таинственным святилищем: все, начиная с холопов и кончая приживальцами, мимо нее ходили на цыпочках, вытянув голову и подобрав животы. Если же какой-нибудь ротозей, позабывшись, проходя мимо, затопочет сапожищами, тогда на такого дерзкого тотчас же накидывались или няня Параня, или Ариша, всегда дежурившие около классной.
– Что затопотал, леший! Аль забыл, что барчонок изволят учиться!
И дерзкий, подобравшись чуть не в комок, удалялся тише мухи.
В доме стояла тишина; во время класса никто не смел входить в комнату, разве только изредка няня или Ариша поприотворят тихонько дверь, посмотрят на маленьких мучеников, покачают неодобрительно головой и опять скроются.
Раз в неделю посещал класс сам Степан Васильевич, входивший с важностью, благоговейно получавший благословение от отца протопопа и всегда обращавшийся к нему с одним и тем же вопросом: «А как, святой отец, преуспеваете?»
– Преизрядно преуспеваем, ваше сиятельство, – уклончиво ответит отец Иринарх.
Благосклонно оглянет Степан Васильевич сына Ваню и, не заметив глубокого, сосредоточенного взгляда черноглазой девочки, стоящей за стулом сына, обратится к преподавателю с речью:
– А что, святой отче, слышно в городе новенького?
– Ничего не слышал, ваше сиятельство; в нынешние опасливые времена разговоров происходит мало, ибо за оные дерзновенные подпадают под опеку Андрея Иваныча, – ответит обыкновенно отец Иринарх.
– Да, Андрей Иваныч Ушаков шутить не любит, нечего сказать – русский, а верный слуга немцам, – с горечью проворчит Степан Васильевич и потом, по обыкновению, же поведет речь о том, что не так было несколько лет назад, при государствовании отрока, внука Петра Великого, расскажет несколько анекдотов об остроте ума и великодушии покойного императора-отрока и об интригах, бывших в то время.
Иной раз содержание разговора Степана Васильевича изменялось, вместо анекдотов о Петре II он начинал рассказы о своем пребывании за границей, иллюстрируя тамошнюю жизнь красками собственного творчества.
Пробеседовав таким образом с полчаса в классной, Степан Васильевич снова подходил под благословение отца Иринарха и удалялся, глубоко убежденный в своем строгом наблюдении за воспитанием сына.
Наталья Федоровна вовсе не бывала в классе. Раз только, проходя мимо и по какой-то странной случайности вспомнив о сыне, она вдруг отворила дверь в классную.
Ее неожиданное появление поразило ученых тружеников: отец Иринарх встал и растерянно соображал в уме, нужно ли подойти к знатной красавице или нет, благоугодно ли или неблагоугодно будет ее сиятельству получить его пастырское благословение, Ваня как протянул пальчик к какой-то мудреной букве, так и застыл, а Стеня в испуге забыла вскочить с кресельца и встать позади барчонка.
– Зачем Стеня здесь? – спросила Наталья Федоровна, которой взгляд, как нарочно, упал на смущенную и, как пион, покрасневшую девочку.
– Она… она… ваше сиятельство… проводником… – Но кому могла служить девочка проводником, этого святой отец так и не объяснил.
Наталья Федоровна с неудовольствием затворила дверь, а в соседней комнате строго повторила свой вопрос Арише и няне.
– Сподручнее отцу протопопу, матушка-барыня, ваше сиятельство, – находчиво отвечала мать. – Иной раз барчонок не внимает аль капризничает, так батюшка и накажет Стеню в пример.
Наталья Федоровна, найдя, вероятно, объяснение резонным, удалилась, не сделав распоряжения об удалении девочки, а та с этих пор уже получила в комнате право гражданства.
С грехом пополам, но наконец Ваня выучился читать, первым четырем правилам арифметики и мог с запинкой рассказать о сотворении мира.
Стеня же бойко читала, считала и рассказывала любую историю из Ветхого Завета.
В прежнюю пору такого образования было бы слишком достаточно для боярского сына, но в наступившие зловредные времена оно оказывалось далеко не удовлетворительным, и Степан Васильевич пригласил какого-то пленного шведа для обучения немецкому разговору, а парижанина, приехавшего в посольстве Шетарди, французскому. Долго мучились с Ваней швед и француз и, вероятно, совсем бы не успели, если б и тут не помогла Стеня. При помощи ее Ваня наконец стал понимать любую немецкую или французскую речь и даже мог объясняться сам, тогда как Стеня очень быстро стала отлично понимать. Запоминая с изумительной памятью названия предметов и обороты речи, она передавала свои познания Ване, и он с ее слов усваивал легче, запоминал тверже.
Ване иностранные языки понравились больше русского букваря, арифметики и закона Божия, во-первых, потому, что сами учителя не казались такими грозными, как отец Иринарх, а, во-вторых, иноземная болтовня придавала ему некоторый вес в глазах няни Парани и Ариши. Во всем доме говорили «по-птичьему», как выражалась няня: Степан Васильевич, Наталья Федоровна да главный камердинер Терентий Карпыч, живший со Степаном Васильевичем за границей, то есть именно те лица, с которыми менее всего приходили в соприкосновение дети.
Ване нравилось говорить со Стеней и знать, что их никто не поймет, что некому передать и насплетничать.
Конечно, из их разговора выходила такая дикая смесь, что и сами бы учителя ничего не поняли, но Ване до этого не было заботы, – лишь бы понимала его Стеня.
Учебные занятия далеко не наполняли всего времени детей; много часов им оставалось для игр, беганья и придумывания различного рода проказ.
Самым излюбленным местом Вани и Стени был сад, тянувшийся за домом почти десятины на две.
Никто из лиц власть имеющих не занимался садом, да и незачем, – это был не больше как обгороженный участок, весь почти заросший дикими деревьями, липами, дубами и березой, за исключением только небольшого уголка, занятого огородными грядами с различными овощами для домашнего потребления.
В саду не было укатанных и убитых песком дорожек, не было бассейнов, клумб и подстриженных деревьев, зато по разным направлениям извивались заманчивые тропинки, густые деревья давали прохладу в летний зной, а в воздухе стоял несмолкаемый концерт; величаво колыхались многолетние ветвистые дубы и говорили странные речи, к которым детское ухо прислушивалось с замиранием.
В саду дети наслаждались без надзора няни и Ариши полной свободой, играли в лошадки – причем Ваня бывал не кучером, как бы следовало по мужскому достоинству, а лошадкой, бойко управляемой Стеней, – лазили по деревьям, отыскивали птичьи гнезда, бегали вперегонки.
Изобретательницею и заводчицею всех проказ обыкновенно являлась Стеня, желания которой исполнялись Ванею безропотно, несмотря на ушибы, синяки и разорванное платье.
Раз Стеня заметила на самой вершине громадного дуба гнездо, которого прежде не было или которого не замечала.
– Ваня! Ваня! Смотри, как высоко! – лепетала она, указывая пальчиком на гнездо. – Видишь?
– Вижу.
– Ведь прежде его не было? Не было?
– Не было, – хладнокровно вторил Ваня.
– А какое гнездо? Грачиное?
– Грачиное.
– Там, должно быть, теперь молоденькие грачи, такие маленькие. Как бы мне хотелось взглянуть на них!
– Высоко; видишь, на каких тонких ветвях, а внизу сучков вовсе нет – не влезешь, – обсуждал Ваня.
– Попробуй, миленький, голубчик, попробуй! – уговаривала девочка.
– Нечего и пробовать – не влезешь, – упорно настаивал Ваня.
– Попробуй же, голубчик, ну для меня, – продолжала умолять Стеня, глазки которой разгорелись от препятствия.
– А что дашь? – вдруг заторговался начинавший колебаться мальчик.
– Что хочешь, то и дам.
– Поцелуешь, если достану? – спросил Ваня, которому нравилось, когда его целовала Стеня.
– Вот чего захотел – я тебе дам руку поцеловать.
– Очень нужно, руки твои грязные, – упорствовал Ваня в прежней цене.
– Врешь, врешь, не в грязи, а совсем чистые! – оправдывалась девочка, показывая свои розовые пальчики. – А вот твои так грязные. Ты не понимаешь, а я знаю, что кавалеры всегда целуют ручки у дам. Вчера я прохожу тихонько мимо уборной твоей мамы и слышу – говорят. И приостановилась, посмотрела в замок и вижу: Рейнгольд Иваныч стоит перед Натальей Федоровной на коленях и целует у ней руки, а она лежит на диване и так весело ему улыбается. Видишь, глупенький, еще на коленях стоял.
– Да ведь это другое дело: моя мамаша знатная дама, – пробовал возражать Ваня.
– А я чем хуже знатной? Собой буду не хуже, говорить по-иностранному умею и сама, наверное, сделаюсь что ни есть самой знатной.
Убежденный ли доводами молочной сестры или прельщенный наградой, Ваня полез на дерево, изорвал платьице, чуть не выколол себе глаза, ободрал до крови руки, но все-таки с торжеством поднес своей знатной даме пару неоперившихся галчат.
– Ах, какие они гадкие! Головы большие, голенькие, как противно рот открывают! Зачем ты их вынул?
– Да ведь ты же просила!
– Разве я знала, что они такие гадкие? И тебе вовсе не нужно было так вот сейчас и лезть на дерево!
Когда Ваня и Стеня утомлялись или когда им наскучивало рыскать по саду, они забивались в какой-нибудь кругом заросший уголок и, усевшись рядом, вели беседу о разных злобах дня. Чаще всего, конечно, речь касалась папаши и мамаши Вани.
– Знаешь ли что? – глубокомысленно утешала девочка на жалобы Вани о том, что ни отец, ни мать его не ласкают. – Любят ли тебя они – я не знаю, но что твой папаша не любит мамаши – это я знаю наверное.
– Ты почему это знаешь? – широко раскрыл глаза и открыл рот мальчик на решительное заявление Стени.
– Мало ли что я знаю! – с важностью продолжала девочка таинственно и понижая голос. – Помнишь… давно это было – когда твоя сестра Паша родилась, – сижу я в классной, учу урок и слышу: по зале идет твой папаша с какой-то дамой – шелковое платье так и шуршит. Я к двери и вижу: твой папаша встречает знатную даму – помнится, ее называли леди Рондо, – и разговаривают между собою по-английски. Слова все знакомые, я и понимаю. Дама поздравляет твоего папашу с рождением дочери, а он вдруг ей и отвечает: «Что вы меня поздравляете! Вы лучше поздравьте Рейнгольда Иваныча Левенвольда. Полноте! Ни для кого это не тайна. Говорят, будто жена моя красавица: я этого не вижу. Женился я по приказанию Петра Первого, ослушаться было нельзя – знаете сами, какой он был, – жену свою я невзлюбил, да и она меня тоже. Живем мы розно, скандалов она не делает… я и доволен». Что это значит, Ваня, скандалов не делает?
– Не знаю, Стеня, должно быть, взаймы не берет: отец не любит тратить денег.
Так прожили, пробегали и проучились Ваня и Стеня до той переходной поры, когда кончается детство и появляются признаки отрочества. Многое заметно для них самих стало изменяться и в их отношениях. Ариша стала зорче присматривать за ними; миновала прежняя свобода бегать одним по всем отдаленным закоулкам сада, и даже сами они стали держаться друг к другу сдержаннее, как будто что-то затаивая, не выкладывая по-прежнему все беззаветно.
Скоро наступила решительная перемена. С легкой руки Петра Великого все русское юношество высшего общества, под влиянием плотно засевшей мысли о необходимости заграничного воспитания, летело в чужие края, где оно кроме обучения в науках получало необходимую светскую полировку. Степан Васильевич знал это, сам в молодости учился в Лондоне морскому делу и вследствие этого учения потом мог получить звания контр-адмирала, вице-адмирала и другие высшие ранги.
По любви ли к Ване, которого он мог еще действительно считать своим сыном, или под давлением общества, к мнению которого он, в сущности, был очень чуток, несмотря на наружную оригинальность и самонадеянность, только Степан Васильевич стал наведываться и выискивать время к отправке сына.
Случай скоро представился. Один из его родственников отправлялся в Париж по какому-то поручению к нашему посланнику Антиоху Дмитриевичу Кантемиру и должен был там прожить несколько лет. Ожидать другого, более благоприятного случая было трудно, и Степан Васильевич в одно прекрасное утро объявил сыну о решенной им поездке, а домашним приказал торопиться сборами.
И вот Ваня очутился в Париже, если не на полной свободе, то во всяком случае без стеснения от бдительного присмотра Ариши и нескончаемой воркотни няни Парани.
Сначала к нему ходили учителя, а потом его записали в техническую школу, где в это же время образовывали свои умы и несколько других птенцов. Ваня познакомился с товарищами, сошелся с ними, что было нетрудно по его открытому характеру, и стал развиваться, как развивалась тогда парижская молодежь высшего общества. Научные познания укладывались в Ваню туго, плохо воспринимались неподготовленными умственными способностями, но зато он приобрел некоторую развязность манер от созерцания элегантного общества, бывавшего у нашего посланника, познакомился с женщинами, а главное – развил в себе вкус к кутежам.
Знакомство с прекрасным полом совершилось не вдруг. Долго Ваня помнил советы няни Парани и Ариши, заповедавших ему при отъезде, как можно дальше удаляться от прелестей басурманок, сгубивших не одну христианскую душу; долго живой образ Стени царствовал самовластно в его памяти, но кровь, возбужденная вином, закипала, а молоденькие, кокетливые гризетки были так обольстительны!
Раз, проходя в школу по одному из бульваров, Ваня обратил внимание на стройную женскую фигурку. Девушка шла по тому же направлению, в нескольких шагах впереди, бойкой походкой и грациозно подобрав платье, из-под которого мелькали хорошенькие маленькие ножки.
Ване захотелось увидеть лицо этой женщины, и он, ускорив шаги, скоро поравнялся с ней.
Незнакомка оказалась прехорошеньким существом, с нежным, розовым личиком, с лукавыми, весело смотревшими глазками и с пухленькими губками. Ваня замедлил шаг и пошел подле. Девушка быстро окинула его ласковым взглядом и улыбнулась, как будто вызывая или одобряя на дальнейшую смелость.
– Вы куда спешите? – решился Ваня боязливо и чуть слышно обратиться к девушке.
– В магазин, а вы? – вовсе не боязливо отвечала она, задорно передернув плечиком.
– В школу.
– Так вы учитесь? Хорошие люди студенты!
Завязался живой разговор, в котором Ваня сообщил, что он русский, из знатного рода, приехал учиться, а от нее узнал, что она Лора, работает в модном магазине, что хозяйка у них скаред-женщина, что она была дружна со студентом медицины Франсуа, жила с ним, но что он недавно – такой гадкий и отвратительный – изменил ей, переметнулся к Жюли и живет теперь с ней, что она никогда, никогда не простит ни ей, ни ему и непременно отплатит ему тем же.
У дверей магазина молодые люди расстались, пожав друг другу дружески руки и условившись видаться по пути в определенное время. На другой день Ваня вел себя гораздо свободнее, смелее, знаменательнее пожал ручку и, узнав, где квартира незнакомки, без труда получил от нее позволение ее навестить.
Квартирка Лоры находилась всего дома через два от квартиры Вани, в мансарде, и он, вероятно ради близости, стал посещать соседку каждый день, проводить с ней вечера, потом часть ночи, а наконец, и все ночи. Жизнь раскинула перед ним новые стороны, и немудрено, что он, не знавший ничего, кроме Лопухинских палат, увлекся до самозабвения. Ваня забыл Стеню, познакомился с подругами Лоры, с Луизой, Нанеттой и Жозефиной, подружился с их сожителями-студентами, кутил с ними, изменял Лоре – одним словом, рачительно занимался всем, кроме того, за чем приехал, то есть, кроме учения. Изредка только в беззаботную жизнь вносили полутень лаконические письма отца с вечными вопросами о результатах учения, со скучными советами беречь деньги, в которых Ваня всегда испытывал крайнюю нужду.
Ваня блаженствовал, не предчувствуя, как грозные тучи набегали на его светлый небосклон. В конце третьего года его проживания в Париже, в самый разгар удовольствий, Ваня получил письмо от отца, в котором тот, извещая о здравии и благоденствии своем и Натальи Федоровны, между прочим писал: «…а как понеже оная пертурбация совершилась, зловредный регент ниспровержен и возвысилась на ступень правления благодушная великая княгиня Анна Леопольдовна, изрядно расположенная к нашему лопухинскому дому, того ради приказываю тебе, аффинировав свои занятия по дифферантным сциансам, немедля ехать сюда к нам в Санкт-Петербург, где и получишь конвенабльное место при дворе».
Перспектива жизни в отцовском доме и службы при дворе показалась Ване до такой степени непривлекательной, что первою его мыслью было остаться во что бы то ни стало в Париже, отозваться каким-нибудь благовидным предлогом – или необходимостью окончания учения, или слабостью здоровья, но потом, подумав и обсудив хладнокровно, он решился исполнить волю отца.
Ваня знал очень хорошо, что отец не посмотрит ни на какие отговорки и тотчас же приостановит присылку денег, а без них в Париже, более чем где-либо, жить нельзя.
Неприветно встретило Ваню серенькое небо родины по возвращении его из Парижа.
Жалок и убог показался ему Питер, хотя и довольно изменившийся в эти три года, утомительно скучен отцовский очаг, в котором не замечалось особенных перемен.
Отец по-прежнему суров, недоступен, даже стал как будто раздражительнее; мать по-прежнему сияла красотой и элегантностью, по-прежнему ее навещали старые друзья, а в особенности милый Рейнгольд Иванович; только поразительные перемены заметны в старшей сестре Насте, оставленной им почти ребенком, а теперь вдруг сделавшейся взрослой девушкой, такой же красавицею, как и мать, да в нянюшке Паране, совсем почти оглохшей и ослепшей, не сходившей теперь с лежанки и неумолчно ворчавшей какие-то бессвязные слова.
Благодаря дружбе Натальи Федоровны с Рейнгольдом Ивановичем, а еще более с Анной Гавриловной, сестрою самого влиятельного из приближенных лиц к Анне Леопольдовне, Иван Степанович немедленно по приезде получил назначение камер-юнкером. Но придворная жизнь не нравилась ему. Правда, легкие нравы высшего петербургского общества не очень разнились от парижских, но почва была совсем иная. При дворе группировались плотоядные политические партии, кичливые, лицемерно-угодливые, но вместе с тем враждовавшие, вечно подкапывавшиеся друг под друга, партии, которых Иван Степанович не мог понять, привыкши к откровенной и веселой парижской жизни гризеток и студентов. Новый камер-юнкер аккуратно исполнял обязанности, являлся ко двору, но душа его туда не льнула; от скуки он стал посещать бильярдные дома.
О Стене Иван Степанович по приезде забыл осведомиться, и, казалось, детские впечатления не оставили по себе и следа, но они жили бессознательно для него самого.
Через несколько дней, проходя от сестры Насти в свою комнату через классную, Иван Степанович увидел девушку, стоявшую у дверей и, по-видимому, поджидавшую его. Девушка поразила его красотой, с которой не могли сравняться парижские Лоры, Нанетты и Жозефины. Не скоро узнал он в красавице неизменного детского друга.
За эти три года Стеня изменилась во всех отношениях.
Прежнюю Стеню напоминали только черные, жгучие глаза да курчавые волосы, прежде космами болтавшиеся на несложившихся плечиках, а теперь спускавшиеся длинной широкой косой по высокому, стройному стану. Девушка сформировалась, развилась умственно, в ней выработались убеждении, определился характер. В то время как Ваня гулял с гризетками, Стеня училась, читала, работала и присматривалась.
– Стеня! Вы ли? – заговорил Ваня, протягивая руку и остановясь перед девушкой в полном изумлении.
– Я, Иван Степанович, и пришла сама повидаться; я не забывала вас, – отвечала Стеня, дружески пожимая ему руку.
– И я не забывал тебя… вас… но никак не ожидал. Ты… вы стали таким… – запинаясь, говорил Ваня, испытывая приятное, странное ощущение от этих твердых, блестящих глаз, о которых забыл он под похотливыми взглядами парижских гризеток.
– Стала таким уродом, хотите вы сказать, Иван Степанович! Немудрено показаться уродом после чужеземных красавиц, – улыбалась Стеня.
– Уродом! Да ведь все парижские поддельные красотки не стоят одного твоего мизинчика! – с жаром продолжал Ваня. – Когда это вы успели так похорошеть?
– Полноте говорить комплименты! Я ведь доморощенная, у нас здесь девушки живут попросту… Вот, а вы, Иван Степанович, стали другим, совсем другим, и не узнать прежнего Ваню: теперь вы знатный придворный вельможа!
– Для тебя, Стеня, прежний же Ваня.
Молодые люди расстались, условившись встречаться как можно чаще.
Иван Степанович оживился. Как будто воскресшие в его памяти счастливые дни детства отрезвили от парижского чада и принесли какое-то новое, еще не испытанное им чувство.
На другой день и в последующие Иван Степанович и Стеня видались в той же своей бывшей классной комнате и говорили друзьями.
Иван Степанович передал другу о своих приключениях, все без утайки, на что и не способна была его откровенная природа, но рассказала ли все Стеня? Нет. Она подробно говорила о своем учении, о своем житье, но не высказывала того, о чем задумывалась ее головка, наклоненная над книгой или работой, какие сумасбродные мечты создавались и развивались по мере того, как она сознавала свою красоту и свое образование, далеко опередившее образование знатных барынь того времени. Из классной они переходили в сад, на место детских игр, где каждая лужайка, каждый куст смотрели на них так же любовно, как смотрели и в былые дни.
Иван Степанович полюбил Стеню беззаветно, всей полнотой нетронутого чувства, как не любил он ни Лор, ни Нанетт, ни Жозефин, так как и Лоры и Жозефины только возбуждали одну его чувственность.
– Любишь ли ты меня, Стеня? – допрашивал Иван Степанович девушку, когда они сидели рядом на той же лужайке, на которой так часто совещались по части отыскивания птичьих гнезд.
– Люблю… но… – И девушка отклонялась.
– Если любишь, так зачем «но»?
– Послушай, Иван Степаныч, милый мой, давно я хотела сказать тебе, да все откладывала… боялась… больно было… Мне самой так сладко глядеть на тебя… быть с тобой… К чему наша любовь? Хорошо, я верю тебе, ты меня любишь, и я, да что же из этого выйдет? Ты – вельможа, а я – простолюдинка. Жениться на мне тебе нельзя, родители твои не позволят, а любовницей я не хочу быть: лучше руки на себя наложу…
Девушка говорила решительно, с раздирающим отчаянием в голосе; глаза ее горели диким блеском, во всех побледневших чертах выразилось такое глубокое страдание, что у Ивана Степановича невольно опустилась рука, протянутая к талии Стени.
Молодой человек задумался, но вдруг блеснула у него решительная мысль, и он бодро поднял голову.
– Знаешь что, Стеня, милая, ты не бойся, все может уладиться, – начал он даже весело, заглядывая ей в глаза.
– Уладиться? Нет, милый мой, нестаточное это дело: не обманывай ни себя, ни меня. Лучше расстанемся; ты поплачешь, потоскуешь, а потом утешишься, а я… да обо мне и говорить не стоит.
– Нет, не расстанемся, я не вынесу этого, да и незачем. Разве я не могу жениться на тебе? Кто были Гендриковы и Ефимовские, а теперь графини… Почему же не быть тебе Лопухиной? – утешал ее Ваня.
– А Степан Васильевич и Наталья Федоровна? Ведь они гордыня: потерпят ли, чтоб дочерью их стала своя же крепостная?
– И отец и мать сделают все, чего захочет государыня. Нынче не прежние времена. Надобно только правительницу привлечь на свою сторону, да ведь это нетрудно: она такая добрая и милостивая. Я буду теперь чаще бывать при дворе, заищу в графе Линаре, при его помощи – а он все может сделать, что захочет, – устрою так, чтоб тебя взяли во дворец. Ты понравишься государыне, сделаешься ее любимицей, и тогда…
Стеня порывисто обхватила голову Ивана Степановича, прижала ее к своей высоко поднимавшейся груди, страстно поцеловала в лоб и бросилась бежать. Голова ее горела, в висках билась кровь; наконец-то ее неопределенные мечты приняли ясные формы, будущее посулило почет, славу, силу великую!
Иван Степанович ретиво принялся приводить задуманный им план в исполнение.
Заручиться благосклонностью графа Линара оказалось делом нетрудным. Владея безграничным расположением принцессы-правительницы, но стоя особняком и даже в оппозиции ко всем политическим партиям того времени, граф-фаворит с удовольствием принимал искательства в себе молодого русского придворного из хорошей родовитой фамилии, а за ним стала приветливее, как заметил Иван Степанович, и сама правительница Анна Леопольдовна. Молодого Лопухина приняли в интимный кружок правительницы; нередко любимица Юлиана шутила с ним, играла в карты, обыгрывала и давала возможность все больше и больше выигрывать в придворном значении. Иван Степанович быстро пошел в гору; ему уже казалось близким то время, когда он с уверенностью обратится к графу Линару с просьбою о Стене, им уже мысленно назначался и день, как вдруг – крах – правительство Брауншвейгской фамилии рухнуло, уступив место императрице Елизавете, подозрительно и враждебно смотревшей на всех приближенных своей предшественницы.
В первые же дни правления Елизаветы на Лопухиных налегла опала. Степан Васильевич лишился должности и отставлен тем же чином генерал-поручика, без всякого повышения и награды; Иван Степанович тоже отчислен от камер-юнкеров, с переводом в армию подполковником, без назначения в полк; Наталья Федоровна хоть и получила даже назначение быть статс-дамою, но, чувствуя нерасположение к себе новой императрицы, завистливо смотревшей и прежде на ее очаровательную красоту, сначала показывалась при дворе, а потом и вовсе перестала бывать. Да и не в силах она была лицемерить: ее друг, к которому она так искренне привязалась, ее дорогой Рейнгольд Иваныч был судим вместе с Минихом и Остерманом. С горя Наталья Федоровна занемогла серьезно.
С Анной Леопольдовной рухнули все надежды Ивана Степановича и Стени, а между тем в это время счастливых призраков они сошлись ближе, Стеня бывала задушевнее, страстнее ласкала друга, хоть и твердо держалась своего слова. Иван Степанович опустился, часто стал заходить в бильярдные дома, кутил, искал спасения в вине, и вино оказывало ему добрую услугу: оно окрыляло воображение, рисовало в будущем возможность новой перемены, восстановления только что погибшего.
IV
Новая императрица должна была прежде всего обеспечить себя, оградить себя от таких ударов, какие нанесены были Минихом Бирону и ею самою брауншвейгцам. Сочинены и обнародованы были два манифеста, один за другим, в которых выставлялись права на престол Елизаветы, но эти манифесты только оправдывали, объясняли, но не ограждали фактически. Необходимо было избавиться от противной немецкой партии, враждебно властвовавшей до сих пор… И вот самые видные вожаки этой партии – Миних, Остерман, Менгден, Левенвольд и Головкин – с их конфидентами кто сослан, кто удален в надежные места тотчас же по воцарении Елизаветы. Вслед за тем или одновременно последовали милости, привязывавшие новых правительственных людей, посыпались ордена, небывалые прежде повышения и назначения, привилегии и пожалования. Был вызван и признан наследником престола сын старшей дочери Петра Великого Анны Петровны, Петр Федорович, который больше Елизаветы имел прав на престол, но который по молодости и незначительности своей не мог быть опасен тетке. И наконец, стали торопиться освятить вступление религиозным обрядом, осеняющим новую императрицу Божиим благословением.
Как только прошли в заботах и удовольствиях рождественские праздники и Святки, при дворе начали собираться к коронации. Царский выезд совершился 23 февраля, Великим постом, когда в Москве, более чем где-либо, дышится религиозным чувством.
Зима с 1741-го на 1742 год отличалась особенным постоянством; глубокие снега лежали ровной настилкой и представляли самый удобный путь. Благодаря прекрасной погоде поезд, состоявший из несметного числа колымаг, возков и кибиток, катился быстро, и 26-го числа назначен был торжественный въезд в Первопрестольную столицу, где в это время оканчивались обычные приготовления.
На рассвете торжественного дня грянули, как вестники великого дела, пушечные выстрелы на Красной площади, вслед за которыми раздался первый удар колокола с колокольни Ивана Великого. Этот удар подхватили другие сорок сороков, и несется по всей Москве ликующий и радостный гул.
Тысячные толпы со всех концов спешат к Тверским воротам – взглянуть на свою родную матушку-царицу, которую они все знали, которая не гнушалась, бывало, и сама участвовать в деревенских хороводах.
С полной, непритворной радостью встречала новую императрицу Москва, в которой русский дух живет везде: в каждом камне высоких стен, в каждой струе реки, в каждом облачке, несущемся над золотыми главами, в каждой нечесаной и чесаной голове обывателя.
Бывали и прежде торжественные встречи, но не было такой радостной и знаменательной. Долго Москва сиротела; грустную память оставила в ней по себе покойная Анна Иоанновна, потом уехавшая в Петербург, откуда доносились по временам тревожные слухи о принижении русских и невыносимой кичливости иноземцев, о кончине государыни, о регентстве курляндца и, наконец, о правлении молодой принцессы Анны Леопольдовны. Правительницу Москва почти вовсе не знала; она помнила ее только слабеньким, худеньким ребенком, грустным, прятавшимся при каждом шумном выражении или за юбки матери, строгой Катерины Ивановны, или за не менее суровую тетку Анну Иоанновну; а не зная, понятно, и жалеть не могла.
Нынешняя государыня – совсем иное дело: своя, кровная, русская, с русской речью, с русскою песнью, которую и слагала сама.
В девять часов утра экипаж Елизаветы Петровны в сопровождении многочисленной свиты, въехал в Тверскую слободу, где ожидала парадная карета, в которую пересела императрица, а свита устроилась и разместилась по заранее определенному церемониалу. Шествие началось между двумя рядами расставленных шпалерами войск и среди сгрудившейся массы народу, при звуках военной музыки и нескончаемых оглушительных криках.
В Успенском соборе императрица, приложившись к мощам святых угодников, встала на императорское место, а герцог Голштинский, Петр Федорович, занял Царицыно место. Позади обоих теснились иностранные послы и русские сановники, из числа которых выделялись новопожалованные лица: Алексей Григорьевич Разумовский, лейб-медик Лесток, граф Михаил Илларионович Воронцов, Михаил Петрович Бестужев-Рюмин, Александр Иванович Шувалов, Петр Иванович Шувалов и сильно в последнее время постаревший московский градоначальник граф Семен Андреевич Салтыков.
Государыню приветствовал витиеватою речью новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич, тот самый, который в должности епископа Вологодского два года назад сказал не менее витиеватую реплику по случаю венчания принцессы Анны и принца Антона.
Обойдя потом соборы Архангельский и Благовещенский, Елизавета в парадной карете направилась в приготовленный для нее зимний Яузский дворец, напутствуемая и сопровождаемая нерасходившимися народными массами.
У синодальных Триумфальных ворот, создания знаменитого в то время архитектора Бланка, императрицу встретили воспитанники Славяно-греко-латинской академии в эффектных белых одеждах с венками на головах и с лавровыми ветвями в руках, отменно пропевшие нарочно сочиненную для этого торжественного дня кантату:
Присне день красный Воссияло ведро, Милость России Небеса прещедро Давно желанну Зрети показали.Прошел Великий пост с прощением и говениями, строго соблюдаемыми тогда в Москве, совершилось коронование подряд со светлым праздником с обычными торжествами, с пожалованиями, милостями и наградами, миновались празднества с народными угощениями, ослепительными иллюминациями и фейерверками, настало будничное время, – а двор не готовился к отъезду, и даже не было речи о переезде в Петербург.
Прошел слух о перенесении навсегда столицы в Москву, и москвичи возликовали. Но к радости всегда примешивается горе: вместе с криками восторга послышались жалобы и ропот. Громадный наплыв всякого сброда по случаю коронации, а в особенности скопление войска, вызвал значительное увеличение беспорядков. Во всех харчевнях и постоялых дворах по целым ночам бражничали солдаты, безобразничавшие не менее, если не более, чем в Петербурге, уверенные, что все им благополучно сойдет с рук; каждую ночь совершались какие-нибудь преступления, убийства, грабежи, часто слышались выстрелы и крики о помощи; не только в отдаленных, но даже и в центральных улицах бывало небезопасно выходить из домов в сумерки. Все громче и громче раздавался ропот; все жаловались на бездействие полиции, но что она могла сделать при ничтожном составе, усиленном только пятьюдесятью драгунами, когда тысячи своевольных, разнузданных солдат считали себя полными хозяевами всякого достояния? Нередко полицейские обходы задерживали буянивших и вели их в кутузки, но на пути бродившие шайки нападали на полицейских, избивали их и освобождали арестантов. Гуляли лейб-кампанцы, гуляли гвардейцы, а за ними и солдаты армейских напольных полков, ободряемые несмелостью еще не установившейся и нетвердой власти. Солдаты ходили по домам всех особ, власть имеющих, с поздравлениями и получали обильно на водку, отчасти добровольно, отчасти из боязни грабежа, но чаще всего солдаты шатались к французскому посланнику маркизу Шетарди, которого считали самым искренним другом императрицы Елизаветы, называли отцом родным, высказывали свои симпатии к Франции и даже просили его скорее привезти в Россию французскую принцессу для супружества за герцога Голштинского, будущего наследника русского престола.
V
Ясное утро последних чисел мая; в растворенное окно кабинета Елизаветы Петровны широкой волной вливается свежий, благоухающий воздух; легкий ветерок ворвется в окно, пошелестит разбросанными по письменному столу бумагами, пробежит по лицу и открытым плечам сидящей у стола императрицы, отлетит в сторону, приподнимет кончики какой-то наколки на Мавре Егоровне Шепелевой, занятой разборкой в корзине, поиграет ими и улетит снова в то же окно для нового осмотра других лиц и других мест.
Елизавете Петровне тридцать три года. Роскошная, в ярком блеске красота ее напоминает красоту вполне развившейся розы. Полнота форм, обезобразившая ее впоследствии, теперь сохраняла еще легкость и упругость молодости, кипевшей жизнью и жаждавшей наслаждений. Государыня казалась задумчивой или утомленной. Правильного очертания голова несколько запрокинулась назад, выставляя очаровательную белую и полную шею; полузакрытые голубые глаза как будто тонули в пространстве, вызывая в памяти приятные грезы или создавая новые мечты.
Мавра Егоровна, углубленная в свое занятие, не нарушала молчания; по временам ее проницательные, умные взгляды окидывали государыню, и тогда какая-то неопределенная усмешка проскальзывала по губам, но такая быстрая, что уловить ее и подметить выражение не было возможности.
Мавра Егоровна Шепелева состояла фрейлиной старшей дочери Петра, Анны Петровны, с которою и жила в Голштинии, но всегда пользовалась особенным расположением, дружбою и полною доверенностью Елизаветы Петровны. Беспредельною откровенностью и доверчивостью дышит вся переписка Шепелевой с цесаревной Елизаветой, когда первая уехала вместе с Анной Петровной в Киль.
После смерти герцогини Голштинской Мавра Егоровна воротилась в Петербург и с тех пор постоянно находилась при Елизавете в качестве верной рабы и холопки, дочери и «кузыни», как она выражалась в своих письмах1.
Послышалось три удара в дверь кабинета, и вслед за тем вошел граф Лесток, лейб-медик, верный слуга и любимец, один из тех, которые имели право входить в кабинет государыни во всякое время без доклада. Лесток принадлежал к немалому числу смелых авантюристов, нахлынувших в Россию во время Петра Великого. Игрок и кутила, находчивый и неразборчивый в средствах, он после разных треволнений пристроился лейб-медиком при дворе цесаревны Елизаветы и приобрел ее доверенность.
Лейб-медик вошел самоуверенно, с видом обычного посетителя и домашнего человека, перед которым ничего нет скрытного. Развязно подошел он к Елизавете Петровне, взял ее руку и ощупал пульс. Государыня приподняла голову и молча взглядом ожидала совета.
– Хорошо, ваше величество, очень хорошо. Если б все мои пациентки пользовались таким же здоровьем, так мне пришлось бы медицину отложить в сторону.
– Однако, граф, я чувствую себя не совсем здоровой – какое-то расслабление и утомление, – лениво протянула Елизавета Петровна.
– Нервы немножко возбуждены, государыня, пульс потверже, чем бы следовало, но это ничего – кровь кипит, горячий темперамент… май… воздух такой… могу посоветовать только одно: быть поумереннее.
– Лекарства, граф, никакого не нужно?
– Решительно никакого. Как медик, я совершенно доволен вашим величеством, но как друг, озабоченный вашей безопасностью, я встревожен весьма важным замыслом…
– Что ж такое, Лесток? Не грозит ли мне какая-нибудь опасность? – обеспокоилась государыня.
– Опасности нет благодаря бдительности вашего слуги и друга, однако необходимо быть осторожной и принять меры.
– Да говори же скорее, граф, в чем опасность?
– Не тревожьтесь, государыня, и не волнуйтесь, я сказал, опасности никакой нет, а нужно подумать и хладнокровно сообразить меры.
– В чем же дело?
– Ни больше ни меньше, государыня, как замыслили вас захватить и убить, вместе и герцога Голштинского, а потом и нас, преданных слуг!
– Да за что ж и кто? Кому я сделала зло? – с отчаянием говорила Елизавета Петровна, на выразительном лице которой нежный румянец быстро сменился бледностью и дуговые брови приподнялись вверх.
– За что – угадать нетрудно, а кто – об этом я теперь стараюсь узнать. Давно вы, ваше величество, видели своего камер-лакея Турчанинова?
– Его несколько дней не видно, и я хотела спросить, здоров ли он?
– Не беспокойтесь, он у меня в застенке, здоров; то есть теперь-то не совсем здоров, немножко помят, ну да это ничего: я, как хирург, могу вновь поправить, – улыбался Лесток.
– Так он? Не ошибаешься ли, граф, он казался таким хорошим… Кто еще с ним?
– До сих пор я узнал только двоих: Преображенского полка прапорщика Петра Ивашкина и Семеновского полка сержанта Сновидова Ивана, а кто другие – об этом допытываюсь.
– Боже мой! Моя гвардия, которой я столько обязана и которую я столько наградила! Не верится, чтоб мои гвардейцы стали такими неблагодарными, да и за что?
Лесток придвинул свой стул ближе к государыне и продолжал докладывать ровно, убедительно, придавая вескость каждому слову:
– Вспомните, государыня, какая была моя первая просьба, когда вы вступили на престол?
– Помню: ты просил увольнения и собирался уехать на родину.
– Точно так. Я просил вас отпустить меня, но вы не согласились, вы назвали меня тогда своим другом, на которого вам всегда можно положиться, а между тем вы не слушаетесь советов этого друга.
– Неправда, граф, в чем я не спрашивала твоего совета?
– Да, вы спрашиваете, но не исполняете; вы выслушаете, а исполните то, что вам нашепчут люди, вам не преданные… Вспомните, я вам советовал прежде всего оградить себя от покушений брауншвейгцев: у них много преданных слуг, готовых для них на всевозможные жертвы; необходимо было их всех уничтожить.
– Они и уничтожены. Миних, Остерман, Головкин, Левенвольд, Менгден и все их приближенные разосланы в надежные места под строгий караул. Если я не казнила их, то я дала клятву – никого не казнить смертью, да, это было бы слишком жестоко; я не могу… не могу… – говорила императрица со слезами, нависшими на ресницах.
– Положим, вожаки разосланы, неопасны, но сколько им преданных, которых мы не знаем и которые могут быть еще более опасны? Самый корень зла на свободе.
– Ты говоришь о кузине Анне?
– Конечно, о ней! Принцесса пользуется почетом, влиянием, и во все время, пока она будет на свободе, ее приверженцы не будут терять надежды на ее возвращение к престолу, не будет конца заговорам в ее пользу.
– О, насчет кузины, граф, я совершенно покойна! Она тяготилась властью и, поверь, нисколько о ней не думает. Я ее знаю хорошо. Жить своею жизнью, подальше от всяких интриг, для нее счастье, и она никогда не задумается о короне.
– Может быть, она сама лично и не будет интриговать – в этом я согласен, – но от этого не легче. Все-таки на нее будут смотреть как на имеющую право, и все недовольные вами, которых, вероятно, будет немало, даже помимо ее воли будут за нее действовать. Она окажется вечной, невольной причиной всех смут, возмущений и заговоров.
– Да что же делать, граф, ведь не убить же их?
– Я не говорю о смерти, государыня, а настаиваю только на том, чтоб сделать безвредными.
– За границей, граф, они будут безвредны.
– Совершенно напротив, государыня. За границей они на полной свободе, никакого надежного наблюдения с нашей стороны не может быть, а следовательно, не может быть и предпринято никаких своевременных мер. По моему мнению, я как тогда, так и теперь повторяю: необходимо, напротив, держать их в России под самым строгим надзором, лишить возможности всяких свиданий и переговоров с кем бы то ни было.
– Но ведь ты предлагаешь тюрьму? Это невозможно. Я дала торжественное слово, даже в манифесте об этом сказано.
– Никаких слов и торжественных обещаний в политических делах не бывает, а что в манифесте было сказано… так это ничего не значит и ни к чему не обязывает. Ради вашего спокойствия и безопасности, умоляю, ваше величество, – не позволяйте брауншвейгцам уехать за границу, прикажите их задержать на дороге и окружить караулом!
Елизавета Петровна колебалась; озабоченность и тревога сказывались в непроизвольных движениях, в ее взглядах то на своего лейб-медика, то на Мавру Егоровну, которую она как будто просила прийти к себе на помощь, но та, продолжая заниматься своим делом, упорно молчала, иногда переглядываясь с Лестоком.
– Хорошо, граф, согласна, – наконец решилась она с большим усилием над собой. – Ты знаешь, я приказала Василию Федоровичу Салтыкову в отмену прежнего приказа ехать медленнее, и, вероятно, он теперь близ Риги. Пусть он там останется, выберем место и приставим надежных людей для присмотра, но запирать в тюрьму… кузину… ни в чем не повинную… не могу и не могу… Да мне и другие не советуют.
– Кто же эти другие?
– Например, Алексей Петрович Бестужев.
– Алексею Петровичу не совсем доверяйтесь, государыня: он человек лукавый… Помните, когда на другой же день вашего восшествия на престол вы спрашивали меня, кого назначить вице-канцлером на место Остермана, и не согласились на мое предложение о назначении Михаила Ларионовича Воронцова по молодости и неопытности его, я тогда же указал вам на Алексея Петровича как на человека способного. Вы долго не соглашались и когда наконец решились, то высказали: «Смотри, Лесток, ты выбираешь на себя розгу». Боюсь, как бы ваше предсказание не сбылось и Алексей Петрович не оказался бы неблагодарным.
Елизавета Петровна не возражала и, чтобы переменить разговор, спросила Лестока о подробностях заговора.
– Я и сам знаю только то, – сообщил лейб-медик, – что передал вашему величеству; но вы будьте покойны. Пока подле вас я – злодеи не успеют. Теперь иду сейчас отправить в Ригу курьера к Василию Федоровичу.
Граф Лесток подходил уже к дверям, когда, вспомнив о чем-то, воротился.
– Я забыл передать вашему величеству, что все иностранные послы просят вашего разрешения обращаться с переговорами не к канцлеру князю Алексею Михайловичу Черкасскому, а к вице-канцлеру Алексею Петровичу.
– Это отчего? – быстро спросила императрица.
– Послы находят, что с Алексеем Михайловичем переговоров вести почти невозможно. Он слишком ожирел, ленив, а главное – не знает ни одного иностранного языка: послам приходится объясняться через переводчиков, а это во многих случаях очень неудобно.
– Да, конечно… – нерешительно заметила государыня, – но как же мимо канцлера? Ведь это неделикатно – обидеть старика? К тому же, как я думаю, и надобности большой нет: Шетарди может переговариваться лично со мной.
– А английский посол Финч и австрийский де Ботта?
– Финч да и Ботта тоже так интриговали против меня при кузине Анне, так стирали меня, что мне об их удобствах заботиться незачем, – с раздражением вспомнила о прежних обидах государыня.
По уходе Лестока императрица тревожно прошлась несколько раз по кабинету, бессвязно высказывая отрывистые выражения: «…в тюрьму… изменники… неблагодарные… вот и за последнее буйство в Петербурге на народном гулянье только четырех отправила в Сибирь на заводы, а прочих разослала по гарнизонам… кому же верить?..»
Потом, вдруг остановившись перед Маврой Егоровной, спросила:
– Ты как думаешь, Мавруша?
– О чем, милая моя государыня, об изменниках? Оне всегда найдутся, но беспокоиться вам, между верными людьми, не стоит.
– Нет… нет… Мавруша, не то… ты не поняла. Как мне быть с кузиной? Неужели в тюрьму запереть… она такая добрая… слабая… не вынесет. В чем же она виновата? А, с другой стороны, нельзя же и себя не беречь. Лесток говорит правду, что, пока она на свободе, спокойствия не будет: вечные заговоры, казни… Как быть?
В это время вошел новый посетитель, имевший тоже право входить без доклада, фаворит государыни, недавно, четыре года назад, сын реестрового казака, потом певчий и бандурист, а теперь сделавшийся действительным камергером, поручиком лейб-кампании, генерал-аншефом, андреевским кавалером, – Алексей Григорьевич Разумовский.
Почести не изменили внутреннего мира малороссийского казака Разума, они переменили только его наружность, преобразив неотесанного парубка в стройного, высокого, красивого, с черными жгучими глазами, с роскошными волнистыми волосами вельможу, обвешанного орденами.
Добродушный и веселый, он вполне владел сердцем императрицы, видевшей в преданности его любовь к женщине.
Алексей Григорьевич с неловкостью, особенно в сравнении с манерами лейб-медика, но не лишенной, однако ж, своеобразной грации, подошел к Елизавете Петровне и горячо поцеловал ее руку.
С приходом его все лицо государыни осветилось радостью, на полных губах заиграла невыразимо ласковая улыбка, и яркий огонек загорелся в глазах.
– Алеша, мой дорогой, вот кстати… знаешь ли, меня хотят убить! Заговор… – тихо заговорила она, ласково положив ему руку на плечо.
– И кто это брешет тебе, милостивая моя государыня, такой вздор? – простодушно спросил Алексей Григорьевич малороссийским наречием, от которого в четыре года не мог отвыкнуть.
– Лесток.
– Фю-ю-ю! – протянул с беззаботным комизмом малоросс.
И это добродушное, ироническое «фю», может быть, утвердило Алексея Григорьевича больше, чем все его хитроумные соображения.
Елизавета Петровна звонко засмеялась.
– Добрый ты мой, хороший Алеша! – почти шептала она фавориту, не отрываясь от его блестящих, ясно смотревших глаз. – Когда приедет матушка, Наталья Демьяновна?
– Каждую минуточку жду.
– Как приедет, мы все отправимся в подмосковное Перово. Понимаешь – зачем?
VI
От государыни лейб-медик отправился к своему другу, французскому посланнику.
Маркиз де ла Шетарди, первый посланник французского короля в России, приехал в Петербург с тайным серьезным поручением – ослабить начинающееся влияние России на международные отношения государств в Европе, угнать ее подальше по-прежнему в Азию, отвлечь русское правительство от союза с Австрией во что бы то ни стало, не останавливаясь даже и перед устройством переворота, который вырвал бы правление из рук немцев-брауншвейгцев и передал бы в руки противной партии, руководимой исключительно влиянием версальского кабинета. К такому щекотливому и трудному поручению, казалось, как нельзя более подходил маркиз де ла Шетарди.
Ловкий, изворотливый, снабженный громадными средствами, французский посланник, убедившись по приезде, что при дворе правительницы Анны Леопольдовны немецкий элемент до того сплочен, что исполнение поручения невозможно, повел деятельную интригу о низвержении правительницы и о возведении Елизаветы. С одной стороны, передавая значительные денежные суммы Лестоку, лейб-медику цесаревны Елизаветы, с которым, как с французом, ему нетрудно было сойтись, для привлечения к цесаревне гвардии, он, с другой стороны, действовал внешними силами, возбуждением войны со Швецией, которая будто бы подняла оружие против России для защиты русских же интересов, для освобождения русских от влияния немцев и за права дочери того, который лишил Швецию значительных финляндских владений. Интрига удалась. Елизавета Петровна вступила на престол, но вступила неожиданно собственными силами, без непосредственного вмешательства посланника, чем вдруг и разрушились все его планы. Не чувствуя себя связанной обязательствами с Францией, Елизавета Петровна могла не считать себя и обязанною исполнить условия, заключенные Швецией с королем Франции.
По подстрекательству французского короля начатая шведами война с тайной целью возвращения отнятых Петром Великим владений, но с обнародованным предлогом защиты интересов Елизаветы, с восшествием ее на престол теряла смысл и, по-видимому, должна была прекратиться. И действительно, де ла Шетарди тотчас же по воцарении Елизаветы Петровны – по собственному ли побуждению или, может быть, и по желанию новой императрицы – написал командующему шведскими войсками графу Левенгаупту остановить движение войска и ожидать мирных переговоров.
После обмена взаимными поздравлениями и учтивостями, для заключении мирного трактата шведский посланник Нолькен приехал в Москву, где и остановился в доме, занимаемом французским посольством, переехавшим из Петербурга вместе с русским двором на коронацию. Но с первых же слов дипломатов выказалась между ними рознь: шведы, обнадеженные французским королем, затребовали возвращения завоеванных Петром земель как вознаграждение за оказанные услуги, а русские об уступках не хотели и слышать.
– Король, мой всемилостивейший государь, питая чувства уважения к особе вашего величества, поднял шведов на восстановление законно принадлежащих вам прав, а потому он и надеется, – говорил Шетарди императрице Елизавете Петровне в частной аудиенции, бывшей в одном из внутренних покоев, в присутствии только Лестока, – надеется, что ваше величество оцените его доброе расположение вниманием к услугам Швеции.
– Я готова употребить все средства для изъявления своей благодарности Швеции, – отвечала императрица, – кроме тех, которые противны чести и славе России. Могу ли я, дочь Петра, согласиться на уступки завоеванных им земель, когда моя предшественница, чужеземка, временная правительница, предпочла уступкам войну?
Возражать против такого веского замечания оказывалось невозможно, а потому Шетарди, обходя этот вопрос, высказал, что так как война была предпринята для защиты интересов цесаревны, то за благополучным восстановлением этих интересов по справедливости должна явиться и необходимость вознаграждения за военные издержки.
– Это вы говорите, маркиз, о таких поводах со стороны Швеции, а наши русские посланники говорят совсем другое, – с живым уже нетерпением заметила Елизавета Петровна. – Мое вступление основано на прирожденных правах, а не на силе оружия шведов, которые к тому же с самого начала войны терпели постоянные неудачи.
Аудиенция так и кончилась ничем.
Ловкий маркиз сам очутился в весьма неловком положении – в положении посредника между двумя противниками, у которых не может быть соглашения и у которых каждое предложение взаимных уступок вызывает неудовольствие с обеих сторон. Надеясь на личное расположение Елизаветы Петровны, на услуги свои, на влияние Лестока, он уверял свой кабинет в своем полнейшем успехе, в своем громадном значении при русском дворе, а теперь вдруг оказалось наоборот: теперь пришлось самому выпутываться, оправдываться в неудачах, обвинять шведов в несчастном ведении войны, объяснять упорство русской императрицы удовлетворительным положением дел в России, прекрасным состоянием ее армии и финансов, увеличенных конфискацией имуществ попавших в опалу сановников.
«Удивительно скверное положение, и как это вдруг все перевернулось, – думал и передумывал маркиз де ла Шетарди, волнуясь и почти бегая по своему роскошному кабинету занимаемого им великолепного дома князей Оболенских на Басманной. – Так мне все удавалось до сих пор: с немцами кончил, дал корону женщине, не готовой и не способной к правлению, которая должна бы во всем идти по нашим видам, а тут вдруг – увидел себя в дураках! Бездна денег истрачена без толку! Эти русские, эти варвары так самого оболванили, что и выхода нет! Рассчитывал быть каким-то диктатором, всем заправлять, а вышло – мною управляют, за мои же услуги меня же хлещут! Черт знает что такое! Король, видимо, мной недоволен, не смел бы Амелот писать ко мне таких обидных депеш, если б не был уверен в поддержке Флери и не знал бы о моей немилости у короля. Чего доброго, пожалуй, отзовут, как неспособного человека!»
И де ла Шетарди почти в сотый раз останавливался перед столом, схватывал порывисто только что полученную депешу, читал, перечитывал, хоть в этом и не было вовсе нужды – каждое слово, каждая фраза до последней буквы при первом же чтении крепко врезались в его память.
Вошедший камердинер доложил о приезде графа Лестока.
«Вот кстати!» – подумал, обрадовавшись, посланник.
От императрицы после аудиенции, в которой говорилось об измене камер-лакея Турчанинова, лейб-медик направился к французскому посланнику с обычной целью занять у него денег. Назначенного огромного содержания по семи тысяч рублей в год по должности лейб-медика и начальника всей медицинской части в России и получаемой аккуратно пенсии из французского посольства далеко не доставало Лестоку, и он беспрерывно и бесцеремонно обращался с просьбами о деньгах то к императрице, то к другу Шетарди, получал от них подарки и все-таки постоянно нуждался. Деньги без счету выливались из его бездонного кармана на игру, на вино, на содержание французских, немецких и русских куртизанок.
– Кстати пожаловали, граф! Могу порадовать вас известиями, которыми я обязан вам. Хороша благодарность за мои добрые услуги! – И маркиз, почти не поздоровавшись с гостем, совал ему в глаза неприятную депешу.
В депеше версальского кабинета говорилось между прочим:
«В прежних ваших депешах вы постоянно высказывали о бессилии русского правительства, страшного только одним внешним блеском и страдающего внутри неисцелимыми язвами. Каким же образом теперь вы говорите совсем другое? В 24 часа все изменилось, Россия стала до того сильна, что может уничтожить Швецию, что спасение шведов зависит единственно от доброжелательства царицы. Наш всемилостивейший король думает напротив. По его мнению, русская царица не из уважения к посредничеству короля поспешила обратиться к вам для прекращения войны с Швецией, а из опасения движения шведских войск. Вы были приведены в заблуждение неправильными сведениями…»
– Понимаете ли вы, что должно читать между строками в этой депеше? Недовольство, немилость, отставку. А кто в этом виноват? А? Кто виноват? – почти задыхаясь, допрашивал Шетарди Лестока.
Лейб-медика, несмотря на все его легкомыслие, содержание депеши, видимо, смутило. Перспектива и ему представилась крайне неприглядной: с отъездом Шетарди он лишился бы дома, в котором всегда находил изящный стол, тонкое, прекрасное вино, а в карманах хозяина всегда готовую субсидию для игры. Притом с переменой посла возникал другой существенный вопрос: будет ли продолжаться пенсия от французского двора за содействие видам Франции, так как король, видимо, недоволен действиями своих агентов.
– Не понимаю, – продолжал волноваться Шетарди, – почему король так упорно стоит за Швецию. Отпуская меня, он ясно высказывал, что главною моею целью должно быть отвлечение России от союза с Австрией и ослабление России, отчего Франция, естественно, сделалась бы центром всех политических отношений, решительницей судеб Европы. И этой цели я, кажется, достигнул. Совершившийся переворот разорвал все связи России с Австриею и отдал беспомощных габсбургцев в руки Франции, всех способных политических руководителей в России изгнал бесповоротно, во главе нового правительства поставил людей неспособных и неопытных. Мало того, правление новой императрицы, к государственным делам не подготовленной, не может быть устойчиво; оно должно постоянно поглощаться внутренними беспорядками, которых нельзя не предвидеть от лиц, преданных Брауншвейгской фамилии. Зачем же именно настаивать на уступке Швеции какого-нибудь клочка земли, от которого Россия не сделается сильнее? Напротив, удерживая этот клочок, русские всегда будут связаны по рукам, всегда должны опасаться, что Швеция при всяком благоприятном случае начнет за этот клочок новую борьбу. Очевидно, король введен в заблуждение, но теперь ничего не поделаешь. Подумайте-ка лучше, граф, нет ли каких-нибудь средств уломать царицу; вы этим окажете добрую услугу моему государю, а он, как вы знаете, не имеет привычки быть неблагодарным.
– Никаких, – упавшим голосом отозвался развязный и всегда находчивый в изобретении средств лейб-медик, – пациентку свою я знаю. Если б еще можно было перетянуть на свою сторону канцлера, но… и это трудно, невозможно… Он богат, как Крез, по глупости честен и, как все недальние люди, крепко держится в своем слове.
– Нельзя ли, по крайней мере, заручиться вице-канцлером?
– Я сейчас предлагал государыне дозволить послам обращаться к Бестужеву мимо Черкасского.
– Что же? Согласна?
– Не совсем… совестится обидеть старика. Сказала: Шетарди пусть прямо объясняется со мной, а другие послы как хотят, так и объясняются с канцлером.
– Так вы говорите, что с канцлером Черкасским нет возможности поладить?
– Никакой. Когда властвовал бывший оракул Андрей Иванович Остерман, он ему завидовал и интриговал против него, насколько было мозга в голове и сколько позволяла ему непроходимая лень, а после Остермана он сам считает за святыню держаться той же политики, а вы знаете, каковы были мнения Андрея Ивановича: всеми силами отстаивать австрийский дом, как будто в этом все спасение Европы.
– А как думает Алексей Петрович?
– Положительно не знаю… – нерешительно проговорил Лесток, – ведь от него не узнаешь правды. На словах он согласен, а исподтишка черт один знает, что делает. Во всяком случае, он человек податливый и с ним можно сойтись.
– Будет ли это государыне приятно?
– Э… Елизавете Петровне чем меньше заботы, тем лучше, лишь бы не мешали ей забавляться!
– К подаркам склонен вице-канцлер?
– Положительно тоже не знаю, а полагаю, любит.
– Видите ли что, граф… Недавно я получил инструкцию от своего двора, в которой мне советуют не исключительно обращаться к самой императрице, отчего будто бы возбуждается недоброжелательство министров, а стараться поладить с теми в особенности, кто имеет влияние. Предвидя, что Алексей Петрович рано ли, поздно ли выдвинется, я старался с ним сблизиться, заводил с ним разговоры конфиденциальные и пытался узнать, какого он мнения.
– Отчего вы мне не говорили?
– Не случилось, да притом положительных и ясных объяснений не было. Я только передавал ему взгляд нашего двора на отношения государств между собою, старался разъяснить, насколько выгодна для России дружба с Францией и насколько, напротив, была пагубна связь с Австрией, от которой Россия всегда видела одно предательство. Вице-канцлер, по-видимому, совершенно входил в мои виды. Пользуясь этим, я тотчас же стал уверять его, насколько расположен лично к нему наш король, как он высоко ценит его государственные заслуги, а в заключение просил его принять от короля ежегодную пенсию в пятнадцать тысяч ливров, исключая те знаки благорасположения, которые ему будут оказываться временно.
– Вот, я думаю, обрадовался-то? – с жадностью заметил Лесток.
– В том-то и дело, что нет. Зная по опыту, как любят русские сановники подарки, я уверен был в согласии Алексея Петровича, а вышло не совсем так. Алексей Петрович благодарил короля за внимание к его службе, рассыпался в личной преданности, но от пенсии и подарков отказался, отговариваясь тем, что будто бы не заслужил еще такой щедрой награды. Что это значит? Действительно ли он неподкупен, или выжидает большего, или не завел ли связей с Австрией? Как вы думаете?
Отказаться от взятки представлялось уму лейб-медика вообще самым необыкновенным, а в особенности отказаться русскому сановнику! По его мнению, такой сверхъестественный случай мог быть объяснен только или крайним неумением дающего, чего в настоящем случае не могло быть по известной находчивости и ловкости посланника, или же получением взятки с противной стороны, хотя это последнее обстоятельство, по личному убеждению лейб-медика, нисколько не может стеснять.
Бескорыстия граф Лесток не допускал, не верил в него, как не верил ни в какие порядочные стороны человека.
«Странно! – думал он. – Очевидно, должен быть подход с другой стороны, но когда и кем именно? Финчем? Не может быть. Английский король слишком скуп. Он и ко мне даже, к Лестоку, ограничивается пустяками, а все пробавляется ни к чему не обязывающими обещаниями; так Бестужеву если и предложит взятку, то какую-нибудь ничтожную в сравнении с предложением французского короля. Боттою? Предположение более вероятно, при положении Австрии нельзя скупиться, но отношения Бестужева с Боттой далеко не дружеские». Лейб-медик зорко наблюдал за этим, так как он сам намеревался что-нибудь сорвать с Ботты.
– Так как же вы думаете? – с нетерпением повторил вопрос Шетарди.
– Вы мне передали вещи самые невероятные, самые неслыханные, милый маркиз, и я, право, крайне затрудняюсь. Мне кажется… я полагаю… что Алексей Петрович, напуганный недавней немилостью и удалением от двора, сделался слишком осторожным… Может быть, было бы лучше действовать на него посредством его брата, обер-гофмаршала Михаила Петровича. Братья между собою очень дружны.
– С Михаилом Петровичем мне не приходилось иметь такого рода дела… Надежный он человек? – спросил Шетарди.
– О… совершенно надежный… Хороший человек. Когда он был посланником в Стокгольме, немало тысяч червонцев осталось у него в кармане от тех, которые отпускались ему для подарков членам сейма. Человек обязательный!
Деловое совещание кончилось; оба друга замолчали, не договорившись до полных разъяснений, и каждый из них задался личным интересом.
Маркиз соображал, под каким благовидным предлогом завести сношения с Михаилом Петровичем и какую сумму ему предложить, а граф Лесток в это время разрешал, отчего это он проиграл так безбожно вчера вечером, когда, казалось, ему улыбалось счастье, и где бы достать денег на сегодняшний вечер.
«Вчера еще одну бы карту – и я был бы в выигрыше… Проклятая девятка!»
– Меня удивляет одно, любезный граф, – начал посланник после довольно продолжительного молчания, оглядывая внимательно друга, – как это вы, при вашей еще и теперь сохранившейся миловидности, а несколько лет назад еще более замечательной, при вашей любезности и ловкости, не заняли сами место фаворита при цесаревне? Она такая красивая, а вы, сколько я знаю, не любите обходить хорошеньких.
– Расчет, мой милейший маркиз, полнейший расчет. Теперь я пользуюсь полным доверием, дружбой, а это гораздо прочнее. Поставив себя незаменимым другом, я уверен в непоколебимой прочности своего влияния. Как теперь, как прежде, так долго, очень долго я буду единственным лицом, пользующимся беспредельным доверием государыни.
Лесток замолчал, но потом, быстро изменяя разговор, обратился к маркизу:
– Вчера я был очень несчастлив, но сегодня, наверное, отыграю вчерашнее. Не одолжите ли вы мне, любезнейший маркиз, какой-нибудь ничтожной суммы на один только вечер? – заикаясь и нерешительно высказал Лесток, несмотря на обычное свое нахальство.
– При всем моем желании, граф, в настоящую минуту решительно не могу. Через несколько дней буду к вашим услугам, а между тем я надеюсь, что вы употребите все усилия привести к хорошему результату наши шведские переговоры. Завтра я буду читать последнюю депешу моего короля государыне, разумеется, в вашем присутствии, и вы постарайтесь уладить: если невозможно получить прямое согласие царицы, то пусть она передаст решение министрам.
Очевидно, маркизу наскучило быть дойной коровой, и он прямо обусловил субсидию непосредственной услугой.
Друзья расстались недовольные друг другом. В первый раз в голове Шетарди мелькнуло опасение за успех своей интриги, сомнение в могуществе лейб-медика и предположение своей немилости.
Предположение скоро оправдалось. В то время как посланник и граф Лесток так спокойно обсуждали, по Московской дороге подъезжал к столице новый поверенный в делах Франции граф д’Альон со специальным поручением ознакомиться с положением дел дли смены маркиза.
Весь закутанный зеленью небольшой хуторок Лемеши тонет в косых лучах заходящего солнца. Около каждой из хат, разбросанных в беспорядке и весело выглядывавших из-за черешен, яблонь, груш и лип, лениво лежат истомленные зноем казаки и казачки. На низеньком крылечке шинка, приютившегося почти в середине хуторка, сидит хозяйка-шинкарка, казачка Разумиха Наталья Демьяновна. Добродушное, широкое лицо ее лоснится от пота, большие глаза сонно поглядывают из-под полуопущенных век, по временам она зевает, выставляя напоказ белые, здоровые зубы и не забывая каждый раз набожно перекрестить открытый широкий рот, чтоб не забрался какой-нибудь бис в хохлацкую душу.
В шинке гостей никого нет, да и кому быть в такую пору, когда еще не успели отдышаться от хмары? Небогата прибытками Демьяниха – свои, конечно, не брезгуют ее шинком, да от них какая прибыль, а из посторонних почти никто не заезжает. Нечем было бы и жить шинкарке, если б не помогали дочери-молодухи, повышедшие замуж, да не сын Кирилка, мальчишка шустрый и бойкий, отдававший матери все свои деньги за пастьбу скота.
Сидит Демьяниха, обмахиваемая свежим ветерочком, и посматривает то на соседей, то на дорогу, вьющуюся от хутора в безбрежную степь.
Тихо – словно вымерло все, и вдруг глаза казачки блеснули странным изумлением. На дороге к хутору показался ряд карет, не простых карет или бричек, на которых ездят соседние паны и панночки, а каких-то странных, здесь еще никогда не виданных. Вон эти блестящие экипажи подъезжают к хутору и останавливаются у первой хаты, возле которой нежится ленивый хохол.
– А где мне найти здесь госпожу Разумовскую? – слышится голос из первой кареты.
– А в нас зроду не було такой пани, а коли бужаете, есть удова Разумиха, – не поворачивая головы, проговорил хохол и показал рукой на шинок.
Кареты двинулись к шинку; Демьяниха смотрит и не налюбуется на них.
Вот экипажи остановились у самого ее крылечка; из них вышли какие-то господа офицеры, – должно быть, судя по блестящим камзолам, что ни есть важные паны.
Офицеры подошли прямо к шинкарке и, узнав, что она именно и есть Демьяниха Разумиха, низко поклонились и в самых почтительных выражениях доложили, что они присланы за нею от вельможного и сиятельного графа Алексея Григорьевича Разумовского; вместе с тем посланные представили ей подарки от графа: дорогую соболью шубу и другие ценные и незнакомые ей гостинцы.
Демьяниха долго смотрела то на экипажи, то на офицеров, то на гостинцы широко раскрытыми глазами и потом вдруг начала жалобиться:
– Добре люди, не глазуйте в меня, що я вам подняла?
Но офицеры с такою же почтительностью уверяли, что они присланы именно за нею от графа Разумовского и должны по приказанию самой императрицы привезти ее с семейством в столицу; вместе с тем посланные с униженными поклонами просили ее поторопиться сборами. Нечего делать – Наталья Демьяновна должна была согласиться: стала собираться, послала за дочерьми и в поле за сыном Кирилкой, который, впрочем, и так должен был скоро пригнать в хутор стадо.
Когда все собрались и надобно было садиться в экипажи, Демьяниха, как следует доброй казачке, по старинному обычаю, позвала соседок, своих кумушек, разостлала перед крылечком на пыльную землю присланную соболью шубу, села на нее с гостями и выпила с ними горилки с приговорами: «Погладить дорожку, щоб рувна була».
Кареты летели в столицу с такой быстротой, от которой Наталья Демьяновна всю дорогу не могла и опомниться.
На последней станции Разумиху ожидало новое чудо. Только что она успела выйти из экипажа с помощью услужливого офицера, которого она не знала, как и благодарить, к ней подошел какой-то вельможа в золотом кафтане, весь увешанный орденами.
Наталья Демьяновна оторопела, а потом не на шутку испугалась, когда этот вельможа подбежал к ней и стал целовать ее грязные, заскорузлые руки, приговаривая: «Матуся! Матуся!»
Сердце матери шептало, что этот вельможа – ее сын, Алешка-певец, но шинкарка боялась признать его в этом блестящем кавалере, к которому все относились с такой рабской почтительностью. Вошли в дом. Наталья Демьяновна отвела вельможу в особую комнату, заставила его расстегнуть камзол, осмотрела плечо и, когда увидела на нем родимое пятнышко, зарыдала и зацеловала сына.
Долго беседовал граф Алексей Григорьевич с матерью, братом и сестрами перед отъездом в столицу.
На другой день граф Алексей Григорьевич повез Наталью Демьяновну во дворец. Трудно было узнать шинкарку Демьяниху в знатной даме, одетой по моде тогдашнего времени, набеленной, нарумяненной, облепленной мушками, в дорогой робе с фижмами.
Наталья Демьяновна боялась пошевелить пальцами и сначала не смела переступать в таком нарядном платье.
Граф ввел ее в приемную залу, в которой находилось несколько придворных, ожидавших выхода императрицы.
У Натальи Демьяновны потемнело в глазах от никогда не виданной ею роскоши, но еще более закружилась голова, когда она увидела против себя какую-то даму, плывшую к ней навстречу. Не узнав себя в громадном зеркале и приняв свою собственную персону за императрицу, она приготовилась опуститься на колени, как учил ее сын, и опустилась бы, если бы не удержал ее граф Алексей.
Наконец, появилась сама императрица, благосклонно подошла к стоявшей на коленях Наталье Демьяновне, подняла ее, поцеловала и милостиво высказала:
– Блаженно чрево твое!
Наталья Демьяновна тотчас же была пожалована статс-дамой, а через несколько дней с императрицей и всем своим семейством поехала в Перово…
VII
Господин вице-канцлер Российской империи новопроизведенный граф1 Алексей Петрович Бестужев-Рюмин глубоко погружен в свои любимые соображения и комбинации по части не государственных дел или политических соображений, а различных химических соединений и физиологических явлений в человеческом организме. Вся обстановка его рабочего кабинета указывала скорее на ученого-мыслителя, чем на политического деятеля. Нигде ни одной деловой бумаги, ни одного доклада, ни одной принадлежности исключительной и излюбленной бумажной работы. Гусиные перья, очиненные с таким усердием копиистом Иностранной коллегии, безмятежно лежат в том же порядке, в каком были уложены заботливым копиистом, в той же девственной чистоте, не оскорбленные чернильным осадком; да и сами чернила от злобы даже засохли в граненой чернильнице, покоившейся под сенью какого-то бронзового купидона, указывающего пыльными ручонками куда-то далеко в растворенное окно.
Зато в кабинете много странных предметов, несовместимых с обязанностями великого администратора. На столах, на окнах и на низеньких креслах беспорядочно валяются книги в кожаных переплетах на иностранных языках, карты с изображением европейских государств и тут же стеклянные сосуды, колбы и реторты; в широком шкафу карельской березы не почивают, как обыкновенно в кабинетах лиц власть имеющих, кипы прошений, по очереди поступавших к докладу и тоже по очереди забытых, а вместо этих кип ящики с латинскими ярлыками, знаменующими род и значение содержимого.
Алексей Петрович – прежде всего химик и медик, хотя теперь, может быть, и поневоле. Благополучно живущий канцлер, князь Алексей Михайлович Черкасский, вечно прежде только евший, пивший и спавший, теперь, на самом склоне своих дней, когда одна нога уж потянулась к другому миру, вдруг вспомнил о своих обязанностях и вздумал заниматься: стал забирать к себе тюки дел и бумаг, которые так и оставались нетронутыми у него в объемистых ворохах. Дела не делались, отбивался от них Алексей Петрович князем Алексеем Михайловичем, а потому за неимением государственной работы он и продолжал свои ученые труды.
Алексей Петрович – лет пятидесяти, не более, наружности не особенно красивой, но, во всяком случае, характерной. Глубоко сидящие карие глаза под широкими нависшими бровями смотрят зорко, до того зорко, что, кажется, режутся прямо в человеческую душу и выворачивают оттуда все глубоко зарытое; резкие вертикальные морщины посредине лба и по сторонам несколько опустившегося по углам рта придают лицу раздражительное и недовольное выражение, производившее неприятное впечатление, – впрочем, на короткое время: Алексей Петрович изучил себя, умел владеть собою в совершенстве и умел придавать лицу какое угодно выражение. Недаром же прошла для него практика заграничной жизни, начатой в молодости и потом проведенной почти исключительно на дипломатическом поле.
Пятнадцатилетним мальчиком Алексей Петрович отправился по приказу Петра Великого для образования себя и подготовления к служебной деятельности в чужие края, где и оставался потом почти безвыездно тридцать лет. По окончании курса учения в Копенгагене и Берлине его, девятнадцатилетнего незрелого юношу, определили чиновником к князю Куракину, с которым он и находился на Утрехтском конгрессе, а затем на следующий год перевели к ганноверскому двору камер-юнкером. Алексей Петрович до того понравился ганноверскому курфюрсту Георгу, что тот взял его с собой в Англию, когда сделался английским королем.
В Лондоне Алексей Петрович прожил четыре года до того времени, когда русское правительство вспомнило о нем, вызвало и назначило обер-камер-юнкером к герцогине Курляндской. В Митаве он пользовался, как говорят, особенным расположением герцогини Анны Иоанновны, зажил хорошо, но злая судьба в лице юного авантюриста Бирона, камер-юнкера и домашнего секретаря герцогини, отбросила его вновь за границу.
По просьбе Анны Иоанновны Алексея Петровича отозвали из Митавы и тотчас же отправили посланником к копенгагенскому двору, сношения с которым имели тогда для России значительную вескость, а по исполнении миссии перевели чрезвычайным послом в Голландию.
По кончине Петра Великого, знатока и верного оценщика дарований, Алексей Петрович, благодаря личному нерасположению всесильного Меншикова, оставался в тени четыре года и только по милости Бирона, пожелавшего загладить несколько свой неблаговидный поступок, в 1732 году был назначен посланником в Гамбург и Нижний Саксонский округ. Из Гамбурга Алексея Петровича снова перевели послом в Копенгаген, где он и пробыл до 1740 года, когда был вызван и назначен на пост кабинет-министра на место казненного Артемия Петровича Волынского.
Недолго, однако ж, Алексей Петрович занимал министерский пост – по свержении Бирона милость этого временщика навлекла на него опалу правительницы Анны Леопольдовны, которая, впрочем, не имея лично против него неприязни, ограничилась только удалением его от двора с обязательством постоянного проживания в деревне, и то на короткое время. Но эта немилость имела для него счастливый исход; на него посмотрели как на лицо, пострадавшее в предшествующее царствование, а следовательно, преданное новой императрице. Елизавета Петровна по указанию Лестока назначила его на должность вице-канцлера как лицо, единственно способное заменить оракула Остермана, после которого ему же в наследство передала и главное начальство над почтой.
Постоянная жизнь за границей, общение с элегантными людьми Западной Европы, а в особенности дипломатическая карьера дали ему сдержанность, наблюдательность, умение вовремя смолчать, вовремя высказаться, а угловатым манерам – светскую приятность. Но рядом с человеком придворным, тонким дипломатом, в Алексее Петровиче жил другой человек – ученый в полном смысле этого слова. Алексей Петрович до страсти любил естественные науки, знал основательно ботанику, любил заниматься химией, химическими разложениями, соединениями и применением своих знаний к медицине.
Алексей Петрович занят проверкою состава изобретенных им капель, которые потом приобрели такую громадную известность, перейдя в потомство под названием бестужевских. «Да… именно в таком размере… ни больше ни меньше… – думал он, – капли должны иметь целебное действие». Но в то же время его мысли невольно отрывались от реторт и неслись к другой сфере, где вовсе не требовалось знаний, где ум создавал условия общественной жизни вместе с властью, славой, влиянием. И вот, рассматривая и анализируя различные осадки, он порывисто, как будто невольно, протягивал руку к звонку, нетерпеливо звонил и с раздражением спрашивал камердинера, не приехали ли те, которых он ожидал.
Наконец камердинер доложил о приезде почт-директора Аша.
С низкими поклонами и ужимками явился в кабинет начальника господин почт-директор.
– Садитесь, mein Herr, и выслушайте меня внимательно, – холодным, ровным голосом приветствовал Алексей Петрович.
Аш раболепно поместился на маленьком уголке стула и приготовился слушать с той приниженностью, которая характерно проявлялась в то время в отношениях подчиненных к начальству.
– Я вас просил к себе, господин почт-директор, по весьма важному делу, – продолжал вице-канцлер тем же обыкновенным тоном.
– Вашему высокопревосходительству известны моя глубочайшая преданность и усердие, – минорно защебетал господин Аш.
– Ваше усердие известно мне, и вы можете надеяться на отличие по службе. Дело, по которому я просил вас к себе, заключается вот в чем: знаете ли вы, когда господа иностранные послы отправляют свои депеши?
– Знаю, ваше высокопревосходительство.
– Уверены ли вы, что каждая, решительно каждая отправка вам известна?
– Помилуйте-с, ваше высокопревосходительство, могу ли я не следить за таким, можно сказать, государственным делом? Депеши я лично принимаю сам и в получении выдаю расписки.
– Может быть, некоторые депеши господа послы отправляют без формальностей и тогда эти отправки, естественно, не обращают на себя вашего внимания?
– Этого никак не может случиться, ваше высокопревосходительство, во-первых, потому, что я знаю адреса, куда отправляют господа послы как свои официальные депеши, так и частные корреспонденции; во-вторых, мне известны почерки рук как самих послов, так и их чиновников; и наконец, я знаю даже всю их прислугу.
– Прекрасно, я очень доволен вами. Так я вам поручаю к самому строгому исполнению, чтобы вы каждую депешу, каждое письмо посланников прежде отправления представляли ко мне. Государыне угодно знать, когда и с кем ведут корреспонденции состоящие при ее величестве послы. Разумеется, эти депеши и письма будут мною возвращаться вам вполне нетронутыми, в том же виде и запечатанными. Мне необходимо видеть их адреса, а не содержание.
– Прикажете самолично представлять к вашему высокопревосходительству?
– Да, это было бы лучше. Если я буду в то время свободен, то и тотчас же и возвратил бы. Но, во всяком случае, предваряю вас, что государыня желает сохранить это в негласности. За малейшую огласку кому бы то ни было вы подвергнетесь взысканию как за государственную измену… За усердие же к пользам ее величества можете рассчитывать на щедрую награду.
– Смею доложить, что воля вашего высокопревосходительства будет мною исполнена в самовернейшей пунктуальности и в полнейшей безгласности.
– Я в вас уверен. – И благосклонным наклоном головы Алексей Петрович отпустил усердного почт-директора.
«Знаем мы, какие вам, господин вице-канцлер, адреса нужны! Старые тоже воробьи, знаем, зачем депеши, – только ошибешься же: депеши все какими-то крючками да цифрами исписаны». И рьяный почт-директор с душевным самоуслаждением во всю дорогу к себе домой представлял, какую гримасу сделает его высокопревосходительство, когда вскроет пакет и увидит непонятные знаки.
Вслед за почт-директором в кабинет Алексея Петровича явились находившиеся в Москве академики Тауберт и Гольдбах. Их вице-канцлер встретил с тою деликатностью, к какой привык в заграничной жизни.
– Я попросил вас к себе, господа, – высказал Алексей Петрович, усадив академиков против себя за тем же столом, – для разрешения очень серьезного вопроса в дипломатии. Вероятно, вам известно, что кабинеты со своими агентами переписываются шифрами или знаками по условленному между ними ключу. Когда я был сам послом за границей, мне приходилось слышать, будто возможно прочитать каждую шифрованную депешу. Я желал бы знать, насколько это справедливо?
– Всякую шифрованную депешу можно прочитать, ваше высокопревосходительство, если подобрать к ней соответствующий ключ, – отвечал Тауберт.
– Но можно ли подобрать ключ?
– Очень возможно, ваше высокопревосходительство, и это даже не составит большого труда, – отозвался и со своей стороны Гольдбах.
– Вы говорите – очень возможно, но каким же образом?
– С помощью логических и тонических основ того языка, на котором написана депеша. Я объясню это вашему высокопревосходительству примером. Возьмем депешу, написанную на русском языке. Всматриваясь в знаки депеши, мы замечаем некоторые знаки повторяющимися очень часто, другие реже. Все русские слова, как известно, имеют окончания на гласные и по преимуществу на полугласные «ъ» и «ь»1, – и действительно, в конце шифрованных слов непременно будут по преимуществу одни и те же знаки, следовательно, этот шифрованный знак будет «ъ» или «ь». Далее: русские однозначные слова составляются из какой-нибудь из гласных – «а», «и», «о» и «у», ни гласная «е», ни гласная «ы» в такие слова не входят. Из этого видите, ваше высокопревосходительство, что узнание гласных, составляющих важную основу в русском языке, вовсе не так затруднительно, как кажется с первого взгляда. Более трудности в определении шифров, означающих согласные буквы. Но мы знаем, что некоторые согласные с некоторыми гласными никогда не сочетаются, другие же сочетаются только в одной определенной форме. С буквою «ы», например, вовсе не сочетаются буквы «г», «ж», «ш», «щ» и некоторые другие, а сочетаются же с «ы», напротив, по преимуществу буквы «б», «в» и «т»; затем в двузначных словах с «ы» бывают только слова: «мы», «вы», «ты» и прибавочная частица «бы». При этом нельзя терять из виду известного соотношения букв: на известное количество «а» всегда в употреблении встречается известное количество «б», известное количество «в» и т. д. Кроме этих примечаний существует еще, ваше высокопревосходительство, множество других указаний, руководясь которыми сведущий человек может при должной внимательности и усердии открыть ключ в любой шифрованной депеше.
– Это очень любопытно видеть на деле, – заметил вице-канцлер, – на днях я на пробу составлю по придуманному мною ключу что-нибудь вроде депеши на французском или немецком языке и доставлю вам, а вы, господин Тауберт, вместе с господином Гольдбахом потрудитесь открыть ключ. Любопытно, подойдет ли ваш ключ к составленному мною!
– Непременно подойдет! – единогласно подтвердили оба академика с уверенностью.
– Увидим, увидим! – сомневался Алексей Петрович. – Однако ж, господа, я должен вас предупредить, что подобные вещи за границей составляют величайшую государственную тайну, так что я, в качестве посла, несколько раз пытался проникнуть в секрет, употреблял все свои силы и средства, а все-таки ничего не мог сделать. Вы понимаете, что об этом деле, точно так же как и обо всей нашей беседе, вы должны сохранять глубочайшую тайну, не высказывая ее решительно никому, иначе, при всем моем уважении к вам, я не буду в состоянии спасти вас от прогулки к отдаленным местам Сибири и от приличного наказания.
– Мы очень это понимаем, ваше высокопревосходительство, и смеем уверить, что не только люди, но даже и стены ничего от нас не узнают, – уверяли напуганные ученые мужи.
– Так на днях я доставлю вам свою депешу на испытание, и если ваши познания действительно так глубоки, как вы говорите, и вы доставите мне ключ, то государыня оценит в должной мере ваши ученые достоинства и не оставит своим поощрением, – говорил Алексей Петрович, любезно провожая гостей.
С момента, когда затворились двери за академиками и вице-канцлер остался один, он вдруг удивительно повеселел. Глаза заискрились огоньком; сквозь обычную холодную сдержанность во всем лице, во всем теле, в самой походке, с какой он заходил из угла в угол, засияла радость и полное удовлетворение самолюбия.
Действительно, разговор с академиками в желанной мере исполнял его надежды. Если он будет иметь ключ – а в этом, кажется, теперь нельзя сомневаться, – он узнает все виды, все ходы послов, он будет в положении игрока, которому известны все карты противника, а при таких условиях не обеспечена ли победа?
VIII
Через час по выходе академиков в кабинет Алексея Петровича вошел брат вице-канцлера, обер-гофмаршал Михаил Петрович Бестужев-Рюмин. По наружности Михаил Петрович не походил на брата. Он был выше ростом, стройнее и казался очень моложавым; голубые глаза смотрели открыто, полные свежие губы улыбались добродушно. Но, несмотря на внешнее несходство, один дух жил в обоих, одни идеи вскормили обоих, и оба брата были дружны, как будто дополняя друг друга.
– Ну что в конференции? – спросил брата Алексей Петрович, продолжая ходить по кабинету, когда тот, поцеловав его, устало опустился в кресло.
– Да ничего, – лениво отозвался обер-гофмаршал.
– Я так и знал – из пустого переливали в порожнее, – заметил вице-канцлер, – все, верно, толковали о посредничестве! Кто был в конференции?
– Все те же: шведский посланник Нолькен, князь Алексей Михайлович, генерал Александр Иванович Румянцев да я, и толковали все о том же. Нолькен по-прежнему настаивал на приглашении в конференцию Шетарди; так как Швеция начала войну по соглашению с французским королем для пользы Елизаветы Петровны, то поэтому будто бы и нет возможности отстранять от переговоров французского посла, тем более что сама государыня просила о посредничестве. На это Черкасский по-прежнему доказывал, что государыня просила о добрых услугах, а не о посредничестве, что для Швеции более чести переговариваться самостоятельно и что война была ведена не для пользы государыни Елизаветы Петровны, а для возвращения финляндских земель. Когда же Нолькен стал утверждать на своем о причинах войны, старик Черкасский не утерпел и швырнул ему объяснение Шетарди. В этой ноте, как ты знаешь, французский посол, в самом начале доказывая, отчего французский король не может не поддерживать домогательств Швеции, прямо выказал, что и война-то была начата с этой целью. Нолькен прочел, смутился и нашелся сказать только одно, что все-таки Швеция и Франция желали добра цесаревне, на основании чего теперь и рассчитывают, что цесаревна, сделавшись императрицей, не откажется быть доброю соседкой, безобидно определив пограничную черту и уступив какой-нибудь клочок Финляндии. Черкасский поставил основным условием переговоров сохранение Ништадтского мира. Так на том конференция и кончилась. Нолькен заявил, что так как он имеет инструкцию действовать только при посредничестве французского посланника, то вступать одному лично в переговоры он не считает себя вправе, а потому и должен отправиться в Стокгольм за новыми инструкциями.
– В Стокгольм Нолькен не поедет, а остановится во Фридрихсгаме и оттуда станет переговариваться. Начнутся опять военные действия. Наш Кейт несколько раз поколотит шведов, у которых, собственно, и армии-то нет в Финляндии, а так, какой-то голодный, своевольный сброд, без запасов… За военными действиями примутся за переговоры о мире, а в конце концов мы все-таки уступим частичку Финляндии, разумеется, небольшую, – с уверенностью проговорил Алексей Петрович.
– Как? А наше решительное слово не уступать ни пяди земли? Уступать после побед? – удивился обер-гофмаршал.
– Да, после побед… Таково положение государств. Французский король против воли своей советует нам доброе. Что мы выигрываем, упорно удерживая теперь за собою клочок земли? Ровно ничего, так как этот клочок будет наш рано ли, поздно ли, – а проигрываем очень многое. За этот клочок мы сделаем из Швеции вечного себе врага, который ежечасно будет стеречь нас и вредить. Франция будет иметь открытый предлог к неприязненным отношениям и к интригам против нас в Стамбуле, а тут еще Шлезвиг… Мы свяжем себя, опутаемся, уединимся, попятимся назад, тогда как наша роль должна играться в Европе, должна быть решительною в борьбе центрального цивилизованного Запада между монархиями Габсбургов, Францией и Пруссией. Наше уединение допустит усиление Франции или Пруссии, а это впоследствии падет на нас непосильной тягой. Единственный доброжелатель наш в настоящее время – английское правительство, а Картерет, министр иностранных дел короля Георга, всеми силами настаивает на незначительной уступке Швеции.
– Зачем же и продолжать войну? Не лучше ли было бы договориться теперь же с Нолькеном?
– Говорить об этом, мой милый, мне не приходится: значило бы возбудить против себя старую русскую партию этих Румянцевых, Трубецких, Черкасских, Апраксиных и других. Погубил бы только себя.
Алексей Петрович замолчал, продолжая отмеривать диагональ кабинета, а Михаил Петрович пристально следил за ним, как будто выжидая для более важного разговора удобную минуту.
– Ну что вчера у государыни на вечернем собрании много было? Весело? – спросил Алексей Петрович, наконец усаживаясь в кресло подле брата.
– Те же, что и прежде, обыкновенные: Лесток, великий князь, его гофмаршал Брюмер, Шетарди, новый английский посол Вейч, Шуваловы, Разумовский, Трубецкой, Черкасов Александр, Салтыков Петр, из посторонних был только Мориц Саксонский. Государыня с ним танцевала и была очень весела. Из дам тоже прежние… Анна Гавриловна Ягужинская… с дочерью… Ах да… брат… хотел переговорить с тобой.
– Об чем это? Опять об Ягужинской? – с видимой досадой спросил Алексей Петрович.
– Да, об ней… я… брат… решился…
– На что?
– Жениться…
– Послушай, брат, я высказывал прежде и теперь опять повторю все резоны. Если хочешь оставаться со мной в братской любви, так отбрось свою глупость, а не хочешь – поступай как знаешь, но я от тебя отдалюсь. Подумай и взвесь хорошенько. Положение наше при дворе шатко, мы не имеем партии, никаких корней, никакой ни в ком поддержки. Государыня хоть и назначила меня вице-канцлером, но, вероятно, временно, по необходимости, до того, как выищется способный из ее приближенных. С детства ей натолковали, что Бестужевы стояли за Лопухину против ее матери, что я сам помогал царевичу Алексею, а какая помощь, когда мне самому тогда было с небольшим лет двадцать! Видимо, она мне не доверяет: недавно докладывали мы, Черкасский и я, о донесениях Антиоха Дмитриевича Кантемира из Парижа, в которых посланник предупреждает нас не доверяться любезности Шетарди, что версальский кабинет через своих агентов подкупает в Константинополе объявить нам войну. Что же, ты думаешь, государыня? Рассердилась на наш доклад, покраснела и закричала: «Я не знаю, подкупают ли французские агенты в Константинополе, но знаю, что австрийский посланник получил триста тысяч золотых для подкупа моих министров». Намек прямо хотела сделать на меня, так как Черкасского по его богатству и по его глупости подозревать было бы смешно. Затем, имеем ли мы надежных доброжелателей в приближенных государыни? Ни в ком. Шуваловы и Воронцов сами за себя и к нам никакой приязни не питают. Разумовский не способен к государственным делам и помочь не может, хоть бы и хотел.
– Разумовский все может, брат, если захочет, – перебил Михаил Петрович, – государыня до того к нему расположена, что ждала только приезда его матери…
– Знаю… да от этого нам не легче. Зато, – продолжал Алексей Петрович, – если нет у нас доброжелателей, так много врагов. Первый и самый опасный – лейб-медик, подкупленный французским кабинетом. До сих пор мне удавалось уклоняться, и он только сомневается в моих политических видах, но это продолжаться долго не может… Алексей Михайлович стар и скоро совсем уйдет… я должен буду высказаться, а как скоро Лесток узнает, что я иду ему поперек, конечно, употребит все свое влияние меня уничтожить; с ним же бороться, ты сам знаешь, трудно. Часто и теперь государыне докладываю, она согласна, казалось бы – дело кончено, нет, она отложит, а смотришь, на другой или на третий день говорит уж другое, значит, Лесток насказал. Он имеет доступ во внутренние покои во всякое время, и как врач, к которому государыня привыкла и которому вверилась, он всегда имеет возможность сделать по-своему. Второй мой враг – двор наследника. Сам Петр Федорович предан интересам прусского короля до пожертвования для них лично своими и своего государства. Какой же он будет государь?! А эти Трубецкие, Румянцевы, не готовы ли они с жадностью проглотить меня, не стерегут ли они каждую мою ошибку?
И при таком-то положении, когда нам необходимо быть ежеминутно настороже, вдруг ты женишься на женщине, лично неприятной государыне, известной своею преданностью к брауншвейгцам и своей привязанностью к ссыльному брату Михаилу Гавриловичу Головкину! Анна Карловна1 рассказывала мне, как государыня еще недавно вспоминала Анну Гавриловну, когда та приезжала к ней от имени Анны Леопольдовны с таким злорадством объявить волю правительницы насчет брака цесаревны с принцем Людвигом, братом принца Антона Брауншвейгского. Не любит, да и не может любить графиню Ягужинскую Елизавета Петровна. Теперь обсуди сам, не будет ли государыня смотреть подозрительно на тебя и на меня? Объяснять увлечением любви в твои годы было бы странно!
– Может быть, ты и прав, но делать нечего… отступиться не могу и не хочу… вчера вечером дело решилось.
– Ну как хочешь, только прежних отношений между нами быть не может.
Каждый из братьев остался при своем решении, и взволнованный Михаил Петрович взялся за шляпу.
– Я прошу тебя, брат, исполнить мою, может быть, последнюю просьбу. На днях Лесток хвастался, будто он настоит на том, чтобы Брауншвейгскую фамилию заточили, а Юлиану подвергли пытке. Юлиана – девушка нежная, слабая; если ее будут пытать, она и не знаю чего наскажет. Заступись за нее. Об этом, говорят, передадут на обсуждение министров.
– Верно, просила тебя Анна Гавриловна?
– Она. Да разве для тебя, брат, не все равно? Ты вот сейчас говорил о нашем положении, говорил справедливо, я не возражал, но позволь и мне высказать несколько слов. При дворе мы непрочны, правда, но прочен ли сам двор?
– Откуда ты увидел опасность? – с усмешкой заметил Алексей Петрович. – Где ты нашел Минихов? Нет, брат, все опасные люди под снегом, не воротятся… Вся гвардия и армия за Елизавету.
– Да разве только Минихи да солдаты могут совершить переворот? Бывают великие дела и от маленьких людей… Разве не мог удаться замысел Турчанинова, а ведь таких людей, преданных бывшему правительству, много… Случись что-нибудь с государыней, все скорее пойдут к Ивану Антоновичу, чем к Петру Федоровичу.
Алексей Петрович задумался; он сам не любил великого князя, объявленного наследником, и предвидел много бед, если тот взойдет на престол.
– Так вот, видишь, брат, если мы разорвем всякие связи с брауншвейгцами, так и нам будет нехорошо, если они воротятся. Не лучше ли же нам не порывать совершенно отношений, разумеется, когда такие отношения не опасны и не вредны? Может быть, и Анна Гавриловна со временем окажется полезной. Если теперь оказать услугу брауншвейгцам, так они этой услуги никогда не забудут.
– Да, в твоих словах есть доля правды, – проговорил Алексей Петрович, засновав опять отмеривать диагональ по кабинету, – да сделать я тут ничего не могу… Их стережет Лесток, а он и так уж нашептывает на ухо государыне о моей преданности брауншвейгцам и австрийскому дому. Конечно, я, как и прежде, буду стоять за высылку за границу правительницы и попытаюсь избавить Юлиану от пытки, но больше этого от меня не жди, и если женишься на Анне Гавриловне, так мы будем холодны… для людей. Борьба с Лестоком неизбежна, и борьба насмерть. Посмотрим, кто еще кого сломает!
Михаилу Петровичу больше ничего и не нужно было.
Он быстро поднялся с места и, обняв брата, вышел, а Алексей Петрович долго еще отмеривал кабинет, соображая и комбинируя, забыв даже и о своих каплях.
– Я забыл тебе передать приятную для тебя новость, – проговорил Михаил Петрович, просовывая голову в дверь, – третьего дня государыня сделалась нездорова и решилась попробовать твоих капель: они помогли, и она от них в восторге, всем теперь советует их употреблять.
– Кто тебе говорил?
– Сама Мавра Егоровна.
– Ну а что лейб-медик?
– Понятно!.. Говорит – случай, и больше ничего.
IX
– Ах, Юлиана, зачем я не умерла! Без меня все вы были бы счастливее! – говорила бывшая правительница, принцесса Анна Леопольдовна, неизменному другу своему Юлиане Менгден.
Обе женщины сидели рядом на диване перед столиком в одной из комнат дома, где поместилась Брауншвейгская фамилия в Риге, по выбору сопровождавшего ее Василия Федоровича Салтыкова и по указанию коменданта крепости.
Принцессу нельзя было узнать, так изменилась она. Бледное личико правительницы, так недавно и ненадолго оживленное теплым лучом любви, осунулось и заострилось, глаза, засевшие глубоко в синие широкие каймы, горели странным блеском нервного напряжении, особенно резко выказывавшегося от общего истомленного вида; густые темные волосы, за которыми стала было ухаживать в угоду любимому человеку, выбивались беспорядочными прядями из-под белого платка, обвязанного вокруг головы и почти не отделявшегося от молочного цвета лица; упругое, полное тело похудело до того, что вместо округлых форм выставлялись угловатости.
Да и было отчего похудеть принцессе! Кроме нравственных страданий, она только что вынесла серьезную, опасную болезнь. Вскоре по приезде в Ригу она выкинула четырехмесячного зародыша, и в продолжение нескольких недель жизнь ее находилась в крайней опасности.
Истощенная, без сил, без движений, пролежала она много долгих летних дней в своей убогой рижской спаленке безучастною ко всему и ко всем.
Живую, впечатлительную Юлиану эта безжизненность и безучастность поражали более острых физических страданий. В порывах беспредельной любви напрасно она бросалась к неподвижно лежавшему другу, страстно целуя ее лицо, руки, ноги, стараясь дыханием, всеми порами своего тела передать ощущение жизни. Юлиана подносила к кровати больной малюток – развенчанного императора Ивана и дочь, еще грудного ребенка, Екатерину, подзывала принца Антона, в надежде, что вид мужа, прежде, бывало, так раздражавшего нервы жены, произведет и теперь какое-нибудь ощущение. Напрасно…
На ласки друга принцесса открывала тусклые глаза, но ни тени ласковой улыбки не пробегало по засохшим и увядшим губам, на детей посмотрит бессознательно и безучастно, даже принц Антон не возбуждал прежнего раздражения, – напротив, на нем как будто долее останавливался взгляд ее, и не с прежнею холодностью.
Думать и соображать больная не могла; в ее памяти смутно проносились образы прошлого.
В ее памяти не проходил ни образ толстой, вечно брюзжавшей болтуньи-матери, одинаково щедрой на слова и колотушки дочери, ни угрюмой, болезненной и сосредоточенной Анны Иоанновны, ни образ так нахально вломившегося в ее судьбу герцога Бирона, ни даже блестящего Линара, о котором прежде столько мечтала, но зато с ясностью, неотступно стояла перед ее постелью веселая кузина Елизавета с ее ребенком на руках, потом какая-то суматоха, сборы, какая-то странная, полутемная, незнакомая комната с закопченным потолком, в которой собраны все они: она, дети, Юлиана и даже похудевший, вдруг как-то проснувшийся, с красными заплаканными глазами принц Антон, потом дорога, ощущение холода, только бородатые лица, между которыми чаще всех мелькает лицо не то друга, не то врага, к которому все обращаются, у которого все они во власти, под строгим присмотром, но у которого сквозь суровость проглядывает временами теплое сострадание, потом приезд, болезнь.
Но принцессе только двадцать четыре года, организм ее не испорчен, и жизнь поборола смерть. Мало-помалу, тихо и незаметно стали возвращаться силы, ощущения стали принимать определенную форму, явилась потребность деятельности, желание бросить постель и прильнуть к окружающей жизни; нервы заработали сильнее и напряженнее. С возвращением сил она почувствовала, чего прежде никогда не чувствовала, – жажду свободы, воздуха и простора, именно того, чего лишилась в последнее время. Ей захотелось уйти куда-нибудь из дома, на улицу, дышать свежим воздухом, но при первой же попытке ее остановили под благовидным предлогом слабости сил, необходимости беречься. Она послушалась; потом, через несколько дней, когда почувствовала себя значительно крепче, она снова стала собираться, но тогда ей объявили, что свободный выход запрещен.
Из Москвы приезжали гонцы с нерадостными вестями; сначала привезли приказ не торопиться в дороге, потом остановиться и ждать в Риге дальнейших распоряжений и, наконец, держать под бдительным надзором, не позволять видеться никому из местных обывателей, запретить свободный выход из опасения будто бы доходящих до государыни каких-то неопределенных слухов о всеобщей симпатии населения к изгнанникам, отчего может возбудиться какая-нибудь неразумная попытка.
«И откуда бы могли доходить до Москвы такие слухи? – думал Василий Федорович, которому больно было смотреть на несчастное семейство и которому так хотелось бы скорее воротиться домой. – И чего бояться? Принцесса бессильная, немощная женщина, боится взглянуть лишний раз на дорогу; ожидать какого-нибудь конфуза от принца еще страннее; молочные дети… Только одна Юлиана бойко осматривает по сторонам да заводит разные разговоры со всеми – с провожатым офицером, с солдатами, с латышскими крестьянами, но все эти разговоры – въявь и нет от них никакой опаски».
Даже и сам Василий Федорович любил поиграть в картишки в дурачки с Юлианой. Правда, вся сопровождающая команда полюбила своих пленников и старалась, насколько возможно, доставить им в дороге разные облегчения; правда, что при въезде в Ригу все узкие улицы по пути были запружены толпившимися немцами, любопытными взглянуть на изгнанницу, не чуждую им по немецкой крови; правда, что зеваки, за теснотою улиц, влезали на заборы и на высокие крыши своих остроконечных домов; правда и то, что, Василий Федорович слышал стороною, будто Юлиана ведет иногда и неявные разговоры с московскими гонцами, да ведь взаперти заговоришь и с чертом. Однако ж, оберегая себя, Василий Федорович все-таки распорядился постановкой караула ко всем входам и выходам со строгим наказом никого не впускать и не выпускать без особенного своего разрешения.
Прошло девять месяцев пребывания брауншвейгцев в Риге, а об отправлении за границу не получалось никаких известий, даже, напротив, являлись признаки все страшнее и грознее. Вместо обещанных ста тысяч на содержание императорского семейства отпускались только самые скудные средства, и привыкшие к роскоши пленники испытывали недостатки и нужду. Особенно эти недостатки легли тяжело, когда принцесса опасно занемогла после выкидыша и когда потребовались экстраординарные издержки на лечение, белье и более питательную пищу. Выздоровела наконец принцесса, а приготовлений к отъезду не замечалось.
– Зачем я не умерла! Без меня вы были бы счастливее, – тоскливо повторила Анна Леопольдовна, как повторяла она это в последнее время очень часто. – С детства я была в тягость и другим; кто ко мне бывал добр, тому я всегда приносила несчастье!
– Что за вздор, милая Анна, кому же ты принесла несчастье? – отозвалась Юлиана, подняв от работы свежее личико, которое успела состроить на веселый тон, и незаметно утерев непрошено набежавшую на глаза слезу.
– Кому? Всем: воспитательнице своей, Волынскому, мужу, Остерману, Головкину, тебе… да и кто из близких не пострадал за меня? Мне всегда было грустно, я как будто предчувствовала свое будущее.
– Полно, ты больна, оттого тебе и грустно, а, право, наша жизнь не очень скучна. Василий Федорович какой смешной! Какая походка! Заметила ты, как он подходит? Точно его кто толкает сзади; а гримасы его заметила? Я нарочно вчера целое утро училась, да не сумела! Офицер тоже такой славный, я все с ним болтаю, да и солдаты все хорошие люди…
– Все хорошие, везде хорошие люди, – задумчиво проговорила принцесса, – а жить тошно.
– Вовсе не тошно, – не соглашалась Юлиана. – Теперь мы отдохнем, потом поедем в Германию, а потом…
– Что потом?
– Потом… мало ли что может случиться! Может, и ты воротишься на свое место.
– Никогда! – высказала Анна Леопольдовна резко, с особенной энергией, не подходящей к ее обыкновенной мягкости. – Что бы ни случилось, но я никогда не возьмусь за то, к чему вовсе не рождена, что для меня бремя не по силам и мука. Я была бы счастлива только вдали от света, шума, интриг, в кругу немногих лиц, с которыми мне приятно, которых люблю. Я не завидую кузине Лизе, напротив, – мне жаль ее.
– О себе, милочка, самой судить нельзя, особенно тебе: ты слишком мало ценишь себя. Разве тебя не любили все, кто тебя знал? Разве были недовольны твоим правлением? А что солдаты… так их горсть, и голос их – не голос народа. Я положительно знаю, что теперь все – и в Петербурге, и в Москве – недовольны Елизаветой Петровной, все жалуются. Солдаты грабят, буянят.
– Да откуда ты, Юля, знаешь это под замком и в четырех стенах?
– Во-первых, ко мне Василий Федорович милостив и не только позволяет выходить, разговаривать с офицерами, но даже и сам любит беседовать со мной; во-вторых, у меня есть смекалка, и из полуслова, какого-нибудь намека я догадываюсь обо многом. Кроме того, у меня ведется и корреспонденция…
В соседней комнате послышались шаги, и по особенной манере в походке обе женщины догадались о предстоящем посещении своего охранителя Василия Федоровича Салтыкова.
Действительно, в походке Салтыкова была оригинальная особенность, напоминавшая первые шаги от толчков сзади. Притом же Василий Федорович немного заикался, а потому и в разговоре его лицевые мускулы около рта, конвульсивно сокращаясь, производили довольно комическую гримасу, похожую на лукавое подмигивание детей.
– В-в-ваше в-высочество… в-в-ваша светлость, – гримасничал Василий Федорович, расшаркиваясь перед принцессой и смущаясь.
Во всю дорогу он не мог решить весьма важного вопроса, как титуловать Анну Леопольдовну – как бывшую ли принцессу-правительницу, мать императора, или как простую немецкую княгиню. Этот вопрос не предвиделся и не разрешался инструкцией, а в практике возникло недоразумение: в качестве изгнанницы принцесса становилась простою немецкой княгинею, а между тем у нее не было отобрано ни Андреевского ордена, ни ордена святой Екатерины.
– Сию минуту с гонцом я получил повеление моей всемилостивейшей государыни, – продолжал, заикаясь, Василий Федорович, стараясь обходить по возможности вопрос о титулах.
Принцесса помертвела и поднялась с места.
– Я готова, граф, выслушать приказание вашей и моей государыни.
– Ее величество моя государыня приказывает мне немедленно же озаботиться отправлением в-в-вашего высочества… светлости… с супругом и детьми за границу.
– Наконец-то, слава богу! – радостно и в один голос вскрикнули обе женщины.
– С условием только, – тише и с некоторым колебанием продолжал Василий Федорович, – с условием…
– Заранее согласна на все условия, – перебила Анна Леопольдовна, – лишь бы быть на свободе! Говорите скорее, граф, какие условии?
– В-в-ваша светлость вместе с супругом благоволите подписать присланное из Москвы обещание за вашего сына и прочих детей никогда не предъявлять никаких претензий на всероссийский престол.
– Ка-а-ак? Отречение?! За себя я готова подписать что угодно, но за детей я никаких обещаний не имею права давать.
– О ваших правах государыня не упоминает.
– Не упоминает?! – заговорила принцесса с тем раздражением, которое проявляется у людей застенчивых, когда внутреннее волнение вдруг стряхивает робость и прорывается судорожным криком. – Не упоминает?! А кто из нас имеет более прав? Если я до сих пор не предъявляла своих прав, то единственно по своей воле… Я и теперь не желаю короны… Юлиана, приведите сюда мужа и сына – я хочу отвечать в их присутствии.
Через несколько минут воротилась Юлиана с ребенком – императором Иваном на руках, а за нею вошел и принц Антон.
– Ее величество императрица Елизавета Петровна требует от нас подписать отречение от законных прав за наших детей. Скажите свое мнение, принц! – обратилась к мужу Анна Леопольдовна.
– Мне кажется… я… лицо постороннее, – бормотал принц, стараясь разгадать, какое именно было мнение жены.
– Слышите, граф, и мой муж вам сказал то же самое. Мы относительно прав своих детей люди посторонние, а потому и не можем давать за них никаких обещаний. Отпишите об этом государыне.
Ребенок тоже, казалось, подтверждал слова матери. Протянув к ней пухленькие ручонки и широко раскрыв большие голубые глазки, он тянулся к ней, как к самой верной охране, не подкупаемой никакими интересами. И с какой страстностью мать, выхватив из рук Юлианы своего сына, прижала его к груди и целовала!
Василий Федорович получил полный отказ, но не уходил; видно было, что его миссия не совсем еще кончена, что оставалось нечто, и нечто серьезное, отчего сильнее дергалось его рябоватое лицо и хлопотливее мигали глаза, как будто стараясь спровадить назад некстати выступившую гостью.
– Подумайте, в-в-ваше высочество! Я могу подождать несколько дней.
– Ни теперь, ни после и никогда не услышите другого ответа от матери!
– Подумайте, в-в-ваше высочество! – настаивал Василий Федорович. – Если вы согласитесь подписать отречение, то получите полную свободу на выезд за границу, где будет вам доставляться обещанное содержание; в противном же случае мне приказано не только остановить отправку, усилить караулы, но даже перевезти в крепость Дюнамюнд, где далеко не будет тех удобств, какими пользуетесь здесь.
– Не только, граф, в Дюнамюнд, но если б меня сослали в глубь Сибири, так и тогда я бы не дала другого ответа! – решительно заявила Анна Леопольдовна.
Затем, почувствовав, что нервное возбуждение, поддерживавшее в ней необыкновенную энергию, переходит в спазматическое сжатие горла, она поспешила отпустить Василия Федоровича, за которым, понурив голову, поплелся и принц Антон.
Юлиана осталась с другом, но потом, как будто вспомнив о чем-то, бросилась к выходу и выпорхнула, громко хлопнув за собою дверью.
С Анной Леопольдовной сделался истерический припадок, разразившийся рыданиями; она плакала долго, плакала судорожно, до тех пор, пока не воротилась Юлиана, вся радостная, сияющая, с клочком бумажки в поднятой руке.
– Хорошие вести, милочка, хорошие вести! – говорила она в дверях. – Письмо от Анны Гавриловны!
И, подбежав к принцессе, на лету расцеловав ее заплаканные глаза, принялась читать:
«Ты не можешь представить, милая Юлиана, – писала Анна Гавриловна, – как я за тебя беспокоилась. Мне за наверное передавали, будто Лесток настаивает у государыни подвергнуть тебя допросу с пыткой о каких-то замыслах принцессы. Так как из наших никого нет приближенными, то я и обратилась с просьбой к обер-гофмаршалу, моему мужу теперь. Ах да, ты не знаешь еще этой новости! Вот уже почти два месяца, как я замужем за Михаилом Петровичем Бестужевым. Трудно было мне при дворе без поддержки, а обер-гофмаршал представлялся выгодной партией. Разумеется, о любви не могло быть и речи в мои годы, хотя женщина ни в какие годы не отказывается от любви. Впрочем, он, кажется, любил меня, когда ухаживал, любил, может быть, и в первое время после свадьбы, но натура у моего мужа непостоянная, да притом Бестужевы слишком заняты своим личным интересом, чтобы думать о других. Брат его, вице-канцлер, был очень недоволен нашей свадьбой или показывал только вид.
Тебе, бедняжке, верно, хочется знать, что делается при дворе?
Мы танцуем, веселимся сколько хотим, а хотим мы веселиться всегда. Торжества, собрания, маскарады у нас почти каждый день, но все это не прежние собрания у нашей дорогой принцессы. Лесток по-прежнему всем управляет и наговаривает на вас; Бестужевы отстаивают; Алексею Петровичу удалось защитить тебя от розыска. Между Лестоком и вице-канцлером по этому случаю ссора. Отвечай мне с этим же человеком: он надежный. Напиши мне подробно, как вы живете, здорова ли принцесса, которой скажи, что я за нее всегда молюсь Богу.
Забыла передать еще новость: Шетарди уехал домой в Париж, уехал и маркиз Ботта в Петербург, а оттуда в Берлин. Маркиза жаль – он такой любезный и так любит принцессу. Скоро будем собираться в Петербург, откуда буду писать чаще. Забыла еще тебе сказать, о чем ты, верно, уж слышала, – у нас теперь еще другой двор, маленький дворик Петра Федоровича. Сам великий князь – лет шестнадцати, нелюбезный и несимпатичный».
– Как странно, Юлиана! – заметила принцесса, когда Юлиана кончила чтение, почти шепотом и с предварительным осмотром, нет ли кого за дверью. – Лестоку, мужу твоей родной сестры, я никогда никакого зла не сделала, напротив, была всегда внимательна, и никогда не отказывала кузине в деньгах, хоть и знала, что они пойдут на игру этого француза, Бестужевых же отсылала от двора, а теперь Лесток интригует против меня, а защищает Бестужев!.. Напиши Анне, что я благодарю ее и Бестужевых.
– Хорошо, хорошо. Об этом негодяе и развратнике Лестоке мне, милочка, никогда не напоминай; он хоть и муж моей сестры, да хуже чужого, а теперь – отчего ты не подписала обещания?
– Отчего? Да как же я могу лишать сына того, что ему должно и будет принадлежать по праву?
– Полно, милая, разве может к чему-нибудь обязывать клочок бумажки, вытянутый насильно! При сыне точно так же оставались бы его права, а мы были бы на свободе.
– Может быть, так и следовало поступить, как ты говоришь, но я не могу кривить душой. Как же бы я могла, не краснея, говорить сыну, когда он будет понимать, внушать ему, если б я связала себя клятвой?
– Ах, Анна, Анна, губишь ты себя и нас, а между тем я еще больше люблю тебя!
Обе женщины ушли в спальню, заперлись там, и долго еще слышался их невнятный шепот о прежнем житье, о близких лицах, только в шепоте ни разу не упомянулось имени Линара. Обе они старались забыть его.
На другой день по приказу Василия Федоровича стали собираться к переезду в Дюнамюнд.
X
К дворцу большой приезд на танцевальный вечер. Все знали, что императрица предполагает через несколько дней переехать из Москвы в Петербург и этот вечер прощальный; все спешили воспользоваться случаем потереться между светил, поразведать почву, поклониться кому следует, а молодежь – беззаботно повеселиться.
При дворе Елизаветы Петровны действительно веселились и умели веселиться. Ее вечерние собрания резко отличались от раутов и собраний предшественниц.
Чинно, апатично и натянуто тянулись вечерние съезды при Анне Иоанновне, когда везде бывали блеск, роскошь, бархат и бриллианты, но вместе с тем холод и официальность – только одни шуты имели право не стесняться строгими приличиями. В определенное время гости съезжались, прохаживались по обширным, блестевшим огнями и разноцветными искрами залам, улыбались, наблюдали, шпионили и в определенное же время, никак не далее двенадцати часов ночи, разъезжались.
При Анне Леопольдовне большие собрания назначались редко, только в очень торжественные дни; в обыкновенные же вечера, как в какой-нибудь буржуазной семье, собирался интимный кружок, в котором царствовала непринужденность с полной свободой не стесняться, играть в карты, читать, составлять кадрили.
На вечера Елизаветы Петровны собирались гости с целью повеселиться, насладиться тем, что дает жизнь, молодость и здоровье. По примеру самой императрицы танцевали почти все, танцевали не до определенного часа, а до полного изнеможения, до той поры, когда государыня удалялась в свои внутренние покои, тщательно закрытые от назойливых лучей наступавшего дня.
Со всех сторон, из разных полуосвещенных улиц к дворцовому подъезду один за другим подкатываются экипажи, из которых то высаживаются степенно, то выпархивают мужчины и женщины.
Залы наполнились придворными дамами и кавалерами, сановниками и богатыми горожанами.
Костюмы гостей не отличаются роскошью, не так, как было лет пять назад. Не видно уборов из драгоценных камней, кафтанов из богатых тканей, вышитых золотом и серебром; вместо бархата и атласа везде сукно, которого ценность соответствует рангам.
Новым указом императрицы, знавшей, чего стоил придворный выезд в царствование ее тетки, требуется крайняя простота в костюмах. Все кавалеры не имели права носить никаких золотых и серебряных украшений, даже сукно могли употреблять ценностью не свыше четырех рублей только особы первых пяти классов, прочие классы должны были довольствоваться сукном не свыше трех рублей.
Точно так же ограничивалась и природная наклонность к мотовству дам: их кружева строго соразмерялись с общественным положением их мужей.
В ожидании танцев по залам образовались особые группы около светил первых величин, между которыми прохаживались, приставая то к той, то к другой группе, или молодые люди, явившиеся собственно для танцев, или трусливые, не выбравшие себе еще партию.
Сама хозяйка в разноцветном букете дам составляла собою самый привлекательный и роскошный цветок.
Вполне развитая русская красавица, она притягивала к себе не столько как государыня, сколько как очаровательная женщина. Пышно взбитые природные густые волосы, слегка осыпанные пудрою, удивительно шли к ее свежему розовому цвету лица, по нежности которого трудно было дать ей и тридцать лет; большие глаза с поволокой горели еще юношеским оживлением.
Елизавету Петровну окружали дамы, из числа которых выделялись: неизменный друг ее Мавра Егоровна, вышедшая недавно замуж за Петра Ивановича Шувалова, Анна Гавриловна, жена обер-гофмаршала Бестужева, Анна Карловна, жена Михаила Ларионовича Воронцова, Шарлотта, жена вице-канцлера, совершенно немецкого типа, белобрысая, с мелкими чертами лица, жена генерал-прокурора Сената князя Никиты Юрьевича Трубецкого, еще сохранившая следы замечательной красоты, приковывавшей к себе сердца знаменитых ловеласов своего времени – князя Ивана Алексеевича Долгорукова и позже фельдмаршала Миниха, графини Ефимовская и Гендрикова, родственницы императрицы по матери, мадам Шмидт, дуэнья фрейлин, не забывавшая кармана насчет нравственности своих питомиц, гофмейстерина маленького двора Чоглокова, три странные женщины в придворных костюмах, неуклюже сидевших на их топорных телах, прижавшиеся друг к другу в отдельную группу, – Агафья, Анна и Вера, родные сестры графа Алексея Григорьевича Разумовского, замужние, первая за ткачом Будлянским, вторая за закройщиком Закревским и третья за казаком Дараганом, вызванные к двору и волей-неволей участницы в вечерних собраниях государыни. Позади этих трех граций, точно курица с цыплятами, пыжилась мать их, нестроевая казачка, шинкарка Наталья Демьяновна, тупо смотревшая на все и на всех.
Елизавета Петровна с истинно русским радушием приветствовала подходивших к ней гостей, из которых самого наибольшего внимания удостоились представители европейских государств.
За несколько месяцев до этого честь быть представленным первым и вообще пользоваться выдающимся отличием всегда принадлежала элегантному маркизу Шетарди, но после его отъезда это отличие стал получать прусский посланник Мардефельд, истый рыжий пруссак, средних лет, с грубыми, напоминавшими казарму манерами, по-видимому открытый и прямодушный, но, в сущности, тонкий и дальновидный дипломат. Он с тактом умел не выставлять напоказ оказываемого ему отличия и не бил им самолюбия других посланников, как это делал маркиз Шетарди.
– У меня с вами много общих дел, генерал, о которых желала бы лично переговорить с вами. Я приглашаю вас на первый танец, – обратилась к Мардефельду императрица с приветливой улыбкой.
Пруссак низко поклонился и скромно отошел в сторону.
За Мардефельдом следовал английский посланник Вейч. Елизавета Петровна не любила его предшественника, недавно уехавшего посла Финча, за его интриги против себя у бывшей правительницы Анны Леопольдовны, да и вообще методичный, чопорный Финч никак не подходил к ее общительному, беспритязательному характеру.
– Вы, как я слышала, очень довольны нашему скорому переезду в Петербург? – спросила она, ласково улыбаясь, Вейча на французском языке, которым довольно бойко владела.
– Как и все истинные друзья вашего величества, – просвистел Вейч, почтительно целуя протянутую к нему руку государыни.
– Как странно! Одни мои истинные друзья советуют непременно уехать в Петербург, другие, – императрица взглянула на стоявшего за Вейчем французского посланника графа д’Альона, – тоже мои истинные друзья – советуют оставаться в Москве. Совет противуположный, и кто-нибудь да советует не как истинный друг. Лично же до меня, – задумчиво продолжала она, – мне не хотелось бы уезжать: здесь так хорошо. Я люблю Москву, ее радушие и теплую преданность.
– Где бы ваше величество ни были – вы всегда и везде будете окружены горячею преданностью. Что же касается до противуположности мнений, то различие может зависеть не от чувства преданности, а от различия взглядов, – нашелся Вейч.
– Может быть, вы и правы, – закончила императрица, уже обращаясь к подходившему французскому посланнику, за спиной которого сиял дорогими камнями в первый раз приехавший чрезвычайный посол Персии. Австрийского посла не было за отъездом маркиза Ботто и за неприбытием вновь аккредитованного.
Заиграла музыка, кавалеры бросились отыскивать своих дам и выбирать места.
В первой паре, разумеется, была государыня с Мардефельдом.
Елизавета Петровна любила танцы до увлечения и танцевала замечательно хорошо. Нельзя было не залюбоваться на ее плавные, грациозные движения, полные жизни и очарования.
Великий князь выбрал своей дамой молодую девушку, обратившую на себя его внимание замечательной красотой, Настасью Степановну Лопухину, приехавшую из Петербурга на придворные праздники к другу своей матери, Анне Гавриловне.
Петр Федорович не отличался ни грациозностью, ни любезностью и не особенно ценил эти качества в других. Ему нравился в Настасье Степановне нерусский тип, и именно то, что в ее милых, нежных чертах что-то напоминало ему идеальное выражение немецких красавиц; легкость, какая-то воздушность хрупкого тела девушки совершенно не подходили к идеалу русской пластичности. Великий князь, старательно и пунктуально отделывая каждое па, пытался сказать своей даме какую-нибудь любезность, но никакая любезность не могла соорудиться в его голове, в которой вертелись только парады и военные экзерциции, нисколько не интересные, как он и сам подозревал, для молодой девушки; от этой бесплодной потуги мысли великий князь терялся, конфузился, его неловкие манеры становились еще более угловатыми.
Подле великого князя стояли в паре Алексей Григорьевич Разумовский с Анной Гавриловной Бестужевой.
Алексей Григорьевич танцевал неохотно, всегда ограничиваясь одним только первым танцем в угоду императрице. Его неуклюжие казацкие манеры еще более выдвигали Анну Гавриловну, знаменитую танцорку своего времени.
Общее дело, о котором намекнула императрица Мардефельду, касалось до намерения, задуманного государыней, – женить наследника русского престола.
По совету короля прусского Елизавета Петровна склонилась к сватовству своей будущей племянницы из какого-нибудь небогатого германского дома.
Перебраны были все немецкие невесты, и выбор остановился, опять-таки по совету Фридриха, на принцессе Ангальт-Цербстской, приходившейся дальней родственницей королевскому прусскому дому. Начатые по этому поводу переговоры у голштинского гофмейстера Блюммера с матерью принцессы имели полнейший успех; невеста с матерью должны были приехать если не в этом, то в будущем году в Петербург, где будущей наследнице предстояло изучение русского языка и догматического православия.
– Вы лично знаете принцессу Софью Фредерику? – спрашивала государыня прусского посла, когда выдалась свободная минута для разговора.
– Точно так, ваше величество.
– Скажите, хороша она собой? Портрет, который прислал мой посланник, много говорит в ее пользу.
– Смею уверить ваше величество, что портрет далеко ниже оригинала.
– В таком случае она должна быть красавица, – заметила как будто про себя Елизавета Петровна, и легкая тень раздумья пробежала по ее открытому лицу. – Скажите еще, генерал, добра ли она? – продолжала расспрашивать государыня.
– Умна и, как ангел, добра, ваше величество, – в этом вы сами скоро изволите убедиться.
– А Марианну, генерал, дочь польского короля Августа Третьего, когда-нибудь видели?
– Кажется, видел, ваше величество, но она не произвела на меня никакого впечатления, и об ней не могу сказать ничего положительного.
Государыня задумалась и потом тихо высказала:
– Дай бог, дай бог! Счастливые супружества вообще нечасты, а в королевских домах, когда свободный выбор подчиняется еще различным политическим комбинациям, еще реже… Я, как женщина, придаю семейному союзу особенную цену. Племянник мой добрый мальчик, немного странен от лет, но стоит любви, и мне было бы больно сделаться виновницей его несчастья.
– О, насчет будущности для его высочества не может быть никаких сомнений при мудром руководстве вашего величества и в союзе с принцессой!
– Будущее не всегда исполняется по человеческим расчетам, но я надеюсь, что в этом случае расчеты не ошибутся. Скоро, генерал, принцесса приедет?
– Об этом меня не извещают, хотя я вчера получил депешу для представления вашему величеству.
– Депешу, генерал, передайте моему вице-канцлеру, а мне теперь же расскажите не как государыне, а как любопытной женщине, о чем пишет король.
– Все о том же, ваше величество. Король мой совершенно одобряет изменение вашего намерения об отправке за границу Брауншвейгского семейства. Он, вполне сочувствуя интересам вашего величества, находит, что даже одно пребывание в такой близости к границе бывшей правительницы не может служить к упрочению спокойствия в вашем государстве.
– Очень благодарна королю за его доброе расположение ко мне и вполне ценю это, но не могу не находить опасений короля слишком преувеличенными. Принцесса, бывшая правительница, не может нарушить спокойствия и охраняется в Риге или Дюнамюнде так же бдительно, как и в самых отдаленных местах.
Елизавета Петровна прекратила разговор и не начинала его до конца кадрили.
За этим обменом оживленных речей императрицы и прусского посла внимательно следили со всех сторон с совершенно различными опасениями.
– Посмотрите, граф, как озабочена ее величество, – говорила Анна Гавриловна своему кавалеру Алексею Григорьевичу, едва заметно указывая глазами на императрицу.
– Да, – лениво отозвался тот, – теперь у нас Мардефельд в чести.
– Удивительно, как это вам мог так полюбиться этот старый рыжий немец! – смеялась Бестужева.
– Мне, графиня? Нисколько. Для меня все равно, Шетарди ли, Мардефельд ли, – такие же басурманы… не варит их мой желудок.
– Зачем же вы допускаете их сблизиться с государыней?
– Не я их допускаю, а Лесток, собачий сын, простите, графиня! – извинялся Алексей Григорьевич, сконфузившись. – Не могу еще отвыкнуть от старой казацкой привычки ругнуть нараспашку.
Анна Гавриловна делала шен, окончив который и возвращаясь к кавалеру, снова начала:
– При вашем влиянии, граф, мне кажется, от вас зависит приблизить того или другого.
– То-то нет, миленькая графиня, человек я простой, в хитрых дипломатиях несведущ, а эта собака Лесток – пройдоха: в одно ухо влезет, а в другое вылезет, без шашней и каверз жить не может; прежде вот с Шетарди, а теперь с Мардефельдом да Блюммером все шепчется.
– Да разве без вас кто может обойтись у государыни? – подзадоривала Анна Гавриловна, хотя очень хорошо знала, что в последнее время Алексей Григорьевич своими кутежами и буйством под пьяную руку значительно повредил свой кредит.
– Мне-то что, мое место у государыни обеспечено… Лесток – другое дело, ему надо работать, а мне хорошо… Пускай его теперь устраивает Петра Федоровича! Разве мне не все равно, женится ли великий князь на какой-то Софье Фредерике или нет? – будто проболтался Алексей Григорьевич, в сущности по природному лукавству хорошо понимавший, как Бестужевым не по сердцу этот брак с Ангальт-Цербстской принцессой и как им нужно знать, кто хлопочет об нем.
– Так они теперь говорят о невесте, граф, а мне послышалась в их разговоре Рига, – простодушно продолжала Анна Гавриловна, которая в это время еще не знала ни об отказе правительницы от подписи отречения, ни о переводе Брауншвейгского семейства в Дюнамюнд.
– Может быть, и об Риге говорят. У них между собою с Мардефельдом и Блюммером только и разговоров либо о невесте, либо об Анне Леопольдовне.
– Ах, бедная принцесса! Хоть бы вы приняли в ней участие, заступились!
– Мне заступиться? Да с какого ляду? Мне принцесса не сделала ни добра, ни зла. Для меня разве не все равно, где она будет жить: в Риге, в крепости ли какой или в Рязани?
Анна Гавриловна осталась довольна своей ловкостью, с какою выведала от Разумовского, что ей было нужно; не менее остался доволен и Алексей Григорьевич, знавший, что не более как минут через пять все его сведения будут переданы по принадлежности Бестужевым.
XI
Кадриль кончилась, и кавалеры с элегантной вежливостью расшаркивались перед дамами. Стали разносить прохладительные питья, мороженое и лакомства. Императрица, раскрасневшись от волнения, отмахивалась веером, грудь ее высоко поднималась, по всем членам пробегало приятное ощущение, из полуоткрытых полных губ вылетало горячее дыхание. Обводя влажными глазами группы знакомых лиц, она увидела почти в конце залы у колонны незнакомого юного офицера привлекательной наружности. Грустное симпатичное выражение в правильных чертах лица, при изумительно нежном цвете, мечтательное и даже какое-то робкое, одинокое положение его в среде блестящих кавалеров и дам привлекло внимание государыни. Она долго и внимательно всматривалась в его глубокие мягкие глаза и потом, обернувшись к вечно стоявшей подле нее Шуваловой, спросила:
– Видишь, Мавруша?
– Кого, матушка?
– Вон там, у колонны, – сказала государыня, указывая веером по направлению к молодому человеку.
– А… – протянула Мавра Егоровна, – тот офицер-то? Видела я его. Кажется, он недавно поступил генерал-адъютантом – не знаю, к Александру ли Ивановичу, к мужу ли, или к Разумовскому, право, не знаю.
– Мавруша, милая, устрой так, чтоб мне его представить!
– Слушаю-с! – Мавра Егоровна пошла было по направлению к молодому человеку.
– Нет… нет… – воротила ее Елизавета Петровна, – не теперь… после… в конце вечера начни говорить с ним, а я подойду.
В глубине другой комнаты шел оживленный разговор между генерал-прокурором Сената князем Никитой Юрьевичем Трубецким и обер-гофмаршалом голштинско-русского двора Петра Федоровича Блюммером.
Волновался, впрочем, один князь Никита Юрьевич, а хладнокровный, чинный голштинец поддакивал, кивал одобрительно головой и по временам, когда князь уж слишком энергично напирал на него, осторожно отступал назад.
Князь Никита Юрьевич, среднего роста, коренастый мужчина в высоком напудренном парике, съехавшем набок от быстрых движений, далеко не мог похвастаться красотой – напротив, было даже что-то неприятное в его жестких желтых крупных чертах.
Никита Юрьевич считался человеком умным, но до крайности озлобленным – и не без причины. Его, впечатлительного ребенка, никто не любил, не ласкал, и он рос в родительском доме без оживляющей, проникающей в сердце любви матери.
Потом, когда он самостоятельно стал на ноги, другое, не менее едкое горе наполнило желчью его сердце. Его молодая жена, которую он страстно любил, в первые же годы супружества сделалась баснею целого города открытыми скандальными отношениями с известным в то время любимцем Петра II, князем Иваном Алексеевичем Долгоруковым. Много оскорблений он вынес тогда от всемогущего ловеласа, оскорблений как мужу и как человеку. К счастью его, эта связь продолжалась недолго, не более года, – князя Ивана Алексеевича сослали в далекий Березов, а потом в Новгороде и совсем покончили.
Никита Юрьевич отдохнул было, стали заживать его тяжелые язвы, как вдруг новые оскорбления, еще невыносимее первых и с не меньшим скандалом. В той неверности, по крайней мере, виновником был молодой, обольстительный юноша, от которого вскипали ключом все сантименты московских дам, в новой же и этого облегчения не было. Новым любовником княгини Трубецкой сделался почти старик, правда, элегантный, но все-таки старик, – фельдмаршал Миних, один из вожаков немецкой партии. Но бороться с Минихом, своим непосредственным начальником, при полном господстве немцев в царствование Анны Иоанновны, князю Никите Юрьевичу было не по силам, и он затаил в себе злобу, накопляя ее все больше и больше. При Елизавете Петровне, когда немецкая партия совершенно пала, эта злоба вдруг разлилась по всему его существу.
– Как вам нравится? А? Нет, вы скажите, как вам нравится? Зачем же и Сенат и Синод, если они ничего, ровно ничего, слабее безногой клячи, если каждый может не обращать на них никакого внимания? Нет, вы подумайте, каково это русскому! – почти выкрикивал князь Никита Юрьевич, подхватив голштинца – гофмаршала Блюммера и нервно дергая за пуговицу маршальского камзола с явным посягательством на нарушение туалета благочинного немца.
– О да, да, конечно, – отделывался Блюммер, отстраняясь от крикливого князя и стараясь освободить свою злополучную пуговицу.
– Нет, вы подумайте, каково русскому, когда ни с того ни с сего свой же русский не обращает внимания на законы своего отечества, да что не обращает внимания – смеется над ними!
– О конечно, такой русский – все же он человек, стало быть, и должен, без сомнения, подвергнуться законной каре, – говорил Блюммер, догадываясь, кто этот несчастный русский, и не догадываясь, какую злую насмешку он высказал о русских. Впрочем, в пылу негодования князь Трубецкой не понял грубости Блюммера и продолжал свои жалобы:
– Да помилуйте, какой же он русский: весь свой век жил за границей, хитрил да лукавил. Я сначала тоже считал его русским и тоже хлопотал о его назначении вице-канцлером, а теперь вижу, как ошибся. Да помилуйте, у нас немцы стали какими-то господами, а мы их покорными рабами, понастроили здесь своих церквей в соблазн православным. Синод сделал распоряжение уничтожить эти их кирки, а что выходит? Самая-то главная их лютеранская кирка не только стоит себе благополучно, но даже каждый день обогащается приношениями – вы думаете какого-нибудь немца? И не бывало… наш же вице-канцлер Российской империи, которому бы следовало показывать пример исполнения законов…
– О да, да, конечно, непростительно, хотя, с другой стороны…
Но ретивый генерал-прокурор не слушал, да и не хотел слушать никакой другой стороны.
– А все отчего? Супруга его, видите ли, немка, дочка какого-то резидента Беттинера, так вот в угоду ей и законы русские побоку.
– Но вы, как генерал-прокурор, блюститель, можете и должны покарать за преступление, – подзадоривал Блюммер.
– Покарать! Как бы не так! У нас законы пишутся не для высоких особ. Особы могут за взятки да за подарки продавать Россию кому угодно и отвечать не будут. Да вот недалеко пример! Астраханский губернатор Татищев разорил башкирцев. Выведенные из терпения, они выбрали депутацию и отправили ее с жалобою к императрице. Что ж выходит? Депутация эта живет теперь несколько месяцев, а господа канцлеры государыне не докладывают и не доложат вовсе… А отчего? Губернатор прислал им взятку – тридцать тысяч рублей.
– Вы бы доложили об этом государыне, – подучал Блюммер.
– Да что толку-то? Государыня нерешительна и мнительна, начнет советоваться, спросит вице-канцлера, а тот сумеет вывернуться и выйти из воды чистым, как голубь. Пожалуй, меня же заподозрят. Мне самому нельзя, а всю эту историю я рассказал Лестоку: он, наверное, передаст императрице.
И долго бы изливался князь Никита Юрьевич в нескончаемых жалобах, но так как эти жалобы не представляли почтенному Блюммеру никакого интереса, как давно уже ему известные от самого Лестока, то солидный гофмаршал и поспешил ускользнуть от генерал-прокурора под предлогом переговорить с великим князем.
Блюммеру известно было даже и то, чего не знал и сам Трубецкой: что Лесток передавал уже государыне башкирскую историю, что государыня не поверила, спросила объяснения от вице-канцлера и что тот совершенно оправдался. Мало того, на самого Трубецкого насказано было столько жалоб на его произвол и притеснения, возбудившие общее неудовольствие и ропот, что государыня подумывала, не послать ли по провинциям доверенного человека разобрать на месте, нет ли действительно от злобы генерал-прокурора каких-нибудь важных злоупотреблений.
Иные совсем разговоры велись в тот же вечер у действительного камергера фаворита Алексея Григорьевича Разумовского с вице-канцлером Алексеем Петровичем Бестужевым-Рюминым, разговоры спокойные, до того спокойные, что постороннему они могли казаться беседой о погоде и о других подобных же обыденных вещах.
Алексей Петрович почти никогда не волновался, а тем более с таким лицом, каков был Разумовский. Алексей Петрович понимал Разумовского далеко не таким простачком, каким тот казался другим; по его убеждению, фаворит, напротив, обладал значительной дозой хохлацкой хитрости, глубоким пониманием своего положения и тонким умением вести свои дела. Не владея никаким образованием, конечно, Разумовский не мог поставить себя в сферу правительственной деятельности, но делает честь его уму уже то, что он сам понял это, умел отстраниться вовремя и кстати, сумел поставить себя твердо в среде перекрещивающихся интриг и сохранить, несмотря на личные свои недостатки, на государыню влияние, хотя не постоянное, а какое-то порывистое.
Алексей Петрович вел свою речь тонко и дипломатично.
Совершенно незаметно он выяснил, как опасно быть сторонником дерзкого самохвала-врача и как, напротив того, выгодно держаться спокойного и твердого самообладания людей опытных. Для Разумовского не требовалось подробных толкований: он понимал дело в полуслове.
В конце концов Алексей Петрович мысль свою доказал примером:
– Помните вы, милостивый мой граф, как одно время наша государыня оказывала вам особливую холодность и нарочитую благосклонность Александру Ивановичу Шувалову? Отчего же этого обстоятельства не случалось никогда прежде и никогда после, хотя Александр Иванович и прежде, и после всегда бывал при ней неотлучно? Наша государыня содеивала это совершенно бессознательно; господа врачи владеют средствами, им одним известными, в каплях и порошках, которые заставляют человека делать то, что угодно господину врачу.
Алексей Григорьевич был истый хохол, верил в таинственное влияние различных трав и зелий на человека и потому объяснения вице-канцлера нашел совершенно удовлетворительными, хотя и не высказал этого.
В чувстве благодарности за предупреждение и он, со своей стороны, сообщил вице-канцлеру, что задуманный Алексеем Петровичем проект сватовства за великого князя Марианны Саксонской, дочери польского короля Августа III, не мог осуществиться вследствие интриг Лестока и Блюммера, подкупленных Мардефельдом, и некоторые другие сведения, весьма существенные и важные для господина вице-канцлера, за которые тот тоже был очень благодарен, хотя тоже не обнаружил никакого удовольствия.
Борьба между лейб-медиком и вице-канцлером завязалась упорная и беспощадная, с одинаковыми силами противников.
Если Лесток имел крупный шанс в благодарности императрицы, в укоренившемся расположении к нему в продолжение почти всей ее жизни, в расположении, доходившем почти до чувства необходимости иметь его всегда подле себя как медика и как преданного друга, то, с другой стороны, и вице-канцлер тоже имел веский шанс в знании всех целей, всех средств противников посредством чтения шифрованных депеш и из рассказов приближенных, а следовательно, имел полную возможность вовремя отпарировать каждый удар.
А между тем вечер продолжался своим обыкновенным ходом, со своими обычными интригами, танцами и беззаботным весельем.
Государыня, считая себя выполнившею свой долг назначением нескольких скучных часов в неделю для выслушивания докладов министров, беззаботно отдавалась жажде наслаждения. Она не пропускала ни одного танца, выбирая себе кавалерами, после официального танца с Мардефельдом, только лиц, с которыми ей было приятно. Избыток жизни и страстности сказывался в каждом грациозном движении ее красивого, блещущего здоровьем организма.
Перед концом вечера Мавра Егоровна выбрала удобный момент познакомиться с заинтересовавшим государыню симпатичным офицером. Государыня, проходя в это время случайно мимо, остановилась и милостиво вмешалась в разговор.
– Вам скучно, вы весь вечер не танцевали, и мне, как доброй хозяйке, это неприятно. На следующий танец я сама вас приглашаю быть моим кавалером, – обратилась она к нему с ласкающей улыбкой.
Скоро начался этот роковой для молодого человека танец, в котором он вдруг очутился баловнем судьбы, осыпанным всеми дарами счастья. Государыня казалась очень оживленной, более оживленной, чем во все прежние танцы, и это не укрылось от зорких глаз, следивших за каждым ее движением.
– Видишь? – спросил Александр Иванович Шувалов брата Петра Ивановича.
– Вижу, – отвечал тот.
– Кто он такой?
– Мой адъютант и, сколько я понимаю, человек опасный, честолюбивый.
На лице Александра Ивановича выразилась глубокая, непритворная печаль.
– Эх, рохля, рохля, давалось счастье, не сумел взять, так и пеняй на себя! – говорил Петр Иванович брату. – Не ты, так другой поумней будет и сядет на шею… От этого-то, пожалуй, избавиться нетрудно…
– Нетрудно? Да посмотри только, как она с ним говорит!
– Да это что… ничего. Дам ему завтра притираньица для сохранения цвета лица… А что потом-то будет? Не этот, так другой… Знаешь что, брат, – предложил вполголоса Петр Иванович, – выпишем-ка племяша Ивана Ивановича. На мой взгляд, он будет покрасивей этого, а между тем все-таки человек свой…
– Как хочешь! – глухо отозвался Александр Иванович.
Блеснуло полное счастье для юного адъютанта и исчезло, как молния.
Через несколько дней он летел домой в деревню закутанный и обвязанный, с лицом, изрытым язвами и покрытым багровыми пятнами. И прислушивается он к звону колокольчика, в дребезжащем звоне которого так и отчеканиваются слова Петра Ивановича, с улыбкою говорившего ему на прощание: «Ну, батенька, извини, обмишулился скляницами… Поезжай домой да вылечись».
Где же во весь вечер был любимый лейб-медик граф Лесток?
Он, по обыкновению, играл в карты в отдельной комнате, проигрывал, выигрывал и в конце концов все-таки проигрался. До танцев ему было мало дела, наблюдать не стоило – он чувствовал свою силу.
XII
К Лопухинским палатам в Петербурге подходили мужчина и женщина, закутанные в дорогие меха от сорокаградусного мороза и сильного северного ветра, которыми отличались первые январские дни 1743 года. Подойдя к подъезду, женщина приостановилась и спросила товарища:
– Петя, войдешь к сестре?
– Нет, мама, у меня теперь спешное дело, – отозвался тот, отворачивая лицо от ветра и сильно переступая ногами, начинавшими зябнуть, несмотря на ходьбу.
Мужчина пошел дальше, но, не успев пройти несколько шагов, обернулся и крикнул матери:
– Передайте сестре, что в этом году будет смена караульного офицера в Соликамске!
Женщина что-то проворчала, а потом, подойдя к двери, стукнула в нее медным молотком, висевшим тут же на медной цепочке. На этот стук, глухо раздавшийся в широких сенях, послышались торопливые шаги, а потом скрип ключей.
– Ах, матушка-барыня, Матрена Ивановна, изволили пожаловать! – приветствовал, отвешивая низкие поклоны, седой камердинер, широко растворяя сенные двери и почтительно давая дорогу.
– Здорова Наташа, Карпыч? – спросила Матрена Ивановна, не отвечая на поклоны и торопясь войти в теплые комнаты.
– Как же-с, матушка-барыня, слава богу-с.
– Где она, в своей комнате?
– Точно так-с, матушка-барыня, обнаковенно в своей каморе изволят пребывать-с. Мы теперь словно в заточении каком!
Матрена Ивановна проворно скинула шубу, развязала платок, закутывавший голову, и пошла через всю анфиладу комнат в будуар дочери.
Это была мать Натальи Федоровны Лопухиной, знаменитая Матрена Ивановна Балк.
Ей было в это время лет шестьдесят, но такого серьезного возраста никак нельзя было дать тонким чертам, сохранявшим следы прежней красоты. Необыкновенная привлекательность и обольстительная красота передавались наследственно в семействе Монсов де ла Круа, состоявшем во время переезда Монсов из Риги в Москву из старика отца, золотых дел мастера и искателя счастья, двух дочерей – сестер Анны и Матрены и брата их Виллима. От красавицы Матрены Ивановны наследовала очаровательную красоту Наталья Федоровна, передавшая ее потом по наследству дочери своей Настеньке.
Когда проходила Матрена Ивановна по зале, из коридора внутренних комнат выбежал мальчик лет десяти, кудрявенький, нежный, розовый, с голубенькими глазками. Мальчик скачками подбежал к старушке, подпрыгнул и, обвив обеими ручонками наклонившуюся к нему шею, зацеловал все лицо бабушки.
– Экой ты шалун, Степа! – журила бабушка своего любимца внука, младшего сына Натальи Федоровны, целуя его высокенький лобик. – Совсем сбил меня с ног!
А внук между тем расправлялся по-своему и, завладев объемистым ридикюлем бабушки, вытаскивал оттуда в подол своей рубашонки обычные гостинцы в сластях и игрушках.
– Бабуся, а бабуся! Больше у тебя ничего нет? – лепетал мальчик, когда в ридикюле остались только платок да начатый чулок со спицами.
– Ничего, плутишка, ничего. – И бабушка намеревалась было взять внука за руку и повести с собою, но он ловко увернулся и убежал к сестрам делиться гостинцами.
– Спасибо, мама, что навестила, – говорила Наталья Федоровна, крепко целуя руки у вошедшей к ней матери и усаживая ее на любимое покойное кресло, которое та почти всегда занимала в будуаре дочери.
– Соскучилась, милая, по тебе, не побоялась и мороза, – отвечала мать, с любовью гладя волосы дочери и целуя в лоб, – хоть и не стоишь ты этого.
Мать и дочь горячо любили друг друга, делили между собою радость и горе, только последним приходилось делиться чаще.
– Недовольна я тобой, девочка, очень недовольна, – продолжала Матрена Ивановна.
– Чем, мама?
– Блажишь.
– Как блажишь? – переспросила дочь.
– Да так. Разве можно так жить матери, у которой на руках семья? Разве тебе не должно устроить приличные партии дочерям?
– Настенька пользуется удовольствиями: я нарочно отправила ее в Москву к Анне Гавриловне, – оправдывалась Наталья Федоровна.
– Анна Гавриловна любит тебя, не спорю, но все-таки она не мать. Ко двору ты не ездишь, и смотрят на тебя как на опальную… Кто ж женится на дочери опальной?
– Да разве мы, мама, не опальные?
– Какие вы опальные, с чего ты взяла? Что муж твой и сын уволены, так ты знаешь, каков характер у мужа! Да все бы это ничего: могла бы ты их поставить.
– Я? – удивилась Наталья Федоровна. – Что ты, мама! Меня государыня никогда не любила.
– Знаю, девочка, все знаю, – Матрена Ивановна, лаская, часто называла свою дочь девочкой, – и все это ты могла бы поправить. Тебе государыня завидовала… Конечно, ей неприятно было видеть, что ты красивее ее, а ты бы так поступала, чтоб не возбуждать ревности, заставить полюбить тебя и забыть о твоей красоте. И это тебе было бы нетрудно. Разве не Елизавета назначила тебя своей статс-дамой? А бывала ли ты при дворе?
– Что ж, что назначила, а, бывало, у самой такое сердитое лицо, как я покажусь при дворе!
– Сколько раз ты бывала-то при дворе? Всего один раз! Эх, Наташа, Наташа!
– Не могу, мама! Не могу я себя приневолить, не могу притворяться веселой, когда все сердце изныло, когда противно смотреть на людей, на светлый день.
– Полно вздор городить. Пересиль, потом и сама будешь рада. Не один на свете твой Рейнгольд… Посмотри на себя, на что ты стала похожа, – краше в гроб кладут! Ну стоит ли!
– Мама, да что ж мне делать, если я люблю его? – с каким-то отчаянием высказалась Наталья Федоровна.
Матрена Ивановна пожала плечами, досадливо повела головой и замолчала, но не в натуре ее было отказываться от взятого намерения… Через несколько минут она снова начала:
– Рейнгольду твоему, говорят, в Соликамске хорошо, живет у Строгановых, а те люди добрые, гостеприимные. Давно, думаю, забыл тебя!
– Мама, в ссылке друзей не забывают.
– Много таких друзей у Рейнгольда и здесь найдется, – сквозь зубы проворчала Матрена Ивановна.
– Неправда, – чуть не плача, возражала Натальи Федоровна, – меня он одну любил. Перестань, мама, сама ты не испытала и не понимаешь меня. У меня и так горя довольно!
– Ты думаешь, у меня горя не было и я не могу понять тебя? Не дай бог тебе, Наташа, испытать то, что я вынесла!
– Милочка моя, хорошая моя мама, расскажи! – пристала Наталья Федоровна, желая отвлечь мать от воркотни. – Я так люблю, когда ты рассказываешь.
Матрена Ивановна не заставила долго себя упрашивать, она и сама любила вспоминать о прошлом. Вынув платок из ридикюля и защипнув пальчиками из маленькой золотой раковинки щепотку французского табака, она задумалась и провела рукой по своему высокому белому лбу, еще не изрытому морщинами.
– Да, милая моя, горе мое было немалое, не твое, да и люди тогда были не мелкие, не нынешние. Все радости мои и горести родились от одного человека, но зато этот человек – великан из железа и воли. Помнишь, Наташа, Петра?
– Неясно, мама; помню только, как он бывал у нас в Москве до моей свадьбы, – я его еще так боялась и всегда от него бегала, когда он приходил; а потом, когда меня по шестнадцатому году выдали замуж за Степана Васильевича, мы почти и не живали в столице. По смерти уже царя муж вышел из морской службы и поступил камергером.
– Не ты одна боялась его, Наташа, боялись его все, боялись крепкие и закаленные мужчины, а этот великан, эта необъятная сила, любил нас, все наше семейство Монсов, горячо любил… – Говорила Матрена Ивановна тихо, почти шепотом, как будто каждое слово будило в ее душе прежние острые впечатления. – Только мы платили ему черной неблагодарностью. Теперь, когда прошло столько лет, когда нет возврата к прошлому, я поняла его, и мне больно…
Матрена Ивановна снова приостановилась, припоминая ряд глубоких сцен, оставивших по себе следы на всю ее жизнь.
При одном воспоминании этих сцен и теперь еще лицо ее бледнело и дрожали нервы.
– Познакомился с нами царь не помню у каких-то наших немецких знакомых на Кукуе. Мы были в гостях обе: тетка твоя Анна да я. Как теперь вот, вижу его при первой нашей встрече. Испугались мы обе, но я росла разбитнее, много смелее сестры и бойко отвечала ему, когда он обращался к нам, а Аннушка ни слова не сказала. Сестра была красивее меня, только такая худенькая, бледненькая и слабенькая. Впрочем, мне было и легче, на меня он смотрел приветливо, весело улыбался и говорил ласково, а с сестры не спускал глаз, из которых точно искры блестели. Воротились мы домой, сестра растерянная, словно потеряла что, и все молчала.
На другой день к нам нежданно-негаданно пришел сам царь; мы так и обмерли. «Шел мимо, – говорит, – да увидел в окне своих вчерашних знакомых, так и зашел понаведаться». Просидел он у нас с час, увидел тут брата нашего, Виллима, обласкал его, назвал своим генеральс-адъютантом и обещал об нем позаботиться. Разговорились и мы; Аннушка то бледнела, то краснела, но все-таки сказала несколько слов. С тех пор царь нас стал навещать все чаще и чаще. Аннушка поободрилась немного, начала разговаривать, только бояться его никогда не переставала, до самой своей смерти. Государь полюбил Аннушку крепко, так крепко, как он уже никогда потом никого не любил. И если бы Аннушка захотела, так быть бы императрицею ей. Прошло так несколько лет, царь все больше и больше привязывался к сестре, а через нее и я с братом стали ему дороги. Меня он выдал замуж за Федора Николаевича Балка, брата Виллима взял к себе, обучал наукам, немало денег при всей своей бережливости на нас тратил, дом подарил. И зажили бы мы, может быть, самыми счастливыми – да не судьба. Видно, на роду Монсов было определено быть близкими к короне, а кончать плахой.
Сестра не могла полюбить царя, все боялась его, а полюбила другого. Стал захаживать к нам в дом, сначала только в царской свите, а потом и один, саксонский посланник Кенигсек, добрый такой, ласковый, да и красивый же! Полюбил он Аннушку, и она его тоже. Страшно испугалась я тогда. Думала: что делать? Ну как царь узнает, что с нами будет? Страшно, да и совестно – он так верит Аннушке, а она его обманывает. Приходило в голову и то: не открыть ли царю глаза, не лучше ли самим покаяться, предупредить, а то узнает стороной – убьет… Думала и раздумывала: пожалуй, не поверит. Да и боялась, чтоб не казнил. С другой стороны, и сестру было жаль – чем же она виновата, полюбив Кенигсека, а не царя? И пришлось мне поневоле помогать сестре и обманывать государя. Бывало, сторожишь свидания и караулишь, как бы царь врасплох не захватил влюбленных.
Так прошел год, мы успокоились, как вдруг страшное несчастье обрушилось с той стороны, откуда не ждали. Был государь в Петербурге на осмотре крепости с Кенигсеком и свитой. Проходя по какому-то мостику, Кенигсек поскользнулся и упал в воду. Долго его искали и наконец вытащили, но уже мертвым. Государь сам хлопотал, приводил его в чувство, расстегнул мундир и в боковом кармане нашел портрет Аннушки вместе с ее письмами к Кенигсеку.
Что было тогда с царем – передать невозможно, и если б Аннушка была тогда с ним в Петербурге, то он убил бы ее. В первом порыве он приказал заключить Аннушку и меня под арест, в котором мы и пробыли до тех пор, пока он не успокоился. Когда раздражение стихло, царь призвал Аннушку и сказал ей: «Забываю все; я сам имею слабости и сам виноват, что доверился. Не хочу продолжать связь, не хочу унижать себя и сумею побороть страсть, но видеть тебя никогда не буду… Впрочем, нуждаться ты ни в чем не будешь».
И правда, он позаботился о ней, выдал ее замуж за Кейзерлинга, человека хорошего, только прожила она недолго: стаяла от потери любимого человека, а может быть, и от потери любви царя – кто знает наше сердце?
Простил тогда царь и меня, только не хотел видеть, и мы уехали с мужем в Дерпт, куда Федор Николаевич был назначен комендантом. В Дерпте мы прожили года четыре, а потом его перевели в Эльбинг. Несколько лет, боясь гнева царя, я не показывалась ему на глаза, между тем в это время он все больше привязывался к Катерине Алексеевне. Нередко наезжал к нам в Эльбинг царь или один, или с Катериной Алексеевной, которую иногда оставлял у нас погостить на довольно продолжительное время.
Пользуясь его отсутствием, я постаралась сойтись с Катериной Алексеевной и успела ей понравиться до того, что раз по приезде мужа она стала упрашивать его принять меня.
Государь милостиво согласился, увидел меня и обошелся по-прежнему ласково. Тем временем и брат мой Виллим входил уже в большую милость к царю и к Катерине Алексеевне, с которою царь потом вскоре и повенчался. По милости брата мужа моего перевели в столицу.
Виллим шел в гору; полюбила его государыня и назначила к себе камер-юнкером. Не знаю, помнишь ли ты, Наташа, какой он был красавец! Все мы, Монсы, были хороши, но всех красивее Виллим, и что за душа была у него!
Скоро все догадались, что вся сила в Виллиме. Государь стал по временам хилеть, болеть; могучая, не знавшая прежде устали сила его стала надламливаться, и он мало-помалу постепенно подчинялся влиянию жены, а та делала все, что желал Виллим. Стали нам все кланяться, в нас заискивать, расположения искать и через нас выхлопатывать у государя милости, все нам льстили и нас дарили.
Не подумай, что брат любил из корысти, – нет, он всей душой привязался к государыне и невольно, точно так же, как прежде сестра Аннушка, отравил счастье царя. По дружбе к брату и я должна была участвовать в измене…
Царь не подозревал связи брата с Катериной Алексеевной – так скрытно хоронились они; раз только Елизавета Петровна, тогда еще ребенок, прибегает к отцу и болтает, как смутилась мать с Виллимом, когда она невзначай вбежала в комнату матери, но царь на детскую болтовню не обратил никакого внимания. Однако ж схоронились от грозного царя, но не успели схорониться от завистливого глаза.
Узнал как-то про связь Ягужинский Павел Иванович и написал анонимное письмо к государю. В прежнее бы время государь бросил бы письмо, не читая, но теперь с годами он стал подозрителен, призвал меня к себе, допрашивал и велел следить за братом и своей женой. Я старалась его успокоить, но, видно, он мне не поверил и захотел лично убедиться.
Вскоре, не помню, на другой или на третий день, кажется десятого ноября, государь под предлогом осмотра крепостных работ поехал в Шлиссельбург, но с дороги воротился и тихонько вошел в комнаты Катерины Алексеевны.
Я была около двери, но предупредить не успела: растерялась, да и он так быстро прошел, что и звука подать было невозможно. Царь нашел Виллима у государыни…
Ах, Наташа, нелегко переживаются такие минуты! Много потом я изведала тяжкого, но этой минуты мне никогда не забыть. Умирать буду, и тогда перед глазами все будет мерещиться грозное лицо, бледное, как у мертвеца, и страшно искаженное. У государя с молодости всегда при каждом волнении нервные подергивания пробегали по лицу, а тут уже не судороги были, а какие-то страшные, неестественные корчи.
В первую минуту государь точно окаменел и только рукой показал брату на дверь.
Виллим убежал, я за ним, но в дверях остановилась и стала слушать.
Ожидала, разразится гроза – ничуть. Царь, видно, говорить не мог, мне слышались только глухие звуки, будто хрипение.
Долго оставаться у двери я побоялась и убежала к себе в комнаты, с испуга хватаясь за все вещи, словно куда собиралась бежать. Что говорил в этот вечер государь с Катериной Алексеевной – не знаю, государыня мне никогда не рассказывала, да и я не решалась расспрашивать.
Виллима и меня взяли и отвезли сначала в казематы, в разные каморки, а потом перевезли в Зимний дворец, где и содержали во время суда, по окончании которого снова перевезли в казематы. Допрашивал нас сам царь; что показывал Виллим – не знаю, но я откровенно повинилась во всем, да и как было скрывать, когда все сам видел.
Допросы продолжались недолго, всего каких-нибудь дней пять. Говорили, что во время допросов царя с Виллимом сделался паралич, – я верю этому. При первом допросе меня государь был суров, а потом необыкновенно мягок – и его железную натуру сломило горе! «Рассказывай, – сказал он мне как-то даже ласково, – какие ты, Матрена, брала взятки, с кого и за что?» – «Какие взятки? – спрашиваю и я его. – Всем я делала послуги, кто просил меня, почему ж не сделать добро? Многие потом меня и дарили, – даже указала и на кого, – да разве это взятки?» – «Ничего, – отвечает, – жена моя хоть и виновна, а все-таки она жена моя и люблю я ее…» Так и судили нас за взятки.
В последних допросах, заметив, как государь переменился и ослабел, я ободрилась и стала умолять его о прощении, высказывая, что если и виновна в потворстве, так разве могла поступить иначе? Потом я напомнила ему прежнее, про сестру Аннушку… И как бы ты думала, Наташа, этот железный человек зарыдал, как ребенок, и как страшно было слышать его рыдания!
«Совсем простить тебя, Матренушка, – сказал он, вдоволь нарыдавшись и крепко поцеловав меня, – не могу, не в моей власти, а облегчить постараюсь».
И действительно, облегчение было: вместо десяти ударов кнутом меня наказали пятью. Потом мне передали, что и палач-то меня бил не как других преступников, а слегка, будто только для виду, сама же я ничего не помню. Мне кажется, если б меня резали на куски, так я и тогда бы ничего не почувствовала.
Очнулась я уже дорогой в Тобольск, в пошевнях, в нагольном тулупе, рядом с каким-то солдатом. Очнулась, верно, от холода да от нырков по разбитой дороге.
Ехали мы каким-то лесом, а мне все казалось, что это не лес, не деревья, а словно какие великаны, чудовища, будто тянутся они ко мне длинными лапами, хотят схватить и унести. Я снова лишалась чувств и снова пробуждалась. А ты, Наташа, говоришь, что я не испытала…
Наталья Федоровна бросилась к матери, и слезы их смешались. Матрена Ивановна вынула из ридикюля платок, отерла им слезы с лица дочери и потом, улыбаясь, продолжала:
– Досказывать теперь несчастную историю недолго. Брата казнили, голову отсекли и воткнули эту голову на шесте – пусть любуется добрый народ! Рассказывали мне после, что будто государь возил Катерину Алексеевну нарочно мимо шеста с головой и что будто бы Катерина Алексеевна холодно взглянула на красивую голову и не изменилась даже в лице. Может быть, это и правда. У государыни сердце было твердое, а что государь вздумал бесчеловечно поступить, то я этому верю: с упадком сил он стал еще мстительнее.
Матрена Ивановна задумалась.
– Мама, тебя скоро воротили? – спросила Наталья Федоровна, любившая слушать рассказ матери, хоть и знавшая всю историю во всех подробностях.
– Не знаю, скоро ли, Наташа, в точности, все я была в забытьи; помню только, что воротили с дороги и до Тобольска не довезли. После нашей казни государь занемог; прихварывал он и прежде, да не подолгу; а тут уже, видно, крепость его совсем сломилась, и он слег, а через два месяца, в конце января, и душу свою богу отдал. Катерина Алексеевна обо мне вспомнила тотчас по вступлении на престол, воротила из ссылки, отдала назад все имущество, которое у нас конфисковали, немало еще одарила и, наконец, назначила меня своей статс-дамой. Прожили мы так года два до смерти государыни, и была я в наружном почете, но прежней дружбы между нами не было. Труп брата не сблизил, а стал между нами… После же смерти Катерины Алексеевны двор мне опротивел, и я совсем удалилась.
– Вот видишь, мама, а как же мне советуешь бывать при дворе: мне тоже все опротивело.
– Ты еще молода, Наташа, у тебя дети малые, тебе надо их вывести, с меня нельзя брать пример.
Вошла камеристка и доложила о приезде маркиза де Ботта.
– Проси! – приказала Наталья Федоровна и обратилась к матери: – Мама, выйдем к нему, он, верно, приехал проститься.
В гостиной дамы увидели бывшего австрийского посланника маркиза де Ботту, одного из выдающихся государственных людей Австрии, издавна славившейся дипломатическими деятелями. Умный, образованный, тонкий, умевший вести дело с таким дальновидным оракулом, каким был знаменитый Андрей Иванович Остерман, он как в царствование Анны Иоанновны, так и при правительнице Анне Леопольдовне до падения Остермана умел постоянно при всех встречающихся колебаниях и неудовольствиях поддерживать дружеские отношения между Россией и Австрией.
– На днях уезжаю совсем отсюда, милейшая моя Наталья Федоровна, и приехал проститься с вами, – говорил маркиз, целуя руки у дам.
– Ваш преемник приехал, маркиз? – спросила Матрена Ивановна.
– Его я ожидаю каждую минуту, но если он и не приедет сегодня или завтра, – во всяком случае я должен уехать: мое положение здесь становится настолько оскорбительным для достоинства моего государства, что даже выносить его я не считаю себя вправе. Да притом же мне необходимо быть в Берлине, куда я назначен послом.
– С вашим отъездом, маркиз, – взволнованно заговорила Наталья Федоровна, – наш интимный кружок совсем исчезнет.
– Но, поверьте, милая Наталья Федоровна, он никогда не исчезнет из моего сердца. Позвольте мне поблагодарить вас за постоянное радушие и доброту, которыми я пользовался в вашем доме, а вместе с тем и просить, что если когда-нибудь судьба позволит вам видеть бывшую правительницу, то передайте ей мои личные глубокие, искренние симпатии.
– Может быть, вы с ней сами когда-нибудь увидитесь? Может быть, вы потом воротитесь к нам? – с живостью спросила Наталья Федоровна дипломата.
Дипломат сомнительно покачал головой и тихо прибавил:
– Конечно, для России, как я заметил, невероятных вещей не существует… Но во всяком случае, если возможно, передайте дорогой принцессе, что я всегда лично останусь ее самым преданнейшим слугою, и если представится случай быть ей полезным, то я не упущу этого случая. Строгие меры против Брауншвейгской фамилии предпринимаются здесь отчасти по внушениям берлинского двора. Я был бы очень счастлив, если б мне удалось расположить берлинский кабинет к более теплому отношению к несчастной принцессе и тем сколько-нибудь облегчить ее тяжелое положение, – говорил с несвойственным увлечением всегда сдержанный дипломат.
– Видели вы, маркиз, Анну Гавриловну? – спросила Матрена Ивановна, желая переменить разговор.
– Сейчас от Бестужевых. Михаила Петровича не видел – о чем я, конечно, не жалею, но с милой Анной Гавриловной простился. Бедная, тоскует о своем брате, спрашивала меня, нет ли какой-нибудь оказии для передачи весточки бедному Михаиле Гавриловичу, но, к сожалению, как я слышал случайно, в нынешнем году сменяется караульный офицер только в Соликамске, – проговорил маркиз, значительно взглянув на Наталью Федоровну.
– Не знаете, кто из офицеров едет? – с оживившимся личиком спросила Наталья Федоровна.
– Право, положительно не знаю, а слышал, как будто какой-то Бергер.
Матрена Ивановна пожала плечами, как она всегда делала, когда бывала чем недовольна, и сердито нюхнула более значительную щепотку табаку.
Маркиз, поговорив еще несколько минут, уехал.
– Скажи, пожалуйста, – с раздражением начала говорить Матрена Ивановна по отъезде гостя, – неужели ты заведешь какие-нибудь сношения с Левенвольдом?
– Да, мама, я попрошу этого офицера передать от меня Рейнгольду…
– Да знаешь ли ты, глупая, что ты этим сгубишь себя и всю твою семью? Знаешь ли ты, что от ссыльного отрекаются его самые близкие: отец, мать, братья?
– Пусть отрекаются отец и мать, а я не отрекусь! – с твердостью закончила Наталья Федоровна.
Через несколько минут в будуар позван был Иван Степанович, и Наталья Федоровна дала ему поручение отыскать некоего офицера Бергера и познакомиться с ним для передачи поручения к Рейнгольду Левенвольду.
XIII
Словно черная кошка перебежала дорогу любимому лейб-медику государыни графу Арману Лестоку, словно чьи-то твердые руки невидимо держат его, незаметно вяжут, чей-то любопытный взгляд забирается к нему в голову и вытаскивает оттуда на свет божий самые сокровенные мысли, которые он доверял только или преданным друзьям, на скромность которых он мог положиться, или таинственным шифрованным депешам, недоступным для непосвященного.
Инстинктивно он начинает чувствовать под собою не прежнюю твердую почву, а топкую трясину, понемногу, тихо, почти незаметно забирающую его в себя. Граф Арман начинает соображать, обсуждать, чего прежде с ним не случалось, но как ни думал он, а положительного ответа не находил. Государыня порою по-прежнему к нему ласкова, но только порою… впрочем, непостоянство и непоследовательность императрицы могли зависеть от различных психических сторон ее внутреннего мира; порою же в отношении к нему государыни стали проглядывать сдержанность и холодность, в словах ее иногда проскальзывали его слова, сказанные верным людям или в шифрованных депешах, но которые государыня никаким образом не могла знать. Случайность, объяснял он и успокаивался, но ненадолго. Как человек наблюдательный и сметливый, несмотря на французскую болтливость и легкость, он чувствовал по некоторым признакам работу врага, но никак не мог уловить основы и нитей этой работы. Почти бессознательно мысль его останавливалась на вице-канцлере, стремления которого как будто стали все резче и резче расходиться с его взглядами, но никаких доказательств, даже никаких указаний не виделось в осторожных действиях Алексея Петровича, и он ограничивался только дискредитированием неприятного человека в глазах государыни или, вернее, в глазах женщины. Едкими остротами и насмешками осыпал он в разговорах с государынею Алексея Петровича, до крайности комичною выставлялась наружность вице-канцлера; государыня, казалось, от души смеялась, но как будто в самом ее смехе, знакомом ему до тонкости, стали проглядывать новые нотки, как будто в самой Елизавете Петровне совершалось раздвоение государыни от женщины, и раздвоение это совершалось без участия его, доверенного лейб-медика.
Поневоле пришлось графу Арману раздумывать о том, как бы упрочить под собой базис, сделать себя для государыни необходимым, стать единственной ее опорою, спасителем и охранителем.
Граф знал, что искусное пользование ролью спасителя давало полнейшую возможность поработить себе человека твердого, а не только слабую женщину, овладеть чувствами, умом, желаниями и самоопределением воли.
Относительно же средств достижения, то легкость этих средств испытал уже граф, выпустив в свет историю мнимого заговора Турчанинова; остается только повторить, с приличными, разумеется, видоизменениями. И тем более это казалось возможным и легким, что бывшее правительство, этот постоянный кошмар, все еще оставалось близко, обладало еще возможностью если не явных, то тайных сношений с людьми, ему преданными, а что были такие преданные люди – это лично лейб-медику очень хорошо было известно.
Остановившись на этой мысли, граф Лесток занялся сочинением различных деталей.
Первыми вопросами представились: где искать заговорщиков и кого выбрать главным сотрудником? Для заговорщиков контингент был всегда готов – контингент придворных служителей, лакеев и камер-лакеев, которые, как знал Лесток, действительно любили добрую, нетребовательную Анну Леопольдовну; что же касается до сотрудничества, то виднее, способнее и достойнее адъютанта Грюнштейна отыскать было трудно.
Грюнштейн, сын саксонского крещеного еврея, в юношеских годах переехал в Россию искать счастья, то есть наживы.
Счастье улыбнулось восемнадцатилетнему авантюристу, судьба стала наделять успехами каждое его сначала мелочное, а потом и более крупное промышленное предприятие. Но чем более наполнялись его карманы, чем солиднее становились гешефты, тем ненасытнее становилась алчность, тем шире росла его предприимчивость. Заручившись солидным капиталом, он уже не довольствовался скромными местными доходами, а задумал дело капитальное, широкое. Собрав все свои наличные деньги, он отправился с ними на Восток, в Персию, где и занялся своеобразной промышленностью.
Через десять лет, уже сделавшись крупным капиталистом, Грюнштейн отправился обратно в Россию наслаждаться плодами своих трудов, но на этот раз счастье, до сих пор улыбавшееся, вдруг ему изменило. На дороге из Астрахани, в степях, на него напали двое астраханских купцов, знавших об его больших деньгах и драгоценных товарах, ограбили, отняли все до последней копейки и оставили, как голодного волка, рыскать по степи одиноким. Беда этим не кончилась: шайка бродячих татар нашла его в степи и захватила с собой. И пришлось авантюристу, бывшему богачу, познакомиться с урочной подневольной работой и получать чувствительные телесные поощрения. Наконец после немалых тяжелых испытаний ему удалось бежать и благополучно достигнуть до Москвы. Отсюда он, поосмотревшись и отдохнув, начал судебное преследование ограбивших его астраханских купцов, но силы его оказались слишком ничтожными перед Фемидой того времени; несмотря на все хлопоты обедневшего Грюнштейна, богатые купцы оставались совершенно неповинными. Наконец под гнетом тяжелой нужды он принужден был поступить рядовым в Преображенский полк. Вслед за переворотом 25 ноября Грюнштейн кроме назначения адъютантом, – что вполне соответствовало его еврейской ловкости и изобретательности, – кроме богатой денежной награды получил вотчину почти с тысячью душами крестьян. Дела Грюнштейна поднялись, а вместе поднялся и его пронырливый дух с еврейской заносчивостью, где она могла проявиться безнаказанно, с невыносимой надменностью к низшим и рабской угодливостью к высшим. Товарищи лейб-кампанцы его не любили, но на это он не обращал никакого внимания, только отмечая в памяти тех, которые не оказывали ему должного почтения.
Грюнштейн представлял собою резкий тип того вида авантюристов, которые нахлынули к нам в начале XVIII века, обогащались благодаря русской простоте и нахально глумились над ней.
К этому-то Грюнштейну, к его находчивости, и обратился в наступившие трудные минуты граф Арман.
– Верно, ты знаешь образ мыслей всех придворных служителей? – спросил он явившегося по его приказанию Грюнштейна.
– А как же мне не знать, ваше сиятельство, когда я читаю в душах их, как у себя на ладони? – отвечал, нисколько не стесняясь лганьем, еврей-адъютант.
– Я так и думал. Не замечал ли ты чего-нибудь сомнительного или подозрительного в их поведении? По моему мнению, они все преданы этой принцессе Анне Леопольдовне, которая их набаловала по своей глупости.
– Совершенно преданы, ваше сиятельство, до конца ногтей преданы, – вторил Грюнштейн, все еще не догадываясь, чего желает могущественный граф, но, во всяком случае, смело поддерживая его мнение.
– Что именно ты знаешь? Что слышал? Какие у них разговоры? – продолжал спрашивать граф.
Как ни был находчив Грюнштейн, но вопрос поставил его в тупик; вдруг он никак не мог придумать подходящей истории, а поэтому и нашел более удобным уклониться от ответа, подставив вместо себя жену:
– Я так занят службой, милостивый граф, что не имею свободного времени долго разговаривать с ними, но вот жена моя знает лучше, и если вы позволите, то она вам лично передаст.
– Хорошо, пришлите ее ко мне, а мне теперь только скажите: нет ли, как я подозреваю, недовольных в самых приближенных охранителях императрицы, в ее лейб-кампанцах?
Грюнштейн задумался было перед той ответственностью, какую может понести от своих товарищей, если откроется его донос, но тотчас же и ободрился тем, что, во-первых, никто об этом не может узнать, а во-вторых, тем, что в этом обстоятельстве представился лучший способ избавиться от вредных для себя лиц. И вот по его рассказам оказалось, что весьма многие лейб-кампанцы недовольны, ропщут на настоящее положение и что-то замышляют.
Граф Арман от удовольствия прищелкнул пальцами:
– О подробностях мы еще переговорим с тобой, почтеннейший, а теперь пришли ко мне свою жену, которая, верно, слышала разговоры лейб-кампанцев.
Через час приехала в дом Лестока, находившийся недалеко от Пяти Углов, где ныне пролегает Лештуков переулок, названный так, вероятно, в честь лейб-медика, сама супруга Грюнштейн, женщина средних лет, еще недурная собою, совершенно еврейского типа. Где и когда женился на ней предприимчивый авантюрист – никто не знал. Одни говорили, что будто она из богатого еврейского дома, бежала тихонько от родителей, которые поэтому лишили ее не только родительского благословения, навеки нерушимого, но и всякой материальной помощи; другие, напротив, рассказывали, что она сначала ходила по рукам знатных особ, а потом по милости их щедрот завела на свой счет игорный дом с отдельным секретным помещением, в котором и познакомился с нею Грюнштейн. Как бы то ни было, но почтенная дама бойкостью, развязностью и сообразительностью даже превосходила своего мужа. Она все видела, все знала, имела обширные знакомства и умела извлекать из этих знакомств всевозможную пользу.
С двух слов супруга Грюнштейна догадалась, чего желал граф, и вполне вошла во все его виды.
По ее рассказам, принявшим уже характер чистого доноса, все прежние придворные лакеи и камер-лакеи вздыхали о бывшей правительнице, милостивой государыне Анне Леопольдовне, и не прочь были содействовать к ее возвращению.
– Бездельники! Негодяи! – горячился с удовлетворительной естественностью граф. – От таких мерзавцев всего можно ожидать…
– Точно так, ваше сиятельство, это-то именно я и слышала в их разговорах промеж себя.
Затем из дальнейших переговоров обнаружилось, что некоторые из лейб-кампанцев, человек четырнадцать, высказывали крайнее неудовольствие на правительство, чернили всех знатных персон, а в особенности камергера Александра Ивановича Шувалова, лейб-медика Лестока и обер-шталмейстера Куракина, не ценивших будто бы их важных заслуг государству, и даже осмеливались осуждать безобразное поведение при дворе.
– Да это заговор, и заговор опасный! – решил не без удовольствия граф Арман.
– Заговор, ваше сиятельство, и каждый-то день они сочиняют этот заговор, ваша милость.
Таким образом составился донос о важном государственном заговоре, угрожавшем жизни государыни и некоторых первых сановников.
Чтобы придать этому заговору еще большее значение, а вместе с тем и из опасении обнаружения истины, граф Арман облек все дело таинственностью, рассказав о злых умыслах только государыне, Шувалову и Куракину, а прочим объяснив произведенные аресты лейб-кампанцев и придворных служителей незначительными будто бы проступками, ссорами, драками и неприличными выражениями. Наконец, чтоб лучше скрыть свое собственное участие, мнимых заговорщиков граф рассадил не по крепостным казематам, где они могли кому-нибудь да высказаться, а по подвалам Зимнего дворца, где они лишены были и света, и всякого сообщества.
Известно, что самым действенным средством для быстрого распространения какого-нибудь сведения служит сообщение этого сведения двум или трем, а иногда даже и одному специалисту в этом роде под видом тайны, по секрету и с просьбою не говорить никому.
Переданный на ухо секрет с поразительной быстротой пробегает тоже от уха к уху с многоразличными вариантами, прибавлениями, дополнениями, разъяснениями, и разрастается этот секрет, как снежный ком, до чудовищных размеров, до тех размеров, что, дойдя до первого автора, принимается им как нечто новое, ему совсем неизвестное.
Все придворные чины, не говоря уже о дамах, под страхом сделаться жертвою какой-то поголовной резни, проводили во дворце все ночи, прислушиваясь к каждому стуку.
Бедный животолюбивый князь Александр Борисович Куракин не только перестал совсем ночевать дома, а даже старался переменять каждый день место своего ночлега у светских приятелей. Какой был прекрасный случай выказать свое остроумие, с такой ядовитостью громившее несколько лет назад Артемия Петровича Волынского и других политических соперников, и этот случай пропал даром – остроумие Александра Борисовича оледенело. Во дворце у всех входов, во всех комнатах стояли часовые, которые получали прибавку к жалованью за ночные караулы, каждый по десяти рублей за каждый день.
Императрица не менее других разделяла этот страх, и, может быть, даже более.
Граф Арман знал впечатлительную природу Елизаветы Петровны, изучил ее и сумел обставить заговор самыми страшными картинами.
Не надеясь ни на кого, подозревая изменниками всех придворных служителей, государыня, естественно, подчинилась единственно бодрому человеку, графу Арману, которому, казалось, опасность придавала еще более энергии и самоуверенности.
– Мой добрый Лесток, – говорила Елизавета Петровна своей неизменной Мавре Егоровне, – как он хлопочет! Вот истинный друг, на которого могу положиться!
И Мавра Егоровна, получив должную инструкцию от своего мужа Петра Ивановича, а может быть, и по незнанию, не опровергала государыню.
Елизавета Петровна все ночи до полного рассвета проводила в обществе придворных и засыпала уже днем, когда пробудившаяся городская жизнь не допускала возможности тайных ночных предприятий. И нередко, среди одушевленных разговоров, которые из всех сил старались поддерживать окружающие, она вдруг умолкала, остановив неподвижный взгляд в пустом пространстве на невидимом для других предмете.
В таком постоянном нервном состоянии императрице было не до докладов.
Министры являлись и, безуспешно прождав долгие часы, уходили недопущенными, опять с теми же проектами.
А жизнь государства, как и жизнь каждого человека, шла все вперед, не останавливаясь, не откладывая вопросов до другого дня; накоплялись беспорядки, возникали смуты, общественный пульс колыхался неправильными ударами.
Следствие над преступными злодеями поручено было, конечно, единственному человеку, способному, не потерявшему головы, – Арману Лестоку, в помощь к которому назначили Александра Ивановича Шувалова как начальника Тайной канцелярии.
Лесток искусно повел дело, искусно до того, что никто из близких людей к государыне не подозревал его игры.
Небогатый умственными способностями и ослепленный страхом за императрицу, Александр Иванович менее всех мог обсудить хладнокровно истинное положение и более всех был склонен видеть и подозревать в каждой болтовне пьяного лакея или солдата серьезное покушение.
В подвалах Зимнего дома наскоро устроили пыточную, в которой несчастных поднимали на дыбу, секли кнутом, рвали в лоскутья тело и опаляли его огнем.
Несчастные под ударами винились в бывалых и небывалых винах, в оскорбительных словах о государыне, в безумных остротах насчет ее поведения и привычек, но никакие удары не могли выбить из них сознания в умысле на жизнь государыни, на низвержение ее правительства и возведения на его место Брауншвейгской фамилии. Все они каялись в симпатии к принцессе, в жалости к ней, даже в желании ее возвращения, но не было никакого проблеска мысли о возможности насильственного переворота.
Следствие протянулось на несколько месяцев – да и к чему было торопиться? Не скорое окончание, а бесконечное продолжение более было в интересах графа Армана.
Мало-помалу все стало приходить в прежний порядок; умы, освободившись от панического страха, стали успокаиваться и понемногу относиться к делу скептически; при разговорах о заговоре стали пробегать улыбки по оживленным лицам.
Обер-шталмейстер Александр Борисович опять стал ночевать дома, утопая в пуховой перине собственной постели, придворные собрания на всю ночь прекратились и начались обыкновенные занятия государыни с господами министрами.
С водворением спокойствия стала изменяться и роль графа Армана, что он и сам вскоре почувствовал. Правда, государыня обращалась с ним ласково, но временами, после доклада министров и в особенности после доклада Алексея Петровича Бестужева, в обращении ее с ним появлялись сдержанность и даже неудовольствие.
Граф Лесток начавшуюся перемену приписывал влиянию вице-канцлера и решился так или иначе покончить с ним. Два медведя в одной берлоге не уживаются.
XIV
Последние лучи заката играют золотом на вершинах деревьев, но внизу, в чаще дикого сада, в самом конце, где разделяются владения Лопухиных и Лопухинских дощатым забором из барочного леса с едва заметной калиткой посередине, уже совсем темно, там глубокие сумерки. Темно до того, что едва можно различить черты человека, прохаживающегося по природной аллее или, вернее, по широкой тропинке, взад и вперед вдоль забора мимо калитки. Прохаживается молодой Лопухин Иван Степанович. Иногда он останавливается, прислушивается, затаив дыхание, к стороне соседнего сада, где порою слышится шорох, но, видно, этот шорох нежеланный – шорох от птицы, запоздавшей на ночлег и зашелестевшей в сучках, или от какого-нибудь зверька, пробежавшего по своей надобности, не тот шорох, которого Иван Степанович ожидает с живым нетерпением. Затихнет шелест – и Иван Степанович снова зашагает на посту неровной поступью, сорвет с досады сучок, дерзко хлестнувший его по уху, и отбросит его в сторону, потом присядет на деревянной скамейке, сколоченной между двумя выбежавшими из ряда березками, и снова начинает отмеривать шаги.
Послышался шорох более явственный, слышно, будто захрустели сухие сучья под чьей-то осторожной и легкой ногой, едва слышно скрипнула калитка, и в ней показалась фигура девушки, Стени Лопухинской.
Прошел с лишком год, но в этот год не произошло никаких изменений в отношениях молодых людей. По-прежнему они виделись зимою реже в палатах Лопухиных, а летом чуть не каждый день в саду на обыкновенном месте у калитки. Но сами они много изменились. Иван Степанович, совершенно свободный от занятий, делил свою жизнь между бильярдными домами и свиданиями со Стеней, которую он любил по-прежнему; он пополнел за это время, от ночных оргий его лицо стало одутловато, манеры грубее и решительнее, в ласках более смелости, более требовательности, и если молодая девушка еще не погибла, то в этом она была обязана глубокой его любви, выросшей с детства, вместе с искренним к ней уважением. Стеня же, напротив, из здоровой, полной девушки сделалась болезненной и хрупкой. Правда, в последнюю зиму она вынесла тяжкую болезнь – воспаление легких от серьезной простуды, но не болезнь источила ее организм, сделала его восприимчивее, испортила характер, сделала его раздражительным, навела яркий ограниченный румянец на нежную, почти прозрачную кожу, не болезнь заставляла девушку то плакать по целым ночам, то испытывать жаркие волнения крови, не от болезни зажигались огоньком полуопущенные глаза. Девушка, видимо, боролась.
При входе Стени Иван Степанович, сидевший в ту минуту на скамейке, не поднял головы и, перед тем волновавшийся в смертельном ожидании, теперь не обратил на нее никакого внимания под влиянием того чувства, которое заставляет выказывать холодность к тому, что, в сущности, страстно желалось.
– Ваня, ты ждал меня? – тихо и ласково спросила девушка, кладя свою руку на его руку и заглядывая ему в лицо.
– Конечно, ждал… да тебе до этого мало нужды! – капризничал Иван Степанович, отворачивая лицо от глаз девушки.
– Не сердись же, милый мой, право, не виновата. С мамой работала, и времени выбрать было нельзя, – оправдывалась она, садясь около Ивана Степановича и наклонив головку к его плечу.
Глаза их встретились – и в долгом поцелуе забыты все неудовольствия, забыто все, забыт весь мир. Не замечали они, как все гуще и гуще спускались тени, глуше отзывалась хлопотливая жизнь, а на небе замерцали звезды, сначала одна, потом другая, третья, и наконец миллиарды искр засверкали из таинственной вышины; не почувствовали они, как после душного вечера их стала окутывать прохладная влажность северных приморских ночей. Жизнь заговорила в них тем языком, который понятен только молодости, в котором бьется струя живой силы, языком не в словах, а в огненных переливах крови, в страстном замирании.
– Стеня! Стеня! Где ты? – раздался голос Ариши по ту сторону калитки.
Очнулась Стеня, но не прежняя Стеня…
Она встала, оправилась, обвила снова и еще крепче шею Вани, ставшего ей еще дороже, прижалась к нему и тихо заплакала. Иван Степанович стыдливо опустил голову.
– Стеня! Стеня! – ближе и ближе раздавался голос матери.
Слышно было по хрустению сухого валежника, как Ариша пробиралась сквозь переплетенный кустарник; вот голос ее поравнялся с калиткой, замолк на минуту и потом стал удаляться по направлению к дому.
– Милый мой, ты не бросишь меня теперь… – прошептала Стеня и, горячо поцеловав Ивана Степановича, неслышно проскользнула в калитку.
По уходе Стени Иван Степанович пошел из сада к себе домой в самом приятном расположении духа. Его стыдливо опущенные глаза, перед тем избегавшие взгляда Стени, теперь засияли довольством удовлетворенного самолюбия, походка сделалась тверже, голова поднялась выше: видно было, что победа над Стеней, гордой Стеней, повысила его в собственных глазах. Но к чести Ивана Степановича, в душе своей он этой победе не давал значения только чувственного удовлетворения; напротив, он искренне любил девушку, высоко ценил ее, без зависти признавал ее ум, охотно подчинялся ее влиянию и теперь, точно так же как и прежде, твердо держался решения со временем поставить ее рядом с собой перед Богом и людьми. Его доброе, еще не развращенное сердце понимало великость жертвы любящей девушки и не позорило ее приуравнением к продающим свое тело, как это делается молодежью, погрязшею в разврате.
Думалось ему идти сейчас же к отцу рассказать ему все, вымолить согласие, но отец стоял всегда от него далеко, не приучил делиться с ним радостью и горем и как-то невольно заставлял бояться себя. Да и поймут ли отец и мать, не посмотрят ли на настоящий случай как на самый обыкновенный у богатого, знатного птенца и ни к чему не обязывающий? Откажутся ли они от своих убеждений, от своей плоти и крови?
«Нет, лучше приищу какого-нибудь попа и тихонько повенчаюсь», – решил он, выходя на широкий двор, обнесенный надворными службами.
Ивану Степановичу спать не хотелось; не имея занятий, он вообще не привык к определенным размерам дня, а теперь до сна ли, когда на душе так много, такая потребность видеться с кем-нибудь, поговорить! Он вспомнил о поручении матери и решился отправиться в бильярдный дом, где надеялся встретить Бергера.
В бильярдном доме, или трактире, на этот раз посетителей было немного: два-три офицера да два каких-то немца, оканчивавшие партию на бильярде.
В одном из офицеров Иван Степанович узнал поручика Кирасирского полка Бергера, заурядного посетителя трактира, с которым он нередко встречался и прежде, но не был знаком. Бергер не пользовался симпатией; как товарищи, так и вообще молодые люди видимо уклонялись от сближений с ним.
Выждав окончание партии, Иван Степанович предложил Бергеру сразиться на бильярде.
– С удовольствием-с, почем идет? – спросил тот.
– Бутылка пива – не больше, – скромно ограничился молодой Лопухин.
Бергер проиграл, спросил бутылку пива, и молодые люди расположились в углу бильярдной распить и побеседовать на свободе.
– Вы, как я слышал, уезжаете отсюда в Соликамск? – спросил Иван Степанович, не забывая поручения матери.
– Да, черт побери всех этих ссыльных! Из-за них вот изволь отправляться в ссылку! – ругнулся поручик.
– Кажется, смены бывают часто и вам не придется там долго засиживаться? – продолжал Иван Степанович.
– Зиму придется в берлоге лежать, почтеннейший, вот что, да и то бы ничего… делишки мои здесь такие… никак нельзя ехать!
– Вы бы сменились с кем-нибудь!
– Пробовал, предлагал, упрашивал – никто не соглашается. Помилуйте, кому охота ехать в трущобу из столицы на зиму!
Мирно распивая пивцо, Иван Степанович передал Бергеру поручение Натальи Федоровны поклониться милому Рейнгольду, сказать, что прежние чувства друзей не изменились, утешить, уговорить не унывать, надеяться, что настанут и лучшие времена.
Молодые люди расстались, условившись на другой день свидеться тут же и снова сразиться.
Иван Степанович отправился домой в полнейшем душевном удовольствии. Ему казалось, что он стал другим человеком, что возвращается домой не пьяным, что нет даже и желания пить, что дома у него есть интерес, личный интерес, смысл жизни, к которому ему должно стремиться. Воображение вызвало в его памяти недавнее свидание с дорогой девушкой, ее страстные ласки, и он твердо решился не позорить гордую Стеню, не заплатить низостью за доверчивость старого друга; на душе у него стало легко, как у ребенка. Ум у него словно просветлел, оживился, тысяча планов роилась о будущем в самых широких, привлекательных формах. И так радостно, так хорошо показалось ему все окружающее – и эта тишь ночи, и это глубокое небо, и это благоухание воздуха! Затем мысли его обратились к самому себе – и как жалок он показался, как мелка, ничтожна и бесплодна была его жизнь, без труда, без смысла, без цели.
«Нет, нужно выйти из этого положения, надобно трудиться, работать – но как и где? Об этом посоветуюсь завтра со Стеней», – заключил он.
Совершенно рассвело, когда Иван Степанович подошел к отцовскому дому.
Там все еще спало; залаяла было Жучка, услыхав скрип отворившейся калитки, но, узнав молодого хозяина, подбежала к нему, махая лохматым хвостом и тыкая носом в барские ноги в полнейшем недоумении, отчего это барин не толкнул ее, как обыкновенно, ногой, а, напротив, так ласково изволил нагнуться и погладить ее шершавые, испачканные уши.
Иван Степанович возвращался почти всегда по утрам, и потому приход его никого не встревожил.
Со светлым настроением проснулся Иван Степанович и пошел к матери сказать об исполнении ее поручения.
– Отчего ты так весел сегодня? – спросила Наталья Федоровна, заметив какое-то торжественное выражение в лице сына.
– Так, матушка, у меня будет до тебя и до отца просьба, большая просьба…
Наталья Федоровна не полюбопытствовала узнать, какая просьба у сына. Вероятно, подумала она, опять будет просить денег.
Однако ж не о деньгах весь этот день раздумывал Иван Степанович; в голову к нему забралась новая гостья, еще никогда не бывавшая там, и не знал он, как управиться с ней. Назойливо спрашивала его эта гостья: к чему он способен и какая польза от него для других? Но как ни ломал весь день своей головы Иван Степанович с вопросом, как бы устроиться вместе со Стеней и зажить во славу Божию, как доброму человеку, – ответа не придумывалось.
Вечером Стеня не пришла на свидание, но Иван Степанович не тревожился; он видел ее мельком у окна, проходя мимо дома Лопухинских, и потому не беспокоился о ее здоровье. Прождав несколько часов, он вспомнил, что его ждет новый знакомый в трактире.
Между тем, распив бутылку пива с Иваном Степановичем, Бергер тоже вышел из трактира и пошел шататься по безлюдным улицам. Знакомых, с которыми бы можно было провести остаток ночи, никого не было, а возвращаться домой так рано он не привык.
Невесело было на душе его от предстоящей поездки в Соликамск. Уехать, расстаться с веселой жизнью, зарыться в глушь, в снега, хотя бы и на непродолжительное время, казалось ему невыносимым несчастьем, и он изобретал всевозможные средства как-нибудь отделаться от командировки. Долго, очень долго, до настоящей ночи, не отыскивалось никакого основательного предлога, и вдруг теперь в голове его блеснула мысль, сначала смутно, а потом и в более определенной форме – нельзя ли воспользоваться поручением Лопухиной Натальи Федоровны?
Она советовала Левенвольду не унывать и надеяться на лучшие времена. Если ему донести об этом лейб-медику государыни, то не пожелает ли он узнать об этих временах, допросить Лопухину, а следовательно, и не оставит ли его здесь как свидетеля? И чем более Бергер развивал это предположение, тем оно более ему улыбалось.
Утром же Бергер явился к графу Лестоку, приехавшему на этот день в город из Петергофа, где проводила лето государыня, и потребовал немедленной аудиенции по весьма важному государственному делу. Его допустили в кабинет.
– Что вам нужно? – спросил граф Бергера тоном, который говорил: да как вы смеете меня беспокоить! Знаете ли, кто я и кто вы?
– Единственно из преданности к ее величеству я осмелился утруждать персону вашего сиятельства настоящим моим рапортом. Вчера бывший камер-юнкер подполковник Лопухин, встретив меня, рачительно расспрашивал, кто именно и когда отправляется для смены караула в Соликамск. Возымев подозрение о таких странных расспросах и желая в том удостовериться, я сообщил ему, что сменным караульным офицером отправляют меня и что я совершенно готов быть полезным для передачи каких-либо поручений к ссыльному Левенвольду. Тогда господин подполковник доверил мне поручение своей матери Натальи Федоровны утешить Рейнгольда Левенвольда и сказать ему, чтоб он не унывал, а надеялся бы на лучшие времена. Более он мне, несмотря на все мои расспросы, ничего не открыл, видимо, об чем-то утаивая. Полагая, что лучшие времена для зловредного Левенвольда весьма могут быть прискорбны для интересов ее величества, я и счел своей обязанностью донести об этом вашему сиятельству.
Граф Арман вспомнил о близких отношениях Левенвольда с Лопухиной, о дружбе и даже каком-то родстве Натальи Федоровны с Анной Гавриловной Бестужевой и тоже хороших отношениях обеих к бывшему австрийскому посланнику де Ботте. Не посылает ли ему сама судьба именно то, чего он так бесплодно искал? Во всяком случае, подобного благоприятного обстоятельства упускать нельзя, и в хитроумном мозгу графа лейб-медика моментально составился грандиозный план.
– Выражаю вам, господин поручик, благодарность от имени ее величества за ваше усердие и поручаю вам разъяснить, какие могут питаться надежды на перемену положения Левенвольда. Пригласите Лопухина к себе или в какое-нибудь заведение и постарайтесь выведать от него более подробные сведения. Для содействия обратитесь к господину капитану конной гвардии Фалькенбергу, которому я лично прикажу об этом.
– Предвидя распоряжение вашего сиятельства, я уже назначил Лопухину свидание в одном трактире.
– И прекрасно. Уговоритесь с Фалькенбергом, как и о чем расспросить, а между тем надежные люди будут в соседней комнате. Теперь отправляйтесь условиться с капитаном, и никому ни слова!
– Позвольте еще доложить вашему сиятельству, что срок отправления меня в Соликамск скоро приблизится, а может быть, мое присутствие здесь… будет необходимо, да и притом же собственные мои дела… Не будет ли приказания назначить вместо меня другого?
– Конечно, конечно… Об этом будет сделано распоряжение сегодня же.
Бергер отправился разыскивать Фалькенберга, а граф лейб-медик тотчас же поехал к Александру Ивановичу Шувалову, возвратясь откуда сделал необходимые распоряжении и ускакал обратно в Петергоф, где неожиданное его возвращение подняло общую тревогу.
По приезде прямо в Петергофский дворец граф передал императрице донос Бергера, но с яркой окраской собственного изобретения. По его рассказам, в поручении Натальи Федоровны должно видеть ясные указания на существование заговора, в доказательство чего приводил известную всем связь Лопухиных со старой русской партией, напомнил, что в Суздальской волости Степана Васильевича скрывались соучастники в деле царевича Алексея, что Лопухины отличались преданностью Брауншвейгской фамилии до такой степени, что Наталья Федоровна даже не хотела являться ко двору, хотя и состояла статс-дамой, и что фамилии Лопухиных, Головкиных и Бестужевых находились постоянно в самых дружеских сношениях с австрийским послом де Боттой.
Указав на все эти выводы, лейб-медик напомнил государыне на личное участие Алексея Петровича в деле царевича Алексея и накинул подозрительную тень на постоянную защиту интересов бывшей правительницы вице-канцлером.
В конце доклада граф просил у государыни разрешения на заключение Лопухиных и графини Анны Бестужевой, на осмотр всех бумаг у обоих братьев Бестужевых и, наконец, на их арест.
– С Лопухиными и с Анной Бестужевой делай как знаешь, осмотри бумаги гофмаршала, но запрещаю тебе всякое насилие относительно вице-канцлера! – решительно проговорила Елизавета Петровна, напуганная, но не забывшая, однако ж, личной вражды лейб-медика к Алексею Петровичу, его постоянных острот и насмешек, и наконец знавшая тайные побуждения графа из его собственных депеш.
Граф, удовлетворившись решением, не настаивал относительно Алексея Петровича, в полной уверенности, что пыточное исследование в его руках доставит ему возможность накинуть петлю на шею врага.
Когда государыня с Лестоком вышли из кабинета, то все заметили в ней перемену.
Побледневшая, с испуганным взглядом, она приказала приготовить себе карету, в которой и уехала, не сказав окружающим – куда и зачем.
«Что такое случилось? – спрашивали встревоженные придворные друг друга. – О чем говорил лейб-медик и куда они оба уехали?»
Приехав в петербургский дворец, государыня снова очень долго наедине говорила с Лестоком, который с озабоченным и таинственным видом переговаривался потом то с Александром Ивановичем Шуваловым, то с князем Никитою Юрьевичем Трубецким.
XV
Небольшая отдельная комната в трактире тускло освещается двумя сальными свечами на одном из столов, расставленных между окон. Желтоватое мерцающее пламя нагоревших свечей глотается темными, закопченными стенами, освещая ярко только небольшой круг около стола, за которым поместились два офицера и один статский. На противоположных сторонах комнаты две двери; из одной слышится стук бильярдных шаров, пьяный говор и громкие выкрики: «Черт побери…», «Вот так удар!..», «Пошел, подлец, в угол» – и тому подобное, а из другой доносится по временам шорох, какой-то шепот и сдержанный кашель.
За столом лейб-кирасирский поручик Бергер и капитан конной гвардии Фалькенберг угощают нового своего знакомого Ивана Степановича. По зардевшемуся лицу, воспаленным глазам и бессвязной речи Лопухина заметно, что распилась не одна бутылка, что на угощение не скупились доблестные воины.
– Черт знает что делается! – говорил хриплым голосом Фалькенберг. – Думали, будет лучше, а вышло хуже. Никакой аттенции к нашему брату, жалованье скаредное, по службе только одни придирки.
– Какое житье наше! – вставил Бергер. – Начальству вот золото льется, а мы черствый хлеб жуем!
– Начальство… да какое начальство… разве это начальство!.. – говорил пьяным голосом Иван Степанович. – Да и какое начальство может быть у нас, разве то было прежде, хоть бы при Анне Ле…ле…польдовне. Министры были настоящие, умные головы – Остерман, Левольд, а нынче что… мразь, дрянь, нестоящие, только вот один продувной каналья Лесток и вертится… – И Иван Степанович пробовал было даже отплюнуться, но не мог.
– Правда, правда, полковник, – поддакивал Бергер, – прежде лучше было. Хоть бы воротился опять император Иван!
– А что, ты думаешь, не воротится? Я тебе говорю верно… воротится, – рассуждал Лопухин.
– Да кто ему поможет-то, разве ты, Иван Степанович? – подзадоривал Фалькенберг.
– Я? Не я один, много нас… Весь рижский гарнизон тянет за императора Ивана… Дойдет до дела, так много подымутся… А кто будет против-то? А? Скажи, кто будет против-то? Триста ледащих лейб-кампанщиков! Фу-ты, сила какая! И тогда-то, кабы не лежал Петр Семенович Салтыков, он ударил бы в барабаны… не бывать бы…
– Чаю, и теперь будет не без хлопот, – сомневался Бергер, – у государыни тоже есть люди.
– А кто люди-то? – раздражался Иван Степанович. – Где они? А если кто и есть, так все больше из простого народа, ведь сама больно просто живет… а из больших все ее не любят.
– А скоро это будет? – спросил Фалькенберг.
– Скоро… через несколько месяцев… Отец, как был в деревне в прошлом году, писал к матери, чтоб ко двору не ездила и я бы никакой милости у этой государыни не искал… Я вот потому и ко двору не хожу, как ни просили… – хвастался Иван Степанович, забыв, что после отставки из камер-юнкеров он не имел права бывать при дворе.
– Хорошо, кабы скоро, – пожелал и, со своей стороны, Фалькенберг.
– Я тебе говорю, скоро будет перемена, – подтверждал Лопухин.
– Как все благополучно кончится, вспомни тогда обо мне, Иван Степанович, – просил Фалькенберг.
– Что ты! Друга-то и забыть! – И Иван Степанович полез было целоваться с Фалькенбергом, но, приподнявшись на локтях, снова опустился на стул.
– Нет ли кого еще побольше, к кому бы пораньше забежать? – продолжал выспрашивать Фалькенберг.
Иван Степанович молчал.
– А мне все сдается, – заметил Бергер, – что без посторонней помощи обойтись нельзя.
– Будет и со стороны помощь… король прусский за императора Ивана… Ботта, верный слуга принцессы Брау… Брау… Лепольдовны, хлопочет теперь за нее в Берлине. Выпьемте же, братцы, за здоровье царя Ивана!
Молодые люди чокнулись.
Было уже светло, когда они, распив последнюю бутылку, стали собираться по домам.
Посетители все разошлись; из бильярдной не слышалось говора и пьяных криков, из другой комнаты тоже не доходило никаких звуков; несколько уж раз и хозяин полуотворял двери с явным поползновением напомнить господам офицерам о расчете и выходе из трактира.
Молодые люди вышли вместе и отправились по одному пути до той улицы, где отделялась дорога к лопухинскому дому. Иван Степанович не сознавал, как он пришел домой, как его раздели, облили голову холодной водой и уложили в постель.
Проснулся Иван Степанович далеко за полдень, словно избитый, с сильной головной болью. Он чувствовал себя скверно: глаза смотрели сонно и бессмысленно, во рту пересохло и отдавало едким, неприятным вкусом, тошнота, во всем теле вялость.
Не было лучше у него и на душе: а давно ли беспутная жизнь казалась далеко, навсегда отбежавшей от него, новые планы считались твердыми и несокрушимыми, давно ли мечталось о полезной жизни… Куда же вдруг исчезли эти мечты и долго ли продолжалось твердое решение? Каких-нибудь несколько часов – до первой рюмки.
Нещадно упрекал себя сначала Иван Степанович, но скоро появилось и самооправдание. Как и все люди слабых, легко впечатлительных и легко податливых характеров, он без всякой ломки перешел к обвинению других. Если бы Стеня пришла вчера вечером, он не пошел бы в трактир, не провел бы безобразной ночи, а следовательно, виноватой становилась Стеня, а не он, наверное бы исполнивший свое слово.
Потягивался Иван Степанович в постели, выпрямляя онемелые члены и вспоминая, где он провел ночь, но в голове стояли одни смутные представления об офицерах, из которых Бергер еще как-то выделялся отчетливо, а от облика другого в памяти вертелся только широкий багровый мясистый нос с синими мелкими жилками.
Иван Степанович ждал прихода своего камердинера Васьки, помогавшего ему обыкновенно вставать и совершать утренний туалет, но Василий не являлся; не было слышно, как молодой барин ни направлял ухо, приподняв голову от подушки, знакомой тяжелой походки.
В доме из отдаленных комнат слышались чьи-то шаги, странные шаги, какие-то бесцеремонные, а не обиходные, осторожные, на цыпочках, с нажимом мякушек. Там, в комнатах матери и отца, что-то совершается не так, как делается каждодневно. Люди приходили и уходили, голоса хриплые и странные, не своих людей; порою долетали и знакомые голоса, но отрывистые и подавленные, долетели даже звуки не то просьб, не то рыданий; наконец, отчетливо отозвался стук отъезжавших карет. Иван Степанович начинал смутно тревожиться, спустил ноги с постели и накинул на себя шлафрок.
Скоро Ивану Степановичу пришлось узнать, что такое совершается в мирных Лопухинских палатах. Не успел он подойти к двери, как она широко распахнулась и перед его глазами явился гвардейский капитан Григорий Иванович Протасов, с которым Иван Степанович не был знаком, но которого встречал нередко у общих знакомых и при дворе. Григорий Иванович одет был в полной форме, а за ним в дверях торчали фигуры каких-то солдат.
– Одевайтесь-ка, Иван Степанович, поздненько изволите вставать, – проговорил Григорий Иванович не то с насмешкой, не то с участием.
На Ивана Степановича точно столбняк нашел; как раскрыл он широко глаза, как открыл рот при виде капитана, так и оставался без движения посередине комнаты.
– Одевайтесь же скорее, батюшка, некогда мне с вами валандаться, – повторил Григорий Иванович и, знаком подозвав из соседней комнаты солдата, приказал ему помогать барину.
– Куда? Зачем? – спросил едва слышно Иван Степанович.
– Куда и зачем – об этом вы узнаете, когда приедете на место, а теперь не до разговоров, одевайтесь!
Иван Степанович больше не спрашивал; при помощи нового слуги он стал одеваться, а Григорий Иванович принялся за осмотр комнаты.
С немецкой аккуратностью совал он нос во все ящики, ящички, шкафы и комоды, собственноручно выбирал оттуда вещи и пересматривал. Более всего, кажется, обращала на себя внимание любознательного капитана корреспонденция Ивана Степановича. Но так как молодой хозяин к письменной части не был усерден, то и пищи капитану оказалось немного: несколько счетов из лавки, одно или два безграмотных письма, какая-то пригласительная записка да в нижнем ящике шкафа пожелтевшие от времени свертки из синеватой бумаги тетрадок из ученических еще работ чистописания, мирно лежавших там десятки лет.
Осмотр занял немного времени, и Григорию Ивановичу пришлось еще помогать окончанием туалета и снаряжением на новую квартиру.
– Могу я проститься с отцом и матушкой? – спросил Иван Степанович.
– Уехали. В одном месте будете, может, и свидитесь, – отвечал капитан Протасов, торопя сборами.
Проходя через приемные комнаты, Иван Степанович видел везде солдат, или в виде часовых, или за уборкой вещей для переезда арестованных.
В коридоре из приемной во внутренние покои Иван Степанович заметил всю домашнюю прислугу, столпившуюся и растерянную. Впереди прислуги ему показалось будто стоит его Стеня, бледная, в ужасе, она как будто рванулась броситься к нему, но часовой около двери грубо схватил ее за руку. Что было дальше, молодому человеку осталось тайной, Григорий Иванович заторопил, поспешил вывести на крыльцо и усадить в карету.
Часа за два до этого ареста три кареты въезжали на широкий двор Лопухинских палат. В первой помещался генерал-аншеф Андрей Иванович Ушаков, во второй – князь Никита Юрьевич Трубецкой, а в третьей – Григорий Иванович Протасов: каждая карета со своим специальным назначением.
По входе в дом приезжие разделились по заранее определенному условию: князь Никита Юрьевич и Григорий Иванович пошли в отделение Степана Васильевича, Андрей Иванович отправился в апартаменты Натальи Федоровны, а к спальне Ивана Степановича приставили часовых со строгим наказом никого не впускать и не выпускать.
Многочисленная челядь при виде таких внушительных гостей и команды солдат оторопела, растерялась и не сделала никакого движения предупредить господ, только седоволосый камердинер старого барина, Терентий Карпович, бросился было к барскому кабинету, но его схватили и, несмотря на старческое барахтанье, скрутили руки и завязали рот. Никита Юрьевич вошел в кабинет.
В молодости Степан Васильевич и Никита Юрьевич были хорошо знакомы, много услуг Лопухин оказал тогда Трубецкому.
Не мог князь забыть, как раз подгулявший красавец Иван Алексеевич Долгоруков в кругу товарищей кутил у него в собственном доме Трубецких и нежничал у него на глазах с его красавицей женой и как он, не вытерпев, вздумал защищать свои права. Тогда красавец любовник нанес ему оскорбительный удар и приказал прислуге выбросить барина за окно; прислуга бросилась исполнять приказание, но Степан Васильевич, тогда еще молодой человек, камер-юнкер, схватив князя Долгорукова за руку, не допустил до повторения обиды, а прислугу выслал вон. Не забывал этого князь Никита Юрьевич, как не забывал и много других подобных сцен, но, странное дело, услуги Лопухина принимались им злобно и вместо благодарности только раздражали желчь. Потом, при Анне Иоанновне, они разошлись в разные стороны, Никита Юрьевич перешел в армию и делал поход, а Степан Васильевич совершал морские кампании.
Долго они не виделись, а когда встретились снова, то прежнее знакомство не возобновлялось. Степан Васильевич относился к князю совершенно равнодушно, по-видимому, то же было и со стороны Никиты Юрьевича, но в душе последнего не утолялась вражда к бывшему защитнику.
В сущности, участь обоих была одинакова. Степан Васильевич терпел ту же участь от жены, но сколько он вынес острых страданий – про то никто не знал, кроме его самого.
Степан Васильевич сидел за своим письменным столом, подперев голову рукой, пальцы которой скрывались в густых космах полуседых волос. При входе Никиты Юрьевича он обернулся и быстро окинул всю фигуру входившего; едва заметная усмешка пробежала по его широким губам да, передернулись густые высокие брови.
– По повелению ее величества, господин генерал-поручик, объявляю, что вы арестованы, – проговорил князь голосом, которому он изо всех сил пытался придать важность и торжество, но ни то ни другое не удалось.
Желтые глаза князя встретились раз с упорным взглядом Степана Васильевича и не поднимались больше.
– Пора… – только и отвечал старый барин, неторопливо снимая шлафрок и надевая камзол.
В это время князь и Григорий Иванович быстро осматривали комнату и читали бумаги. Переписка тоже оказалась немногосложною и вся почти относилась до домашних счетов хозяйственной экономии. Окончив обыск, и, видимо, недовольный, князь вышел из кабинета с Григорием Ивановичем и арестантом. Степан Васильевич шел спокойно, не высказывая и не выказывая своих дум, только когда он увидел своего верного слугу Терентия Карповича связанным и с завязанным ртом, взгляд осветился теплом и нервно дрогнули веки.
Григорий Иванович, оставшийся оканчивать дело арестов, отправился в спальню Ивана Степановича, а князь Никита Юрьевич с арестантом – к карете. Думал ли Степан Васильевич, что он видит в последний раз свое гнездо, этого он никому не высказал, как никогда никому не высказывался.
Вслед за первой партией отправилась и другая, провожавшая арестантку Наталью Федоровну. На побледневшем лице арестованной можно было прочесть только оторопелость да застывший вопрос: что с ней делается и куда ее везут?
Наконец с отъездом Ивана Степановича Лопухинские палаты опустели – остались малолетние дети, воющая прислуга да караульные.
Арест Анны Гавриловны Бестужевой, обыск и опечатание бумаг мужа ее, обер-гофмаршала Михаила Петровича, как самое важное дело, взял на себя сам граф лейб-медик Арман Лесток. Никому другому он не поверил, да и не мог поверить исполнение такого щекотливого и многообещающего поручения, которое составляло всю сущность задуманного предприятия. И кто бы другой мог с большей проницательностью осветить все тайные помыслы врага, кто бы мог с большею изворотливостью придать обыкновенным вещам характер преступного заговора? Кроме того, ему так хотелось выказать открыто, у всех на глазах, свое торжество, уронить, затоптать в грязь, если не удалось самого вице-канцлера, то по крайней мере его родного брата, выставить в черном виде всю фамилию Бестужевых и совершенно дискредитировать ее в общественном мнении.
Анна Гавриловна с мужем на это лето занимала дачу в окрестностях Петергофа. Поэтому одновременно с распоряжением об арестовании Лопухиных сделано было распоряжение об отправлении солидной конной команды под начальством надежных гвардейских офицеров в Петергоф к даче Бестужевых. Офицерам приказано было до прибытия графа окружить дачу, поставить везде караулы, запретить выход всем жившим на даче, не спускать с них глаз и следить за каждым их движением. Для придания большей гласности отправление команды делалось далеко не секретно, и выбор офицеров пал на таких, от которых нельзя было ждать особенной деликатности.
Впрочем, команде, оцепившей кругом дачу и расставленной во всех комнатах, недолго пришлось ожидать главного начальника, с таким нетерпением искавшего случая нанести удар.
Едва успели занять часовые свои посты, как подкатила карета лейб-медика, и сам он в сопровождении адъютантов вошел в комнаты.
В первые минуты Анна Гавриловна испугалась, растерялась, но скоро успокоилась, вспомнив, что самый инквизиторский обыск не может открыть ничего подозрительного, что те два или три письма, которые она получила из Риги от Юлианы, тогда же были ею уничтожены, хотя и в этих письмах, кроме жалоб да пожеланий, не было ничего преступного.
Торжественно объявив повеление императрицы, граф приказал Анне Гавриловне собираться, а сам между тем приступил к осмотру бумаг.
С жадным вниманием он рассматривал каждый клочок, вчитывался в каждую строчку, но, несмотря на всю свою ловкость и изворотливость, не находил ни одного подозрительного пятнышка, из которого можно было бы разрисовать картину. Конечно, не все еще потеряно, разве нельзя заставить говорить прислугу?
Через несколько часов бесплодных поисков лейб-медик уехал с Анной Гавриловной, объявив обер-гофмаршалу, что он остается под караулом впредь до распоряжении императрицы.
Оставался еще один, последний арест – старшей дочери Натальи Федоровны, фрейлины государыни, красавицы Настеньки. С девочкой особенно церемониться не стоило бы, но дело в том, что объявленный наследник престола великий князь Петр Федорович, видимо, начинал интересоваться ею все больше и больше. С одной ею он любил говорить, не стесняясь и не краснея передавать свои неглубокие соображения и мечты о вахтпарадах и военных экзерцициях. Девочка слушала, уставив на него свои выразительные голубенькие глазки, ничего не понимала, но, конечно, заинтересовывалась вниманием великого князя.
В то время как происходил арест ее отца, матери и брата, она в сопровождении мадам Шмидт и великого князя гуляла по островам, нисколько не подозревая, что делается с близкими.
По окончании прогулки, счастливые и спокойные, все гуляющие воротились к дворцу, но здесь, на подъезде, Настеньку ожидало неприятное известие. Один из придворных, высадив из кареты великого князя и мадам Шмидт, доложил девочке, что Наталья Федоровна внезапно занемогла и присылала за ней. Встревоженная дочь тотчас же поехала домой, но привезли ее не в свои палаты, а во дворец на Марсовом поле, куда были собраны все арестованные, размещенные по отдельным комнатам.
XVI
Снова в Петербурге тревога и говор, снова заколыхалось людское море, словно волнами перекатывается и журчит оно о новом заговоре, серьезном, опасном, не под стать нехитрым замыслам каких-нибудь лакеев, камер-лакеев и лейб-кампанцев, о заговоре, в котором замешаны старые родовитые фамилии, стоящие наверху, около самого трона. Все напуганы преувеличенными слухами, да и как было не пугаться мирным обывателям, когда точно туча обложила Петербург, когда в тяжелом воздухе слышится острый запах крови, когда будущее не обеспечено даже и на один час. По городу ходят усиленные патрули, зорко за всем наблюдавшие, – значит, должна же быть причина немаловажная.
При дворе началась таинственная тишь, словно ожидание новой перемены; празднества прекратились, придворные точно пришибленные, только один Алексей Григорьевич не трусит, лукаво усмехается, не верится ему в злые умыслы Лопухиных и Бестужевых, но сметливый хохол до времени не выпускает своих мыслей, думает, будет время, пройдет горячка, не в пору слово только испортит, встревоженное страхом чувство не может холодно взвешивать и обсуждать.
Для исследования преступных замыслов образовалась особая комиссия из лиц достойных и неспособных отступить ни перед какими мерами. Комиссия состоит из сенатора, старого ветерана подобных дел, бывшего начальника Тайной канцелярии, ревностно в продолжение тридцати лет, с легкой руки Петра Великого, охранявшего общественное спокойствие и благочиние, Андрея Ивановича Ушакова, генерал-прокурора князя Никиты Юрьевича Трубецкого и тайного советника графа Армана Лестока; делопроизводителем комиссии выбрали тоже лицо подходящее – кабинет-секретаря Демидова. В состав комиссии не вошел даже действительный начальник Тайной канцелярии Александр Иванович Шувалов – не понадеялись; недостаточно казался он окрепшим в кровавом застенке.
Следователи торопились.
Едва защелкнул замок за последней арестанткой Настенькой, помещенной в отдельной комнатке, выходящей окнами на двор, как Андрей Иванович с Никитой Юрьевичем и Лестоком приступили к Ивану Степановичу с допросом. Андрей Иванович находил, что допросы, взятые тотчас же непосредственно после ареста, когда человек еще в полном смущении, расстроен, бывают самыми успешными, а товарищи верили его многолетней опытности, его тонкому знанию человеческой природы, его умению, как гениального артиста, извлекать из человеческого организма, как из музыкального инструмента, какие угодно ноты.
Андрей Иванович к каждому своему пациенту относился с особым приемом – грозным, мягким, равнодушным, небрежным, даже шутливым.
Игривый прием он особенно любил и чаще употреблял. Нельзя было видеть без особенного душевного умиления, как он, повторяя историю кошки с мышью, так любовно шутил с человеком: ласкает его, ободряет, а потом вдруг неосторожно схватит, закапает кровь, ожжет болью, – но Андрей Иванович по-прежнему улыбается, гладит по ране, заживляет до нового неосторожного приступа. Играя таким образом, высасывая у человека всю его силу, всю его крепость нервов, он достигал полнейшего бессилия – такого состояния, когда человек бессознательно говорит то, что незаметно ему подсказывается.
Ободрился Иван Степанович при первом допросе Андрея Ивановича и, наверное, выболтал бы все, если б было что на душе. К несчастью, он не чувствовал себя виноватым, никаких злых умыслов не замышлял, а если болтал, так на то и язык дан, и нет оттого никому никакого вреда. На ласковые расспросы Андрея Ивановича с чистосердечным соболезнованием о несправедливости к молодому человеку нового правительства Иван Степанович без запинки сознался, что действительно он считал себя обиженным за удаление от камер-юнкерства, за понижение чином, что это неудовольствие разделяли все близкие, отец и мать, что он жалел о бывшем правительстве, что осуждал императрицу Елизавету Петровну, говорил, что она ездит в Царское Село пить английское пиво, что она родилась за три года до брака и что вообще находил чуть не предосудительным бабье правление. О злых же умыслах на перемену правительства, о восстановлении Брауншвейгской фамилии и о всяких реальных поползновениях к тому совершенно умолчал и даже положительно отрицал всякую мысль о том. Андрей Иванович напомнил ему об участии Ботты, но Иван Степанович отозвался полным неведением.
Для улики явились Бергер и Фалькенберг.
Теперь Иван Степанович понял, откуда гроза, понял игру офицеров, зачем они так усердно и добродушно его угощали.
Вот тот широкий багровый, с синими жилками нос, который ему все мерещился во сне и хозяина которого он никак не мог вспомнить, как ни усиливался. Теперь около носа явились и глаза, нахальные и зоркие, которые так нагло смотрят на него.
Бергер казался несколько смущенным и говорил с запинкой, но Фалькенберг бойко напоминал Ивану Степановичу, как тот пил за здоровье императора Ивана, как обещал скорую перемену и как говорил об участии Ботты.
Иван Степанович сознался на улики, но оговорился тем, что был тогда пьян, болтал бессознательно, не помнит всего разговора о Ботте, а вспоминает только, что, когда Фалькенберг спросил: «Должно быть, маркиз Ботта не хотел тратить денег, а то бы принцессу Анну и принца выручил?» – он на этот вопрос отвечал: «Может статься».
Более этого следователи ничего не могли добиться от Ивана Степановича.
Кроме Андрея Ивановича допрашивал и граф Лесток, но граф особенно напирал на участие Ботты, которое, видимо, его интересовало. Вмешательство Ботты придавало некоторую устойчивость призрачному доносу о заговоре и давало возможность сместить заведующего иностранной политикой Алексея Петровича Бестужева. Несмотря, однако, на все ухищрения лейб-медика, Иван Степанович отказывался от подробных показаний насчет Ботты и наконец решительно объявил, что по сильной головной боли он не в силах давать никаких ответов. От вчерашнего кутежа, волнений и неожиданного ареста действительно силы его изнурились, и волею-неволею пришлось отложить допрос до следующего дня.
Рано утром снова явились к Ивану Степановичу следователи с теми же вопросами: Иван Степанович повторил прежние показания, дополнив их только одним, по видам графа Лестока, весьма веским известием:
– После прощального визита Ботты призывала меня мать к себе и рассказывала, будто маркиз говорил ей, что не успокоится до тех пор, пока не поможет принцессе Анне, и что будет стараться склонить на ее сторону и прусского короля. Это же самое мать рассказывала и графине Анне Гавриловне, когда та в это время приехала к ней со своей старшей дочерью графиней Ягужинской.
Следователи перешли в комнату самой Лопухиной.
Наталью Федоровну они нашли в более спокойном состоянии, чем ожидали. Истомленное сердце ее после высылки ее Рейнгольда, заставившее отказаться от света, от всего, что прежде было ей так дорого, и замкнуться в себе, несмотря на светский, общительный характер, вероятно, очерствело до нечувствительности к внешним страданиям. Она казалась даже как будто спокойнее прежнего. Не мелькнула ли у нее мысль о ссылке в отдаленный край, где может свидеться с ним? Она даже не заметила грубого тона вопросов от тех лиц, которые так недавно казались такими осчастливленными, если она случайно дарила их какою-нибудь ничего не значащей любезностью.
Совершенно спокойно она созналась в оскорбительных выражениях о поведении императрицы, в желании возвращения бывшей правительницы, умолчав об участии Ботты, о котором сказала только, что посланник бывал у них в доме, но разговоров с ним не припомнит.
От Натальи Федоровны следователи перешли к Анне Гавриловне.
Тревожную ночь провела Анна Гавриловна на новоселье. Энергия, поддерживавшая ее во время обыска Лестока, упала; во все продолжение обыска она не представляла себе серьезного исхода, она объясняла его незначащею интригой графа, тороватого на подобные вещи, обнадеживалась, что по неимению улик интрига падет сама собой с неприятными последствиями для автора; но когда поневоле должна была убедиться в серьезном значении – иначе граф не решился бы на арест ее, жены обер-гофмаршала и невестки вице-канцлера, – тогда бодрость заменилась отчаянием, унынием, упадком сил.
Все Головкины не отличались твердостью. Отец ее, покойный канцлер граф Гаврила Иванович, при всем своем уме и развитии, известен был изрядною мнительностью и нерешительностью; брат ее, Михаил Гаврилович, наследовал такую же мнительность, доходившую даже до трусости.
Добр и благороден был Михаил Гаврилович, а между тем не он ли, честный, прямодушный человек, изменил низко и бесчестно доверию благородных юных семеновцев, задумавших защитить отца и мать императора Ивана от оскорбления Бирона и низложить наглого и бездарного фаворита? И мало того, что он изменил им, он сам предательски выдал их на пытку, на ссылку, на казнь. Долго мучило потом это предательство самого Михаила Гавриловича, и не эта ли чистая, неповинно пролитая кровь привела его по Божьему правосудию на искупление к собственной ссылке в самый отдаленный сибирский, никому не известный острожек Германса? Эта ссылка брата была для Анны Гавриловны глубоким, тяжелым несчастьем. Сестра горячо любила Михаила Гавриловича, более других своих братьев; вместе они росли; в нем она находила постоянную ласку, дружбу и утешение.
Во всю ночь Анна Гавриловна не смыкала век.
Перед ее глазами поочередно проходили печальные картины прошлого. Не ей ли, по-видимому, любимице счастья, красавице, богатой и знатной, надеяться было на радостную будущность, а судьба наперекор дала одно горе. Молодою, еще не успевшею насладиться жизнью, выдали ее замуж, по приказу того же царя Петра, любившего устраивать своих любимцев, за Павла Ивановича Ягужинского, даровитого, хитрого жида, ловкого на интриги, любезного в обществе, но грубого пьяницу, сварливого и жестокого деспота дома, в особенности к жене. Умер Павел Иванович, когда Анна Гавриловна все еще цвела полной, роскошной красотой. Года четыре она провдовела – тоже нерадостное время для женщины, не изведавшей счастья, – а потом вышла снова замуж за обер-гофмаршала Михаила Петровича Бестужева, который, казалось, так горячо полюбил ее. Рассчитывала она если не на счастье, то по крайней мере на спокойствие, но и его Михаил Петрович не дал ей. Несмотря на немолодые годы, обер-гофмаршал любил перемену, любил ухаживать за молоденькими женщинами, пользовался продажными телами и вскоре после свадьбы стал совершенно чуждым для жены, да и к эгоистическому, холодному характеру Бестужевых никак не могла подладиться ее теплая, впечатлительная природа.
Одинаковая участь сблизила, вернее, сроднила двух женщин; обе они тосковали о погубленных новою императрицею и страстно желали возврата прошлого, возвращения дорогих лиц: Наталья Федоровна – своего Рейнгольда, а Анна Гавриловна – брата. Друг другу они поверяли горе, и горе делалось для них более терпимым.
На показания Анны Гавриловны лейб-медик Лесток особенно рассчитывал.
Не может же быть, думал он, чтобы слабая женщина не выболтала чего-нибудь, заподозревающего участие Бестужевых, а в этом-то и была вся суть разыгрываемой трагикомедии.
Каково же было разочарование графа, когда обер-гофмаршальца невольно и бессознательно оправдывала и совершенно выгораживала мужа и его брата. Она чистосердечно рассказала о своих неприязненных отношениях к мужу и Алексею Петровичу, о том, что она не любила мужа, который платил ей тем же, не говорила ему ни о чем и не слышала от него ничего. О себе же она, как и Наталья Федоровна, высказалась откровенно: и свою неприязнь к императрице, и свою симпатию к Анне Леопольдовне; о маркизе де Ботта точно так же не сказала ничего нового.
Очередь дошла до Степана Васильевича, от которого следователи многого не ожидали, и не ошиблись. Степан Васильевич отнесся к опале совершенно равнодушно, как будто она касалась не его, а совершенно постороннего, незнакомого человека, как будто давно он был готов к ней. Спокойно, холодно, с обычным пасмурным выражением, даже с оттенком пренебрежения встретил он следователей. Какими, вероятно, ничтожными и мелкими казались ему новые люди новой императрицы, ему, бывшему сотруднику гигантов, творцов великих дел! Замечательно, что в ответах своих он ни разу не обратился ни к лейб-медику, ни к князю Трубецкому, которых он как будто совершенно не замечал, даже в ответах на их вопросы он обращался к Андрею Ивановичу, хотя черному, мрачному, но все-таки «птенцу» орлиного гнезда.
Степан Васильевич показал:
– Государынею я недоволен за обиды, нанесенные мне, за отписку вотчины, за арест и за незаслуженную отставку; желал, да и теперь желаю, возвращения Брауншвейгской фамилии, хотя и при ней было не совсем хорошо: мало принцесса сама занималась и совсем вверилась немцам. Говорил и теперь говорю, что ныне сенаторов путных мало, а прочие все дураки, – Степан Васильевич не обратил внимания на неудовольствие следователей, из которых Лесток и Ушаков были сенаторами, а Трубецкой генерал-прокурором Сената, – да и те дела не делают, а только приводят правление ее величества народу в озлобление. С маркизом Боттою о настоящем правительстве, как не скрывал и не скрываю своих слов ни перед кем, говорил и соглашался с ним, что государыня напрасно разослала прежних министров: будет потом жалеть – да поздно.
Более этих ответов следователи ничего не добились от главных заговорщиков, виновных в осуждении императрицы, в оскорблении ее величества в интимных беседах между собою, но не опасных для правительства и, главное, не сделавших никакого показания на вице-канцлера.
После первых допросов обвиняемых перевели из дворца на Марсовом поле в тюремные казематы, кроме Настеньки Лопухиной, отправленной домой под присмотр караула, а между тем Андрей Иванович, по старой многолетней и успешной практике, обратился к допросам прислуги.
Донесли следственной комиссии, что управляющий имениями Бестужевых, пользующийся расположением и доверием обер-гофмаршала, незадолго перед тем являлся к вице-канцлеру. Управляющего вытребовали к допросу.
– По какому делу ты был в имении обер-гофмаршала и не передавал ли он тебе каких поручений к его брату? – спросил князь Никита Юрьевич, окидывая управляющего взглядом, пропитанным желчью.
– Никогда я не бывал в доме господина вице-канцлера, – отвечал управляющий, – но не понимаю, почему же мне не бывать у него?
Смелый ответ перед такими высокопоставленными персонами, какими считались следователи, привыкшие к раболепству, взбесил кипучего генерал-прокурора до самозабвения. Он бросился на управляющего, ударом сшиб его с ног, начал бить и топтать ногами, потом обеими руками вцепился ему в волосы и таскал до тех пор, пока сам не выбился из сил.
Но ни подобные увещания генерал-прокурора, ни ласковые речи Андрея Ивановича не могли ничего поделать с прислугой Бестужевых. Она упорно стояла на своем: ничего не замечала, ничего знать не знала, ведать не ведала. Какие хитроумные соображения ни подсказывались ей, она не понимала и открещивалась от них. Правда, от прислуги узнавали, кто бывал в доме Лопухиных и Бестужевых, арестовывали тех знакомых, допрашивали, увеличивали число обвиняемых, но узнали то же самое, те же жалобы на правительство и те же сожаления о прошедшем.
Не на шутку сердился граф лейб-медик и недаром, разъезжая по коротко знакомым домам, жаловался и приговаривал:
– Нет, надобно быть строгим, иначе ничего, кроме пустых сплетен и вздорной болтовни, не добьешься от упрямых баб!
Под строгостью граф разумел кнутовой допрос, который и пустили в дело.
Привели в застенок Ивана Степановича и ввиду страшных орудий пыток стали допытываться положительных сведений о формальном заговоре и об участниках в нем. На впечатлительную природу молодого Лопухина страшно подействовал застенок: он упал на землю, становился перед следователями на колени.
– Подумайте, – умолял он их, – стал ли бы я скрывать посторонних, когда выдал отца и мать?
Но следователи не думали или не хотели думать; может быть, природа их требовала возбуждающих сцен, как пресыщенный желудок требует пряностей. Молодого человека раздели, связали руки и потащили на виску…
Одиннадцать раз кнут взвивался змеей над жертвой и опускался на спину, разрезывая полосой, довольно крови излилось из разрезов, но несчастный упорно молчал. Замолкли глухие стоны, вылетавшие при первых ударах, и искаженное лицо с широко раскрытыми, почти выходящими из орбит глазами, со стиснутыми челюстями казалось окаменелым… Истерзанного Ивана Степановича, опустив на пол, снова стали допрашивать – и снова бесполезно. Сам опытный Андрей Иванович ошибся: с Иваном Степановичем случилась та перемена, которая совершалась с древними христианами-мучениками. Доведенные до последней крайности мучения произвели реакцию силы противодействия, доведенную тоже до крайности. Иван Степанович понимал, чего желают следователи, понимал их прозрачные намеки, узнал, что им нужна не правда, а лганье, какое угодно грубое лганье, лишь бы достигавшее цели, сознавал и то, что этим лганьем он не повредил бы никому, что и без него с намеченными жертвами сделают все что угодно, но именно потому, что понял, он и замолчал упорно, не высказал ни слова.
За Иваном Степановичем следовала очередь по застеночной работе за Натальей Федоровной и потом за Анной Гавриловной.
– Хоть разорвите нас на части, а мы не будем лгать, не будем сознаваться в том, в чем не виноваты, чего не делали, чего не слыхали, – говорили обе женщины, когда обнажили их нежное тело и связывали руки назад веревкой, посредством которой по блоку поднимали на дыбу. Хрустнули суставы вывихнутых рук, раздирающий крик раздался по застенку, заплечный мастер держал наготове кнут… но умудренный опытом Андрей Иванович не допустил до кнутового розыска.
Женщин сняли с дыбы, вправили руки, и, когда острая боль несколько успокоилась, Андрей Иванович повел ласковые речи:
– Ее величество милостивейшая государыня желала бы вас помиловать. Она изволит полагать, что вы содеялись невольной жертвой хитрой политики австрийского посланника маркиза Ботты, и потому если вы откровенно расскажете об его злых умыслах, то этим оправдаете себя в глазах ее величества. Маркиз же Ботта за границей, подданный чужой державы, в России никогда не будет и никогда не может подвергнуться никакой ответственности, следовательно, всемилостивейшая государыня желает слышать об его умыслах не для наказания его, что не в ее воле, а единственно для оправдания вашего.
Андрей Иванович внушал и развивал мысль, что чем больше будут валить на отсутствующего и притом безопасного Ботту, тем большую заслужат милость, а может быть, и спасение. Женщины поняли это, обнадежились и на последующих допросах стали говорить другое.
Наталья Федоровна к прежним показаниям добавила, что в последний визит, на прощание Ботта в ее доме высказал, что будет стараться всеми силами, не пожалеет никаких денег, о возвращении на престол принцессы Анны и всех теперь сосланных.
Это показание подтвердила и Анна Гавриловна. Более лгать они не могли: не было канвы и не было материалов.
Вздернули на дыбу Степана Васильевича и даже, по благосклонности к нему следователей, а в особенности благодарного князя Никиты Юрьевича, заставили висеть более десяти минут, но, как и ожидали сами инквизиторы, никаких добавлений не узнали.
Вся суть содержания заговора исчерпывалась; комиссия ясно сознавала это и только в виде последней очистки совести или в виде последнего возбудительного приема она подвергла Ивана Степановича новому кнутовому розыску. Дня через два или три после первого розыска его снова привели в застенок, снова подняли на дыбу, снова резали тело кнутом – дали девять ударов, – но тоже без всякого результата.
Допытанный розыск, кроме сплетен и бабьих бредней, как выражался и сам граф лейб-медик, указал на участие маркиза де Ботты. К этому указанию присоединилось еще более веское, хотя не более справедливое, обвинение: французский посланник в Петербурге граф д’Альон передал в следственную комиссию письмо маркиза де Валори, французского посланника при берлинском дворе, где состоял и маркиз де Ботто австрийским послом. Маркиз де Валори сообщал, что де Ботто нередко высказывал неблагоприятные отзывы о настоящем русском правительстве и будто уверял в скором и неизбежном его падении; кроме того, де Валори извещал и о попытках де Ботты склонить прусского короля к помощи для восстановления Брауншвейгской фамилии.
Замешать в заговор де Ботто, выставить его деятельным агитатором Брауншвейгской фамилии, конечно, отчасти удовлетворяло видам графа Лестока, подкупленного французским и прусским кабинетами, желавшими отвлечь Россию от союза с Австрией, но главная цель все-таки ускользала из рук. Никакие пытки, никакие извороты не заставили обвиняемых указать на общность интересов вице-канцлера и де Ботта, – напротив даже, из этих показаний ясно выказывалось, что Бестужевы, в особенности вице-канцлер, в последнее время с де Боттой были далеко не в дружеских отношениях.
Главная цель не достиглась, но волей-неволей, а пришлось прекратить следствие и представить его на рассмотрение суда.
Для суждения о заговоре образовалось при Сенате генеральное собрание, в состав которого пригласили и некоторых архиереев как представителей с духовной стороны.
Заседание великого собрания открылось присягою, отобранною от всех членов, в том, что они обо всем происходящем будут содержать в великой тайне. Затем прочтена была коротенькая записка, с обстоятельным содержанием всего несложного следствия.
Начались прения, шумные, горячие, но не о том, виновны или нет обвиняемые, – в этом никто не должен был и не смел сомневаться, – а в выборе наказания, в выборе смертной казни.
Один из сенаторов высказал:
– По моему мнению, достаточно подвергнуть виновных обыкновенной смертной казни, ибо они никакого насилия еще не учинили, притом же и русские законы не излагают точного положения относительно женщин в подобных случаях.
Это мнение вызвало шумное негодование. Явившийся только на этот раз, ради преданности к правительству и дружбы к графу лейб-медику, генерал-фельдмаршал – известный в обществе под кличкой «фельдмаршала комедиантов» – и вместе с тем сенатор принц Гессен-Хомбургский от негодования такой потачке преступникам вскочил с места и закричал:
– Разве неимение письменного закона может облегчать наказание? По моему мнению, в настоящем случае кнут и колесование – чрезмерно легкие казни.
Самыми строгими судьями явились сами следователи, а за ними, конечно, все члены, да и кто бы решился навлечь на себя подозрение в потворстве таким ужасным преступникам и в недостатке преданности к правительству? Генеральный совет присудил: отца, мать, сына Лопухиных и Анну Бестужеву казнить смертью колесованием и с урезанием языков. Последнюю меру присоединили по настойчивому предложению графа Лестока.
– Не имеет ли кто-нибудь из господ членов подать особливое мнение? – спросил граф Лесток, пытливо осматривая собрание, когда прочтен был составленный приговор.
Замечаний не сделано, а, напротив, все присутствующие спешили подписаться, заявляя тем свою глубокую преданность правительству.
Заседание кончилось; все стали уходить.
– Отец святой, преосвященнейший Стефане, да что же это такое? – шептал на ухо троицкий архимандрит Кирилл выходившему впереди псковскому архиерею Стефану, дергая того за широкий рукав голубой атласной рясы и мигая золотушными веками.
Преосвященный Стефан обернулся с недовольным видом, неодобрительно мотнул назад головой на строптивого архимандрита и вполголоса пробасил:
– А то, отче, что предержащим властям да повинуются.
Императрица смягчила приговор, заменив смертную казнь сечением кнутом.
XVII
Гвардейские команды обходят все улицы Петербурга с барабанным боем, останавливаясь на всех перекрестках и извещая жителям о назначенной через два дня утром 1 сентября на Васильевском острове перед Коллежскими апартаментами экзекуции над преступными заговорщиками. В то же время начались приготовления. На площади у канала началась постройка эшафота в виде возвышенного помоста с высоким барьером кругом, недалеко от столба с навесом, под которым висел сигнальный колокол. К площади примыкают галереи Гостиного двора, дома и заборы, а возле эшафота одинокое дерево с раскидистыми ветвями.
Тихое и ясное утро 1 сентября.
С безоблачного неба греющие, но не жгучие потоки света, воздух мягкий и ласкающий – словно какое-то ликование; ярко отражаются в листве переливы всевозможных цветов, весело блещут искрами невские струи. Река изборождена снующими яликами всех величин.
Народ толпами валит к Коллегиальной площади и становится массой кругом эшафота; всем интересно полюбоваться на давно небывалое зрелище публичного сечения и урезывания языков у высоких персон, из которых одна – знаменитая красавица, другая – невестка самого вице-канцлера, тоже не последняя по красоте. Гул, говор в толпе, прибаутки и смех; каждый продирается вперед, каждому лестно взглянуть на даровое представление.
В переднем ряду у самого эшафота стоит Матвей Андреевич Лопухинский, а в стороне от него дочь Стеня. Немного времени прошло от последнего свидании в саду около калитки, а много изменилась девушка и за это время. Черные глаза кажутся еще больше и глубже на осунувшемся лице, прежнее энергическое их выражение перешло в суровое и строгое, в упорном и неподвижном взгляде сказываются озлобление и твердая решимость, впалые щеки горят ярким ограниченным румянцем, а сложившаяся вертикальная морщинка между бровей говорит о неустанной работе недуга и мысли. Стеня держится прямо, недвижимо, уперев взгляд в эшафот, не поворачивая головы по тому направлению, куда установлено внимание толпы. Народ занимал всю площадь; вновь приходящие взбирались на заборы и крыши.
– Идут! Идут! – пронеслось в толпе.
Приближался кортеж, предшествуемый и замыкаемый отрядами гвардейцев.
Впереди осужденных шла Наталья Федоровна; простой и в беспорядке наряд нисколько не умалял ее очаровательной красоты, стройности и грации; даже время оказывалось бессильным над ней, и сорок три года, прожитые ею, не отняли свежести и нежности у все еще молодого лица. Преступницы, по-видимому, спокойны; их несколько тревожит эта необозримая масса голов с жадно устремленными на них взглядами, но это только неловкость, неудобство церемонии.
Наталья Федоровна и Анна Гавриловна убеждены в добром исходе, уверены в словах Андрея Ивановича, обнадеживавшего их оправданием в награду за показания против маркиза де Ботты.
Степан Васильевич идет твердо; подлаживаясь под свою обыкновенную походку, но это ему стоит немалых усилий; по опустившимся углам рта и судорожному их подергиванию видно, какие чувствительные следы оставило знакомство с заплечным мастером. Иван Степанович бледен, изможден, слабая природа надломилась в пытке под кнутом; в полуопущенных глазах нет выражения мысли, а какое-то блуждающее бессознание, видно, ему все равно, жить или умереть.
Осужденных взвели на эшафот, на котором расхаживали в ожидании работы заплечные мастера.
С высоты помоста Наталья Федоровна окинула все это безбрежное море голов, нечесаных, бородатых, в шапках, картузах и платках, с вытянутыми к ней шеями, словно ждущих от нее чего-то.
Ей стало больно; она надеялась увидеть лица родных, знакомых, которые ободрили бы ее, в сочувствии, в одобряющем симпатичном взгляде которых она почерпнула бы силы, но никого… Да и кому было? Мать лежала в это время больная, сломленная несчастьем – не вынесла она горя дочери, как, бывало, выносила свое; братья были под арестом, да если б и могли, то не пришли бы из опасения скомпрометировать будущую карьеру незаконным участием к преступной сестре, а знакомые, те, которые с такой жадностью, бывало, ловили каждый ее взгляд, так красно уверяли в своей преданности, любви, уважении, такой тесной толпой ухаживали за ней, считали счастьем ее малейшее внимание к себе, эти знакомые не явились сюда – их место подле блестящей красавицы, придворной знатной персоны, а не у эшафота преступницы.
«За что ж отвернулись все? Что я сделала? – мелькнул вопрос в ее голове. – Разве то, что я любила?..»
И Иван Степанович, войдя на эшафот, тоже оглянул толпу; его взгляд словно притянулся упорным электрическим взглядом двух больших черных глаз, ни на мгновение не отрывавшихся от него. Он узнал эти глаза и прочел в них не упрек за погубленную жизнь, а любовь, всепрощающую, все жертвующую без колебания, без вопросов о будущем. И не отрывался Иван Степанович от этих глаз во все время, пока был на эшафоте, не видя и не слыша ничего, что делалось кругом. В каземате он забыл было о своей Стене – физические страдания заглушали любовь; но теперь, когда он чувствует, что его сломленный организм не выдержит больше и скоро все кончится, он снова прильнул к своему детскому другу, который никогда от него не отойдет.
На эшафот вошел сенатский чиновник и высоким фальцетом начал читать манифест императрицы о винах и наказаниях преступников.
В манифесте после упоминания о злоумышленных преступлениях Остермана, Миниха, Головкина и обер-маршала Левенвольда, наказанных не смертною казнью, как бы следовало по государственным законам, а только ссылками, говорилось о неблагодарности их сродников и ближних, которые, забыв страх Божий, не боясь Страшного суда, несмотря ни на какие опасности, презирая милости, решились лишить государыню престола, дошедшего к ней по духовному завещанию матери, по законному наследству и Божьему усмотрению.
– «Лопухины же Степан, Наталья и Иван, – выкрикивал чиновник, – по доброжелательству к принцессе Анне и по дружбе с бывшим обер-маршалом Левенвольдом, составили против нас замысел; да с ними графиня Анна Бестужева, по доброхотству к принцам да по злобе за брата своего Михайлу Головкина, что он в ссылку сослан, забыв его злодейские дела и наши к ней многие не по достоинству милости».
«Так вот мы в чем виновны! Да когда ж это мы мыслили?» – спрашивала себя Наталья Федоровна, с удивлением выслушивая далее подробные исчисления преступлений каждого из них.
– «За все эти богопротивные против государства и нас вредительные, злоумышленные дела по генеральному суду духовных, всего министерства, наших придворных чинов, также лиц гражданских и военных приговорено всех злодеев предать смертной казни: Степана, Наталью, Ивана Лопухиных и Анну Бестужеву, вырезав языки, колесовать. Все они этим казням по правилам подлежат, но мы, по матернему милосердию, от смерти их освободили и, по единой императорской милости, повелели учинить им следующие наказания: Степана, Наталью, Ивана Лопухиных и Анну Бестужеву бить кнутом, вырезать языки, сослать в Сибирь, а все имущество конфисковать».
Далее следовали определения казней другим второстепенным преступникам.
– «О всем этом публикуется, – в заключение читал сенатский чиновник, – дабы наши верноподданные от таких прелестей лукавых остерегались, об общем покое и благополучии старались, и ежели кто впредь таковых злодеев усмотрит, те б доносили, однако ж самую истину, как и ныне учинено, не затевая напрасно, по злобе, ниже по другим каким страстям ни на кого, за что таковые будут щедро награждены».
Чиновник сошел с помоста, а один из палачей подошел к помертвевшей Наталье Федоровне.
Палач грубо сорвал с бедной женщины верхнее платье и разорвал рубашку…
Наталья Федоровна заплакала и всеми своими слабыми силами пыталась отбиваться, стараясь вырвать от палача платье, чтоб прикрыть им обнаженное тело, сверкнувшее молочной белизною при ярких солнечных лучах перед жадными взглядами толпы. Борьба продолжалась недолго; подошел другой палач, который, схватив своими мускулистыми руками ее нежные руки, круто повернулся и вскинул ее к себе на спину1.
Заплечный мастер, самодовольно в ожидании своей очереди игравший кнутовищем по барьеру, сделал шага два, махнул рукой, и змеей взвившаяся тонкая ременная полоса, описав в воздухе широкий круг, впилась в нежное тело, потом другой удар… третий…
С эшафота разнесся раздирающий крик. Толпа заколыхалась, глухой говор загудел в народе; кто-то из осужденных рванулся было вперед, но его удержали.
По окончании экзекуции палач сбросил с себя полумертвую Наталью Федоровну; то была еще только первая часть обещанного милосердия.
К Лопухиной подошел новый палач с каким-то инструментом в руках, не то ручными клещами, не то ножом.
Операция вырезывания языка не встретила от полумертвой женщины никакого сопротивления. Без особенного затруднения разжав челюсти, палач просунул в рот инструмент и сильным движением вырвал оттуда большую половину языка со струившейся кровью.
– Кому надо язык? Купите, дешево отдам! – предлагал толпе палач, показывая окровавленный кусок.
Снова глухой говор пронесся по толпе, но было ли то неодобрение – разобрать невозможно, кое-где послышался пьяный смех.
Покончив с Натальей Федоровной, около которой занялись служивые с перевязками, заплечный мастер подошел к Анне Гавриловне. Бестужева, все время не сводившая глаз с экзекуции над другом, не потерялась, не упала в обморок, не стала отбиваться и напрасно раздражать людей, от которых в настоящую минуту совершенно зависела, – в ней сказалась прирожденная головкинская находчивость. Анна Гавриловна сама разделась и, сняв с шеи золотой крестик, подарила его главному заплечному мастеру.
Анну Гавриловну точно так же взял на руки тот же дюжий парень, точно так же вскинул к себе на спину, как легкую ношу, но удары были не те же: крестик оказал свое действие.
Заплечный мастер, по-видимому, старался еще более прежнего; размашистее поднимались руки, шире описывался круг ременной полосою, но удары ложились на тело бережно, оставляя по себе только легкую красную линию, не врезываясь и не делая нестерпимой боли. Как истый фокусник, мастер умел отводить зрителям глаза.
Такую же услугу оказал мастер своей крестовой сестре и при операции урезывания языка. С точно такими же приемами, если не с большим насилием, он ввел между челюстей нож, но, вместо почти всего языка, отрезал только конец.
За Анной Гавриловной следовала очередь Степана Васильевича. Его раздели – сам он не мог двигать изломанными членами, – и прежний великан взвалил на себя грузное тело. Пестро было теперь это тело с синими опухлыми суставами и с синими рубцами на спине. При первых же ударах показалась кровь из раскрывшихся струпьев и явилась нестерпимая боль, но Степан Васильевич оставался верен себе и не издал звука; как не выказывал он никакой боли во всю свою жизнь при ежедневных оскорблениях самолюбия, гордости и любви, так и теперь вынес временные физические страдания – только сильнее хрустнули сжатые челюсти, да две слезинки показались из закрытых глаз.
Степану Васильевичу урезали половину языка.
На Иване Степановиче когти застенка оказались еще сильнее. Виска и кнутовой розыск в два приема искалечили хрупкое тело молодого человека, перенявшего от матери слабость организма и чуткость чувств. Вся спина его была покрыта вспухшими рубцами и струпьями, из которых местами даже до удара кнута пробивалась кровь. Как и мать, Ивана Степановича полумертвого спустили на пол. Приловчившийся мастер и ему точно так же вырезал половину языка.
По окончании экзекуции всех преступников рассадили по телегам и повезли за город, в деревню, за десять верст, где ожидали их те, которые желали с ними проститься.
Народ расходился.
– Матвею Андреичу наше наипочитание-с! – приветствовал Лопухинского торговец из бакалейного ряда в синей поддевке и в плисовых шароварах, запущенных в сапоги, приподнимая с утонченной вежливостью немецкий картуз. В другое бы время Матвей Андреич с не меньшею бы деликатностью отплатил за приветствие собрата, но в настоящее время он удовольствовался одним приподнятием картуза. – Преинтересное, я вам доложу-с, зрелище, – продолжал тот же торговец, направляясь по одному пути с Матвеем Андреичем, – примерно сказать, точно-с, зловредительные хуления, без сумнения, навлекают достойные штрафования, но, с другой стороны, по умственному соображению и то-с: женщины, известно, слабый сосуд-с… словесами весьма преизобильный… за что же-с?
Матвей Андреич молчал; может быть, он и не слыхал слов товарища.
– Как же таперича насчет дельца, Матвей Андреич? Приказный прочитал, что вотчины Степана Васильевича конфисковать, сиречь отобрать-с, откуда же провиант будет вам доставляться? – не отвязывался бакалейщик, надеясь ударить на больное место и тем обратить внимание Лопухинского.
– А тебе, Ферапонт Лексеич, какое дело? По чужим карманам нечего лазить! – оборвал Матвей Андреич и прибавил шагу, видимо, отделываясь от разговора.
– Что-с? Осерчали! Значит, примерно сказать, уж оченно огорчены-с? – И, отстав от Матвея Андреича, бакалейщик постоял минуту, подергал губами, отплюнул через зубы и пошел отыскивать другого товарища.
Пошла домой и Стеня Лопухинская, машинально, как автомат, не сознавая, где и куда идет. Она не видела, как наказывали Наталью Федоровну, Бестужеву, Степана Васильевича, не слыхала отчаянных, раздирающих криков, – она вся сосредоточилась в одном образе, видела только одного его, бледного страдальца Ваню, смотревшего на нее с высоты помоста неотступно, будто прощальным взглядом, видела потом, как его поволокли, обнажили всего избитого и изрезанного…
Боже, думала она, как он страдал, как мучили, а она вот здорова и не чувствовала, как его резали злодеи… Нет, чувствовала, недаром же по целым ночам она не спала, недаром же острая боль резала грудь и замирало сердце. И вот теперь она стоит, пальцем не шевельнет, а его терзают, кровь льют… В голове у девушки все потемнело и спуталось, в расширенных зрачках стоит изрытая спина с лохмотьями кожи и с потоками крови.
Не чувствовала Стеня, как пошла вслед за другими, как воротилась домой и села к окну. В это утро оставалась дома одна мать с хлопотами по хозяйству. Работящая, не знавшая устали Ариша в последнее время опустилась. Давно она стала замечать в дочери неладное, перемену какую-то, словно стала Стеня совсем другая; материнское сердце подсказало, что беда тут от молодого соседа, от черного его глаза, и стала она присматривать за Стеней. Хоть и знала она свою дочку-гордыню, да ведь с девичьею немощью долго ли до греха! Иной раз, глядя на свою красавицу, Ариша раздумается и спрашивает себя, чем бы дочка хуже этих знатных барышень красотой, образованием, талантом и почему бы ей не сделаться из Лопухинской Лопухиной, а потом вдруг опомнится и перекрестится от испуга.
Арест господ сначала как будто даже обрадовал Аришу, оттого ли, что она не ожидала для них никакой опасности и не придавала новой опале другого значения, кроме временной острастки, или оттого, что в каждом человеке, подневольном силою внешнею, в самом добродетельном из таких подневольных, всегда хоронится в душе протест против господ, заставляющий радоваться их беде, или, может быть, и даже вероятнее, оттого, что арест отдалял хоть на время опасность от дочки и принижал господскую гордость. К чести Ариши, радость эта, однако ж, только скользнула по ее сердцу. С каждым днем затянувшегося розыска, с каждым новым известием о страстях застенка она все сильнее болела о несчастных благодетелях и все чаще забегала в соседние палаты поглядеть на детей, сидевших под караулом. С другой стороны, и состояние дочери сильнее стало ее тревожить: из энергичной, работящей помощницы Стеня сделалась какой-то растерянной и болезненной.
Положение дочери по возвращении с экзекуции, ее дикий, неподвижный взгляд напугали Аришу, однако ж она не показала тревоги, а только чаще, будто по надобности, подходила к тому месту, где сидела дочь, да искоса поглядывала на нее сквозь набегавшие слезы; наконец, вдоволь намучившись, решилась заговорить:
– Видела, Стеня, отца?
Дочь, по-видимому, не слыхала.
– Много, Стеня, народу было? – снова заговорила Ариша, которую все больше и больше пугала неподвижность дочери.
Стеня опять не слыхала вопроса.
– Куда, Стеня, пошел отец, в кладовую, что ль?
То же молчание.
– Знаешь что, Стеня, – с усилием заговорила Ариша, окончательно надорвавшись, – не поехать ли тебе… туда… в деревню… простилась бы…
– Не надо… – глухо отозвалась дочь.
В полдень того же 1 сентября в неизвестной деревушке из немногих скривившихся бедных лачужек, в десяти верстах от столицы по Московской дороге, скопилось небывалое множество народу.
Солдатики то и дело шмыгают из одной избы в другую, шаря и выискивая себе что-нибудь подходящее на дальнюю дорогу; подводы стоят около каждых ворот; шум и суматоха – никогда не слыханные в забытом уголке; ругань стоит повсеместная: ругаются солдатики – невесело им ни за что ни про что от теплого гнезда ломать дорожку в Сибирь, да когда еще – в самую-то ненастную осеннюю непогодь; ругается прислуга, забывая в сборах то, что именно-то и нужно в дороге, ругаются обыватели деревушки, у которых солдатики на глазах воруют кур, поросят и всякую живность.
В избе попросторнее других помещаются арестанты Лопухины, Анна Гавриловна, приехавшие проститься дети Лопухиных – красавица Настенька, будущие красавицы Аннушка и Прасковья, сыновья Абрам и Степа, их караульные и прислуга.
Наталья Федоровна, Степан Васильевич и Иван Степанович лежат не шевелясь на лавках трупами. Десятиверстная поездка в телеге по тряской дороге не могла не растревожить истерзанных членов.
Дети боязливо толпятся около отца и матери, плачут, Настенька осторожно целует руки матери, ее лоб, не касаясь повязок.
Наталья Федоровна даже не взглянула на детей.
Степан Васильевич хотел благословить их, попробовал было поднять руку, но та опустилась с нестерпимой болью.
Одна Анна Гавриловна смотрит бодрее всех и прямо сидит на лавке за столом.
Казалось бы, ничего не могло быть ужаснее положения Лопухиных, а между тем в сердце Анны Гавриловны шевелится зависть: она сравнивает свое положение и находит его печальнее. У них вот дети, думала она, любящие, преданные дети; пройдут тяжелые времена, воротятся отец и мать в родную семью, где встретят привет, любовь, бескорыстную преданность, – а ее кто будет ждать? Куда она воротится? Отец и мать умерли, муж рад, что избавился от жены, не приехал и проститься, дочь, графиня Ягужинская, вся характером в отца, Павла Ивановича, тоже нашла неуместным проститься с опальной матерью; есть брат Александр Гаврилович, да он далеко, посланником за границей, и человек холодный, совсем чужой: от него не было бы легче; есть брат любимый Миша, так он, верно, теперь умирает в какой-нибудь избе… Для кого же и для чего ей жить, а женское сердце требует любви во всяком положении и во всякое время.
Кончились наконец сборы, и по приказу командира команды стали размещать арестантов по телегам в дальнее путешествие, в Сибирь, с лишком за восемь тысяч верст.
Лопухинский заговор долго сохранялся в народной памяти, и рассказы о необыкновенной красоте Натальи Федоровны долго передавались легендарно, искаженные творческим инстинктом, от одного поколения к другому.
По народным рассказам, Наталья Федоровна была казнена единственно по ревности государыни, и красота ее была до такой степени обольстительна, что солдаты, наряженные к расстреливанию, из боязни обольщения стреляли в осужденную зажмурившись.
XVIII
Опустевшие Лопухинские палаты неприветливо смотрят двумя рядами заколоченных окон. Вскоре по высылке Натальи Федоровны и Степана Васильевича высланы были и дети их со всею челядью в отдаленную уцелевшую вотчину; в доме, в чине караульщика, остался один старый хромоногий Кирюшка да неразлучный его товарищ, чуть ли не такой же старый, слепой и кудластый пес Орелка. И доживают два друга в осиротевшем доме свои последние неприглядные дни; удар, разразившийся над господами, наложил, казалось, мертвящую руку на весь дом, на каждую доску, на каждую утварь, на каждое дерево в саду.
С выселением Лопухиных обесцветилась и жизнь Лопухинских.
Матвей Андреич по торговым занятиям почти по целым дням не бывал дома, Ариша хоть и работала по хозяйству, но работа как-то не спорилась, не по-прежнему кипело дело в руках – очень уж привыкла она к господам; последний поезд из господских хором внес гнетущую пустоту в ее неразнообразный и неширокий мирок. К этому горю налегло еще другое, непосильное и неотстанное, – видимая болезнь Стени.
Странная же была эта болезнь!
Без видимой причины девушка заметно начала таять и с каждым днем становиться все чуднее. Иной раз она сделается такою радостною, точно свет какой озарит ее всю: глаза заблестят искрами, губы начнут улыбаться, словно говорит она с кем-то; а в другой раз вдруг осунется, как земляная станет, забоится чего-то и задрожит; иной раз как уставит неподвижный взгляд, так и застынет, а иной раз застонет, затошнит ее, словно внутренности подымаются.
Прибегала Ариша ко всем известным ей целебным средствам, вынимала части за здравие чуть не каждую обедню, бегала к отцу протопопу с просьбою помолиться о рабе Степаниде, бегала и к знахарке Улите, приносила от знахарки какие-то корешки, зашивала их в тряпочки и тихохонько подкладывала под изголовье дочери, – но ни молитвы отца протопопа, ни корешки Улиты не помогали.
Прошел месяц от экзекуции; Петербург окутала глубокая осень с безрассветно туманными днями, с мелкой изморосью, с холодными морскими ветрами. В небольшом, но уютном флигельке Лопухинских тепло, да и как не быть теплу. Матвей Андреич сам надзирал над постройкой дома, зорко наблюдал за плотной пригонкой, без щелей и прорух, куда так любит забиваться осенняя непогодь, и действительно, ни зимой, ни осенью хозяева не жаловались ни на холод, ни на сырость.
У окна на улицу сидит Стеня – любит она это окно; из него, бывало, посматривала и поджидала, как пройдет Ваня, как он поглядит и улыбнется.
Ариши нет дома, она побежала снова к знахарке пожалобиться – не помогают корешки, попросить, нет ли какого другого зелья.
Стеня смотрит в окно и смеется; точно будто увидав милого, она вскочила, набросила на себя полушубейку и побежала в господский сад, к тому месту около калитки, к заветной скамейке, где она пожертвовала всем для него. И сидит она на скамье, жадно вперив взгляд на тропинку, протоптанную к широкому двору, ждет своего Ваню; ярко зарделись щеки, диким блеском загорелись глаза, высоко заколыхалась грудь от порывистого дыхания из открытых, засохших губ. Ей надобно передать Ване все, что ее мучает, то, что их любовь может не быть тайной для матери… что она не вынесет позора…
Проходят минуты, медленно ползут они, а его все нет; глухо в господском саду, только карканье грачей на высоких ветвях да шелест падающих запоздалых листьев. Напряженный слух обманывает: не раз простой шелест показался за походку Вани, не раз показывалась и тень его… всматривается… нет, это столб вязовый, стоящий у входа в сад одиноко.
Холодные дождевые капли падают на лицо Стени; она начинает вспоминать жалкий, умоляющий взгляд с помоста, потом окровавленную, изрытую спину…
С диким хохотом вскочила Стеня со скамейки и бросилась бежать; вихрем пронеслась она мимо ворот по улице, дальше и дальше; морской ветер режет лицо, разметал длинную густую косу, но она не чувствует ни холода, ни липкой грязи. Она подбежала не то к реке, не то к взморью, к той береговой круче, на которой раз под раскидистым кустом густого орешника она сидела с Ваней и миловалась при шуме набегавших волн.
Стеня приостановилась на краю высокой кручи, сбросила полушубейку и полетела вниз…
Шелохнулось море, забрав в себя новую жертву, широким кругом раздалась вода у кручи, и потом снова все слилось… за несколько шагов дальше показалась было над поверхностью рука Стени, как будто на прощание с землей.
Воротилась домой Ариша веселою; тетка Улита дала ей новый порошок с крепким словом, что от одного его приема всю лихую болесть как рукой снимет, что этот порошок дорогой, и никому бы она его не дала, да решилась ради жалости к Арише да ради ласки ее в виде немалых приносов полотен и шитых рушников. Во всю дорогу домой Ариша думала, как она незаметно положит порошок в питье и подаст его Стене, та выпьет, выздоровеет, снова станет прежней милой девочкой, потом как она выдаст дочку замуж за богатого и хорошего человека, пойдут внуки и станет она нянчить своих внучат.
Войдя в комнаты, Ариша даже довольна была, что не застала Стеню на обычном месте у окна.
«Видно, прогуляться пошла, пусть ее, только как же двери-то оставила настежь?» – подумала Ариша и принялась за свои хлопоты.
Проходит час, другой, а Стени все нет как нет; скоро придет и Матвей Андреич, надобно позвать дочь. Ариша пошла в свой сад, прошла в соседний господский, справилась у хромоногого Кирюшки, не приходила ли Стеня, не видел ли он ее где-нибудь, и, получив отрицательный ответ, отправилась дальше на улицу. Чем больше проходило времени, тем тревожнее становилась мать. Наконец, проходя недалеко от берега, она заметила наверху кручи какую-то одежду, подошла, узнала полушубейку Стени… и ей стало все ясно…
Через несколько дней рыбаки вытащили тело Стени.
Иван Степанович пережил Стеню только несколькими днями.
Медленно тянулся ссыльный поезд по дороге, и в хорошую-то погоду трудной, а осенью почти непроездной.
Иван Степанович страдал и в минуты, когда приходило сознание, молил у Бога скорой развязки. Наконец и она наступила, когда поезд, перевалив через Урал, спустился в сибирские степи; на одной из первых станций из повозки вытащили Ивана Степановича совсем охолодевшим трупом.
Ворча на досадную помеху, команда наскоро вырыла могилу, наскоро отслужил панихиду деревенский поп, равнодушно простились с сыном Наталья Федоровна со Степаном Васильевичем, и засыпали бедного холодной сибирской землею.
Когда и где именно умер и погребен Иван Степанович – никому не известно.
На дальнейшем пути умер и Степан Васильевич; места назначения достигли только Наталья Федоровна и Анна Гавриловна.
Лопухинский заговор составляет один из характерных эпизодов борьбы в Петербурге политических и придворных партий в царствование Елизаветы Петровны.
Раздувая измышленный заговор, граф и лейб-медик Лесток всеми средствами старался замешать австрийского посланника маркиза Ботта д’Адорно в полнейшей надежде через это если не сломить окончательно своего врага Алексея Петровича Бестужева, явного сторонника австрийского союза, то, по крайней мере, его как вице-канцлера сильно скомпрометировать. Благодаря вынужденным показаниям двух женщин это удалось, и графу нетрудно было убедить государыню в необходимости преследовать Ботту, которого нерасположение она испытала, еще бывши цесаревною.
По настоятельному приказу из Петербурга наш посланник в Вене Ланчинский потребовал от австрийского правительства сатисфакции за богомерзкие поступки маркиза Ботты д, Адорно, но получил уклончивый ответ. Императрица Австрии Мария-Терезия, а за ней и канцлер ее Улефельд отозвались невозможностью подвергнуть ответственности маркиза, не спросив от него объяснений, без обсуждении его вины и без предания суду.
– Неприятели мои, для повреждения нашей с российскою императрицею дружбы, нанесли на маркиза Ботту затейные, но тяжкие вины, а он человек разумный: как он мог так постыдно вмешиваться в Петербурге во внутренние дела? – печально жалобилась Мария-Терезия Ланчинскому.
Вслед за тем и Улефельд сообщил нашему послу ответ Ботты о том, что тот никогда в близких отношениях с Лопухиными не бывал, езжал к ним в год не более пяти или шести раз, а с другими участниками и вовсе не был знаком. Точно так же даже и сам Фридрих Прусский, несмотря на все свое желание поссорить Елизавету Петровну с Марией-Терезией, отвергнул положительно и официально известие де Валори относительно Брауншвейгской фамилии.
Против этих ответов Ланчинский, возразив, что для обвинения достаточно одного свидетельства русского правительства, продолжал настаивать на сатисфакции и наконец решительно объявил о перерыве дипломатических сношений и о скором своем выезде из Вены. В это время императрица Австрии, стесненная со всех сторон прусским королем, находилась в самых критических обстоятельствах, из которых вывести ее могла только поддержка России. В таком положении она отправила в Петербург особо уполномоченного посла графа Розенберга с поручением заискать расположение Елизаветы Петровны и сообщить, что маркиз Ботта после домашнего ареста подвергнут шестимесячному заключению в замке Грац, где содержатся государственные преступники. Вместе с тем графу Розенбергу было поручено, в случае неудовлетворения подобным взысканием, просить присылки подлинного следствия или в извлечении показаний участников лопухинского заговора для назначения формального уголовного суда над преступным маркизом. Но так как отсылка подлинных показаний, из которых ясно открывалось, каким путем достигались ответы на участие Ботты, оказывалась неудобной, то императрица и поспешила объявить свое удовольствие на сатисфакцию и желание предать дело о Ботте забвению.
Политическая роль лопухинского заговора кончилась шумным, трескучим фейерверком, опалившим ни за что ни про что несколько лиц, но не доставившим авторам никакого результата.
По-прежнему при дворе боролись, не останавливаясь ни перед какими средствами, две партии: одна, состоявшая из послов Франции и Пруссии, графа Лестока, получавшего от них пенсии, Блюммера, Трубецкого и Румянцева, интриговала в пользу союза четырех держав: Франции, Пруссии. Швеции и России; другая, состоявшая из английского посла Вейча и вице-канцлера Бестужева, стремилась к союзу с морскими державами и Австрией. Вице-канцлер находил сближение и союз с морскими державами и Австрией совершенно отвечающими интересам Русского государства и единственными мерами сохранения европейского равновесия; в доказательство своего мнения он приводил политику Петра Великого и указывал на опасный рост Пруссии, которая со временем по соседству может сделаться для России опасною.
Трудно было Елизавете Петровне, не подготовленной и не знакомой с государственными делами, найтись в паутинных интригах двух партий. Она, понимая свое положение и сознавая свою неопытность, естественно, боялась решительного шага и ограничивалась выслушиванием обеих сторон до той поры, когда доводы их выяснятся до очевидности.
Борьба между Лестоком и Бестужевым велась упорная и ожесточенная, не допускавшая никаких компромиссов. Лопухинский заговор, по-видимому, дал перевес партии лейб-медика, который, считая дело свое выигранным, стал торопить государыню на заключение союзов с Францией и Пруссией, но Елизавета Петровна далеко уже не чувствовала прежнего расположения к своему доктору; даже во время производства розыска над Лопухиными она продолжала принимать доклады от вице-канцлера, хотя реже и с некоторой сдержанностью.
Для окончательного низвержения вице-канцлера Лесток вызвал из Франции бывшего французского посланника маркиза Шетарди, старинного своего благоприятеля и друга. Маркиз приехал в качестве гостя, преданного человека императрицы, бесхарактерного – по современному выражению о неимении политической официальности, – но с тайными поручениями и уполномочиями от версальского кабинета. Для содействия Шетарди в Петербурге явилось шведское посольство с таким же тайным поручением – употребить все возможные средства, не исключая даже и составления подложных документов, истратить до ста тысяч рублей, но стереть Бестужева. Какой вес придавали Алексею Петровичу, можно видеть из современной тогда переписки кабинетов со своими агентами. Французский посланник граф д’Альон писал к министру Амелоту:
«Я ни на одну минуту не выпускаю из вида погубления Бестужевых. Господа Блюммер, Лесток и генерал-прокурор Трубецкой не меньше моего этим занимаются. Блюммер мне вчера говорил, что готов ручаться головою за успех нашего дела. Князь Трубецкой надеется отыскать что-нибудь, в чем бы он мог поймать Бестужевых; он клянется, что если ему это удастся, то он уже доведет до того, что они сложат на эшафоте свои головы».
В то же время знаменитый и великий Фридрих Прусский писал к своему министру:
«Я не пощажу денег на привлечение России на свою сторону и чтоб иметь ее в своем распоряжении; теперь настоящая пора, или мы в этом никогда не успеем. Поэтому-то нам нужно очистить себе дорогу сокрушением Бестужева и всех тех, которые могли бы нам помешать, так как, когда мы крепко уцепимся в Петербурге, тогда только будем в состоянии громко говорить в Европе».
Несколько позже тот же Фридрих писал Мардефельду:
«Если я должен буду воевать с одной австрийской императрицей, то, конечно, всегда выйду победителем, но для этого непременное условие – сокрушение Бестужева. Я не могу ничего сделать без вашего искусства и без вашего счастья; от ваших стараний зависит судьба Пруссии и моего дома».
Великий Фридрих не щадил ни денег для подкупов, ни ума на измышление ловких изворотов, внушений, лжи и клеветы. Скоро у Фридриха явился еще новый деятельный союзник в лице матери невесты великого князя, принцессы Ангальт-Цербстской, душевно преданной великому Фридриху и действовавшей по его указаниям.
Против всех этих могучих врагов стоял почти одиноким Алексей Петрович, если не считать тайной поддержки от лиц, близко стоявших к государыне, от Алексея Григорьевича Разумовского, впрочем, отстранявшегося от государственных дел, и от князя Воронцова, выжидавшего, чем кончится борьба. Правда, был еще союзник – архиепископ Амвросий Юшкевич, имевший особенное значение по набожности Елизаветы Петровны, но он, по личному своему характеру, постоянно уклонялся от прямого участия.
В таком положении находились дела во время приезда в Петербург Шетарди, на которого смотрела своя партия как на главного вожака и представителя. Елизавета Петровна приняла его, как старого друга.
«Шетарди, несомненно, возьмет верх над всеми своими политическими соперниками и оставит их с длинным носом», – писал Мардефельд берлинскому кабинету. И действительно, с приезда Шетарди придворная интрига закипела с тою энергией, которою всегда отличался отважный француз: созидались комбинации, возникали беспрерывные переговоры, летали ноты и депеши, явные и тайные. Шетарди усиленно работал, нисколько не подозревая, что вся его работа шла в руку вице-канцлеру. Прочитывая все шифрованные депеши Шетарди с помощью ключа, открытого академиками Гольдбахом и Таубертом, Алексей Петрович представлял их императрице с должными объяснениями и примечаниями, в которых, разумеется, не скупился на краски для обрисовки деятельности французской партии. Таким образом, самыми верными союзниками Алексея Петровича делались сами же Лесток и Шетарди. Самонадеянные, несдержанные, осмеивающие все и всех, оба они в депешах нередко отзывались об императрице в выражениях оскорбительных как для государыни, так и для женщины. Конечно, и этих депеш Алексей Петрович не утаивал, а, напротив, сумел выставлять их еще в большем оскорбительном виде.
Последствия не замедлили обнаружиться. В одно прекрасное утро неизбежный Андрей Иванович Ушаков в сопровождении советников Иностранной коллегии явился в квартиру Шетарди с подлинными депешами для улики маркиза и объявил ему распоряжение императрицы о немедленном, в двадцать четыре часа, выезде его из столицы. Сконфуженный Шетарди не рискнул на оправдание, а, напротив, был очень доволен, что так дешево отделался.
Удовольствие вице-канцлера по поводу отъезда Шетарди сквозит в каждой строке письма Алексея Петровича к графу Воронцову: «Поистине доношу, что такой в Шетарди конфузии и торопости никогда не ожидали. Конфузия его была велика: ни опомниться, ни сесть попотчевать, ниже что малейшее в оправдание свое привесть, стоял потупи нос и во все время сопел, жалуясь немалым кашлем, которым и подлинно не может! По всему видно, что он никогда не чаял, дабы столько противу его доказательств было собрано, и когда оныя услышал, то еще больше присмирел, а оригиналы когда показаны, то своею рукою закрыл и отвернулся, глядеть не хотел».
Между тем и другой враг вице-канцлера, мать невесты, принцессы Ангальт-Цербстской, за обнаруженное в депешах участие в интриге получила от государыни веское внушение, отбившее у нее на будущее время охоту вмешиваться в политические дела. Шансы Алексея Петровича повысились: у него остался только один прямой, открытый враг – Лесток, но дискредитированный, потерявший доверие государыни и потому неопасный.
– Лесток негодяй, готов продать меня кому угодно, но я привыкла, и мне жалко его, – все чаще и чаще поговаривала Елизавета Петровна по мере того, как все глубже укоренялась в ней уверенность в нахальной продажности своего доктора и бывшего друга.
Но по самонадеянности и избалованности Лесток не обращал внимания на упадок расположения государыни и встрепенулся только тогда, когда не было уже средства воротить прошлое и даже не было возможности удержать за собою и ту долю влияния, которою он все еще пользовался.
Постепенно, почти незаметно, он падал, и наконец по какому-то неважному обстоятельству был отослан от двора навсегда.
Алексей Петрович, сделавшись полным и властным руководителем отношений петербургского кабинета, привел в исполнение свои политические виды. Благодаря вмешательству России Австрия сохранила свое положение великой державы, а Фридрих Великий должен был вынести страшную Семилетнюю войну, из которой мог выйти окончательно не раздавленным только его гений.
Остается сказать два слова о судьбе главных участниц в лопухинском заговоре. Анна Гавриловна умерла в Якутске, в котором году – неизвестно, но во всяком случае не ранее пятидесятых годов, а ее шестидесятитрехлетний муж еще при ее жизни рискнул жениться в третий раз в Дрездене на молодой вдове. Наталья Федоровна через двадцать лет, при вступлении на престол Петра III, воротилась в Петербург и бывала в больших собраниях, где ее окружала тоже толпа, но не поклонников, а любопытных слышать ее мычание. Умерла она в 1763 году, прожив последние годы счастливо в кругу детей и внучат.
А что же сталось с Бергером? Он за усердие к службе, выразившееся в доносе на Лопухиных, был переведен из лейб-кирасирского полка в конно-гвардейский поручиком же, да и впоследствии не отличался по службе: в 1762 году вышел в отставку подполковником.






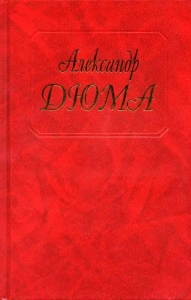
Комментарии к книге «Фавор и опала. Лопухинское дело», Петр Васильевич Полежаев
Всего 0 комментариев