Константин Петрович Масальский Регентство Бирона. Осада Углича. Русский Икар
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010
Регентство Бирона
I
На адмиралтейском шпице пробило девять часов. Огни в окнах петербургских домов погасли, и столица затихла. Один однообразный шум осеннего дождя нарушал глубокую тишину. Изредка прохожий, завернувшись в плащ и озябшею рукою держа над собой промокший зонтик, спешил к дому и робко посматривал на Летний дворец. Там во всех окнах, на опущенных малиновых занавесях разлитое сияние свеч беспрерывно меркло от мелькавших теней; заметно было, что во дворце из комнаты в комнату торопливо ходили люди. Это было 17 октября 1740 года.
В слабо освещенной зале, находившейся подле спальни императрицы Анны Иоанновны, дежурный капитанн Ханыков шепотом разговаривал с поручиком Аргамаковым. Они, как и все бывшие в зале вельможи и придворные, с беспокойным ожиданием временами глядели на дверь спальни.
Вдруг дверь отворилась, и обер-гофмаршал граф Левенвольд медленно вышел в залу, склонив голову на грудь и закрыв лицо платком.
– Все кончено! – сказал он прерывающимся голосом. – Императрица скончалась!
Слова его, как сильный электрический удар, в один и тот же миг потрясли всех присутствовавших. Многие плакали, другие крестились, третьи, побледнев, сложили руки и склонили к земле мрачные взоры.
Упавшую в обморок племянницу императрицы принцессу Анну Леопольдовну, супругу принца Брауншвейгского Антона Ульриха, фрейлины тихо пронесли через залу в ее комнаты. За нею следовал супруг.
Когда ее привели в чувство, она возвратилась в залу и, бросившись в кресло, начала горько плакать. Напрасно принц, стоя позади кресел и наклонясь к своей супруге, старался утешить и умерить ее горесть.
Между тем в спальне слышно было рыдание, прерываемое громкими восклицаниями и жалобами. Это был голос герцога Курляндского Бирона, возведенного милостью умершей царицы из низкого состояния на такую степень почестей и могущества, какая только возможна для подданного. Долго рыдал он, стоя на коленях перед одром императрицы, и ломал в отчаянии руки. Подлее него стоял генерал-прокурор князь Трубецкой. В одной руке князь держал какую-то бумагу, другой по временам утирал слезы, навертывавшиеся на его глаза.
– Кто в зале? – вдруг спросил герцог, продолжая рыдать.
Князь Трубецкой, подойдя к двери и выглянув в залу, вновь приблизился к Бирону и назвал бывших в зале по именам.
– Подойдем к ним! – продолжал герцог, вставая. – Не теряя времени, объявим последнюю волю императрицы.
Они вышли в залу, и Трубецкой начал читать бумагу, которую держал в руке. Все окружили его. Один лишь принц Брауншвейгский не отошел от кресла, в котором сидела его супруга.
Властолюбивому Бирону во время тяжкой и продолжительной болезни императрицы неотступными просьбами нетрудно было убедить ее подписать акт о назначении его правителем государства на время малолетства избранного ею в преемники Иоанна Антоновича, сына принца Брауншвейгского.
Когда Трубецкой дочитал акт до того места, где говорилось о назначении правителя, то Бирон, предугадывая, как это будет оскорбительно для принца Антона Ульриха и его супруги, родителей младенца императора, взглянул на первого испытующим взором и сказал:
– Не желаете ли, ваше высочество, вместе с другими выслушать последнюю волю ее величества?
Принц, внутренне оскорбленный вопросом наглого властолюбца, скрыл, однако, свои чувства и, отойдя от своей супруги, со спокойствием на лице приблизился к Трубецкому, чтобы дослушать акт, который читали.
На рассвете следующего дня объявили о смерти императрицы и о новом правителе. Сенат просил его принять титул высочества и по пятисот тысяч рублей ежегодно на содержание его двора. Бирон, по воле которого сделаны были эти предложения, без затруднения согласился на то и другое. Если и ныне имя Бирона заставляет содрогаться русских, привыкших к милосердию и кротости, к этим наследственным добродетелям их венценосцев, то что должны были чувствовать наши предки, когда разнеслась весть, что Бирон, ужасавший их в течение десяти лет своими жестокостями, сделался их полновластным правителем, что еще семнадцать лет будут они ожидать совершеннолетия императора и своего спасения.
II
Смеркалось. На деревянном Симеоновском мосту встретились два человека в темно-зеленых широких плащах. На низкий поклон одного другой слегка кивнул головой.
– Нет ли чего нового? – спросил последний по-немецки, осмотревшись и уверясь, что вблизи нет ни одного прохожего.
– Ничего важного не случилось, – отвечал на том же языке низкопоклонный. – Давеча утром я уже докладывал вашей милости, что вчера капитан опять был в известном доме на Красной улице и что потом ее высочество цесаревна Елиз…
– Т-с! Тише! Ты забыл, что мы на мосту! Вон, видишь, там кто-то идет. Ну а не разведал ты еще ничего об его друге, поручике?
– Он заодно с капитаном, в этом нет никакого сомнения. Я узнал, между прочим, сегодня, что отец поручика втайне держится феодосьевского раскола и старается обратить в свою ересь и сына.
– Право? Это недурно! А где он живет?
– Вон его дом.
Он указал на деревянный дом, уединенно стоявший на берегу Фонтанки, против нынешнего Екатерининского института.
– Еще узнал я, что отец поручика довольно богат.
– И это недурно. Мы можем и его припутать к делу. Можно ли уличить его в том, что он держится раскола?
– Уличить мудрено. Он во всем запрется. Вашей милости известно, что эти богомолы и пытки не боятся.
– Что для тебя мудрено, то для другого легко. Он безграмотный?
– Какой безграмотный! С утра до вечера все сидит за своими писаными книгами.
– Тем лучше. Приготовь завтра клятвенное отречение от феодосьевской ереси. Именем герцога я потребую, чтобы старый дурак подписал эту бумагу в доказательство того, что он не феодосиянин. Увидишь, что он ни за что на свете не подпишет. Вот тебе и улика!
– Бесподобно вы придумать изволили!
– То-то же! Потом я скажу ему, что должен буду доложить об его ослушании герцогу и что он будет сожжен, как Возницын, за ересь и за старание отвлечь сына от православной веры.
– А все пожитки его конфискуем в казну? Понял ли я вашу мысль?
– Нет, любезный, не понял! Что за важная прибыль для казны от его имения? Это капля в море! И что мне и тебе за выгода сжечь одного русского дурака? Много еще их на свете останется. Если бы дураки могли гореть, как плошки, и если бы всех их вдруг зажечь в Петербурге, то вышла бы великолепная иллюминация!
Довольный своею глупою остротой, он засмеялся.
– Иллюминация! Истинно иллюминация! – подхватил низкопоклонный с принужденным хохотом. – Однако я все еще не понимаю вашего намерения.
– Я вижу, любезный, что в иллюминацию и тебя пришлось бы засветить, хоть ты и не русский.
– Виноват! Иногда я бываю непростительно бестолков.
– Странно, что ты меня не понимаешь! Я хочу только проучить глупого старика. Будет с него и одного страха, а для меня довольно и одной сотни рублевиков.
– А, теперь все ясно! Помилуйте, да он заплатит и две сотни, лишь бы не подписать отречения от ереси.
– Увидим! Этот небольшой штраф послужит ему на пользу. Он, верно, и сам сделается умнее, и сына перестанет тянуть в свою ересь. Им и нам будет хорошо. Не забудь же приготовить бумагу. Да смотри, никому ни слова! Я с тобой всегда откровенен и всех более на тебя полагаюсь. Умей ценить мою доверенность, а не то берегись!.. Я искусный охотник, а ты собака, которая должна отыскивать дичь. Долю ты свою получишь из добычи, хоть это и противно правилам охотников.
Низкопоклонный поцеловал руку и плечо у другого и несколько раз поклонился.
– Если же старый дурак, сверх всякого ожидания, подпишет отречение, – продолжал низкопоклонный, – то как вы поступите? Тогда план ваш расстроится.
– Ничуть! Подписанное отречение послужит вместо письменного признания в ереси. Тогда в моей власти будет принудить богомола заплатить нам такой штраф, какой мне только вздумается. Если же он заупрямится, я донесу о нем герцогу. Даром никто не станет подвергать себя опасности и скрывать чужое преступление, за которое следует сжечь преступника. Тогда он сам будет виноват, если с ним так же строго поступят, как с Возницыным.
– Совершенная правда.
– О капитане и поручике приготовь подробное донесение. Не забудь написать и о том, что оба они с неуважением отзывались о герцоге. Завтра рано утром я представлю его высочеству это донесение. За домом на Красной улице вели усилить надзор. До свидания! Будь скромен и осторожен. Ты сам знаешь, как важно это дело!
Сказав еще что-то вполголоса, оба завернулись в плащи и разошлись в разные стороны.
III
На берегу Фонтанки… но взглянем прежде, какова была она во времена Бирона; перенесемся в Петербург 1740 года и прогуляемся от Невы до взморья, по левому берегу Фонтанной речки.
У ее истока из Невы никакого моста тогда еще не было. По берегам, в некоторых местах укрепленных сваями, тянулись деревянные перила и узкие мостки для пешеходов. Напротив Летнего дворца, от Невы до церкви Св. Пантелеймона, видно было несколько деревянных домиков, больших амбаров и обширное место, заваленное бревнами и огороженное забором. Тут находилась партикулярная верфь, где строили мелкие суда для Невского флота[1].
Подле этой верфи находилась каменная церковь Св. Пантелеймона, построенная чиновниками верфи во время царствования императрицы Анны Иоанновны, вместо деревянной, которую воздвиг Петр Великий в память победы, одержанной им над шведским флотом при Гангуте 27 июля 1714 года.
Далее на берегу Фонтанки стояло деревянное четырехугольное строение, где хранились разные запасы для двора, отчего оно и называлось Запасным двором.
Церковь Св. Симеона и Анны существовала уже в те времена. Ее построила императрица Анна Иоанновна в 1733 году вместо деревянной, которую соорудил Петр Великий в 1712 году во имя ангела четырехлетней дочери его, цесаревны Анны Петровны.
Далее за Симеоновским мостом возвышался загородный дом фельдмаршала Шереметева, окруженный рощей, которая граничила с Итальянским садом, простиравшимся от берега Фонтанки почти до Песков. Литейная улица делила этот сад надвое. Он получил свое название от каменного дворца, построенного при Петре Великом в итальянском вкусе близ Фонтанки.
У деревянного Аничкова моста стояли триумфальные ворота, приготовленные для въезда императрицы Анны Иоанновны в Петербург из Москвы после ее коронации. Далее на берегу находилось подворье Троицкого монастыря, несколько загородных домов, построенных при императрице Анне Иоанновне фельдмаршалом Минихом, светлицы Семеновского и Измайловского полков и, наконец, посреди деревни Калинкиной, близ взморья, в каменном казенном доме церковь Св. Екатерины, построенная в 1720 году Петром Великим во имя ангела своей супруги, Екатерины I.
Теперь перейдем из Калинкиной деревни по узкому мостику на другой берег Фонтанки и возвратимся к Неве. Сначала пройдем длинную колонию адмиралтейских и морских служителей, потом охотный ряд, где продавали певчих и других птиц; войдем в Аничкову слободу, где жил подполковник Аничков со своим батальоном морских солдат по ту и по другую сторону Фонтанки; потом, мимо заборов и нескольких частных низеньких домов, приблизимся к ягд-гартену (саду для охоты), который начали устраивать с 1739 года для гона и стрельбы оленей, кабанов и зайцев на том месте, где ныне Инженерный замок и площади, окружающие его. Потом, подойдя к Летнему саду, увидим Слоновый двор, устроенный в 1736 году для приведенного из Персии слона; церковь Св. Троицы, впоследствии перенесенную на Петербургскую сторону, на место сгоревшей там Троицкой церкви; грот, украшенный раковинами, и Летний дворец на берегу Невы.
Теперь по любой дороге возвратимся к начатому рассказу.
На берегу Фонтанки, близ Симеоновского моста, стоял двухэтажный деревянный дом купца Мурашева. Федор Власьич (так его называли) был в свое время человек примечательный во многих отношениях. Во-первых, он построил против своего дома, на Фонтанке, огромный садок по собственному плану, во-вторых, он несколько лет поставлял рыбу для двора, не страшась интриг Бирона, в-третьих, еще со времен Петра Великого брил бороду и одевался по-немецки и, в-четвертых, страстно любил книгу. Много перенес он гонений за эту страсть от покойной жены своей, перенес с таким же хладнокровием, с каким сносил Сократ капризы Ксантиппы.
Вместе с Мурашевым жили сестра его, Дарья Власьевна, и дочь Ольга. Первая еще при Петре Великом на ассамблеях ратовала в рядах невест и наводила «сильную кокетства батарею»[2] на каждого гвардейского или флотского офицера. В десятилетнее царствование императрицы Анны Иоанновны ассамблеи и вечеринки сделались редкостью, и едва ли кто мог сравняться с Дарьей Власьевной в тайной ненависти к Бирону, которого она не без основания считала главным виновником прекращения всех главных и частных увеселений. Можно ли было ей не называть величайшим злодеем того, кто неумолимо срыл до основания ее батарею. От горести и отчаяния Дарья Власьевна перестала считать дни, месяцы и годы. Когда какая-нибудь приятельница нескромно спрашивала: «Сколько вам от роду лет?», Дарья Власьевна всегда притворялась тугой на ухо или рассеянной и заводила речь совсем о другом. Единственным ее утешением сделались наряды, в особенности фижмы. В то время величина их соразмерялась со знатностью особы, бока которой они украшали. Всякая знатная дама считала тогда своей обязанностью походить на венгерскую бутылку с узеньким горлышком и широкими боками. Вероятно, с того времени вошло в употребление для знатных гостей отворять обе половинки дверей, потому что и тут многие дамы проходили не иначе, как боком. Сообразно с табелем о рангах, начиная от 1-го до 14-го класса, фижмы суживались, и у жен купцов и других нечиновных лиц среднего класса заменялись обручиками, которые нередко, по благоразумной, хозяйственной бережливости, снимались с рассохшихся огуречных бочонков. Жены простолюдинов лишены были привилегии носить обручики и пользовались только правом с удивлением смотреть на широкие фижмы, а иногда в церкви, при тесноте, трогать их тихонько пальцами, чтоб узнать внутреннюю сущность этих возвышений.
Дарья Власьевна, по званию сестры придворного поставщика рыбы, перешла неприметно от обручиков к маленьким фижмам. Видя, что никто ее в течение нескольких месяцев на улице не остановил и не взял под стражу, она дерзнула надеть фижмы на четверть вершка пошире. Таким образом, фижмы ее, как растение, как два цветка, неприметно росли и достигли величины, которая составляла нечто между фижмами коллежских секретарш и титулярных советниц. Не покидая мечтаний о замужестве, она тайно заготовила фижмы от 14-го до 4-го класса включительно, чтобы быть готовой тотчас одеться по чину будущего мужа, который, по ее расчетам, мог быть и штатский действительный советник (как тогда говорили). Любимое времяпрепровождение Дарьи Власьевны состояло в том, что она, запершись в своей комнате, поочередно примеривала перед зеркалом все свои фижмы и, надев наконец генеральские, повертывалась на одном месте во все стороны, как на трубе павлин, распустивший хвост, танцевала минуэт, пробовала садиться в кресла и на стулья, ходила взад и вперед по комнате и приседала то умильно, то гордо, воображая, что на публичном гулянье встречаются ей офицеры и приятельницы и смотрят на нее, первые нежно, а вторые завистливо. Раз одна из знакомых свах шепнула ей, что на нее метят два жениха: молодой коллежский регистратор и пожилой бригадир, представленный к отставке с повышением чина. Бедная Дарья Власьевна не спала целую ночь и все мучилась нерешимостью: кому отдать предпочтение? Несколько недель взвешивала она на весах рассудка достоинства обоих женихов. Здесь русые волосы, красивое лицо, прямой стан, ваше благородие и маленькие фижмы; там лысина с седыми висками и затылком, морщины на лбу, небольшой горб, ваше превосходительство и широкие фижмы. Весы ее склонялись то в ту, то в другую сторону и долго бы остались в движении, если бы сваха не принесла наконец верного известия, что сообщенный слух о женихах вышел пустой.
Дочь Мурашева, Ольга, была премилое существо. Умная, добрая, скромная, она никогда не пользовалась правом, неотъемлемым правом всех красавиц: при случае покапризничать. Отец любил ее без памяти. Она одевалась со вкусом, не думала о фижмах и довольствовалась скромным обручиком, который не скрывал ее прекрасного стана. Мурашев, сам плохо знавший грамоту, передал ей все свои познания и через год после начала курса наук принужден был прекратить учение, потому что ученица стала нередко помогать в истолковании ей в книгах мест, которые ставили в тупик самого учителя. Однажды Мурашев выменял за пару карасей и за два десятка ряпушки у книжного разносчика (тогда не было еще в Петербурге ни одной книжной лавки) лубочную картину погребения кота, книгу, напечатанную русской гражданской печатью в Петербурге в 1725 году под заглавием «Приклады как пишутся комплименты разные» и рукописную тетрадь, где были выписаны избранные места из сочинения «Советы премудрости, с итальянского языка чрез Стефана Писарева переведенные». Последнее сочинение при Бироне считалось запрещенным. Впоследствии переводчик поднес его императрице Елизавете Петровне и в посвящении, между прочим, сказал: «О! Когда бы мне возыметь сие обрадование, чтоб, по крайней мере, сию книгу, так обществу полезную, пока я жив, напечатанной увидеть». Мурашев, пригласив сестру свою к себе в комнату, запер дверь и заставил дочь читать вслух из «Советов премудрости» наудачу раскрытую им страницу. Попалось место: «Жена, коя начальствует в своем доме повелевательным умом, люта бывает к мужу. Жена, от которой страх имеется, поистине есть чего бояться! Со времени трепетания пред нею бывает она ужасною. Из глав зверей и гадов голова змеиная наибедственнейшая есть и злейшая, и из гневов женский гнев – наистрашнейший и прековарнейший в вымышлении изменятельств и способов к погублению тебя. Звери укрощены и усмирены или способы к избавлению и спасению себя от них бегом изысканы быть могут, но росерчание взбесившейся жены неизбежимо есть. Ты не можешь ни укротить ее, ни усмирить, да ниже и отбыть от нее. Ее бедный муж, коего она непрестанно крушит, только что обыкновенно в приношении на нее жалобы упражняется, а кои его слушают, те только воздыханиями ему ответствуют».
– Сущая истина! – сказал Мурашев со вздохом. – Из всех гневов женский гнев есть наистрашнейший! Да!.. Так, кажется, сказано? Одно средство против него: упражняться в приношении жалобы. Заметь это, Оленька, да прочти еще что-нибудь.
Он раскрыл в тетради другую страницу. Ольга начала читать: «Не допускай входить любви в твое сердце, ниже в твои очи. Отвращайся от лица той жены, коя тебя соблазняет. Ничто так не страшно, как приятность и ласковость жены злохитрой. Бойся ее приближения и приветливого приема, бойся ее разговора, ее глядения и ее осязания. Что в другом за ничто признавается, то в ней бедственным могуществом есть: довольно только одного глазом ее мигнутия к повалению тебя, одного только волоса к потащению тебя! Самое бегство тебе мало полезно: буде ты увидел ее прежде побежания, то не убежишь уже от нее далеко. Обещаваемые ею тебе вещи имеют на ее языке крайне бедственное обаяние. С самой той минуты, в которую ее увидишь, начинаешь ты бояться и о весьма скором времени твоего заплакания извещаться».
– Ну уж книга! – воскликнула Дарья Власьевна. – Да не с ума ли ты сошел, братец? Еще дочери даешь читать такие соблазны.
– Полно, сестра! – возразил Мурашев. – Ты ничего не понимаешь! Какие тут соблазны! Я тебе все растолкую. Вот, видишь ли: злохитрая жена, то есть не всякая женщина – ты этого на свой счет не бери – а вообще особа женского пола. Вот тут и пишется, что «довольно одного глазом ее мигнутия к повалению тебя», то есть она – не успеешь мигнуть – даст тебе тычка так, что с ног слетишь. Потом пишется, что «бойся обещаваемых ею тебе вещей и ее осязания», – помнится так-то есть не то, да не закрывайся платком, а слушай!
– Полно, братец, полно! Постыдись хоть дочки-то! В печь брошу я эту книгу!
– В печь? Да кто тебе даст? «Советы премудрости» хочет бросить в печь! Ах ты, безумная! Я ведь знаю толк в книгах-то.
Начался между братом и сестрою жаркий спор, который мог бы вовлечь их в сильную ссору, но дочь помогла отцу защитить избранную им книгу и отстоять его знание в грамотном деле, простосердечно растолковав, что под видом злохитрой жены, вероятно, изображается порок и что в книге дается наставление остерегаться этого порока.
– Ну вот, вот! то и есть! – воскликнул с радостью Мурашев. – Слышишь ли, сестра? Я тебе ведь тоже толковал! Что же тут худого? Племянница-то, я вижу, умнее тетушки.
– Скажи: и батюшки! – обиделась Дарья Власьевна. – Не верь, Оленька! Никогда не думай, что ты старших умнее.
Мурашев хотел возразить, но не нашелся, лишь проворчал сквозь зубы: «Дура!» – и закрыл с неудовольствием «Советы премудрости».
«Сумасшедший! – подумала Дарья Власьевна. – Совсем с ума спятил от своих премудростей!»
– Тетенька! Носит ли фижмы Марфа Потапьевна, приятельница ваша? – спросила вдруг Ольга.
Этот вопрос имел силу громоотвода. Без него сбылось бы сказанное в «Слове о полку Игоревом»: «Быть грому великому!»
IV
В день провозглашения Бирона регентом государства пришли под вечер в гости к Мурашеву капитан Семеновского полка Ханыков с молодым поручиком Аргамаковым, который был страстно влюблен в Ольгу.
– Что так давно не бывали у меня, дорогие гости? – говорил Мурашев, усаживая офицеров на кожаный диван.
– Не до того было! – отвечал Ханыков.
– Да, да, Павел Антонович! Истинно, не до того! – продолжал хозяин шепотом. – С позволения вашего, я сегодня с заутрени до вечерни все плакал да охал.
– Скоро и все заохаем! – заметил Аргамаков.
– Однако же, брат, прежде за дверь посмотри, а потом говори, – сказал Ханыков. – Подслушают, так и впрямь заохаешь.
– Никого дома нет, Павел Антонович. Сестра и дочка ушли в церковь, приказчиков я разослал осматривать мои невские садки, дворник сидит в своей будке на дворе. Домовой, разве, с позволения вашего, нас подслушает!.. И все же не мешает за дверь заглянуть.
Удостоверясь, что в соседней комнате никого не было, хозяин продолжал:
– Правда ли, мои батюшки, что Бирон будет царством править? Слышал я и объявление, да все как-то не верится. Что за напасть такая?
– Уж нечего говорить! Времена! – сказал Ханыков.
– Выходит, что Бирон до сих пор сидел с удой да ловил рыбу: попадались маленькие, иногда и большие, но все поодиночке, а нынче – с позволения вашего – он запустил невод и всех нас, грешных, и маленьких и больших, поймал! Нечего делать! Теперь мы все в его садке. Всякий сиди да жди, когда потащат на сковороду!
– Да еще молчи при этом, как рыба! – прибавил Аргамаков.
– Щука нечестивая! Кит проклятый! – воскликнул Мурашев, ходя от волнения по комнате. – Из какого омута и каким ветром его к нам занесло! Жили мы без него в разделе, как белуга в Волге. Вспомнишь, право, как мы, грешные, живали при царе Петре Алексеевиче или при супруге его Екатерине Алексеевне. Сердце радуется! А с тех пор как завелся этот иноземец Бирон – чтоб ему, с позволения вашего, щучьей костью подавиться! – все идет вверх ногами. Что вы? Что вы? Не бойтесь! Это сестра моя идет, – продолжал он, подбежав в испуге к окошку и смотря на двор. – Чего вы испугались? Я уж по стуку услышал, что это она.
Вскоре вошли в комнату сестра и дочь Мурашева.
При появлении Ольги у Аргамакова сильно забилось сердце от радости, как будто он не видел ее уже несколько лет, а между тем они виделись не далее как накануне. Дарья Власьевна, жеманно поклонясь гостям, села на софу, с которой те встали, и начала махать на себя веером.
– Ну что, сестра, много народу было в церкви? – спросил Мурашев.
– Не слишком много. Все больше простой народ. Только одну какую-то госпожу я заметила. Должно быть, знатная: большие фижмы и шлейф очень-таки длинный. Трое несли!
– Ну дай Бог ей здоровья! – сказал Мурашев, которому повседневные разговоры сестры о знатных давно уже надоели. – Шлейф! – продолжал он, усмехнувшись. – А что такое, с позволения вашего, шлейф, и для чего он волочится? Как смотрю я на него, меня всегда берет охота запеть:
Щука шла из Новогорода. Она хвост волокла из Бела-озера.Рыбе хвост помогает плавать, а шлейф людям только мешает ходить. Иной словно невод: так и хочется запустить его в воду!
Ханыков улыбнулся, а Аргамаков разговаривал в это время с Ольгой, и оба ничего не слыхали.
– При выходе из церкви, – продолжала Дарья Власьевна, – попалась мне знакомая и проводила меня почти до дому. Что она мне порассказала – это ужас!
– А что такое? – спросил Мурашев.
– Она слышала от верного человека, который служит двадцать лет уж при дворе и которому все важные дела известны, что правитель замышляет такие новости! Это ужас! Если он так будет поступать, то не долго усидит на своем месте.
– Вот тебе на! – воскликнул Мурашев, взглянув на Ханыкова. – Извольте прослушать, как нынче бабы рассуждают. Сестра, изволите видеть, не бывала еще в Тайной канцелярии! Ей очень туда хочется.
– Я надеюсь, что здесь нет лазутчиков, братец! – возразила, обидясь, Дарья Власьевна. – Я без тебя знаю, где и что сказать.
При этих словах все невольно посмотрели друг на друга недоверчиво.
– Так! – прошептал Мурашев. – Только все-таки советую тебе быть поосторожнее.
– Что же вы слышали? – спросил Ханыков.
– Вообразите! Бирон хочет… нет! Не могу выговорить!.. Что ему за дело до наших мод! И того не носи, и другого не носи! Что это за притеснение!
– Да что с тобой сделалось, сестра! – сказал Мурашев. – Ты из себя выходишь. Если бы и в самом деле герцог приказал обрезать шлейфы, например, многие бы ему спасибо сказали, особенно те труженики, которые целый день за их госпожами эти хвосты таскают.
– Шлейфы носят только за самыми знатными госпожами, а все прочие дамы, даже генеральши, завертывают шлейф, как и я, на левую руку. Не о них и речь.
– Так о чем же? – продолжал Мурашев. – Уж не о фижмах ли, которые тебя чуть с ума не сводят?
– Да, сударь, о фижмах, именно о фижмах, от которых никто еще с ума не сходил. Я знаю, что тебе и горя мало, хоть бы мучной куль велели носить родной сестре твоей вместо приличного наряда! Конечно, не до тебя дело касается, так ты и спокоен!
– Я стал бы носить что угодно. От того не сделался бы ни глупее, ни умнее. В «Советах премудрости» сказано, что…
– Ну!.. заговорил о своих премудростях, конца не будет!
– Пожалуй, я и замолчу, только скажу тебе, что за один совет премудрости я охотно отдал бы все фижмы на свете, да еще осетра средней величины в придачу!
– Ну так порадуйся: скоро фижм нигде не увидишь! Большие будет носить одна герцогиня, генеральшам позволят надевать маленькие, а уж бригадирша изволь-ка наряжаться как наша кухарка, без фижм! Может ли быть что-нибудь глупее и обиднее?
– Этого быть не может, сударыня! – сказал Ханыков. – Верно, знакомая ваша пошутила. Теперь герцогу не до фижм!
– Так вы полагаете, что этот слух пустой?
– Кажется.
– Пустой или нет, все равно, – прервал Мурашев. – А поужинать, во всяком случае, не мешает. Уже девять часов.
В это время вошел в комнату дворник и сказал, что какой-то человек у ворот спрашивает Аргамакова. Все, бывшие в комнате, кроме Дарьи Власьевны, душа которой была погружена в фижмы, почувствовали от слов дворника неопределенный испуг. Мудрено сказать: произошло ли это от свойства сердца, которое может иногда предчувствовать близкое несчастье, или же от тогдашних времен, когда никто не мог считать себя ни на минуту в безопасности от доносов, пыток и гибели.
Аргамаков вышел к воротам и, вскоре возвратясь в комнату, сказал Ханыкову несколько слов на ухо. Тот вскочил со стула. Мурашев заметил это и, взяв его за руку, подвел к окну.
– Верно, недобрые вести? – спросил он шепотом.
– Не совсем хорошие! – также шепотом отвечал капитан. – Денщик Валериана Ильича прибежал сюда опрометью. Какие-то люди забрали все бумаги в комнатах его барина и в моих. Он подслушал, как они расспрашивали моего денщика: куда я с Валерианом Ильичом ушел. Они идут сюда.
– Господи Боже мой! Что ж мы будем делать?
– Делать нечего! От Бирона и на дне морском не спрячешься.
Мурашев большими шагами прошел несколько раз взад и вперед по комнате.
– Знаете ли, что я придумал? Спрячьтесь в мой садок. Я спущу тотчас же всех моих собак. Они привыкли от воров рыбу стеречь и даже самого Бирона со свитой на садок не пустят.
– Вы себя погубите вместе с нами!
– Совсем нет. Я скажу только, что вы у меня были и ушли, а собак спустил я на ночь, как всегда это делаю. Пусть же допрашивают и пытают моих собак, как они осмелились не пропускать на садок лазутчиков Бирона. Притом, вероятно, этим господам и в голову не придет там вас отыскивать, а вы, по крайней мере, успеете обдумать, что вам делать. Кажется, всего лучше как-нибудь пробраться до Кронштадта, откупить местечко на иностранном корабле, да и с Богом, за море! Ведь хуже на тот свет отправиться!
– На это нужны деньги, а со мной только два рублевика, – сказал Ханыков.
– У меня и того нет, – прибавил Валериан.
– Я вам дам взаймы. Червонцев пятьдесят будет довольно?
Ханыков пожал руку Мурашеву, а у Валериана навернулись на глаза слезы. Это пожатие и эти чуть заметные слезы выразили сильнее их благодарность, нежели все возможные слова. Хозяин немедленно вынес из другой комнаты кошелек и незаметно передал Валериану.
Во все время, как они шептались, Ольга, отошедшая от окна и севшая на софу подле тетки, смотрела с беспокойством на своего отца, на Валериана и его друга.
Когда они все трое пошли из комнаты, Дарья Власьевна, все еще углубленная в прежние свои размышления, спросила Ханыкова, который прощался с нею:
– Итак, вы полагаете, что слух насчет фижм неоснователен?
– Я вижу, сестра, что в пустой фижме более мозгу, чем у тебя в голове! – проворчал в досаде Мурашев. – Пойдемте, господа!
Валериан, выходя из комнаты, со вздохом взглянул на Ольгу, и взор его, казалось, говорил ей: «Прости навсегда!»
V
Капитан и поручик поспешно перешли с берега на садок вместе с денщиком и Мурашевым, за которыми бежали три огромные собаки, выпущенные из сарая. Они поочередно подбегали к офицерам и, тихонько ворча, смотрели на них недоверчиво.
– Цыц! Молчать! – закричал хозяин. – Это свои!
Собаки подбежали к Мурашеву, ласкаясь. Он ввел офицеров и денщика в каюту, поднял за кольцо дверь, сделанную в полу, и указал им на веревочную лестницу, спускавшуюся в нижний ярус садка.
– У кормы, – сказал он, – найдете окошко, через которое легко будет в случае нужды перелезть в одну из лодок, привязанных к садку. Прощайте! Да сохранит вас Господь!
Выйдя из каюты, он ласково погладил собак. Они проводили его до перил, и, когда он запирал решетчатые дверцы мостика, по которому входили с берега на садок, Руслан, просунув морду сквозь перила, лизал у Мурашева руку, а Мохнатка и Полкан, положа передние лапы на перила, глядели в глаза хозяину и махали хвостом.
Валериан и друг его вскоре отыскали окно, о котором говорил Мурашев. Оно было так узко, что человеку с трудом можно было пролезть через него. Отворив раму со стеклом, при наступившей вечерней темноте не без труда рассмотрели они несколько лодок, стоявших рядом и привязанных у кормы. Можно было прямо из окна спуститься в одну из них. Вскоре они услышали, как Мурашев захлопнул калитку.
Потом все замолчало, кроме воды, которая, тихо колыхаясь, как будто нашептывала садку донос на спрятавшихся офицеров.
Через некоторое время собаки заворчали и начали лаять. Несмотря на их громкий лай, скрывшимся в садке было слышно, как кто-то стучался в калитку.
– Это, вероятно, посланные за нами! – воскликнул Аргамаков.
– Не воспользоваться ли тем временем, пока они будут обыскивать дом? Перелезем в лодку и поплывем к Неве, потом пустимся прямо в Кронштадт, – сказал Ханыков.
– А если нас заметят?
– Но и оставаться нам здесь не менее опасно: нас легко отыщут. Решимся! Что будет, то будет!
Денщик надел найденный им на ларе кафтан, шапку и кожаный передник рыбака. Он перелез в лодку, осмотрел ее и отвязал. Лай собак между тем усилился.
– Все готово, барин! – сказал денщик, всунув в окно голову.
Офицеры спустились в лодку, легли на дно и, велев денщику накрыть их рогожею, поплыли к Неве.
– Думали ли мы, Валериан, сегодня, – сказал Ханыков, – что проведем ночь на такой плавучей постели и под таким одеялом? Мы теперь похожи на двух пойманных лососей. Я думаю, много их, бедняжек, под этою рогожею страдало и предавалось отчаянию. Положение их, конечно, было ужаснее нашего: у нас еще остается надежда на спасение, а у них не могло оставаться никакой.
– Удивляюсь, как ты можешь сейчас шутить! – сказал Валериан.
– А что ж, разве лучше, по-твоему, унывать? – возразил Ханыков. – Я давно уверился, что мое хладнокровие гораздо полезнее твоей чувствительности. Люди пылкие, похожие на тебя, почти каждый день смотрят на мир разными глазами: он кажется им то раем, то адом. Сколько раз готов ты был броситься в Неву, когда казалось тебе, что Ольга тебя не любит, и сколько раз залетал ты за облака от восторга, когда примечал какой-нибудь ласковый ее взгляд, какое-нибудь слово, которое ты мог растолковать, хотя и не без натяжки, в свою пользу. Флегматик же, как ты меня называешь, всегда на мир смотрит одинаково. Например, теперь я смотрю на него, лежа на дне лодки, сквозь прореху в рогоже. Хотя это совершенно новый взгляд на мир, однако ничего нового и особенного я не вижу, потому что вечер претемный, на наше счастье. Ничего нет нового под луною. Ба! Да вот и она, очень некстати, выползает из-за облака: нас могут теперь скорее увидеть и остановить. Денщик! Далеко ли еще до Невы?
– Уже недалеко, ваше благородие!
– Греби сильнее! – сказал Аргамаков.
Между тем секретарь Бирона Гейер (служивший в молодых летах форейтором в то время, как дед Бирона был главным конюхом герцога Курляндского Якова III) с четырьмя лазутчиками, обыскав весь дом Мурашева, приказал хозяину вести их на садок. У Мурашева сильно забилось сердце; он не знал, что Валериан и друг его в то время приближались уже к Неве. Взяв ключ, повел он незваных гостей на садок. Когда он подошел к перилам и начал отпирать дверцы, все три собаки подбежали к нему.
– Усь! Чужие! – шепнул Мурашев, и собаки, передними лапами вскочив на перила, подняли такой лай на приближавшегося Гейера и его подчиненных, что все они, струсив, остановились, и секретарь герцога закричал:
– Не отпирай! Не отпирай! Прежде уведи собак или привяжи их.
– Осмелюсь доложить вашей милости, что они и меня загрызут. Мне с ними не сладить. Они одного моего приказчика слушаются, да, на беду, его теперь дома нет.
– Ты еще рассуждать смеешь! – закричал Гейер, топнув. – Именем его высочества правителя приказываю тебе этих собак увести и привязать. Малейший вред, который они кому-нибудь из нас нанесут, будет сочтен оскорблением его высочества.
– Воля ваша! Если они загрызут меня до смерти и потом бросятся на вас, то я ни за что отвечать не буду. И в одной письменной книге, с позволения вашего, написано, что великий князь Святослав изволил сказать: мертвые бо срама не имут, то есть ни за что не отвечают.
– Свяжите его и ведите за мной! – закричал Гейер. – Завтра же донесу о тебе его высочеству как о бунтовщике и ослушнике.
Мурашева связали. Гейер, приказав одному из лазутчиков остаться на берегу до возвращения приказчика для обыска садка, хотел уже идти, как вдруг при свете месяца увидел несколько человек, которые к нему приближались.
– Ба! Это, кажется, наши! – сказал он. – Они ведут трех связанных. Браво! Гуси пойманы.
Валериана, друга его и денщика вели шесть лазутчиков, одетых в платье гребцов. Мурашев побледнел и устремил на офицеров взор, в котором выражалось глубокое сострадание.
– Где вы нашли их? – спросил Гейер.
– По приказанию вашему, – отвечал один из лазутчиков, – мы дожидались вас на катере у невского берега, против крепости. Заметив лодку, выплывшую на Неву с Фонтанки, мы начали за нею наблюдать. Вскоре увидели мы, что офицер привстал со дна лодки и опять скрылся. Тотчас же пустились мы в погоню. Этот господин, – продолжал он, указывая на поручика, – схватил катер наш за борт и хотел опрокинуть, но мы не допустили.
– Отдайте ваши шпаги! – сказал Гейер.
– Возьмите сами, – отвечал Ханыков. – У меня руки связаны, как видите.
– Я никому своей не отдам, кроме командира! – вскричал Валериан.
– Полно, братец, понапрасну горячиться! – шепнул его друг. – Чем более будешь оказывать сопротивления, тем будет для нас хуже.
Один из лазутчиков вынул из ножен шпаги офицеров.
– Обыщи их карманы! – продолжал Гейер. – Не спрятано ли там оружие?
У Ханыкова нашлись два рублевика, у Валериана кошелек с пятьюдесятью червонцами.
– Подай сюда! – сказал Гейер, жадно глядя на золото. – Я эти деньги должен представить его высочеству. А ты что за человек? – продолжал он, обратясь к денщику, переряженному рыбаком. – Ба! Я по платью вижу, что ты очень знаком хозяину этого садка.
– Вы ошибаетесь. По платью о людях судить не должно, – заметил Ханыков. – Это денщик поручика. Хозяин садка нисколько не участвовал в нашем побеге. Мы тихонько отвязали лодку от берега, нашли в ней это платье, нарядили денщика и поплыли.
– Это все будет проверено. Завяжите арестантам глаза и ведите всех за мной! Двое из вас останьтесь в этом доме и никуда не выпускайте дочь и сестру этого старого плута. Их также надо будет завтра допросить.
Вся толпа двинулась и вскоре подошла к Летнему дворцу. Гейер вошел в комнаты и велел доложить о себе герцогу.
– Он очень занят и никого не велел принимать, – объявил камердинер герцога.
– Скажи его высочеству, что весьма важное дело.
Через несколько минут Гейер был позван во внутренние покои дворца. Пройдя через залу, он вошел в кабинет герцога и потом в уборную герцогини. Там правитель с супругою и братом, генералом Карлом Бироном, сидели за столом и играли в бостон.
– Господин секретарь! – сказал герцог, тасуя карты. – Я не велел никого принимать, но для тебя делаю исключение. Ты никогда не употреблял во зло моей доверенности, знаешь свою обязанность и не станешь, надеюсь, разглашать о тайных занятиях регента, особенно в нынешнее время.
Он усмехнулся и начал сдавать карты. Гейер низко поклонился, остановившись у дверей.
– Это единственное мое развлечение после дневных, тягостных трудов. Ну, что же скажешь, Гейер?.. В сюрах шесть!.. Что у тебя за дело?
– Поручик и капитан, о которых сегодня ваше высочество изволили мне дать приказание, взяты.
– Где они сейчас?.. Ну, брат, умело сходил! Разве не видел ты, что два короля и две дамы уже вышли?
– Они теперь у крыльца стоят, связанные.
– Кто? Два короля и две дамы? – заметил Бирон, улыбнувшись. – Дурак ты, Гейер!
– Я отвечаю на вопрос об арестантах вашему высочеству, – сказал секретарь с подобострастною ухмылкой.
– Не мешай! Завтра утром об этом деле поговорим. Посади их, куда должно, допроси по порядку и потом доложи… Ну вот и ремиз! Ты, мой почтенный братец, понятия не имеешь об игре.
– С ними еще взят придворный рыбный поставщик Мурашев и денщик их, потому что…
– Убирайся к черту! Кончишь ли ты сегодня? Сказано тебе, всех допроси и доложи. Ступай!.. Гран-мизер-уверт!
Секретарь, низко поклонясь, вышел из дворца и велел вести арестантов за собою. Глаза у тех были завязаны.
– Можно ли нам разговаривать между собою, господин секретарь? – спросил Ханыков.
– Позволяется, – важно ответил Гейер, довольный покорностью капитана. Он подумал еще, что из разговоров своих арестантов сможет узнать немного их характеры и что это ему поможет успешнее провести допросы.
– Валериан! Валериан! Ты здесь? – продолжал Ханыков.
– Здесь.
– Боже мой, какой у тебя печальный голос! Полно унывать! Все пройдет.
– Конечно! И жизнь нам на то дана, чтобы она прошла.
– В самом деле, Валериан Ильич, не горюйте прежде времени! – сказал шепотом Мурашев. – У меня есть книжка, именуемая «Советы премудрости», в ней, я помню, написано: «Не обременяй себя тужением и грущением. Когда случается тебе какое-либо печальное приключение, то держи ты совет с твоим рассуждением, и с ним решение чини, не торопяся и грустяся». Ба! Мы, кажется, идем теперь куда-то вниз, будто с горки. А вот теперь поднимаемся на какой-то мостик. Как доски-то гнутся под нами! Как бы не провалиться, грехом! Вот слезли с мостика. Где мы теперь, Бог весть! Кажется, около нас вода шумит. Точно! Мы в лодке плывем. Уж не пошлют ли нас на дно рыбу ловить?
– Перестань! – закричал Гейер. – Говори, да не заговаривайся!
– Извини меня, глупого, господин секретарь! С горя мало ли что сболтнется. И в некоторой мудрейшей книге сказано: «Сей для тебя лучший совет, чтоб иметь твой рот за замком. Но как непрестанно надлежит его отпирать и говорить, когда причина и нужда того требуют, то кажется, что сие замыкание не может быть великою пользою». А впрочем, как прикажете.
– Теперь я ничего не приказываю, – сказал Гейер. – Только знай, любезный, что какой бы ни висел на твоем рту замок, у меня есть ключ, который все замки отпирает.
Через некоторое время арестантов опять высадили на берег и повели дальше. Потом они приметили, что идут по каменному полу коридора. Шум шагов их глухо отдавался под сводом. Вскоре заскрипела тяжелая дверь, захлопнулась за ними и щелкнул два раза ключ.
– Развяжите им глаза и руки, – продолжал Гейер.
– Боже мой! Где мы? – воскликнул Валериан. Ханыков мрачно осмотрелся, нахмурил брови и взял своего друга за руку. Мурашев и денщик, озираясь, начали креститься.
Висевший под сводом фонарь освещал довольно объемную комнату с каменным полом. В ней не было видно ни одного окна, ни малейшего отверстия, кроме железной двери. Небеленые кирпичные стены и крутой свод над ними при слабом свете фонаря казались выкрашенными кровью. Под фонарем стоял дубовый стол, на котором около глиняной чернильницы лежали в беспорядке бумаги. Вдоль стен расставлены разные орудия и машины странного вида. Напротив стола, на стене, висели большие часы.
Гейер, севши к столу, придвинул к себе связку бумаг, потер руки, как человек, принимающийся за любимое занятие, важно посмотрел на арестантов и сказал:
– По приказанию его высочества регента я должен вас допросить. Надеюсь, что вы будете отвечать удовлетворительно и не скроете ни малейшего обстоятельства, нужного для ясности дела. Объявляю вам, что эта крепкая железная дверь не отворится, пока не признаетесь во всем том, в чем вы обвинены самыми верными доказательствами пред его высочеством регентом целой России и моим всемилостивым патроном и благодетелем. Какая бы черная была с вашей стороны неблагодарность за все его благодеяния, за все тяжкие труды, которые он подъемлет ко благу общему и вашему, если б вы вместо искренности, вместо уверенности в его великодушии вздумали оказывать притворство, лицемерие и скрытность! Везде, везде видны следы его мудрости, его неусыпных попечений! В прежние времена, когда ваша Россия… что я говорю!.. когда наше дражайшее отечество погружено было во тьму грубейшего невежества, кто из исполнителей тогдашних законов стал бы на моем месте терять слова и стараться довести вас до признания убеждениями? Вас бы велели тотчас же пытать, не сказав вам ни слова, но ныне уже не те времена. Его высочество регент и мой всемилостивый патрон, в Германии почерпнувший свое глубокое просвещение, пересадил, по мере возможности, плоды образованности и на здешнюю ледяную и часто неблагодарную почву. Между многими благодетельными учреждениями он отменил унизительную для человечества русскую пытку, которая употреблялась только для воров и грабителей, и ввел порядок пытки европейский, наблюдаемый во всех просвещенных государствах. Будьте уверены, что я не отступлю и теперь от этого порядка ни на волос. Франц Гейер всегда умел строго и точно исполнять свои обязанности. Но пора уже приступить к делу. Господин капитан Ханыков обвиняется в том, что он неоднократно был в доме ее высочества цесаревны Елизаветы Петровны и нередко имел с нею продолжительные разговоры, что отзывался в дерзких выражениях о его высочестве регенте, что он осмелился сомневаться в силе и действительности акта о регентстве и упоминать о давно забытом и лишившемся всякой силы и действия завещании покойной императрицы Екатерины Первой, по восьмой статье которого цесаревна Елизавета Петровна непосредственно по кончине императора Петра Второго будто бы имела, равно как и ныне будто бы имеет, неоспоримое право на всероссийский престол. Что скажете вы на это, господин капитан? Заметьте, что все мною прочитанное не подлежит уже ни малейшему сомнению, что ваше преступление доказано и что вас допрашивают только для того, чтобы вы искренним и подробным признанием показали свое раскаяние, открыли всех ваших сообщников, объяснили все ваши тайные планы и намерения и тем преклонили его высочество к великодушию. Это единственный способ спасения. Отвечайте, господин капитан!
– Я точно был несколько раз у ее высочества, но никаких худых намерений против правителя никогда не имел и не имею.
– Итак, вы намерены упорствовать и не признаваться? Жалею, очень жалею вас… но делать нечего. Господин поручик! Вы обвиняетесь как друг и сообщник капитана, знавший все его действия и решившийся ему способствовать во всех его зловредных планах. Чем оправдаетесь вы? Сверх того, вы должны подробно объяснить: когда и как отец ваш старался вас увлечь в феодосьевскую ересь?
– В этих обвинениях только то справедливо, что я друг капитана. Я горжусь этим! На остальное отвечать не хочу: все это самая низкая клевета!
– Ого, как вы горячитесь! Это весьма неблагоразумно, любезный поручик. Ну а вы что скажете? – продолжал Гейер, обратясь к Мурашеву и денщику. – Так как ты хотел способствовать побегу капитана и поручика, то, верно, принадлежишь к числу их сообщников; и ты, денщик, должен мне также все сказать, что знаешь. Отвечайте!
– С позволения вашего, – сказал Мурашев дрожащим голосом, – осмелюсь доложить, что я нисколько не помогал капитану и поручику в их побеге. Это они сами объявили уже вам. Притом я, кроме доброго, ничего об них не слыхал и сказать не могу.
– Я также ничего знать не знаю и ведать не ведаю, ваше высокоблагородие! – продолжал скороговоркою денщик, вытянувшись. – Мое дело исполнять, что приказывают.
– Итак, вы все, как я вижу, не признаетесь и принуждаете меня приступить к действию, которое называется в Германии Verbalterrition. Я, может быть, неблагоразумно поступаю, открывая вам, любезные мои капитан и поручик, порядок и технические названия моих действий, но это, по крайней мере, удостоверит вас, что его высочество регент и мой всемилостивый патрон умеет избирать исполнителей просвещенных, аккуратных, не отступающих ни на шаг от своих обязанностей.
Гейер встал, велел подойти к стене арестантам и, указывая по порядку на расставленные машины и орудия, продолжал:
– Для достижения истинного и полного признания обвиняемых собраны здесь разные средства, которые я должен объяснить вам по моей обязанности.
Подробно описав орудия пытки[3], Гейер в заключение объявил арестантам, что для избежания истязаний остается им один способ: полное признание в преступлениях. Все отвечали то же, что и прежде.
– Вы меня принуждаете приступить к действию, называемому Verbalterrition. Господин капитан! Не угодно ли вам вложить левую руку в эту стальную машину? Эй, вы! – продолжал Гейер, обратясь к своим подчиненным. – Покажите капитану, как это сделать должно. Хорошо! Заверните теперь винт. Довольно! Господин капитан, при втором повороте винта вы почувствуете боль нестерпимую. Признавайтесь!
– Нет, я не могу признаться в том, в чем не виноват.
– И Verbalterrition, то есть действие инструментов без причинения боли, как вижу, на вас не действует. К сожалению, теперь должен я приступить к действительной пытке. Поверните винт!
Ханыков стиснул зубы и побледнел.
– Третий поворот винта увеличит боль вдесятеро. Признаетесь ли?
– Я невинен, говорю вам, что невинен!
– Не упорствуйте, капитан. Даю вам сроку пятнадцать минут. Если не признаетесь, то велю повернуть еще раз винт и тогда не ручаюсь за целость костей в вашей руке. Взгляните на часы: теперь без двадцати минут полночь. Так и быть! Даю вам двадцать минут сроку.
– Замучьте меня до смерти, но я все буду говорить одно и то же! – сказал твердо Ханыков.
Посреди последовавшего молчания раздавался только однообразный звук маятника. Каждый удар его болезненно отзывался в сердцах арестантов. Ханыков посмотрел на часы. Оставалась одна минута до истечения данного ему срока. Ослабев от страдания, он почти уже решился признанием избавиться от пытки и безвинно умереть на плахе.
В это время раздался стук в двери.
– Кто там? – спросил сердито Гейер.
– Отопри! – раздался повелительный голос.
Гейер торопливо схватил со стола ключ, подбежал к двери и отворил ее. Вошли два человека с факелами и за ними герцог Бирон. По данному им знаку дверь опять заперли. Лицо его было мрачным, брови нахмурены.
– Покажите мне признание преступников, – сказал он Гейеру.
– Ваше высочество! Я еще не успел…
– Не успел? – закричал герцог, топнув ногой. – А что я тебе приказывал сегодня утром? Я велел не терять ни минуты. Научу ли я тебя не медлить с исполнением повелений регента!
– Ваше высочество сегодня вечером изволили повелеть, чтобы завтра…
– Ты еще осмеливаешься мне возражать?! Молчи, бездельник. Завтра! Я велю обуть тебя и всех твоих ленивцев в испанские сапоги и оставить в них до завтра. Я надеялся, что ты, не ожидая моих приказаний, постараешься сегодня же все узнать и меня успокоить, но тебе, я вижу, все равно: спокойно ли сплю я ночь или нет. Что ты делал до сих пор? Говори! Ты у меня был в девять часов вечера, а теперь полночь.
Оробевший Гейер, зная из многих примеров, что милость герцога от самых маловажных причин, а часто и без причины переходит в ненависть, решился прибегнуть ко лжи, чтобы успокоить герцога, и отвечал заикаясь:
– Я всех арестантов пытал по порядку мекленбургским инструментом. Никто ни в чем не признался.
– А испанские сапоги? Все мне надобно тебе указывать!
– Я решился прежде испытать действие этой стальной машины.
– В который раз винт повернут?
– Во втор… в третий, ваше высочество.
Бирон осмотрел внимательно машину и нахмурился.
– В забранных бумагах преступников не нашлось ли чего-нибудь?
– Ни одной подозрительной строчки.
Герцог сел к столу и начал перебирать бумаги. Наконец, подняв глаза и взглянув на Ханыкова, он спросил:
– Это кто?
– Капитан Ханыков, главный из обвиняемых, – отвечал Гейер.
– Итак, ты не хочешь ни в чем признаться? – сказал герцог, устремив на него грозный взор.
– Я невинен, ваше высочество!
– И ты мне это смеешь говорить! – закричал Бирон, застучав кулаками по столу и вскочив со стула. – Отверните винт! Возьми его, Гейер, и вели замуровать, пусть он, замурованный в стене, умрет с голоду!
Все содрогнулись. Ханыков, призвав на помощь все свое хладнокровие, твердо сказал герцогу:
– Я готов на казнь какую угодно! Повторяю, что я невинен. Если вашему высочеству угодно казнить меня по неизвестным мне причинам, – казните!
– Зачем был ты в доме ее высочества?
– Она тайно благодетельствовала покойному отцу моему. Благодарность в сердце сына не есть еще преступление.
– Чем докажешь ты, что одна благодарность заставляла тебя посещать дом ее высочества и что под этим предлогом не скрывал ты злых намерений против меня?
– В бумагах моих вы, вероятно, можете отыскать письмо отца моего, которое я получил незадолго до его смерти, во время похода: оно удостоверит ваше высочество, что я говорю правду.
Герцог, пересмотрев бумаги, нашел письмо, о котором говорил Ханыков. В нем отец его писал о своей усилившейся болезни и завещал сыну за благодеяния, оказанные ему цесаревной Елизаветой, питать к ней во всю жизнь благодарность.
Прочитав внимательно письмо, Бирон задумался.
– Это письмо ничего не доказывает… В чем обвиняются все прочие преступники? – спросил он Гейера.
– Они обвиняются только как сообщники капитана.
– Хотя доказательства преступлений ваших слишком ясны, – продолжал Бирон, – но я хочу всем вам показать, как я охотно прощаю виновных тогда, когда это не угрожает общей безопасности. Гейер! Освободить их теперь же! Однако же предупреждаю вас, что если после этого вы в чем-нибудь еще окажетесь виновны, хоть в одном дерзком или нескромном слове, то не ждите уже пощады.
Ханыкову и всем прочим завязали глаза, взяли их под руки и вывели в коридор. Вскоре они почувствовали себя на свежем воздухе. Потом их посадили в лодку, долго везли и, высадив на берег, повели далее.
Наконец толпа остановилась. Прислужники Гейера развязали всем глаза и начали кланяться капитану, поручику и Мурашеву.
– Имеем честь поздравить! – сказал один из них.
– С чем? – спросил Ханыков.
– С милостью герцога. А на водочку-то нам, ваше благородие! – продолжал прислужник, почесывая за ухом. – Ведь немало мы из-за вас хлопотали сегодня!
Мурашев, пожав плечами, дал ему рублевик, и прислужники, пожелав всем спокойной ночи, удалились.
– Где мы теперь? – спросил Ханыков, осматриваясь.
Сквозь тонкий ночной туман, расстилавшийся в нижних слоях воздуха, с трудом можно было различить вдали освещенные месяцем здания.
– Мы, кажется, посередине Царицына луга, – сказал Мурашев. – Вон, справа чернеется Летний сад, а слева видна Красная улица. Уф, батюшки! не в аду ли мы были?.. Куда же пойдем теперь? Милости просим ко мне: дом мой недалеко отсюда.
VI
Все пошли к дому Мурашева. Приблизясь к воротам, начали стучаться в калитку.
– Кто там? – закричал прислужник Гейера, выглянув из окна.
– Я хозяин этого дома. Пустите!
– Убирайся! Нам приказано стеречь дом и никого не впускать сюда.
– Вот тебе на! Хозяина в свой дом не пускают! Послушай, любезный, его высочество, сам герцог…
Окно захлопнулось, и Мурашев замолчал. Как ни стучались в калитку, все понапрасну.
– Что станешь делать? – воскликнул Мурашев. – Придется ночевать на улице, у ворот своего дома.
– Пойдемте к моему батюшке! – сказал Аргамаков. – Вон, дом его отсюда виден.
– Это дело! – подхватил Мурашев. – Да пустит ли он нас? Ведь он такой пустынник!
Вскоре все приблизились к воротам дома, постучались, но никакого ответа не было. Отец Аргамакова, строго соблюдавший правила феодосьевщины, наложил на себя две тысячи земных поклонов за то, что впал в суету, то есть сообщился в тот день с никонианами[4]. Умирая от жажды, он остановил на улице разносчика и выпил два стакана квасу из кружки, к которой прикасались губы, без сомнения, многих никониан. Раздавшийся у ворот стук застал его на тысяча двадцать пятом поклоне. Если б в это время сказали ему, что сын его упал в Фонтанку и тонет, то прежде досчитал он положенное число поклонов, а потом бы уж побежал спасать сына[5].
Даже хладнокровный Ханыков начинал уже терять терпение, когда отворилась фортка и шарообразно обстриженная голова с седой бородой высунулась оттуда[6].
– Кто там?
– Это я, батюшка!
– Да ты не один?
– Это два моих приятеля и мой денщик. Нельзя ли нам ночевать у вас? Мы были все в большой беде, но она счастливо миновалась.
– В беде? Что мудреного! Кто нынче по ночам бродит, тот как раз в беду попадет. Нынче и днем-то ходи да оглядывайся.
– Да нас только что из-под стражи выпустили. Мы так измучились, что не в силах идти далее и ляжем спать на улице, если нас не впустите.
– Не впустите! Кто тебе говорит это? Грешно было бы вас не впустить: теперь вы почти то же, что бесприютные странники. Подождите, я сейчас отворю ворота.
Мудрено описать ужас и сожаление старика Аргамакова, когда сын, войдя со всеми прочими в дом, рассказал ему их приключение.
На другой день, когда все проснулись и встали, старик Аргамаков пригласил всех к завтраку и посадил сына с гостями за большой стол, а сам сел за особенный, чтобы в пище и питье не сообщиться с никонианами.
– Давно уж мы не видались с вами, Илья Прохорович! – сказал Мурашев. – А близко друг от друга живем!
– Что делать, Федор Власьич! Не одного мы стада овцы.
– С позволения вашего, это для меня очень прискорбно. В старину мы были очень с вами дружны, хлебали часто вместе стерляжью уху, лакомились осетриной, но с тех пор, как вы рассудили перекреститься в феодосьевскую веру, ни разу вместе ухи не хлебали.
– В феодосьевскую? Что за феодосьевская! Скажи – в истинную, Федор Власьич.
– С позволения вашего, я спорить с вами не стану. У меня есть книжица небольшая, именуемая «Советы премудрости», в ней сказано: «Неоднократно во всяком веке случается, что маленький философ хватается свидетельствовать веру или переделывать элементы и перевертывать свет низом вверх. Не доверяй сам себе и твоему рассуждению. Новизна есть такой путь, который приводит к древнейшему греху, то есть отступлению. Причиною всегдашнего усматривания находившихся в таком погибельном и злосчастливом путии многих знатных особ сие есть, что бес всегда по оному пути прежде всех ходил. Каков бес ни есть, однако в такое время, когда он через притворство показывает себя богоязливым, бывает угоден женскому полу».
– Федор Власьич! Пристало ли тебе в моем доме говорить мне укорительные слова? Никто из наших собратьев не походит на беса, не притворствует и не угождает женскому; у нас главное правило: убегать от всякой женщины.
– Вы не поняли меня, Илья Прохорович! Я хотел только сказать, что большие философы, то есть настоящие мудрецы, никогда не берутся свидетельствовать веру, а хватаются за это маленькие и всегда с истинного пути сбиваются. Вашу, например, веру установил, как говорят, дьячок Крестецкого яма Феодосий. С позволения вашего, мне кажется, что его и маленьким то философом назвать нельзя: он был дьячок, да и только, а многих, однако, приманил на свою уду и поймал.
– Федор Власьич! Не порицай при мне нашего учителя и не осуждай ближнего за его звание. Бог смотрит на сердце, а не на звание наше.
– Не сердитесь, Илья Прохорович! Я, пожалуй, замолчу, но, с вашего позволения, никогда бы не поверил я дьячку.
– Все вы, никониане, так упорствуете против истинного учения!
– Да чем доказать можно, что оно истинно?
– Чем!.. чем!.. Давай, например, мне самого злого зелья: я выпью – и мне ничего не сделается. Уверуешь ли ты тогда? Поклянитесь все вы, теперь меня слушающие, обратиться к вере истинной, если увидите совершившееся чудо. Поклянитесь! Я сейчас готов испить чашу с зельем для обращения и спасения вашего. Не отступлю от веры истинной до конца! Не испугаешь меня и ты, правитель нечестивый, еретик Бирон! Вели сжечь меня: я готов принять венец мученический, не устрашусь угроз твоих.
– Разве Бирон угрожал вам, батюшка? – спросил молодой Аргамаков, которого привели в беспокойство последние слова отца.
– Да, любезный сын. На меня кто-то донес ему; секретарь его приходил ко мне и объявил, что меня сожгут, как Возницына, а все мое имение возьмут в казну, если я не подпишу клятвенного отречения от веры моей. Он дал мне два дня на размышление.
– Боже мой! – воскликнул сын, вскочив со стула. – Батюшка! Неужели вы захотите погубить себя?
Он любил искренно своего старого отца, несмотря на все его странности. Никогда и мысленно не осуждал он его усердие к расколу. Честность старика Аргамакова, его бескорыстие и готовность помогать ближнему невольно заставляли всякого уважать его, кто имел случай узнать его поближе. Сын всегда избегал прений с отцом своим о вере, убедясь из опытов, что они огорчали только старика, зато и старик горячо любил своего сына за его почтительность, никогда не сердился на него за разность религиозных мнений и питал в душе тайную надежду, что пример его и кроткие убеждения побудят наконец сына принять учение, которое считал старик истинным.
Гибель, грозившая отцу, принудила молодого Аргамакова высказать ему все, что он думал об учении феодосьевского раскола. С жаром просил он его не противиться воле Бирона и отказаться от своего заблуждения.
– Вот до чего дожил я! – воскликнул старик, подняв глаза к небу. – Сын искушает меня и хочет ввергнуть душу в вечную погибель! Нет! Не будет этого. Замолчи, искуситель! Не совратить тебе меня с пути истинного, не лишишь ты меня венца мученического. Вижу, вижу тайные помыслы твои. До сих пор я не давал тебе благословения на женитьбу, и ты надеешься, что, совратив меня с пути спасения, упросишь благословить тебя на брак. Не губи отца твоего для угождения страстям своим. Не соглашаясь на женитьбу твою, я надеялся сохранить для тебя сокровище целомудрия и открыть двери райские. Я желал тебе добра, нескончаемого блаженства, а ты…
Старик закрыл лицо руками и заплакал.
– Бог свидетель, – воскликнул с жаром сын, – что я не о себе теперь думаю, батюшка: одна любовь к вам заставила меня говорить.
– Через день меня не будет уже на свете: пострадаю за мою веру. Пусть прах мой обратится в пепел и развеется ветром: временный огонь спасет меня от вечного.
Сказав это, старик подошел к сундуку и вынул оттуда кожаный кошелек, наполненный золотом.
– Любезный сын! Вот все, что я накопил честными трудами в течение целой жизни. Отдаю это тебе… Не забывай бедных… Если ты уже не можешь быть счастливым в этой жизни без брака, даю тебе мое благословение… Прости, Господи, слабость мою!.. Потщись, любезный сын, другими добрыми делами вознаградить неоцененное сокровище целомудрия, которое ты потеряешь, и заслужить вечное блаженство. Будь счастлив и в этой жизни и в будущей и молись за грешного отца твоего.
– Нет, любезный батюшка! Вы не умрете: я спасу вас во что бы то ни стало.
Ханыков, погруженный в мрачные размышления, ходил взад и вперед по комнате. Мурашев, расстрогавшись, утирал рукавом слезы, которые навертывались на его глаза. Старик Аргамаков возбуждал к себе чувство, в котором уважение к его твердой решимости и сожаление об его заблуждении сливались странным образом.
Мурашев тихонько вышел из комнаты и побрел к своему дому, придумывая средство к спасению отца своего молодого приятеля. Прислужник Гейера, выглянув из окна, снова разбранил и отогнал хозяина от ворот. Мурашев, в свою очередь, разбранив про себя прислужника и облегчив этим сердце, отправился отыскивать Гейера, чтобы просить его о приказании освободить дом его из-под караула. Целый день бродил он по всему городу, но Гейер, как клад, нигде не показывался. Мурашев поздно вечером вынужден был опять возвратиться на ночлег к старику Аргамакову. Срок, данный последнему на размышление, должен был истечь на другой день утром. Валериан и друг его, Ханыков, истощили все просьбы и убеждения. Ужасаясь участи, ожидавшей старика, целую ночь они советовались и ничего не могли придумать.
Утром явился Гейер с прислужником, с тем самым, с которым он, завернутый в плащ, за несколько дней до того разговаривал на Симеоновском мосту.
– А! – сказал он. – Да здесь все знакомые! Нельзя ли, господа, выйти на минуту в другую комнату: я должен переговорить с хозяином дома.
Все повиновались.
– Ну, почтенный! – продолжал он, обратясь к старику Аргамакову. – Я прислан к тебе от его высочества. Ты, надеюсь, уже решился отказаться от ереси. Подпиши эту бумагу: я представлю ее герцогу, и дело кончится тем, что ты заплатишь штраф, да за тобой представят надзор.
– Я уже сказал, что ни за что на свете не сделаюсь отступником от истинной веры, и теперь тоже повторяю. Пусть сожгут меня, не хочу откупиться от блаженной смерти мученика; не возьму греха на душу: купить за деньги право поклоняться Господу поклонением истинным.
– Ого, любезный! Да ты, вижу, упрям до чрезвычайности. Так знай же, что если не одумаешься и будешь противиться воле герцога, то я теперь же возьму тебя под стражу, и через несколько дней тебя сожгут.
– Делайте со мною что хотите: на все готов за веру истинную.
– Хорошо! Прекрасно!.. Стереги его и никуда не выпускай! – сказал Гейер своему прислужнику. – Я сейчас же должен съездить к его высочеству и обо всем доложить. Признаться, старик, мне за тебя страшно!.. До свидания!
Гейер удалился, а Валериан и Ханыков с Мурашевым немедленно вошли опять в комнату. Узнав, чем кончились переговоры между стариком и Гейером, Валериан не мог удержать слез своих, Ханыков пожал плечами и вздохнул, а Мурашев начал ходить большими шагами по комнате, восклицая:
– Ах, Господи Боже мой! Что за напасть!
Наконец он обратился вдруг к прислужнику Гейера, взял его за руку и вызвал в другую комнату.
– Я тебе, почтенный, заплачу пяток червонцев, если не помешаешь мне сделать то, что я придумал. Согласен ли ты? Я, авось, уломаю старика: он подпишет отречение и штраф заплатит.
– Пожалуй, я согласен. Только выпустить его отсюда никак нельзя! – отвечал прислужник.
– Да и не нужно! Возьми же, любезный, вот тебе пять червонцев.
Федор Власьич после того куда-то отправился и вскоре возвратился, неся в склянке какую-то жидкость.
– Ты обещал нам, Илья Прохорыч, – сказал он старику Аргамакову, – показать чудо для обращения нас к вере истинной и спрашивал: уверуем ли мы, если ты выпьешь яду и тебе ничего не сделается? Хотелось бы мне убедиться в истине веры твоей. Я бы тотчас же в твою веру перекрестился.
– Поклянись в этом! – воскликнул старик, с восторгом схватив его за руку.
– Изволь, клянусь! Только…
– Что у тебя в склянке?
– Яд, да какой! Ну такое злое зелье, что и глядеть на него страшно!
– Давай сюда! Помни же свою клятву. Мне приятно перед смертью, которую приму от Бирона, обратить еще одного ближнего на путь истины.
– Батюшка! Что вы делаете! Остановитесь! Я донесу на вас, Федор Власьич, как на отравителя, если осмелитесь дать батюшке хоть каплю этого яда.
– Не мешай мне, сын, и не бойся. Увидишь, что я останусь невредим. Дай сюда склянку, Федор Власьич!
– Не давай, не смей давать! – закричали Валериан и друг его, бросясь к Мурашеву.
– Да не горячитесь, господа! Не забудьте, что это чудо может послужить к общему нашему спасению. Я ведь не вдруг же дам яду, я поступлю осторожно: не бойтесь!
Офицеры хотя и не поняли еще намерений Мурашева, но удостоверились, что он вреда никакого не сделает.
Взяв стакан, Мурашев вылил в него из склянки половину жидкости.
– По-настоящему, мне нельзя этого дозволить! – сказал прислужник.
– И! Почтенный! – возразил Мурашев. – Будь спокоен: я не дам Илье Прохорычу ни капли! Что мне за охота в беду попасть!
Старик Аргамаков между тем неожиданно схватил стакан и выпил. Прислужник ахнул и устремил на него глаза с любопытным ожиданием; молодой Аргамаков и друг его, сильно встревоженные, не знали что делать и с беспокойством смотрели то на старика, набожно поднявшего глаза к небу, то на Мурашева, потупившего глаза в землю. Несколько времени длилось молчание.
К изумлению всех, выпитый яд не произвел никакого действия. Одного Мурашева это не удивило; он для спасения соседа своего от костра придумал дать ему под видом яда голландской полынной водки, зная, что старик, с молодых лет строго державшийся правил феодосиан, никогда не пивал даже простого русского вина, а о вкусе иностранных водок не имел и понятия.
– Веруешь ли теперь? – спросил Аргамаков Мурашева торжественным голосом. – Своими глазами ты видишь чудо, совершившееся надо мною, недостойным: злое зелье мне не повредило. Поклонись же нашему Богу и отрекись от вашего[7]. Помнишь ли свою клятву?
– Удивительное дело! – прошептал Мурашев с притворным смущением. – Может быть, я достал яду не такого сильного! Притом ты выпил менее половины склянки.
– Давай еще, давай полный стакан! Увидишь, что и от этого мне ничего не сделается.
– Ну, не ручайся, Илья Прохорыч.
– Наливай, не сомневаясь! Узришь еще большее чудо и тогда отречешься от своего нечестия. Наливай полнее! Не страшись и не опасайся. Я выпью, пожалуй, еще третий стакан, если двух мало для обращения твоего к нашей вере истинной.
– Нет, Илья Прохорыч, и двух будет довольно.
Естественно, что от двух стаканов полынной водки у набожного старика зашумело в голове. Природный его характер, решительный и склонный к веселости, давно и постоянно подавляемый строгими правилами феодосьевского раскола, начал прорываться за эту преграду, как в весеннее полноводье речка через ветхую плотину.
– Ну что, любезный Федор Власьич, – сказал он, бодро расхаживая по комнате, – ты теперь уже наш?
– Нет еще, Илья Прохорыч.
– Как нет? Ты видишь, что мне ничего не сделалось. Истинно, я от твоего зелья чувствую себя только веселее. Так, что-то на душе легко.
– Послушай, Илья Прохорыч, я тебе дал клятву, и ты мне также дай. Если ты через полчаса пройдешь из этого угла в другой, то есть от запада к востоку, прямо, то докажешь неоспоримо, что вера твоя прямая и истинная, – тогда я твой; если же не исполнишь этого и повернешь в сторону, на север или на юг, тогда будет это знамением, что вера твоя не истинна. Поклянись, что ты тогда от нее отречешься и будешь наш.
– Изволь, любезный Федор Власьич, изволь, клянусь благочестивым Дионисием, великим учителем нашим и старшим наставником в древнем благочестии. Увидишь, что я хоть по ниточке пройду сто раз из угла в угол и не сверну ни направо, ни налево.
Мурашев усадил старика на софу и, когда прошло полчаса, напомнил ему клятвенное его обещание. Аргамаков, встав в угол комнаты и оборотясь лицом к востоку, твердыми шагами пошел в другой угол.
– Видишь, Федор Власьич, – сказал он, остановясь посередине комнаты, – сбиваюсь ли я с прямого пути? Доколе будешь упорствовать в твоем неверии?
– Да ведь ты еще не дошел до другого угла, Илья Прохорыч.
– За этим дело не станет, – вот, смотри!
– Эй, эй! К югу заворачиваешь, или нет, поправился. А вот уж теперь, воля твоя, тебя несет невидимая сила прямо к северу.
– Неправда. Летом прямохонько против этого окошка солнце восходит – именно тут истинный восток. Да подожди, впрочем, я снова из угла в угол пройду. Смотрите!
В этот раз невидимая сила увлекла усердного последователя феодосьевского учения прямо к югу, и так быстро, что он верно бы упал, если б не успел сесть на софу.
– Горе мне, грешнику! – воскликнул он, сплеснув руками.
– Теперь уже видишь ты сам, Илья Прохорыч, что забрел в такую сторону, где солнце никогда не восходит.
– Горе мне, грешнику! Что я сделал! Погиб я, пропал навеки! Верно, лукавый положил мне под ноги камень преткновения.
– А клятву свою ты не забыл, Илья Прохорыч? Ты ведь поклялся вашим великим учителем Дионисием.
– Поклялся, истинно поклялся, делать нечего! – воскликнул старик, вскочив с софы.
– И верно, не захочешь быть клятвопреступником?
– Клятвопреступником? Чтоб я сделался клятвопреступником?! Нет, не будет этого! Не только клятву, но и простое слово всегда я свято исполнял… Не поддержал ты меня, Дионисий, и я тебя не поддержу. Сам ты виноват, впредь своих не выдавай.
– Да кого может дьячок поддержать, Илья Прохорыч? Верно, его самого, когда он был жив, нередко поддерживали другие, особенно в праздники. Плюнь на него, он просто обманщик.
– Не говори хулы! – сказал старик с глубоким вздохом. – Может быть, я недостоин его помощи, и он от меня отступился.
– Ну так ты отступись от него. Хорош же он, когда сам показал, что вера его не прямая и не истинная. Притом клятва твоя…
– Да, клятва, клятва! Связала она мою душу. Поторопился я! Этой клятвой погубил я себя, погубил навеки!..
– И, полно, Илья Прохорыч! Дьячок Феодосий был, с позволения вашего, плут и, верно, сам в аду сидит. Что его бояться?
– Мне кажется, что для вас будет менее опасности, когда вы сдержите клятву, – сказал Ханыков. – Если же решитесь ее нарушить, то вы останетесь клятвопреступником перед вашим наставником в вере и не можете после того ожидать от него ничего доброго.
– Правда, правда! – сказал старик. – Господи! Покажи мне путь истинный!
– Ну, подпиши же это, благословясь, Илья Прохорыч! – продолжал Мурашев, подавая ему бумагу, оставленную Гейером. – Вот тебе и перо.
Мучительная борьба души яркими чертами изобразилась на лице старика. Он поднял глаза к небу, сложа судорожно руки, и долго пробыл в этом положении. Все присутствовавшие молчали, волнуемые надеждой и сомнением. Наконец старик, перекрестясь, схватил перо и подписал бумагу.
Сын бросился обнимать его. Мурашев, глядя на них, чуть не плясал от радости. Ханыков подошел к нему и крепко пожал ему руку.
– Теперь остается заплатить штраф, когда возвратится сюда господин секретарь его высочества – и дело будет кончено! – заметил прислужник Гейера. – Только советую всем не разглашать этого дела, а не то легко может случиться, что почтенного хозяина, несмотря ни на отречение, ни на штраф, сожгут своим порядком.
– За штрафом остановки не будет – сказал Мурашев. – Молчать мы также умеем, а теперь не мешало бы и пообедать. Я так голоден, что едва на ногах стою.
Старик Аргамаков послал своего работника в ближнюю гостиницу и велел принести самый роскошный, по тогдашнему времени, обед.
Когда накрыли на стол, явился Гейер. Он еще не доложил герцогу об упорстве старика Аргамакова, надеясь, что страх казни заставит его одуматься и заплатить штраф, который для почтенного секретаря был всего важнее. Валериан, с согласия отца, вручил Гейеру сорок червонцев, которые тот потребовал, и секретарь с прислужником удалился, дав также совет соблюдать величайшую скромность, чтобы это оконченное дело опять не возобновилось и не довело старика до костра. На просьбу Мурашева Гейер обещал немедленно освободить дочь его и сестру из-под караула. При этом обещании лукавая улыбка мелькнула на лице Гейера.
Все сели за обед. Старик Аргамаков сел за стол вместе с другими и вздохнул, почувствовав по привычке упрек совести за общение в пище с никонианами.
После стола Мурашев, порядочно выпивший на радостях, немедленно отправился домой, полагая, что уже его туда впустят по приказанию Гейера. И точно, он беспрепятственно вошел в комнаты, но весьма удивился, не найдя в доме ни сестры, ни дочери. Дворник сказал ему, что они обе уехали в карете с каким-то генералом, что Дарья Власьевна оделась по-праздничному, в платье с преширокими боками, и что Ольга Федоровна очень плакала, садясь в карету.
– Что за вздор! – воскликнул удивленный Мурашев. – Верно, сестра вздумала против воли увезти ее куда-нибудь в гости. Да генерал ли за ними приезжал? – спросил он дворника. – Не камер-лакей ли? У сестры, кажется, нет знакомого генерала.
– Не знаю, хозяин. Кажись, генерал приезжал – а и то сказать, наверное не ведаю. Может статься, что и камер-лакей. Не всегда их распознаешь! Видел я только, что у него на кафтане множество золотых вычур.
– Ну, так это камер-лакей! Верно, сестра изволила отправиться в гости к Ивану Иванычу. Выбрала же время, сумасшедшая!
Успокоясь этой догадкой, Мурашев пошел в свою комнату. Вдруг пришло ему в голову написать письмо к старику Аргамакову и поблагодарить его за угощение. Мысль эта родилась от попавшейся на глаза его книги «Приклады, как пишутся комплименты разные». Он поискал форму благодарного писания за доброе угощение и переписал ее слово в слово, не приметив, что в переписанной им форме многие обстоятельства вовсе не шли к настоящему случаю. Через два часа старик Аргамаков получил следующее письмо:
«Благошляхетный, особливо высокопочтенный господин, знатный патрон!
Моя должность и повеление от всей компании, которая честь имела от вас так изрядно удовольствована быть, понуждает меня моему высокодрагому благодетелю за все полученные учтивства и великие благодеяния должное благодарение отдать и при том вас во имя всех и каждого особо обнадежить, что мы никакой оказии не пропустим нашу должность через возможное воздаяние в самом деле паки воздать. Дорога в город назад нам зело трудна была, и в том моего высокого благодетеля чрезмерная благость винна была, понеже мы принуждены были столько изрядных рюмок за здравие прекрасных испорожнять, так что господин имярек весьма при возвращении в некоторое погрешение впал, за что на него госпожа девица имярек штраф или пеню наложила, что он принужден последующего утра коляцию (или вечеринку с конфектами) учинить, при которой и о вас, высокопочтенном господине, не однажды поминали, и правда общее желание к тому было, чтобы мы могли честь иметь вас здесь у нас видеть, и вам через возможное услужение, нашу преданность и склонное благоволение показать, всегда бы вы, мой высокопочтенный господин, нам здесь то великое счастье вкратце изволить подать, то вы бы чрез то многих вящше облиговал: между которыми я особливо себя вам высоко обязана быть признаваю моего высокопочтенного господина и знатного патрона к услугам готовый
Федор Мурашев».Наступил вечер, Мурашев послал дворника к своему знакомому камер-лакею, Ивану Ивановичу, чтобы звать сестру и дочь скорее домой, но дворник возвратился с ответом, что они за весь тот день не приезжали ни на минуту к Ивану Ивановичу и что сам Иван Иванович находится в большом горе, потому что у него накануне сбежала неожиданно ключница, к которой десять лет он имел полное доверие, и унесла его одеяло, халат, бронзовые пряжки, медный кофейник и парадные штаны.
– Побери его нелегкая со всеми его штанами! – воскликнул Мурашев. – Не знаю, что и делать! Куда это, Господи, девалась моя Ольга?
Теряясь в догадках, побежал он в дом старика Аргамакова в намерении посоветоваться с Валерианом и Ханыковым.
– А! Дорогой сосед опять ко мне пожаловал! Мы только что за ужин хотели сесть, – сказал старик Аргамаков. – Да скажи, ради Бога, что за письмо ты ко мне прислал?
– Мы трое его разбирали, но не все поняли, – прибавил Ханыков.
– Как не поняли? Я написал к Илье Прохоровичу благодарное писание за доброе угощение. Это уже так водится между всеми хорошими людьми.
– Благодарствую, Федор Власьич! Только отчего же ты пишешь, что дорога в город тебе была трудна? Ведь и я живу не за городом, по ту сторону Фонтанной речки, да и далеко ли от моего дома до твоего!
Мурашев, у которого вместе с парами наливок вылетело из головы содержание выписанного им из книги письма, ничего не отвечал на вопрос.
– Еще ты пишешь, что мы опорожнили множество рюмок за здравие прекрасных. В наши ли лета, Федор Власьич, пить за их здравие? Я подумал, что ты надо мной смеешься. Ты ведь один давеча от меня домой пошел?
– Один-одинехонек. С кем же мне было идти?
– А как же ты пишешь, что какой-то господин с тобой вместе возвращался, впал в какое-то погрешение, и какая-то девица на него пени наложила, а именно: вечеринку с конфектами, на которую и я приглашен. Пожалуй, я бы пошел, да не знаю, к кому и куда.
– Неужто это у меня в письме написано? – сказал Мурашев, смутясь.
– Вот письмо твое, посмотри сам. Скажи-ка, что за девицу ты провожал? – продолжал Аргамаков, грозя пальцем Мурашеву.
– Какой ты, Илья Прохорыч! Да ведь все это так только пишется, это называется комплимент, а ты подумал, что уж все так и вправду было, как написано. Впрочем, не до письма мне теперь, у меня дома неблагополучно.
– Что такое? – спросили все в один голос.
– Сестра и дочь пропали.
– Как пропали! – воскликнул Валериан, бледнея.
– Дворник мой говорит, что какой-то генерал увез их в карете. Не знаю, что и подумать.
По общему совету решили: если Дарья Власьевна и Ольга не возвратятся домой к ночи, на другой день, на рассвете, начать их искать по всему городу.
VII
Несколько дней прошло в напрасных поисках и расспросах. Валериан был в отчаянии.
В день рождения супруги герцога Бирона, курляндской дворянки Трейден (которая, по свидетельству современников, отличалась ограниченным умом и неограниченной гордостью), назначена была по ее требованию, несмотря на ноябрь месяц, иллюминация в Летнем саду и на Царицыном лугу, на котором в то время были насажены в разных местах деревья. Прелестной решетки Летнего сада тогда еще не было. На ее месте, близ дворца Петра Великого, по берегу Невы, не отделанному еще гранитом, тянулся длинный деревянный дворец, построенный в 1732 году императрицей Анной Иоанновной; в стороне от дворца стояла каменная гауптвахта; далее, на берегу Фонтанки, возвышалась беседка в виде грота, украшенная морскими раковинами. Сад отделялся от Царицына луга каналом; по другую сторону луга, от того места, где ныне Мраморный дворец и где тогда, после сломанного Почтового двора, устроили площадь, проведен был другой канал из Невы в Мойку. Ряд зданий, находившихся на берегу последнего канала, назывался Красной улицей. Примечательнейшим из этих зданий был собственный дворец императрицы Елизаветы Петровны, в котором она жила до вступления на престол.
Наступил вечер, на счастье, сухой и не слишком холодный, и безлиственные аллеи Летнего сада осветились шкаликами. На Царицыном лугу между деревьев зажглись изредка плошки; только в одном месте на лугу ярко освещены были шкаликами березы, обсаженные кругом площадки, где стояли огромные качели и карусель. Первая состояла из деревянного льва, повешенного на веревках за высокую перекладину; на львиный хребет с одной стороны садились дамы, с другой мужчины, и послушный царь зверей качал свою ношу из стороны в сторону. Карусель была устроена из большого деревянного круга, по краям которого стояли четыре деревянные, оседланные лошади, а между ними столько же саней на высоких подставках. Круг поворачивали около толстого деревянного столба, а сидящие на лошадях и в санях старались тонкими копьями снимать развешанные над ними железные кольца. Кто больше снимал колец, того провозглашали победителем. Валериан, Ханыков и Мурашев печально ходили в толпе народа: им было не до гулянья. Они внимательно смотрели на каждого попадавшегося им навстречу генерала, если вместе с ним шли женщины.
– Авось сегодня загадка разгадается! – говорил Мурашев со вздохом. – Теперь весь город собрался в сад. Может быть, мы где-нибудь увидим Ольгу или, по крайней мере, глупую мою сестру.
– Я все думаю, – заметил Ханыков, – не попались ли они в руки Гейера? Если так, то их, верно, не будет на гулянье.
– Да отчего же бы моя сестра нарядилась по-праздничному и надела свои фижмы? Кого Гейер потащил к себе, тому не до нарядов.
Долго бродили они по саду и наконец, выйдя на Царицын луг, приблизились к окруженной деревьями площадке, где стояла карусель. На лошадях сидели трое мужчин и одна женщина, с копьями в руках; сани также были заняты игравшими. Деревянный круг быстро обращался около столба и производил такой скрип,
Как будто тронулся обоз, В котором тысяча немазаных колес.При каждом снятом кольце раздавалось общее восклицание «браво!».
– Что за дьявольщина! – проворчал Мурашев, всматриваясь в кружившуюся на деревянной лошади женщину. – Это, кажется, моя сестрица изволит отличаться?
– Быть не может! – возразил Ханыков.
– Это именно она! – воскликнул Валериан.
– Что за диковина! – продолжал Мурашев. – Пойдемте поближе.
Сквозь толпу зрителей они протеснились и стали подле карусели. В самом деле, в черной бархатной шапочке с красным страусовым пером, в генеральских фижмах, в длинной мантилии ярко-оранжевого цвета, которая величественно развевалась, как адмиральский флаг во время сильного ветра, носилась Дарья Власьевна на деревянном коне около столба и ловко поддевала длинным копьем развешанные кольца. На лице ее сияло удовольствие или, лучше сказать, восторг. Подхватив на копье кольцо, она торжественно и гордо посматривала на зрителей, и восклицание «браво!» сильнее потрясло ее сердце, нежели клик «ура!», которое потрясает сердце полководца во время решительной битвы. В одних из саней сидела Ольга рядом с каким-то генералом, который с ней разговаривал и смеялся, вероятно стараясь ее развеселить. Судя по ее потупленным глазам и бледному лицу, можно было легко заметить, что бедной девушке было вовсе не до веселья.
Валериан задрожал от гнева, увидев Ольгу. Рука его невольно упала на рукоятку шпаги, и он верно бы бросился к генералу, если бы Ханыков не остановил его, крепко схватив своего друга за руку.
– Ради бога, успокойся! Разве ты не видишь, что это брат герцога?
– Пусти меня! – кричал Валериан, вырываясь. – Пусти меня к этому бездельнику!
– Вспомни, что и где ты говоришь. Ты себя погубишь!
На счастье, сильный скрип деревянного круга заглушил голос Валериана, так что никто из близстоявших зрителей не мог расслышать его слов.
Между тем Мурашев с беспокойством смотрел на дочь свою, не зная, что подумать, и изредка поглядывал на Дарью Власьевну с такой досадой, что у него в горле дух перехватило.
Случайно она его увидела в толпе. Мурашев погрозил ей кулаком, а Дарья Власьевна, в вихре удовольствия не заметив этого движения, жеманно кивнула головой, прищурила один глаз, улыбнувшись в знак того, как ей было весело, и, приложив концы своих пяти пальцев к губам, послала по воздуху поцелуй брату.
– Недаром сказано в «Советах премудрости», – ворчал сквозь зубы Мурашев, желая чем-нибудь себя успокоить, – «приключилась в нашей натуре порча, коя производит беспутные дела по большей части в женщинах. Сила дымов и паров, слабость душевных органов и мысли и, наконец, слепота ума причиняют многие слезы тем, кои их любят. В них виды предметов огненные, легкомысленные, заблуждательные. Мечтание нежное и слабое последует их заносчивости. Что от нас называется своенравием, упрямством, неистовством, то многократно бывает бесом, который входит в их голову и заставляет их делать то, что мы видим».
Между тем все кольца были сняты играющими, деревянный круг остановился, и стоявший посредине круга, у столба, секретарь герцога Гейер, пересчитав все снятые кольца, провозгласил:
– Девица фон Мурашева осталась победительницей!
– Браво! – закричали все участвовавшие в игре и захлопали в ладоши. Гейер подбежал к Дарье Власьевне и помог ей слезть с деревянного коня. Она начала раскланиваться и приседать, повертываясь во все стороны. Генерал, подав Ольге руку, вышел с ней из саней, адъютант его взял под руку Дарью Власьевну, и все общество пошло к деревянному льву, на котором качалось другое общество.
Генерал, шедший с Ольгой, был старший брат Бирона, Карл. Сначала он служил в России, попался в плен к шведам, бежал в Польшу, дослужился там до чина подполковника, опять перешел в русскую службу и, по милости брата, в короткое время попал в генералы. Он мог бы гордиться множеством ран, если б они были получены им в сражениях, а не на поединках или во время ссор, до которых почти всегда доходило дело там, где Бирон намеревался повеселиться.
На каждой пирушке, где лилось шампанское, входившее тогда в моду, он всех храбрее рубил головы бутылкам и яростно истреблял этих неприятелей. Все боялись его; одно слово, сказанное ему не по нраву, могло иметь следствием или поединок, или непримиримую вражду герцога, который уважал все его жалобы. Даже Гейер его страшился, старался всеми мерами ему угождать и был ревностным исполнителем его поручений по части любовных интриг. Заметив необыкновенную красоту Ольги, Гейер немедленно навел генерала на добычу. В то время как Дарья Власьевна и Ольга сидели под караулом в доме Мурашева, Карл Бирон приехал к ним, притворился страстно влюбленным в Ольгу, объявил решительно, будто он на ней хочет жениться, и убедил Дарью Власьевну тотчас же переехать к нему на несколько дней, с его невестой, в загородный дом. Дарья Власьевна совершенно одурела от такого неожиданного случая. Ей казалось, что Ольга должна считать себя счастливейшей из смертных, выйдя замуж за брата регента, что отец Ольги будет тех же мыслей, что не исполнить требования брата герцога значит погубить и Ольгу, и всех родных ее.
Все это она представила племяннице со всевозможным красноречием, опровергла все ее опасения, почти насильно одела ее в лучшее платье и вынудила отправиться в карете с генералом.
– Что ты, дурочка, боишься? – говорила она, одевая Ольгу. – Ведь и я с тобой еду. Теперь непременно надо исполнить волю генерала, не то попадем в большую беду. Будет еще время, после подумаем и с отцом посоветуемся. Вообрази: ты будешь родней его высочеству герцогу! Шутка ли!
Карл Бирон, со своей стороны, старался успокоить Ольгу, говоря, что если он ей не понравится, то принуждать ее не станет. Впрочем, прибавил он, мудрено не полюбить меня, узнав покороче.
Дарья Власьевна, одев Ольгу, вывела ее к генералу и с трепетом сердечным сказала:
– Так как и я удостоена счастья быть приглашенной к вашему превосходительству, то не позволите ли вы мне одеться поприличнее, чтобы простой наряд мой не показался странным в вашем блистательном доме.
– Да, да! – отвечал Карл Бирон, едва удерживаясь от смеха. – Это необходимо, я этого просто требую.
Дарья Власьевна тотчас облеклась в генеральские фижмы, в платье с длинным шлейфом, завязала еще несколько своих и Ольгиных нарядов в скатерть, и Бирон с глупой теткой и бедной племянницей поехал в свой загородный дом. Там он всеми силами старался развеселить Ольгу, у которой сердце беспрестанно ныло от беспокойства, между тем как Дарья Власьевна, не подозревая об истинных целях генерала, блаженствовала в его доме, обходилась с ним по-родственному, любовалась перед зеркалами своими фижмами и шлейфом. На все учтивости и ласки генерала Ольга отвечала слезами и просила возвратить ее в отцовский дом. Бирон говорил, что он жить без нее не может, и упрашивал Ольгу пробыть несколько дней в его доме, пока он совершенно не удостоверится в невозможности ей понравиться. Между тем он обдумывал втайне средства к достижению своей цели и находил в этом промедлении известное наслаждение. Так сытая кошка, поймав молодую птичку, которая еще не может летать, любуется своей жертвой, играет с ней и съедает не сразу.
Утром того дня, когда праздновали день рождения герцогини, Карл Бирон неожиданно вошел в комнату, которую он отвел для гостей. Ольга была уже одета, а Дарья Власьевна стояла перед зеркалом, заканчивая свой туалет. Волосы ее еще не были причесаны, она только приладила на один бок фижму, когда послышались шаги Бирона в соседней комнате. От испуга Дарья Власьевна уронила фижму, схватила платье со шлейфом и надела его так же быстро, как меняют платье актеры в операх и балетах. Ольга помогла ей кое-как застегнуть крючки лифа.
– Извините, – сказал Бирон, войдя, – я, кажется, перепугал вас. У меня к вам просьба, Дарья Власьевна: сходите поскорее в Гостиный двор и купите две мантильи для себя и для племянницы вашей. Сегодня вечером в Летнем саду назначено гулянье. Вот вам деньги.
– Мне, право, так совестно! – жеманно сказала Дарья Власьевна, поправляя волосы и прикрывая рукой бок, на котором не было фижмы. – Я еще не кончила своего туалета и никак не ожидала так рано вашего посещения…
– Ничего, не беспокойтесь! Что за церемонии между родственниками? Сходите же скорее.
– С величайшим удовольствием. Позвольте только закончить туалет. Осмелюсь вас попросить на минуту выйти из комнаты.
– Помилуйте, да вы совсем одеты. Я боюсь, чтобы не заперли лавок по случаю сегодняшнего праздника. Сделайте милость, идите скорее. Вот вам мантилья ваша.
Делать было нечего. Дарья Власьевна надела мантилью, покрыла голову капюшоном и отправилась в путь с одной фижмой.
– Мы остались одни, Ольга! – сказал Бирон, взяв ее за руку. – Давно хотел я поговорить с тобой наедине. Реши судьбу мою, скажи: любишь ли ты меня?
– Оставьте меня ради бога, генерал! – взмолилась Ольга, вырывая свою руку из рук Бирона.
– Ты боишься меня? – продолжал он. – Ты не веришь любви моей? Ах, Ольга! Я без тебя жить не могу. Сядь сюда, на эту софу, милая, успокойся. Поговори со мной. Неужели ты хочешь погубить меня?
Он силой усадил трепещущую Ольгу на софу и обнял стан ее одной рукой.
– Помогите! Помогите! – закричала девушка.
– Ты напрасно кричишь, я отослал всю прислугу, мы с тобой вдвоем здесь. Ольга, обними меня, назови женихом своим. Не забывай, я родной брат герцога.
– Это вы забыли, генерал, – отвечала Ольга, рыдая и вырываясь из объятий Бирона, – вы поступаете как разбойник!
– Разбойник?! – вскричал Бирон. – О, за эту дерзость надо наказать тебя. Перестань же упрямиться, обними, поцелуй меня! Ты видишь, как я снисходителен, кто еще, кроме тебя, мог бы безнаказанно оскорбить меня? Но невесте я все прощаю.
С отчаянным усилием Ольга вырвалась из его объятий, подбежала к столику, на котором стояли два прибора, приготовленные для завтрака, и, схватив нож, приставила его к сердцу.
– Ольга, Ольга, что ты делаешь?! – закричал Бирон, вскочив с софы.
– Не подходи, не подходи, злодей! Один шаг – и на твоей душе будет смерть моя!
– Ну хватит, брось нож! Я не подойду, не трону тебя, я немедленно выпущу тебя из моего дома.
– Ты лжешь… – Девушка занесла над собой руку с ножом.
– Остановись! – в ужасе вскричал Бирон. – Клянусь честью, что отпущу тебя из своего дома! Клянусь! Я никогда в жизни не изменял своему честному слову.
– Ты говоришь правду? – Ольга помедлила и положила нож на стол. – Я верю твоему честному слову.
И в самом деле Бирон оставил ее в покое и пообещал возвратить домой тотчас по приезде тетки. Однако по ее возвращении Бирон упросил обеих съездить с ним в Летний сад, где их и встретил Мурашев.
– Здравствуй, сестра, – робко сказал Мурашев, подойдя к Дарье Власьевне, которая внимательно рассматривала качавшегося льва.
– А, братец, Давно уж мы не виделись.
– Ты уж ныне пропадаешь по целым неделям и на деревянных конях всенародно разъезжаешь! – продолжал Мурашев вполголоса. – А с какой стати Ольга, осмелюсь спросить, ходит под руку с этим генералом?
– Она его невеста. Я тебе после все растолкую, братец.
– Невеста? Не спросясь отца, замуж выходит? Да я ее прокляну и тебя вместе с нею.
В это время адъютант взглянул на Мурашева, и он, понизив голос, продолжал:
– Не ты ли дочь мою сосватала?
– Его превосходительство сами изволили к ней присвататься.
Мурашев знал о поведении Карла Бирона и не мог не понять истинных его намерений. Негодование, гнев, отчаяние овладели его душой. В это время Ольга, увидев его, вырвала руку из-под руки Бирона и со слезами бросилась отцу на шею. Безмолвно прижал он дочь к груди своей.
– Не это ли отец моей невесты? – спросил Дарью Власьевну Бирон, торопливо приблизясь к ней.
– Точно так, ваше превосходительство.
– Представь меня ему, пожалуйста, мы еще не знакомы. Господа, извольте отойти отсюда подальше! – закричал он толпившемуся народу. – Здесь и так предостаточно места для гуляния.
Все поспешили исполнить приказание, но никто из многочисленной толпы не смел и слова сказать другому, чтобы третий, подслушав какую-нибудь догадку или суждение о брате герцога не закричал: слово и дело!
– Я давно, любезный, собирался к тебе приехать, – ласково сказал Бирон Мурашеву. – Ты, вероятно, уже знаешь о моих намерениях и, без сомнения, если дочь твоя будет согласна, не откажешься стать тестем моим? Возьми вот этот небольшой подарок.
Он вынул из кармана кошелек, набитый золотом, и подал Мурашеву.
– Благодарю от всего сердца за честь, ваше превосходительство! – отвечал Мурашев, едва держась на ногах. Кровь кипела в нем, в глазах у него темнело, он задыхался. – От подарка же позвольте отказаться!.. Осмелюсь заметить, что дочь рыботорговца не годится в невесты вашему превосходительству.
– Ну, какой вздор! Почему же не годится? Мое дело выбирать себе жену. Да что ты так побледнел? Может, нездоров? Гейер, отвези-ка домой этого почтенного человека.
Гейер взял под руку Мурашева и повел к карете.
Между тем Валериан, вырвавшись из рук Ханыкова, бросился к Бирону.
– Генерал, – сказал он прерывающимся голосом, – по какому праву вы отнимаете у меня невесту?
– Что это значит! – воскликнул Бирон. – Вы, сударь, забыли субординацию: мне и чести не отдаете! Я вас велю арест…
– Не говорите о чести, у вас нет ее. Велите арестовать меня, но я говорю и до самой казни буду повторять: вы низкий и подлый человек! Вы боитесь даже драться, я знаю, что вместо вас палач расправится со мной!
– Дерзкий мальчишка! – в бешенстве вскричал Бирон. – Я обрублю тебе уши в доказательство того, что я никогда не отказываюсь от дуэли. А уж потом тебя расстреляют за дерзость.
– Думаю, что будет наоборот, стоит вам только пригласить в секунданты своего братца.
– Я разрублю тебе голову!
– Тогда и поединка опасаться нечего, – отвечал Валериан, – рубите, вот моя голова.
Он снял шляпу, весь пылая от гнева.
– Выбирай оружие! – сказал Бирон, скрежеща зубами.
– На саблях!
– Хорошо. Деремся без секундантов.
– Согласен.
– Завтра в пять утра в Екатерингофе.
– Итак, до свиданья, – сказал Валериан и медленно пошел от качелей, ничего не видя перед собой.
– А ну-ка заберите этого молодца, – вдруг раздался голос рядом с ним, – он, видно, забыл, что регенту должно честь отдавать. Я тебя проучу, негодный.
Валериан опомнился и увидел возле себя герцога Бирона, который со своей женой и многочисленной свитой шел к карусели. Два человека в плащах, гулявшие вместе со всеми, вдруг выскочили из толпы и схватили Валериана.
– Ведите его, куда надо, – продолжал герцог. – Странно для меня, фельдмаршал, что ваши подчиненные отваживаются на такой беспорядок прямо у вас на глазах.
Граф Миних, к которому были обращены эти слова, в самых почтительных выражениях извинился перед герцогом.
Приблизившись к карусели, герцог остановился перед одной из деревянных лошадей и начал внимательно ее рассматривать.
– Скажите мне, принц, – обратился он к герцогу Брауншвейгскому, – какие недостатки находите вы в этой лошади?
– Главный ее недостаток в том, что на ней далеко не уедешь. Все возле столба кружишься.
– Хм, а вы не пробовали на ней поездить?
– Нет, я вообще не охотник до лошадей, подобные пристрастия не совсем приличны для принцев.
– В меня метите, принц? Но я не стыжусь своей страсти к этому благородному животному. Но за вашу насмешку прошу один разок прокатиться на этой лошади.
– Пожалуйста, но что ж тут удивительного: на деревянной лошади живой всадник? Гораздо страннее видеть на живой лошади деревянного всадника. Мне случалось такое видеть… при объездке лошадей.
– Но всадник, на которого вы намекаете, умеет управляться не только со всякой бешеной лошадью, но и с людьми, не исключая принцев. Не угодно ли сесть на коня? И советую быть поосторожнее, иногда и с деревянной лошади можно упасть неожиданно и гораздо скорее деревянного всадника.
– Они опять поссорятся! – шепнула Миниху супруга принца, Анна Леопольдовна. – Постарайтесь, фельдмаршал, предупредить ссору.
– Попробую-ка я этого Буцефала! – с хохотком сказал фельдмаршал и, вскочив на лошадь, взял копье для снимания колец. – Не угодно ли будет вашему высочеству последовать моему примеру? Пусть этот круг станет для принца и фельдмаршала колесом фортуны.
– Порой с колеса счастья можно попасть совсем на другое колесо, – сквозь зубы процедил герцог, видя, что Миних берет сторону принца.
– Подождите, фельдмаршал, – вскричала супруга Бирона, – я тоже сяду в сани и начнем игру. Посмотрим, удастся ли мне победить фельдмаршала.
– Перед дамами я сразу же слагаю оружие…
Тем временем несчастного Валериана вели двое сыщиков. Его убивала мысль, что брат Бирона, явившись поутру на место дуэли, не найдет его там, и Ольга лишится последней защиты. Неожиданно он увидел высокого и широкоплечего солдата, который служил в его полку. Тот с женой, присев под дерево, с наслаждением щелкал каленые орехи.
– Эй, служивый! – крикнул Валериан.
– Что прикажете, ваше благородие? – отвечал солдат, мигом пересыпав орехи в передник жены, и подбежал к своему офицеру.
– Избавь-ка меня от этих бездельников.
– Только сунься, – буркнул один из сыщиков. – Он арестован по приказу его высочества. Пошел отсюда!
– Ах ты, палка барабанная! – крикнул солдат. – Да как ты смеешь мне приказы отдавать? Завернулся в суконный балахон и уж думает, что сам черт ему не брат. А ну отпусти его благородие, пока я… Прикажете продолжать, ваше благородие? – И солдат сжал огромный кулак.
– Изволь, голубчик.
Первым же ударом один из сыщиков был сбит с ног, второго бравый солдат схватил за шиворот, приподнял, встряхнул и бросил на землю.
– А теперь бегом отсюда, – сказал Валериан, – да жене скажи, чтобы от нас не отставала.
Подходя к своему дому, Валериан встретил своего старого друга, отставного капитана Лельского.
– Что ты так встревожен? – изумился капитан.
Тот подробно рассказал ему свое приключение.
– Но ведь должно же все это когда-то окончиться! – с негодованием воскликнул Лельский. – Ладно, дай мне честное слово, что ты никому на свете не расскажешь о том, что я тебе открою.
– Клянусь честью!
Зайдя к нему домой, Лельский имел с Валерианом продолжительную и тайную беседу.
Прощаясь с ним, Валериан подал руку капитану и сказал:
– Сразу же после поединка, если останусь жив, я приду к тебе и тогда располагай мною. Я – ваш!
Вскоре пришел и Ханыков, который жил в одном доме с Валерианом. Увидев, как его арестовали по приказу герцога, он уже считал своего друга безвозвратно погибшим. Каково же было его удивление, когда дверь ему открыл сам Валериан, живой и здоровый.
– Что это значит? – спросил Ханыков, увидев лежащую на оселке саблю.
– Завтра в пять я дерусь с братом герцога.
– Ты только за этим и вырвался у меня из рук?
– Было бы низостью удерживать меня от поединка с этим ничтожеством.
– Конечно, я никогда не был до такой степени влюблен, но даже в этой приятной горячке я бы никогда не бросился бы драться с Бироном. Я бы сначала посоветовался с фельдмаршалом, который всех нас так любит, попросил бы его защиты, и он бы уладил дело без лишних хлопот. А теперь либо он тебя убьет и будет считать Ольгу своей неотъемлемой собственностью, либо ты его убьешь или ранишь, и об этом непременно узнает герцог. И тогда ты – пропал!
– К чему теперь все эти рассуждения? – с досадой бросил Валериан.
– А к тому, чтобы ты немедленно шел к Миниху и просил его покровительства. Я уже рассказал ему твою историю. Он берется выступить посредником между Бироном и тобой. Заверяю тебя, не только брат герцога, но и сам герцог побаивается этого умного и благородного человека.
– И Карл Бирон будет после этого везде называть меня подлым трусом. Ну нет! Я должен драться. Честь мне дороже жизни.
– А что такое честь?
– Странно, что капитан гвардии об этом спрашивает.
– Еще удивительнее было бы, если бы капитаны всего света вместе со мной дали бы точное ее определение. Мне кажется, что честь велит нам без страха идти на неприступную батарею и проливать кровь за отечество, но глупостей делать офицерская честь не велит. Если кто рубль у человека украдет, все зовут его вором, а похитить на поединке жизнь человеческую, которую за сокровища всего света возвратить нельзя, – пожалуйста! Это можно, все говорят, так честь ему велела.
– По крайней мере, драться я буду не из-за пустяков.
– Согласен, но дело можно решить полюбовно и гораздо для тебя выгоднее. Послушайся моего совета и ступай к фельдмаршалу.
– Ни за что на свете, я уже вызвал его.
– Ладно, видно, тебя уже не переупрямить. Кто твой секундант?
– Никто.
– Как никто? Да без секунданта тебе голову с плеч снесут прежде, чем ты саблю из ножен вынуть успеешь.
– Мы так условились.
– Ну и дурак. Если ты убьешь Бирона, тебя казнят как убийцу, и он уж с того света не сможет засвидетельствовать твое благородство.
– Что же делать?
– Я съезжу к Бирону и попрошу его выбрать себе секунданта.
– А кто же будет моим?
– Ладно уж, подурачусь хоть раз в жизни. Может, мне удастся помирить вас.
– Напрасный труд! Я с этим негодя…
Замахав руками, Ханыков отправился к Бирону и через час возвратился с известием, что генерал с его предложением согласился. Затем он уложил Валериана в постель и велел ему хорошенько выспаться перед боем.
VIII
В Екатерингофе, который тогда походил более на лес, нежели на сад, близ дворца, построенного Петром Великим в память взятия им и Меншиковым 7 мая 1703 года двух шведских кораблей, Валериан явился в пять часов утра с своим другом, задолго до рассвета. Вскоре прибыли и Бирон со своим адъютантом. Удаляясь с потаенным фонарем в лес и выбрав между деревьями небольшую площадку, враги молча взяли сабли и стали друг против друга. Небо покрыто было тучами, и непроницаемый мрак разливался по всему лесу. Ханыков и адъютант Бирона взяли по зажженному факелу и стали один с правой, другой с левой стороны дуэлянтов. Красное сияние отразилось на блестящих саблях.
– Начинай, храбрый мальчик! – сказал Бирон, желая смутить Валериана. – Ты увидишь, можно ли безнаказанно оскорбить Карла Бирона! Не далее как сегодня вечером тебя отнесут к могиле при свете этих самых факелов. В них я вижу худое для тебя предзнаменование.
– Еще не известно, к кому оно относится, – возразил спокойно Валериан. – Вам следует начать, генерал! Я вас вызвал.
– Но прежде должно условиться, – заметил Ханыков, – насмерть ли драться или до первой раны?
– До тех пор пока голова его не соскочит с плеч и не спрячется в эту густую траву! – отвечал Бирон.
– Говоря о моей голове, вы забыли о своей! – сказал Валериан. – Впрочем, я согласен драться насмерть.
– Я бы советовал: до первой раны, – продолжал Ханыков. – Генерал! Мой друг так молод…
– Прошу секунданта не мешаться не в свое дело. Условия от нас зависят.
– Начинайте же! – сказал Валериан. – Мы не разговаривать сюда пришли.
Бирон, взмахнув высоко саблей, повернул ее несколько раз над своей головой так быстро, что раздался свист и отблеск сабли образовал круг, едва заметный по бледному и красноватому сиянию. Пристально глядя на ногу Валериана, как будто намереваясь нанести удар по ней, Бирон вдруг сделал выпад и, без сомнения, разрубил бы противнику голову, если бы Валериан, отстранясь, не отвел удара. Сабля со звоном соскользнула по клинку и ушла до половины в землю.
Бирон, невольно пошатнувшись всем телом вперед, едва устоял на ногах.
– Выньте скорее вашу саблю. Я не хочу пользоваться вашим положением.
Бирон с усилием выдернул из земли свое оружие и снова напал на Валериана. Быстро наносимы были удары и еще быстрее отражаемы. Гул эха глухо повторял вой дребезжащей стали. Как красные молнии, сверкающие сквозь сгущенный воздух, вились сабли, отражавшие блеск факелов, яркие искры вспыхивали над головой и у ног противников почти в один и тот же миг.
«Ай да Валериан! – думал Ханыков. – Не забыл моего совета, хладнокровно дерется!.. Тьфу, как тот озлился!.. Ай, ай, чуть-чуть сабля не задел друга по голове!.. Ну, скверно! И он горячиться начинает!»
Вдруг сабля Бирона вылетела у него из руки от искусного удара Валериана, который в тот же миг занес свою саблю над головой смутившегося противника.
– Вы должны теперь, генерал, признать себя побежденным. Дарю вам жизнь, но с тем условием, чтобы вы дали слово отступиться от моей невесты и не мешать моему счастью.
– Руби! – вскричал Бирон в бешенстве, сложив гордо руки на груди и свирепо смотря на Валериана. – Карл Бирон никогда не страшился смерти!
– Согласны ли вы на мое предложение?!
– Нет!.. Руби! Брат мой отомстит смерть мою. Тебя обвенчают на колесе с твоей невестой!
Сказав это, Бирон засмеялся. Этот неистовый смех заставил невольно содрогнуться его адъютанта.
– Низкая душа! – воскликнул Валериан. – Я этого ожидал от тебя. К чему же ты принял мой вызов? Лучше было бы прежде сказать мне, что честь твоя и жизнь отданы на верное сохранение в подлые руки палача. Но это не спасет тебя. Умри!
Валериан, взмахнув саблей, разрубил бы череп Бирону, если бы Ханыков не удержал руки его.
В это время на некотором расстоянии между деревьями показалось несколько фонарей, и вскоре секретарь герцога Гейер с четырьмя вооруженными прислужниками стал между противниками.
– Свяжите их! – сказал он, указывая на Валериана и Ханыкова. – Хорошо, что мы еще вовремя отыскали вас.
– Не троньте их! – закричал Бирон.
– Я исполняю повеление его высочества герцога, – продолжал Гейер.
– Кто смел сказать ему об этом поединке без моего позволения?
– Его высочество знает не только все, что каждый делает, но даже и то, что каждый думает. Вяжите их!
– Остановитесь! Я беру на себя всю ответственность в этом деле и сегодня же объяснюсь с братом. Вы можете идти, куда хотите. Карл Бирон знает законы чести!
– Это благородно, генерал! – сказал Ханыков. – Вы, верно, оправдаете моего друга перед его высочеством. Жизнь ваша была в опасности, но он не захотел воспользоваться случаем, доставившим ему победу. Без сомнения, вы, как честный и благородный человек, не откажетесь засвидетельствовать, что вы обязаны ему жизнью.
– Нимало! Ты удержал его руку: я ему ничем не обязан! Мы по-прежнему враги, враги непримиримые.
– Без сомнения, палач скоро избавит вас от врага, не правда ли? – спросил Валериан презрительно.
– Дерзкий мальчишка! Поединок наш еще не кончен! Я докажу тебе, что моя сабля отрубит твою голову скорее, чем топор палача. Гейер! Не смей и волоска их тронуть, пока я не объяснюсь с братом.
Гейер, пожав плечами, поклонился и последовал с прислужниками за Бироном и его адъютантом, а Валериан и Ханыков пошли в другую сторону.
– Ну что, Валериан? Не правду ли я тебе вчера сказал, что поединок ни к чему доброму не приведет? Теперь судьба Ольги еще безнадежнее, чем прежде, а мы оба должна ожидать неминуемой гибели. Герцогу уже все известно, на ходатайство врага полагаться можно столько же, сколько на весенний лед, когда он кажется твердым, но стоит только ступить на него, чтобы провалиться. Я, впрочем, о себе не думаю! Умереть надобно же когда-нибудь! Мне тебя жаль, Валериан. Без сомнения, герцог…
– Не долго будет он… – воскликнул Валериан и вдруг прервал речь, вспомнив честное слово, данное им Лельскому.
– Что ты сказать хотел?
– Так, ничего!.. Мысли мои очень расстроены… Да, мой друг, положение наше ужасно!
– Ты что-то таишь от меня, Валериан, – продолжал Ханыков, глядя пристально в глаза другу. – Давно ли я лишился твоей доверенности?
Валериан почувствовал справедливость этого упрека, сердце его рвалось открыться другу, но честное слово, слишком скоро и необдуманно им данное, его связывало.
– Ты молчишь? – продолжал Ханыков. – Не боишься ли, что я донесу на тебя?
– Ах, боже мой! Не обижай меня, друг. Если б ты мог видеть, что происходит здесь, – сказал Валериан, указав на сердце, – ты бы ужаснулся и пожалел меня.
– Я опять повторяю мой всегдашний совет: старайся по возможности сохранять хладнокровие и слушаться голоса рассудка. Когда душа в сильном волнении, ни на что решаться и ничего предпринимать не должно. Я бы тебе мог дать совет основательнее, если б ты, как всегда до сих пор бывало, не скрывал твоих мыслей и чувствований от друга, но ты уже не хочешь быть со мною откровенен!
– Я ничего от тебя не скрываю!
– И ты правду говоришь? – сказал Ханыков голосом, выразившим дружескую укоризну. – Ты не обманываешь своего друга? Почему же ты не смотришь прямо мне в глаза? Я вижу, что у тебя кроется в душе тайный замысел. Дай Бог, чтоб не пришло время, когда ты раскаешься в своей неоткровенности. Ты, наверное, боишься моих советов и убеждений? Не стану тебе их навязывать, хотя дружба моя к тебе всегда брала их отсюда! – Он положил руку на сердце.
– Друг! Не усиливай упреками моих мучений, – сказал с жаром Валериан. – Я связан честным словом и должен молчать.
– Ах, Валериан! Недалеко искать доказательства бедственных следствий ложного понятия о чести. Обдумал ли ты хорошо твое честное слово? Истинная честь есть сокровище, которое должно свято хранить для дел благородных, а не бросать его безрассудно на игралище страстям.
– Обдуманно ли я поступил – увидим это скоро, – отвечал Валериан, подавая Ханыкову руку.
В это время перешли они по узкому деревянному мосту из Калинкиной деревни на другой берег Фонтанки и вскоре поравнялись со слободами адмиралтейских и морских служителей[8]. Молча дошли они по обросшему травой берегу Фонтанки до другого деревянного моста, построенного подрядчиком Обуховым.
– Валериан! Это какое здание? – спросил Ханыков, взяв друга за руку и указывая на большой деревянный дом с садом, который был огорожен деревянным частоколом.
– Это бывший загородный дом-кабинет министра Волынского.
– А теперь чей этот дом?
– Теперь живет в нем полковник фон Трескау, начальник придворной псовой охоты, с придворными егерями и собаками.
– Почему?
– Странный вопрос! Разве ты не знаешь, что все имение Волынского конфисковано в казну после того, как отрубили ему голову? Неужели ты забыл это? С тех пор прошло не более четырех месяцев.
– А за что отрубили ему голову?
– Опять странный вопрос! Весь город знает, что герцог погубил его за то, что Волынский осмелился против него действовать.
– Валериан! Тогда еще герцог не был полновластным правителем. Размысли о несчастной судьбе Волынского, что случилось с ним, то и с другими нынче гораздо легче случиться может, не правда ли?
Валериан невольно содрогнулся и ничего не отвечал.
Миновав Аничков мост, они приблизились к дому старика Аргамакова.
– Куда же мы теперь? – сказал Ханыков. – Мы должны ожидать каждую минуту, что нас схватят. Пойдем прямо к графу Миниху и будем просить его защиты, он один нас спасти может.
– Я зайду на один миг к батюшке и вслед за тобой явлюсь к графу.
– Ради бога, не замедли. Прощай!
Ханыков пожал руку Валериана и поспешно пошел вперед. Когда он повернул в переулок, молодой друг его, посмотрев некоторое время на дом отца, воротился к Аничкову мосту и пошел через калитку на обширный, заросший дикой травой огород, окруженный ветхим забором, который, начинаясь на берегу Фонтанки, заворачивался на Невский проспект и тянулся на четверть версты.
Из полуразвалившейся хижины, где жил прежде огородник, вдруг вышла монахиня и приблизилась к Валериану.
– Чем кончился твой поединок? – спросила она.
– Ах, Лельский, я едва узнал тебя, как ты хорошо перерядился.
Они вошли опять в хижину, и Валериан рассказал ему подробности поединка.
– Теперь только одно свержение герцога может спасти тебя! – воскликнул Лельский. – Может быть, сегодня ночью этот жестокий временщик…
– Разве решено уже приступить так скоро к делу?
– Нет еще. Сегодня все наши соберутся в доме графа Головкина к назначенному в три часа обеду, там приступим к общему совещанию. Мы, однако ж, пойдем к графу несколько ранее. Я еще должен ему тебя представить. С этого огорода мы можем пробраться на двор Головкина. Вон дом его!
Лельский указал на здание, которое возвышалось из-за забора и обращено было окнами на Невский проспект.
– Боже мой! Сюда кто-то идет! – воскликнул Валериан, глядя в окошко.
– Не бойся! Это также наш, я его ожидал.
Вскоре вошел в хижину тот самый прислужник Гейера, который был вместе с ним в доме отца Аргамакова, когда принуждали его подписать отречение от раскола. Валериан, тотчас узнав прислужника, изумился.
– А! Да здесь знакомый! – сказал вошедший. – Видно, и он из наших?
– Точно так, – отвечал Лельский. – При нем можно все говорить. Ну, что нового, любезный Маус?
– Ни всемогущий герцог, ни всеведущий Гейер ничего еще не знают о нашем деле. Хорошо, что вы здесь! – продолжал прислужник, обращаясь к Валериану. – Брат герцога отстоял только вашего друга, капитана, за то, что он не допустил вас разрубить ему голову на поединке. И в вашу защиту он сказал слова два-три, но когда герцог закричал: «Расстрелять его!» – то ваш противник, не найдя, видно, в этом большого неудобства, тотчас согласился и замолчал.
– Я думаю, теперь везде поручика ищут? – спросил Лельский.
– Как же! Генерал велел мне везде искать вас и схватить, – сказал Маус Валериану. – Берегитесь, господин поручик! Я вас днем и ночью по всему городу искать буду. Видите ли, иногда и найденного можно искать пуще не найденного. Между прочим, должен я вам еще сказать, что Гейер велел, покуда вас не сыщут, держать под караулом вашего отца и объявил ему, что если он не скажет, где вы, то подписанное им отречение от ереси будет представлено герцогу в виде признания и отца вашего сожгут.
– Что с вами, поручик? Вы ужасно побледнели и дрожите, – сказал Лельский. – Вы видите, что Маус вас нарочно пугает, что он шутит.
– Да, да! Я шучу, хотя и не совсем, – сказал Маус. – Гейер пугает вашего отца, ну а сожгут ли его, это еще вопрос. Может быть, он сказал так, для шутки, хотя его, по моему мнению, шутка плохая.
– Мы предупредим это злодейство, – сказал Лельский Валериану, – успокойтесь.
– Веди меня к Гейеру! – воскликнул вдруг Валериан, обратясь к Маусу.
– Что вы, поручик! Шутите? – сказал удивленный прислужник.
– Веди! Я не хочу подвергать отца моего ужасной казни. Кто знает, удастся ли предприятие наше, успеем ли предупредить злодеев и спасти бедного отца моего. Веди!
– Я не пущу тебя! – вскричал Лельский. – Кто поручится, что пытка не заставит тебя открыть все и предать всех нас? Притом вспомни, что ты поклялся честью действовать с нами заодно до окончания дела.
– Клянусь честью, что никакие мучения пытки не принудят меня изменить вам.
– И что ты так же твердо сдержишь и эту клятву, как первую? Нет, я не могу пустить тебя. Ты принудишь меня употреблять силу и даже… этот кинжал… Он приготовлен для защиты от злодеев, он же может наказать и бесчестного человека, который нарушает свое слово. Если пойдешь к Гейеру, то докажешь, что ты подлый человек.
Чувство чести и чувство любви к родителю, восставленные один против другого в душе Валериана, боролись между собой и терзали его сердце. Невольно вспомнил он советы своего друга.
Лельский и Маус начали уговаривать Валериана и успели наконец убедить его, что успех их предприятия не подлежит никакому сомнению и что он, действуя с ними, скорее и вернее спасет отца своего.
– До свидания, господа! – сказал Маус. – Мне пора идти, везде искать вас, господин поручик. Гейер, я думаю, давно ожидает моего возвращения.
Он удалился.
– Скажи, ради бога, что побудило этого человека передаться на нашу сторону? – спросил Валериан, приближаясь к дому Головкина с Лельским, переодевшимся в свое обыкновенное платье.
– Побудило то, за что люди, подобные этой твари, продадут родного отца. Он вдвойне выигрывает: герцог ему хорошо платит, мы платим еще лучше, и почтенный Маус усердно служит обеим сторонам.
– Однако ж такой двоедушный или, лучше сказать, бездушный слуга для нас опасен.
– Конечно, но зато и чрезвычайно полезен. Герцог наслаждается уверенностью, что он всех своих врагов знает и зорко наблюдает за ними, а мы уверены, что герцог не знает о нас ничего, – и спокойно действуем у него под носом.
– Дома граф? – спросил Лельский, войдя в переднюю.
– У себя-с! – отвечал слуга, ввел пришедших в залу и пошел доложить о них графу.
Граф Михаил Гаврилович Головкин, действительный тайный советник и сенатор, отличался строгой добродетелью, непоколебимой твердостью и пламенной любовью к отечеству. При начале царствования императрицы Анны Иоанновны он был одним из сильнейших вельмож, но герцог Бирон, которому он был явный враг, мало-помалу успел лишить его доверенности и милости государыни. Несколько раз Головкин смело обличал перед монархиней ее любимца во вредных для отечества поступках и, без сомнения, сделался бы жертвой его злобы, если бы не спасало графа то, что супруга его была двоюродная сестра императрицы[9].
Головкин отличался гостеприимством. Его ласковое обхождение, искреннее ко всем доброжелательство привлекали к нему сердца всех тех, которые посещали дом его.
Вскоре Лельский и Валериан приглашены были в гостиную. Граф сидела на софе и читал книгу.
– А! Любезный Лельский! – сказал он, положив книгу на стол. – Давно я тебя не видал. Добро пожаловать!
– Осмеливаюсь представить вашему сиятельству моего сослуживца, поручика гвардии Валериана Ильича Аргамакова.
– Весьма рад с вами познакомиться, – сказал граф ласково Валериану. – Прошу, господа, садиться.
Начался разговор об обыкновенных предметах, какой заводят в подобных случаях. Граф, однако ж, из немногих слов Валериана заметил в нем ум и образованность. Он очень ему понравился, и граф пригласил его остаться у него вместе с Лельским обедать. Начали съезжаться гости, принадлежавшие к лучшему кругу общества. Пробило три часа – и все сели за стол.
Во время обеда веселые и остроумные разговоры переходили от предмета к предмету, но никто из гостей ни слова не сказал о Бироне.
В половине обеда вдруг слуга поспешно отворил обе половинки дверей, и вошел Карл Бирон. Граф принял его учтиво, но холодно и посадил за стол. Бирон знаком был с графом и от времени до времени приезжал к нему. Он охотно ездил всюду, где находил хороший обед и отличное вино. Ему и дела не было до вражды герцога с графом. Холодного обхождения с ним он не замечал или не хотел замечать и вознаграждал себя за холодность хозяина, согревая кровь свою лишним бокалом рейнвейна.
Валериан, сидевший подле Лельского, вздрогнул и изумился, увидев Бирона. «Лельский обманул меня, – подумал он. – Есть ли здесь что-нибудь похожее на тайное совещание!»
Между тем Бирон сел за стол почти напротив Валериана и едва взял нож и вилку, чтобы разрезать поданное ему кушанье, глаза врагов, утром того дня рубившихся на поединке, встретились. Губы генерала посинели и задрожали. Из-под нахмуренных бровей взор засверкал, как у рассерженной гиены, и устремился на Валериана. Гордо и мужественно смотрел Валериан прямо в лицо своему врагу, и кровь кипела у него в жилах. Оба молчали.
«Странно, что он еще не взят под стражу! – подумал Бирон. – Приказание брата, конечно, ему еще не известно. Он обедает в последний раз в жизни: не стану мешать ему!»
Серебряная кружка с рейнвейном, поднесенная Бирону, отвлекла его внимание от Валериана. Он разом осушил ее и принялся за еду.
Валериан бросил на Лельского значительный взор, который, казалось, спрашивал: что все это значит? Но Лельский, разрезая прилежно рябчика, делал вид, что он ни о чем другом не думает, как о еде, которая была у него на тарелке. Валериан ничего не мог есть во все остальное время обеда. Граф, гости его, великолепно освещенная столовая, роскошный стол – все исчезло из глаз Валериана. Он только видел врага своего, да еще мечтались ему несчастная Ольга, умоляющая о защите против гнусного обольстителя, и старик, отец его, который простирал к нему руки с пылающего костра.
Обед кончился, и все из столовой перешли через залу в гостиную. Некоторые остались в зале. Валериан, взяв за руку Лельского, подвел его к окну с намерением требовать от него объяснения, но тот, угадав его мысли, поспешил сказать ему на ухо:
– Потерпи! Ты видишь, что здесь еще есть не наши.
Часов в девять вечера Бирон уехал. Потом и другие гости, один за другим, стали разъезжаться. Пробило десять часов. Обычно в это время в царствование императрицы Анны Иоанновны прекращались уже все вечерние собрания по предписанному всем правилу, но около пятнадцати гостей, в том числе Лельский и Валериан, остались еще у графа и посматривали исподлобья на одного седого сенатора, который, разговорясь с графом о старинном, прошлом времени, совсем, казалось, забыл о настоящем. Наконец, вынув из кармана серебряные часы, которые толщиною превзошли бы дюжину нынешних, сложенных вместе, и имели сходство с большой репой, старичок воскликнул:
– Что за чудо! Уже одиннадцать… нет, виноват!.. Без двух минут одиннадцать часов! Как я засиделся! Прощайте, ваше сиятельство!
Граф проводил гостя и возвратился в гостиную. Графиня давно уже ушла в свои комнаты.
– Ваше сиятельство, – сказал ему вполголоса отставной майор Возницын, – все, кого вы здесь теперь видите, уважают и любят вас как отца. Зная вашу опытность, обширный ум государственный и горячую любовь к отечеству, мы решились просить у вас совета в деле важном, в таком деле, где все мы легко можем потерять свои головы. Но мы на все решились для блага отечества.
– Что это значит? – спросил удивленный граф. – Вы неосторожны, майор! Нет ли в зале кого-нибудь из моих слуг? Могли вас подслушать!
Лельский стал у растворенной двери, глядя через нее в пустой зал.
– Вы одни, граф, – продолжал тихо Возницын, – как истинный сын отечества, осмелились перед престолом обличать царедворца, употреблявшего так долго во зло доверенность покойной монархини. Он поклялся вечной к нам враждой и ждет давно случая погубить вас. Теперь враг ваш – полновластный правитель. Но кто не знает, какими неотступными просьбами, какими происками успел он убедить монархиню подписать акт о регентстве. Он не устыдился беспрестанно тревожить ее на одре болезни. Она желала назначить правительницей принцессу Анну Леопольдовну, родительницу нынешнего императора, и говорила на просьбы Бирона:
– Сожалею о тебе, герцог, ты стремишься к своей гибели!
Она подписала акт уже тогда, когда духом и телом изнемогла от страданий. Из этого всякому ясно: была ли воля мoнархини на то, чтобы герцог был правителем. Черная душа его известна. Чего ждать отечеству от подобного правителя, или, лучше сказать, похитителя власти? Мы решились его свергнуть, чтобы похищенная им власть перешла по праву в руки родительницы императора. Средств у нас много. Мы их откроем вам, граф! Отдадим их на суд ваш. От вас будет зависеть, избрать из них одно или все отвергнуть. Мы свято исполним решение ваше, уверенные, что оно основано будет на долговременной опытности в делах государственных и на прямой любви к отечеству.
– Вы поставили меня в самое трудное положение, – отвечал граф, – вы поступили безрассудно! Спрашиваю вас: если я в совести признаю Бирона правителем, получившим власть в свои руки по праву, то что я должен теперь делать?
– Донести на нас! – отвечал Возницын.
– Кто подписал акт о регентстве?
– Покойная императрица, но можно ли считать этот акт ее волей, когда Бирон…
– Остановитесь! Кто вам или мне дал право быть судьей в таком важном деле? Где доказательство, что Бирон назначен правителем против воли императрицы?
– Могла ли она добровольно назначить правителем такого злодея и победить родную племянницу? Утверждать это – значит оскорблять память монархини!
– Но какие причины побуждают вас действовать против Бирона?
– Он сжег моего родного брата!
– Уморил с голоду моего отца! – сказал Лельский.
Все начали один за другим исчислять жестокие и несправедливые поступки Бирона и описывать бедствия, причиненные им отечеству.
– Он погубит и вас, граф! – сказал Возницын.
– Пусть погубит, но это не дает мне права против него действовать. Власть дана Бирону монархиней, и долг мой велит ему повиноваться. Один Бог будет судить его. Акт о регентстве должен быть свято исполняем.
– Но он сам первый нарушил этот акт. Монархиня повелела ему оказывать должное уважение родителям императора, а он беспрестанно оскорбляет их. Вы сами, граф, это знаете.
– Справедливо, но в этом случае родители императора сами имеют средства принудить Бирона к исполнению акта. Какое имеете вы право вступаться в это дело без их воли?
– По точной воле их мы действуем, граф! – отвечал директор канцелярии принца Брауншвейгского Граманит. – По воле их пришли мы просить у вас совета, как у мужа опытного и знающего пользы отечества. Я уполномочен объявить вам это. Через меня они ожидают ответа вашего.
Граф задумался.
– В числе придуманных средств к свержению Бирона, – продолжал Граманит, – находится и то, чтобы с Семеновским полком, которым принц командует, идти во дворец, схватить Бирона с его приверженцами, лишить звания правителя и предать его суду за нарушение акта о регентстве. Одобряете ли вы это средство, граф?
– Бирон враг мой, и потому мнение мое легко может быть пристрастно. Скажите, однако ж, принцу, как я думаю по совести. Мне кажется, несправедливо будет для восстановления силы одной нарушенной части акта нарушить весь акт.
– Но как же, граф, ваше собственное мнение?
– На этот вопрос мне отвечать затруднительно. Мнение мое не будет приятно для принца. Сказать лесть или ложь, против совести, я не могу, открыть же истинное мое мнение не хочу и на это имею причины.
Все начали убедительно просить Головкина, чтобы он сказал свое мнение, все умоляли его именем отечества.
Убежденный неотступными просьбами, граф сказал:
– Поклянитесь прежде, что вы сохраните до гроба втайне мое мнение. Скажите мне, как предписывает Евангелие: да! И это будет самая священная клятва.
Все исполнили требование графа.
– По завещанию императрицы Екатерины Первой право на престол принадлежит теперь цесаревне Елизавете Петровне. Ей бы следовало вступить на престол. Если бы она захотела воспользоваться ее правом, то этого было бы достаточно, чтобы признать акт о регентстве недействительным, так как этот акт состоялся после завещания императрицы Екатерины, которое не уничтожено и имеет полную силу. Но Бирон на все решится для удержания власти в своих руках, и легко могут произойти беспорядки и кровопролитие. Кто любит отечество, тот должен всеми силами отвращать внутренние неустройства, неизбежные при каждом перевороте в правлении. Это лишь удерживает цесаревну Елизавету от предъявления неоспоримых прав ее. Она дорожит каждой каплей русской крови. Всем известно ее кроткое и добродетельное сердце. Без ее воли акт о регентстве никем другим по праву нарушен быть не может. Если же акт кто-нибудь нарушит, то права ее на престол будут еще сильнее, неоспоримее. Тогда она будет поставлена в необходимость действовать. Без акта и малолетний император, и родители его лишатся всех прав своих.
– Однако же принц твердо решился низвергнуть Бирона, – сказал Граманит, – что должен я буду ему сказать от вас о мере, им придуманной?
– Скажите принцу, что я считаю эту меру насильственной и опасной. Измайловским полком командует меньшой брат Бирона, Густав, а конным – сын герцога, Петр. Если принц поведет Семеновский полк ко дворцу, то легко может встретить два полка, которые ему противостанут. Пусть он сам рассудит, что тогда произойти может. Если же принц непременно уже решился действовать, то лучше всего от лица народа просить родительницу нынешнего императора, чтобы она приняла на себя управление государством во время его малолетства и избавила отечество от ненавистного всем правителя. Объявив народу согласие на эту просьбу, принцесса в тот же миг лишит Бирона всей его власти. Все ненавидят его, и, без сомнения, никто на его стороне не останется. Мне сообщил эту мысль друг мой, князь Черкасский. Приготовьте просьбу и вручите ему, пусть он окончит это дело. Я не хочу присвоить себе чужих заслуг, ему принадлежит эта мысль, пусть принц и принцесса будут ему обязаны и за исполнение его мысли.
Все начали благодарить графа за данный совет и решились на другой же день идти к князю Черкасскому. Прощаясь с ними, граф сказал:
– Я открыл вам то, что следовало бы таить в глубине души. Впрочем, когда дело идет о благе отечества, я всегда говорю, что думаю, по совести, и забываю о себе. Теперь от вас зависит предать меня.
Все поклялись хранить в ненарушимой тайне участие графа в этом деле.
IX
На другой день рано утром все бывшие на совещании у Головкина явились к кабинет-министру князю Алексею Михайловичу Черкасскому с приготовленной просьбой, множеством лиц подписанной. Возницын был с ним дружен и знал, что князь питал втайне к Бирону такую же ненависть, как и все они. Тем с большей уверенностью в успехе последовали они совету Головкина.
Князь велел пришедших позвать в кабинет.
– Что вам угодно, господа? – спросил он с приметным беспокойством и недоверчивостью.
Возницын объявил цель их прихода и подал приготовленную бумагу.
– Прекрасно! – сказал рассеянно князь, прочитав бумагу и стараясь скрыть свое волнение.
– Это ваша мысль, князь, – продолжал Возницын, – отечество вам вечно будет благодарно!
– Как моя мысль? Кто вам сказал это?
– Вы бы не сказали: прекрасно, если бы думали иное.
– Поймали меня, майор!.. Ну, герцог! Теперь не много осталось тебе властвовать! Не должно терять ни минуты, я сейчас же поеду с этой просьбой к ее высочеству принцессе. До свидания, господа! Я пойду одеваться. Советую, однако ж, быть как можно осторожнее, без того легко голову потерять. Впрочем, успех несомненный! Я вас ожидаю к себе завтра утром.
Все удалились. Валериан с Лельским опять скрылись в хижину на огороде, где были накануне.
Князь Черкасский, оставшись один, начал расхаживать большими шагами взад и вперед по комнате. Сначала решился он ехать к принцессе, но вдруг пришла ему мысль, что Бирон нарочно подослал приходивших с просьбой людей, чтобы обнаружить настоящее расположение к нему князя и запутать его в свои сети.
«Нет, господин герцог, не поймаешь меня!» – подумал князь и поехал немедленно к Бирону для представления ему поданной просьбы.
Между тем Маус явился к Лельскому с донесением.
– Ну, что доброго нам скажешь?
– Все благополучно. Герцогу ничего еще не известно.
– Не забудь: ни слова о Головкине при этой твари! – сказал Лельский на ухо Валериану.
– Что это, господа? Вы шепчетесь? От меня, кажется, не для чего таиться.
– А тебе хочется непременно знать, что я сказал поручику на ухо? Это неприятная для тебя новость.
– Какая?
– Да я заметил, что у тебя сегодня нос необыкновенно красен. Видно, ты уже порядочно позавтракал. Признайся: верно, выпил полынной?
– Нет, я всегда пью только сладкую водку, и весьма умеренно. Нос мой покраснел от холоду… Ба! Что это? Сюда идут люди! Спасайтесь, господа!
Маус вскочил на печь и прижался в угол.
– Вяжите их! – вскричал Гейер, входя в хижину с прислужниками. – Обыщите всю избу: нет ли еще кого-нибудь здесь?
– Я здесь, господин Гейер! – отвечал спокойно Маус, слезая с печи. – Я спрятался и подслушал тайный разговор этих господ, у меня волосы стали дыбом, они условились убить герцога. Под печкой спрятано у них платье монахини и кинжал. Вот, извольте посмотреть! Я давно уже присматривал за этими молодцами. Они часто в этой избушке скрывались. Это возбудило во мне подозрение, я решился их подслушать и сделал свое дело, несмотря на то что жизни моей грозила величайшая опасность.
– Ты усердный и искусный малый! – сказал Гейер, потрепав Мауса по плечу. – Я поговорю о тебе сегодня же с герцогом.
– Вот как надобно служить! – продолжал Гейер, обратясь к прочим прислужникам. – Берите все с него пример!
– И от нас тебе спасибо, Маус! – сказал Лельский, глядя на него презрительно, между тем как тот затягивал ему руки веревкой.
– Ты нам также усердно служил до сих пор.
– Ге, гe, старая песня, почтенный! – возразил Маус. – Кого из нас, грешных, пойманные нами злодеи не оговаривают, да жаль, что никто им не верит.
– Не стоит и отвечать на клевету, Маус! Ведите их! – сказал Гейер.
Возницын и все приходившие к князю Черкасскому были схвачены еще прежде Лельского и Валериана. С огорода вывели их на берег Фонтанки и посадили в телегу. Для сопровождения их отрядив четырех вооруженных прислужников и Мауса, Гейер сказал последнему:
– Ты отвечаешь головой за верное доставление преступников, ты знаешь куда. Смотри, чтоб все было готово для допроса. Герцог приказал представить ему немедленно признания всех заговорщиков. Вези их скорее. Я приеду вслед за тобой.
Валериана и Лельского повезли по берегу Фонтанки к Неве. Увидев дом отца своего, Валериан закрыл лицо платком и зарыдал.
– Бедный батюшка! Ты уже никогда не увидишь твоего сына! – произнес он горестно.
– Вот дом твоего отца! – сказал ему Маус. – Тебе еще не известно, и что почтенный твой родитель в наших руках. Господин Гейер долго искал тебя, требовал от твоего отца, чтобы он объявил, где ты, и наконец, потеряв терпение, исполнил то, что обещал, то есть представил герцогу подписанное отцом признание в ереси. С еретиками суд короток: взведут на костер – и поминай как звали!
Невозможно изобразить, какое ужасное действие произвели эти слова на Валериана. Готовясь к скорой и неизбежной смерти, несчастный вдруг узнал, что, увлекшись обманчивой надеждой на успех предприятия против герцога, он возвел престарелого отца своего на костер. «Боже! Неужели я отцеубийца? – с ужасом и неизобразимой тоской спрашивал он мысленно самого себя. – Ты мог спасти и не спас отца твоего! Да, ты отцеубийца!» – говорил ему неясный, внутренний голос. Трепет пробегал по всем членам Валериана, и холодный пот крупными каплями выступал на бледном лице его. На миг в смятенной его душе восстал образ Ольги – и терзаемое раскаянием сердце отвергло свою любимицу. Любовь к ней, думал Валериан, сделала меня отцеубийцей!
Ханыков, несколько дней везде искавший понапрасну своего друга, узнал о его участи вскоре после взятия его под стражу. Это сильно поразило его, тем более что граф Миних, убежденный просьбами Ханыкова, пришедшего к нему прямо с поединка, решился горячо вступиться за Валериана и надеялся, что его ходатайство подействует на герцога. Фельдмаршал сообщил свое намерение отцу несовершеннолетнего императора, принцу Брауншвейгскому, который также взял сторону Валериана. Без сомнения, настояние этих двух лиц, которых герцог втайне опасался, успело бы спасти поручика, примирило бы его с братом герцога и возвратило бы ему Ольгу.
Немедленно Ханыков побежал к фельдмаршалу и рассказал ему случившееся с Валерианом, все еще питая слабую надежду, что твердость и необыкновенный ум графа найдут средство, по крайней мере, спасти Валериана от казни и облегчить судьбу его.
Выслушав Ханыкова, Миних пожал плечами и сказал:
– Жаль, очень жаль! Пылкость увлекла его слишком далеко: теперь уже спасти его невозможно. Ни я, ни принц теперь не решимся ходатайствовать за него перед герцогом.
Ханыков невольно признал справедливость слов графа и вышел от него погруженный в самые мрачные мысли. Когда он проходил по Красной улице, потупив глаза в землю и не замечая даже, где он идет, то вдруг, подняв глаза, увидел перед собой дворец цесаревны Елизаветы Петровны. Он имел свободный к ней доступ. Помня благодеяния, оказанные отцу его, и питая в душе глубокое уважение к добродетелям, отличавшим дочь Петра Великого, Ханыков готов был жертвовать жизнью за цесаревну Елизавету, если бы то было нужно для ее блага.
Желая испытать еще какое-нибудь средство для спасения своего друга, Ханыков, без определенного, впрочем, намерения, решился войти во дворец Елизаветы, презирая опасность, которой подвергался, потому что это могло опять навлечь на него подозрение и подвергнуть пытке, как уже прежде то случилось.
– Если бы она была на престоле, как бы блаженствовало отечество! – размышлял Ханыков, всходя по лестнице. – Оно бы отдохнуло от бедствий, нанесенных ему тираном, иноземцем Бироном. Все русские сердца забились бы от восторга, когда бы явилась на престоле, как благотворное солнце после бури, кроткая Елизавета. Кровь Петра Великого течет в ее жилах. Любовь к справедливости, кротость, милосердие – эти высокие, наследственные добродетели Дома Романовых, – украшают ее сердце. Она имеет неоспоримые права на престол и не хочет престола, дорожа русской кровью, которую всякий русский с радостью готов пролить за нее.
Он вошел в залу. Фрейлина, там бывшая, по просьбе Ханыкова доложила о нем цесаревне Елизавете.
Хотя Елизавета в то время достигла уже тридцатого года жизни, но и восемнадцатилетняя красавица могла бы втайне позавидовать цесаревне, смотря на ее лилейную белизну лица и рук, на нежный румянец, игравший на щеках, на пурпурные уста, которые украшались постоянной улыбкой, выражавшей кротость и добродушие, на темно-карие, полные жизни глаза, на черные, прелестные брови. Сверх того, Елизавету отличали высокий рост, тонкий и стройный стан, величавая походка, ясный взор, который выражал проницательность и живость ума и в то же время спокойствие, безмятежность добродетельного сердца.
– Здравствуй, капитан! – сказала цесаревна приветливо, выйдя из внутренних комнат в залу в сопровождении ее фрейлины.
Ханыков поклонился и почтительно поцеловал руку, которую подала ему цесаревна с таким доброжелательством во взоре, что незаметно в ней было и тени важно-холодного соблюдения дворянских обычаев, напротив того, казалось, что любимый сын целует руку у доброй матери.
– Я слышала, ты пострадал, Ханыков, за то, что не хотел забыть тех незначительных пособий, которые я, для собственного удовольствия, оказывала покойному отцу твоему. Я сердечно о тебе пожалела.
– Мне бы следовало благодарить ваше высочество, но… простите солдата! Чем сильнее он чувствует, тем труднее для него выражать свои чувства.
– Странно, что герцог и меня вздумал подозревать в замыслах против него! Это меня удивило. Его обращение со мною с тех пор, как он сделался правителем, стало гораздо лучше, чем прежде. Он, кажется, искренно расположен ко мне. Ему не пришло бы в голову назначить мне по пятидесяти тысяч рублей в год пенсиона, если б он питал ко мне неприязнь и считал меня для себя опасной.
– А я смею думать иначе, ваше высочество, это именно и доказывает, что герцог вас опасается. Вы действительно для него опасны.
– Я? Я для него опасна? Чем?
– Преданностью и любовью к вам всех русских.
– Если это и справедливо, то я нисколько не виновата перед герцогом.
– Злой человек всегда считает всех добродетельных своими врагами. Они против воли своей служат укором всех его поступков. Ах, ваше высочество! Долго ли отечество будет страдать под железным игом этого иноземца? Дождутся ли когда-нибудь русские времен лучших?
Цесаревна вздохнула и, взглянув на фрейлину, стоявшую в некотором от нее отдалении, сделала ей знак рукой, чтоб она удалилась.
– Если бы Провидение вложило в сердце вашего высочества намерение потребовать исполнения неоспоримых прав ваших на престол, то Бирон…
– Не говори мне этого, Ханыков! Я знаю права свои, но не хочу ими пользоваться. Мне ли, слабой женщине, управлять обширнейшим в свете царством, когда тягость этого бремени чувствовал даже покойный родитель мой! Достанет ли у меня сил принять на себя перед Богом ответственность за счастье миллионов? Последний подданный, по моему небрежению или неведению, несправедливо обвиненный и погибший в напрасном ожидании моей защиты, потребовал бы меня на Страшном суде к Престолу Царя царей и обвинил бы меня перед Ним.
– Ваше высочество! Скажу вам прямо, что думаю и чувствую. Если перед Царя царей требуют вас все погибшие от злобы Бирона, если все русские, страдавшие и страдающие под игом этого жестокого человека, скажут:
– Елизавета могла спасти нас и не спасла, что вы скажете в оправдание?
Слова эти произвели глубокое впечатление на цесаревну. С приметным волнением она подошла к окну и в задумчивости устремила взоры на покрытое тучами небо.
– Не проходит дня, чтобы кровь новой жертвы не обагрила секиры палача! – продолжал с жаром Ханыков. – Воздвигаются костры, и стоны сожигаемых летят к Небу. Нестерпимые мучения, пытки исторгают признания у невинных в небывалых преступлениях, и невинные гибнут жертвами гнусных доносов, тайной вражды!
– О! если бы я имела власть, я истребила бы навсегда все эти ужасы в памяти русских, но власть в руках герцога, ее твердо охраняют его лазутчики и телохранители.
– Одна любовь народная может назваться неизменным и надежным телохранителем властителя, один этот страж лучше тысячи доносчиков. Толпа их окружает и оберегает Бирона, но какая в том для него польза? Он каждый день удостоверяется только в том, что его все ненавидят, каждый день он мстит, мстит ужасно своим врагам и недоброжелателям, но истребляет ли он этим вражду и ненависть? Нет! Он только возжигает их! Властитель добродетельный и справедливый может также иметь врагов, но он выше чувства мщения, тайные наветы не смеют и не могут очернить перед ним невинности, всех злых карает он силой закона величественно и грозно, как Божия молния, слетающая с неба. Так действовал великий родитель ваш, цесаревна!.. В вас течет кровь его, воскресите для отечества славный и счастливый век Петра Великого!
У Елизаветы навернулись на глаза слезы.
– Если б я была уверена, – сказала она с чувством, – что у меня достанет сил для этого подвига, то я решилась бы теперь же действовать. Я бы с радостью пожертвовала спокойствием жизни для блага отечества, но я должна прежде испытать себя… Теперь стану молиться о счастии русских. Небо покажет мне, должна ли я буду действовать. Ханыков! Ты заставил меня сказать более, нежели следовало, но я полагаюсь на твою преданность мне. Кончим разговор! Ни слова более об этом!
– Ваше высочество! Осмелюсь ли я просить у вас новой милости, нового благодеяния?
– Все готова сделать, что от меня зависит.
Ханыков рассказал все случившееся с его другом. С необыкновенным волнением и участием слушала Елизавета рассказ его.
– Спасите несчастного, ваше высочество! – продолжал Ханыков. – Ходатайство ваше за него, без сомнения, подействует на герцога.
– Оно будет бесполезно! – возразила Елизавета с тяжелым вздохом. – Герцог тем ужаснее мстит, чем более встречает препятствий в своем мщении.
– Итак, друг мой должен погибнуть! Боже мой! Как перенесет этот удар престарелый отец его? Лишиться единственного сына, и так лишиться… О! Это ужасно!
Ханыков не знал еще об участи, готовившейся отцу Валериана. Елизавета заплакала и, сняв с руки драгоценный перстень, сказала тихо Ханыкову:
– Отдай бедному отцу от меня это. Пусть этот перстень будет для него знаком искреннего моего сострадания. Утешай несчастного старика, Ханыков, не оставляй в дни его скорби. О! Если б от меня зависело спасти его сына!..
Тронутый Ханыков взял перстень и, откланявшись, удалился. Приближаясь к своему дому, встретил он незнакомца, завернувшегося в широкий плащ, с надвинутой на глаза шляпой. Незнакомец шел с заметной робостью и часто останавливался, осматриваясь во все стороны. Увидев Ханыкова, он вздрогнул. Ханыков, погруженный в горестные размышления, не обратил на это внимания. Взойдя на лестницу и отпирая дверь своей квартиры, он удивился, увидев незнакомца, который шел за ним по лестнице.
– Спасите меня! – сказал тихо незнакомец жалобным голосом, приблизясь к капитану.
– Кто ты?
Незнакомец, распахнув плащ, снял шляпу.
– Боже мой! – воскликнул изумленный Ханыков: перед ним стояла Ольга. Прелестное лицо ее было бледно; страдание, страх, изнеможение, отчаяние яркими чертами на нем изображались.
– Войдите! – сказал Ханыков, взяв ее за руку и входя с нею в свои комнаты. Он помог ей снять плащ и посадил на софу.
– Я хотела идти к батюшке, – начала Ольга слабым голосом после некоторого молчания, – но побоялась: там могут легко отыскать меня, я могла бы и батюшку погубить, он защитить меня не может, брат герцога стал бы мстить ему.
– Вы пришли сюда из загородного дома Бирона?
– Да, он довел меня до того, что я тихонько убежала. Он злой и бесчестный человек! Какая ему польза обижать беззащитную девушку? Что я ему сделала?.. Давно ли вы видели батюшку? Здоров он? Ради бога, не обманывайте меня!
– Здоров. Мы недавно с ним виделись.
– Вы меня не выгоните отсюда? Ради бога, позвольте несколько дней у вас остаться. Я не буду долго подвергать вас опасности, я убегу, должна убежать…
– Но куда же…
– Куда-нибудь… сама не знаю!.. Туда, где брат герцога не может найти меня.
– Успокойтесь, вы можете остаться у меня, сколько хотите. Ручаюсь вам этой шпагой, что вас никто здесь не оскорбит: я имею случай просить за вас цесаревну Елизавету. Она возьмет вас под свою защиту, в этом я уверен.
– Я вам целую жизнь буду благодарна.
– Вы очень ослабли, вам нужно отдохнуть. Будьте, ради бога, повеселее! Отдаю вам эту комнату в полное владение, а сам отправляюсь теперь в другую. Там буду я на аванпосте. В случае неприятельского нападения, то есть когда кто-нибудь придет ко мне, скройтесь за эти ширмы для большей безопасности. Я знаю, что вы и без моей просьбы шуметь тогда не будете, зато я берусь пошуметь за двоих. Теперь позвольте мне удалиться на аванпост и затворить эту дверь, чтоб вам было покойней в вашем укрепленном лагере.
Через несколько часов пришел к Ханыкову знакомец его, отставной премьер-майор Тулупов. По праву соседства по деревням он нередко навещал капитана, хотя тот всегда принимал его весьма неохотно. Премьер-майору до этого дела не было, цель его посещений ограничивалась рюмкой водки и трубкой табаку.
– Здравия желаю, капитан! – сказал он громогласно, войдя в комнату. – Я думал, что вас дома нет, вы ныне запираетесь. Я было поцеловал пробой, да и пошел домой, однако ж посмотрел в замочную скважину и увидел, что ключ тут, я и смекнул отдернуть задвижки у двери внизу и вверху и вошел, как изволите видеть!
Премьер-майор в заключение громко и басисто засмеялся от внутреннего сознания своей любезности и остроумия.
– Очень рад вашему посещению, – отвечал Ханыков, в мыслях посылая гостя к черту.
– Ну что, батюшка, заговор? Ведь вы не лазутчик, так я с вами всегда откровенно говорю. Здесь, кажется, никто нас не подслушает.
– Какой заговор? – сказал Ханыков в замешательстве, опасаясь, как бы чего-нибудь не сказать о Валериане.
В это время еще кто-то вошел в переднюю. Ханыков обрадовался этому, потому что Тулупов, приложив к губам палец, замолчал.
Вошел Мурашев.
– А! Любезный дружище! – воскликнул Тулупов, обнимая Мурашева. – Мы уже с тобой с месяц не видались! Позволь поздравить тебя: мне сказывали, что брат его высочества на твоей дочке женится. Я сначала не поверил, признаться. Поздравляю! Этакое счастье, подумаешь!
Мурашев ничего не отвечал, тяжело вздохнул и сел в кресла.
– Да что ты смотришь таким сентябрем? Нездоров, что ли? У меня есть настойка с зверобоем, я пришлю полштофа, такое лекарство, что мертвых только не воскрешает! А что ж, капитан, ведь и у тебя знатная водка. Постой, сиди, не трудись, я сам достану из шкафа, я ведь знаю, где твой графинчик стоит.
Осушив рюмку водки, премьер-майор поморщился и крякнул по форме, как будто по необходимости выпил неприятное лекарство.
– Говорят, что всех заговорщиков на днях отправят на тот свет, – продолжал он. – Набить было трубочку!.. Люблю за то Бирона: отцу родному не спустит… Славный табак! Человек пятнадцать в беду попались, я слышал… Верно, у вас трубка давно не чищена, капитан: горечь в рот попадает… Вашего приятеля также грех попутал! Весьма это жалко! Удивляюсь, как с умом Валериана Ильича… Верно, у вас табак сыр: трубка погасла.
Мурашев, сплеснув руками, взглянул на Ханыкова и спросил:
– Неужели и Валериан Ильич…
– Пустые слухи! – прервал Ханыков. – Мало ли что говорят!
– Как пустые! – возразил Тулупов. – Я вам говорю, что…
– Граф Миних просил за него герцога – и он прощен.
– Слава богу! – сказал Мурашев. – Я именно затем пришел к вам, чтобы наведаться о Валериане Ильиче.
– Помилуйте! – закричал Тулупов. – Да я слышал от верного человека…
– Что, теперь дождь идет? Это правда! Когда же вы мне пришлете зверобойной настойки? Ведь давно уже обещали.
– Виноват, все забываю! Завтра же пришлю, и вот, узелок на платке завяжу на память.
Ханыков был на иголках. Опасаясь, чтобы Ольга, без того уже ослабевшая от страданий и усталости, неожиданно не услышала ужасной вести о Валериане, он заминал речи словоохотного премьер-майора и наконец успел навести его на любимую колею, напомнить о ссоре с помещиком Дуболобовым за похищенного у премьер-майора неизвестно кем селезня. В этот раз Ханыков весьма был рад, когда началось повествование о селезне, давно ему уже известное. Рассказ начался с деда Дуболобова: кто он был, где и как служил, как попался под суд, как оправдался, на ком женился, сколько взял душ в приданое, словом сказать, истощены были все биографические известия о деде похитителя селезня, потом о сыне его, наконец о внуке. Повествование лилось рекою не хуже романтической поэмы, с явным презрением к устарелому, схоластическому требованию единства действия, времени и места, и кончилось тем, что пропавший селезень (которого не отыскали, несмотря на все старания и меры) совершенно пропал и в рассказе.
– Таким образом, изволите видеть, – заключил премьер-майор, – этот бездельник Дуболобов воображает, что он важная фигура, между тем, как я вам уже докладывал, дед его до женитьбы торговал гороховым киселем. Это не выдумка, поверьте моей совести, это сказывала мне Марея Поликарповна, моя соседка, а она слышала от ее покойной матушки, которая сама иногда кисель покупала. Я иначе и не называю Дуболобова, как гороховым кисельником. Он жаловался воеводе, и однажды, по злобе, называл Марею Поликарповну, за именинным обедом у помещика Губина, трещоткой. Она также жаловалась воеводе, однако ж, дело ничем не кончилось, гриб съел, разбойник!
Мурашев, не дождавшись этого занимательного окончания премьер-майорского рассказа, ушел домой. Вскоре и повествователь, приметив, что уже десять часов вечера, взял шляпу и пожелал хозяину спокойной ночи.
Ханыков подошел тихонько к двери комнаты, где была Ольга, и заметил, что дверь заперта. «Дай бог, чтобы бедняжка ничего не расслышала о Валериане», – подумал он и вскоре услышал, что Ольга произносит вполголоса молитву. Вздохнув, он сел на софу и не раньше полуночи заснул. Во сне ему привиделось, что Валериану отрубили на его глазах голову. Это было на рассвете. В ужасе Ханыков вскочил и никак не мог уже потом заснуть.
X
В пять часов утра явился Гейер в Летний дворец с бумагами. Это были показания заговорщиков, вынужденные пыткой.
Герцог накануне еще приказал камердинеру своему доложить ему тотчас же, как скоро явится Гейер.
Бирона немедленно разбудили, и вскоре Гейер был позван в кабинет. Там Бирон, в малиновом бархатном халате, подбитом собольим мехом, неровными шагами расхаживал вдоль и поперек кабинета. Лицо его было бледно, глаза, от беспокойного и не вовремя прерванного сна, были мутны и красны, непричесанные волосы его сравнил бы поэт со змеями, вьющимися на голове Медузы. Ужасный вид герцога мог окаменить всякого, как и вид этой баснословной головы. Даже Гейера, давно привыкшего уже к Бирону, в этот раз проняла сильная дрожь.
– Что ж ты стоишь, как чурбан? – закричал Бирон, топнув ногой. – Читай!
Секретарь начал торопливо читать признания заговорщиков, заикаясь от робости.
– Майор Возницын был жестоко пытан и сказал, что он вздумал сам просить князя Черкасского о подаче просьбы принцессе, сам писал просьбу, и никто другой его к тому не подговаривал. Он был зачинщиком всего заговора по злобе против вашего высочества за смерть своего брата.
– Га! – воскликнул Бирон ужасным голосом. – Колесовать его!
– Капитан Лельский не признался…
– Что ж ты не записал моего приговора, болван?
– Я полагал, что по закону суд должен прежде…
– Суд?.. Ты полагал?.. Ты, ты смеешь меня учить! – закричал Бирон, едва дыша от гнева. – Пиши: колесовать! Чтобы ночью в четыре часа, за городом, без огласки, приговор этот был исполнен, как скоро все приготовлено будет для казни, слышишь ли? Ты головой отвечаешь, если одну минуту промедлишь. Чтобы ровно в четыре часа ночи все преступники были казнены. Читай далее!
– Капитан Лельский ни в чем не признался, но Маус показывает, что он хотел якобы лишить ваше высочество жизни.
Бирон онемел от ярости, губы его дрожали, глаза страшно сверкали, как у безумного, и остановились на Гейере. Он смотрел на него как тигр, готовый броситься на свою жертву.
– Сжечь злодея! – сказал он наконец с усилием, ударив кулаком по столу. – Сжечь медленным огнем!
– Поручик Аргамаков признался, что он вступил в заговор только для того, чтобы спасти отца своего от костра и чтобы освободить якобы из рук брата вашего высочества какую-то свою невесту.
– Расстрелять, а отца его сжечь!
Таким образом, Гейер прочитал признания всех приходивших к князю Черкасскому. Все они сдержали слово, данное ими Головкину. Пытка не принудила их упомянуть даже его имя. Бирон всем назначил смертную казнь. Когда Гейер читал признание директора канцелярии принца Брауншвейгского, Граманита, показавшего, что он действовал по воле принца, то Бирон закричал:
– Отрубить обоим головы! Принц не защищается тем, что он отец малолетнего императора!
Через несколько минут Бирон одумался.
– Отрубить голову одному Граманиту, – сказал он, – а к принцу сейчас послать приказание, чтобы он явился ко мне. Я сам допрошу его. О всех уже преступниках доложено?
Гейер отвечал, что осталось доложить об одном еще, что он в тот день получил безымянный донос, где было сказано, что живущий в уезде помещик Дуболобов знаком был с Возницыным, вероятно, знал о его замыслах и однажды в пьяном виде осмелился назвать герцога медведем.
– Прикажете его допросить? – спросил Гейер.
– Не о чем допрашивать, это напрасная потеря времени! Немедленно послать за ним в уезд, схватить и в мешке бросить в воду.
Тулупов, подавший этот донос, не воображал, что дело примет такой оборот. Увлеченный ненавистью к Дуболобову, он хотел только потешиться и ввалить своего врага в хлопоты. Он был уверен, что тот легко оправдается.
Дуболобов, живя спокойно в деревне, не знал и не заботился о том, что делается в столице. Ему и на ум прийти не могло, что за селезня, без всякой его вины пропавшего у соседа года за три перед тем, его наконец приговорят к смертной казни.
Гейер по знаку Бирона удалился, а герцог, одевшись в богатое платье, пошел со свитою в залу, находившуюся в деревянном дворце покойной императрицы, который стоял на месте нынешней решетки Летнего сада.
Вскоре приехали к герцогу один за другим с докладами: кабинет-министры, граф Остерман, князь Черкасский и Бестужев, фельдмаршал граф Миних и несколько сенаторов. Герцог велел позвать всех в залу, не сказал никому ни слова и сел в большие бархатные кресла, сурово поглядывая от времени до времени на дубовую, украшенную золотом и резьбою дверь, через которую входили в залу. Все прочие стояли в недоумении и молчании, которого никто не осмеливался первый нарушить.
Наконец дверь отворилась, и вошел принц Брауншвейгский.
– Принц! – сказал Бирон, не встав с кресел и глядя прямо в глаза Антону Ульриху. – Известно ли вам, что я правитель государства и что я облечен полною властью решать все дела в империи, как внутренние, так и внешние?
– К чему клонится этот вопрос? – сказал спокойно принц. – Вы, без сомнения, помните что я читал акт о регентстве?
– Но вы, вы не хотите помнить этого! – закричал гневно Бирон, топая обеими ногами. – Вы забыли, что я имею право суда над всеми, не исключая и вас, принц! Советую вам оставить ваши замыслы, а не то… страшитесь!
– Чего?.. Не вас ли, герцог?
– Да! Меня!.. Прошу вас воздержаться от этой презрительной улыбки, вы за нее можете заплатить очень дорого!
– Что значат эти угрозы? Я, в свою очередь, спрашиваю, помнит ли герцог Бирон акт о регентстве и по какому праву забывает предписанное ему уважение к отцу императора? Нарушая этим акт, герцог подает другим опасный пример!
– Не вам судить мои поступки! Вы на то права не имеете! Отвечайте мне, я вас спрашиваю как полновластный правитель государства, какие вы имели замыслы против меня?
– Замыслы?.. На этот дерзкий вопрос я не обязан отвечать и не хочу.
– Я вам приказываю.
– А я вас прошу не переступать границ вашей власти.
– Не ставьте меня в необходимость поступать с вами как с явным ослушником и мятежником!
– Остерегитесь, чтоб с вами не поступили как с нарушителем акта, без которого вы не останетесь уже правителем.
– Я знаю, что это цель ваших желаний. Вы для того готовы пролить реки крови! Вы забыли все, чем вы мне обязаны. Знайте, что Граманит ваш во всем признался, все замыслы ваши мне уже известны.
– Я не обязан отвечать за слова и поступки другого. Пыткой вы могли, без сомнения, заставить Граманита признаться в чем вам было угодно.
– Не скроете хитрость вашего преступления: оно слишком явно, неблагодарный, кровожадный человек!
Лицо принца вспыхнуло негодованием. Дерзость Бирона его изумила. Отступив на шаг, он устремил гневный взор на герцога и потряс шпагой, схватив эфес левой рукой. Бирон, как бешеный вскочил с кресла.
– Я готов с вами разделаться и с этим в руках! – закричал он, ударив по своей шпаге ладонью.
– До этого дошло уже, герцог! Вы вызываете на поединок отца вашего государя?.. Все кончено между нами!.. Не знаю, не унижу ли я себя, приняв ваш вызов? Впрочем, предоставляю это вашему решению, я на все согласен.
Принц поспешно удалился. Бирон начал ходить большими шагами взад и вперед по зале, произнося вполголоса угрозы. Все, там бывшие, в молчании смотрели на него с беспокойством.
– Я слишком расстроен! – сказал наконец Бирон. – Я не могу заниматься делами сегодня. Фельдмаршал! – продолжал он, обратясь к графу Миниху. – Я лишаю принца всех должностей, которые он занимал в войске. Объявить ему это и исполнить сегодня же.
Миних поклонился. Герцог, тяжело дыша, сел в кресла и подал знак рукою, чтобы все удалились. Все вышли тихо из залы.
XI
Вдали раздавался звук барабана: били вечернюю зорю. Ханыков, сидя в своей комнате с Ольгою, шутил наперекор сердцу, удрученному горестью, утешал бедную девушку, скрывая от нее участь Валериана и стараясь возбудить в ней утешительную надежду на скорый конец ее бедствий, и чем более успевал в этом, тем сердце его сильнее терзалось мыслью: несчастная! Она не знает ужасной истины. Достанет ли у нее силы перенести удар, который неминуемо и скоро ее постигнет? Найду ли и я средство защитить ее? Мудрено мне бороться с братом герцога!
Осторожный стук в дверь прервал разговор их. Ольга скрылась по-прежнему в комнату, уступленную ей капитаном. Ханыков отворил двери на лестницу и удивился, увидев Мауса.
– Что надобно тебе! – спросил он сухо, не впуская его в комнаты.
– Мне нужно поговорить с вами, господин капитан, наедине о весьма важном, как думаю, для вас деле. Нет ли кого-нибудь у вас?
– Никого нет, а если бы и был кто, то я не обязан давать тебе в том отчета. Говори скорее, чего ты от меня хочешь? Мне пора спать.
– Дайте мне честное слово, что свидание и разговор останутся втайне.
– Вот еще какие требования! Говори скорее без околичностей, а не то можешь открывать свои тайны кому хочешь, только не мне.
– Вы раскаетесь, капитан.
– Легко статься может, если поговорю с тобой подолее. Ступай, любезный! Желаю тебе доброй ночи.
– Чей это почерк? – спросил Маус, показывая записку и держа ее крепко в руке из опасения, чтобы Ханыков ее не вырвал. Спрятав проворно записку в карман, Маус продолжал:
– Что, капитан? Дадите ли мне честное слово, что я могу полагаться на вашу скромность?
– Честное слово!.. Отдай мне записку.
– Позвольте войти прежде к вам, здесь, на лестнице, говорить о таких делах опасно.
– Войдем скорее!
Ханыков ввел Мауса в комнату и торопливо взял поданную ему записку. Он прочитал:
«Единственный, верный друг мой! Гейер уехал за город, чтобы приготовить все к нашей казни, которая совершится завтра ночью. Я обещал отдать все деньги свои, какие со мной есть, Маусу, если он доставит тебе эту записку, последнюю записку от твоего друга. У Мауса ключи от тюрьмы, откуда выведут меня под ружья. Пользуясь отсутствием Гейера, он согласился впустить тебя на несколько минут ко мне. Поспеши к другу! Может быть, слова твои несколько облегчат мои страдания. Меня не страшит смерть, я жду с нетерпением минуты, когда свинец растерзает мне сердце, – тогда конец моим мучениям! Друг мой! Если бы ты знал, если бы ты мог вообразить, как я мучаюсь! Я строго разбирал мои поступки. Бог свидетель, что я не хотел никому зла, не воображал, что родителя моего… Боже! И выговорить ужасно!.. Подвергну смертной казни!.. Не могу писать более: рука дрожит, в глазах темнеет. Поспеши ко мне. Неужели я лягу в могилу отцеубийцею? О если бы ты мог как-нибудь оправдать меня перед моею совестью. Я не могу ни чувствовать, ни размышлять. Ты мне скажешь: виновен ли я в смерти отца моего или нет. Будь судьею моим, судьею строгим, беспристрастным, поклянись мне в том именем Бога. Если бы ты после того сказал мне, я не виновен, с какою радостью, с каким облегченным сердцем пошел бы я на казнь, как бы гораздо обнял тебя в последний раз! Поспеши ко мне. Буду тебя ждать как ангела-утешителя, верный друг твой
В. А.».Легко можно вообразить, что чувствовал Ханыков, читая эту записку. Руки его дрожали. Он забыл даже, что Ольга находилась в другой комнате, и горестно воскликнул: «Бедный Валериан!»
Смертельный холод пробежал по жилам Ольги, когда она услышала эти слова. Сердце ее менее бы замерло, когда бы кто-нибудь, схватив ее на вершине утеса, стал держать над глубокой пропастью и готовился ее туда сбросить. Побледнев, она в изнеможении опустилась на спинку кресел, в которых сидела, только одно прерывистое дыхание показывало в ней признак жизни…
– Впрочем, беда небольшая! – продолжал спокойно Ханыков, тотчас после восклицания своего вспомнив об Ольге. – Мы и все туда скоро отправимся, там гораздо будет всем нам веселее, чем в этой столице.
Ольга начала дышать свободнее. Маус, покачав головой, возразил:
– Веселее? А почему вы это знаете? Вы не были там, капитан!
– Как не был! Я провел там ровно три недели.
– Aгa! Шутить изволите?
– Нимало!
В это время послышался шум на лестнице. Маус выбежал в переднюю и спрятался за бывшей там перегородкой. Кто-то начал стучаться в дверь. Ханыков отворил ее и увидел перед собой Мурашева. Он был бледен, расстроен.
– Ради бога, – сказал он дрожащим голосом, схватив Ханыкова за руку, – позвольте мне скрыться эту лишь ночь у вас. Я в беде: мне должно бежать из города.
– Что сделалось с вами? Войдите и успокойтесь.
Мурашев бросился на стул и, ломая руки, воскликнул:
– Да, убегу отсюда, убегу куда глаза глядят!.. Вы меня никогда уж не увидите!.. Бедная моя дочь!.. Где она теперь?.. Может быть, там!..
Он указал на небо.
– Рад, всем сердцем рад, если она там: там злодей Бирон не властвует, ему нет туда дороги, ему и взглянуть туда страшно!
– Тише, ради бога, тише! – прошептал Ханыков. – Вас могут подслушать.
– Пусть послушают, пусть перескажут слова мои Бирону!.. Я в глаза ему скажу то же!.. Сегодня утром змей Гейер пришел ко мне и сказал, чтобы я не скрывал долее моей дочери и что мне худо будет, если не послушаюсь. Злодеи отняли, украли у меня дочь и у меня же спрашивают, где она… Вечером вдруг приехал ко мне брат Бирона, начал уговаривать меня, чтобы я выдал ему дочь мою. Я-де женюсь на ней. Не вытерпело мое отцовское сердце. «Вон отсюда! – закричал я и бросился на злодея. – Вон отсюда, грабитель!» – Он оттолкнул меня, я упал навзничь. Он вышел тотчас же из комнаты, говоря угрозы. Я не мог расслышать их… Да, мне должно бежать! Кто знает!.. может быть, дочь моя спаслась уж от гонителя, может быть, она убежала от него… в Неву… И я за нею убегу туда же…
– Я здесь, батюшка! – вскричала вне себя Ольга, выбежав из другой комнаты и бросаясь в объятия отца.
Мурашев весь задрожал, крепко обнял дочь и поднял благоговейный взор к небу. По временам опуская глаза, смотрел он на бледное лицо дочери, которая лишилась чувств, и снова устремлял глаза на небо.
– Не отнимете ее у меня, злодеи! – проговорил он наконец трепещущим голосом. – Сорвите прежде с плеч мою голову. Не дам, не дам вам ее, злодеи Бироны!
– По-настоящему, я обязан донести обо всем этом, – сказал важно Маус, потирая руки и входя в комнату. – Я все слышал: так честить герцога и его брата!.. Воля ваша, я не смею не донести!
– Хорошо, доноси, – сказал спокойно Ханыков. – Меня также станут допрашивать, и я должен буду сказать: для чего ты сидел у меня в передней, за перегородкой. Записка у меня в кармане.
– Я не говорю решительно, что донесу, я сказал только, что следовало бы донести! Это большая разница!.. Что же, вы идете со мной, капитан?
– Пойдем!
Ольгу привели в чувство. Ханыков просил Мурашева остаться с дочерью в его квартире.
– Вы будете здесь безопаснее, чем в своем доме. Я ручаюсь, что этот почтенный человек никому не откроет вашего убежища. Не правда ли, Маус?
– У меня сердце слишком доброе и чувствительное, хотя по-настоящему следовало бы донести… но, так и быть. Пойдемте, капитан!
XII
Через полчаса Ханыков с проводником своим был уже у обитой железом двери тюрьмы, где сидел Валериан. Маус осторожно отпер дверь, ввел Ханыкова за руку в маленькую, совершенно темную комнату, запер снова дверь и, сняв крышку с принесенного им потаенного фонаря, поставил его на стол. Валериан сидел на деревянной скамье, склонив голову на грудь, как бы в усыплении. Разлившееся по кирпичному полу сияние свечи заставило его поднять глаза, но он закрыл их рукой, отвыкнув смотреть на свет.
– Кто пришел? – спросил он.
– Это я, Валериан.
– Друг, бесценный друг! – воскликнул несчастный, бросаясь в объятия Ханыкова. Он не мог говорить более, крепко жал друга к груди своей и плакал. Растроганный Ханыков тихо подвел его к скамье, посадил подле себя и, держа руку его в своей руке, сказал ему:
– Не о жизни ли ты плачешь? Право, земная жизнь не стоит того, чтобы жалеть о ней. Нынче или через несколько лет, так или иначе, но все неизбежно будут в том же положении, как и ты теперь: за несколько часов от смерти. Сильные и слабые, счастливцы и несчастные, угнетатели и угнетенные, все будут рано или поздно на твоем месте. Ты приговорен к смерти, но не все ли люди приговорены к тому же? Успокой себя, сколько можешь, размышлением, положись на милосердие Божье, и ты встретишь смерть с твердостью христианина.
– Ах, друг! Я бы отдал теперь две земные жизни, все возможные блага за сердечное спокойствие, за безукоризненную совесть, я не устрашился бы тогда смерти. Но может ли спокойно умереть отцеубийца!
– Ты осуждаешь себя строго и несправедливо. Клянусь, что говорю по совести. Скажи, было ли когда-нибудь в тебе желание подвергнуть отца твоего участи, которая его ожидает?
– И ты можешь меня об этом спрашивать!.. Никогда!
– Мог ли ты предвидеть несчастие отца твоего?
– Мог. От меня зависело предаться в руки Гейера и спасти моего родителя. Я и решился на это, но честное слово, данное Лельскому, меня остановило, и я стал действовать с ним заодно.
– Разбери себя строго: что побудило тебя переменить твое намерение, ложное ли понятие о чести или твердая надежда на успех вашего предприятия?
– Я был уверен в успехе. Мне казалось, что, действуя с Лельским, я скорее и вернее спасу отца моего, спасу. Ольгу, но не могу дать себе отчета, что меня более увлекло: любовь к отцу или любовь к Ольге? Трудно постигнуть и разобрать побуждения сердца. Два сильных чувства влекли его. Меня мучит сомнение: не страсть ли к Ольге меня ослепила? Если бы я не любил ее, то, может быть, решаясь предаться в руки Гейера, спас бы отца моего.
– Скажи мне, если бы отец твой и Ольга упали в реку, кого бы ты бросился спасать прежде?
– Я бы с радостью пожертвовал жизнью, чтобы спасти обоих, но прежде… прежде я спас бы отца моего. Так, я не обманываюсь.
– Не обвиняй же себя, Валериан, в гибели твоего отца. Ты видишь, что надежда спасти его влекла тебя сильнее, чем любовь к Ольге.
– Ах, друг мой! Теперешние чувства мои, на краю могилы, не те, которые обладали моим сердцем, когда я воображал еще перед собою длинный путь жизни, когда меня обольщала еще надежда, когда я думал, что бедствия и горести минуются, а вдали ждут меня счастье и радость. По теперешним чувствам моим нельзя судить прежних.
– Вижу, что сердце твое теперь мучится неразрешимым для совести твоей сомнением. Послушай, друг, если бы ты даже мог справедливо упрекать себя в том, что, увлеченный другим чувством, не отвратил ты гибели отца твоего, то вспомни, что одна минута истинного раскаяния может загладить перед бесконечным милосердием Божиим целую жизнь, исполненную преступлений.
Эти слова глубоко тронули Валериана и пролили в растерзанную душу его отрадное спокойствие. Растроганный, он не мог говорить, сжал крепко руку друга, и навернувшиеся на глаза слезы свидетельствовали об его благодарности за слова утешения.
Маус, неподвижно стоявший близ двери в продолжение этого разговора, подошел к столу и, взяв свой потаенный фонарь, сказал:
– Мне не хотелось бы, капитан, помешать последней беседе вашей с другом, но я опасаюсь, чтобы Гейер невзначай не возвратился. Благоволите проститься с вашим приятелем и удалиться до беды.
Сердце Ханыкова сжалось, неизобразимая грусть объяла его. Он встал и, скрывая тревогу души, подал руку Валериану.
– Ты уже идешь, друг? – сказал Валериан таким голосом, который растерзал бы душу самую нечувствительную. – Неужели я смотрю на тебя в последний раз? О!.. Это ужасно! Да… я уже тебя никогда, никогда не увижу!
Слезы оросили его бледные щеки. Не отирая их, он держал руки друга в своих и нежно глядел ему в лицо, как бы желая насмотреться на человека, столько ему любезного. Ханыков не плакал, с усилием подавляя скорбь, которая его терзала, он не хотел ее обнаружить, зная, что этим усилил бы мучения друга.
Маус накрыл между тем крышкой свой фонарь, и по тюрьме мгновенно разлился непроницаемый мрак.
– Пойдемте, капитан, долее медлить не смею.
– Я уже не вижу тебя, друг! – продолжал Валериан. – Так будет темно в моей могиле. Теперь уже кончено, мы никогда не увидим друг друга!.. По крайней мере, я еще держу твои руки. Скажи мне что-нибудь, мне хочется в последний раз услышать голос твой. Что это, ты, кажется, плачешь?
– Нет! – отвечал трепещущим голосом Ханыков, задыхаясь от удерживаемых слез. – Не унывай, Валериан, мрак, который теперь нас окружает, не мешает нам мыслить, чувствовать и любить друг друга. Так и мрак могилы не поглотит в тебе того, что мыслит, чувствует и любит. Неужели дух наш, этот луч высшего, вечного солнца, для того только светит, чтобы наконец погаснуть, исчезнуть в земле, посреди червей и тления!
– Вы себя погубите, капитан, и меня вместе с собой. Ради бога, пойдемте, мне послышался шум.
Маус схватил Ханыкова за руку и начал тащить его к двери.
– Прощай! – сказал отчаянным голосом узник, опустив руку друга. – Благодарю тебя! Дружба твоя усладила последние, горькие минуты моей жизни. Прощай навсегда!
– Не предавайся унынию, Валериан, призови на помощь твое мужество и иди смело навстречу смерти. Ты бесстрашно смотрел ей в глаза на полях битвы. Не прощаюсь с тобой навсегда: мы увидимся в мире лучшем.
Ключ щелкнул два раза, шум шагов, раздавшийся по коридору, постепенно затих, и гробовая тишина настала в тюрьме Валериана. Он бросился на пол почти в беспамятстве. Отчаяние задушило его в своих леденящих объятиях. Только по временам казалось ему, что вдали он слышит еще голос друга и последние слова его: «Мы увидимся в мире лучшем!»
XIII
Премьер-майор Тулупов сбирался уже лечь в постель, как вдруг услышал, что с улицы кто-то стучит в двери его квартиры.
– Кого это нелегкая принесла ко мне так поздно? – проворчал он, испугавшись, и со свечой в руке пошел отпирать двери.
– Царь небесный! – воскликнул он, увидев Дарью Власьевну. – Что это значит? Так поздно и одна! Да вы ли это?
Надобно сказать, что Тулупов лет за восемь перед тем предлагал руку свою Дарье Власьевне, но получил отказ. Это не расстроило, однако ж, его знакомства с Мурашевым, он продолжал по-прежнему посещать его с удовольствием, он ни в чьем доме не находил лучшей полынной водки. Между тем Дарья Власьевна, проведя несколько лет в напрасном ожидании жениха, мало-помалу начала раскаиваться в слишком поспешном отказе Тулупову. Наконец она решилась употреблять все хитрости кокетства, чтобы снова заманить в сети прежнего своего поклонника, но он своей невнимательностью приводил ее в отчаяние. Верно, премьер-майор мстит мне за прежнюю мою холодность, думала она и ошибалась. Чуждый мщения, он даже расположен был возобновить свое предложение, но его развлекала, неизвестная Дарье Власьевне, опасная ей соперница – полынная водка. Премьер-майор, находя гораздо более наслаждения в жгучей горечи этого напитка, нежели в сладком нектаре любви, каждый раз, будучи в гостях у Мурашева, стремился сердцем в шкаф, где стояла фляга, и приходил в восторг, когда Дарья Власьевна, явясь со скатертью в руке, начинала ее расстилать на столе, или, лучше сказать, устилать этой узорной тканью путь из шкафа на стол для любимицы премьер-майорского сердца. Мудрено ли, что в такие минуты оставались незамеченными и нежные взоры и значительные вздохи. Может быть, в другие минуты они бы не пропали даром.
– Полагаюсь на великодушие ваше, Клим Антипович! – сказала Дарья Власьевна, закрываясь жеманно платком. – Одна крайность заставила меня в такой поздний час искать помощи в доме холостого человека.
– Помилуйте, сударыня, нет нужды, что я холостой, можете положиться на меня как на каменную твердыню. Чем могу служить вам?.. Да пожалуйте в комнату. Вы простите меня великодушно, что я такую нежданную и дорогую гостью принимаю – не при вас будь молвлено – в халате, в туфлях и в ночном колпаке! Прошу садиться, сударыня! Вот кресла.
Дарья Власьевна снова закрылась платком, взглянув на придвинутое для нее кресло: на нем лежали панталоны премьер-майора. Он проворно схватил их, скомкал, спрятал за спину и хотел бросить искусно под стол, стараясь, чтобы гостья этого не заметила, но панталоны, пущенные наугад и притом слишком сильно, по несчастному случаю попали на гипсовый бюст Венеры, стоявший на окошке, и повисли как флаг на башне во время безветрия.
– Позвольте мне лучше сесть на вашу софу, – сказала между тем Мурашева, отняв от глаз платок. Она по глазомеру сообразила, что не войдет в кресло со своими генеральскими фижмами.
– На софу? С прискорбием должен доложить вам, что я не успел еще завести софы. Впрочем, кресла весьма мягкие, – продолжал он, обтирая подушку платком. – На них ничего уже нет, сударыня. Вот я и всю пыль смахнул. А! Вы изволите смотреть на мою дубовую скамейку? Вот она, к услугам вашим.
Взяв скамью из угла, он поставил ее к столу, прямо против окошка.
– А вот, не угодно ли полюбоваться моей Венерой? – продолжал он, глядя в лицо Дарье Власьевне. – Нечего сказать, люблю заморские хитрости, – страсть моя. Извольте посмотреть: словно живая. У итальянца купил.
С этими словами поднес он свечу к окошку, продолжая глядеть в лице Дарье Власьевне. Та ахнула и снова закрылась платком.
– Что вы, сударыня, чего вы испугались? Не думаете ли, что святочная маска, или что этот гипсовый болванчик не одет прилично? Во-первых, доложу вам, что ног тут нет, он сделан только по пояс, во-вторых, и платье на нем по самую шею. Я сам терпеть не могу тех неприличных болванчиков во весь рост, которые… Что за напасть! – воскликнул Тулупов, схватив с досадой панталоны и швырнув их под стол.
– Исполните ли просьбу мою, Клим Антипович?
– Все готовы сделать, что прикажете!
– Помогите мне, я в совершенной беде! Вам известно, что брат герцога присватался к моей племяннице. Мы обе жили уже у него в доме, и дело шло как нельзя лучше, только глупой этой девчонке вздумалось вдруг убежать. Сгибла да пропала! Искали, искали: нет как нет! Сегодня вечером брат герцога изволил воротиться домой в таком гневе, что у меня душа в пятки ушла, и на меня раскричаться изволил. А я чем виновата? Зачем, говорит, я не смотрела за нею. Словом сказать, он, несмотря на поздний вечер, выслал меня из дома и велел завтра утром представить ему мою племянницу. Как хочешь, сыщи! Господи Боже мой! Где ее найдешь к утру? Угроз-то, угроз-то сколько наговорил!.. К брату идти я не рассудила, он, кажется, сердит на меня. Я и решилась идти к вам, Клим Антипович, в надежде, что вы одной ночью для меня пожертвуете и поможете мне отыскать эту ветреную девчонку. Уж я бы ее! Из-за нее бегай тетка по городу целую ночь! А ослушаться нельзя, сами посудите!
– Совершенная правда, сударыня! Как можно ослушаться! Только доложу вам, что едва ли успеем мы найти вашу племянницу.
– По крайней мере, исполним приказание его превосходительства: будем искать целую ночь, а не сыщем – что ж делать? На нет и суда нет!
– Я готов в вашей приятной компании проходить всю ночь напролет по всем улица и закоулкам, только позвольте попросить вас выйти немножко прежде меня на крыльцо. Мне нужно одеться, как следует. Я должен надеть… шубу. Я вмиг за вами.
Говоря это, он нагнулся, проворно вытащил брошенные панталоны из-под стола и вышел в другую комнату.
Дарья Власьевна, завернувшись в свой теплый плащ, вышла между тем на крыльцо. Вскоре и Тулупов явился, в волчьей шубе и в шапке из крымского барана. Долго бродили они понапрасну из улицы в улицу и, утомясь, решились наконец идти кратчайшим путем домой. Для этого пришлось им войти в Летний сад. Был уже четвертый час заполночь. Тулупов, стараясь чем-нибудь рассеять печальную Дарью Власьевну, начал свой любимый и весьма для него занимательный рассказ о похищенном селезне и о происшедшей от того ссоре с Дуболобовым. Бедная Мурашева, слушая это повествование чуть ли не в сотый раз, верно бы уснула, если бы можно было ходя спать.
– Посмотрите, посмотрите! – вдруг воскликнула она, вздрогнув и схватив от страха своего спутника за рукав.
– Что такое вам чудится? Это куст, успокойтесь… Таким образом, Дуболобов, этот изверг, чучело и гороховый кисельник, вздумал…
– Ах, мои батюшки-светы! Уж не убитый ли человек лежит?
– Где? Я ничего не вижу. Вам это чудится… Этот гороховый кисельник, как я вам уже докладывал…
– Да полноте, Клим Антипович! Провал возьми этого Дуболобова и с вашим селезнем. Ах, батюшки, как я перепугалась! Я подумала уж, что лежит убитый, но нет: шевелится. Видно, хмельной какой-нибудь.
– Да где вы видите?
– Вот скоро подойдем к нему. Вон, вон, между двух кустов-то! Да вы не туда смотрите!
– А, теперь вижу! Ну что же! какой-нибудь пьяница. Что нам до него за дело? А я вам должен в заключение доложить, что и сам воевода с этим гороховым кисельником…
– Да это, кажется, женщина лежит.
– Помилуйте, чему дивиться? Ведь не одни мужчины пьют до упаду. Ну, так женщина и есть. Пусть ее лежит, а мы с вами мимо, своей дорогой пройдем.
– Поднимите меня! – закричала женщина повелительно.
– Вот еще! – сказал Тулупов. – Сама, голубушка, встанешь! Выпила лишнее: не мы виноваты.
– Молчи, грубиян! Подними меня сейчас же. Как смеешь ты ослушаться герцогини!
Дарья Власьевна бросилась к ней и помогла ей встать. Тулупов остолбенел от изумления и страха.
– Веди меня ко дворцу! – продолжала герцогиня.
Тулупов, думая, что приказ этот относился не к одной Дарье Власьевне, а и к нему, подбежал и хотел взять герцогиню под руку.
– Прочь, мерзавец! – закричала она. – Стой на одном месте и не смей смотреть на меня!
Тулупов, струсив, униженно согнул спину, отскочил и закрыл глаза рукой, а Мурашева, поддерживая герцогиню под руку, повела ее к Летнем дворцу. Она не могла прийти в себя от изумления и посматривала сбоку на жену Бирона, желая удостовериться: точно ли это она? Близ дворца Дарья Власьевна увидела перед собой Ханыкова. Он почтительно приблизился к герцогине и ввел ее во дворец.
– Господи твоя воля! – шептала Мурашева, уставив глаза на дверь, в которую вошла герцогиня с Ханыковым. – Не во сне ли мне все это грезится?
Ханыков вскоре опять вышел из дворца в сад и сказал что-то стоявшим у двери двум часовым. Дарья Власьевна подошла к капитану.
– Скажите, ради бога, что за чудеса совершаются? Что все это значит? – спросила она.
– Вы как здесь очутились?
Ханыков не сказал ей более ничего, побежал и закричал денщику своему:
– Беги за лошадью и седлай проворнее!
Дарья Власьевна, исчезая в изумлении, побрела к Тулупову. Тот все еще стоял в прежнем положении, как статуя, не осмеливаясь отнять руки от глаз.
– Что за диковина, Клим Антипович, уже не сила ли нечистая над нами потешается?
– Не знаю, что и подумать, Дарья Власьевна, – сказал Тулупов, взглянув на нее и подняв плечи.
– И мне кажется: это все не что иное, как бесовское прельщение!
– С нами крестная сила! Пойдемте скорее вон из этого сада! Кто бы мог подумать, что здесь нечистые водятся – наше место свято! Ведь не Муромский лес, прости Господи!
Прижимаясь друг к другу от страха, пошли они скорым шагом из сада. Вскоре были они уже в квартире премьер-майора.
– Знаете ли, сударыня, что мне пришло на ум? – сказал он, снимая с себя волчью шубу и пыхтя от утомления. – Прошу сесть скорее, вы, как вижу, едва дух переводите. Я не докладывал еще вам, что изверга Дуболобова некоторые из помещиков, моих соседей, подозревали, что он чернокнижник и колдун. Я думаю, не он ли, злодей, по вражде ко мне, вздумал напустить на нас это дьявольское наваждение? Я вам говорю: давно следовало бы сжечь этого горохового кисельника! Воля ваша! И селезень, который неведомо как, так сказать, из-под рук пропал, его дело, что он ни говори!.. Да подождите, авось и до него доберутся!
– Ума не приложу! – сказала Мурашева. – Чем больше думаю, тем больше дивлюсь: ночью, одна, в саду, на земле! Непонятно! Когда бывало, чтобы герцогиня выходила из дворца на шаг без фижм! А то…
– Да, да, удивительно! Мне померещилось, что она была – не при вас буди молвлено – в одной юбке! И вам в этом же образе представилось бесовское видение?
Дарья Власьевна кивнула в знак утвердительного ответа головой и закрылась платком.
XIV
Ханыков после прощания своего с другом в глубоком унынии возвратился домой. Пробило уже одиннадцать часов вечера. Вдруг принесли к нему от фельдмаршала графа Миниха приказ, чтобы он немедленно сменил капитана, командовавшего в тот день караулом при Летнем дворце, и вручили ему присланное вместе с приказом предписание фельмаршала, в котором он требовал капитана к себе для важного поручения.
Ханыков поспешил исполнить все приказания. Капитан Преображенского полка, сдав караул Ханыкову, поспешил в дом графа Миниха, где ему сказали, что фельдмаршала нет дома и что он велел ему дожидаться его возвращения.
От Мауса Ханыков узнал, что казнь Валериана, отца его, Возницына и всех его сообщников назначена в четыре часа наступавшей ночи за городом, на окруженной лесом поляне, близ Шлиссельбургской дороги. Естественно, что Ханыков не мог спать, ходил в сильном волнении по караульной и беспрестанно смотрел на часы, висевшие на стене. Стрелка подвигалась уже к цифре три.
«Через час страдания моего несчастного друга кончатся!» – подумал Ханыков и глубоко вздохнул.
Вдруг вошел в комнату офицер и сказал ему, что фельдмаршал требует его к себе.
– Странно! – сказал Ханыков, посмотрев пристально в лицо пришедшему. – Фельдмаршал знает лучше меня, что мне отсюда отлучаться нельзя. Точно ли он меня требует?
– Сам граф не далее как за двести шагов отсюда и вас ожидает, капитан, поспешите!
Ханыков вышел с офицером из караульни в сад и вскоре приблизился к графу Миниху. Он сидел на скамье под густой липой, разговаривая со стоявшим перед ним адъютантом своим, подполковником Манштейном. Поодаль стояли три преображенских офицера и восемьдесят солдат.
Ханыков, отдав честь фельдмаршалу, остановился перед ним в ожидании его приказаний.
– Сколько человек у вас в карауле? – спросил Миних.
– Триста, ваше сиятельство.
– Мне поручено взять под стражу герцога Бирона. Выведите ваших солдат из караульни и поставьте под ружье, только без малейшего шума, никому не трогаться с места и не говорить ни слова. Часовым прикажите, чтоб они никого не окликали. Что ж вы стоите?
– Разве акт о регентской власти уничтожен, ваше сиятельство?
– К чему этот вопрос?.. Я вас всегда считал отличным офицером и именно потому назначил вас сегодня в караул.
– А я потому решился спросить об акте, чтоб оправдать вашу доверенность. Покуда акт не уничтожен, могу ли я действовать против герцога, не сделаюсь ли я виновным в нарушении моих обязанностей?
– Что вам за дело до акта? Вы должны исполнять мои приказания, а не рассуждать, – вам это известно, вы не первый день служите.
– Я служу не лицу, а государю и отечеству, и потому в таком важном и необыкновенном деле, как настоящее, обязан наперед все узнать основательно, размыслить и потом действовать согласно с долгом моим к престолу и отечеству.
– Справедливо сказано!.. Так знайте же, что акт о регентстве уничтожен.
– Кем? На это имеет право одна цесаревна Елизавета. Если есть на то ее воля, то я готов действовать, готов жизнью пожертвовать.
– Воля на то изъявлена. В чем вы еще сомневаетесь? Поспешите исполнить приказание.
Ханыков, не заметив двусмысленных слов Миниха, который действовал в пользу принцессы Брауншвейгской и по ее воле, поспешил исполнить его приказ, радуясь, что Елизавета решилась наконец осчастливить отечество и вступить на престол.
Граф Миних, приблизясь к дворцовому крыльцу, послал Манштейна с двадцатью солдатами во дворец, чтобы схватить герцога.
Бирон спал. Уверенный, что ему все известно через его лазутчиков, охраняемый тремястами солдатами, мог ли он воображать, ложась на великолепную кровать свою, что среди ночи сон его будет неожиданно прерван, что, грозный для всех, регент будет схвачен как преступник и что власть его, все его могущество мгновенно улетят вместе с прерванными грезами сна. Несмотря на ужас, которым окружил себя Бирон, несмотря на толпу лазутчиков и телохранителей, довольно было Миниху захотеть его свержения, – и через несколько часов тот, в чьих руках была судьба обширнейшего государства, принужден был отдаться на руки двух десятков людей, недавно трепетавших одного его взора. Достигнув высшей степени могущества, сделавшись повелителем миллионов себе подобных, он вдруг упал с высоты, – и миллионы людей, недавно его страшившихся, с радостью, с презрением глядели на павшего, ненавистного всем властелина. Ничто не могло удержать его от падения: он отогнал от себя лучшего, вернейшего охранителя: любовь народную. С одним этим стражем Петр Великий пребывал невредим посреди крамол, заговоров, измены. Этот надежный страж хранит и всех великих царей, ему подобных.
Отдернув занавес кровати, на которой спал Бирон, Манштейн громко сказал:
– Вставайте, герцог! Я прислан за вами!
Герцог, приподнявшись, устремил дикий взор на Манштейна.
– Кто ты, дерзкий? Как смеешь ты нарушать сон мой?
– Я имею приказание взять вас под стражу.
– Меня? Регента? Меня под стражу? – воскликнул Бирон, соскочив с постели. – Люди, люди! Сюда! На помощь! Измена!
Крик его разбудил герцогиню. Она также вскочила с кровати и начала кричать.
Видя, что никто не является на крик, Бирон, до тех пор заставлявший трепетать других, предался сам малодушному страху и, бросаясь на пол, хотел спрятаться под кровать, но Манштейн схватил его. Вошли солдаты, связали Бирона, надели на него плащ и, сведя вниз, посадили в карету. Миних сел с ними вместе и повез сверженного регента к принцессе Брауншвейгской, с беспокойством ожидавшей окончания этого предприятия.
Гордая герцогиня, вне себя от страха и гнева, выбежала в сад. Манштейн велел денщику своему отвести ее назад, в ее комнаты.
– Вот, сударыня, – сказал денщик, ведя под руку жену Бирона, – напрасно супруг ваш давил русских, всех грешных земляков моих, наподобие. Будь он подобрее, так поживал бы подобру-поздорову, с ним бы этой притчи не случилось! Мой господин такой же иноземец, как ваш муж, да и он вышел, видно, из терпения. Недаром в церкви читают: Господь гордым противится!
Герцогиня, вспыхнув, хотела ударить моралиста, но он схватил ее за руку:
– Драться не за что, сударыня! Я вам ведь правду сказал, и то любя вас.
Усиливаясь вырвать свою руку, жена Бирона споткнулась и упала на землю. Денщик хотел поднять ее, но она его оттолкнула.
– Коли нравится вам эта постель, так извольте лежать, я мешать вам не стану, – сказал денщик и ушел.
После этого ясно, как успел чародей Дуболобов напугать разными чудесами в Летнем саду Тулупова и Дарью Власьевну.
XV
Гейер не знал, что в столице стряслось в одну ночь, в течение одного часа. Он в то время был за городом, на окруженной лесом поляне, и готовил все для казни приговоренных Бироном. Скованные, они стояли между солдатами, сомкнувшими штыки над их головами. Враг Тулупова, Дуболобов, схваченный в своей деревне и поспешно привезенный, находился в числе несчастных и горько жаловался на судьбу свою, не зная, за что и к чему он приговорен.
– Скажите, ради бога, что со мною сделают? – спрашивал он Гейера в тоске и страхе.
– Сам увидишь, – отвечал тот хладнокровно.
При свете факелов рассмотрел он в некотором отдалении деревянные подмостки, а на них отрубок толстого бревна. Подалее возвышался подобный огромному улью, срезанному сверху, деревянный сруб, в котором лежали солома и хворост. Близ сруба видно было колесо, приделанное к врытому в землю невысокому столбу. Около этих ужасных изобретений человеческой жестокости заботливо суетились люди. Все они были в широких плащах и нахлобученных до бровей шляпах. Некоторые держали факелы, другие – веревки. У одного блестела в руках секира, у другого, отличавшегося ростом и широкими плечами, железная палица, третий расправлял мешок, к которому был привязан камень.
Гейер, с толпою прислужников приблизясь к осужденным, велел вести прежде тех, которых Бирон приговорил к отсечению головы. Их было восемь. Вскоре приблизились они к деревянным подмосткам, на которых лежала плаха. Человек, державший секиру, сбросил с себя плащ и вошел на подмостки. По данному Гейером знаку ввели сперва седого старика, в молодые лета служившего с честью во флоте и проведшего всю жизнь безукоризненно. Он живо помнил славное и правосудное царствование Петра Великого и тем сильнее ненавидел Бирона, святотатственной рукой поведшего отечество с высоты славы и счастья в бездну зол и бедствий. Произнося вполголоса молитву, он с твердостью подошел к плахе и, перекрестясь, положил на нее украшенную сединами голову. Эхо в лесу повторило удар секиры. Обезглавленный труп сняли с подмостков и положили на траву, подле откатившейся на несколько шагов головы.
Немедленно ввели на подмостки другого из осужденных, и скоро вторая жертва жестокости Бирона лежала рядом с обезглавленным старцем.
Одного за другим подводили к плахе, и кровь лилась, между тем того, чья воля, чье мщение двигало секиру, лишенный власти и сана, окруженный стражей, как преступник, ехал в карете по дороге в Шлиссельбург, где ожидали его заточение и суд. Он уже не думал о жертвах своего мщения, обреченных им смерти, жертвы эти были уже для него не нужны и бесполезны. Он уже сам трепетал за жизнь свою, предвидя в грозной будущности плаху и секиру. Совесть, давно усыпленная посреди успехов, величия и могущества, проснулась и вызвала из могилы ряд бледных, обрызганных кровью мертвецов, вставших на пути жестокого и мстительного временщика.
Держав в руках Библию, давным-давно уже не читанную, Бирон старался успокоить себя мыслью, что в слове Божьем найдет он скорое утешение и легкое средство прекратить тревогу и мучение сердца, и между тем страшился раскрыть книгу: ему казалось, что в каждой строке видит он строгий приговор делам своим.
По временам лицо его, унылое и бледное, вдруг вспыхивало. Глаза его из-под нахмуренных бровей сверкали, уста судорожно двигались. Стиснув зубы, то махал он рукой грозно и повелительно, то ударял себя ею в грудь и клялся отомстить врагам своим. Но вдруг, вспомнив неожиданное, быстрое падение с высоты могущества, свое бессилие, он впадал снова в уныние. Ехавшие впереди кареты два всадника с факелами в руках возбуждали в сердце Бирона суеверную тоску. «Это предзнаменование моего погребения, – думал он. – И точно, я уже могу считать себя умершим. Еще вчера все преклонялось, все трепетало предо мною, а сегодня я ничто! Наяву ли все это совершается? Не страшный ли сон я вижу?»
Вдруг карета остановилась. Бирон услышал, что начальник стражи, которая его сопровождала, спорил с какими-то людьми, помешавшими карете ехать далее. Они тащили что-то через дорогу.
– Как смели вы остановить нас? – кричал начальник стражи. – Кто вы таковы и что тащите? Отвечайте, не то велю всех вас схватить, бездельники!
– Тащим, как видишь, мешок, – отвечал один из толпы, – а что такое в мешке, не скажем, это не твое дело.
– Сейчас же говори! – закричал рассерженный начальник стражи, соскочив с лошади и схватив упрямца за ворот.
В это время послышался жалобный голос Дуболобова. Его тащили в мешке к берегу Невы, чтобы утопить.
– Что это значит? – воскликнул начальник. – Тут человек! Говори, бездельник, что это значит? Ребята, схватите всех их! – закричал он страже.
– Советую тебе, любезный, не горячиться и ехать своей дорогой. Не вели своим нас трогать: худо будет! Мы исполняем повеление герцога!.. Что, любезный? Вся твоя храбрость лопнула как мыльный пузырь? Садись-ка на свою лошадь да отправляйся, куда ехал. А вы тащите мешок. Ну, ну, проворнее! Нева уж недалеко.
Начальник стражи стоял как истукан, глядя вслед поспешавшей к берегу толпе. По данному ему приказанию он должен был доставить герцога в Шлиссельбург в величайшей тайне. С одной стороны, сострадание побуждало его остановить казнь несчастного, совершавшуюся по воле Бирона, который уже и сам ожидал казни и лишен уже был власти казнить других. С другой стороны, он не осмелился объявить этого, опасаясь нарушить данный ему приказ. Между тем толпа за деревьями и кустарниками скрылась у него из вида.
– Что значит эта остановка? – спросил Бирон, опустив стекло в дверцах кареты. – Где начальник стражи?
– А вот он скачет сюда. Он за чем-то слезал с лошади, – отвечал кучер.
– Для чего мы остановились?
– Вы сами себя остановили, – отвечал грубо начальник. – Вас везут в крепость под стражей, а вы все продолжаете еще губить ближних. Может быть, вы теперь и приказали бы помиловать этого несчастного, которого потащили топить, да жаль, что уж вы приказывать не можете!
– А если бы и мог, то не отменил бы своего приказания! – возразил гордо Бирон. – Что однажды я повелел, то должно быть исполнено!
Карета поехала далее. Между тем Возницына привязали к колесу, и широкоплечий палач, размахивая железной палицей, готовился раздробить ему руки и ноги, одну за другой, и нанести наконец удар милости в голову. Старика Аргамакова и Лельского, связанных, втащили по приставленной к срубу лестнице, опустили на накладенные в нем хворост и солому и вложили в отверстие, сделанное внизу, горящий факел. Густой дым от вспыхнувшей соломы повалил изо всех щелей сруба, и сухой хворост затрещал. Валериану завязали глаза и поставили перед двенадцатью солдатами. Он слышал, как звенели шомполы, прибивая пули в дулах ружей. Скоро звук этот затих, и раздался громкий голос командовавшего капрала.
В эту минуту сердце Валериана, до тех пор мужественно ожидавшего смерти, мгновенно оледенело от ужаса, в это сердце целились двенадцать ружей, двенадцать пуль при слове «пали!» должны были растерзать грудь Валериана. Он ждал с нетерпением, чтобы ужасный залп грянул скорее и перебросил его с границы мучительной, стесненной жизни в спокойную, беспредельную область вечности. Один миг – и я уже там, там, где будут неминуемо все! Но миг этот невыразимо ужасен!
Так думал, так чувствовал Валериан. Вдруг… раздается конский топот.
– Стой! – крикнул громкий голос. Кто-то подбежал к Валериану, торопливо снял повязку с глаз его и заключил юношу в объятия.
Кого же видит пред собою изумленный, воскресший страдалец? – Ханыкова, хладнокровного Ханыкова, у которого бегут радостные слезы по пылающим щекам.
– Ребята! – крикнул он солдатам, не переставая обнимать с жаром друга. – Бегите, спасайте прочих: Бирон пал! На русском престоле дочь Петра Великого, кроткая Елизавета!
Единодушное радостное «ура» заглушило голос капитана.
– Матушка наша! Наконец дождались мы тебя, наше красное солнышко. Отдохнут теперь русские, заживут все православные по-прежнему, как при великом царе, твоем батюшке.
Так восклицали солдаты, ломая вдребезги колесо, с которого сняли Возницына, разбрасывая подмостки с плахой и осыпая остолбеневшего Гейера и его прислужников ударами ружейных прикладов. Двое из солдат бросились к срубу, окруженному густым облаком дыма, вмиг приставили лестницу, ощупью нашли лежавших без чувства на хворосте старика Аргамакова и Лельского, стащили их вниз и положили на траву. Огонь, обнявший нижние слои хвороста, не успел еще проникнуть до верхних, но густой дым задушил бывших в срубе.
Через несколько времени старика Аргамакова с трудом привели в чувство, но в Лельском не было заметно никаких признаков жизни. Он спал уже сном беспробудным. Его положили рядом с обезглавленными трупами.
– Поспешите спасти несчастного Дуболобова! – воскликнул Возницын. – Его понесли к Неве, ради бога, бегите за мной скорее!
Несколько солдат кинулись за Возницыным. Навстречу попались им возвращавшиеся прислужники Гейера.
– Куда вы его девали, душегубцы? – воскликнул Возницын, вне себя бросаясь на одного из прислужников. – Говори – или смерть!
Один из солдат приставил штык к боку прислужника, прочие товарищи последнего, провожаемые ударами ружейных прикладов, рассыпались в разные стороны.
– Умилосердитесь надо мной! – пропищал, заикаясь, прислужник. – Не я опустил мешок в воду.
– Веди нас, злодей! Покажи место, где вы несчастного бросили.
Схватив за воротник прислужника, Возницын потащил его к берегу Невы. Когда место было указано, он, сбросив с себя платье, несколько раз нырял, опускаясь на дно реки. Некоторые из солдат сделали то же, но все понапрасну: несчастного не нашли, он погиб жертвой мелочной ненависти и безымянного доноса, погиб за то, что у соседа его пропал селезень и что он когда-то за приятельским обедом, развеселенный вином, имел неосторожность в кругу друзей назвать в шутку Бирона медведем.
XVI
Наутро общая радость, возбужденная разнесшимся слухом о вступлении Елизаветы на престол, уменьшилась, когда узнали, что принцесса Брауншвейгская, с помощью графа Миниха, нарушив акт о регентстве и низвергнув Бирона, объявила себя правительницей. С нарушением акта права Елизаветы на престол делались еще неоспоримее. Через год, когда принцесса Брауншвейгская, подстрекаемая окружавшими ее иноземцами, решилась объявить себя императрицей и отдалить навсегда ветвь Петра I от престола России, им возвеличенной и прославленной, когда Елизавете грозил брак против воли или заточение в монастырь, она решилась действовать, – и обрадованное отечество вскоре увидело на престоле дочь Петра Великого. Законы, о которых Петр изрек: всуе законы писать, когда их не хранить, утвердились в силе, судьба граждан не зависела уже от произвола и своекорыстия иноземного пришельца, вредные интриги честолюбцев, стремившихся для личных выгод своих располагать делами государства и даже престолом, прекратились, мужи государственные и любящие отечество по воле мудрой монархини начали трудиться над выполнением великой мысли державного просветителя России, мысли о своде отечественных законов. Уничтожение Елизаветой смертной казни, доныне существующей в просвещеннейших странах Европы, явило им достойный подражания пример кротости и человеколюбия правительства даже к преступникам, тайные доносы прекратились, одни злодеи и лихоимцы, к общей радости и счастью всех честных и добрых граждан, стали бояться обличения их тайных преступлений и явной, открыто и неминуемо карающей силы законов. Науки, искусства, словесность, эти нежные растения, насажденные рукой преобразователя России и притоптанные Бироном, снова оживились лучами, ниспавшими с престола.
Вечером, накануне 1 января 1742 года (это было через месяц по вступлении на престол Елизаветы), Мурашев пригласил к себе родственников и приятелей встречать Новый год. Старик Аргамаков сидел подле хозяина, на софе. Валериан ходил взад и вперед по комнате, держа за руку молодую, прелестную жену свою, Ольгу. Дарья Власьевна, поместившись у окна в креслах, посматривала на премьер-майора Тулупова, сидевшего в углу на скамейке, махала на себя веером и вздыхала. Премьер-майор, казалось, не обращал ни на кого внимания и погружен был в уныние.
– Вот уже скоро, я думаю, пробьет полночь, – сказал Мурашев, – скоро поздравим друг друга с Новым годом. Бывало, при Бироне…
– Не поминай об нем, любезный сват! – прервал старик Аргамаков.
– А для чего не поминать? И в «Советах премудрости» сказано: «Человек разумной должен приводить себе в память то, что не всегда одинаково бывает время. Это значит, что утешительно для сердца в такое благополучное, как нынче, время вспомнить иногда прежние, черные годы. Как сравнишь прошлое с настоящим, так невольно почувствуешь благодарность к милосердному Богу!
– Что и говорить, любезный сват! Дай Господи царице нашей долголетнее царствование! Добрая, ангельская душа! Когда моего сына хотел Бирон казнить, помнишь ли, как она прислала мне с своей руки перстень и велела утешить меня, горемычного старика, своим словом ласковым? Я этим перстнем украсил образ Спасителя и всякий день во время молитвы взгляну на перстень и молюсь, долго молюсь, чтобы Он ниспослал здравие и счастье доброй царице.
– Слышали вы, батюшка, – сказал Валериан, – что она даже Бирона простить хочет?
– А где он теперь? Все в Шлиссельбурге?
– Нет. Его приговорили к смерти, но помиловали и отправили со всеми его родственниками в дальний городок Пелым[10].
В это время отворилась дверь, и вошел Ханыков. Поздоровавшись со всеми, он сел к столу и вынул из кармана бумагу.
– В прежнее время, – сказал Мурашев, – верно, у всех бы сердце заныло, все бы подумали, что это какой-нибудь донос или приговор, нынче, слава богу, уже не те времена! Что это, капитан, за грамотка? Чай, что-нибудь радостное, хорошее?
– Это стихи, да такие, каких на Руси еще с сотворения мира не бывало. Теперь во всем Петербурге их читают: все чуть за них не дерутся. Я с большим трудом список достал у приятеля.
– Ах, батюшка, отец родной! – воскликнул Мурашев. – Дай списать. Неужто эти стихи лучше написаны, чем «Советы премудрости» или «Приклады, како пишутся комплименты»? Кто их написал?
– Адъютант Академии наук Михаил Васильевич Ломоносов, тот самый, который недавно из-за границы возвратился.
– Сын холмогорского рыбака?.. Спасибо Михаилу Васильевичу! Знай наших! Вот каковы рыбаки-то! Недаром я с малолетства любил этот промысел. Молчи же ты теперь, Бирон, не говори, что русские ни к чему не способны! Когда за всякое слово тянули их в пытку да на плаху, так было не до писанья, поневоле молчали все, как глупые рыбы. А вот нынче, при матушке царице, достойной преемнице Петра Великого, то ли еще сделают русские! Прочти-ка, сделай милость, стихи Михайла Васильевича, отведи душу!
Ханыков начал читать оду Ломоносова, написанную им при восшествии на престол императрицы Елизаветы. По окончании каждой строфы все приходили в движение, а Мурашев вскакивал с софы от восторга и восклицал:
– Голубчик ты мой, Михайло Васильевич! Расцелую твою ручку и золотое твое перышко! Где ты таких красных слов наудил? По живой стерляди, по двухаршинному осетру дам за каждое!
Особенно сильное действие произвела на слушателей последняя строфа:
Но если гордость ослепленна Дерзнет на нас воздвигнуть рок, Тебе, в женах благословенна, Против нее помощник – Бог. Он верх Небес к тебе преклонит И тучи страшные нагонит В сретение врагам твоим. Лишь только ополчишься к бою, Предвидеть ужас пред тобою, И следом воскурится дым!Нынче стихи Ломоносова, уже устаревшие, без сомнения, не могут ни на кого так подействовать, как на слушателей Ханыкова, но тогда немудрено было прийти от них в восторг. Новый размер, новый язык, звучный и сильный, – все это пленяло и поражало удивлением.
Только на Дарью Власьевну и на Тулупова стихи Ломоносова не произвели почти никакого действия. Первая не расслушала их, мечтая о замужестве и широких фижмах, а премьер-майор не мог находить ни в чем отрады с тех пор, как узнал о смерти Дуболобова: раскаяние беспрестанно его мучило. Другу и недругу закажу, часто думал он, подавать на ближнего безыменные доносы. Бог свидетель, что я не хотел смерти Дуболобову, однако ж я убил его, убил, хотя и ненарочно, камнем из-за угла, как ночной вор, и погубил свою душу.
Чего бы не дал премьер-майор, чтобы воскресить прежнего, непримиримого врага своего! Он пожертвовал бы всеми селезнями в свете за жизнь горохового кисельника и даже решился бы не пить никогда водки и не курить табаку, если б этой ценой можно было поправить сделанное зло.
– Что вы так пригорюнились, Клим Антипович? – спросил Мурашев. – Скоро Новый год наступит. Надобно встретить его с весельем в сердце, а не то целый год будете печалиться.
– Раздумался я о Бироне, Федор Власьич. Как вспомнишь его время, так поневоле тоска возьмет. Ввек не забыть мне, что этот нехристь всем государством русским правил.
– Да много ли он правил: всего три недели!
– Конечно, однако ж… ох уж эти мне три недели!
– И полно, любезнейший майор, есть ли о чем горевать? Пожалуйста, развеселись. Подумай, как теперь все русские зажили припеваючи. Старики говорят: то непременно сбудется, что в первый миг Нового года пожелаешь. Новый год, чай, скоро уж наступит. Пожелай же вместе со мной, чтобы за три черные недели Бог послал нашей родной стороне три века светлые, счастливые!
– Видно, сбудется желание ваше, – сказал Ханыков. – Слышите ли: часы на адмиралтейском шпице бьют полночь? Вот и пушка грянула! Старый год улетел туда же, куда безвозвратно скрылись три черные недели и регентство Бирона.
Осада Углича
I
Версты за две от Углича, за Волгой, возвышается холм, покрытый кустарником и окруженный мелким лесом. После 1611 года он долгое время сохранял название Богоявленской горы, но сейчас и это название исчезло. Без уцелевших страниц старинной летописи никто и не узнал бы, что на этом холме стоял некогда монастырь Богоявления Господня, что деревянную церковь, кельи и ограду превратили в пепел литовцы и что в стенах сожженного монастыря погибли тридцать восемь иноков и более трехсот окрестных жителей, искавших в святой обители спасения от неприятельских мечей.
В прекрасное весеннее утро – в 1610 году – подъехал к ограде Богоявленского монастыря всадник, привязал вороного коня своего к дереву и постучался в дверь кельи игумена Авраамия. Зеленое полукафтанье всадника застегнуто было на груди широкими петлицами из золотых шнурков. Перекинутая через плечо сафьяновая перевязь, вышитая серебром, поддерживала дорогую турецкую саблю. Грусть и задумчивость изображались на прекрасном лице всадника. Глаза его, исполненные жизни и выражения, обличали в нем душу добрую, благородную, мужественную.
Благословив незнакомого пришельца, Авраамий ласково пригласил его войти в келью, сел с ним на деревянную скамью и спросил, что привело его к нему, в уединенное его убежище?
– Привела меня слава твоей святой жизни, твоей мудрости. Не откажи в благодеянии, которое ты можешь мне оказать. Я буду просить у тебя суда.
– Суда?! – спросил удивленный старик. – На кого?
– На собственное мое сердце.
– Я не могу быть судьей, не зная твоего противника.
– В этом мире ты один узнаешь его, отец Авраамий. Перед тобой одним обнаружу все его тайны. О, если бы твои советы, твое посредничество примирили меня с моим противником! Перед тобой – стрелецкий голова Феодосий Алмазов. Покойные родители мои были небогаты, но целую жизнь старались делать ближним добро. Я был единственный сын их. Наравне со мною они воспитывали Иллариона, мальчика, которого усыновили и спасли от беспомощного сиротства. В последние годы царствования Иоанна Грозного я лишился матери; отец мой, спасаясь от незаслуженной казни, принужден был бежать в Польшу. Там я с Илларионом вступил в училище. Через несколько лет мы вышли оттуда, уже взрослые, в числе первых учеников. Между тем в Польше отец мой призрел еще двух малолетних девочек, которые по смерти родителей своих, беглецов русских, остались на чужой стороне круглыми сиротами. Когда Евгения и Лидия – так зовут их – подросли, то польский вельможа, покровитель отца моего, взял их в дом к себе и воспитал вместе со своими дочерьми. По окончании воспитания они обе возвратились к отцу моему, который вскоре после этого занемог безнадежно. Умирая, он завещал мне и трем сиротам, им призренным, возвратиться в Россию, возложив на меня заменить его для них, и велел жить всем нам вместе в дружбе и согласии, как родным. Мы все поклялись исполнить его последнюю волю. Он благословил нас и скончался. По возвращении на родину вступил я в стрелецкое войско, и брат мой, Илларион (он моложе меня пятью годами), через несколько лет последовал моему примеру. Счастье нам благоприятствовало. Теперь мне тридцать три года, а я уже стрелецкий голова и начальник угличской крепости. Брат мой – пятисотенный моего полка. Мы оба, по совести, можем сказать, что не были последними на полях битвы.
До приезда в Углич я жил в Москве. Там сердце указало мне спутницу жизни. Питая друг к другу любовь чистую, пламенную, мы наконец превозмогли все препятствия, которые долго мешали нашему счастью, и я назвал ее своею. Все говорят, что на земле невозможно найти полного счастья. Нет, это несправедливо, отец Авраамий! Я, я наслаждался этим счастьем! Правда, оно скоро улетело – и навсегда. Она покинула меня, милая, незабвенная Ольга! Скоро ушла она на Небо с этой бедной земли. О, как дорого заплатил я за свое счастье! Легче было бы мне, если бы оторвали половину моего сердца, но я не роптал, я даже не плакал – я не мог плакать. Меня утешала мысль, что я страдаю один, что моя Ольга на Небе, где счастье вечно, неизменно, где ее уже не может постигнуть утрата, подобная моей. На языке человеческом нет выражений, чтобы изобразить то, что я чувствовал, когда вокруг гроба ее раздавалось похоронное пение, когда мои запекшиеся уста прильнули к ее холодной щеке, где недавно играл так пленительно румянец жизни, – к ее руке, неподвижной, которой она, угасая и подарив мне исполненный любви прощальный взор, в последний раз пожала мою руку!
Как бы горячо я тогда обнял того, кто мне дал бы хоть одну слезу, которая бы уменьшила страдание сердца! Но я не плакал. Отойдя от гроба, я упал перед образом Богоматери. И вдруг, как светлый ангел посреди мрачных, клубящихся туч, блеснула в растерзанной душе мысль, что Ольга с любовью и состраданием смотрит на меня из другого, высшего мира и молит там бесконечную Благость ниспослать мне в утешение, – и в тот же миг непостижимая отрада наполнила сердце, и слезы потекли из глаз моих. Мне даже казалось, что это были слезы радости.
Возвращался ли ты когда-нибудь, отец Авраамий, с кладбища, похоронив там человека, которого ты любил, который был тебе дороже жизни? И теперь еще душа содрогается при одном воспоминании о чувствованиях, раздиравших сердце, когда я шел к опустевшему дому от могилы, сокрывшей в себе навсегда все мое счастие, все мои радости! Нет, я этого рассказать не в силах. Ты не поймешь моих невыразимых страданий.
Феодосий опустил голову и замолчал.
– Проходят, исчезают как дым наши радости, – сказал Авраамий, – но также проходят и страдания. И что вся земная жизнь наша? Она, по словам апостола, пар, на малое время являющийся. Но настанет для нас другая, бесконечная жизнь. Утешься: она уже настала для той, которую ты оплакиваешь!
– Эта мысль всегда утешала меня, – сказал Феодосий, – но столько раз овладевали мной безутешная горесть и отчаяние! Весь мир опротивел мне. Сколько миллионов сердец, часто думал я, бьется теперь на земле, но все эти сердца не заменят для меня одного утраченного. Из этого сердца изливался источник моего счастья. Смерть оледенила, разрушила его, и источник моего счастья иссяк, и я на земле, как в беспредельной степи, томлюсь жаждою, которой ничто утолить не может. Все, что прежде меня радовало, что возбуждало во мне сладостные ощущения, воспоминания, мечты, – все это вдруг превратилось в яд, который мертвил меня. Шел ли я в рощу, где мы часто гуляли с ней, – и мне казалось, что каждое дерево говорило: ты один, ее уже нет с тобой, она уже никогда не придет в эти места! Попадался ли мне на глаза какой-нибудь наряд ее, какая-нибудь любимая вещь – сердце мое сжималось, я страдал, как в пытке, но не имел сил отвести глаз от того, что меня терзало. Я бы не вынес моих мучений, если бы участие моих домашних, их беспрерывные заботы обо мне не поддержали меня. Они не возвратили мне счастья, но удержали меня на земле, чтобы жить для них. Время залечивает самые глубокие раны сердца. Прошло уже два года с тех пор, как смерть похитила мое счастье; жало горести притупилось. Осталось в душе одно уныние, одно убийственное равнодушие ко всему. Я не мог уже ничем наслаждаться, разучился радоваться! Всех более принимала во мне участие Евгения, одна из сирот, призренных отцом моим. Живя с нею под одной кровлей с детства, я издавна любил ее, любил наравне с братом моим Илларионом и с Лидией, другою сиротой, которую покойный родитель воспитал вместе с нами. Но теперь я люблю ее более всего на свете. С каким искусством, с какою нежностью умела она утолять мои сердечные терзания, отгонять от меня ядовитое дыхание отчаяния! В ней воскресла для меня моя Ольга. Но я не должен так любить ее: она принадлежит уже другому. Брат мой Илларион давно, еще при жизни моей Ольги, оценил Евгению и привязался к ней со всею пылкостью первой любви. Прошло уже три года, как он открыл ей свое сердце, поклялся ей в вечной любви и требовал и ее клятвы. Она знала доброе сердце Иллариона; сила его страсти изумила, испугала ее. Чтобы его успокоить, она произнесла клятву, которой он от нее требовал. С тех пор Илларион называет ее своею невестой и употребляет все возможные усилия, чтобы приобрести средства к жизни. Он не хочет отягощать меня собой и решился тогда обвенчаться с Евгенией, когда будет в состоянии жить своим домом. Несколько раз предлагал я ему разделить небольшой достаток мой, но он всегда отказывался, говоря, что на мне еще лежит обязанность устроить судьбу Лидии и что он и без того уже многим мне обязан. Моими стараниями ему уже обещано место стрелецкого головы, он скоро получит его и достигнет цели своих желаний. Евгения уедет с ним, и я… опять останусь один, второй раз потеряю в ней мою Ольгу. Боже мой! Боже мой! Зачем я так люблю ее!.. Но нет, я не должен любить ее… пусть Илларион будет счастлив. Дай Бог, чтобы и она была с ним счастлива, так счастлива, как только возможно на земле. Я решился затаить любовь мою, чтобы не разрушить, не уменьшить благополучия моего брата и Евгении. Для них я принесу, я должен принести эту жертву. Давно и твердо решился я на это, но… иногда плачу дань человеческой слабости. Бывают минуты, когда я завидую брату Иллариону, когда мне кажется, что он не стоит Евгении, не сумеет оценить и осчастливить ее. Стыжусь сказать: я его тогда ненавижу, его, моего брата, которого люблю с детства! Тогда в сердце моем восстает ужасная борьба; часто я сам не понимаю чувств своих. О, какие это ужасные минуты! Недавно испытал я еще новое мучение. Илларион, получив письмо из Москвы, в котором уведомляли его, что он скоро будет назначен головою, прибежал в восторге домой и подал письмо Евгении. Она прочитала его, и мне показалось, что неожиданная весть не произвела в ней большой радости, что она даже стала задумчивее прежнего. Во мне мелькнула мысль: любит ли она Иллариона? Не сожалеет ли она, что связала совесть свою клятвой?
– Итак, мы скоро расстанемся? – сказала она мне. Эти простые слова отдались в моем сердце как крик утопающего. Не знаю, что со мной сделалось. Боже мой, думал я, если Евгения проникла в глубину моего сердца, если она тоже чувствует втайне ко мне, что я к ней, если и у нее в душе такая же ужасная борьба? Для чего же не объясниться нам, не открыть чувств наших? Но возможно ли это? Она не захочет убить Иллариона, она для него собой пожертвует так же, как я для них собой жертвую. Что, если не любя она идет за него? Она будет страдать и скрывать свои страдания. Нет, нет! Илларион не захочет погубить ее, если он хоть сколько-нибудь ее любит. Но если он не в силах будет принести этой жертвы – что с ним будет? Вот мысли, которые меня с тех пор день и ночь терзают. Я изнемогаю от душевной борьбы и не знаю, что делать должен. Разъясни, отец Авраамий, мысли и чувства мои, рассуди меня с моим сердцем и произнеси беспристрастный приговор. Я исполню его.
Старик покачал головой и задумался.
– Я почти уже переплыл житейское море, – сказал он после продолжительного молчания. – И для меня странен долетающий ко мне издали голос страстей земных. Не говорю это в укор тебе, сын мой. И я был молод, и меня обуревали страсти. Теперь, оглянувшись назад, вспомня время, когда вместо этих белых седин вились на моих плечах русые кудри, я с удивлением спрашиваю самого себя: неужели это был я? Быстро проходит все земное!.. Красота, любовь, все наши страсти, которые так волнуют нас, не более как призраки сна, то пленяющие, то терзающие нас. И счастлив тот, кто устоит против обольщений их, чью совесть не увлекут они с пути прямого. Пролетают скоро душевные бури, но угрызения совести остаются надолго в том, кто пал, кто не выдержал бури. До самых дверей могилы преследует нас стыд падения. Эта дверь, ведущая в другой, высший мир, страшна для того, кто, приближаясь к ней, стыдится самого себя, самого себя ужасается.
– Желал бы я скорее подойти к ней! – сказал стрелец. – Этот мир для меня несносен.
– Стыдись своей слабости! Желать себе смерти грешно. Веришь ли ты, что Бог даровал жизнь нам, что Он ее поддерживает и ведет нас к другой, настоящей жизни через временный путь борьбы, испытаний, лишений? Кто знает, что возложил Господь на тебя. Что предназначил тебе совершить в этой жизни? Может быть, рука твоя понадобится отечеству; может быть, она предназначена защитить от врагов тысячи твоих ближних, вдов беспомощных, младенцев невинных. Спасая их, ты не с теперешним унынием твоим бросишься к дверям могилы, – с мечом в руке, и, сопровождаемый благословениями спасенных тобою, скажешь: «Я недаром жил на свете!»
– О! Это была бы смерть сладостная, – сказал Феодосий. – Я бы избавился от моих мучений. Но пока я жив, я все буду мучиться. Как успокою я сердце, чем уйму его терзания? Дай совет, наставь меня, отец Авраамий!
– Спроси и послушай совета внутреннего твоего наставника. Две главные заповеди даны нам: любить Бога всей душой и ближнего как самого себя. Верь, что без воли Творца ничто в мире случиться не может, кроме зла, которое делает человек, один человек, противясь воле Божьей. Поступай всегда так, чтобы твои намерения, побуждения, решимость могли быть перед судом собственного твоего сердца согласны с любовью к Богу и ближним – и ты никогда не ошибешься, не сделаешь зла.
Долго еще разговаривали они. Солнце уже склонялось к западу, когда Феодосий в глубокой задумчивости подъехал на своем вороном коне к воротам угличской крепости.
II
В Угличе до сих пор сохранился ров, который обозначает, где была в старину крепость. Земляные валы и каменные стены, ее окружавшие, давно срыты, уцелели только из старинных зданий каменный дворец царевича Димитрия и церковь Преображения с отдельной высокой колокольней. Теперешний дворец не что иное, как маленький четырехугольный домик с неправильными окошками. В первом этаже кладовые, на втором одна комната. Но к этому дворцу в старину приделаны были различного вида и величины деревянные строения, которые составляли с ним одно неправильное целое. Теперь около дворца обширная площадь, а подле нее сад, которые прежде были застроены деревянными домами частных лиц. Крепость стояла на высоком берегу Волги. Несколько подземных, потаенных ходов вели из крепости к реке и оканчивались небольшой железной дверью, прикрытой кустарниками.
Со стороны Волги земляной вал был невысок и стоял на самом краю крутого берега. Из окон домов, находившихся в крепости, видны были на далекое расстояние река и луговая сторона ее, с деревнями, монастырями, мельницами, рощами, лесами, холмами.
У одного из таких окон сидели Евгения и Лидия, шили какие-то для себя наряды. Феодосия и Иллариона не было дома.
– Как я ни посмотрю на тебя, сестрица, – сказала Лидия, – все мне приходит в голову, что мы с тобой в Угличе первые красавицы. Да что я говорю, в Угличе…
– Не скажешь ли, в целом свете, Лидия?
– Ну, нет. Это будет немножко хвастливо. Что же касается до Углича, мы, наверное, здесь первые. Что тут скромничать! Я видала здесь много прекрасных лицом девушек, но все они похожи на кукол: и пошевелиться не смеют.
– И мы были бы с тобой такие же молчаливые, если бы воспитывались не в Польше. Зато послушай, что здесь про нас говорят!
– Ну что, что говорят? Да здесь никто и говорить-то не умеет. Молодые рта разинуть не смеют, а пожилые и старые сожмут разве что значительно губы и покачают своими умными головами. Это еще беда небольшая.
– Нас все называют басурманками.
– Басурманками! – вскричала Лидия, захохотав. – Да за что это?
– За то, что мы не соблюдаем здешних обычаев.
– Хороши обычаи! Каждая девушка сиди в своей светлице, как в клетке, и не смей носу высунуть в окошко; с мужчинами не говори ни слова, как немая, и только родственникам в пояс кланяйся, сложа степенно руки; прогуляться по городу и не думай, а пойдешь в церковь, то иди с конвоем бабушек и тетушек, земли под собой не слыша от страха и потупив глаза; взглянуть на мужчину, хоть бы ему было девяносто лет от роду, не смей. Мне кажется, здешние красавицы и на попа в церкви смотреть боятся. Не смотри на мужчин! Да что они за звери такие! Почему нам на них не смотреть, и прямо в глаза? Чего их бояться? Они глазеют же на нас!
– Ты рассуждаешь по-польски, а мы теперь в Угличе. Каждая земля, каждый город имеет свои нравы и обычаи…
– Которым я следовать не хочу. Каждая девушка, которая поумнее и образованнее других, может иметь свои нравы и обычаи. Пускай с нас берут пример.
– Мы с тобой одних лет, и было бы смешно, если бы я вздумала учить тебя. Но… я боюсь, чтобы ты не повредила своей доброй славе и не подала повод к пересудам.
– Не боюсь я никаких пересудов! От них никто не избавится, хоть в лес от людей убеги. И тут какая-нибудь найдется благочестивая кумушка, которая, вздохнув, скажет: «Девка-то в лес ушла, ну, что ей одной в лесу делать?!»
– С такими правилами ты не найдешь себе жениха здесь.
– Есть чего искать! Пусть они меня ищут. Не может быть, чтобы я никому не понравилась. Да надобно, чтобы и он мне понравился. А все-таки прежде я его хорошенько помучу: больше ценить меня будет.
– Не ошибись в расчетах, сестрица!
– Да у меня никаких расчетов нет. Буду всем показывать себя, какова я есть. Уж притворяться ни для кого не стану; буду на всех смотреть, выбирать, сравнивать. Разве это не весело? Пусть меня пересуживают! У кого совесть чиста, тот может всякому смело смотреть в глаза, не исключая и молодых мужчин, которые невесть как много о себе думают. А уж если я кому понравлюсь и увижу, что он меня стоит, потешу же я себя над ним, я его переучу по-своему. Здешние все женихи немножко на медведей похожи, а мой будет и мазурку танцевать, и играть на гитаре, и петь, и читать латинские книги, в которых я, правда, и сама толку не знаю.
– Ах ты, веселая головушка!
– Да что же, разве лучше по-твоему… грустить да задумываться? И о чем грустить тебе? У тебя уже есть жених. Илларион-то славный малый! Он всех здешних женихов за пояс заткнет. Как он мазурку танцует! Этак здешним женихам и во сне проплясать не пригрезится. Посмотрела, как они танцуют: словно глину месят!
– Как будто семейное счастье зависит от одной мазурки.
– Конечно, не зависит, но мазурка семейному счастью не мешает. Знаешь ли что, сестрица? Мне кажется, что Илларион не очень тебе нравится. Если это правда, то уступи мне его. Я тебя за это поцелую.
– Перестань, что ты за пустяки говоришь, сестра!
– Ну, скажи правду, признайся, мы здесь одни. Ты очень любишь Иллариона?
– Люблю.
– Больше всех на свете?
– Конечно.
– А что ты скажешь о Феодосии?
– Это что за вопросы? Я люблю и Феодосия, но так же, как и ты.
– Ну а он тебя так чересчур любит.
– Я думаю, так же, как и тебя.
– Нет, не так же, большая разница! Я давно за ним примечаю. Он думает, что я ветреная, что я ничего не понимаю. Нет, я гораздо догадливее, нежели он воображает. Отчего, например, со мной он говорит охотно и много, а с тобой все выбирает время говорить и более молчалив, когда ты тут?
– Перестань пустяки выдумывать. Тебе, кажется, хочется убедить меня, чтобы я уступила тебе Иллариона.
– Вот еще! Уж не упрек ли это? Не нужно мне твоего Иллариона. Я постараюсь понравиться Феодосию. Он также танцует порядочно мазурку; или найду кого-нибудь из здешних да отучу его от всего, что мне в нем не понравится, и выучу его всему, всему, что мне нравится. Он лучше Иллариона будет.
– Ах, Лидия, ты совершенное дитя! Завидую твоему веселому характеру.
– А я твоему не завидую. Ты невеста и так часто грустишь. Посмотри на меня, когда я буду невестой: грусть тогда на десять верст не осмелится ко мне подъехать.
– Дай бог, чтобы она всегда была на сто верст от тебя. Но в жизни никто не избегал печали. Так жизнь устроена!
– А я перестрою ее по-своему.
– Что ты хочешь перестроить, Лидия, – спросил Феодосий, входя в комнату, – свою светелку, что ли?
– Нет, не светелку, а жизнь.
– Как жизнь?
– Да вот, сестрица говорит, будто бы жизнь так устроена, что всегда и всем надобно печалиться, даже невестам.
– Ты, Лидия, переиначиваешь слова мои, – заметила Евгения, немного смутившись. – Надобно знать связь всего нашего разговора.
– Какую же ты мысль сказала, Евгения? – спросил Феодосий, стараясь принять шутливый и веселый вид. Между тем обе девушки заметили, что он скрывал от них сильное душевное волнение.
В это время в комнату вошел Илларион.
– Еще добрые вести из Москвы, – сказал он. – Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, которого теперь Москва на руках носит, обещал говорить обо мне царю. Он хочет сам выступить против польского короля Сигизмунда, который стоит теперь у Смоленска, не смея идти вперед и стыдясь отступать. А в Калуге, куда бежал тушинский самозванец, князь намеревается отрядить небольшое войско, чтобы уничтожить шайку злодея. Он хочет пожаловать меня в стрелецкие головы и назначить в это войско, которое по окончании похода останется в Калуге. Бог услышал мои молитвы, милая Евгения! Счастье наше недалеко.
Он поцеловал свою невесту.
– Так мы скоро и на свадьбе попируем? – вскричала Лидия, прыгая от радости. – Уж как же я мазурку протанцую – все на меня заглядятся!
– Ты побледнела, Евгения, – сказал Илларион, пристально глядя ей в глаза. – Что с тобой сделалось?
– Всякое неожиданное известие, как бы оно радостно ни было, производит на меня странное действие. Я сама себя не понимаю.
– Когда же, сестрица, ты пойдешь к венцу? – спросила Лидия, целуя Евгению.
– Я хотел тебя о том же спросить, моя милая, – сказал Илларион, взяв Евгению за обе руки и нежно глядя ей в глаза. – Поход в Калугу почти нельзя назвать походом, это, скорее, будет прогулка. На то, чтобы выгнать из города ничтожную шайку самозванца и уничтожить ее, потребуется несколько часов. Мне бы хотелось, моя милая, чтобы молодая жена моя поздравила меня с победой.
– Я в твоей воле, Илларион. Я готова ехать с тобой, куда хочешь.
– Итак, наша свадьба будет здесь, в Угличе, перед отъездом в Калугу. Ты согласно, Евгения?
– В Угличе, непременно в Угличе! – воскликнула Лидия. – Феодосию нельзя будет ехать на свадьбу к вам в Калугу, а мне и подавно. Кто же без меня невесту к венцу оденет? Кто на свадебном пиру протанцует мазурку так хорошо, как я? Без моей мазурки и свадьба будет не в свадьбу.
– Что это? У тебя слезы на глазах, Евгения? – удивился Илларион. – Я, пожалуй, подумаю, что ты выходишь замуж за немилого. Ты, кажется, совсем не рада. Скажи, ради бога, что с тобой?
– Мне пришло в голову, что я должна расстаться надолго и – кто знает, – может быть, навсегда с моей сестрицей Лидией!
– А со мной, Евгения, ты расстанешься без всякого сожаления? – спросил Феодосий, стараясь придать своему голосу шутливое выражение, но голос его от сильного внутреннего движения дрожал.
Евгения бросилась Феодосию на шею, прижалась лицом к его плечу и заплакала.
III
Илларион гулял с Евгенией по крутому берегу Волги. Разговор их переходил от предмета к предмету. Глаза Иллариона сияли восторгом, упоением счастья. Евгения также была весела. Но по временам задумчивость мелькала на ее лице. Прелестные глаза девушки опускались к земле, и если в это время какая-нибудь шутка Иллариона вызывала на ее устах улыбку, то в этой улыбке заметна была какая-то принужденность.
– Скажи мне, Евгения, отчего ты все печальна? О чем тебе теперь печалиться?
– С чего ты взял, Илларион, что я печальна?
– Ты, без сомнения, что-нибудь скрываешь от меня.
– У меня нет от тебя ничего тайного.
– Докажи мне это. Скажи мне, о чем думала ты теперь, когда так засмотрелась на струи Волги?
– Мне пришло в голову старое сравнение реки с жизнью. Я увидела вон это лебединое перо: посмотри, как быстро несет его Волга. Куда плывет оно? Где остановится? Так и мы не знаем, что будет с нами. Куда умчит нас быстрый поток жизни?
– Он умчит тебя в мои объятия. Он принесет тебя к порогу скромного, светлого домика, где ждут тебя неизменная, пламенная любовь и семейные радости, которых нет ничего выше на земле. Ах, Евгения! Ты меня не так любишь, как я тебя. Если бы ты так же любила, то так же бы и радовалась близости нашего счастья.
– Ты несправедлив, Илларион. Ты знаешь давно, что я люблю тебя; более любить я не умею. Ценю вполне мое счастье и благодарю за него Бога, но при всем том не могу защитить себя от грустных мыслей, они невольно приходят в голову. Таков уж мой характер, которому я иногда сама не рада. Я люблю вспоминать о прошедшем, ценю настоящее, умею наслаждаться им, но боюсь будущего. Я никогда не предавалась, как другие, мечтам, надеждам и пламенным желаниям. Что было, того никто не отнимет у меня; наслаждения в настоящем могла бы чувствовать живее, если бы не отравлялись они мыслью, что все на земле является на миг. О будущем я стараюсь никогда не думать. Положим, что одни радости ожидают нас впереди. Но что такое будущее? Оно – богатый запас, верная добыча для прошедшего. Чему назначено быть, тому назначено и пройти. Поэтому ожидание будущего счастья никогда меня не радует. И кто знает, придет ли еще оно?
– К чему, моя милая, так мрачно смотреть на жизнь? Много в ней горя, но много и радостей. К чему ожидать одного худого? Теперь счастье наше недалеко и, кажется, верно. Неужели и это тебя не радует?
– Я не люблю притворства, я должна быть откровенна с тобой. Я бы обманула тебя, если бы отвечала, что радует.
– Не радует… Ты меня не любишь, Евгения!
– Не обижай меня напрасным подозрением. Нет, Илларион! Я люблю тебя, очень люблю, но… говорят, что любовь дает нам полное блаженство. Сердце мое его не чувствует. Счастье мое отравляется многим, многим!
– Чем же?
– Не должна ли я расстаться, разойтись по разным дорогам жизни с Лидией, с которой росла с младенчества? А бедный Феодосий, который так много потерпел в жизни, который утратил навсегда свое счастье? Лидия не может для него заменить меня. Она слишком весело смотрит на жизнь, не примет в нем такого участия, не поймет его страданий и не сумеет облегчить их. Если я вижу, что страдает другой и что я могу помочь ему, пожертвовав своим собственным счастьем, я готова на эту жертву. Она тем для меня легче, что я не могу быть счастлива при. мысли о страданиях другого, которые я умела облегчать и которые облегчать уже не буду в силах.
– Зачем же, Евгения, ты уверяла, что любишь меня? Останься с Феодосием. Я поеду один в поход и постараюсь разлюбить, забыть тебя. О! Это слишком дорого мне будет стоить. Евгения, Евгения! Что сделала ты со мной?! Для чего давно не сказала, что меня не любишь, что меня любить не можешь?
– Ты бы стал страдать, Илларион, а я люблю тебя наравне с Феодосием – нет! Люблю тебя более, потому что теперь я необходимее для тебя, чем для него. Горесть его лишилась уже прежней силы, он может теперь обойтись без меня и найдет утешение в твердости души своей, а ты, если бы я отвергла любовь твою, ты, наверное, не перенес бы этого. Я твоя, Илларион! Но ты плачешь? Нет, нет, нет! – воскликнула она, бросаясь ему на шею и целуя его в глаза, наполненные слезами. – Я тебе не позволю плакать.
Илларион в восторге сжал ее в объятиях.
– Так ты меня любишь, Евгения?
– Ты давно уже это знаешь. Я никогда никого не обманывала.
Феодосий, облокотясь на пушку, смотрел в глубокой задумчивости с земляного вала на Волгу. Лидия, оставшись дома одна, не знала, что делать со скуки. Из окна увидев Феодосия, она вздумала взобраться к нему на вал.
– А вот и я здесь! – сказала она, запыхавшись. – Как трудно взбежать сюда: я совсем задохнулась.
– Лидия! – удивился Феодосий. – Откуда ты явилась? Что это тебе вздумалось!
– Я увидела из окна, что ты стоишь у этой пушки, повеся нос, и будто подслушиваешь: не скажет ли тебе чего пушка? Он от нее ни словечка не дождется, подумала я, и побежала сюда, чтобы поговорить с тобой. Ты, кажется, очень печален, Феодосий.
– Нимало, я только задумался.
– Нет, ты печален, и я знаю отчего.
– А отчего бы, например?
– Оттого, что Евгения скоро замуж выходит и отсюда уезжает.
– Напротив: ее счастье меня радует. Правда, что мне грустно с нею расставаться, но, я думаю, и тебе не весело.
– Да нельзя ли как сделать, чтобы они здесь остались? Ведь я пропаду с тоски. Ты всегда такой задумчивый, а без Евгении от тебя и слова никогда не добьешься. Ты будешь очень горевать, да и она также.
– Почему это?
– Потому, что она тебя любит более, чем Иллариона.
– Не говори пустяков, Лидия.
– Ну пусть я говорю пустяки, только я знаю то наверное, что ты любишь Евгению более всего на свете, она любит тебя более, чем Иллариона, а я… люблю Иллариона более, чем она. Но Илларион меня не любит – так и Бог с ним!
– Откуда все это пришло тебе в голову?
– Пришло с разных сторон через эти два окошечка, которые называются глазами и которые, говорят, очень светлы и недурны, да еще отсюда.
Она положила руку на сердце.
– Ты настоящий ребенок, Лидия!
– Хорош ребенок: девятнадцать лет.
– Я не говорю: по летам.
– Что ж, глупа я, что ли, по-твоему?.. Как бы не так!.. Видишь, ему досадно, что я догадалась о том, что он ото всех скрывает. Не беспокойся, не проведешь меня! Я давно все вижу. Глаза-то у меня не для одной красы вставлены. И уши также у девятнадцатилетнего ребеночка не для того только, чтобы будущий муж мой за какую-нибудь проказу мог иметь удовольствие выдрать меня за уши. Да я ему еще это и не позволю.
– А ты стоила бы этого, Лидия, за все твои выдумки.
– Ну, хорошо, выдери мне ухо, если ты по чистой совести уверен, что я говорю неправду. Что? Рука, видно, не поднимается?
– Я в совести уверен только в том, что ты большая проказница.
– А я уверена в том, что ты очень худо делаешь, тая ото всех нас настоящие твои чувства. Если Евгения увидит, что ты ее так любишь, то и она скрываться не станет. Может и то быть, что она теперь сама не понимает чувств своих. Илларион сначала погорюет немножко, но я его постараюсь утешить. Он наконец меня полюбит и на мне женится, все уладится как нельзя лучше, все будем довольны и счастливы.
Совет Лидии сильно взволновал Феодосия. Он с трудом мог скрыть свое волнение и не отвечал ей ни слова. Взглянув в сторону, он сказал:
– Кто это идет сюда к нам? Гонец, кажется. Откуда и какие вести привез он?
Гонец подошел и, поклонясь, подал свиток Феодосию.
– Боже мой! – вскричал он, прочитав свиток. – Какое ужасное несчастье!
– Что, что такое? – сказала, встревожась, Лидия.
– Племянник царя, князь Михаил Васильевич, скоропостижно скончался. Какая потеря для отечества! Какая радость для врагов России!
– Это тот самый князь, который хотел говорить царю об Илларионе и послать его в Калугу?
– Да, Лидия, тот самый. Боже мой, Боже мой! Смерть в такие молодые годы и в такое время! Пойдем, Лидия, домой скорее. Иди за мною, – прибавил он, обратясь к гонцу.
IV
С кончиной князя Михаила Скопина-Шуйского закатилась счастливая звезда царя Василия Иоанновича. Польский король Сигизмунд, стоявший до того времени в недоумении у Смоленска, решился действовать наступательно. Тушинский самозванец, подкрепленный Сапегою, из Калуги подступил к Москве и стал лагерем в селе Коломенском. Гетман Жолкевский, посланный Сигизмундом с небольшим отрядом навстречу русскому войску, которое шло к Смоленску под начальством брата царского, князя Димитрия Шуйского, сошелся с ним близ села Клушина и разбил его наголову, воспользовавшись изменой наемных иностранцев. Рязанский дворянин Прокопий Ляпунов поднял знамя бунта, обвиняя царя Василия и брата его Димитрия в отравлении князя Михаила, которого народ назвал отцом отечества.
Феодосий и Илларион готовились выступить с угличским полком стрельцов к Москве по присланному повелению царскому.
– Завтра на рассвете пойдем в поход, – сказал Феодосий, осматривая свое оружие.
– А когда воротитесь – Бог знает, – заметила Лидия. – Ну что мы без них станем делать, сестрица? Одна кухарка Сидоровна останется с нами – очень весело! Мне ужас как плакать хочется!
– Я бы тебе советовал, Лидия, пойти скорее в свою комнату и лечь спать, – сказал Феодосий. – Скоро уже полночь. Вы обе слишком устали сегодня, снаряжая нас в дорогу.
– Да, уснешь теперь! Посмотри, там какие тучи… вот и молния!.. Июль уже на исходе, а ни одной грозы еще не было. Зато, я думаю, сегодня ночью будет такой гром, что уж и я струшу. Уф, какой удар! Сестрица! Сестрица! Отойди от окошка.
– Я не боюсь грозы и люблю смотреть, как извивается молния.
– Затвори, по крайней мере, окошко.
– Что это, Евгения? – сказал Илларион, отводя ее от окна. – Ты, любуясь на молнию, плачешь? Перестань горевать, мой друг! Мы скоро воротимся.
В это время послышался у ворот стук, и вскоре вошел торопливо в комнату стрелецкий сотник Иванов. Незадолго до того Феодосий послал его в Москву с донесениями Стрелецкому приказу.
– Что это значит, Илья Сергеевич? – сказал удивленный Феодосий. – Для чего ты так поспешно воротился?
Иванов начал приглаживать свои седые волосы и вздохнул, не говоря ни слова.
– Что с тобой?
– Я такие вести привез из Москвы, Феодосий Петрович, что ты ни за что не поверишь мне и подумаешь, что я помешался.
– Ради бога, говори скорее, что такое?
– У нас уже нет царя!
– Боже мой! Неужели скончался?
– Нет, он жив.
– Я не понимаю тебя.
– Изменники и бунтовщики свели его с престола и насильно постригли в монахи.
– Возможно ли!
– Положено избрать царя всей землей, а до того времени государством будет править князь Федор Иванович Мстиславский с боярскою думой. Во все города отправлены грамоты об этом и крестоприводные записи. И к тебе прислана запись с приказом, чтобы ты по ней всех нас и всех угличан привел к присяге. Вот он.
В записи было сказано: «Целую крест на том: мы, дворяне, и чашники, и стольники, и стряпчие, и головы, и дети боярские, и сотники, и стрельцы, и казаки, и всякие служивые люди, и приказные, и гости, и торговые, и черные, и всякие люди всего Московского государства били челом боярам и князю Федору Ивановичу Мстиславскому с товарищами, чтобы прямили Московское государство, тока нам Бог даст государя, и крест нам на том целовать, что нам во всем их слушать и суд их всякий любить, что они кому за службу и за вину приговорят, и за Московское государство и за них стоять, и с изменниками биться до смерти, а вора, который называется царевичем Димитрием, на Московское государство не желать, и между собою, друг над другом и над недругом никакого зла не хотеть, никому не мстить, не убивать, не грабить, зла ни над кем не мыслить и ни в какую измену не вступать. А выбрать государя на Московское государство им, боярам, и всяким людям всей землей; а боярам князю Федору Ивановичу Мстиславскому с товарищами за государство стоять и нас всех праведным судом судить, и государя выбрать с нами, всякими людьми, всей землей, сославшись с городами, кого даст Бог на Московское государство. А бывшему государю царю и великому князю Василию Ивановичу всея Руси отказать и на государевом дворе не быть и впредь на государстве не сидеть, и нам над государем и над государынею и над его братьями убийства не чинить, никакого зла, а князю Димитрию да князю Ивану Шуйскому с боярами в думе не сидеть».
Феодосий, прочитав грамоту, смял ее и бросил на стол.
– Поклянусь в одном, чего требуют биться насмерть с изменниками.
– Вся Москва, Феодосий Петрович, присягнула, – сказал Иванов. – Многие города также. Что же, мы одни против всех станем делать?
– Будем делать то, к чему обязывают нас честь и совесть. Разве можно играть клятвами? Разве не клялись мы служить царю Василию Ивановичу и стоять за него до последней капли крови? Кто поручится мне, что новую клятву не нарушат завтра же, как и прежнюю? К чему это все поведет?
– А если правда, – заметил Илларион, – что на пиру князя Димитрия по воле царя был отравлен спаситель отечества, князь Михаил Васильевич?
– Пусть судит его в этом Бог, мы судить царя не вправе. Притом это одно подозрение или, еще вероятнее, клевета. Илья Сергеевич! Ты завтра поедешь с донесением моим к царю Василию Ивановичу. Я напишу, что он поручил мне Углич, что я без его повеления не сдам крепости никому на свете, что я исполню все, что он укажет, и буду ждать его царского слова.
– Ты погубишь себя и всех нас. – сказал Илларион.
– Может быть, я погибну, но никогда не погублю моей чести и совести. Пусть узнают все, что Углич остался верным царю Василию. Все преданные ему соберутся сюда. Возникнет войско, пойдет на изменников и возвратит царю престол его…
V
Иванов из Москвы написал Феодосию, что ищет случая передать его донесение царю Василию, который жил в монастыре под строгим присмотром. Время между тем текло, и тучи, одна другой темнее, всходили над нашим отечеством. Почти вся Россия присягнула сыну польского короля Владиславу, между тем как Сигизмунд замышлял присвоить Россию себе и уничтожить ее, соединив с Польшей. Гетман Жолкевский занял Москву, шведы брали русские города на северо-западе; измена, смятение, грабежи волновали все государство.
В конце октября Феодосий получил от Иванова письмо. «Дожили мы до позора! – писал он. – Русский православный царь в плену у ляхов. Наши изменники выдали Василия Ивановича гетману Жолкевскому, а тот, переодев его в простое литовское платье, повез царя к польскому королю Сигизмунду в лагерь под Смоленском».
Феодосий сдал начальство над угличской крепостью Иллариону, приказав править ею от имени царя Василия, не сдавать никому до конца, а сам, переодевшись в польскую одежду, сел на коня и поскакал в Смоленск.
Через несколько дней забелели перед ним вдали каменные башни крепости. Повсюду около стен виднелись шатры поляков, их шанцы и туры с наведенными на крепость пушками. Особенно сильны были укрепления поляков по левую сторону Копытинских ворот. Феодосий подъехал к цепи часовых, собираясь пробраться в лагерь.
– Кто идет?
Феодосий назвал польскую фамилию, первую пришедшую ему в голову, сказал, что он из Москвы послан Жолкевским в лагерь и что сам гетман вскоре прибудет сюда. Однако часовой колебался.
– Что у вас за спор? – спросил польский всадник, подъехав к Феодосию. – Кто ты такой?
Прежде чем продолжить наш рассказ, следует поподробнее объяснить, кто такой этот всадник.
Это был пан Струсь, не тот известный полковник Струсь, который во время пожара Москвы 1611 года прискакал с отрядом из Можайска на помощь полякам и впоследствии отстаивал Кремль, осажденный князем Пожарским. Последний попал в историю, вероятно, и не помышляя об этом, а первый мечтал постоянно, но не попал, хотя и стоил того по многим причинам. Он был дальний родственник полковника. Владея в Польше довольно обширным поместьем, он жил без всякого расчета. В роскоши, гостеприимстве и великолепии он не хотел отставать от первых богачей Польши и вскоре промотал все имение. Это побудило его поступить на военную службу и отправиться в поход со всей многочисленной своей дворней, которую ему было нечем кормить. Он надеялся при взятии приступом двух-трех русских богатых городов поправить свое состояние. Он хотел, сверх того, при всяком случае не упускать военной добычи и года через два думал воротиться на свою родину богаче прежнего. Главная его страсть была честолюбие. Он хотел быть выше всех на свете, мечтал попасть в вельможи и даже со временем, при благоприятных обстоятельствах, в короли.
Природа создала его трусливым и изнеженным сибаритом, но, с другой стороны, от непомерного честолюбия он так боялся прослыть трусом, что приходил от одной мысли об этом в отчаяние, которое делало его храбрым до неистовства. Естественно, что в этой насильственной храбрости не было ни постоянства, ни хладнокровия. Когда порыв отчаяния утихал, когда он был уверен, что неустрашимость его уже доказана и что можно без срама уклониться от опасности, он всегда от нее спасался, как заяц. От этого он всегда был первым в нападении и первым же, когда другие отступали или бежали.
Желание быть выше всех, не уступать никому делало его во мнениях упрямым и настойчивым до невероятности. Он готов был спорить со всяким о чем бы то ни было, хоть до драки. Занимавшись в молодости изучением польского законодательства, он употреблял в дело свои познания при спорах и так привык мнения свои подкреплять словами закона, что наконец начал большей частью выдумывать статьи и артикулы существующих или небывалых королевских повелений, статутов, конституций и сеймовых постановлений, если только спор происходил не при каком-нибудь юристе или адвокате. Иногда, разгорячась, он отчаянно спорил и с юристами, уверенный, что никто из них не может твердо помнить бесчисленного множества польских законов.
Он был чрезвычайно нетерпелив и вспыльчив. Противоречие тотчас выводило его из себя. Если он что-нибудь выдумывал, на что-нибудь решался или давал другому какой-нибудь совет, то не мог спокойно спать, не исполнив своей мысли или не принудив другого последовать его совету.
В этих случаях он целый день, а нередко и целую неделю все думал об одном и том же. Мысль, как бы сделать это, как бы доказать ему, как бы принудить его, уличить, довести ad absurdum, беспрестанно вертелась у него в голове и мучила его. От этого он был чрезвычайно рассеян, помнил малейшие подробности разговора или спора, который был за неделю, и забывал, что было им или ему сказано за минуту. Еще особенная черта его характера была та, что он легко влюблялся. Двадцать лет сряду твердил он, что в будущем месяце непременно женится, и дожил до сорока пяти лет холостяком. Однажды вздумалось ему припомнить по порядку красавиц, в которых он был страстно влюблен. Он начал их считать и не мог окончить счета. Ему самому стало смешно. Счет его остановился на семьдесят четвертой, в 1605 году, осталось еще исчислить предметы любви за пять лет и несколько месяцев.
Он был среднего роста, довольно толст и неуклюж. Воображая себя чрезвычайно ловким, он не делал ни одного движения, ни одного шага спроста, беспрестанно рисовался и становился в разные живописные позы, как будто собираясь танцевать, и крутил свои длинные усы. Глаза у него были большие, черные, густые брови с проседью находились в беспрестанном движении. Он то опускал их, то поднимал, то кривил. Орлиный нос его, довольно длинный и согнувшийся, как мелкий шляхтич перед богатым паном, старался, казалось, заглянуть в рот, который часто улыбался невпопад и потом быстро принимал, также редко впопад, важное и строгое выражение. Когда он слушал чей-нибудь рассказ, то всегда нижней губою прижимал верхнюю к носу, кивал значительно головой и делал жесты то одобрения, то осуждения, то сомнения.
Основным же, преобладающим выражением на его физиономии и вообще наружности было выражение самодовольства и гордости с легким оттенком глупости.
И вот эта самая особа подъехала к Феодосию с вопросом «кто ты такой?».
– Я шляхтич Ходзинский, – ответил Феодосий по-польски. – Приехал сюда из Москвы по поручению гетмана Жолкевского, который сюда скоро будет.
– А зачем он прибудет сюда? Мы и без него возьмем Смоленск. В храбрости мы ему не уступим.
– Он везет сюда московского царя, которого взял в плен.
– Взял в плен! Чертов хвост! Да это превосходно! Но послушай, любезный, ты, мне кажется, врешь.
– Нет, пан, я говорю правду.
– Дьявольская бомба! Царь москалей – наш пленник! Это превосходно! Да здравствует Польша!
– Вели же, вельможный пан, пропустить меня в лагерь. Я хочу записаться в какой-нибудь полк из здешних. Полкам, которые в Москве, совсем не платят жалованья.
– Хочешь ли служить под моим начальством? Я пан Струсь. Ты, я думаю, слыхал обо мне?
– Как не слыхать! Я сочту за особую честь служить у вас.
– Так поди к моему ротмистру и вели себя внести в список. Или подожди, я сам тебя запишу.
Струсь в рассеянности забыл, что он еще не полковник, а ротмистр. Он вынул из кармана бумагу и карандаш и записал вымышленное имя Феодосия.
– А сколько ты хочешь жалованья? – продолжал Струсь.
– Сколько назначите. Я торговаться не стану.
– Чертов хвост! Да ты лихой малый. Ну, иди же за мной. Я назначу, в которой тебе быть палатке. О жалованье не беспокойся, будешь мною доволен.
На другой день прибыл гетман Жолкевский. По всему лагерю разнеслась весть, что он привез взятого им в плен царя московского. Везде поднялся шумный говор, везде раздавались радостные восклицания.
Сигизмунд для большего блеска велел Жолкевскому представить ему царя Василия перед лицом всего войска. Королевская палатка стояла на холме, на некотором расстоянии от крепости, и была закрыта от выстрелов земляным валом. Перед палаткой устроили нечто наподобие трона, на котором должен был сидеть Сигизмунд, принимая Шуйского. Около трона разостлали несколько ковров, где должна была стоять королевская свита. Звук трубы подал знак войску о начале торжества.
Струсь, сопровождаемый Феодосием, которого он очень полюбил, протеснился сквозь толпу и, чтобы лучше все видеть, влез с ним на земляной вал, который находился подле королевской палатки. На валу и со всех сторон около холма и палатки стояло уже много народа.
– Желаю здравия, пан! – сказал Струсь, увидев на валу в числе зрителей своего полковника Ивана Каганского.
– Здравствуйте, ротмистр! – отвечал тот.
– Скоро ли торжество начнется? – спросил Струсь.
– Король уже приехал и теперь в палатке. Я думаю, он сейчас оттуда выйдет и сядет на трон. Как отсюда все хорошо увидим! Вал невысок, можно даже расслышать, что там внизу говорить будут.
– Дьявольская бомба! Это прелюбопытно! А вот позвольте, полковник, представить вам шляхтича Ходзинского. Он вчера записался в наш полк.
– А кто его записал? – спросил Каганский, оглядев Феодосия с ног до головы.
– Я записал.
– Кажется, следовало бы сначала представить его полковнику и потом только записывать.
– Извините, полковник, это совсем не было нужно. Ротмистр имеет полное право принять и записать кого бы то ни было.
– Извините, ротмистр, вы, я вижу, не знаете до сих пор твердо порядка.
– Я не знаю порядка? Чертов хвост! Мы в этом никому не уступим! Разве вы забыли статус Вислицкий тысяча триста сорок седьмого года? Да и в статусе короля Владислава Ягеллы тысяча четыреста двадцатого года сказано: «Ротмистр имеет право принять и записать в полк всякого желающего».
– Я не знаю ваших статусов, знаю только то, что…
– Не знаете статусов, полковник? А что говорит артикул пятнадцатый сеймового постановления тысяча пятьсот восемьдесят третьего или тысяча пятьсот восемьдесят пятого года? Не помню точно.
– Артикул этот говорит, что ротмистру не следует учить своего полковника.
– Вы, я вижу, шутите над законом и забываете, что в обычаях земли Краковской тысяча пятьсот пятого года, Consuetudines Cracovienses, постановлено на подобные случаи очень строгое правило.
– Ах, отстаньте, прошу вас, ротмистр! Вы меня задушить хотите цитатами из всех статусов, постановлений и обычаев, какие только бывали или не бывали на свете. К чему толковать с глухим о музыке?
– Стало быть, вы согласны, что ротмистр имеет право…
– Согласен, на все согласен! Тише, тише! Король вышел из палатки.
Сигизмунд сел на приготовленный трон. По правую и по левую его руку поместились главные военачальники и вельможи. Телохранители королевские встали около них полукругом. Два строя солдат, протянутые от холма до шатра, где был Жолкевский с Шуйским, образовали род улицы. Раздался звук трубы. Гетман вывел из шатра своего пленника и пошел вперед. Шуйского, одетого в великолепное платье, окружила стража и повела вслед за гетманом. Раздались по всему полю шумные восклицания: «Да здравствует король! Да здравствует Польша!»
– Вот уж царь москалей подходит к королю, – сказал Струсь, разглаживая свои усы. – Знай наших! Мы, я думаю, скоро возьмем в плен китайского императора.
– Как он бледен и печален, – заметил Каганский, глядя внимательно на Шуйского.
Феодосий дрожал. Сердце его сжалось.
«Боже! Боже! До чего дошла Россия!» – думал он, готовый зарыдать, и одна только слеза скатилась с ресниц его, но какая слеза…
Шуйского поставили перед Сигизмундом. Жолкевский сказал королю приветственную речь и поздравил его с пленным царем русским.
– Царь Василий Иванович! – сказал он в заключение, обратясь к Шуйскому. – Преклони колени и поклонись твоему победителю, могущественному и великому королю Польши.
При этих словах Шуйский гордо поднял опущенную на грудь голову, взглянул на гетмана, потом на короля и твердо произнес:
– Царь московский не кланяется королям. Судьбами Всевышнего я пленник, но взят не вашими руками, а выдан вам моими подданными-изменниками.
Феодосий готов был броситься к ногам Шуйского.
– Дьявольская бомба! – воскликнул Струсь. – Он отвечает истинно по-царски! Тем более нам чести, что у нас такой царь в плену.
VI
Наступила ночь. Шуйский, в той же одежде, в которой представлен был королю, сидел в шатре на постели, облокотясь на изголовье. На столике перед ним тускло горела свеча, стража стояла у входа.
Во всем лагере еще длился общий пир, начавшийся с утра. Вино лилось рекой. Слышались шум, крики, песни.
«Не сон ли тяжелый мне снится? – думал Шуйский. – Неужели я, царь России, в самом деле не более чем узник Сигизмунда? Нет, нет! Я в Кремле. Это мои подданные ликуют и веселятся. Да. Так веселились они, когда я сверг с престола ненавистного всем самозванца и когда они, в порыве благодарности, избрали меня царем. Бог видит, желал ли я добра им. И что они со мной сделали! За то, что я для счастья их не жалел этой седой головы, которая лежала на плахе, когда я обличал самозванца, они сорвали с нее царский венец, лишили меня свободы, постригли неволей в чернецы, предали врагам России, разлучили меня с женой… Высока, крепка ограда Суздальского монастыря: ты никогда уже не выйдешь из него, бывшая царица! Напрасно будешь плакать и рваться – в могиле одной найдешь утешение! Мы уже с тобой не увидимся в этой жизни: ты умрешь на чужих руках, я не закрою глаз твоих!.. Я сам умру, окруженный врагами, на чужой стороне!
Где же мои угодники, мои льстецы? Что не идете по-прежнему кланяться мне, выпрашивать у меня милостей? Я не нужен вам более!.. Я скоро умру, и все позабудут меня. Все изменили мне, все меня возненавидели! И за что? Что я сделал им? Но, может быть, есть люди, которые втайне жалеют меня. Станут жалеть многие, когда будут страдать под игом Сигизмунда. Боже! Спаси Россию, защити от врагов ее!
Польский шатер прикрывает меня от ночного холода. Теперь две сажени земли – все мои владения. Давно ли шатер мой был свод небесный, который раскидывался над обширным царством русским? Все изменили мне, все возненавидели! Это ужасно!»
– Что надобно тебе? – спросил он, увидев человека, осторожно вошедшего в шатер.
Феодосий бросился на колени перед пленным царем.
– Кто ты? – удивленно спросил Шуйский, приподнявшись.
– Верный подданный вашего царского величества.
– У меня уже нет подданных.
– Есть многие, которые готовы умереть за тебя и за счастье отечества.
– Они должны теперь ждать счастья от Сигизмунда.
– Сигизмунда ждут русские сабли! Я стрелецкий голова Алмазов, начальник угличской крепости. Все стрельцы моего полка преданы вашему царскому величеству. Я во все стороны разошлю гонцов и буду звать всех к Угличу для защиты царя и отечества. Соберутся тысячи. Многие уже теперь видят, что, присягнув королевичу Владиславу, они его никогда не дождутся и что сам Сигизмунд хочет для себя поработить Россию и присоединить ее к Польше. На тебя, государь, одна надежда. Ты законный русский царь! Спасись отсюда из рук врагов, укройся в Угличе. Когда на стенах его разовьется твое знамя, бесчисленная рать соберется, пойдет ударить на полки Сигизмунда и с торжеством введет тебя в Москву.
– Благодарю тебя за твое усердие, за твои добрые желания, но они сбыться не могут. Как спасусь я отсюда?
– Теперь ночь. Стражи твои после пира уснули мертвым сном. Я вошел сюда свободно. И все в лагере теперь или спят, или пируют как безумные. Я проведу тебя, государь!
– Но если меня схватят?.. Нет, нет, я не унижу себя побегом. И куда бежать мне? К моим изменникам подданным? Они выдали меня Сигизмунду… пусть они и отнимут меня у него, если я еще нужен для отечества. Я не боюсь ни плена, ни страданий, ни самой смерти и в плену докажу, что я… достоин был царствовать.
В это время красное сияние факелов сквозь распахнувшийся занавес осветило внутренность шатра. Послышались шумные разговоры, и пань Струсь с несколькими приятелями вошел в шатер. Видно было, что все они в течение дня пировали очень усердно.
– А где тут царь москалей? – провозгласил Струсь, озираясь. – Который из вас царь? Здесь я вижу четырех человек.
У пана двоилось в глазах.
– В ту ли мы палатку вошли? – заметил другой ротмистр.
– Светите, дурачье, хорошенько! – крикнул Струсь двум солдатам, державшим факелы. – Я ничего не вижу. Мне хочется поближе рассмотреть царя москалей.
– Что надобно вам? – сказал Шуйский. – Я царь русский. Неужели король позволяет оскорблять пленников и лишать даже сна, последней их отрады?
Струсь, глядя мутными, неподвижными глазами на сверкающие глаза Шуйского, невольно снял шапку.
– Сигизмунд, – отвечал он прилипающим языком, – король то есть, Сигизмунд не спит теперь сам и прислал всех нас засвидетельствовать вам свое почтение и пожелать спокойной ночи.
– После такого дня мне нужна спокойная ночь. Оставьте меня. Что же вы стоите? Я прошу, я требую, чтобы никто меня не смел тревожить в моей палатке.
– Иди же, пан! – сказал Феодосий.
– А ты кто такой? Не тушинский ли самозванец? Что ты мне приказываешь? Ба! Дьявольская бомба! Если глаза меня не обманывают, это шляхтич Ходзинский, мой завербованный. А знаешь ли ты, несчастный, что, по силе артикула семнадцатого обычаев Краковской земли тысяча шестьсот шестьдесят восьмого года, я имею полное право дать тебе оплеуху? Ты этого не знаешь?
Он замахнулся.
– Не забудь, пан, – сказал Феодосий, – что в силу следующего, восемнадцатого артикула я должен буду возвратить тебе оплеуху, а потом разрубить тебе голову. Поди же скорее отсюда со всеми твоими приятелями.
– Ты врешь, в артикуле восемнадцатом сказано, что данная оплеуха ни под каким видом возвращена быть не может, что разрубить мне голову никак нельзя и что я имею полное право оставаться в этой палатке сколько мне будет угодно.
– Возьмем его лучше под стражу, – сказал один из приятелей Струся. – Как он смеет нам грубить!
– Оставь меня и спасайся! – шепнул Шуйский Феодосию.
– И откуда взялся здесь этот Ходзинский? – продолжал Струсь. – Его с нами не было.
– Спасайся, я тебе приказываю! – повторил тихо Шуйский. – Прощай! Я тебя всегда буду помнить. Не забудь прежнего царя своего.
– Поспешу в Углич, – сказал Феодосий, – и там напомню о себе вашему царскому величеству.
– Куда, куда, Ходзинский? – сказал спокойно Струсь, стоя на одном месте. – Мы тебя берем под стражу. Стой!.. Но он, кажется, ушел? Он этим поступком нарушил все статусы, конституции и сеймовые постановления! Его надобно повесить! Пойдем повесим его!
Вся ватага, пошатываясь, вышла из палатки.
Феодосий между тем сел на коня своего, который стоял невдалеке.
– Посмотри, пан, он уже на лошади! – сказал Струсю один из его приятелей.
– Как на лошади?! Дьявольская бомба! Мошенник Ходзинский! Ты с ума сошел! Куда ты едешь? Слезь с лошади, сейчас же слезь, нам надобно тебя повесить.
– Прощай, пан, – закричал Феодосий. – На прощанье скажу тебе, что я не Ходзинский, а русский стрелецкий голова Алмазов, начальник угличской крепости. Милости просим ко мне в гости!..
– Лови, держи! – закричали паны диким хором, брянча саблями.
– Дьявольская голова! – воскликнул Струсь. – Кто бы мог подумать, что это не Ходзинский, а русская стрелецкая бомба!
Несколько пьяных солдат, лежавших на земле, услышав шум, перевернулись с одного бока на другой.
Феодосий ускакал.
VII
– Как рад я, что ты возвратился, – говорил Илларион Феодосию. – Я без тебя был в большом затруднении. Все наши стрельцы хотели последовать примеру других городов и присягнуть Владиславу. Я с трудом удержал их и упросил подождать твоего возвращения.
– Кто внушил им эту мысль?
– Проезжал через наш город стольник Бахтеяров с грамотой боярской думы. Он прочитал ее стрельцам и жителям.
– Зачем же ты допустил его читать?
– Я не имел возможности остановить его. Он был у обедни. Выйдя из церкви на площадь и собрав около себя толпу, он начал читать грамоту, в которой содержалось увещание присягнуть скорее Владиславу. Остановить его значило бы возбудить еще большее любопытство и волнение в умах.
– Справедливо.
– Бахтеяров зашел потом ко мне и долго разговаривал со мной. Узнав, что мы держимся стороны царя Василия Ивановича, он предлагал мне, именем начальника Стрелецкого приказа, твое место и, сверх того, поместье в награду, если я наших стрельцов и жителей Углича приведу к присяге на верность польскому королевичу. Я с трудом убедил всех подождать тебя.
Феодосий обнял Иллариона.
Созвав стрельцов на площадь, Феодосий вышел к ним с Илларионом. Они встретили его громкими восклицаниями, как давно любимого начальника.
– Я слышал, друзья мои, что вы колеблетесь в верности вашей царю Василию Ивановичу и хотите присягнуть польскому королевичу!
Сотник Иванов выступил вперед и сказал:
– Я уполномочен говорить тебе, Феодосий Петрович, от лица всего нашего полка. Царь Василий Иванович сведен с престола и взят в плен. Королевичу Владиславу присягнула Москва и все остальные города, – для чего же нам одним держаться старой присяги? Если королевич Владислав избран в цари Москвою и всеми городами, то нас сочтут возмутителями и принудят присягнуть новому царю.
– А не клялись ли вы перед Богом стоять за царя Василия Ивановича до последней капли крови?
– Конечно, клялись. Но что же делать, если он лишен царского венца и взят в плен?
– Но справедливо ли поступили те, которые свели его с престола и предали в руки врагов?
– Говорят, что сам царь Василий Иванович в этом виноват: он отравил своего племянника.
– Это клевета, одно подозрение. А по одному подозрению нельзя обвинять не только царя, но и последнего из подданных.
– Он втайне велел убить и утопить более двух тысяч невинных людей.
– Я вам прочитаю грамоту святейшего патриарха, которую он разослал по Москве и во все города, когда изменники восстали против царя. Слушайте: «Во имя Бога нашего, которым живем, движемся и существуем, по воле которого цари царствуют и сильные содержат землю. Я, смиренный Ермоген, Божию милостью патриарх Москвы и всей России, напоминаю о себе вам, бывшим православным христианам, которых ныне не знаю, как и назвать. Оставив свет, вы обратились к тьме, отступили от Бога, возненавидели правду, отпали от Церкви и изменили Богом венчанному царю, вами самими избранному. Разве не знаете вы, что Всевышний владеет царствами человеческими и дает их, кому хочет? Преступив крестное целование и молитвы, вы, бывшие свободными, волею поработились иноземцам. У меня недостает слов! Сердце мое терзается! Пощадите, братья и дети, души свои! Вразумитесь и восстаньте! Вы видите, что отечество наше разоряется иноплеменниками, льется кровь невинных, вопиющая к Богу! На кого вы поднимаете оружие? Не на своих ли братьев единоплеменных? Не свое ли отечество разоряете? Мятежелюбные иудеи, в сороковой год по воскресении Спасителя, изгнали царя своего Ирода Агриппу, избрали другого и погибли от междоусобий. Пришли римляне, разорили Иерусалим и предали все огню и мечу. Того ли хотите вы? Да пощадит нас Господь! Он рек: не бойся, малое Мое стадо, хоть много волн и грозит потопление, но не погибнут стоящие на камне веры и правды. Пусть море пенится и бушует: сохранит Господь уповающих на Него. Заклинаю вас именем Бога и Спасителя нашего отстать от вашего начинания. Мы будем молить Всевышнего, чтобы отпустил вины ваши; будем просить государя о даровании вам прощения: он милостив и незлопамятен. Он простил тех, которые в сыропустную субботу восстали на него и говорили ему ложные и грубые слова. Если же дойдет до брани, то знайте, что убитых с нашей стороны ожидает вечное блаженство, с вашей – вечные муки. Мы будем плакать о них: они братья наши. Но вам есть еще время обратиться. Можете обращением вашим подвигнуть Небеса на веселие. Если радость бывает на Небесах об одном грешнике кающемся, то какая же радость будет там о тьмах христианского народа? Восставшие на царя забыли, что царь Божьим изволением, а не сам собою принял царство и что всякая власть от Бога дается. Они забыли, что царь освободил нас от самозванца и спас веру нашу и всех нас от погибели. «Он велит втайне убивать, – говорили они о царе, – и бросать в воду дворян, детей боярских, жен и детей их, и погубил уже более двух тысяч». Мы удивились словам их и спросили: когда и кто погиб таким образом? Они не могли назвать из двух тысяч ни одного по имени, и лживость обвинения их явно обнаружилась. Они стали потом читать грамоту, присланную русскими из литовских полков. В ней было сказано, что князя Василия Шуйского одна Москва выбрала на царство, а другие города о том и не знали, что за него кровь льется, земля в волнении, что надобно избрать нового царя. Мы возразили, что доныне никакой город Москве не указывал, а указывала Москва всем городам, что царь Василий Иванович избран всею Россией, всеми властями и чинами, что при его избрании были люди из всех городов русских. Но вы, забыв крестное целование, хотите свести его с престола. Вас, восставших, немного. Россия же не знает этого и не хочет. Мы сами с вами не соглашаемся. Итак, вы восстаете против Бога и воли всего народа. Мы же молим Всевышнего, что Он на многие годы сохранил на престоле возлюбленного им царя. Предки наши не только не впускали в Московское царство врагов, но сами летали, как орлы, в отдаленные страны, на берега морей, и все покоряли царю московскому. Последуйте примеру предков ваших, возвратитесь на путь правды, восстаньте за Церковь, царя и отечество. Мы с радостью и любовью примем вас, и все прошедшее предадим забвению – и настанет в русском царстве мир, покой и благоденствие!»
– Вот что писал святейший патриарх, – сказал Феодосий. – Объявите мне теперь, хотите ли присягнуть Владиславу или, лучше сказать, Сигизмунду? Он не даст нам сына, а его именем хочет завладеть царством русским.
– Да здравствует царь Василий Иванович! – воскликнули стрельцы. – Умрем за него, положим за веру, царя и родину наши головы!..
VIII
Феодосий разослал по разным городам грамоты, призывая в Углич всех преданных царю Василию. Между тем Сигизмунд посылал в Москву повеления боярской думы, раздавал места, награждал поместьями, одним словом, начинал царствовать в России, маня всех неискренним обещанием пожаловать русским в цари Владислава.
– Боже мой! Боже мой! – говорила Лидия Евгении. – Когда кончатся эти смутные, несчастные времена? Я, конечно, не понимаю хорошенько, в чем дело, но замечаю, однако же, что все идет очень плохо; у всех такие постные лица. Впрочем, не от того ли это, что завтра наступает Великий пост? Не говорил ли чего тебе, сестрица, Феодосий о делах? Как они идут? Мне он ничего не объясняет, я уже несколько раз его спрашивала.
– Да, Лидия. Мы живем во времена незавидные. Царь наш в плену, ты, я думаю, это знаешь?
– Слышала об этом. Впрочем, ему в Польше будет веселее жить, чем здесь. Помнишь ли, как мы там веселились?
– Ах ты, глупенькая! Ты по себе судишь.
– До почему же ему там не повеселиться, пока его не отобьют у поляков? Феодосий ведь говорил, что русские во что бы то ни стало освободят царя. О чем же ему горевать?
– Сколько крови должно пролиться из-за этого! Долго еще ждать нам счастливых, радостных дней!
– У тебя все печальные мысли. Оставим этот разговор. Скажи лучше, скоро ли твоя свадьба?
– Теперь не то время, чтобы об этом думать.
– Как не то? Ах, да, я и забыла, что завтра наступает Великий пост.
– Пост и пройдет, но свадьбы моей ты не дождешься. Вероятно, Илларион и Феодосий не будут уже тогда в Угличе.
– Да где же они будут?
– В походе.
– Ну вот, опять поход! Только и слышишь про походы! Как они мне надоели!
– Что делать, Лидия. Будем молиться Богу, чтобы послал скорее России мир и тишину.
– А знаешь ли что, сестрица? Где мы будем завтракать и есть блины сегодня? Отгадай.
– В большой нашей комнате, я думаю. Где же нам завтракать?
– Нет, ты не отгадала. Какой чудесный вид оттуда на Волгу и во все стороны! Я думаю, оттуда верст на десять все кругом видно, как на блюдечке.
– Я не понимаю тебя.
– Видишь ли ты эту угловую башню, к которой примыкает этот вал, а с другой стороны каменная стена?
– Вижу.
– Мы в этой башне будем завтракать.
– Как же это?
– Уверяю тебя. Феодосий любит ходить по стене и по валу и смотреть на свои любезные пушки. Верно, и теперь он там бродит с Илларионом. Я и вздумала зазвать их в башню и удивить неожиданным завтраком. Надобно же стараться развеселить их чем-нибудь: они оба все такие грустные.
– Проказница! Как же ты это придумала? Как тебя часовой пропустил на башню?
– Меня-то не пропустить – сестру начальника крепости! Он было в самом деле не пускал нас туда, то есть, меня и кухарку нашу, Сидоровну, но я так на него крикнула, что он совсем струсил. «Как ты смеешь, негодный, нас останавливать, – сказала я ему, – если нас послал твой начальник? Разве ты не знаешь, что я его сестра?»
– Что же там делает теперь Сидоровна?
– Да, я думаю, уже блины печет.
– Блины печь в крепостной башне! – сказала Евгения, засмеявшись. – Чего только тебе не придет в голову! Феодосий, верно, расхохочется.
– А мне это и нужно. Пусть он хоть ради масленицы посмеется с Илларионом. Мне уже наскучило смотреть на их нахмуренные брови. Я, право, даже забыла, какая у них улыбка и кто из них приятнее улыбается.
– Но, кажется, мы останемся без блинов. Где их печь в башне?
– Мы с Сидоровной нашли там какую-то дрянную печку в маленькой комнате с четырьмя узкими окошками. Часовой сказал нам, что в этой печке в старину ядра калили. А мы будем в ней блины печь. Сидоровна уже принесла вязанку дров и развела огонь. Вон, посмотри, какой там дым идет из башни. Пойдем же, сестрица, отыщем Феодосия с Илларионом и заманим их к нашему завтраку.
Они вышли из дому. Феодосий в самом деле ходил по валу с Илларионом. С ними был еще их близкий знакомый, угличский торговый человек Алексей Матвеевич Горов, седой, почтенный старик.
В то время, когда Евгения и Лидия подошли к ним, Горов, большой охотник до пословиц, отвечая на что-то сказанное Феодосием, кивнул печально головой и сказал:
– Да, да, Феодосий Петрович! Видим мы и сами, что кривы наши сани. Но унывать не надобно. Голенький ох, а за голенького Бог. Может быть, и подойдет к тебе еще подмога.
– Неужели в самом деле суждено нашей родине быть под игом Сигизмунда? – сказал Илларион. – Быть не может! Русские не потерпят этого. Думный дворянин Ляпунов, как слышно, собирает в Рязани сильное войско и хочет идти к Москве, чтобы освободить ее от поляков и приступить к избранию царя всею русскою землею.
– Дай Господи, чтобы это была правда, – примолвил Горов. – Сейчас ничему хорошему не веришь – такие времена!
– Что это? – воскликнул Феодосий. – Посмотрите, какой-то дым вьется около башни. Что там могло загореться?
– Батюшки мои! – отозвался Горов. – И впрямь на пожар похоже!
Все поспешили к башне.
– Это не пожар, – сказала Лидия. – Ты напрасно беспокоишься, Феодосий.
– Что же это, по-твоему?
– Это… так, просто дым идет, но пожара никакого нет. Я тебе в этом головой ручаюсь. Да не спеши ты так! Посмотри, мы с Евгенией совсем запыхались. К чему такая спешка! Поверь, это не пожар.
– Как тебе не поверить.
Все вошли в башню и по узкой лестнице поднялись в верхнюю небольшую комнату. Там был накрыт маленький столик, на котором стояли завтрак, большая кружка наливки и несколько серебряных чарок.
– Что это такое? – удивленно спросил Феодосий, осматриваясь.
– Блины готовы, матушка! – отрапортовала Сидоровна Лидии. – Кажется, хорошо получились.
Все засмеялись.
– Что за проказница! – продолжал Феодосий, нежно потрепав Лидию по щеке.
Сели завтракать. Несколько чарок наливки разогнали мрачные мысли мужчин. Как лучи солнца, проникавшие сквозь узкое окно в темную комнату башни, засияла в их душах надежда. Давно уже не были они так веселы.
– Все перемелется, мука будет! – говорил Горов, наливая чарку и любуясь переливами темно-красной наливки на золотой внутренности сосуда. – Слышно, что рязанцы, туляки, калужцы, нижегородцы, новгородцы крепко пошевеливаются. Сигизмунду несдобровать! Царя нашего выручим из плена…
– Москва между тем во власти поляков! – вздохнул Феодосий.
– Не надолго! – продолжал Горов. – Я был там недавно. Что за кутерьма там! Толку не добьешься! Истинно, не знаешь, чего хотят. Один стоит горой за Владислава, другой – за Сигизмунда, третий – за пленного царя, четвертый кричит громче всех, а сам не знает о чем. Бояре не доверяют полякам, поляки боярам, и никто дела не делает. Выходит, как говорят старые люди, боярин повару не верит, сам по воду ходит.
– Что это за войско направляется сюда? – вдруг сказал вполголоса Феодосий, глядя в окно башни. – Вон там, вдали.
– Наверное, полки идут к тебе на подмогу, – заметил Горов. – А ты горевал, что все забыли пленного царя.
– Посмотри, Феодосий, – сказал Илларион, – с того холма пушки съезжают. Кажется, глаза меня не обманывают?
– Точно, пушки.
Лидия и Евгения смотрели в другое окно, на Волгу, и любовались, как с ледяной горы мелькали по льду, мимо башни, санки катающихся.
Вдруг отворилась дверь, и вошел сотник Иванов с тревогой на лице.
– Что скажешь? – спросил Феодосий.
– Сюда идут поляки, – ответил тот шепотом.
– С какой стороны?
– Я был на другом конце крепости и там с башни их увидел.
– Стало быть, они идут с двух сторон. Но поляки ли это? Пошли нескольких гонцов в разные стороны, а между тем вели всем стрельцам быть готовыми и заряжать пушки. Не забудь запереть все ворота и поднять мосты. Дай знать гуляющим теперь за городом и жителям предместий, чтобы все скорее шли в крепость.
Евгения и Лидия ничего не слышали из этого разговора, продолжая смотреть на Волгу.
– Посмотри, посмотри, сестрица! – сказала Лидия, захохотав. – Как этот толстяк свалился с санок и перевернулся. Бедняжка попал головой прямо в сугроб. Слышишь ли, как все там на льду хохочут? А вот поплыли на большом лубке две купчихи. Как они только лед не проломят! Ну и они завертелись… а вот и свалились. Пойдем, сестрица, покатаемся.
– Давай, если хочешь. А ты не боишься упасть в снег?
– Я съеду не хуже вон того молодца в бархатной шапке, который сейчас так быстро катится, будто птица летит. Может, невеста на него смотрит, а он думает: пусть она любуется своим суженым.
– Батюшки-святы! – говорил Горов. – Беда неминуемая: их, окаянных, много сюда идет, и пушек у них достаточно. Помилуй нас, грешных, Господи!
– Что ты испугался, Алексей Матвеевич, – сказал Феодосий вполголоса. – Хоть бы их было вдвое больше, крепость нелегко взять. Я тебе в этом ручаюсь. Успокойся!
– Да ведь они и с другой стороны идут.
– Ну что же такого, защитимся. Да перестань же вздыхать, ты перепугаешь…
Он тихонько указал на Евгению и Лидию.
– Позволь нам с сестрицей на горе покататься, – сказала Лидия Феодосию. – Как весело птицей летать по льду! Ты уж, верно, с нами не пойдешь. Нас бы туда Илларион проводил.
– Что случилось? – закричала вдруг Евгения, продолжая смотреть в окно. – Все там на льду как будто испугались чего-то. Все бегут, крестятся, машут руками. Странно! Что их вдруг так встревожило?
– Они услышали, что сюда идет ничтожный отряд поляков, – сказал Феодосий. – Есть чего пугаться!
– Боже мой! – в один голос вскрикнули Евгения и Лидия.
– Только не пугайтесь! – продолжал Феодосий. – Это к вам не относится. Они еще далеко, и мы успеем покататься на горе. Пойдем, Лидия, ты ведь хотела кататься.
– Нет, нет, ни за что!
– Ну, может, ты пойдешь со мной, Евгения?
– Не ходи, не ходи, сестрица! Поляки тебя изрубят!
– Станут они рубить таких хорошеньких девушек! Они, скорее, протанцуют с вами мазурку. Но сначала мы с Илларионом заставим танцевать незваных гостей и проводим отсюда. Так ли, Илларион?
– Без сомнения. Крепость нашу взять нелегко. Не бойся, моя милая! – прибавил он, взяв Евгению за руку. – Ты дрожишь? Ах, стыд какой!
– Я боюсь не за себя, Илларион. Мне страшно за тебя… и за Феодосия.
– А мне и за себя и за всех страшно, – сказала Лидия чуть не плача. – Проклятые эти поляки! Кто их просил сюда приходить!
В это время Сидоровна, стоявшая безмолвно у печки со сложенными руками, поняла наконец, в чем дело, и подняла такой плач с причитаниями, что и Горов, ободренный Феодосием, опять завздыхал и заохал.
– Пойдем домой скорее, – сказал Феодосий Евгении и Лидии. – Ох вы, зайчики пугливые! Да замолчи, ради бога, Сидоровна!
IX
– Вот и Углич! – говорил Струсь полковнику Каганскому, указывая на крепость.
– На стенах у пушек курятся фитили, – заметил тот. – Видно, готовы к обороне. Мы здесь, за этими холмами, остановимся, пока ставят туры и готовят укрепления для осады. Между тем надобно занять все дороги и окружить крепость со всех сторон.
Он слез с лошади. Струсь последовал его примеру. К ним подошли другие ротмистры и офицеры.
– Прикажите солдатам ставить палатки. Вот здесь будет главная моя квартира, – продолжал Каганский, указывая на деревянный дом, стоявший у подножия холма возле дороги. – А не худо, господа, позавтракать. Я, признаюсь, проголодался. После завтрака составим план осады. Держите наготове карту крепости.
Пан Струсь отдал приказ о завтраке. Каганский в сопровождении офицеров вошел в дом, где не было ни души. Жильцы разбежались. Двери были прикрыты, сундуки распахнуты. Что было возможно унести, все унесено.
– Видно, эта красавица бежала отсюда не помня себя от страха, – сказал Струсь, поднимая концом сабли с пола шелковую фату и женский башмак, вышитый серебром. – Она все свои наряды впопыхах растеряла. А, вот и завтрак несут. Сюда, сюда ставьте, на этот большой стол. Я начну, полковник, и пью за здоровье бежавшей красавицы из ее башмачка.
– Ну, воля ваша, я из этого башмака пить не стану. Может быть, его обронила с ноги какая-нибудь старая ведьма.
– Быть не может! – возразил Струсь. – Я знаток в этом деле. Чертов хвост! Такой маленькой, хорошенькой ножки не может быть у старой ведьмы. По башмаку я вижу, что она красавица из красавиц. Милочка!
Вместе с этим нежным восклицанием он поцеловал концы сложенных своих пяти пальцев.
– Уж вы, пан Струсь, кажется, в нее влюбились?
– Почти так. Она, верно, убежала в крепость. Дьявольская бомба! Тем храбрее я буду драться при осаде, отыщу ее в крепости и возвращу ей башмаки и фату, а за это велю себя поцеловать двенадцать раз кряду… Какой удивительный соус! Это, кажется, цыплята? Наш полковой повар – лихой малый! Однако же соус не худо запить. Ваше здоровье, полковник!
После завтрака Струсь пошел осматривать все комнаты дома. В верхней светлице он увидел кровать с периной, нашел гребень на окошке и под кроватью женский чулок. Он развалился на перине и начал расчесывать гребнем свои усы.
– Что это вы, пан! – сказал Каганский, входя с несколькими офицерами в светлицу. – Вы уже спать хотите?
– Нет, полковник! Это постель моей красавицы. Здесь недавно лежала она, а теперь лежу я. Какое блаженство! Что может быть лучше войны! Воин везде гость и хозяин. Все ему позволено, все возможно.
– Возможно даже поваляться на чужой перине – удивительное счастье! Однако же не пора ли нам начать совет? Времени терять не для чего.
– Я готов, – сказал Струсь, спрыгивая с кровати.
Все спустились вниз и сели к тому самому столу, на котором перед этим завтракали, составив с него на окошко посуду и пустые бутылки.
– Вот, господа, план крепости. Войск в ней около трех тысяч. Съестных и боевых припасов не может быть много, потому что не ждали нас. Что лучше: долговременная осада или штурм?
– Штурм, непременно штурм! – воскликнул Струсь.
– А почему? Впрочем, позвольте, ротмистр, сначала высказаться младшим офицерам.
– Пусть говорят, что хотят, а я говорю – штурм!
Другие ротмистры и офицеры начали высказывать свое мнение. Струсь перебивал всех и твердил: штурм.
– Да позвольте, ротмистр…
– Ничего не позволяю и слушать ничего не хочу. Штурм, с подкопами и с позволением солдатам воспользоваться военной добычей после взятия крепости.
– А я думаю иначе, – сказал Каганский. – Долговременная осада вернее поведет к цели и с меньшей потерей людей. Притом грабить жителей – значит ожесточать их против нашего короля. Это было бы противно его видам.
– А долговременная осада, – возразил горячо Струсь, – противна пятьдесят третьему артикулу королевского универсала тысяча четыреста девяносто второго года и конституции тысяча пятьсот девяносто восьмого года, известной под названием «Прусская корректура». В этих законах принято считать того трусом, кто предпочитает долговременную осаду штурму.
– Считать трусом? Не советую, ротмистр, повторять вами сказанного.
– Трусом, трусом!
– Вы сами, ротмистр, трус! – закричал взбешенный Каганский. – Прошу вас покинуть наш совет! Мы без вас все решим. Вы не даете никому слова сказать. Прошу вас выйти в другую комнату!
– Не угодно ли вместе с вами! Мы можем там разобраться на саблях.
– Вы вызываете меня, вашего начальника, на дуэль в военное время? Знаете ли вы, что за это определено законом? Одумайтесь и, прошу вас, идите в другую комнату, а не то…
– Хорошо, я выйду, – сказал оробевший Струсь, – но не соглашусь ни за что на долговременную осаду.
Лишь только Каганский успокоился и начал рассуждать с офицерами, Струсь отворил дверь и опять вошел в комнату. Каганский вне себя вскочил:
– Вы издеваетесь надо мной!
– Позвольте, полковник, не горячитесь понапрасну. Я сейчас опять выйду. А появился я здесь затем, чтобы напомнить вам и господам офицерам, что двадцать шестым пунктом сеймового постановления тысяча пятьсот двадцать первого года предписано не считать трусом того, кто, заспорив с начальником, уступит ему и выйдет из комнаты. Я только хотел напомнить вам об этом законе, который исполняю и потому выхожу. Но, будьте уверены, что не из робости. Дьявольская бомба! Я самого черта не испугаюсь.
Сказав это, он вышел. Каганский пожал плечами, а все офицеры засмеялись.
Совет решил: обложив крепость, вступить в переговоры с осажденными. Потом, если они не сдадутся и не согласятся признать себя подданными короля, начать штурм ночью. Но в случае сильного сопротивления или неудачи отступить и начать долговременную осаду.
Все встали со своих мест. Струсь, услышав шум отодвигаемых от стола скамеек, догадался, что совет закончился, и вошел в комнату.
– Чем решено дело, полковник? – спросил он.
– Решились на долговременную осаду.
– Помилуйте!..
Он засыпал полковника пунктами сеймовых постановлений и артикулами статусов, доказывая, что должно начать дело штурмом и позволить войску воспользоваться военной добычей. Надобно вспомнить, что промотавшийся Струсь, как было уже сказано, отправился в поход со всей своей голодной дворней единственно для того, чтобы добычей поправить свое состояние и разбогатеть. Эта главная мысль произвела в нем обычный его припадок рассеянности, и он, продолжая спорить и даже угрожать полковнику, хотел выйти с видом оскорбленного достоинства из комнаты, подошел к окну, взял вместо своего шишака круглую оловянную крышку от соусника, которая имела с его шишаком некоторое сходство, и надел ее на голову. Остановившись в дверях и оборотясь к Каганскому, он оперся на свою саблю и принял положение, которое воображал важным и величественным.
– Если вы после этого не убеждены… – начал он.
Каганский и все офицеры покатились со смеху – настолько Струсь был уморителен. Этот общий взрыв хохота смутил его.
– Что вы находите во мне смешного, господа? – сказал он, нахмурив брови и стараясь придать своему положению еще больше важности и достоинства.
– Посмотрите, ротмистр, что у вас на голове, – сказал Каганский.
Струсь торопливо снял свой оловянный шлем и уронил его на пол от смущения.
– Чертов хвост!
Больше он ничего сказать не мог, схватил свой настоящий шишак и убежал. Два дня нигде его не могли отыскать. На третий он явился с принужденной улыбкой на лице и чуть было не придумал артикул сеймового постановления, которым строго запрещалось в военное время находить что-нибудь смешное в металлической крышке соусника, надетой кем-либо на голову вместо шишака.
X
На колокольне Преображенской соборной церкви раздался звон колокола, и жители Углича собрались на площадь, которая окружала храм. На церковной паперти стоял Феодосий и держал в руке бумагу. Все смотрели на него и в молчании, с беспокойством на лице, ожидали, что он скажет.
– Начальник неприятельского войска, – начал Феодосий, – прислал мне грамоту. Я созвал вас, дорогие сограждане, чтобы прочитать вам ее и посоветоваться с вами, что ответить ему. Вот его грамота: «Преименитый и Богом спасаемый город Углич! Почтенному господину стрелецкому атаману Феодосию Алмазову со всеми гражданами здравствовать! Повелением великого государя Литовского, Божьей милостью короля польского, я, пан Каганский, до вас эту грамоту посылаю, чтобы уверить вас, что жителям города никакой обиды сделано не будет. Государь король, по закону христианин, городов разорять не повелевает, но сами города созидает, чтобы в них вера христианская умножалась, а не оскудевала. Он под клятвою запретил своим воинам разорять города христианские. Неужели вы, забыв страх Божий, захотите кровопролития? Король послал нас сюда не с войной. Он желает только, чтобы вы, как подданные его, присягнули ему в верности. Вам известно, что бывший царь ваш лишился престола и что царство его поручено Богом нашему королю. Если вы захотите упорствовать, то я принужден буду, против желания моего, пойти на вас. Я сам христианин и желал бы от всего сердца избежать кровопролития и разорения города. Живите в нем спокойно, свободно исповедуя русскую веру свою, спокойно владея своим имуществом. Сдайте город добровольно, отпустите стрельцов, окажите послушание королю, какое прежнему царю оказывали. Под его властью живите счастливо, моля Бога за короля, который будет награждать достойных из вас почестями и оказывать всем милость и покровительство. Если не сдадитесь, то не я дам Богу ответ за пролитие крови христианской и за гибель города: да взышет Бог эту кровь на вас в день последнего суда!»
– Что скажете на это вы, дорогие сограждане?
Поднялся общий шум. Вся площадь заволновалась. «Не хотим короля! – кричали тысячи голосов. – Не боимся угроз его! Не верим льстивым словам неприятелей! Умрем, по крестному целованию, за царя Василия Ивановича! Отстоим город святого царевича Димитрия!»
– Мы все вооружимся, Феодосий Петрович! – сказал Горов. – Что они думают, эти нечестивые литовцы! Собором и черта поборем, говорят старые люди.
Феодосий послал Каганскому краткий ответ. «Жители Углича не хотят и слушать о короле. Хотя царь наш попущением Божьим в руках ваших, но мы не изменим ему, до последней капли крови будем защищаться. Возьми крепость, если можешь, и знай, что рассыплешь ее твердые стены и башни скорее, чем поколеблешь в нас верность царю и любовь к отечеству».
Каганский собрал опять совет. Когда прочитали письмо Феодосия, пан Струсь первый закричал: «Штурм, сейчас же штурм, и никому пощады!»
– Не горячитесь так, ротмистр! – сказал полковник. – Это следует обдумать.
– Не намерены ли вы после такого оскорбления начать долговременную осаду?
– Нет. Я считаю удобнее сделать приступ к крепости ночью и назначаю вас в передовые. Вы должны первые с сотней самых отважных взобраться на крепостной вал и там держаться. За вами и мы взойдем. Вы призадумались, кажется?
– Я призадумался! Ничуть! Берусь взойти первый. Чертов хвост! И не в таких бывал я опасностях.
– Итак, вы пойдете вперед, а вы, господа, – продолжал Каганский, обратясь к прочим офицерам, – велите готовить лестницы и все, что нужно для приступа. Вал в одном месте невысокий и защищен очень слабо. Ров засыплем фашинами. Только не надо подавать виду, что мы готовимся к приступу. Нападение должно быть начато врасплох, когда ночь наступит. Я уверен, что завтра утреннее солнце осветит уже королевское знамя на этой высокой башне, которая теперь смотрит на нас так грозно.
Евгения весь тот день была задумчива и печальна. Лидия несколько раз принималась плакать. Феодосий шутил и старался их ободрить. Он беспрерывно уходил на стены и часто посылал туда Иллариона. Перед наступлением ночи они оба воротились в дом.
– Я думаю, вам и сон на ум не идет? – спросил Феодосий, улыбаясь, Евгению и Лидию.
– Какой теперь сон! – отвечала последняя. – Я всю ночь спать не буду.
– И очень плохо сделаешь. Мы с Илларионом сейчас уходим в свою комнату и уснем богатырским сном. Советовал бы и вам последовать нашему примеру. На стенах расставлена стража: бояться совершенно нечего. Если вы даже услышите несколько выстрелов, то, ради бога, не пугайтесь. Ночью нарочно наши будут стрелять, чтобы неприятель видел, что мы готовы их встретить. Они не осмелятся и на версту подъехать к крепости. Да и мы с Илларионом будем недалеко от вас, всего через две комнаты. Желаю вам спокойной ночи… Пойдем, Илларион! Смотрите же, прошу не трусить и не тревожить нас по-пустому. Мы оба ужас как устали, и нам нужен отдых.
– Как ты думаешь, сестрица, – сказала Лидия, когда Феодосий и Илларион вышли из комнаты, – спать нам или нет?
– Как хочешь, Лидия.
– Кажется, бояться нечего? Феодосий не стал бы спать, если бы была какая-нибудь опасность. У меня, признаюсь, глаза так и слипаются.
– Помолимся Богу и ляжем, – сказала Евгения. – Я вряд ли усну. Тем спокойнее ты можешь спать.
– Только раздеваться не надо, сестрица, – прибавила Лидия, – вдруг придется бежать.
– Куда же мы убежим, Лидия?
– Куда-нибудь. Боже мой, боже мой! В самом деле, бежать некуда: крепость окружена со всех сторон. За что нас эти проклятые так мучают? Что мы им сделали? Ах, как мне плакать хочется!
– Полно, Лидия, положись на Бога. Он защитит нас. Слышишь ли, какая тишина во всем городе? Чего ты боишься? Я ложусь, Лидия.
– Я возле тебя лягу: мне не так страшно будет.
Она положила голову на пуховую подушку, обняла сестру и вскоре заснула глубоким сном. Щеки ее разгорелись, дыхание полуоткрытых губ было прерывисто и часто. И сон не мог прекратить ее душевной тревоги. Евгения, облокотясь одной рукой на изголовье, смотрела на Лидию, – и крупные слезы иногда падали с длинных ресниц девушки. Невольно глаза ее поднялись к небу, и она начала молиться.
– Кажется, они уснули, – сказал шепотом голос за дверью. – Пойдем скорее!
Послышался легкий шелест шагов, и вскоре все затихло. Это нисколько не смутило Евгению. Она знала, что это будет, и давно уже догадалась, что Феодосий с Илларионом проведут ночь на стенах крепости. Тяжелый вздох вырвался из ее груди. Не смыкая глаз, глядела она в окно, которое находилось прямо против ее кровати. Сквозь стекла видно было одно небо, черное, как дно бездны; его обложили густые черные тучи. Прошло около часа, тучи стали редеть, раздвигаться, и в окне Евгении заиграла одна звезда своими алмазными лучами. Евгения засмотрелась на нее. «Звездочка, звездочка! – подумала она. – Высоко ты катишься на небе, далека ты, безопасна от горя и бед Земли! Как бы желала я улететь к тебе, утонуть в твоих лучах сияющих. Не на тебе ли скрывается счастье, спокойствие, которых мы, бедные жители Земли, всю жизнь напрасно ищем? Но к чему роптать? Тот, кто создал эту небесную звезду, создал и меня. Без воли Его не упадет она с неба; без воли Его не упадет волос с головы моей. О! Какую неизъяснимую радость, какое непонятное спокойствие пролила ты мне в сердце, звездочка! Мне кажется, лучи твои приносят на Землю что-то небесное и на неведомом, таинственном языке шепчут нам: „Дети Земли! Любите Творца, любите друг друга!”»
Вдруг по тучам, клубившимся около звезды, пробежал красный блеск, похожий на зарницу, и через несколько мгновений грянул пушечный выстрел.
– Боже мой! – закричала Лидия в испуге, быстро приподнялась с подушки и упала в объятия сестры.
– Успокойся, милая, ты разве забыла, что говорил Феодосий: это наши стреляют.
Лидия дрожала и прижалась лицом к плечу Евгении.
Раздался другой выстрел, третий; стреляют все чаще, все громче. Загрохотала ружейная пальба. Послышался отдаленный, смутный шум, крик, восклицания.
Лидия вскочила с кровати и бросилась в комнату Феодосия. Вскоре прибежала она назад, ломая руки.
– Их там нет, они ушли! – восклицала она. – Мы здесь одни с тобой! Что нам делать?
– Молиться.
– Я не могу молиться, Евгения. Ах, душенька моя, спрячемся куда-нибудь, убежим!
– Чего ты боишься, Лидия? Феодосий ведь успокоил нас.
– Нет, нет! Я знаю, что это стреляют неприятели, что началась битва. Слышишь ли, как кричат, как стонут раненые?
– Тебе все это чудится.
– Я побегу к Феодосию, пусть он защитит нас.
Сказав это, она бросилась из комнаты.
– Куда, куда, Лидия?
Евгения поневоле должна была бежать вслед за ней. Они сошли с крыльца на площадь.
– Куда это вы собрались? – спросил Горов, остановившись перед ними.
– Ах, Алексей Матвеевич! – взмолилась Лидия. – Защитите, спасите нас!
– Не бойтесь, матушка, Бог милостив! Наши отобьют окаянных. Стрельба – похвальба, а борьба – хвастанье, говорят старые люди. Видно, они, проклятые, хотели было подъехать врасплох, да нет, Феодосия-то Петровича не проведешь! Старого воробья на мякине не обманешь, говорят старые люди. Он их знатно принял, голубчиков!
– А если они одолеют?
– Вот уж и одолеют! Признаться, и я, как пушки загрохотали, трухнул немножко сначала, вскочил с кровати и вооружился на всякий случай, как видите. Только грех со мной случился. Выбежал я на улицу, чтобы идти к стрельцам на подмогу, гляжу: за кушаком у меня сабля, а вместо пищали в руке кочерга! В комнате-то, изволите видеть, было темновато, так, видно, я впопыхах и схватил кочергу. Не знаю, как она, проклятая, мне под руку попала. Метил в сыча, а попал в грача, говорят старые люди. Хотел было сейчас воротиться домой за пищалью, да вот с вами повстречался. А впрочем, нет нужды. Я и кочергой двух-трех поляков зашибу, если дойдет до драки. Да куда же это вы идти изволите?
– Ах, как стреляют! Куда бы нам убежать, Алексей Матвеевич?
– Да куда убежишь, матушка? Кругом все враги. Под землею не спрячешься. Не угодно ли разве вам с сестрицей ко мне пожаловать?
– Мне кажется, нам не так было бы страшно, если бы мы могли видеть сражение, – сказала Евгения.
– Это правда, матушка. Мне бы и самому взглянуть хотелось, что делают наши. Да откуда увидишь? Разве что взобраться на башню?
– Пойдем, пойдем на башню! – вскричала Лидия. – Там, кажется, всего безопаснее: она такая высокая. Я думаю, ядро или пуля не может долететь до ее верха, Алексей Матвеевич?
– Ну, матушка…
– А что, разве может долететь?
– Где долететь! Не долетит. Пойдем туда, если угодно.
– А не может расшибить башни ядро? Скажите правду, Алексей Матвеевич.
– Куда расшибить! Не расшибет.
Они взошли на ту самую башню, где Лидия еще недавно готовила завтрак с Сидоровной. В это время на прояснившемся востоке появилась заря и осветила поле битвы. Лидия и Евгения подошли к окну, Горов к другому.
– Мне теперь не страшно, – говорила Лидия, тихонько пятясь от окошка. – Я думала, что ужас возьмет, когда взглянешь на сражение, но, кроме дыма, я ничего пока не вижу.
– Да под дымом-то что, матушка! – заметил Горов, вздохнув.
– А вон там на стене Феодосий! Точно он! – вскричала в восторге Евгения.
– А где-то Илларион? – добавила Лидия, печально покачав головой.
– А вон, матушка! Извольте видеть, саблей-то помахивает.
– Ура! – раздалось вдали.
– Что это кричат? – спросила Лидия, в испуге отскочив от окошка.
– А это, матушка, значит, что наша взяла. Слава Тебе, Создателю!
Евгения и Лидия упали на колени и, сложив руки, подняли глаза к небу.
Пан Струсь сдержал свое слово. В то время как в разных местах кипело сражение, ему удалось первому, после множества усилий, взойти на вал. За ним вскарабкались несколько десятков польских удальцов. Они овладели двумя пушками и повернули уже их, направив во внутренность крепости. Но Феодосий, увидев опасность, подоспел с отрядом стрельцов. Завязалась жестокая битва. Вскоре вал был очищен. Феодосий, узнав Струся, пощадил его; он только вышиб у него из рук саблю и столкнул с вала, который был довольно отлог. Пан покатился, как кубик, и был остановлен в падении уступом вала.
– Чертов хвост! – воскликнул он, кряхтя и поднимаясь на ноги.
Уступ был узок. Пан, оступившись, покатился снова и попал в ров.
– Дьявольская бомба! – проворчал он, вытаскивая руки и ноги из снега.
Между тем били уже отбой. Осажденные сделали сильную вылазку, и поляки отступали. Пан Струсь, видя толпу бегущих, выскочил из рва с легкостью неимоверною и пустился по полю такой рысью, что первый королевский скороход, глядя на него, повесился бы от зависти.
XI
Прошло несколько недель. Полковник Каганский не предпринимал ничего важного, щадя жизнь солдат и надеясь переговорами склонить Феодосия к сдаче крепости. Именем короля он обещал ему за то богатую награду. Нужно ли говорить, что тот с негодованием отверг его предложение.
– Без штурма дело не обойдется, – говорил пан Струсь. – Я давно это твержу. Да и вольно вам, полковник, поручать переговоры людям, которые вовсе к тому не способны.
– Попробуйте вы, ротмистр, переговорить с начальником крепости, – сказал Каганский. – Посмотрим на ваше искусство!
– Пускай пан Струсь докажет свое убедительное красноречие, – промолвили насмешливо прочие офицеры.
– А что вы думаете, господа, не докажу, что ли? Дьявольская бомба! Конечно, не могу ручаться наверное за успех, однако же…
– Я вам очень буду благодарен, ротмистр, – сказал Каганский. – Уполномочиваю вас вступить в переговоры на известных уже вам основаниях.
– Извольте! Сейчас же отправляюсь. Теперь утро, надеюсь, что к обеду мы будем в крепости праздновать ее сдачу.
Струсь в сопровождении трубача подъехал к крепостным воротам и после обычных знаков был впущен в Углич.
Войдя в дом Феодосия, Струсь в первой комнате встретил Лидию и так был поражен ее красотой, что едва не вскрикнул от удивления и удовольствия. Лидия, увидев его, испугалась и хотела убежать, но, ободренная учтивым, низким поклоном Струся, остановилась и спросила: кого ему надобно?
– Мне нужно говорить с начальником крепости, – сказал Струсь не совсем чисто по-русски. – Я прислан к нему с важным поручением от полковника Каганского.
– Не угодно ли вам подождать его здесь? Я сейчас его позову.
Лидия вбежала в комнату, где был Феодосий. Сидя у окна, он видел, когда Струсь подъехал к крыльцу. Илларион и Евгения ходили по комнате и разговаривали.
– Тебя спрашивает какой-то поляк, присланный Каганским, – сказала Лидия Феодосию. – Ему нужно говорить с тобой о важном деле.
– Без сомнения, опять дружеские предложения, – заметил Илларион. – Это добрый знак! Видно, они убедились, что взять крепость трудно.
– Это приехал пан Струсь. Я его знаю, – сказал Феодосий. – Мне не о чем с ним говорить. Я не вступлю ни в какие переговоры, пока они не отступят от крепости. Скажи ему это, Лидия.
– А если он хочет сказать тебе что-нибудь хорошее? Мне страх хочется узнать, зачем он приехал. Это очень любопытно. Очевидно, что они трусят, когда так часто к тебе забегать начали.
– Пожалуй, поговори с ним, если тебя любопытство мучит. Уполномочиваю тебя кончить с ним дело, как тебе вздумается. Согласись, пожалуй, и на сдачу крепости, но с тем условием, чтобы вы оба прежде принудили меня сдать вам ее. Ну, поди же, начинай с ним переговоры.
– А ты думаешь, что я боюсь его? Совсем не боюсь! Он такой учтивый. Пойду скажу ему твой ответ и спрошу, зачем он приехал.
Лидия вышла опять к Струсю.
– Начальник крепости не может принять вас, – сказала она. – Он поручил мне переговорить с вами.
– За эту насмешку!.. – вскричал Струсь, вскочив со скамьи и обнажив до половины саблю.
Лидия перепугалась, хотела бежать, но Струсь взял ее за руку.
– Ну рубите, рубите мне голову, если вам не стыдно! – сказала она по-польски плачевным голосом. – Не много вам будет чести убить беззащитную девушку.
– Что слышу! – вскрикнул Струсь. – Русская красавица умеет говорить по-польски!
– Умею, к вашему сведению.
– Падаю к ногам вашим! Язык наш в устах прекрасной девушки сладкозвучнее гармонии небесной! Прошу вас, панна, успокойтесь, сядьте и сделайте одолжение, поговорите со мной на родном языке. Какая приятная неожиданность!
Они сели у окна. Струсь расспросил Лидию, где она научилась польскому языку, как зовут ее, сколько ей лет, одним словом, засыпал ее вопросами. Ответы Лидии восхитили, обворожили Струся. Ему показалось, что он никогда еще так не влюблялся. «Непременно предложу ей руку», – думал он, любуясь каждым взглядом девушки, каждым ее движением. Он так размечтался, что совсем позабыл, где он находится и с каким послан поручением. На него нашел жестокий припадок его рассеянности.
Феодосий, Илларион и Евгения, удивляясь, что переговоры длятся уже более часа, подошли неслышно к двери комнаты и, вслушавшись в разговор пана Струся и Лидии, расхохотались.
– Вы говорите, что весело жили в Польше? – спрашивал Струсь. – Не откажетесь снова туда отправиться?
– Не знаю, что вам отвечать на это. Может быть, мне от того было весело, что я была моложе.
– А теперь вы разве состарились, панна? Я обрублю тому уши, кто это подумать осмелится! Что же вам особенно нравилось в Польше?
– Мазурка.
– Мазурка! О, в самом деле, бесподобный танец!
– Вы, верно, ее прекрасно танцуете, пан?
– Недурно.
В это время тонкий слух Лидии помог ей услышать за дверью смех Иллариона и Феодосия, несмотря на то что они старались смеяться как можно тише. Это поощрило ее. Заметив, что пан Струсь от нее без ума, она решилась позабавиться над ним для собственного удовольствия и для возбуждения большего смеха в скрытых за дверью свидетелях ее проказ.
– Я так давно не танцевала мазурку, – сказала она печально. – Я думаю, совсем позабыла ее. Исполните ли вы, пан, мою просьбу?
– Просьбу? Вы не можете иметь до меня просьб, а имеете право давать мне одни приказания. Для вас, панна, я готов на все!
– Протанцуйте со мной мазурку, – сказала Лидия, встав со скамьи и подавая Струсю свою хорошенькую ручку.
Струсь усмехнулся.
– Нет ли кого здесь? – спросил он, рассеянно осматриваясь.
– Никого нет, мы одни. Что же? Вы не хотите доставить мне удовольствие? Или, может быть, вы не так-то ловко танцуете? Признайтесь.
– Я неловко танцую! Вы это сейчас увидите. Позвольте только снять саблю.
Пан, взяв Лидию за руку, встал в молодецкую позицию, расправил усы, начал насвистывать мазурку, щелкнул каблуками, притопнул, загремел шпорами – и пошел и пошел! То перебрасывал он Лидию с руки на руку, то, обхватив ее стройный стан, кружил ее, приседая чуть не до полу, то бросался на колено, обводил танцующую Лидию около себя и, нежно глядя на нее, был вне себя. Пол дрожал от его топанья.
Сопровождавший пана трубач дожидался его в сенях. Услышав шум, он осторожно подошел к двери, немного растворил ее, высунул свое лицо и обомлел от удивления, увидев, с каким неистовством ротмистр, посланный для переговоров, выплясывал мазурку!
– Не помешался ли пан? – сказал он про себя. – Что с ним случилось?
Струсь, увидев выпученные глаза, поднятые брови и разинутый рот трубача, вдруг остановился, не доделав самое отчаянное па.
– Что тебе надобно, Гржимайло? Откуда ты взялся? – спросил он с досадой.
– Это вы, пан?
– Конечно, я! Что за глупый вопрос? Убирайся к черту! Откуда ты мог здесь взяться?
– Как – откуда взяться! Я с вами приехал, пан, для переговоров.
– Дьявольская бомба! – закричал Струсь, ударив себя ладонью по лбу. – Совершенно забыл! Во всем этом виноваты вы, обворожительная панна. Слушай, Гржимайло! Если ты заикнешься, пикнешь в лагере о том, что ты здесь видел, то не быть тебе живому: я тебя изрублю!
– Слушаю, пан.
– Убирайся на свое место. Видите ли, панна, вы меня совсем с ума свели. Но вы устали, кажется, сядьте.
Он подвел Лидию к скамейке, взял потом свою саблю и надел на себя.
– Это, кажется, дом начальника крепости? – продолжал он.
– Так точно.
– Где же хозяин дома?
– Я уже сказала вам, что он не хочет вступать в переговоры.
– Не хочет!.. Он в этом раскается: скажите ему это от меня. Вы, кажется, сестра его?
– Да, сестра.
– Скажите ему, что мы возьмем крепость штурмом… что мы не оставим в Угличе камня на камне…
– Какой вы злой, пан.
– И это вы так спокойно слушаете?
– Я уверена, что вы не исполните вашей угрозы: вы так добры и любезны. Еще скажу вам, между нами, что крепость взять невозможно.
– Кто вам это сказал? Нет на свете крепости, которая бы против нас устояла.
– Мой брат говорит, что вы напрасно будете хлопотать около Углича.
– Увидим!.. Повторяю, что он раскается в своем упрямстве. Я уверен, впрочем, что он сам давно уже отчаялся в спасении крепости и притворяется спокойным, чтобы не устрашить вас.
– Быть не может. Он никогда не притворяется. Не стыдно ли вам, пан, так пугать меня?
– Вам опасаться нечего: я вас беру под свою защиту.
– Благодарю вас. Но, кажется, в вашей защите мне не будет нужды.
– Я возьму вас в плен, панна. К стыду моему, должен признаться, что вы уже прежде меня взяли в плен. Вы это, без сомнения, заметили, должны были заметить. Я увезу вас в Польшу, отведу вам в моем замке лучшие комнаты, буду слугою, рабом моей пленницы… буду угождать вам, веселить вас, исполнять все приказания, все прихоти ваши, и если сердце моей пленницы еще свободно, если мое нежное внимание успеет тронуть ее – я буду счастливейшим человеком в мире! Я холост, знатен, богат. Множество красавиц льстились надеждой завлечь меня в свои сети, но до сих пор сердце мое сохраняло независимость, до сих пор я жил только для войны и для славы. Пора успокоиться, пора подумать о семейном счастье. До свидания, моя прелестная пленница!
– Пока я еще свободна, а вы… мой пленник. Если я вам в самом деле нравлюсь, если вы точно хотите исполнять все мои желания, то докажите искренность всех уверений ваших исполнением моей первой просьбы.
– Приказывайте, повелевайте, панна.
– Отступите от Углича и уйдите от него подальше.
– Как мило вы шутить умеете, панна! Нет, нет, участь Углича решена: берем его штурмом и вы – моя пленница! Скажите, однако же, начальник крепости решительно не хочет переговоров?
– Решительно не хочет.
– Хорошо! Прощаюсь с вами. Прошу вас ничего не опасаться: вы под моей защитой. Никто из наших не прикоснется и к краю вашего платья.
– Я уверена в этом, потому что вы не возьмете Углич.
– Позвольте, панна, мне оставить вам что-нибудь на память.
Струсь в это время вспомнил о фате и башмаке, которые он нашел в загородном доме, где Каганский назначил свою главную квартиру. Ему пришла мысль: не Лидия ли потеряла эти вещи? Когда он пил из найденного башмака за здоровье неизвестной красавицы, которую он хотел непременно отыскать в Угличе, то в голове его составился идеал красоты. Лидия так близко подошла к этому идеалу, что Струсь, вспомнив о фате и башмаке, тотчас решил: это она, непременно она! Желая увериться в справедливости блеснувшей мысли, он спросил Лидию:
– Не потеряли ли вы чего-нибудь за городом?
Лидия удивилась такому вопросу. Когда-то, гуляя по берегу Волги, она потеряла платок. Вспомнив об этом, она отвечала Струсю:
– Я потеряла платок.
– А еще что?
– Более ничего.
– Понимаю ваше смущение, понимаю, что стыдливость мешает вам признаться в потере еще кое-чего. Я нашел обе ваши вещи, предугадал по ним вашу чудесную красоту и дал себе слово отыскать вас здесь, в Угличе. Изрядно же мы вас перепугали, сознайтесь, что, услышав о нашем приближении, вы с ужасом бежали из вашего загородного дома? Иначе вы не обронили бы той вещи, в потере которой вы стыдитесь признаться.
– Я не понимаю вас, пан.
– Не краснейте, панна! Вы не мужчина. Робость прилична красавицам. Вот ваши вещи. Я их всегда носил с собой, здесь, на груди моей. Вот ваш платок, вот башмачок с вашей прелестной ножки. Из этого башмачка я пил за ваше здоровье в виду целого лагеря и тогда уже объявил себя наперед вашим пленником.
Лидия расхохоталась:
– Помилуйте, пан! Я потеряла полотняный платок прошлого года, а вы мне отдаете шелковую фату и башмак. Фату носят здесь одни женщины, а я еще, слава богу, не замужем. И башмаков, будьте уверены, я никогда еще не теряла. С чего это все пришло вам в голову?
– Стало быть, это недоразумение, – сказал Струсь, смутясь. – Впрочем, позвольте оставить вам на память мои обе находки. Не возражайте мне. Вы не принудите меня взять их назад. Они будут талисманом, который предохранит вас от всякой опасности во время штурма. Если я вас вдруг не отыщу после взятия крепости, то покажите мой подарок кому хотите из наших воинов: вам все окажут такое же уважение, как королеве, и тотчас же проводят вас в полной безопасности ко мне. Но я уверен, что я первый отыщу вас. До свидания, несравненная панна!
Поцеловав руку Лидии, Струсь удалился.
– Что за сумасшедший! – сказала Лидия вполголоса, глядя ему вслед. Она улыбнулась и побежала в другую комнату.
– Поздравляю с женихом и с подарком! – сказала Евгения, смеясь и обнимая вбежавшую сестру.
У Иллариона и Феодосия были слезы на глазах… от хохота.
XII
Наступило Вербное воскресенье. Жители Углича, после обедни разойдясь по домам, готовились сесть за стол. Вдруг раздался звук колокола.
– Что это значит? – удивленно сказал Горов, находившийся в этот момент в доме Феодосия.
– Кажется, звонят на колокольне Преображенского собора, – заметил Илларион. – Не пойти ли нам на площадь?
– Звон в такое необычное время! – сказал Феодосий. – Надобно тотчас же узнать, что это такое?
Все трое пошли к собору. Евгения и Лидия хотели также идти с ними, но Феодосий не пустил их.
– Лучше вы похлопочите об обеде, – сказал он. – Мы сейчас вернемся, и вы все узнаете. Я вижу, что вы уже испугались. Всего вы боитесь!
На площади толпился народ. Все спешили войти в Преображенскую церковь и теснились у входа.
Феодосий с Илларионом и Горовым вошел в собор и увидел на амвоне, посреди церкви, монаха. Он стоял с опущенной головой, со сложенными на груди руками. Седая борода его лежала на груди.
– Кто этот чернец, откуда, зачем он собрал народ в церковь? – спрашивали все друг у другу шепотом.
– Этого старца я знаю, – сказал Горов Феодосию. – Он из Николина монастыря, который прозывается Песочным. Благочестивый старик! Ему уже лет восемьдесят от роду.
Старец поднял голову, окинул глазами народ, теснившийся в церкви, и сказал:
– Православные христиане! Сегодня в полночь молился я в уединении об избавлении города от врагов. Молился я долго и усердно. Слезы текли из глаз моих. И вдруг, стоя на коленях, пришел я в какое-то оцепенение. Мысли мои стали путаться, в глазах начало темнеть, как будто сон овладел мною, но я чувствовал, что не сплю. Сердце мое билось непонятным благоговением и ужасом. И увидел я пред собой прекрасного юношу в белой одежде.
– О чем плачешь ты? – спросил он меня. – Иди в Углич и извести жителей, что добрая пшеница уже созрела и вскоре собрана будет в небесную житницу.
Пораженный видением, я встал, оглянулся по сторонам, но юноша исчез. Я пришел, православные христиане, рассказать вам о моем видении. Забудьте вражду, очистите сердца, будьте готовы. Отсюда нет уже вам дороги в мир: один путь вам остается – путь из этого мира. Смерть со своими легионами окружила Углич. Не скорбите и не ужасайтесь. Не окружают ли легионы смерти всех жителей земли так же, как и город наш? Блаженны те, которые помнят час последний!.. Вооружитесь щитом веры, надежды и любви, – и вы навсегда спасетесь от смерти в область жизни.
Старец сошел с амвона и удалился из церкви. Речь его поразила слушателей. В глубоком унынии все разошлись по домам. В тот же день пронесся по городу слух, что старик, говоривший в церкви, возвратясь в келью, через несколько часов умер тихо и спокойно. Это известие еще больше изумило угличан. Всю Страстную неделю они готовились к смерти.
Раздалось в храмах пение: «Христос воскресе!» – и сердца при этих радостных, торжественных звуках вновь забились надеждой.
Феодосий не унывал и неусыпно заботился о защите крепости. Поляки стояли спокойно в лагере, изредка перестреливаясь с осажденными. Лед прошел по Волге, и воды ее начали постепенно возвышаться. С луговой стороны прибыл гонец, переехал реку ночью и впущен был в крепость через подземный ход. Он привез известие, что несколько полков, преданных царю Василию, собрались около Ярославля и спешат к Угличу.
Все радовались, поздравляя друг друга.
Наступила ночь. Все жители спали. Вдруг, около полуночи, раздался набат. Феодосий в это время обходил с Илларионом крепостные стены. Сотник Иванов прибежал к ним, запыхавшись.
– Измена! – кричал он. – Пятьсот стрельцов подались на сторону ляхов и впустили их в крепость.
– К оружию! К оружию, братья! – закричал Феодосий, выхватив саблю. – Бейте тревогу, собирайтесь все на площадь, становитесь в ряды: там встретим врагов! А ты, Илларион, беги в дом наш и приведи скорее Евгению и Лидию на Преображенскую колокольню: там они будут в безопасности от выстрелов. Я окружу колокольню рядами самых храбрых стрельцов. Не уходи от бедных сестер, ободряй их, скажи, уверь, что они будут спасены. Возьми с собою несколько стрельцов и поставь их к пушке, которую я недавно велел поднять на колокольню. Прощай, Илларион!
Жители Углича, разбуженные стрельбой, набатом, криками сражающихся, вскочили в ужасе, хватали оружие и выбегали из домов. Поляки, как истребительная лава, разливались по крепости. Поток остановился, встретив оплот на площади – твердый ряд стрельцов. Закипела жестокая битва.
Илларион успел провести Евгению и Лидию в верхний ярус колокольни. К ним присоединился Горов с огромной пищалью в руке.
– Наказание Божье! – восклицал он горестно. – Не ад ли кипит под нами? Сердце все изнылось от ужаса!
Пожар пылал в предместьях Углича. Уже и в крепости многие здания были охвачены огнем.
Евгения и Лидия, освещенные заревом, сидели на разостланной епанче Иллариона, прислонившись к стене. Бледные, молчаливые, они смотрели то на Иллариона, то на Горова, как будто прося защитить их. По временам Лидия, опуская лицо в ладони, рыдала. Евгения была тверже и спокойнее. Илларион старался ободрить и утешить обеих.
Настало утро, а битва еще не прекращалась. С восходом солнца закипела она еще яростнее. Ряды стрельцов на площади заметно редели и колебались, вооруженные жители подкрепляли их.
Феодосий, видя малочисленность войска и усиливавшийся с каждой минутой натиск неприятеля, велел остаткам стрельцов и вооруженных жителей отступать и постепенно входить в Преображенский собор, на колокольню и в каменный дворец царевича Димитрия.
– Это наши будут три крепости, – сказал он. – Не сдадим их до последней крайности. Завалите двери бревнами и камнями!
Приказание его исполнили. Он сам взбежал на колокольню и наложил фитиль на орудие. Грянул выстрел. Стрельцы, изо всех окон колокольни выставив ружья, начали пальбу. Все здание задышало огнем и дымом. Из дворца царевича Димитрия с грохотом сыпался свинцовый дождь. На Преображенском соборе утреннее солнце ярко осветило золотой крест. В то же время изо всех окон выстрелы свили около храма венец из молний и дыма. Вся церковь сверкала, гремела и дымилась. Казалось, храм Божий вступил в бой за православную Россию.
Перекрестный жестокий огонь, направленный из окон на паперть церкви, уничтожал усилия поляков выломать дверь храма. Они поставили наконец пушку на площади, направили на эту дверь и начали стрелять. Ядро за ядром, раздробляя железо и дерево, вырывали ряды из теснившегося в церкви народа.
Наконец дверь разлетелась, толпы врагов хлынули в церковь, и в доме молитвы раздались яростные крики, началась сеча. Кровь лилась ручьями через церковный порог.
Во дворец царевича Димитрия также вломились враги. Оставалась одна колокольня. Вход в нее завален был с внутренней стороны камнями и обрубками бревен, с внешней грудами убитых. Все усилия поляков обратились на эту грозную колокольню, которая как непобедимый великан стояла посреди врагов, сея смерть в их рядах.
– Огня, огня! – раздалось в рядах неприятеля. – Зажжем колокольню!
Феодосий услышал эти крики. От орудия, у которого стоял, взбежал он в верхний ярус, где находились Евгения и Лидия.
– Нас скоро убьют! – закричала Лидия, ломая руки. – Ах, поскорей бы нас убили! Не правда ли, Феодосий, все уже погибло и нам спастись невозможно?
– Нет, Лидия, я спасу вас. Ободрись, Евгения! Пока не взята колокольня, мы еще не побеждены.
Он подошел к окну и взглянул на Волгу. В это время вдали появились русские знамена. Полки от Ярославля спешили на помощь Угличу.
– Слава богу! – воскликнул Феодосий, указывая вдаль. – Помощь!
– Слава Тебе, Создатель! – закричал Горов и бросился на колени.
– Пойдем, Евгения, пойдем скорее, Лидия! – продолжал Феодосий. – Я вас проведу на берег Волги. Вы переедете реку, Илларион укроет вас в безопасном месте.
– Куда идти нам? – спросила Евгения. – Нам, кажется, один остался свободный путь… туда!
Она указала на небо.
– За мной, за мной! – вскричал Феодосий. – Время дорого!
Он повел их вниз по лестнице. Проходя мимо пушки, Феодосий сказал сотнику Иванову, который заряжал ее, и стрельцам, стрелявшим в окна:
– Я сейчас буду к вам, друзья! Не унывайте! Отстаивайте колокольню. К нам идет помощь.
Он спустился до самого основания колокольни, поднял потайную дверь, зажег факел и вошел в подземный ход. Евгения и Лидия, поддерживаемые Илларионом и Горовым, последовали за ним. Долго шли они по узкому ходу под низким, остроконечным сводом и приблизились наконец к железной решетчатой двери. Сквозь нее видны были густые кустарники, а за ними мелькали струи Волги.
Он отпер дверь и подвел всех к небольшой лодке, скрытой под нависшими над водой кустарниками.
– Садитесь и плывите с Богом! – сказал он. – Прощайте! Прощай, Евгения!.. Прощай, Лидия!.. Илларион, поручаю их тебе.
Смертельная бледность покрыла лицо Евгении.
– А ты… не едешь с нами? – спросила она, задыхаясь.
– Я должен, я обязан воротиться. Без меня, может быть, не отстоять колокольни. Я велел товарищам моим ее отстаивать до последней крайности, пока не подоспеет помощь. Что скажет мне совесть, если я не возвращусь к ним по обещанию и они одни погибнут? Нет! Я разделю судьбу их. Там, вместе с ними, найду смерть или победу. Вспомни, что все кругом во власти поляков. На одной колокольне сражаются еще русские за свою независимость, за царя своего. Прощай, Евгения!
– Возьми и меня с собой! – вскричала она в беспамятстве, бросаясь в объятия Феодосия. – Без тебя что мне в жизни! О, если бы ты знал, как я люблю тебя, Феодосий! Нет! Полно уже мне скрываться! Полно себя обманывать! Спасайся с нами, Феодосий, или сжалься надо мной! Возьми меня с собой!
Феодосий затрепетал и прижал Евгению к сердцу. Лидия рыдала. Пораженный Илларион стоял, бледный и неподвижный, едва переводя дыхание. Горов вздыхал, смотрел на всех попеременно и утирал рукавом слезы.
– Что ты сказала, Евгения? – проговорил дрожащим голосом Феодосий. – Вспомни, что ты невеста моего брата. Ты убьешь его! Нет, нет, я иду! Прощай!
Буря кипела в сердце Иллариона. Он не понимал, не чувствовал себя, как оглушенный громом. Вдруг, собрав все силы души, он подошел к Евгении, взял ее ласково за руку и сказал:
– Я не виню тебя, моя милая! Сердцем владеть невозможно. Возвращаю тебе клятву твою. Будь счастлива с Феодосием! Брат, любезный брат! Люби ее!..
Слезы прервали его голос.
– Прости меня, Илларион! – вскричала Евгения, бросаясь к его ногам.
– Встань, встань, Евгения! – сказал Илларион, поднимая ее. – Я не виню тебя… Позволь, брат, мне вместо тебя идти на колокольню.
Он подошел к двери.
– Нет, Илларион! Ни за что!.. – воскликнул Феодосий, схватив его за руку. – Время проходит. Может быть, там, без меня, гибнут мои товарищи. И там… и здесь!.. – продолжал он, взглянув на Евгению, которая лежала без чувств в объятиях Лидии. – О! Как рвется мое сердце! На битву! На битву! Прощайте!.. Прощай, моя Евгения!
Он поцеловал ее, побежал и захлопнул за собой железную дверь.
Евгения была в обмороке. Илларион и Горов внесли ее в лодку и посадили подле Лидии. Она обняла сестру и положила ее голову на плечо свое. Лодка поплыла.
Лидия несколько раз брызнула водой в лицо Евгении. Она открыла томные глаза, и первый взгляд ее устремился на колокольню. Та по-прежнему дымилась и горела. Между тем собор Преображенский и дворец царевича Димитрия, зажженные врагами, пылали. Пожар быстро разливался по всему Угличу.
– Загорается! Загорается! – вскричал через несколько минут Горов, всплеснув руками, и указал на колокольню. – Боже мой! – прибавил он вполголоса, увидев, что из окна колокольни Феодосий, направлявший пушку, взглянул на Волгу, отыскал взором удаляющуюся лодку, снял с черных кудрей своих бархатную шапку и махал ею в знак последнего прощания. Вскоре грянул залп, белое облако порохового дыма скрыло всю колокольню. Когда оно пронеслось, то пламя уже охватило ее деревянные лестницы и стропила. Выстрелы с нее редели и вскоре замолкли. Из всех окон и с ее вершины клубился густой, черный дым и вылетало струями пламя.
Евгения не спускала глаз с колокольни.
– Он погиб, Лидия! – сказала она трепетным голосом и, закрыв лицо руками, приникла к плечу сестры.
В это время раздалось несколько ружейных выстрелов с берега. Евгения вдруг вскрикнула, встрепенувшись, и застонала.
– Боже мой! Кровь! – воскликнула отчаянным голосом Лидия. – Сестрица моя! Тебя ранили?
Ответа не было.
Держа сестру в объятиях, она тихо положила ее поникшую голову на свои колени, устремила взор на ее неподвижные глаза и в оцепенении ждала, искала на лице ее признаки жизни. Напрасно!.. Лидия зарыдала. Слезы ее капали на тихое, спокойное лицо Евгении, покрытое смертельной бледностью.
Илларион пустил лодку по течению Волги, гребя изо всех сил. Он не понимал, что делает, не знал, куда спешит. В диких взглядах его ярко выражалось отчаяние.
– Утешьтесь, матушка! – сказал Горов Лидии, скрепя сердце и удерживая слезы. – Они оба теперь там, – продолжал он, указывая на небо. – Ей-богу, матушка, там лучше, чем здесь!
Россия гибла, но Бог не судил ей погибнуть. Раздался в Нижнем Новгороде голос простого гражданина, и отозвались на него верные сыны отечества во всех концах государства. Запылала Москва! Запылали сердца русские!.. Воспряло знамя Пожарского, собралось войско – и победа полетела по следам его. Свергнув иго иноплеменников, Россия восстала и, свободная, избрала себе царя по сердцу. Памятен для русских день: двадцать первое февраля 1613 года. С этого дня началась новая жизнь нашего отечества.
Когда в Москве праздновали вступление на престол избранного царя Михаила, Горов встретил на Красной площади стрелецкого голову с молодой, прекрасной женой.
У стрельца была подвязана рука, раненная при отбитии Кремля у поляков.
Всмотревшись, Горов узнал эту чету и с радостными слезами бросился обнимать своего знакомца. Счастье отражалось яркими чертами в темно-голубых глазах стрельца и в прелестных черных глазках молодой жены его.
Вероятно, и читатели узнали эту счастливую пару.
Русский Икар
Кому не известен сын Дедала – Икар, улетевший с острова Крит со своим отцом от преследований Миноса на крыльях, которые Дедалу удалось сделать, по свидетельству Овидия, из перьев и воска. Кто не знает, что Икар, несмотря на предостережения отца, слишком приблизился к солнцу, что солнечные лучи растопили воск, скреплявший перья его крыльев, и он упал в море. Хотя многие достойные уважения новейшие писатели и не верят в это событие, называя его басней и доказывая, что Икар с отцом бежали с Крита на легком корабле, снабженном в отличие от обыкновенных древних не одним парусом, а несколькими, и что он упал в море с корабля, а не с неба, но пусть они толкуют по-своему это повествование древности. В современном веке скептицизма европейцы готовы сомневаться во всем. Скоро дойдут они, пожалуй, и до того, что перестанут даже верить превращению Юпитера в вола, который перевез на себе через море дочь царя Агенора Европу с финикийских берегов на остров Крит, и, таким образом, будут отвергать событие, без которого не было бы на свете и самих европейцев.
Итак, первоначальная мысль – летать по воздуху – должна быть приписана древним грекам. Если же нынешние скептики-европейцы настоятельно захотят опровергать это, считая полет Икара и его отца басней, и приписывать себе славу изобретения, возвысившего человечество на неслыханную высоту, то они очень ошибутся в своих расчетах. Слава эта принадлежит Азии. Да, господа европейцы, Азии! Мы представим неопровержимые доказательства, и досада ваша еще больше увеличится, поскольку пальму первенства в воздухоплавании обязаны вы будете вручить не эдинбургскому доктору Блаку, который, пользуясь открытием английского химика Кевендиша, наполнял водородным газом тонкие пузыри и развлекался, запуская их в воздух; не итальянцу Кавальо, который, долго трудясь над воздушным шаром, закончил свои глубокие изыскания заявлением о том, что пузыри шара слишком тяжелы, а клееная бумага пропускает сквозь себя воздух, и начал пускать к потолку своей комнаты мыльные пузыри, наполненные газом; не французу Монгольфье, который поднялся на шаре в первый раз в октябре 1783 года лишь на 50 футов, очень удивив жителей Парижа, а русскому крестьянину Емельяну Иванову. Утверждайте же, что Россия до ее преобразования Петром Великим была азиатской державой. Тем хуже для вас, потому что вместе с тем вы вынуждены будете признаться, что, к стыду английского химика, шотландского доктора, итальянского физика и французского бумажного фабриканта, первый шаг к воздухоплаванию сделал азиат, русский крестьянин, еще в 1695 году, следовательно, на 71 год раньше Блака, на 87 лет раньше Кавальо и на 88 раньше Монгольфье. В этом может убедить вас следующая историческая повесть, основанная на дневниковых записках одного из современников знаменитого Емельяна Иванова. И вас, дорогие соотечественники, просим обратить внимание на эту повесть. Вероятно, многие из вас благодаря пристрастию ко всему иностранному считали до сих пор Монгольфье первым воздухоплавателем и даже не слышали об Иванове.
Верст за полтораста от Москвы в одной из принадлежавших патриарху деревень, которая, к сожалению, не сохранилась в наших летописях, жил в конце семнадцатого столетия, во время царствования Петра Великого, вдовый крестьянин Архип Иванов. Он имел трех сыновей. Двое из них были парни умные, а третий… дурак, скажет читатель, вспомнив известную всей России сказку о Емеле-дурачке, – и сильно ошибется. Хотя младшего сына и звали Емельяном, но он вовсе не походил на своего знаменитого тезку. Его братья умерли еще в молодые годы, и у старика Архипа осталось в жизни одно утешение: младший сын. Но и с тем бедняк жил в разлуке, поскольку сроду не бывал в городе, выезжая из деревни только по праздничным дням в ближнее село Стояново. Емельян же, зарабатывая себе на хлеб извозом, жил постоянно в Москве. Там завел он обширное знакомство и до того просветился, что даже выучился кое-как грамоте, которую раньше считал волшебством. Образованию его во многом способствовали беседы со служками Заиконоспасского монастыря, куда он часто возил с рынка разные припасы для Славяно-греко-латинской академии, которая размещалась в этом монастыре.
Накопив приличную сумму денег, поехал он в апреле 1695 года в деревню повидаться с отцом. Приезд Емельяна чрезвычайно обрадовал старика, и он целых два дня расспрашивал сына о его житье-бытье в Москве. На третий день пономарь села Стоянова позвал к себе Архипа с сыном отобедать и отпраздновать его именины. Надев праздничные кафтаны, они сели в телегу и поехали на званый обед.
Пономарь встретил гостей за воротами своей избы, которая уже была наполнена народом.
– Здорово, Архип Иваныч! – закричал он. – Я уже совсем отчаялся: думал, что не приедете.
– Как не приехать, Савва Потапыч! Ведь ты один раз в году именинник! – отвечал Архип. – Прими-ка, отец наш, подарок. Не прогневайся!
– Напрасно, Архип Иванович, напрасно! Зачем же этак тратиться, – говорил пономарь, принимая с явным удовольствием из рук крестьянина небольшой мешок пшеницы и взваливая его на спину. – Милости просим в избу. Мы вас только и ждали.
Убрав полученный подарок в чулан, пономарь Савва явился к гостям и начал усаживать всех за стол. Мы не станем описывать блюд, приготовленных дочерью пономаря Анютой, из опасения не вовремя возбудить аппетит наших читателей, особенно если они читают эту повесть задолго до обеда, не станем также подсчитывать, сколько кружек пива и вина было выпито за столом и во сколько поклонов обошлась пономарю каждая выпитая кружка. Достаточно сказать, что в середине обеда у хозяина заболел затылок, а с его лица лил пот, будто в самый жаркий день июля, тогда как лица гостей лишь слегка раскраснелись.
– Да что же ты, Анна Савишна, ничего хмельного не попробуешь? – удивился пожилой крестьянин в синем кафтане и красной рубашке, сидевший напротив дочери пономаря. – Хлебни хоть пива и порадуй гостей.
– Благодарю! – отвечала Анюта. – Мне вода больше нравится.
– И мне тоже! – заметил Емельян, налив из кувшина в кружку воды, и выпил, сказав при этом:
– За здоровье всех красивых девушек!
– Нечего сказать, придумал, что пить за их здоровье, – насмешливо заметил пожилой крестьянин Филимон Пантелеич, родом из-под Ярославля, занимавшийся плотническим делом.
– Водой ума не пропьешь, вот почему я ее и люблю. Зато про меня люди добрые не скажут: было ремесло, да хмелем заросло!
– Вот как! – ответил Филимон. – Не бойся, у меня ремесло не зарастет раньше твоего. Топор мой как жар горит, и нет на нем ни единой ржавчинки, а у тебя, думается, на поле крапива да лебеда.
– Нет, любезный, метил ты, видать, в ворону, да попал в корову. Я не землепашец, зато есть у меня достаточное количество лошадей. На них я людей катаю, товары и всякую всячину перевожу. Случается и пьяных с улиц поднимать да по домам развозить. Может, и тебя когда-нибудь придется обслужить.
– Да что ты, в самом-то деле, ко мне привязался! Что ты за нахал-то такой! – закричал плотник. – Не хочется мне сейчас нарушать чинного праздника, а то бы прикусил ты у меня язык!
– Да хватит вам ссорится, гости дорогие, – вмешался хозяин. – Если вы любите меня, помиритесь немедленно. Плохой-то мир лучше доброй ссоры.
– Ну дружба так дружба! – согласился Емельян. – Не обижайся, Филимон Пантелеич! В ссоре слов не выбираешь.
– Ради хозяина и я не откажусь от примирения! – улыбнулся плотник.
В прежние времена русский народ на праздниках очень быстро переходил от дружелюбия к ссоре и от ссоры к примирению. Иногда и бояре за праздничным столом ссорились, да тут же и мирились. Нравилось им:
Подравшись, утопить свою вражду в вине!
Наблюдательный человек и теперь может заметить эту особенность характера простого народа, проявляющуюся на каждом гулянье или празднике. Часто приходится видеть двух земляков, выходящих из питейного заведения, которые, пошатываясь, сначала обнимаются и целуются, потом вдруг начинают спорить и ругаться, затем, натянув рукавицы, валтузят друг друга и, наконец, возвращаются туда, откуда вышли, чтобы отпраздновать замирение.
Но не только эта черта характера была причиной ссоры, возникшей между Емельяном и Филимоном. Напротив них за столом сидела дочь пономаря Анюта, молодая девушка, славившаяся на все село своей красотой. Понравилась она обоим, да так, что оба решили свататься к ней. Одновременно каждый почувствовал в другом соперника, откуда и возникла неприязнь к возможному победителю. Можно ли после этого утверждать справедливость без счету повторяемой поговорки: любовь слепа? Наоборот, необходимо согласиться, что у любви самые зоркие глаза. Вот почему влюбленный Емельян увидел в Филимоне, а влюбленный Филимон – в Емельяне соперника, тогда как пономарь и другие гости никак не могли понять причины вспыхнувшей ссоры, хотя следили за ее развитием во все глаза.
После обеда все легли отдохнуть согласно обычаю того времени, укоренившегося, вероятно, по той причине, что многие наши предки вынуждены были прилечь после обильной трапезы и вопреки собственному желанию. Подкрепив силы сном, хозяин и гости вышли за ворота. Один из гостей вынул из-за голенища сапога рожок, другой взял балалайку. Анюта и несколько сельских девушек взялись за руки и стали водить хоровод, весело припевая: «Не буди меня, молодую!» Когда же в песне дело дошло до строк: «Одна девка весела, во кругу плясать пошла», – Анюта, по желанию отца, подбоченилась и, потупив свои прекрасные глазки в землю, привела в восторг всех гостей пономаря своей пляской. Когда же девушки запели: «Сама пляшет, рукой машет, пастушка к себе манит», – то Анюта стала приглашать к танцу своего отца.
– Что ты, дочка! – отозвался пономарь, который, надо заметить, был хромой. – Куда мне плясать с тобой! Поди-ка, Емельян Архипыч, потанцуй с ней. Ты, мне кажется, мастер этого дела!
Поправив рукавицы и сдвинув шапку набок, Емельян приосанился. В такт песне начал он слегка притопывать и приподнимать правое плечо, потом, хлопнув в ладони, подлетел к Анюте. Она начала отступать и отвернула от него голову, а он уже с другой стороны смотрит ей в лицо и манит к себе.
– Здорово пляшет! – говорили вполголоса некоторые из гостей.
Не выдержал Филимон. Поправив рукавицы, и он бросился в круг, начав прямо с присядки.
– Нашел чем удивить! Этак-то и я умею! – сказал Емельян и тоже пустился вприсядку.
Наверняка ни один из плясунов не стал бы уступать другому в демонстрации своего искусства, и весьма вероятно, что оба замертво упали бы на месте от усердия, но песня закончилась, а вместе с ней и пляска.
– Здорово! Ну, спасибо вам, хлопцы, – повторяли гости.
После пляски началась игра в горелки. Емельяну удалось поймать Анюту, и никто уже не мог разлучить их в продолжении всей игры.
Между тем Филимон, давно перестав играть, подошел к отцу Анюты, отвел его в сторону и напрямик заявил, что сватается к его дочери.
– Ты долго не раздумывай, – убеждал он. – Ты ж меня не первый день знаешь. И изба-то у меня новая, и лошадь, да и деньги водятся – чего же еще надо? Лучше жениха не найти. Я и тебя как тестя в люди выведу.
– Это как же?
– Так и быть! Расскажу тебе все, что задумал. Только это не для пересудов. Года три назад, в мае месяце, был я у озера Переяславского. Ну, Савва Потапыч, и насмотрелся я там чудес разных! Батюшка-царь наш, Петр Алексеич, на корабликах в то время катался. Господи! Кораблик его и по ветру-то, и против, и так и сяк плавал – удивление, да и только! Вот и пришла мне в голову мысль: нельзя ли суденышко смастерить, которое бы под водой могло плавать да ныряло, как гагара. Вот бы удивил я тем самым царя-батюшку! Задумался я с того времени и нашел решение.
– Неужели придумал?
– Да, Савва Потапыч, придумал! Сделал я небольшой кораблик, а вчера спустил его на воду. Сейчас он стоит на озерке, которое за горой, да все поросло ивой и ольхой. Я специально кораблик свой припрятал от дурного глаза. Прежде испытаю его, а там и царю поведаю. Осыпет меня царь благами да почестями, тогда-то я тебя и выведу в люди. Только отдай за меня дочку, а уж сам будешь дьячком в дворцовой церкви, а то и дьяконом.
– Куда мне, Филимон Пантелеич! Мне и здесь, в селе, живется неплохо… А где кораблик-то твой, нельзя ли на него посмотреть?
– А глаз-то у тебя добрый?
– Добрый глаз! Не бойся.
– Ну, так и быть! Пошли к озерку.
– А как же я гостей-то одних оставлю? Нехорошо это.
– Действительно, нехорошо.
– А знаешь что, Филимон Пантелеич, опрысни-ка ты свое суденышко водой с солью, после этого его всем гостям показать можно.
– Боязно, Савва Потапыч.
– Ну какой же ты! Чего бояться? Знаешь, что я тебе скажу: если твое суденышко действительно нырнет и выплывет да еще и под водой пройдет столько, сколько от нас до моих гостей, то я с тобой сегодня же по рукам ударю: бери тогда мою Анютку!
– А не обманешь? Ну ладно! Давай соли! Я пораньше к кораблику пойду, а ты за мной всех гостей приводи.
– Сейчас, дорогие мои гости, я к вам вернусь, – сказал пономарь и пошел с Филимоном в избу за солью.
Между тем кончились горелки. Емельян, отпустив руку Анюты, подошел к своему отцу и начал просить его благословения на женитьбу.
– Дело, дело задумал, сын мой! Что холостому-то по белу свету шататься? Девушка она хорошая, у тебя есть чем и себя и ее прокормить. Да благословит тебя Господь! Пойдем-ка к Савве Потапычу. Он вроде только что в избу зашел.
Отец с сыном подошли к избе. В воротах им встретился Филимон, спешивший с запасом соли к своему кораблику.
Емельян с отцом вошли в избу. Пономарь Савва убирал в это время ларь с солью в сундук.
– А, дорогие мои гости! Не за мной ли пришли? – спросил Савва, вынимая ключ из замка, который висел на сундуке.
– Пришли к тебе, Савва Потапыч, не по пустякам, а по делу, – отвечал отец Емельяна. – Мы с тобой давние приятели. У тебя товар, у меня купец: не ударить ли нам по рукам?
– Как, неужто ты нашел купца? Да ведь она совсем обезножила?
– Обезножила? Что ты, Савва Потапыч, Господь с тобой! Да ведь она резвее всех в горелки бегала.
– Что за чудо! Ну, видно, я не заметил! Коновал лечил, да так и бросил. Да и кто ее из хлева-то выпустил?
– Из хлева? Да про что ты говоришь, Савва Потапыч?
– Известное дело, что про коровенку свою. Я ее давно продаю, да что-то никто брать не хочет.
– Не понял ты меня, Савва Потапыч: я про дочку твою толкую.
– Про дочку! А что такое?
– Да не отдашь ли ты ее за моего сына?
Емельян поклонился пономарю в пояс.
– С радостью бы я породнился с тобой, Архип Иванович, да беда в том, что я уже обещал ее другому, – отвечал пономарь, поглаживая бороду. – Жаль, опоздал ты!
– Неужели уж и другой жених есть? – спросил Архип.
– Почти что так! Как старому приятелю расскажу тебе все, ничего не тая.
Тут пономарь рассказал им все о Филимоне.
– Да я его за пояс заткну! Что он за жених, прости Господи! – воскликнул Емельян. – Если тебе интересен царь, так и я слово даю вывести тебя в люди. Он и в Москве-то никогда не бывал, а я там много пожил и царя-то видел так близко, вот как ты теперь от меня. Он, наш батюшка, такой ко всем добрый! Раз меня изволил собственноручно дубинкой ударить, когда я с ним на узком мосту повстречался. Я думаю, он с тех пор меня в лицо знает.
– Все так, Емельян Архипыч, по всему ты лучший жених для моей дочери, но только и мне нехорошо от своего слова отступаться.
– Да он тебя морочит! Где ему до царя добраться!
– А ну как суденышко-то ему представит, да царю это понравится?
– Тоже невидаль – кораблик! У царя и своих достаточно.
– Да таких-то нет! Впрочем, посмотрим. Чудно, право, если кораблик нырнет да и вынырнет.
– Так за чем же дело стало? Пошли посмотрим! Плюнь мне в глаза, если он выплывет.
– Загодя ничего знать нельзя, – заметил отец Емельяна. – Конец – делу венец. Ну а если, Савва Потапыч, суденышко не всплывет?
– Тогда я своему слову хозяин, и мое обещание не действительно. Так мы с ним договорились. Пойдемте теперь к озерку, я думаю, он уже все приготовил.
Они вышли из избы и, пригласив остальных гостей присоединяться к ним, отправились гурьбой к озеру.
Сердце Емельяна сильно билось, и ему не терпелось увидеть кораблик, от которого зависело решение его участи.
Наконец толпа приблизилась к берегу, и все увидели небольшую лодку с мачтами и парусами. Сверху была сделана палуба, а с бортов торчали в виде пушек деревянные трубки, которые закрывались круглыми дощечками, если дернуть за веревку, привязанную к корме. В то же время открывалось в днище несколько отверстий для погружения судна в воду. Держа эту веревку в руке, Филимон приветствовал пришедших зрителей восклицанием:
– Милости просим! Добро пожаловать!
Он гордо поправил шапку, увидев, что и Анюта с подругами находится в числе очевидцев его подвига.
– Ну, Филимон Пантелеич, начинай! – сказал пономарь. – Попробуй свой корабль-нырок.
– Не хочешь ли, Савва Потапыч, сесть в кораблик? – спросил Филимон. – Я его так смастерил, что и под водой в нем душно не будет.
– Нет, Филимон Пантелеич, благодарствую! Я никогда не любил и по воде-то ездить, а уж под водой – не дай бог!
– Да не бойся: я отвечаю, если что случится.
– Не угодно ль кому сесть, дорогие гости? – спросил пономарь. – Кораблик, кажется, добротный!
Все молчали.
– Я бы и сам сел, да мне надо веревку держать, – продолжал Филимон. – Ну, раз нет охотника, так я корабль без народа под воду пущу.
Все устремили взоры на Филимона и его изобретение. Он поднял веревку, круглые дощечки захлопнули трубки с обоих боков судна, и оно начало медленно погружаться в воду.
Раздались восклицания:
– Вот так чудеса! Господи, Твоя воля! Вот уж только одна верхушка видна. Ну вот и весь кораблик под воду ушел!
Филимон, с довольным видом свернув в несколько колец конец веревки, за которую держал свой корабль, забросил и ее в воду.
– Зачем ты веревку-то кинул? – спросил пономарь.
– Ды чтобы вы не подумали, когда мой кораблик всплывет, что я его тащил.
Прошло около часа. Терпение зрителей начало истощаться. «Ну что ж, скоро ли?» – стали спрашивать Филимона.
– Сейчас, подождите немного!
Чем больше проходило времени, тем более возрастала радость в сердце Емельяна и смущение в сердце Филимона. Не так ли и в серьезных делах одно и то же событие производит в сердцах людей совершенно противоположные чувства в зависимости от личных предполагаемых выгод.
– Смотри-ка, смотри! Кажется, выплывает! – закричал один из гостей.
Все стали всматриваться, но увидели на воде только расходившийся круг от всплывшей и встрепенувшейся рыбы.
Емельяна при этом восклицании обдало холодом, а Филимон почувствовал, как лицо его вспыхнуло жаром от радости. Однако по мере того, как круг на воде расходился и исчезал, слабел страх одного и радость другого.
Наконец зрители потеряли терпение.
– Да что ж, долго ли еще ждать? – начали роптать некоторые. – Скоро уже и солнце закатится, а как смеркаться станет, так и оставаться здесь будет неприятно.
– А почему же это? – спросил Филимон.
– Да разве ты не знаешь, что в этом озере водяные водятся? – объяснил пономарь.
– Водяные? И что, много их?
– Да уж порядочно.
– Ну тогда я не удивляюсь, что мой кораблик не всплывает. Как же ему и всплыть, если его на дне водяной держит!
– Да уж похоже на то! – заметил один из гостей вполголоса, с заметным страхом поглядывая на озеро. – Действительно ли мне показалось или только померещилось – не знаю! Только видел я, что над твоим корабликом, когда он стал погружаться в воду, воробей пролетел – не воробей даже, а что-то черное с крылышками. И вроде как оно из воды выскочило да и село на кораблик.
– Нечего ждать: водяной-то, видно, уже в кораблике поселился – наше место свято! – заявил Филимон. – Лучше нам от греха подальше убраться!
Все встревожились, кроме Емельяна, и, крестясь, заспешили прочь от озера.
– Теперь по рукам, что ли, Савва Потапыч? – спросил пономаря шепотом нетерпеливый Емельян.
– Дай подумать, Емельян Архипыч, да ведь и у дочки еще надо спросить: по нраву ты ей или нет? Кажется, такого жениха, как ты, она не забракует.
– Что, что? Какого жениха? – закричал Филимон, который незаметно к ним приблизился и вслушивался в разговор. – Разве честные люди отбивают чужих невест? А где же твое слово, Савва Потапыч? Не дав слова, крепись, а дав, держись! Это нечестно!
– Да что ты к нему напрасно пристаешь! Савва Потапыч не давал тебе слова, – сказал Емельян запальчиво.
– Не с тобой говорят! – сердито возразил Филимон. – Смотри, Савва Потапыч, не пожалей! Я сделаю другое суденышко, ударю челом царю и своего тестя выведу в люди!
– Да чем ты выведешь? – воскликнул Емельян – У царя-то много своих корабликов, этим его не удивишь. Я сам не хуже тебя своего тестя в люди выведу.
– Полно, пустая голова! Где тебе со мной тягаться! – завопил Филимон. – Не слушай его, Савва Потапыч!
– Да уж раз на то пошло, – продолжал Емельян, разгорячаясь, – так я такое диво выдумаю, что вся Москва ахнет, а батюшка царь меня за выдумку пожалует. Будешь у меня как раз дьячком в дворцовой церкви, Савва Потапыч, раз уж тебе так хочется. По рукам, что ли? Отдаешь за меня Анну Савишну?
– Не бывать этому! Не слушай его, Савва Потапыч. Лучше меня держись.
Пономарь, приведенный их спором в недоумение, поглядывал то на одного, то на другого и не мог слова вымолвить, а все только с мыслями собирался. Оба жениха казались ему одинаково достойными. Обещания обоих достать ему место дьячка в дворцовой церкви сильно разбередило его честолюбие и вскружило голову.
– Хватит вам спорить, ребята! – сказал он наконец. – Вы меня совсем с толку сбили! Да и куда мы зашли – Господи, Твоя воля! Не леший ли нас морочит! Все мои гости идут к избе, а мы в сторону, в поле зашагали. Истинно, головы на плечах нет!
– Кому же ты даешь слово? – продолжал Емельян. – Со мной, что ли, по рукам?
– Эй, держись меня, Савва Потапыч! Не слушай этого краснобая: обманет!
– Ах ты, Господи, ну что за напасть! – воскликнул пономарь. – Дайте мне подумать! Вас и сам царь Соломон не рассудит. Ну вот вам последнее мое слово: тот мне будет зять, кто диковинку придумает да царя-батюшку ублажит.
– Ладно, по рукам! – воскликнули Емельян и Филимон.
– По рукам! – повторил пономарь, подав прежде руку одному, а потом другому.
Оба жениха схватили под руки будущего тестя и потащили к избе, где его уже давно поджидали гости. На лице пономаря ясно проступили усталость и растерянность, и он, влекомый женихами, забыл даже напомнить своим нареченным зятьям, что он хромой и ему трудно идти так быстро. «Дворцовая церковь! Два жениха! Что за напасть!» – пробормотал он про себя и вошел в избу.
Емельян, возвратясь с отцом в деревню, не спал целую ночь. Они вместе ломали голову: какое бы чудо придумать, чтобы обратить на себя внимание царя? Наконец, на рассвете, пришла ему мысль. Он так ей обрадовался, что вскочил с лавки, на которой лежал, и тотчас же начал снаряжать свою лошадь, собираясь ехать в Москву. Простясь с отцом, он отправился в дорогу и прибыл через несколько дней в столицу.
– Не знаешь ли, земляк, – спросил он первого попавшегося ему навстречу прохожего, – где сейчас царь-батюшка? В Кремле?
– А зачем тебе это знать? – спросил прохожий, взглянув на него недоверчиво.
– Да надо мне ему поклониться.
– Три дня назад, двадцать восьмого апреля, царь отплыл на судах по Москве-реке в поход под Азов на турецкого султана.
– Вот горе-то какое!
– Да подай ты свою челобитную в приказ. Теперь при царе Петре Алексеиче и суд и расправа в приказах идут по-другому.
– Нельзя, земляк, у меня дело не такое.
– Ну так придется тебе подождать, пока царь из похода не вернется. Ты, видно, недавно в Москву приехал?
– Да только вот сейчас с заставы.
– Приехал бы дня на три раньше, так увидел бы, как царь с Преображенским, Семеновским да пятью стрелецкими полками рассаживался по судам у Каменного Всесвятского моста. Было на что посмотреть! Лишь только суда поплыли вниз по Москве-реке, на небе появилось облако и грянул гром, а с судов стреляли из пушек да из мушкетов. Старые люди говорят, что гром к добру… Однако заговорился я тут с тобой. Пора мне идти. Прощай, любезный!
Прохожий удалился, а Емельян, вздохнув, поехал на постоялый двор, оставил там свою лошадь и пошел на Красную площадь.
– Караул! – закричал он. – Караул! Слово и дело!
Мгновенно собралась вокруг него толпа народа.
– Что ты горланишь? – спросил его грозным голосом протиснувшийся сквозь толпу человек в сером кафтане и с длинной рогатиной в руке.
– А тебе-то что за дело? – ответил Емельян.
– Как что за дело! – заметил один из собравшихся. – Разве ты не видишь, что это Алеша?[11] Дай ему алтын или ступай в приказ.
– Проходи своей дорогой, – грозно прикрикнул блюститель общественного порядка. – А ты, голубчик, иди со мной в приказ.
– Пойдем. Мне как раз это и нужно.
Емельян без сопротивления последовал за Алешей и вскоре подошел с ним к дому, где размещался Стрелецкий приказ. Алеша, оставив его в сенях под надзором сторожа, вошел в комнату и сказал одному из подьячих, что привел с площади крестьянина, который говорит о деле государственной важности. Подьячий немедленно доложил об этом дьяку, а тот боярину Ивану Борисовичу Троекурову, начальнику Стрелецкого приказа.
– Позовите его сюда! – сказал боярин. – Надо его допросить.
Сторож ввел Емельяна, держа его за ворот, в комнату, где сидел боярин, и по приказу того вышел.
Спросив имя, звание и ремесло у приведенного, боярин приказал дьяку записывать его ответы и продолжал:
– Какое же у тебя дело? Отвечай! Измена, что ли, или на царя кто замышляет недоброе?
– Нет, боярин! – отвечал Емельян, поклонившись ему в ноги. – Измена – не измена, а дело важное.
– Что же это такое? Говори побыстрее. Мне некогда долго здесь с тобой беседы беседовать.
– Да придумал я, боярин, как сделать крылья и летать по-журавлиному. Не оставь меня, кормилец, и будь ко мне милостив, отец родной!
Емельян снова поклонился князю в ноги.
– Летать по-журавлиному? Да не с ума ли ты сошел? – воскликнул боярин, подскочив на скамье от удивления.
– Ты, Федот Ильич, слышал, что он сказал? – спросил князь, обращаясь к сидевшему с ним за одним столом окольничему Лихачеву, который, по шарообразности своей и зеленому кафтану, имел большое сходство с арбузом.
– Как не слыхать! – отвечал окольничий.
– Что ж ты думаешь?
– То же, что и ты, князь Иван Борисович.
– Да я еще ничего не думаю. Такого дела еще ни в одном приказе не бывало с тех пор, как мир стоит.
– Да полно, князь, как не бывать! В Уложении есть целая статья об этом.
– Ты, наверное, Федот Ильич, не расслышал, в чем дело. Ну-ка скажи: что он тут произнес?
– Он… просит управы на своего обидчика, – в замешательстве отвечал окольничий, который по необыкновенной рассеянности редко слушал, что в приказе говорили или читали.
– Не отгадал, Федот Ильич! Он хочет летать по-журавлиному.
– Полно шутить, князь.
– Я не шучу. Сам спроси.
Когда Емельян на вопрос окольничего повторил свою просьбу, то Федот Ильич, подняв руки вверх от удивления, посмотрел на князя.
– Что, Федот Ильич! – продолжал князь. – Поищи-ка статью в Уложении да разреши эту челобитную, пока я съезжу в думу. Мне уже пора.
Сказав это, Троекуров вышел.
– Послушай ты, удалая голова! – сказал окольничий Емельяну, приближаясь к нему. – Ты шутить, что ли, вздумал с приказом?
– Нет, боярин, я не шучу и знаю, о чем прошу. Если я не полечу, как журавль, то я в вашей воле.
– Да как же ты полетишь?
– Если мне дадут из государевой казны восемнадцать рублей, то я сделаю себе крылья и поднимусь так, что исчезну из глаз.
– А если обманешь, голубчик, тогда что с тобой делать, а?
– Тогда запишите восемнадцать рублей на меня. Я отвечу за них всем моим добром. У меня есть две тройки отличных лошадок да полдюжины телег.
– Это надо проверить, – сказал окольничий дьяку.
– Прикажи, боярин, послать на постоялый двор, где я живу, и спросить об этом хозяина – чернослободского купца Ивана Степаныча Попова. Его постоялый двор домов за десять отсюда.
– Пошли сейчас же кого-нибудь из подьячих, – сказал дьяку окольничий и принялся ходить взад-вперед по комнате.
Посланный подьячий вскоре возвратился и подтвердил показания Емельяна.
– Ну что ж теперь нам делать? – продолжал Федот Ильич. – Князь ведь приказал решить твою просьбу до его возвращения. Следует послать письмо в приказ Большой казны с просьбой о выдаче восемнадцати рублей.
Дьяк хотел возразить, но окольничий закричал:
– Не умничай и делай, что велят!
Дьяк, взяв перо, написал тотчас же бумагу следующего содержания:
«Сего 203 года, в 30 день апреля, закричал мужик караул и сказал за собою государево слово, и преведен в Стрелецкий приказ, и расспрашиван; а в распросе он сказал, что, сделав крылья, станет летать, как журавль. А станут те крылья в 18 рублев. И Стрелецкий приказ посылает в приказ Большой казны бумагу, чтобы те 18 рублей прислать без мотания[12]. А ответчик за них тот мужик всем своим добром и животными, если не полетит по-журавлиному».
Окольничий подписал бумагу, и сторож отнес ее в приказ.
Через полчаса явился оттуда дьяк, принеся с собой деньги. Окольничий Лихачев служил и в приказе Большой казны, заведуя отпуском сумм по требованию других приказов, поэтому дьяк, принеся с собой деньги, предъявил ему ответ на присланную бумагу и просил подписать.
– Давай сюда, – сказал окольничий и, подписав ответ самому себе, велел выдать деньги Емельяну, отпустив его домой для создания крыльев и приставив к нему сторожа.
К тому времени возвратился из думы князь Троекуров.
– Ну что, Федот Ильич, – спросил он, – как вы тут порешили?
Окольничий отчитался ему о своих распоряжениях.
– Наделал ты дел! – сказал князь. – Как же можно выдавать из государевой казны деньги без указа? А ты чего смотришь? Почему не сказал Федоту Ильичу, что так нельзя делать? – продолжал князь, обращаясь к дьяку.
– Я хотел было доложить его милости об этом, но он сказал мне: «Делай, что велят».
Федот Ильич, сильно встревоженный, предложил князю послать за Емельяном и вернуть деньги.
– Нет, так не годится. Лучше я выпрошу завтра указ у царя Ивана Алексеевича – вот уж он посмеется и велит деньги отпустить.
Бедный Федор Ильич из-за волнения не спал целую ночь.
На следующий день князь сообщил ему, что царя действительно рассмешила просьба крестьянина, и он приказал оставить деньги Емельяну, а потом доложить, полетит тот или нет.
– Однако, – добавил князь, желая попугать Федота Ильича, – выданные деньги следует взыскать с тебя, если этот малый не полетит.
– Как с меня! За что, князь? – переполошился испуганный Федот Ильич, который был столь же скуп, как и рассеян.
– Так приказано!
Федот Ильич в течение двух недель не знал покоя ни днем, ни ночью и ежедневно, отправляясь в приказ, заезжал к Емельяну, чтобы вместе с приставленным сторожем наблюдать за его работой.
Наконец он доложил князю, что крылья готовы.
– А из чего же он их сделал? – спросил князь.
– Из слюды. Он головой ручается, что полетит. Я велел устроить на Красной площади подмостки. Емельян со сторожем там уже нас дожидаются.
– Хорошо! Пойдем посмотрим, как он летает.
Федот Ильич подсадил князя в свою карету и повез его на площадь. Народ, глядя на подмостки, решил сначала, что кому-то будут рубить голову, но когда рассмотрел на них крестьянина с привязанными к рукам огромными крыльями, то повалил со всех сторон в несметном количестве. Князь и Федор Ильич были вынуждены выйти из кареты. Им с большим трудом удалось добраться до подмостков.
– Ну что, готовы твои крылья? – спросил Троекуров.
– Готовы, боярин, – ответил Емельян.
– Лети же быстрей! – приказал Федот Ильич, приходя в ужас от одной мысли, что ему придется заплатить восемнадцать рублей в казну.
Емельян перекрестился и начал размахивать крыльями, подскакивая и вновь опускаясь на подмостки.
Все, кто был на площади, захохотали, кроме двух человек: самого Емельяна и Федота Ильича. Первого бросило в пот от усталости, а второго от страха.
– Да что ж ты не летишь, окаянный! – закричал он с досадой.
– Крылья-то я сделал чересчур тяжелые. Ладно, сделаю другие, полегче.
– И на тех также высоко полетишь! – заметил Троекуров.
– Так ведь не известно, князь! Необходимо испытать, – тут же вступил Федот Ильич. – А из чего ты собираешься новые крылья соорудить? – спросил он Емельяна.
– Да надо их сделать из ирши!
– А что такое ирша?
– Тонкая-претонкая баранья шкурка.
– Дай ему, князь, попробовать, – продолжал Федот Ильич. – Мне кажется, что на иршиных крыльях он обязательно полетит.
– Хорошо, пусть попробует. Только на новые крылья ты дай ему нужные деньги.
– А во сколько, любезный, они обойдутся? – спросил окольничий Емельяна.
– Да рублей в пять, не больше.
– А что так дорого?
– Дешевле не получается, боярин.
– Ну, нечего делать, если не получается. Дам я тебе пять рублей, только смотри у меня: чтобы обязательно полетел! – продолжал Федот Ильич, вздохнув и мысленно утешаясь, что тягостная пятирублевая жертва спасет его от взыскания еще более тягостной суммы.
По приказанию князя Емельян сошел с подмостков и едва-едва мог пробраться сквозь толпу до своего жилища. Все смотрели на него как на чудо, некоторые над ним подшучивали, другие приставали с расспросами. Федот Ильич расчищал ему дорогу, разгонял любопытных и проводил его до самых ворот постоялого двора.
Через две недели готовы были и другие крылья. Емельян опять явился на подмостки. Поддавшись уговорам Федота Ильича, князь Троекуров решил вместе с ним посмотреть на второй полет крестьянина-журавля. На Красной площади народу собралось еще больше, чем в первый раз.
Федот Ильич, терзаемый страхом и надеждой, совсем растерялся и в рассеянности нес такую несуразицу, что Троекуров не мог удержаться от смеха.
– Это умора, да и только, если он опять не полетит, – бормотал Федот Ильич, улыбаясь через силу и с заботливым видом поглядывая на Емельяна. – Впрочем, если ты, князь, на себя не надеешься, то я, по крайней мере, полечу.
– Как, разве и ты лететь собрался, да еще и со мной вместе?
– Тьфу ты, пропасть! Это забавно! Мне показалось, что и нам с тобой, князь, придется лететь. С чего это пришло мне в голову! Однако, любезный! Эй, любезный! Чего ж ты дожидаешься? Лети! – закричал он Емельяну.
Тот замахал крыльями. Долго махал, но ни с места!
– Маши сильнее, не ленись! – кричал Федот Ильич, утирая платком пот с лица. – Левым-то крылом махни хорошенько.
Наконец Емельян, утомившись, опустил крылья. Громкий смех поднялся на площади.
– Не робей, любезный, маши сильней! – кричал Федот Ильич.
– Нет, боярин, что-то не так. Совсем я из сил выбился.
– Ах ты, окаянный! Лети, говорят! Ведь крылья-то с прежними двадцать три рубля стоят, разбойник!
– Не могу, боярин, воля твоя, хоть голову руби!
Федот Ильич был в отчаянии и едва устоял на ногах, вообразив, что он, бросив в печь пять рублей, должен заплатить казне еще восемнадцать. По его приказу сторож взял Емельяна за ворот и повел в приказ под громкий хохот народа. Князь, возвращаясь, смеялся почти всю дорогу, а Федот Ильич чуть не плакал и до самого своего дома беспрестанно бранил Емельяна.
На другой день князь Троекуров заболел, и Федот Ильич занял его место в Стрелецком приказе. Он в первую очередь позаботился распорядиться о немедленной продаже всего имущества Емельяна для возвращения в казну выданных ему денег. Дьяк советовал Федоту Ильичу не спешить и дождаться выздоровления князя, но окольничий и слышать ничего не хотел. И лошади, и телеги, и праздничный кафтан бедного воздухоплавателя были проданы, и его отпустили из приказа с одним только изношенным тулупом и со строгим обещанием, чтобы он впредь летать по-журавлиному не осмеливался.
– Пропала моя головушка! – сам себе с глубоким вздохом сказал бедняк, выходя из приказа. – Уж, видно, так мне на роду написано! Не видать уж мне до гробовой доски ни отца, ни невесты моей! Как я им теперь на глаза покажусь этаким нищим! Ох, горе, горе! Было у меня добро, да сплыло! Одна только копеечка в мошне от всего осталась!
В горестных размышлениях шел он прямо улицей, потупив глаза в землю, и неожиданно поравнялся с Отдаточным двором, где в старину русский народ обыкновенно топил горе и кручину.
Емельян вынул из мошны свою последнюю копейку и пошел к воротам Отдаточного двора.
– Подай милостыню, Христа ради! – сказал слабым голосам дряхлый седой старик, тащившийся на костылях мимо ворот Отдаточного двора.
– Христа ради? – повторил Емельян про себя, посмотрел на ворота, потом на нищего и отдал ему свою копейку.
– Награди тебя Господи! – прошептал старик, крестясь.
Емельян пошел по улице дальше и ощутил в душе то утешительное чувство, которое появляется после доброго дела. Какой-то внутренний голос говорил ему: «Не горюй, Емельян! Бог тебя не оставит».
Кое-как прожил он в Москве до октября месяца и кормился поденной работой. Десятого октября возвратился в Москву Петр Великий из Азовского похода, который кончился из-за измены неудачей. Уроженец Германии Яков Янсон, бывший при осаде Азова, заколотил русские пушки и перешел на сторону турок, которые немедленно совершили вылазку и нанесли русским значительный урон. Петр Великий вскоре вынужден был снять осаду. Однако эта неудача не умерила его пыла, и он начал уже задумывать новый поход для взятия Азова. В декабре того же года по воле царя бросили клич, чтобы всяких чинов люди шли в Преображенское и записывались в поход под Азов. Не долго думал Емельян. Рано утром, усердно помолившись в Успенском соборе, пошел он в Преображенское и, по просьбе его, был принят в Семеновский полк. Всем поступившим на службу по доброй воле были отведены в Преображенском специальные избы.
Наступили святки, и в селе начались разные потехи и веселости. Дочери солдат смотрели в зеркало на месяц, слушали под окнами, короче говоря, осуществляли первую строфу прекрасной баллады «Светлана». Молодицы, взявшись за руки, ходили по селу хороводами и пели песни. Их пугали иногда попадавшиеся навстречу солдаты, разнообразно наряженные.
Емельян стоял у окна избы и смотрел задумчиво на улицу. За столом, находившимся посредине покоя, сидели два солдата: один Преображенского полка, другой Бутырского. На первом был зеленый мундир с красными обшлагами, красный камзол и того же цвета штаны, на втором мундир, камзол и штаны были одного цвета – красного.
– Красивый у тебя мундир! – сказал преображенец солдату Бутырского полка. – Если бы можно было, то я к вам перешел.
– То-то же, – отвечал другой, приосанясь, – наш мундир не в пример лучше и вашего и семеновского. Взгляни-ка на Емельяна. Ну что за краса! Мундир синий, только камзол да штаны красные. Чу! слышишь? Экий хохот на улице! Что там такое делается, Емельян?
– Да над ряжеными смеются. Угораздило кого-то нарядиться журавлем! – ответил Емельян со вздохом, вспомнив свой неудачный полет.
– Уж не тебя ли они дразнят, проклятый? – сказал преображенец. – Да скажи, брат, как тебе взбрело в голову летать по-журавлиному?
– Долго рассказывать, Антипыч!
– Жаль мне тебя, молодца! Кручина у тебя на лбу написана. Да и немудрено. И всякий бы призадумался, если бы, как ты, пролетал все свое добро и пожитки!
– Не о себе я тужу, Антипыч, а о своем старике. Отец-то мой не знает, что я теперь солдат и что скоро пойду в поход под бусурманами. И проститься мне с ним не удастся!
– С кем не удастся проститься? – спросил неожиданно вошедший в избу офицер Преображенского полка. За ним вошли генералы Гордон, Лефорт и Головин.
Емельян и два его товарища вскочили и вытянулись. Когда офицер повторил свой вопрос, Емельян, заикаясь от робости, ответил, что ему хотелось бы перед походом проститься с отцом.
– А где живет отец твой и кто он таков?
– Землепашец. Дней в восемь можно к нему сходить и вернуться.
– Да разве ты без его ведома записался в солдаты?
– Без его ведома, господин офицер, единственно по собственному желанию.
– Нехорошо ты сделал: Бог учит почитать родителей. Сходи к отцу, и если он даст благословение, то останешься солдатом, а нет, тогда возвращайся и верни капралу казенное платье и ступай к отцу. Кто худой сын, тот и худой слуга царю. Как зовут тебя?
– Емельяном.
– А вы что за люди? – спросил офицер, обращаясь к товарищам Емельяна.
– Мы оба из монастырских служек, – отвечал преображенец. – У обоих нет ни отца, ни матери, господин офицер! Надоело нам траву косить да воду возить, захотелось послужить царю-батюшке. Отслужили молебен Николаю Чудотворцу, да и пошли сюда.
– Вот и хорошо, ребята! Я надеюсь, что вы станете отличными солдатами. Помните Бога и усердно служите. За Богом молитва, а за царем служба не пропадет.
Сказав это, офицер с генералами вышли. Через некоторое время в избу вбежал капрал.
– Был здесь его величество? – спросил он, запыхавшись.
– Не было! – отвечал преображенец. – Приходили только какие-то четыре офицера. Один из них такой детина рослый: с тебя будет.
– Ах вы, неучи! Смотри, пожалуй! Да где у вас глаза-то были? Это сам царь изволил приходить! Он был во всех избах и осматривал вашу братию, новобранцев.
Емельян и два его товарища побледнели и, крестясь, уставились на капрала.
– Ахти беда какая! – прошептал преображенец. – Ведь нам и невдомек. Мы думали, что царь в золотом кафтане ходит, а на нем, батюшке, совсем такой же кафтан, как и на нас, окаянных!
– Вытянулись ли вы перед ним, неотесанные? Отвечали ли ему по уставу? Верно, наврали с три короба на свою голову?
– Да, кажется, лишнего мы ничего не сказали, господин капрал.
– Величали ли его, как надобно?
– Кажется, величали! – ответил преображенец и почувствовал в руках и ногах пробежавший от страха холод, что назвал царя господином офицером.
– Ахти, Господи, грех какой! – прошептал Емельян дрожащим голосом. – Издали-то я царя не однажды видел в Москве, а раз видел и вблизи, как он меня на мосту изволил дубинкой ударить. Знать, кто-нибудь на меня куриную слепоту напустил.
– То-то куриную слепоту! Этак ты и на часах ослепнешь, солдату всегда надо глядеть в оба. Наделали вы дела окаянного: теперь вам всем беда, да и мне с вами вместе! Ведь мне приказано вас учить, пустые головы!
– А что, господин капрал, повесят нас или расстреляют? – спросил, вздохнув, преображенец.
Капрал не отвечал ничего, а начал нервно ходить по избе взад и вперед. Емельян и его товарищи стояли неподвижно, опустив голову и потупив глаза в пол.
Вдруг дверь отворилась, и вошел придворный служитель с большой глиняной кружкой в одной руке и с корзиной в другой.
– Вот вам кружка вина да корзинка съестного, – сказал он, ставя ту и другую на стол. – Его величество велел выпить за его здравие, ради праздника!
– Гора с плеч свалилась! – прошептал капрал. – Стало быть, он не сердится! Нечего сказать – не царь у нас, а отец!
– Это пятая изба, господин капрал? – спросил служитель.
– Пятая.
– А которого из них зовут Емельяном?
– Да вот этого.
– Возьми-ка, родной: царь пожаловал тебе рублевик на дорогу. Тебя он к отцу-то послал?
Емельян кивнул вместо ответа головой, потому что не мог ни слова выговорить, взял рублевик, поцеловал его и заплакал.
– Что, брат! – воскликнул капрал, ударив Емельяна по плечу. – Каков наш царь-то? Дай ему, Господи, много лет здравствовать! Уж за то и мы его, ребята, потешим! Возьмем Азов, хоть чертей в него посади турский султан вместо басурманов! Наливайте-ка себе стаканы, ребята! Ладно, да и гостю-то налейте. Подымай стаканы! За мной, разом! За здравие его царского величества! Ура!
– Ура! – закричали солдаты и осушили стаканы.
На другой день, вскоре после рассвета, Емельян отправился в дорогу. На третьи сутки приблизился он к деревне, где жил отец его. Сердце Емельяна забилось сильнее, и он не сразу решился подойти к избе, к которой до этого пускался вскачь на своем любимом гнедке, когда приезжал из Москвы к отцу в гости. Тяжело вздохнув, наконец постучался он в калитку. Пономарь Савва был в это время в гостях у старика Архипа и собирался уже ехать домой.
– И так прощения просим, Архип Иванович! – говорил пономарь, целуясь с отцом Емельяна. – Ей-богу, я бы еще подождал и не стал бы тебя огорчать, да сам ты посуди: за что ж я упущу хорошего жениха? Он уже кораблик совсем почти сделал. По всему видно, что сын твой раздумал жениться. Ты так ничего о нем до сих пор не слыхал?
– Ни слуху ни духу, Савва Потапыч! – отвечал старик, вздыхая. – Уж иногда приходит мне на ум… Чу! никак кто-то стучит в ворота? Уж не он ли пришел, мой голубчик?
Между тем Емельян перелез через ворота и вошел в избу.
– Сын мой любезный! – закричал старик, бросаясь к нему на шею. После первого порыва радости Архип отошел от сына и, осмотрев его с головы до ног, с ужасом спросил:
– Что на тебе за наряд? Уж не в солдаты ли ты попал, мое дитятко?
– Видно, так мне было на роду написано, родимый батюшка! Скоро уйду я в поход, и пришел я проститься с тобой да просить твоего родительского благословения.
Емельян бросился к отцу в ноги.
– Ах, Господи, горе какое! – воскликнул старик, всплеснув руками. – Да как ты это, сын мой любезный, попал в солдаты?
Емельян рассказал свое приключение в Москве.
– Ах, горе, горе! – повторял старик, утирая слезы. – Недаром у меня сердце ныло! Либо ты положишь свои косточки на чужой стороне, либо я не дождусь тебя. Нет, нам уж не увидеться с тобой на белом свете. Простимся, дитятко!
Старик прижал к своей груди голову сына и горько заплакал.
– Вздумалось же тебе, дитятко, летать по-журавлиному! – продолжал он, всхлипывая. – Погубил ты свою головушку!
– Не отчаивайся, родимый батюшка! Сам царь изволил говорить со мною, велел просить твоего благословения, без того-де в полк меня не примет, и сказал: за Богом молитва, а за царем служба не пропадают!
– Его царское величество говорить изволил с тобой? – сказал пономарь, взявшись за бороду. – Господи, Твоя воля!
– И пожаловал мне рублевик на дорогу.
Старик Архип вдруг перестал плакать, подошел к полке, на которой стояли иконы, взял образ Николая Чудотворца и благословил сына.
– Молись Богу, сынок, и служи батюшке-царю верой и правдой: Господь не оставит тебя!
Они крепко обнялись.
Неизвестно, растрогало ли пономаря положение Емельяна или же возродилась в нем надежда определиться при дворцовой церкви по ходатайству будущего зятя, уже удостоившегося говорить с царем при самом вступлении в службу, только он вдруг, обратясь к Архипу, сказал:
– Дай Господь, чтобы сын твой скорее из похода воротился: тогда как раз и свадьбу сыграем, коли он не раздумает.
– Да разве ты, Савва Потапыч, уже не хочешь выдать дочку замуж за другого жениха? Бог весть, когда сын-то из похода вернется? Не долго ли тебе ждать будет?
– Подождем, дело не к спеху! Дочке-то моей и семнадцати лет нет: еще не состарится. Притом и то сказать, она про другого жениха и слушать не хочет. Пытал я и бранил ее, и стращал, и уговаривал, – плачет, да и только. Сын твой, вишь, больно ей приглянулся. Однако ж пора мне домой, уж ночь на дворе. Прощенья просим, Архип Иваныч! Простимся, Емельян Архипыч! Чай, мы уж не увидимся с тобой перед походом. Дай Господь тебе скорее возвратиться живому и здоровому да выслужить царскую милость. Прощения просим!
Пономарь обнял Емельяна и поцеловался с ним три раза. Емельян начал также собираться в дорогу.
– Да разве, родной, не ночуешь у меня?
– Нельзя, батюшка: царь отпустил меня на срок. Боюсь опоздать. Теперь же надо в дорогу отправляться.
– Хотя бы одну ночку еще ночевал ты у меня!.. Ну да делать нечего! И завтра мне не легче будет с тобой расставаться!
Старик подошел к своему сундуку, вынул оттуда все свое богатство: мошну, наполненную медными деньгами, и отдал сыну.
– Прости, дитятко! Благослови тебя Господь! – продолжал он всхлипывая и дрожащим голосом.
– Прости, прости, родимый батюшка! – воскликнул Емельян, бросаясь в объятия отца.
Долго они обнимались, не говоря ни слова, и слезы катились у обоих из глаз.
Пономарь, глядя на них, вздыхал из глубины сердца и гладил рукой свою бороду.
– Да не через наше ли село тебе путь лежит? – спросил он Емельяна.
Тот кивнул головой в знак утвердительного ответа.
– Так я тебя довезу до села, у меня ведь телега здесь.
– Благодарю!
С пономарем вышел Емельян за ворота и сел в телегу. Старик Архип еще раз обнял сына.
– Ну, матушка! – закричал пономарь, стегнув лошадь.
Она поскакала, и колеса телеги подняли пыль по дороге.
Долго еще старик Архип стоял у ворот и смотрел на удалявшегося сына, который издали ему кланялся. Наконец телега скрылась за лесистым пригорком. Архип все еще не отходил от ворот и слушал постепенно слабевший топот лошади, пока этот однообразный звук, казавшийся ему прощальным голосом сына, не исчез в отдалении.
Прошло около десяти месяцев, и наступил сентябрь. Тринадцатого числа народ толпился на московских площадях и улицах, в особенности у Всесвятского Каменного моста, с которого Петр Великий сел с войском на суда, отправляясь в первый Азовский поход. При входе на мост возвышались триумфальные ворота. На одной стороне их стоял Марс на постаменте, с мечом в правой руке и со щитом в левой, у ног его лежали татарский мурза и два скованных татарина. На другой стороне ворот, на таком же пьедестале, поставлен был Геркулес, державший в руках палицу и оливковую ветвь, у ног его лежал азовский паша и два турка в цепях. Ворота были украшены коврами из парчи с золотыми кистями, шелковыми обоями, литаврами, оружием и знаменами, наверху сидел двуглавый орел, увенчанный тремя коронами, под сводом ворот висел венец из лавровых ветвей. Сверх того, на них были изображены суда, приплывшие к Азову, и начертана надпись: «Бог с нами, никто же на нас!» С правой и с левой стороны ворот возвышались две пирамиды, увитые зелеными ветвями. На одной было написано: «Во славу храбрых воинов сухопутных!» На другой: «Во славу храбрых воинов морских!» От этих пирамид вдоль моста стояли огромные живописные картины, украшенные вместо рам лаврами. На одной изображалось сражение с татарами и приступ к Азову, на другой – морское сражение и Нептун с трезубцем и веслом на морском чудовище. Перила моста покрыты были персидскими коврами. В разных местах города и около триумфальных ворот стояли ряды стрельцов, не бывших в походе, с ружьями и пушками.
Весть о взятии Азова и готовившемся торжестве привлекла в Москву множество жителей из окрестных городов и деревень. В числе этих пришельцев находились отец Емельяна, пономарь Савва с дочерью и плотник Филимон, жених и кораблестроитель.
– Скажи, пожалуйста, Савва Потапыч, что это за воин и что за мужик с палицей у ворот стоят? – спросил Архип пономаря, указывая на Марса и Геркулеса.
– Один, должен быть, богатырь Еруслан Лазаревич, а другой богатырь же Илья Муромец, который тридцать лет сиднем сидел, а под ногами их басурманская нехристь валяется. Они ее в грязь втоптали. А вот видишь два столба-то по обеим сторонам ворот? На одном написано: «Во славу воинов морских», а на другом: «Во славу воинов сухопутных». Если Господь сохранил твоего сына, то и ему слава этим столбом воздается.
– Ох, Савва Потапыч, сердце что-то недоброе вещает: вряд ли сын воротится!
– Да полно, Архип Иваныч, нечего раньше времени тужить. Пойдем-ка лучше посмотрим картины на мосту. Тьфу ты, пропасть, теснота-то какая! Вряд ли нам туда продраться удастся. Все равно попробуем.
С большим трудом потеснились они на мосту.
– Вот видишь, Архип Иваныч! – продолжал пономарь, указывая на картину, изображавшую штурм Азова. – Я тебе растолкую, что на картинах изображено. Это, видишь, наши с басурманами дерутся на суше, а вот на другой картине басурманы с нашими борются на море.
– А кто это на звере-то сидит?
– Это, должно быть, сам сатана – наше место свято!
– Какой сатана! – сказал стоявший около пономаря человек, вероятно ученик Заиконоспасского монастыря. – Это Нептун, языческий бог морей.
– Вот еще вздумал меня учить! Что за топтун такой, да еще и бог морей. Видишь, он сидит на звере, а в руках-то вилы да лопата. Какой тебе бог морей! Тут и моря нет под ним, а только тьма кромешная. Я тебе говорю, что это сатана.
– Да разве ты не видишь надписи? Прочитай-ка, если умеешь.
– Если умеешь! Не чванься, любезный, не хуже тебя грамоту разбираем.
Пономарь начал читать надпись.
– Слово есть-се, иже-и, аз земля, ерваз…
– Да не трудись разбирать-то, я тебе без слогов прочту, – сказал молодой человек. – Се и аз поздравляю взятием Азова и вам покоряюсь. Как же можно, чтобы сатана поздравлял русское войско со взятием Азова?
– А почему бы и не так? – возразил пономарь. – Он ведь басурманской стороны держится, а как наша взяла, то делать-то ему и нечего: поневоле поздравлять и покориться.
– Грешно было бы русскому войску принять такое поздравление.
– Да ведь наши-то и не принимают. Видишь, вон все к нему спинами повернулись. Пусть себе поздравляет, его никто и не слушает, окаянного!
– Очищайте мост! – закричали Алеши. – Скоро войска пойдут.
Вместе с толпой народа наши зрители картин сошли с моста и стали в стороне недалеко от триумфальных ворот. Стрельцы вытянулись от ворот в два ряда и составили подобие улицы, по которой следовало проходить шествию.
Сначала появились девятнадцать конюхов. Один из них вел лошадь, на седле которой сооружен был шалаш. За ним ехал в карете бывший наставник Петра Великого думный дьяк Никита Моисеевич Зотов, державший щит с золотой цепью и украшенной бриллиантами саблей, поднесенной в дар гетманом Мазепой. За каретой следовали царские певчие. Потом вели шесть верховых лошадей в богатом уборе. Вслед за тем ехали в карете боярин Федор Алексеевич Шеин и кравчий Кирилл Алексеевич Нарышкин. За ними следовала карета Нарышкина, четыре нарядные коляски и четырнадцать богато убранных лошадей. Наконец, появилась триумфальная колесница, запряженная шестью серыми лошадьми. Она имела вид раковины, блестела позолотой и была украшена тритонами и дельфинами. На ней сидел генерал-адмирал Лефорт в белом мундире, обшитом серебряным гарусом. За ним несли его флаг и следовали морские солдаты, матросы, инженеры, артиллеристы и другие военные чины из иностранцев.
Стрельцы, мимо которых проезжала колесница, стреляли в честь адмирала из ружей.
– Не изволит ли ваша милость знать: кто это на золотой телеге-то едет? – спросил пономарь Савва стоявшего возле него купца с седою бородой.
– Это Франц Яковлевич Лефорт, командующий морских сил.
– Вот оно что! А из каких он? Чай, из немцев?
– Говорят, что он француженин, да все едино! Голландец ли, француженин ли – все тот же немец. Все они говорят по-своему, а по-нашему не умеют.
– Да как же он царю-то служит?
– Этот давно уж к нам приехал и научился говорить по-нашему. Царь его изволит очень жаловать. Поэтому видно, что он человек хороший. Уж батюшка царь Петр Алексеевич, не бойся, не полюбит человека плохого. А все-таки жаль, что он немец!
– А почему так, Илья Иванович? – спросил молодой купец.
– Поживи с мое, так и узнаешь почему! Насмотрелся я на этих иноземцев! Франц Яковлевич особая статья. Про него, заморского сокола, нельзя плохо говорить. Нет, а я говорю про мелких пташек, которых к нам налетели целые стаи из-за моря. Ведь нашего брата в грязь топчут! Мы-де и неучи, мы-де и плуты, мы-де и пьяницы. Наш хлеб едят да нас же позорят! Дают глупому холст, а он говорит толст! Зазнались они больно! Коли худо у нас, на Руси, так не милости к нам просим.
– Да они, Илья Иваныч, за тем сюда едут, что нас уму-разуму учить.
– Разве вашу братью безбородых! – сказал старик, поглаживая свою седую бороду. – Нет, приятель, нас, стариков, учить нечего! Подавай мне любого немца: я его в день пять раз проведу, а он мне еще спасибо скажет! Где немцу с русским тягаться: не глупее мы их!
– Нет, Илья Иваныч, они смышленее нас, надо правду сказать, все они люди грамотные, учились разным наукам. Теперь еще с ними мудрено нам, людям темным, тягаться. Конечно, как и мы в науках и разных заморских хитростях поднатореем, так им авось не уступим, только теперь…
– Да ты, брат, я вижу, где-то набрался немецкого духу. Верно, и табак уж покуриваешь, и черные книги читаешь. Смотри, любезный, не попадись нечистому в лапы. До греха не долго! Уж ничего не видя, ты земляков своих выдаешь и хвалишь заморских нехристей. Якшайся с ними побольше: научат они тебя уму-разуму! Ты этак скоро и совсем нашу матушку, святую Русь, разлюбишь.
– Нет, Илья Иваныч, не бывать этому! Напрасно ты на меня нападаешь! Греха нет и у иноземцев добру учиться.
– Ладно, ладно, учись, будет из тебя прок!
Между тем Лефорт приблизился к триумфальным воротам. Колесница остановилась, и на самой вершине ворот появился человек, наряженный гением, с слуховой трубой в полторы сажени длиною. Он навел эту трубу, как пушку, прямо на адмирала и вместо картечи осыпал его похвалами в следующих стихах:
Генерал-адмирал морских всех сил глава, Пришел, узрел, победил прегордого врага. Мужеством Командора турок вскоре поражен, Премногих же орудий и запасов си лишен. Сражением жестоким басурманы побежденны! Корысти их отбиты, корабли запаленны. Оставшиеся же в бегство ужасно устремились, Страх великий в Азов и всюду расширился. Но в помощь в город Азов от этих никто же вниде; Это возбранила морских то военных сила, И к сдаче город Азов всю шею склонил. И тем взятием весело поздравляем! Труды же Командора триумфом прославляем!За этой стихотворной картечью последовали настоящие, прозаические выстрелы из четырех пушек, стоявших у ворот, и потом началась пальба из всех орудий, при стрелецких полках находившихся, зазвонили в колокола, заиграли на трубах и ударили в литавры и барабаны.
«Ура!» – закричали тысячи голосов. Однако ж в их числе не раздавался голос старика купца, который, как мы видели выше, с пономарем Саввою и с молодым купцом разговаривал. Последний спросил его:
– Что ж ты не кричишь, Илья Иваныч?
– Что ж не кричишь! Горло болит, так и не кричу. Вон Ванюха, мой приказчик, за меня горланит. Вишь, как он рот-то разинул!
– А разве не надо кричать? – спросил приказчик.
– Как хочешь! Мне что за дело, горло-то твое, а не мое.
Во время этого разговора Лефорт спустился с колесницы, прошел под триумфальными воротами, сел опять в колесницу, и его повезли через Белый город в Кремль. Потом через ворота пронесли значки и знамена, проехали тридцать всадников в латах и две роты трубачей, наконец, появилось большое царское знамя с изображенным на нем ликом Спасителя. За знаменем ехала карета, запряженная в шесть лошадей. В ней сидели в полном облачении священник и дьякон, державшие образ Спасителя и золотой крест. За каретою на белом коне следовал боярин и воевода Алексей Семенович Шеин с саблей в руке, в русском боярском кафтане из черного бархата, унизанного драгоценными каменьями и жемчугом. На шапке его развевалось белое перо; седая борода закрывала грудь его до половины. Боярина окружали шесть всадников с обнаженными палашами и сопровождали завоеводчики, дьяки и боярские дети его полка. Когда он подъехал к триумфальным воротам, то гений и на него навел свою длинную трубу и произнес стихи, в которых восхвалялось его мужество при взятии Азова и прославлялись победы над турками и татарами. Четыре вестовые пушки, стоявшие у ворот, грянули, и раздалась пальба из всех стрелецких орудий, звон на всех московских колокольнях, загремели трубы, литавры и барабаны при громких восклицаниях народа.
– Ура! – кричал старик купец со слезами на глазах от восторга.
– Илья Иваныч! – заметил молодой купец. – Ты, видно, забыл, что у тебя горло болит.
– Теперь зажило!.. Ура! Ура!.. Ванюха! – продолжал он, обратясь к своему приказчику. – Громче кричи, простофиля, не жалей горла! Ура!
Вслед за боярином солдаты волокли по земле шестнадцать турецких знамен. Потом шел пленный мурза Аталык, руки его были связаны шелковым платком. За ним ехал генерал Головин, сопровождаемый шестью всадниками с обнаженными палашами.
– Преображенцы! Преображенцы идут! – раздался говор в народе, и вскоре приблизились к воротам стройные ряды Преображенского полка, предваряемые самим государем в капитанском мундире. Народ, увидев царя, шедшего перед полком в виде простого офицера и предоставившего всю честь триумфа не себе, а войску и военачальникам, приведен был в неописуемый восторг и умиление. Оглушительные восклицания, подобно длинному перекату грома, потрясли воздух.
Старик купец плакал от радости, устремив на царя глаза, в которых живо выражались преданность и удивление. Он чуть не прыгал на месте, стараясь криком излить свои чувствования, но голос от сильного душевного движения ему изменял. Толкая в бок своего приказчика, он знаками побуждал Ванюху кричать сильнее, несмотря на то что последний, приложив руку к щеке, и без того так усердно горланил, что за версту можно было бы услышать его восклицания и счесть за мычание холмогорского быка. Петр Великий, проходя мимо крикуна, невольно оглянулся и не мог удержаться от улыбки.
За Преображенским полком следовал Семеновский.
Старик Архип с сильным биением сердца в каждом ряду солдат, проходившем мимо него, отыскивал глазами своего сына и, не находя его, печально повторял:
– И в этом ряду нет его, родимого!
Чем более проходило рядов, тем более усиливались в сердце старика страх и беспокойное ожидание. Эти же чувства гораздо больше волновали и другое сердце: Анюты, хотя стыдливость и принуждала ее с величайшим усилием скрывать свое волнение. Наконец приближается последний ряд солдат Семеновского полка. Нет и в нем Емельяна.
– Знать, он убит, мой родимый! – воскликнул горестно старик, посмотрел на небо, перекрестился и горько заплакал.
– Что это, дочка, ты так побледнела, что с тобой сделалось? – спросил пономарь Савва.
– Мне жаль Архипа Иваныча! – отвечала Анюта дрожащим голосом и также заплакала.
Пономарь начал утешать старика.
– Сердце мне говорило, – сказал последний, рыдая, – что он положит свои косточки на чужой стороне! И на могилке-то его мне не удалось поплакать!
В это время провезли на телеге изменника Янсона, выданного турками. Он одет был в турецком платье и стоял под виселицей, на которой было написано: «Сей злодей четырехкратною переменою закона изменил Богу и всему народу».
За ним шли стрелецкие полки. Генерал Гордон с Бутырским полком заканчивал шествие. У триумфальных ворот Гордону оказана была такая же честь, как и боярину Шеину.
– Господи, Твоя воля! – воскликнул пономарь, всматриваясь в одного из капралов Бутырского полка. – Да уж не он ли это? Посмотри-ка, Архип Иванович! Или мне померещилось?
Анюта, скрывшая свою горесть, не могла скрыть радости.
– Это он, это он! – закричала она.
Старик Архип, увидев своего сына, бросился к нему, но был остановлен стрельцами, ряд которых отделял зрителей от места, где проходил Бутырский полк.
– Пустите меня, мои батюшки, пустите! – кричал старик. – Дайте мне с ним поздороваться, дайте наглядеться на него! Погляди на меня, мое дитятко! Пустите меня к нему, отцы мои!
– Нельзя, старичок! – сказал один из стрельцов. – После с сыном поздороваешься. За наш ряд никого пропускать не велено.
Емельян, услышав голос отца, быстро оглянулся, но тотчас же начал опять смотреть вперед, боясь сбиться с шага. Радость не заставила его сделать ни малейшего движения, которое могло бы нарушить порядок торжественного шествия. Он не успел лишь совладеть с глазами своими: две слезы выкатились из них и упали на красное сукно его мундира.
Между тем кораблестроитель Филимон начал разговор с пономарем Саввою.
– Послушай, Савва Потапыч, ты знаешь пословицу: не дав слова, крепись, а дав, держись?
– Знаю.
– А если знаешь, то ты, верно, не забыл, что дал мне слово выдать за меня твою дочку. Или отопрешься?
– Нет, не отопрусь! Я сказал, что если твой корабль нырнет и выплывет, то Анюта твоя.
– Ну то-то же! Только вот что: Емельян-то Архипыч выслужился в капралы. Если по его челобитию переведут тебя дьячком в дворцовую церковь, то что ты станешь делать?
– Тогда дочку за него отдам.
– Правильно! А если мой кораблик нырнет да и выплывет, тогда за меня отдашь?
– Ну, конечно.
– Помилуй, Савва Потапыч, да разве можно одну невесту вдруг за двоих замуж отдать?
– Да будто твой кораблик-то и выплывет, этого быть не может!
– Выплывет, сам увидишь!
– Пустое!
– Нет, не пустое! Берегись, Савва Потапыч, выплывет! Тогда ведь я на тебя царю челом ударю.
– Ах ты, Господи! – воскликнул пономарь, испугавшись. – Чем же я виноват?
– А для чего ты двоим вдруг слово дал? Разве добрые люди так делают? Я кораблик свой завтра же покажу царю. Уж я от тебя не отстану. Моли Бога, чтоб Емельян Архипыч раздумал жениться, а если нет, то попадешь ты между двух огней. Батюшка-царь любит правду и с тобой не пошутит.
– Не сгуби меня, Филимон Пантелеич, что тебе в этом проку?
– Нет, не уговоришь меня! Прощай! Пойду снаряжать свой кораблик.
Бедный пономарь был в отчаянии и скорым шагом пошел с дочерью на постоялый двор.
«Наказание Божье! – бормотал он про себя. – Ой уж эти дочки! Нет жениха – плохо, а как много их – так еще хуже! Беда, да и только!»
На другой день утром совершен был благодарственный молебен в Успенском соборе. По окончании молебна царь вышел из церкви в сопровождении генералов, бояр и других знатных государственных чиновников и остановился с ними перед раскинутым шатром посредине площади, на которой стояли войска, бывшие в Азовском походе. Все особенно отличившиеся храбростью поочередно подходили к монарху, и он дарил из собственных рук кого золотой медалью, кого серебряным кубком, кого кафтаном на собольем меху, кого деньгами.
Когда дошла очередь до Емельяна, то он приблизился к царю, стал перед ним на колени и начал просить его, чтобы вместо назначенной ему награды царь повелел пономаря села Стоянова перевести дьячком в дворцовую церковь.
– Что это значит? Встань! – воскликнул Петр, нахмурив брови. – Как зовут его? – спросил царь, обратясь к генералу Гордону, начальнику Бутырского полка.
– Это капрал Иванов, государь, – отвечал Гордон, – тот самый, который из солдат Семеновского полка был переведен в мой полк капралом за то, что зажег подкоп, подорвавший азовскую стену.
– А, это он!.. Что за странная просьба, Иванов? Подумал ли ты, о чем и кого просишь?
Емельян, зная любовь царя к правде, откровенно объяснил причину своей просьбы. Он не скрыл ничего и рассказал даже, как неудачная попытка летать по-журавлиному лишила его всего имущества и принудила вступить в солдаты.
Царь несколько раз улыбался, слушая рассказ воздухоплавателя.
– Кто же велел продать все твое имение? Неужели ты, князь? – спросил царь, обратясь к Троекурову, который с прочими боярами стоял близ монарха.
– Не я, государь, а окольничий Лихачев, который во время моей болезни правил Стрелецким приказом.
– А кто велел выдать из казны деньги на крылья?
– Тот же окольничий Лихачев. Блаженной памяти царь Иоанн Алексеевич[13] повелел эти деньги не взыскивать.
– Зачем же их взыскали? Позвать сюда Лихачева.
Федот Ильич стоял позади бояр вместе с другими окольничими. Услышав повеление царя, он приблизился к нему и поклонился до земли.
– Послушай, ты, умная голова! – сказал гневно царь. – Как смел ты отпускать из казны самовольно деньги и потом их взыскивать против царского указа?
– Помилуй, великий государь! – воскликнул Федот Ильич, упав на колени.
– Много ли денег отпущено было из казны и сколько потом взыскано?
– Отпущено было восемнадцать рублей, да своих денег дал я пять рублей на вторые крылья, взыскано же было с челобитчика двадцать. Видя его бедность, я поступился ему своими собственными тремя рублями. Помилуй, великий государь!
– Только для сегодняшнего торжества я тебя прощаю. Осмелься у меня впредь бестолково выдавать казенные деньги и бестолково взыскивать! Эти деньи, собираемые с народа, должны быть не иначе употребляемы, как на пользу государства. В жаловании за мою службу я волен, а в этих деньгах должен я буду некогда отчет дать Богу![14] Помни это! Встань!.. За вину твою, однако ж, заплати Иванову сорок рублей.
Федот Ильич, услышав приговор царя, едва мог встать с земли. И невзысканные три рубля долго его мучили как упрек совести за важное преступление. Необходимость же заплатить сорок рублей ужаснула его больше, чем сабля, которую бы подняли, чтобы отрубить ему руку. Он немедленно отправился домой за деньгами и в тот же день вручил их Емельяну с таким отчаянием, как будто расставался с жизнью. С тех пор выходил он каждый раз из себя, если кто-нибудь при нем случайно или с намерением начинал говорить о журавлях или их полете.
В то самое время, как Федот Ильич удалился, кораблестроитель Филимон, каким-то образом протеснясь сквозь толпу, упал в ноги царю и воскликнул:
– Надежа-государь! помилуй!
– О чем ты просишь? Разве здесь место просить меня?
– Помилуй, надежа-государь! Построил я кораблик для твоей потехи: ныряет он под воду словно гагара. Кланяюсь тебе корабликом, а за то ты меня, государь, пожалуй и вели перевести пономаря села Стоянова дьячком в церковь, в твои царские палаты.
– Это что такое? – воскликнул удивленный Петр. – Двое просят об одном и том же пономаре! Ты смеешься, любезный Франц! – продолжал царь, взглянув на Лефорта. – В самом деле, это смешно! Счастье обоих челобитчиков, что я сегодня весел. Следовало бы их вразумить в пример другим, чтоб они не беспокоили царя вздорными просьбами. Для шутки займемся, любезный Франц, этим делом и разрешим его. Что это за примечательный пономарь?
Филимон, подумав, что Петр его спрашивает, ответил:
– Как тебе не знать, надежа-государь, пономаря Саввы? Не только в селе, но и в околотке у нас его всякий знает. Теперь он здесь в Москве на постоялом дворе и с дочерью.
Петр улыбнулся, а Лефорт захохотал.
– Почему ты за него просишь?
– А он обещал выдать за меня или за Емельяна Архипыча, вот за этого служивого, надежа-государь, свою дочку. Кто если из нас чудо выдумает да тебя, нашего батюшку, потешит, тот, говорит, будет мне и зять. Я и смастерил кораблик для твоей потехи, а Емельян Архипыч придумал летать по-журавлиному, да ему не посчастливилось, и пошел он в солдаты. И оба мы обещали выпросить Савве Потапычу царскую твою милость, чтобы ты велел, надежа-государь, перевести его дьячком в церковь, что в твоих царских палатах.
– А дочь его за кого из вас идти замуж хочет? Говори мне правду.
– Кажется, что ей больше приглянулся Емельян Архипыч, – отвечал Филимон, почесывая затылок. – Да ведь он, надежа-государь, не полетел по-журавлиному и тебя не потешил.
– Он потешил меня тем, что взорвал азовскую стену. Любезный Франц! Когда я окончу раздачу наград, отыщи пономаря Савву и его дочь. Узнай, кого она из двух женихов любит. Пусть она за того и замуж выйдет. Пономарю Савве скажи, чтобы он впредь был умнее и что доброму человеку следует выбирать женихов для счастия дочери, а не для собственных выгод. Пусть он остается пономарем в селе Стоянове. Этого кораблестроителя отдаю в твое распоряжение. Определи его на какую-нибудь верфь с хорошим жалованьем. Осмотри его кораблик, который, вероятно, так же глубоко ныряет, как высоко полетел этот молодец. Подойди, Иванов! Возьми эту медаль, я и впредь тебя не оставлю. Ты хоть сам и не полетел, но зато азовская стена от твоей руки полетела.
– Петр Иванович! – продолжал царь, обратясь к Гордону. – Поручаю твоему вниманию этого храброго капрала. Я уверен, что он и впредь будет служить по-прежнему. В короткое время этот журавль дослужился до капральского чина. Он напоминает мне греческого Икара. Только та между ними разница, что тот, поднявшись, упал, а этот, не поднявшись, возвысился. Молодец, русский Икар!
Примечания
1
При Петре Великом все достаточные жители Петербурга обязаны были в воскресные дни плавать на этих судах по Неве под командой невского адмирала.
(обратно)2
Стих Панкратия Сумарокова.
(обратно)3
При слове «пытка» нельзя не вспомнить с чувством народной гордости, что наше отечество опередило на пути человеколюбия просвещеннейшие государства Европы и что Екатериною Великой уничтожена была пытка еще тогда, когда в Европе считали ее необходимой принадлежностью судопроизводства.
(обратно)4
Так называли они всех не отделившихся от православной Церкви после исправления церковных книг патриархом Никоном.
(обратно)5
В 1751 году 1 октября были сочинены раскольниками феодосьевского толка сорок шесть правил Феодосьевского собора. За нарушение их положены в наказание большею частью поклоны, которых в сложности определено 13 600. Раскол этот основан в 1706 году дьячком Крестецкого яма Феодосием Васильевым, который, по перекрещении в раскол, назвался Дионисием.
(обратно)6
По правилам феодосиан наказывались сотнею поклонов те, которые не стригли волос по всей голове кругло, и даже отлучались от их сообщества.
(обратно)7
Феодосиане утверждали, что у них один Бог, а у не принадлежащих к их расколу – другой.
(обратно)8
Слободы эти начали строиться после ужасных пожаров 1736 и 1737 годов, когда дома адмиралтейских и морских служителей, занимавшие нынешние морские улицы, превращены были в пепел. Новое место, для постройки им домов отведенное, называли Колонией. Это слово превратилось в простонародном употреблении в Коломну.
(обратно)9
Супруга царя Иоанна Алексеевича, царица Прасковья Феодоровна (мать императрицы Анны Иоанновны), происходила из рода Салтыковых. Сестра царицы, Наталья Феодоровна, была в замужестве за князем Ромодановским. От них родилась дочь, княжна Екатерина Ивановна, вступившая в брак с графом Головкиным.
(обратно)10
Указом 17 января 1742 года Елизавета повелела возвратить Бирона с семейством и братьев его из ссылки и считать уволенными из русской службы. Потом повелено было Бирону жить в Ярославле, где он и пробыл до вступления на престол Петра III. Карл Бирон по возвращении из ссылки уехал в Курляндию и умер в своем поместье.
(обратно)11
Простой народ дал это прозвище избранным в 1695 году людям из боярских холопов, которые были обязаны вместо стрельцов тушить пожары и содержать караулы в Москве.
(обратно)12
Немедленно.
(обратно)13
Царь Иоанн Алексеевич скончался 29 января 1696 года, перед вторым Азовским походом.
(обратно)14
Собственные слова Петра Великого.
(обратно)

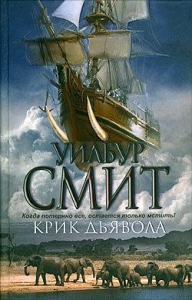

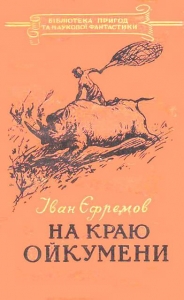



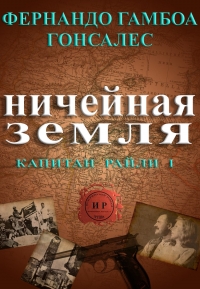
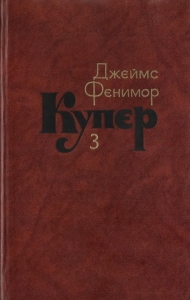
Комментарии к книге «Регенство Бирона. Осада Углича. Русский Икар», Константин Петрович Масальский
Всего 0 комментариев