Всеволод Соловьев Семья Горбатовых. Том 2
Волтерьянец. Часть вторая
I. ОПЯТЬ ВИНОВАТА
Прошло около недели с тех пор, как Таня послала Сергею свою лаконическую и красноречивую записку.
Весь первый день она с трепетом ждала его, но он не приехал. Значит, приедет завтра… значит, задержало его что-нибудь неотложное, что-нибудь важное. Но прошел и следующий день, а Сергея нет, и нет от него никакой вести.
Таня стала тревожиться, не знала, как объяснить такой поступок с его стороны. Час проходил за часом, еще день кончился, прошел и другой. Таня не спала ночей, бродила как тень, побледнела, похудела. Теперь одна тяжелая мысль не давала ей покоя: она решила, что случилось то, чего она вдруг испугалась в ту ночь, когда, после последнего свидания с ним решила внезапно восставшие перед нею вопросы.
«Да, так и есть — это наказание. Он вернулся только затем, чтобы обвинить ее, чтобы доказать ей, что она сама — единственная причина своего несчастья… Он вернулся, чтобы отомстить ей… он ее не любит… Теперь она навсегда уже его потеряла!»
Она так боялась возможности этого, что вдруг совершенно поверила в такую несообразность. Она как будто сразу потеряла свой рассудок, она забыла, что не имеет никакого права считать Сергея способным на такой поступок, что она оскорбляет его этим подозрением. Если бы кто из посторонних ей находился в подобных обстоятельствах, она, конечно, рассудила бы все как следует, она бы просто посмеялась над таким нелепым предположением, но в своем собственном деле она запуталась. В ней поднялись все муки внезапно вспыхнувшей и всю ее охватившей страсти, вся тоска разлуки. Таня негодовала на подобный поступок с его стороны, чувствуя оскорбление и в то же время, безнадежно опустив голову, она шептала:
— Я заслужила это. Так мне и следует… так и следует!
Прошел еще день, но она уже перестала ждать Сергея. Она знала, что все кончено, ей даже не пришло на ум, как это ни странным может показаться с первого раза, что с Сергеем случилось какое-нибудь несчастье, что он, может быть, серьезно болен, что, одним словом, у него нет физической возможности приехать к ней, известить ее. Она упорно оставалась со своим объяснением: все теперь было ясно, все кончено! Она жила как в тумане и заботилась только об одном, чтобы никто не замечал ее мучительного состояния. Она ни с кем не намерена делиться своим горем. Она выдержит его одна.
Между тем, она так истомилась за это время, что ее измученный, больной вид должен был обратить, наконец, на себя внимание. Как-то утром великая княгиня сама была измучена не менее ее. Она только что вернулась из Петербурга, она оставила императрицу мрачной и больной, оставила свою дочь, хотя на ногах, по-видимому, успокоившеюся, но такой бледной, такой грустной. Она была погружена в свои мысли, в свои собственные тревоги и страдания, но все же, взглянув на Таню, тотчас же заметила происшедшую в ней перемену.
— Милое дитя мое, что с вами? — сказала она своим тихим, ласковым голосом. — Посмотрите на меня… да вы больны! Что у вас болит? Отчего вы не скажете? Нужно поговорить с доктором… нельзя медлить… Разве возможно так пренебрегать своим здоровьем?
— Я вовсе не больна… я совсем здорова, ваше высочество, — ответила Таня.
— Как не больны, вы решительно больны! Дайте вашу руку.
Она взяла руку Тани, рука была холодна. На лице Тани выражалось такое утомление, даже ясные великолепные глаза ее как-то потухли!
— Сядьте сюда! — указала великая княгиня на место рядом с собою на маленьком диванчике. — Смотрите прямо на меня, и если вы не больны, то скажите, что такое случилось с вами? Какое несчастье? Ведь есть же что-нибудь, ведь не могло же у вас сделаться такое лицо без всякой причины. Я просто не узнаю вас. Все это время мы редко виделись, я почти здесь не бывала, я вся была в своих заботах, но не думайте, моя милая, что я к вам равнодушна, вы знаете, что я люблю вас. Будьте откровенны со мною, говорите.
Она наклонила к себе голову Тани и нежно ее поцеловала.
— Говорите, — еще тише, еще ласковее прошептала она.
Таня не была приучена к подобным ласкам — она видела их очень редко, и потому они не могли на нее не действовать, а теперь, когда ее нервы были так натянуты, когда она чувствовала себя такой несчастной, измученной, нежный поцелуй великой княгини, пожатие ее руки, ее тихий голос, произвели на нее почти потрясающее действие. Она хотела что-то сказать, но не могла произнести ни звука и вдруг громко, истерически зарыдала. Великая княгиня перепугалась, стала ее успокаивать, и когда, наконец, Таня совладела с собою и перестала рыдать, она сказала ей:
— Послушайте, друг мой, я вижу, что вы очень страдаете, но поэтому-то и прошу вас быть откровенной. Дайте мне узнать, в чем дело и решить самой: быть может, все совсем не так важно, как вам кажется. Я начинаю догадываться, но все же ничего не знаю. Я не знаю, что тут было во время моего отсутствия? Чем так огорчил вас ваш жених?
Таня даже вздрогнула.
— Он вовсе не жених мне, — прошептала она.
Великая княгиня взяла ее руку одной своей рукой, а другой обняла ее за талию и привлекла к себе.
— Voyons, ma chère [1],- на ухо прошептала она ей, — будьте умница, расскажите все спокойно. Поверьте, вам, во всяком случае, станет легче, когда вы выскажетесь.
Таня была совсем покорена и все рассказала, как на исповеди. Внимательно ее выслушав и задумавшись на несколько мгновений, Мария Федоровна подняла на неё свои светлые глаза и сказала:
— Вот я и была права! Хорошо, что вы мне все рассказали — это следовало бы сделать раньше. И знаете, мой друг, вы меня очень изумили; вы — такая разумная, такая рассудительная — и вдруг превратились совсем в маленькую дурочку. Откуда взяли вы все это? Зачем вы так обижаете вашего жениха, это очень нехорошо с вашей стороны! Я уверена, что он никогда бы не был способен заподозрить вас в том, в чем вы его подозреваете. Разве порядочные люди так поступают? Мне стыдно за вас, я говорю серьезно, и, пожалуйста, никогда никому не говорите того, что вы мне сказали — вам самим скоро будет стыдно за подобные мысли… Таня изумленно на нее глядела.
— Но, ваше высочество, да какое же другое объяснение может быть его поступку? Ведь вот целая неделя прошла, а его нет… Он даже не написал мне, даже не прислал карлика.
— Конечно, это очень важно, — сказала великая княгиня, — и, конечно, вы имеете полное основание очень тревожиться. Я тоже начинаю тревожиться. Мне кажется, вам уже несколько дней тому назад следовало постараться узнать, что с ним.
Таня мало-помалу начинала понимать свое безумие. Великая княгиня продолжала:
— Я полагаю, что с ним случилось что-нибудь не совсем обыкновенное. Что он жив, в этом не может быть сомнения, потому что иначе я бы услышала.
— Господи! Да что же могло случиться? — крикнула Таня, хватаясь за сердце.
Ее мысли сразу прояснились и, наконец, пришло ей в голову то, что должно было прийти давным-давно.
— В этом весь вопрос: что такое могло случиться? Это загадка, это очень странно и нам нужно как можно скорее разрешить эту загадку. Может быть, цесаревич знает, я спрошу его. Я сейчас пойду к нему, подождите меня.
Великая княгиня ушла, но скоро вернулась и сказала Тане, что, к сожалению, цесаревича она не застала, что он уже два часа как выехал из дворца.
— Я велела доложить мне, как только он вернется. Успокойтесь, мы сегодня же все узнаем и, конечно, ни минуты не промедлим.
Таня возвратилась в свои комнаты совсем в лихорадке.
«Да, что же это такое, — отчаянно думала она, — ведь я в самом деле сошла с ума! Что я за несчастное, за дрянное существо — всегда поступаю именно так, как поступать не следует… Во всю жизнь только делаю глупости, а ведь я считала себя умной, я дура… дура… несчастная, сумасшедшая дура!»
Она схватилась за голову, она себя ненавидела, презирала.
«Может быть, с ним Бог знает, что случилось, у него враги… этот ужасный Зубов, мало ли что может быть! Но что же, что может быть с ним?»
Она не могла ничего придумать.
«Знает ли цесаревич? А если знает, зачем же он молчит? Зачем он ничего не скажет? Он добрый… нет — какой он добрый! он жестокий, он мой мучитель… А если и он ничего не знает? Что же мне ждать — я должна ехать в Петербург…»
Она остановилась на этой мысли и решила только дождаться возвращения цесаревича, услышать, что он скажет, и немедленно же ехать. Объяснение было гораздо ближе, чем она думала.
Едва успела она решить свою поездку, как ей доложили, что приехал карлик из Петербурга и просит принять его.
— Карлик! Скорей, Скорей!.. Где он? Моська уже входил, запыхавшийся, мрачный.
— Степаныч, откуда ты? Где Сергей Борисыч? Что у вас такое случилось?
Моська поцеловал ее руку и запищал:
— Дай только дух перевести, золотая барышня, — все расскажу. Думал, уж не доеду, не увижу тебя. Ох, дела-то у нас какие!
— Какие дела?
Он развел руками. Таня так и впилась в него глазами, силясь прочесть на лице его.
— Что же, наконец, такое случилось? Где Сергей Борисыч? Жив он, здоров? Скажи ты мне хоть это.
— Жив… здоров, матушка.
— Говори правду. Ты меня не обманывай! Ты ничего от меня не скрываешь?
— Для чего скрывать… стану я скрывать от тебя! Говорю — жив, здоров… только от этого не легче. Такие дела! Такие дела!.. Ой, дай дух перевести! Голова идет кругом.
Он вскарабкался на стул, вынул свой свернутый в клубочек платок, вытер себе лицо и несколько раз тяжело перевел дыхание.
— Ведь я как сюда попал, матушка, ведь я убег… из-под караула… ведь, может, теперь меня как поймают, в Сибирь сошлют.
— Степаныч, ты хочешь свести меня с ума! Неужто же ты никак не можешь сказать, в чем дело… Потом все расскажешь подробно… Какой караул? Отчего Сергей Борисыч до сих пор не приезжал? Где он?
— В Петербурге, матушка, золотая барышня… в Петербурге Сергей Борисыч… в доме своем.
— Так что же?
— А отчего сюда не приехал, отчего ждать-то тебя заставил, да еще неведомо когда и выберется, так я скажу тебе отчего, — от безбожия, матушка, от безбожия все!
Таня рассердилась не на шутку.
— Нет, это невыносимо! — крикнула она. — Я тебя, Степаныч, за доброго человека всегда считала, я так полагала, что ты любишь нас, а это что же, ты пришел издеваться надо мною!.. Ты видишь, что я сама не своя, и только томишь меня больше… запутываешь… Что я могу понять из слов твоих!.. Да и слушать-то я тебя не хочу! Я уже решила, я еду в Петербург — я должна видеть Сергея Борисыча.
— Постой, золотая, не торопись… не сердись ты ради Бога, ваше сиятельство. Всему свое время будет… и в Петербург захочешь поехать… и поедешь, а торопиться-то так уж нечего. И за что ты это на меня так осердилась? Я тебе говорю то, что надо, что можно сказать, и сама ты увидишь, что иного ничего и говорить я не могу. Как тут говорить, когда такие дела вышли… Одно слово — Божеское наказание!
Таня в изнеможении упала на кресло. «Ну, что с ним делать!»
— Да говори же ты, говори… — сквозь слезы повторяла она.
— И говорю, и говорю, золотая, сама ты меня перебиваешь. Вот посиди-ка смирненько, да послушай, все и узнаешь. Тогда и увидишь сама, что ничего другого не мог я и сказать тебе по-первоначалу. Вот как получил это Сергей Борисыч твою записочку, призвал это он меня, велел распорядиться, чтобы пораньше утром карета была готова, что едем мы, дескать, в Гатчину. Так и решили, да тут он… как тебе сказать… ну, нечистый его попутал, такого он наговорил… Я ему сказывал, что Бог накажет — так и случилось! Утром — ехать нам — ан ехать-то и нельзя! В сенях-то, вишь, часовые поставлены… в своем-то собственном доме… и не пускают нас — ни его, ни меня, карету отложить и пришлось. Да вот с той поры и сидим взаперти: ни нас не пускают, ни к нам никого, никуда цидулки послать невозможно — перехватывают… под караулом мы.
— Да за что же, Степаныч? Я все же таки ничего не понимаю.
— А ты думаешь, голубка, мы-то много понимаем!.. Офицеры приехали, потом высшее петербургское начальство… сам набольший над всею полицею — как его прозвище-то, вот запамятовал — говорят, вишь ты, по царицыному указу. Вишь ты, в чем-то Сергей Борисыч провинился… Из Англии будто бумаги вывез какие-то, да с англичанином, с петербургским послом переговоры что-ли имел… Наплели и невесть чего! Разобидели, осрамили, оклеветали Сергея Борисыча… будто изверга какого, будто преступника… срам такой, что и не изживешь такого сраму… Плачу я, матушка, плачу, да слезами-то горю не поможешь.
И, говоря эти последние слова, карлик начал всхлипывать.
Таня сидела пораженная, едва веря ушам своим.
— Да, вот дела какие! — продолжал карлик сквозь слезы. — Весь кабинет Сергея Борисыча опечатали, в бумагах его рылись, потом взяли несколько пачек бумаг, увезли, да вот с той поры и сидим мы под караулом. Я не раз просился: выпустите, мол, — нет, не пускают — так полагаю, что и меня-то приплели — и я ведь в Англии-то был с Сергеем Борисычем, так, может, тоже какие бумаги вывез… Ах, Боже ты мой милостивый! И нашлись же такие гадины, что наклепали! И чем это кончится, как тут быть — ничего не понимаю.
— Как же ты, наконец, вырвался?
— Да как? Обманом. В первые-то дни ничего не действовало — сторожили нас ровно зверей диких. Я улещать… я то, другое, ничего не помогает… ну, а сегодня вырвался. Еще вчерась вечером из погреба достал бутылочки, все в плесени, а винцо в них такое… чудно действует… Ну, известное дело, двоих чертей этих, прости Господи, что меня сторожили, и угостил, — такую я даже историю читал где-то, не помню, как из-под караула убегают, напоивши стражников. Так вот и я, матушка, сделал, напоил их да и убег. Только что со мной за это будет, этого уж я не знаю; разве вот его высочество, государь всемилостивый, цесаревич за нас вступится, на него одного только надежда. Авось, Бог милостивый, на сей раз простит, не продолжит своего наказания.
— Какое тут божеское наказание? Что ты такое говоришь, Степаныч?
— А то, что не провинился бы Сергей Борисыч, так Господь такой беды и не попустил бы.
— В чем он провинился?
— Ну, уж я про то знаю. Лучше ты меня не спрашивай. А вот на-ко, ваше сиятельство, прочти, вот Сергей Борисыч тебе пишет… а тут письмо к цесаревичу… как бы это повидать его, похлопочи, матушка, слышал я — он в Гатчине… на него, говорю, только одна и надежда… он, может, выручит.
Таня схватила письмо Сергея.
— Что ж ты, Степаныч, креста на тебе нету! Да ты бы начал с того, что письмо мне отдать.
Но ей некогда было бранить карлика, она жадно пробегала строки Сергея. Впрочем, это письмо ничего нового не сказало ей относительно обстоятельств нежданного и странного ареста.
Сергей писал, глубоко возмущенный, измученный и оскорбленный. Зубов оговорил его перед государыней, а в чем — он и сам хорошенько понять не может, у него произведен обыск, взяты многие бумаги — конечно, в них не найдется ровно ничего предосудительного. Но, между тем, дни проходят за днями, а он все под арестом, в своем собственном доме, под унизительным, невозможным строжайшим арестом, оторванный от сообщения с кем бы то ни было. Когда к нему кто-нибудь приезжает, объявляют, что его нет дома, что его нет в Петербурге.
«И все это должно было случиться именно тогда, когда я рвался к вам, — заканчивал Сергей свое письмо, — когда я считал себя счастливейшим человеком в мире. Что должны были вы думать? Я совсем болен от этих мучений. Мне кажется все это невероятное приключение каким-то сном. Когда же, наконец, все это разъяснится? Я пишу цесаревичу — авось, он меня выручит! Но что может быть ужаснее — находиться в руках первого клеветника и негодяя. Я, право, боюсь сойти с ума!..»
— Пойдем, пойдем скорее! — торопливо шепнула Таня, схватила карлика за руку и почти побежала с ним в комнаты великой княгини.
II. РАЗЪЯСНЕНИЕ
Между тем, великая княгиня уже успела переговорить с возвратившимся цесаревичем и узнала от него, что ему неизвестна судьба, постигшая Сергея.
— Да и откуда же мне знать, — сказал он, — я в эти дни не выезжал из Гатчины. Ты была в Петербурге и скорее могла бы слышать. Конечно, это очень серьезно, — прибавил он, — и дело это никак нельзя оставить. Напрасно княжна не сказала раньше… Вот мы так поглощены своими делами, своими неприятностями, что забываем о других. Я виноват, я даже почти не видел княжны в эти дни, не думал о ней и о Горбатове… Нет, это немедленно же нужно выяснить… Конечно, я понимаю, в чем дело — это, наверное, штука Зубова.
— Но что он мог придумать?
— Э! разве трудно погубить человека! Но Горбатова я не могу оставить, я завтра же нарочно съезжу в Петербург и все узнаю.
Он в волнении стал ходить по своему кабинету.
— Когда же, наконец, окончится власть этого отвратительного человека! Когда на него откроются глаза! Успокой, Маша, нашу милую княжну, скажи ей, что мы не оставим ее дела. Я решусь на все, чтобы устроить их счастье — она и так чересчур долго ждала — я обещал ей и исполню свое обещание.
Великая княгиня едва успела вернуться к себе, как к ней вбежала Таня в сопровождении Моськи.
Запыхавшийся и перепуганный карлик расшаркивался по правилам старого этикета.
— Вот… вот, ваше высочество… — говорила в волнении Таня, — вот он приехал, привез письмо, и все объяснилось. Вы были правы… но все это так дико, невероятно, возмутительно…
И она наскоро, почти изнемогая от волнения, передала все, что узнала от Моськи.
— Так пойдем сейчас же к нему, — сказала Мария Федоровна. — Он ничего не знал до сих пор и очень огорчен, ему нужно рассказать подробно. И ты, любезный, пойдем с нами, — ласково обратилась она к карлику.
Цесаревич внимательно, насупив брови, выслушал рассказ Тани, прерываемый пояснениями Моськи, прочел письмо Сергея, где тот умолял его за него вступиться и верить его полнейшей невинности во всех возводимых на него преступлениях, о которых он не имел ни малейшего понятия.
— Будьте покойны, — мрачно проговорил цесаревич, обращаясь к Тане, — завтра же я буду в Петербурге, узнаю все подробности и сообщу вам, что можно сделать.
— Но я не могу ждать до завтра! — уже не владея собою, уже не находя необходимости скрываться, прошептала Таня. — Он в отчаянии, он так оскорблен, он пишет, что с ума сходит — и есть от чего сойти с ума. Я решилась, ваше высочество… я сейчас еду, я должна быть с ним, должна его успокоить.
— Пустое, — сказал цесаревич. — Это будет совсем неприлично, сударыня.
— Ваше высочество, есть обстоятельства, когда нельзя думать об условных приличиях, — твердо ответила Таня.
— Сегодня таких обстоятельств я еще не вижу. За одну ночь он еще не сойдет с ума и ничего с ним не случится. Да и, наконец, как видно из объяснений этого героя (он указал на Моську), вас и не пропустят. Вы сами виноваты: зачем вам было столько дней скрываться и ничего не предпринимать? Теперь, может быть, уже все было бы выяснено, и он оказался бы на свободе. Сударыня, вы поступили очень неразумно и теперь желаете завершить ваш способ действий новым неразумием, я запрещаю вам формально такой скандалезный поступок. Не далее как через сутки вы обо всем узнаете.
Но с Таней невозможно было теперь уже сладить: у нее явилась своя логика.
— Тем более, если я виновата, если я по своей глупости пропустила столько времени, — сказала она, — то я должна быть с ним и его успокоить.
Цесаревич пожал плечами и сердито от нее отвернулся.
— Ваше императорское высочество, благодетель вы наш, — прошептал карлик, — а мне-то что теперь делать? Надо бы известить Сергея Борисыча, — да как я вернусь? Меня схватят как беглого… в дом-то не впустят, а упекут куда ни на есть, и никто меня не сыщет.
— Да, пока тебе нечего возвращаться. Оставайся-ка здесь, да вот сторожи ее, чтобы она тоже куда-нибудь не убежала — от нее станется!
Весь этот день великая княгиня и карлик не покидали Таню, уговаривали ее успокоиться и терпеливо дожидаться результата поездки цесаревича. Сначала она было хотела ехать во что бы то ни стало, потом должна была сдаться на представляемые ей резоны.
Несколько придя в себя и собравшись с мыслями, она и сама поняла, что такая поездка очень неблагоразумна, а главное, пожалуй, не приведет ни к какому результату. Но ей было так тяжело знать, что он один, она чувствовала такую потребность быть теперь с ним, сказать ему, что каждая минута ее жизни принадлежит ему, исповедать перед ним свою новую тяжкую вину — это глупое, возмутительное подозрение, которое закралось в нее и превратилось даже в уверенность, из-за которого она несколько дней оставляла его среди опасностей, среди оскорблений. Теперь она, как ребенок, считала часы и минуты, и только карлик своими рассказами о житье в Лондоне несколько сокращал ей время…
Цесаревич исполнил свое обещание: на следующее утро очень рано выехал в Петербург.
Сначала он хотел было отправиться прямо к императрице, но затем раздумал- сперва нужно было собрать кое-какие справки, узнать, в чем состоят обвинения, взведенные на Сергея. К кому же обратиться? Он заехал к Нарышкину, но тот изумленно выслушал его вопрос о Горбатове и сказал, что ничего о нем не знает, полагал, что он нежданно выехал из Петербурга, а куда — не сказался.
Цесаревич не стал медлить ни минуты, велел везти себя в Зимний дворец, спросил, дома ли великий князь Александр Павлович и, узнав, что дома, велел просить его. Великий князь тоже ничего не слышал о Сергее.
— Здесь Ростопчин? — спросил цесаревич.
— Должно быть, здесь, я его видел с полчаса тому назад, — отвечал великий князь.
— Так вот что, мой милый, я тебя не задерживаю, только найди мне Ростопчина и пришли его.
Через несколько минут к цесаревичу входил молодой еще человек, очень некрасивый, с неправильными грубыми чертами; но это почти безобразное лицо освещалось такими умными глазами, представляла такую игру физиономии, что дурнота его скоро забывалась; оно начинало нравиться, делалось приятным.
Из первых же фраз, которыми обменялись цесаревич с Ростопчиным, было видно, что между ними существует значительная близость, было видно, что цесаревич очень жалует этого человека.
— Как ты полагаешь, сударь, зачем я сюда приехал, когда ехать вовсе не предполагал, и какие мне нужно справки?
— Я полагаю, что вашему высочеству нужна справка относительно того, что случилось с господином Горбатовым, — ответил Ростопчин.
— Да, это верно, и тебе не трудно было догадаться, так как великий князь сказал тебе, что я его об этом спрашивал. Но весь вопрос в том, можешь ли ты мне сообщить что-нибудь? Знаешь ли ты что-нибудь об этом деле?
— Знаю, ваше высочество.
— Так говори все, что знаешь.
— Господин Горбатов подвергнут аресту у себя в доме по настоянию князя Зубова. Его бумаги отобраны и находятся на рассмотрении князя. Дело держится в большом секрете.
— Все это я и сам знаю! — раздражительно перебил его Павел. — Мне нужно знать — в чем его обвиняют.
— Обвинения тяжки, его обвиняют в сношениях с английским посольством по поводу…
Ростопчин немного замялся, но затем тотчас же и докончил:
— По поводу шведского короля, или, вернее, герцога Зюдерманландского.
— Что? Что такое? — изумленно переспросил цесаревич.
— Насколько я мог узнать, — продолжал Ростопчин, — князь Зубов хочет доказать государыне, что господину Горбатову было дано секретное поручение из Лондона, по поводу которого он имел неоднократные объяснения с лордом Витвортом, и будто следствием всего этого был известный образ действий герцога Зюдерманландского.
— Довольно! — крикнул Павел. — Спасибо, сударь, теперь я все понимаю. Я узнал, что мне нужно. Хитро придумано, даже хитрее, чем можно было ожидать. Оставайся здесь, я сейчас съезжу в Таврический дворец, а потом ты мне, может быть, будешь нужен.
Сказав это, Павел поспешно встал и поехал к императрице. Екатерину уже более недели не видел никто, кроме самых приближенных к ней людей. Она не только не выезжала из Таврического дворца, но даже не выходила из своих комнат. Она не могла оправиться после дурноты, случившейся с ней 11-го сентября, чувствовала постоянную головную боль, у нее усилились припадки болезни, которою она страдала в течение нескольких лет — ноги ее сильно опухли, на них открылись раны.
Между немногими лицами, с которыми она виделась в это время, шли рассуждения о том, что она находится в очень мрачном настроении духа, что она постоянно озабочена, молчалива и выказывает признаки такого раздражения, какого в ней прежде никогда не замечалось. Цесаревич знал обо всем этом от великой княгини, и ему было очень трудно теперь решиться на свидание с императрицей, на объяснение с нею. Но это объяснение он считал долгом своей совести; у него не было другого выхода.
Он велел доложить о себе государыне и о том, что он просит ее немедленно принять его. Его не заставили ждать. Он застал Екатерину в маленьком кабинете перед маленьким письменным столиком, за которым она, месяц тому назад, принимала Сергея Горбатова. Но если уж тогда она имела больной и утомленный вид — теперь она казалась еще более больной и утомленной.
— Очень рада вас видеть, мой друг, — проговорила она, протягивая руку сыну, — я не ожидала вас. Вы так редко приезжаете, верно, какое-нибудь особенное дело привело. Что вам угодно? Я слушаю.
— Вы правы, дорогая матушка, я по делу, — смущенно проговорил Павел, целуя ее руку. — Матушка, будьте снисходительны, дозвольте мне узнать от вас, что такое случилось с Горбатовым? Почему он арестован? В чем его обвиняют?
Екатерина подняла брови с видом изумления.
— А, так вот дело, которое заставило вас приехать из Гатчины! А я и не знала, что вы принимаете в Горбатове такое участие… Впрочем — нет, мне говорили, что он у вас бывает… Но откуда же эта близость? Что общего между вами?
Цесаревич закусил губу. Он был готов вспыхнуть, но тотчас же совладел с собою и проговорил:
— Этот молодой человек мне всегда очень нравился, я всегда чувствовал к нему влечение. Он действительно был несколько раз в Гатчине, потому что он жених фрейлины моей жены, княжны Пересветовой.
— Да?.. Этого я никогда не слышала. Впрочем, я совсем не знаю княжну Пересветову — я видела ее всего, кажется, один раз. Очень красивая девушка, но мне говорили, что она какая-то странная, какая-то недотрога, невидимка. Впрочем, дело не в этом, мне все равно, если она нравится великой княгине, если великая княгиня довольна ею, то больше ничего и не надо… Так Горбатов ее жених! Жаль!
— Почему же жаль, матушка?
— Если она честная и хорошая девушка, то мне жаль, что она выбрала такого недостойного человека.
— Недостойного? Этот-то вопрос и нужно разрешить — действительно ли он недостойный человек?
— Видите ли, мой друг, — резким тоном перебила его императрица, — я сама считала Горбатова когда-то прекрасным юношей, я готова была прощать ему многое… Он очень плохо вел себя за границей, но я ему простила это, он остался на службе. Наконец, и теперь, когда он вернулся сюда, я, уже имея некоторые основания не совсем доверять его благонадежности, все же не хотела верить ничему дурному, что мне на его счет передавали. Я приняла его так, как, конечно, он не заслуживал, и что же — он оказывается изменником.
— Изменником? Это неправда! — горячо, резко крикнул цесаревич, весь багровея и вскакивая со стула.
— Неправда? Значит, я лгу?.. — протянула Екатерина. — Впрочем, прошу тебя успокоиться, я понимаю, что тебе трудно этому поверить, — я сама с трудом поверила, но обвинения слишком тяжки, да, наконец, все легко и объяснить: он оказался человеком честолюбивым. Он был недоволен своей службой, своим начальством, ему хотелось быстрых повышений. Он, может быть, считал себя обиженным, наконец, может быть, он даже имел какое-нибудь основание быть недовольным…
Цесаревич хотел сказать что-то, но остановился. Екатерина заметила это.
— Что вы говорите? — спросила она, пристально взглянув на него.
— Ничего, матушка, я слушаю.
— Ну, и вот он вздумал нам мстить. Он сошелся в Лондоне с людьми, враждебно относящимися к моему правительству. Вы должны знать, что Англия теперь торжествует после неудавшегося сватовства шведского короля. Этот брак вовсе не в видах Англии: она должна была постараться его расстроить. Теперь для меня все ясно: регент принял английские деньги — ему это не в первый раз! Он самым низким, самым наглым образом обманул наше доверие, насмеялся над всеми нами, поставил нас в такое тяжелое положение… Вы видите — дело не шуточное… вы видите — тут не одна я, тут мы все… Это так же должно быть вам близко, как и мне.
Лицо ее побагровело, глаза налились кровью. В волнении она хотела было подняться с кресла, но тут же и опустилась опять с тихим стоном.
— Матушка, и вы считаете Горбатова замешанным в это скверное дело?
— Да. Через него из Лондона переписывались с Витвортом… Он приехал как раз вовремя для того, чтобы устроить все это. Вот кого я ласково встретила! Вот кого я принимала на этом самом месте, — с кем я беседовала откровенно, как с человеком, достойным моей беседы! Какая же измена может быть хуже этой? Какое преступление найдете вы отвратительнее? О, он достоин примерного наказания! Я едва сдерживаю свое негодование. Я бы в двадцать четыре часа заставила Витворта выехать из Петербурга, но у нас руки связаны. Мы не можем сделать теперь разрыва с Англией… Но наших изменников карать мы обязаны.
Цесаревич побледнел.
— Ужасные обвинения, — проговорил он, — и если только есть в них хоть доля правды, несмотря на все свое расположение к Горбатову, я первый готов явиться его обвинителем, но, матушка… а если это клевета его врагов? Если он как есть ни в чем не повинен, а между тем, обвиняется в таком тяжком преступлении и должен понести за него наказание?..
Екатерина тяжело дышала.
— Разве я когда-нибудь была кровожадной и свирепой? Разве я на деле не доказывала, что следую моему правилу, что лучше оправдать несколько виновных, чем обвинить одного невинного? Я без явных доказательств обвинять и карать не стану.
— Где же эти доказательства?
— Они в руках у князя Платона Александровича.
Цесаревич стиснул зубы.
— Вы их видели?
— Нет еще. Платон Александрович представил мне достаточно улик для того, чтобы иметь право арестовать Горбатова и конфисковать его бумаги.
— Улик… В чем же состоят эти улики?
— Получено несколько писем из Лондона, удостоверены постоянные сношения, переговоры между Витвортом и Горбатовым в последнее время до 11-го сентября. Есть несколько свидетелей, которые утверждают, что слышали со стороны Витворта и со стороны Горбатова очень двусмысленные фразы.
Цесаревич едва сдерживал свое негодование.
— Все это недостаточные улики для того, чтобы так поступить с человеком, который никогда не подавал ни малейшего повода подозревать себя в таком тяжком преступлении, как измена. Если улики могут быть, то только в бумагах Горбатова, и эти бумаги нужно пересмотреть с полным беспристрастием, без предвзятой мысли…
— Так оно и делается, — сказала Екатерина.
Цесаревич несколько раз прошелся по комнате. Неужели он обманулся в Горбатове? Нет, этого быть не может! Нет, стыдно останавливаться на этой мысли.
Но он видел, что Зубову пришел в голову адский план. Он нашел именно тот способ, каким всего удобнее мог погубить ненавистного ему человека. Пущенное им название «вольтерьянец» не подействовало, так он воспользовался обстоятельствами, и обвинения его были ужасны. Ко всему бы императрица отнеслась осторожно и хладнокровно, во всяком бы деле была беспристрастна, но в деле, с которым было соединено неудавшееся сватовство Густава, она не могла быть беспристрастной. Для того, чтобы подвигнуть ее на всякую несправедливость, для того, чтобы заставить ее поступать так, как она никогда не поступала, нужно было именно коснуться этой ее раны, которая заставляла ее претерпевать невыносимые мучения, — и Зубов сделал это.
— Матушка, — проговорил, наконец, Павел, останавливаясь перед императрицей, — умоляю вас исполнить одну мою просьбу.
— Что такое?
— Прикажите передать вам все бумаги Горбатова и дозвольте мне рассмотреть их вместе с вами. Ради Бога, не отказывайте мне! Я чувствую, я уверен, что тут, по меньшей мере, недоразумение. Но если мы должны будем убедиться в виновности этого человека, то чем больше я ему верил, чем больше я был расположен к нему, тем вина его будет для меня ужаснее. Это дело, как вы справедливо выразились, — наше общее дело, и я могу быть защитником Горбатова только до той минуты, пока не увижу первого ясного намека на вину его, а увижу — я превращусь в его обвинителя. Матушка, исполните эту мою просьбу — вы мне окажете этим большую милость!
Императрица подумала несколько мгновений и потом уставшим голосом проговорила:
— Хорошо, я согласна, рассмотрим вместе его бумаги.
— Еще одно, матушка: могу я к нему съездить — я хочу его видеть.
— Делайте, что вам угодно, — произнесла Екатерина.
Она едва владела собой, она чувствовала в ногах такую страшную боль, что готова была кричать, но ей не хотелось показать своих страданий сыну.
Цесаревич поцеловал ее руку и вышел из комнаты.
III. ДОРОГИЕ ГОСТИ
Цесаревич вернулся к себе значительно успокоенный. Он сам, вследствие своей болезненной раздражительности, которая усиливалась в нем с каждым годом, был способен на быстрое необдуманное решение, но стоило этой раздражительности утихнуть, стоило его гневу пройти (а гнев его проходил быстро), и он тотчас же сознавал ошибку и спешил ее исправить. Перед ним всегда стоял идеал справедливости, которому он страстно поклонялся. Его сердце способно было чутко понимать такие тонкости, которые были совсем недоступны для многих людей, всегда спокойных, считающихся добрыми и справедливыми. При этом почти всю жизнь, чувствуя себя несчастливым, он пуще всего любил быть устроителем чужого счастья. Внезапная радость на человеческом лице, за минуту перед тем грустном и страдающем, радость, причиною которой был он, составляла его любимое зрелище, и вот, когда ему предстояло доставить себе такое зрелище, он забывал все собственные тревоги и заботы, отгонял свои мрачные мысли, входил в чужую жизнь и деятельно работал над благом ближнего.
Уединенная жизнь, почти полное отсутствие живой деятельности, в которой он не принимал участия не по своей вине, развили в нем большую мечтательность; его нервность, его с детства пылкое и яркое воображение способствовали этому. Перед ним постоянно носились красивые картины блаженной жизни, и поэтому он любил форму, любил эффекты… Но ведь эффекты нисколько не мешали благополучию близких ему людей: они тешили его, ничего не отнимая от доброго дела, которого он был устроителем. Так и теперь, он уже нарисовал себе яркую картину и, тотчас же возвратясь в Зимний дворец, присел за письменный стол и написал великой княгине:
«Друг мой, успокойте княжну и немедленно приезжайте с нею в Петербург».
С этой запиской был послан в Гатчину нарочный. Великая княгиня не заставила себя ждать. Она тотчас же пустилась в путь в сопровождении Тани и карлика. Но записка цесаревича была доставлена часов в шесть и, хотя сборы были недолги, все же они приехали только поздно вечером.
Цесаревич встретил их очень довольный.
— Благодарю, — сказал он великой княгине, — я не ожидал вас ранее завтрашнего утра, хорошо сделали, что не испугались позднего времени. Карлик с вами? Нужно позвать его.
— Я не стану томить вас, княжна, — обратился он к Тане, — у вас слишком усталое и бледное лицо, но мой рассказ, надеюсь, оживит вас. Потом вы хорошенько выспитесь, наутро будете свежи и прекрасны как всегда и своим блеском озарите несчастного узника.
Таня ничего не спрашивала, она знала цесаревича и видела, что он сейчас сам все расскажет.
В эту минуту вошел Моська. Он зорко всмотрелся в лицо цесаревича и подумал весело:
«Ну, слава тебе Господи, авось, вести не дурные!»
Вести действительно оказались не дурные, а главное, для Тани было то, что теперь явилась возможность увидеть Сергея — покуда ей только это и было нужно. Раз она с ним, она уже ничего не боится.
— А как же мне-то теперь быть? — робко спросил Моська.
— Тебе как быть, сударь? — шутливо обратился к нему цесаревич. — А никуда носу не показывать. Ты опять арестован… здесь, у меня арестован и коли вздумаешь, как вчера, спаивать караульных да замышлять побег, я с тобой разделаюсь как следует. Тогда уж не жди от меня пощады!
— Ваше императорское высочество, окажите божескую милость, — засматривая ему в глаза, лепетал карлик, — успокойте мою душу, скажите — что же теперь Сергею-то Борисычу? Ничего не будет? Арест-то скоро снимут?
— Этого я не могу сказать тебе — я почем знаю! Может, ему что и будет — его еще допросить надо, а коли виноват, то и казнить.
— Да кто же его допрашивать-то будет? — не зная, пугаться или нет, спросил Моська.
— Я буду допрашивать.
Карлик успокоился и с глубочайшим старомодным поклоном вышел из комнаты.
На следующее утро очень рано карета цесаревича подъезжала к дому Горбатова. Быстро распахнулись дверцы, быстро мелькнула мужская фигура в треугольной шляпе и за нею фигура стройной женщины. Большая зеркальная дверь отворилась, но караульные загородили вход. Цесаревич поднял голову и, взяв Таню под руку, прошел мимо изумленных и вытянувшихся в струнку солдат.
В доме было все тихо, прислуга бродила неслышно, испуганная, недоумевающая, пораженная странными обстоятельствами последних дней. Все имело вид, будто в доме или тяжко больной, или покойник. Такое же впечатление было произведено на Таню, и у нее невольно сжалось сердце. Цесаревич остановил первого попавшегося ему лакея.
— Где Сергей Борисыч? — спросил он.
— Почивать изволят! — отвечал совсем оторопевший лакей.
— Ступай доложи, что его дожидаются по важному делу, что очень спешно и нужно. Только не смей говорить, кто дожидается, а спросит — отвечай: «неведомо, какой господин». Скажи — «генерал», слышишь? Понял?
— Слушаюсь-с ва… ва… ва… — отвечал лакей, имевший случай прежде видеть цесаревича и его узнавший.
— Поздно встает! — заметил цесаревич Тане. — Теперь туалет свой будет делать, избаловался… petit-maître [2]… нам дожидаться придется. Смотрите, вы отучите его от такой лености, когда здесь хозяйкой будете.
Таня вся вспыхнула. Она теперь чувствовала себя совсем счастливой, она теперь знала, что он жив и здоров, иначе ведь лакей сказал бы. Цесаревич своим мерным военным шагом прохаживался с ней по большой роскошной зале, в которой они остановились.
— Я в первый раз в этом доме, — говорил он. — Хороший дом, обратите внимание, хозяюшка. Эх! да и вы тут избалуетесь в такой роскоши после нашего гатчинского убожества!
— Не избалуюсь, — прошептала Таня, едва слушая, что говорит цесаревич.
Она вся была ожидание. Но ждать пришлось недолго. Сергей уже давно встал и был готов, когда ему доложили, что неизвестный генерал его спрашивает по важному, спешному делу.
Шевельнулась, наконец, тяжелая драпировка, и на пороге залы показалась его стройная фигура. Бледный, мрачный, он сделал несколько шагов вперед и с невольным криком кинулся навстречу подходившим к нему цесаревичу и Тане.
— Таня! Ваше высочество!
Он совсем растерялся. Он крепко сжал руку Тани и в невольном порыве припал губами к протянутой ему руке цесаревича.
— Так вы явились спасти меня! — шептал он. — Я ждал вас… я предчувствовал это…
— Теперь не до нежностей, сударь, — принимая на себя суровый тон, сказал цесаревич. — Проводи куда-нибудь, где сесть можно.
И пока Сергей показывал им дорогу, он продолжал:
— Спасать тебя! Я не знаю еще, удастся ли это и заслуживаете ли вы этого, сударь? Знаете ли вы, какие тяжкие на вас обвинения?
— Ничего не знаю, ваше высочество, я знаю, от кого они происходят, кто автор этого нанесенного мне оскорбления, это я знаю, а остальное мне неизвестно. Меня лишили свободы, у меня отобрали все мои бумаги, и только благодаря преданности моего верного карлика, я мог послать вести в Гатчину. Меня стерегут, как зверя, как висельника.
— А вы чувствуете себя невинным, так, что ли?
— Конечно, ваше высочество, никакой вины за собой не знаю.
— Хочу верить, что так, но ведь говорят: нет дыму без пламени, к чему-нибудь да прицепились. Помоги же мне разъяснить вопрос этот.
И цесаревич передал Сергею — в чем состоят возведенные на него обвинения. Сергей слушал с глубоким негодованием. Он ожидал чего угодно, но не этого. Он думал, что на него взведена все та же басня о его вольтерьянстве — вольтерьянстве в том смысле, какой получило это слово в последние годы в России. Он думал, что его обвиняют в сношениях с деятелями французской революции, с якобинцами, что в обвинениях этих фигурирует имя Рено, но такого обвинения он не ждал и сразу понял всю злобу Зубова, все его расчеты.
— Откуда же могло произойти это? — спрашивал цесаревич.
— Откуда? Из того, что я действительно был три раза у лорда Витворта; я ему привез из Лондона письмо от его двоюродного брата, с которым постоянно встречался в лондонском обществе. Лорд Витворт, как вашему высочеству хорошо известно, человек умный, интересный, и я с большим удовольствием с ним беседовал. Я, вероятно, тоже представлял для него интерес, так как долгое время прожил в Лондоне и только что оттуда вернулся. Он мне был благодарен за доставленные ему мною письма и посылки. Он возвратил мне визит — вот и все.
— Да, конечно, — проговорил цесаревич, — иного я и не думал. Все это очень естественно, но мне нужно спросить тебя, и отвечай мне совсем искренно, — от этого много зависит, — что заключается в отобранных у тебя бумагах? Уверен ли ты, что в них не найдется ничего, чтобы могло повредить тебе, тебя компрометировать?
Сергей задумался.
— Мне очень тяжело, — сказал он, — что эти бумаги попали в такие руки. Из этих бумаг выяснится вся моя жизнь, и все их, от первой до последней, я, без малейшего колебания, мог бы отдать вашему высочеству… но они у Зубова. Между ними находится мой дневник, он не понравится Зубову — я всегда беседовал с собою откровенно.
— Твой дневник… дневник, — нахмурившись, повторил цесаревич. — Очень нужно было писать его! Этим, сударь, только девицы от скуки занимаются, а у вас, слава Богу, могли найтись и посерьезнее занятия. Дневник… Очень нужно было писать его! Бог вас знает, сударь, что вы там наболтали, вот теперь на себя и пеняйте! Как бы этот дневник не погубил вас! Тому бывали примеры…
Мысли его невольно вернулись ко времени его детства, он вспомнил своего первого воспитателя, молодого, талантливого Порошина, который был удален от двора и преждевременно погиб, главным образом, потому, что имел обыкновение откровенно беседовать с собою каждый вечер.
— Я могу только повторить, — сказал Сергей, заметив тревожный взгляд Тани, — что в дневнике моем не найдется ничего преступного. Он может только поднять желчь в господине Зубове, только в нем одном… но ведь он не станет от этого злее. Увеличить его злобу на меня ничего уже не может.
Цесаревич встал со своего места и начал ходить по комнате.
— Ну, заранее сказать трудно, там будет видно…
Он подошел к двери, ведшей из маленькой гостиной, где они находились, в рабочий кабинет Сергея. Он заглянул и увидел обширную комнату, заставленную книжными шкафами.
— Это что же, твоя библиотека, сударь? — обернувшись, спросил он Сергея.
— Да, ваше высочество, половина этих книг собрана мною еще прежде, привезена из деревни, затем много вывезено из-за границы.
Цесаревич поморщился.
— Воображаю, сколько вздора там теперь печатается! Наверное, много сочинений вредных по своему духу.
— Не думаю, ваше высочество, я выбирал книги осмотрительно, да и, наконец, все, что найдено предосудительным, задержано. Три ящика с книгами я так и не получил.
Павел взглянул на часы.
— Еще рано, — сказал он, — я дам вам четверть часа времени, побеседуйте! А я все же сам процензирую твою библиотеку. Давай ключи.
— Шкафы отперты, ваше высочество.
Павел прошел в кабинет, запер за собою дверь. Сергей и Таня остались вдвоем, в тишине маленькой, красивой гостиной.
Добрый волшебник не хотел мешать им своим присутствием. Они это хорошо поняли.
— Таня! Таня! — прошептал Сергей, беря ее руки и покрывая их поцелуями. — Вы здесь, у меня, наконец-то! Вы спасаете меня от отчаяния, которому я невольно стал предаваться. Судьба положительно смеется надо мною, уж теперь-то я не ждал такой беды, я ждал чего угодно, только не ареста в своем доме… и когда! — Ну, как же это не насмешка? В ту самую минуту, когда я собрался ехать к вам по вашему зову. Что вы должны были думать? Как объяснили вы себе мое отсутствие, мое молчание? Впрочем, нет — мне не надо знать это, теперь это не интересно. Вы здесь, все объяснилось, вы здесь, и этим вы отвечаете мне на все мои вопросы. Таня, наконец-то!.. Таня, вы забыли все? Вы простили то, в чем считали меня виновным перед вами? Мы ведь не расстанемся больше? Да? Скажи мне, моя дорогая!..
Она глядела на него совсем бледная, но, несмотря на эту бледность, от нее веяло счастьем, глаза ее блестели, она жадно вслушивалась в слова его.
— Да, да, — шепнула она, склоняясь над ним и улыбнувшись ему с такой лаской, с такой страстью, что он привлек ее к себе, и они долго не могли оторваться от жаркого, столько лет жданного поцелуя.
— Но постой, — вдруг сказала Таня, отстраняясь от него, но не выпуская его рук и продолжая сжимать их. — Постой, ты сказал сейчас, ты спросил меня, что думала я о твоем молчании, о твоем отсутствии?.. Тебе это не интересно теперь, а все же я должна сказать тебе, что думала, я должна признаться тебе в своей новой вине перед тобою!..
И она рассказала ему все, все свои глупые мысли. Она беспощадно относилась к себе, превратилась в немилосердную обвинительницу.
— Вот что я думала, вот в чем я была уверена до самого появления Степаныча, вот до какого безумия, до какого оскорбления тебя я дошла! Простишь ли ты меня? И стою ли я твоего прощения?
Сергей укоризненно качал головою, а лицо его все улыбалось. Куда девалась его бледность, его усталый вид, его холодная усмешка. На щеках его вспыхнул румянец, он совсем преобразился, он помолодел на несколько лет.
— Так вот как, Таня! Вот ты какого обо мне мнения! Да, это большая вина, это преступление и не следует прощать тебе! Но я глуп — и прощаю от всего сердца, только с одним условием, Таня, чтобы больше таких недоразумений, таких ошибок никогда не было между нами.
Она прижалась головой к груди его и шептала:
— Конечно, не будет! Этот долгий, мучительный сон прошел безвозвратно.
Она замолчали на несколько мгновений, и эти мгновения молчания были чуть ли не самыми счастливыми в их жизни.
— Значит, все решено, все кончено, значит, назло судьбе мы все же вместе и уж навсегда? — сказал Сергей.
— Навсегда, — повторила Таня.
— Значит, вычеркнем восемь лет из нашей жизни, я теперь вижу, что это возможно! Мне кажется теперь, моя дорогая, что я заснул, там, далеко, в голубой беседке твоего знаменского парка, помнишь, в тот ужасный и счастливый день, который начался нашим свиданием и кончился для меня так страшно, нежданной смертью отца моего? Да, мне кажется, что я заснул тогда и что вот теперь только сейчас проснулся. Ты та же, ты так же доверчиво на меня смотришь.
Он разглядывал ее прелестное лицо, он чувствовал, как бесконечно она дорога ему.
Но вдруг какая-то тень мелькнула по ее лицу.
— Та же! — грустно проговорила она. — Нет, Сережа.
И когда она произносила его имя, мило не выговаривая букву «р», ему действительно показалось, что он вернулся к давно позабытому времени. Она точно так же называла его, как тогда, в беседке, и он почему-то, как и тогда, обратил внимание на этот недостаток ее выговора.
— Та же! Та же! — восторженно шептал он.
— Нет, много прошло времени, — перебила она, доканчивая свою мысль, — а время никогда не проходит бесследно. Я постарела, я изменилась, я уже не та, что была прежде.
— Ты постарела? Ты изменилась? — изумленно и улыбаясь говорил он. — Да, ты права — время не прошло бесследно, разница есть. Разница в том, что ты несравненно красивее, лучше прежнего, и что я горячее люблю тебя, мы уже не дети — вот, в чем разница!..
Но им пора было несколько отстраниться друг от друга и принять более сдержанный вид — ручка из кабинета начала шевелиться, за дверью послышался громкий кашель. Охранявший их любовь волшебник предупреждал их о своем появлении. Цесаревич вошел, держа перед собою часы и в то же время окинув Сергея и Таню зорким взглядом.
— Однако пора! — сказал он. — Я долго возился с твоими книгами. У тебя есть некоторые издания, с которыми я незнаком, кое-что интересное — ты потом мне дашь эти книги для прочтения. Поедемте, сударыня! — обратился он к Тане.
— Я готова, ваше высочество.
— Готовы? И что же, ничего не забыли сказать ему? Если забыли, так припомните, потому что не известно теперь, когда увидитесь — он узник и до каких пор будет продолжаться его заключение, я не знаю.
Сергей подошел к цесаревичу.
— Ваше высочество, — сказал он дрогнувшим голосом, — довершите все ваши благодеяния, благословите нас как жениха и невесту.
— А! порешил! Ну, что ж, хоть и не время и не место — Бог с вами! Будьте счастливы!
Он движением руки подозвал к себе Таню, набожно перекрестил ее и Сергея, потом обнял и поцеловал их.
— Будьте счастливы! — повторил он. — Я рад! Я всегда знал, что вы этим кончите, так должно было совершиться… Теперь, Бог даст, ждать вам недолго! Я буду у вас посаженным отцом на свадьбе. Но теперь толковать об этом рано, прежде нужно освободить тебя, сударь. Пойдемте!
На глазах цесаревича стояли слезы, все лицо его улыбалось.
IV. СОРВАЛОСЬ
В это же самое утро Зубов явился со своими обычными докладами к императрице.
Исполненный печальных мыслей о постигшей его неудаче, силившийся подобрать нити английской интриги и никак не достигший этого, занятый погибелью ненавистного ему Сергея Горбатова более чем государственными делами, изливая свою злобу на приближенных, Зубов не замечал в это последнее время перемены, происшедшей в Екатерине. Каждый раз, входя к ней, он привычною фразой осведомлялся о ее здоровье, и на ответы, что она нехорошо себя чувствует, высказывал приличные случаю сожаления и утешения — этим все ограничивалось.
Но в это утро ее утомленный и страдальческий вид не ускользнул даже от его рассеянного взгляда. Он вдруг озабоченно взглянул на нее и уже не прежним, равнодушным тоном, а с оттенком испуга спросил: лучше ли она себя чувствует?
— Нисколько не лучше, — ответила она. — Сегодня мне совсем плохо — ноги замучили. Искусство Роджерсона оказывается бессильным. Он меня успокаивает, но не приносит мне никакого облегчения, и я по лицу его вижу, что он озабочен.
Роджерсон так давно лечил императрицу, так давно находился в числе близких к ней людей, которым она оказывала свое расположение и доверяла, что Зубов не мог его не ненавидеть. Он сумел в восемь лет своего влияния отдалить от нее многих, но почтенного медика отдалить не мог, и это только усиливало его к нему ненависть. Он пользовался каждым удобным случаем, чтобы задеть его, чтобы пустить на его счет язвительную фразу. Он все выжидал минуты, когда можно будет пошатнуть доверие к нему императрицы. Такая минута, наконец, наступила.
— Роджерсон! — презрительно проговорил он. — Я давно замечаю, что он гораздо ниже репутации, которую ему сделали, — он вовсе уж не такой проницательный и искусный доктор, как многие полагают.
— Во всяком случае, он хорошо знает мою натуру, — сказала Екатерина.
— К чему же поведет его это знание, если он не в силах помочь вам, если он не может даже облегчить ваши страдания?
— Ах, Боже! Человеческому искусству и знанию положен предел. Видно, подходит время, когда уже никто и ничто помочь мне не будет в состоянии! — печально заметила Екатерина.
— Зачем же такие ужасные мысли? Эти мысли — следствие ошибки Роджерсона. У вас такая крепкая организация, вы так сильны и бодры. Нужно найти только средство уничтожить эти временные страдания, вместе с ними пройдут и печальные мысли.
Екатерина грустно усмехнулась.
— Укажите мне такие средства.
— Я указать не могу, я не занимался медициной; но я знаю человека, который смыслит, наверное, больше Роджерсона и делает просто чудеса, излечивает самые сложные и опасные болезни.
— Кто же этот чудодей? — насмешливо спросила Екатерина.
— Я говорю очень серьезно, ваше величество, — если я решаюсь указать вам на этого человека, так потому, что имею много доказательств его искусства.
— Назовите его.
— Это Ламбро-Качиони, грек, о котором, вы, верно, слышали.
— Он, кажется, участвовал в последнюю войну против турок?
— Он самый, я хорошо его знаю и убежден, что он в самом скором времени поможет вам. Не далее еще как вчера я призывал его и рассказывал ему признаки вашей болезни. Он уверяет, что у него было много подобных случаев и что он ручается в скором и полном выздоровлении вашем, если вам угодно будет последовать его советам.
Екатерина задумалась. Она бодро выносила свои страдания, но мысль о серьезности и неизлечимости ее болезни, мысль о возможности близкой смерти начинала ее преследовать, а она еще хотела жить. И чем чаще приходили мрачные мысли, тем жажда жизни усиливалась в ней больше и больше. Она с ужасом замечала задумчивость Роджерсона. Она предчувствовала, что он не может ее вылечить, и готова была испробовать всякие средства, сулившие ей спасение. И вот Зубов называет ей грека Ламбро-Качиони, таким уверенным тоном говорит о его необыкновенном искусстве. Она уже слышала об этом греке.
— Если вы так в нем уверены, то призовите его ко мне, я готова испробовать его лечение. Только это нужно сделать осторожно, мне никак не хотелось бы обижать старика Роджерсона.
— Сегодня же Ламбро-Качиони здесь будет! — сказал Зубов.
Он был очень доволен и решился как можно скорее довести до сведения Роджерсона о том, что грек будет лечить императрицу.
— Какие у вас нынче дела? — спросила Екатерина. — Я хоть и больна, но все же не настолько, чтобы забывать о делах. Дайте мне ваши бумаги и принесите очки — вон, я их оставила на том столике.
Они принялись за работу, но на этот раз дел было мало — скоро все было кончено.
Екатерина сняла очки, понюхала табаку, приласкала завертевшуюся у ее ног собачонку. Зубов хотел уже удалиться, но она его остановила.
— Постойте, скажите мне, разобрали вы бумаги Горбатова?
— Нет еще, государыня, у меня столько дел…
— Так вот что, немедленно пришлите мне их, я сама займусь ими.
Зубова так и покоробило.
— Зачем же? Зачем вам беспокоиться? Я взялся за это, я и исполню. Наверно, в этих бумагах много пустяков и вздора, и это только затруднит вас. Я сделаю выборку и если найдется что-нибудь интересное, если окажутся даже письменные доказательства его виновности — я все это привезу.
— Ах, Бог мой! Но если я хочу сама разобрать эти бумаги! Я говорю вам, пришлите мне их немедленно, все без исключения. Я свободна сегодня… не выйду весь день из этой комнаты… Мне делать нечего… я и займусь…
Зубов пожал плечами.
— Это каприз больной, и его следует исполнить, мой друг! — улыбаясь, прибавила Екатерина.
Возражать было нечего.
— Желание вашего величества будет исполнено! — стараясь любезно улыбнуться, сказал Зубов.
Он был очень раздосадован. Он, конечно, уже хорошо ознакомился с бумагами Сергея, и не нашел в них никаких признаков его виновности в том преступлении, которое он взводил на него. Он не далее еще как сегодня утром принялся за чтение его дневника. Он встретил в этом дневнике и свое имя, и свою характеристику, доведшую его до крайних пределов бешенства. Он глотал страницу за страницей, жадно ища какой-нибудь чересчур резкой фразы, какого-нибудь непочтительного рассуждения об императрице, и, к досаде своей, не находил ничего подобного. У него уже мелькала мысль: нельзя ли подделаться под почерк Сергея, включить в дневник кое-что. Нельзя ли, с другой стороны, вырвать некоторые страницы. Но это оказалось довольно трудно и, во всяком случае требовало много времени, требовало большого искусства и осторожности.
Переслать бумаги императрице было необходимо, если она так настаивает, но, конечно, дневник он оставит у себя, он не может отдать его в таком виде. Как ни был он уверен в своей силе и в своем влиянии, но все же там было немало такого, чего бы он ни за что в мире не мог показать императрице. Этот проклятый дневник может навести ее на мысли, которые заставят ее кое-чем заинтересоваться. Нет, об этом и думать нечего, она не должна увидать этого дневника. Нужно будет придумать какое-нибудь новое доказательство виновности Горбатова. Если же это окажется невозможным, если не удастся окончательно погубить его, добиться его ссылки, то ведь, во всяком случае, он изрядно отомстил ему. Он прошел через всю его жизнь и испортил самое лучшее время этой жизни. И теперь, теперь ведь разве это не мщение? Он, этот гордый человек, чуть ли не единственный, осмелившийся не признать его величия, умеющий смущать его своим взглядом, он, представитель знаменитой старой фамилии, владетель огромного состояния — он уже целую неделю пленник в своем собственном доме. И хотя, по настоянию императрицы, это дело не разглашается, все же, конечно, многие о нем знают, а кто еще не знает, узнает в скором времени!..
«Воображаю, что с ним делается! — думал Зубов, и злорадная усмешка показалась на губах его. — Можно себе представить, как он обливается желчью в сознании своего бессилия, и ведь он отлично понимает, кому он всем обязан!..»
«Кидай мне свои презрительные взгляды, подымай передо мною голову, а все же я делаю с тобой все, что мне угодно. Все же ты в руках моих! Все же я заставлю тебя вспомнить тот час, когда ты осмелился оскорбить меня! Ну, что же, пускай тебе возвратят свободу, не думаю, чтобы ты ушел от меня… Одно не удастся, найду другое, отравлю каждый день твоей жизни. А теперь пусть она читает твои бумаги, может, и найдется в них такое, что и не понравится. А дневник не дам. Дневник я сохраню для себя!..»
И он не понимал, этот «дней гражданин золотых», что Горбатов будет только торжествовать, узнав, что некоторые страницы его дневника прочитаны и удержаны тем, о ком в них говорится. Он не догадался, что ему пуще всего нужно скрыть от Горбатова свое знакомство с дневником его.
Как бы то ни было, бумаги Сергея были доставлены императрице, и она, верная своему обещанию, известила об этом цесаревича, который тотчас же явился в Таврический дворец.
И вот, что случалось редко, Екатерина с Павлом за общей работой.
Они перебрали все, Екатерина внимательно прочла письма цесаревича к Сергею и только проговорила:
— Не знала, не знала я, что вы так с ним близки и так его любите!
— Надеюсь, матушка, что в этих письмах нет ничего предосудительного. Я писал ему только то, что мне диктовало желание принести ему нравственную пользу.
— Конечно, конечно! — поспешно проговорила Екатерина. — А это какие письма?
Это были милые, почти детские письма Тани. Цесаревич вдруг покраснел и нахмурился. Императрица заметила это.
— Что с вами? — спросила она.
— Мне пришло в голову, что мы заняты нехорошим делом, — это письма его невесты. Зачем вам читать их, надеюсь, не они заключают в себе доказательства виновности Горбатова.
— Я согласна с вами, отложим их в сторону. Что дальше? Теперь пропускать не будем. Во всяком случае, Горбатов должен простить нам нашу нескромность. Мы нескромны для его же блага.
— Да, приходится удовольствоваться этим оправданием.
Но как бы они ни желали быть придирчивыми (а они этого вовсе не желали), трудно было найти в этих бумагах, в этой переписке что-либо предосудительное. Напротив, когда чтение было окончено, перед ними выяснилось только несколько интересных фактов из жизни Сергея; из писем Рено, уже страстного деятеля контрреволюции, обрисовывалось несколько подробностей страшных событий французской истории — и только.
— Матушка, был ли я прав, прося вас быть осмотрительнее в этом деле и лично просмотреть его бумаги?
— Конечно, и очень благодарна. Но что же это значит? Откуда взялись эти тяжкие обвинения?
Цесаревич передал то, что он услышал от Сергея по поводу его сношений с лордом Витвортом. Екатерина была взволнована.
— Как же это?.. Такой ошибки быть не может! — смущенно проговорила она. — Я потребую объяснений от Платона Александровича.
Павел молчал, опустив глаза в землю.
— Да, я немедленно же потребую объяснений. Все это произошло от излишнего усердия, но я, во всяком случае, могу оправдывать такую неосмотрительность. Вам, конечно, будет приятно сообщить Горбатову о том, что он свободен. Объясните ему, что тут произошло недоразумение, о котором я искренно сожалею… Ограничьтесь этим, прошу вас. Да, сегодня же он будет свободен!
Цесаревич задумался на мгновение, соображая что-то. Потом вдруг решился и проговорил:
— Мне кажется, что теперь ему будет неудобно оставаться на службе в иностранной коллегии… Матушка, вы ничего не будете иметь против того, если я предложу ему какое-нибудь занятие при себе?
Екатерина нахмурила брови, неудовольствие выразилось на лице ее.
— Вы желаете, чтобы он перешел к вам, недовольный мною? Если и не в иностранной коллегии — ему найдется деятельность, и я именно должна загладить свою невольную ошибку, уничтожить в нем всякое неудовольствие… Я подумаю и найду ему назначение, которым он останется доволен…
— Не было бы жестоко в настоящее время разлучать его с невестой, а она у нас!
— Я, конечно, не стану мешать ему проводить время с невестой! — сухо заметила Екатерина.
Павел уже стал прощаться, но вдруг остановился.
— Ах, Бог мой, я и забыл совсем! — проговорил он. — Если эти бумаги не могли послужить к обвинению Горбатова, то есть еще кое-что… и очень важное. Горбатов сказал мне, что в числе отобранных от него бумаг находятся несколько тетрадей его дневника… Где же они?
Цесаревич вовсе не забыл о дневнике, он сразу заметил, что его недостает. Но сначала не хотел говорить об этом, теперь же он был раздражен. Он сообразил, что дневник вряд ли повредит Сергею, императрица, очевидно, к нему расположена. А, между тем, то обстоятельство, что Зубов осмелился скрыть дневник и не прислал его вместе с другими бумагами, было возмутительно, и он решился вывести это наружу.
— Дневник? Какой дневник? Вы уверены?.. Если был его дневник, то это, конечно, самое интересное в смысле оправдания или обвинения. Вы уверены, что у него эти тетради отобрали?
— С какой же стати ему было лгать?
— Да, конечно! Вероятно, Платон Александрович забыл прислать его… Я спрошу… и тогда все вместе нужно будет возвратить.
Цесаревич простился и вышел. Екатерина долго сидела с недовольным и сердитым лицом. Она даже забыла свои страдания. Как ни постарела она в последнее время, как ни была слаба относительно Зубова, влиянию которого бессознательно подчинялась, которому доверяла безусловно, к ней все же возвращалось иной раз ее беспристрастие, ее любовь к справедливости и прямому образу действий. И она не могла не видеть теперь, как много в деле Горбатова натяжки и фальши.
«Излишнее рвение! — успокаивала она себя. — Конечно, все это происходит и от легкомыслия… это нехорошо!..»
Но внутренний голос твердил ей, что здесь вовсе нет излишнего рвения, вовсе не одно легкомыслие. Здесь вражда, желание погубить человека, здесь обман и ложь.
И не в первый раз, не по поводу модного этого дела говорит ее внутренний, обвиняющий голос, он часто указывает на самые дурные, всегда ненавистные ей в людях свойства человека, которого она хотела считать безупречным. И ей тяжело… ей горько… Сколько раз готово было у нее сорваться гневное, обвиняющее слово и замирало невыговоренное, и она молчала, скрывала свое негодование, — она, которая прежде никогда не молчала в подобных случаях. Но теперь она должна все высказать. Он должен объяснить, должен оправдаться. Она дрожащей рукой написала несколько слов Зубову, раздражительно позвонила и приказала как можно скорее отвезти эту записку светлейшему князю.
Он не заставил себя ждать и явился очень скоро.
— Я уже переговорил с Ламбро-Качиони, сегодня к вечеру он здесь будет, если ваше величество найдете возможным принять его, — заговорил Зубов, входя.
— Хорошо, об этом после, — сухо сказала императрица. — Вы привезли с собой дневник Горбатова, который забыли прислать с этими бумагами?
— Дневник? Какой дневник? — растерянно прошептал не приготовленный к подобному вопросу Зубов.
— Его дневник! Разве он не был доставлен?
— Я не видел никакого дневника… я не знаю…
— Не знаете, странно! В таком случае, призовите того, кто доставил вам бумаги, и потребуйте от него объяснений. Я знаю, что дневник должен был находиться в числе бумаг… я наверно это знаю!..
Зубов пожал плечами.
— Вы понимаете… дневник! Это очень важно! Пожалуйста же, скорее разъясните…
Екатерина упорно отгоняла от себя мысль о том, что он лжет перед нею, что он скрыл от нее дневник. И, между тем, ей любопытно было, зачем бы он это сделал? Ей стало так тяжело, так неловко, ей трудно было взглянуть на него.
— Я должна иметь этот дневник как можно скорее… Слышите?
— Неужели я стану скрывать его от вас? — совсем уже невозмутимым и уверенным тоном сказал Зубов. — Только мне невольно приходит мысль, что вряд ли он существует. Может быть, вам ложно сообщено о нем. Если бы он существовал, как же бы осмелились мне его не представить…
— Он существует и взят вместе с остальным, — по-прежнему, не смотря на него, сказала Екатерина. — Теперь все дело в этом дневнике, потому что если он так же невинен, как эти бумаги, которые я тщательно просмотрела, то нужно немедленно извиниться перед Горбатовым. Вы ошиблись, и я очень сожалею об этом… я очень огорчена, что возможна подобная ошибка.
— Эти бумаги имеют мало значения, — горячо возразил Зубов, — но я позволяю себе сомневаться в том, что я ошибся. Что же такое, что в его бумагах нет никаких следов? Это доказывает только его осторожность. Бумаги необходимо было просмотреть, конечно, но я и не предполагал найти в них что-нибудь особенное. Интрига велась очень тонко, я с трудом собираю ее нити. Но дело поручено опытным людям, и я надеюсь в скором времени иметь возможность доставить вам что-нибудь серьезное…
— Что интрига существует, что Витворт был в сношениях с регентом — я в этом почти уверена, но не нахожу никаких оснований подозревать участие Горбатова. Вы очень легкомысленно приплели его к этому делу… Я говорю, меня это огорчает.
Зубов побледнел и едва себя сдерживал.
Императрица продолжала:
— Вы поступаете несправедливо, вы подозреваете человека без достаточных доказательств, вы делаете меня участницей в нехорошем деле. Разве это не правда?
— Если бы даже я и ошибался, то мне есть оправдание: при таких обстоятельствах подозрение на кого-нибудь не может быть поставлено в вину…
— Пустое! — горячо произнесла императрица. — Вы ненавидите Горбатова, я уже слышала это…
— Я вынесу всякие обвинения, потому что моя совесть чиста, я забочусь только об интересах вашего величества, я себя забываю…
— Оставьте меня, я совсем больна, я попробую заснуть… — упавшим голосом проговорила Екатерина, с трудом поднялась с кресла и тихо вышла из комнаты.
Зубов стоял бледный, его губы тряслись.
«Да что же! — думал он. — Колдун он, что ли, этот проклятый Горбатов! Нет, она действительно нездорова, она от этого и раздражена… Завтра будет другая… она сама будет на себя досадовать за этот тон!..»
V. ОСВОБОЖДЕНИЕ
На следующее утро Сергей получил записку от цесаревича такого содержания:
«Дело твое приведено к окончанию благополучно, в чем убедишься нынешний же день, когда тебе будет объявлена свобода. Государыня к тебе милостива и сожалеет о происшедшем недоразумении. Спешу в Гатчину, где из-за тебя оставил много дел неотложных. А ты, сударь, как освободишься, приезжай к нам, ты найдешь у меня всех в сборе».
После свидания с Таней Сергей уже не мог поддаваться отчаянию. Он забыл все, что его томило в дни нежданного заключения, забыл оскорбление, ему нанесенное, и свое справедливое негодование. Но все же, пока он чувствовал себя запретным в своем доме, сознание неволи, никогда еще им не испытанное, действовало на него томительно.
«Когда же, наконец, это кончится!» — повторял он себе каждый час.
И вот записка эта известила его о том, что испытание, наконец, прекратилось. Он вздохнул полной грудью, оживился и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Появился тот же толстяк, который объявил ему об его аресте и конфисковал его бумаги. Теперь этот толстяк держал себя совсем иначе, раскланивался и расшаркивался, даже некоторое подобострастие было заметно в его обращении. Он в самых отборных выражениях объявил Сергею о том, что арест снят.
— А мои бумаги, разве вы не привезли их?
— Никак нет-с, относительно бумаг я не имею никакого поручения. Вероятно, они будут доставлены вам иным путем.
Сергей поклонился толстяку, и тот вышел из комнаты.
«Что же это значит! Зачем удерживают мои бумаги? Впрочем, вероятно, все объяснит мне цесаревич».
Он сидел и обдумывал свое положение.
«Ну, вот, я и свободен, недоразумение разъяснилось. А оскорбление все же нанесено, я подвергнут позору, о котором все знают, конечно, о котором говорят… Э! да что об этом думать! Пусть говорят что угодно!»
Он окончательно успокоился. Его мысли всецело перенеслись теперь в Гатчину, к Тане и к цесаревичу, который завершил все свои милости истинным благодеянием, который стал его спасителем.
И не расслышал он, поглощенный этими мыслями, шагов в соседней комнате и очнулся только тогда, когда раздался знакомый голос. Перед ним стоял Моська.
— Здравия желаю, золотой мой! — радостно говорил карлик. — Нет солдат в сенях… и вот и я освободился из-под ареста… отпустил меня его императорское высочество, а уж как пугал-то, говорит: Сергей Борисыч будет свободен, а ты за твой тяжкий поступок, за побег, за ослушание царскому указу, потерпишь наказание. Да ведь как говорил-то! Я сначала и не верил, а потом думаю: как же так, ведь оно и доподлинно ослушание царскому указу, что ни говори. И что же бы ты думал, батюшка, ведь довел он меня… меня своею милостью, похлопотал, видно, и за меня. Сам в Гатчину уехал, а мне объявлено: иди на все четыре стороны, нигде дороги не заказаны. Вот я и тут!
Карлик был окончательно счастлив. Несмотря на свою старость, он как ребенок быстро переходил от отчаяния и горя к радости. Он был, как и в прежние годы, бодр и подвижен.
— А ты тут, батюшка, без меня, слышал я, дорогих гостей принимал, — продолжал он. — Подивился я только: на мой взгляд, не стоишь ты такого посещения. Ну, и скажи ты мне хоть теперь-то, — вдруг переменяя тон и строго взглядывая на Сергея, шепнул он, — хоть теперь-то будешь ты меня слушаться, перестанешь богохульствовать? Видишь теперь, что Господь Бог, несмотря на все свое милосердие, за грехи и наказание посылает, ведь явное было, явное указание… Ну, чего ты молчишь, отвечай, батюшка, неужто не уверился?
Сергей, улыбаясь, глядел на него.
— Да, успокойся, Степаныч, что ты пристаешь! Конечно, уверился… во всем уверился. Ишь ведь у тебя язык какой, словно мельница, заговорил ты меня совсем, не успел я тебе и спасибо сказать за то, что ты так ловко обделал дело, не попался в руки солдатам и доставил в Гатчину мои письма.
Моська даже обиделся.
— Вот нашел, за что спасибо сказывать! Да нечто ты видел когда, Сергей Борисыч, чтобы я сплоховал в трудную минуту? Хоть я человек и темный, и разума большого Господь мне не дал, а все же смекалка кое-какая есть… да и люди глупы, Сергей Борисыч, ой, как легко провести их — сами во всякую ловушку так и лезут. Чем больше живу на свете, тем больше вижу глупость людскую. Мало умных людей на свете, Сергей Борисыч, много негодных, а глупым и счета нет!..
— Верно, Степаныч, и остановимся на этом, а теперь прикажи-ка скорей лошадей запрягать — едем в Гатчину.
— Это дело, сударь, так и его императорское высочество наказывать изволил.
Вечером Сергей был в Гатчине, и явился он туда обновленным человеком. Он прямо прошел к Тане.
Но они еще не успели досыта наговориться, как Тане доложили о цесаревиче. Он появился в самом веселом настроении духа, и вслед за ним внесли и поставили шкатулку, заключавшую в себе отобранные бумаги Сергея.
— Вот твое достояние, сударь, — сказал цесаревич, с удовольствием выслушав выражение искренней благодарности Сергея.
— Вот и ключ! Сделай милость, немедля пересмотри, все ли в порядке, все ли цело?
— Зачем же, ваше высочество, еще успею.
— Пересмотри, говорю.
Сергей исполнил его приказание, перебрал бумаги.
— Не все цело, ваше высочество, — я не нахожу того, что потерять мне очень бы не хотелось: здесь нет моего дневника, о котором я говорил вам.
— И ты, конечно, полагаешь, что я из любопытства его оставил у себя, чтобы прочесть на свободе? Во-первых, без твоего разрешения я бы этого не сделал, а, во-вторых, его у меня нет. Его нет и у государыни, с которой я вместе переглядывал твои бумаги.
— Что же это значит?
— Догадывайся сам. Князь Зубов объявил, что никакого дневника у тебя не было отобрано.
— Так, значит, это он читает на досуге! Мне это очень досадно, но я нахожу, что такой поступок, не говоря о другом, просто глуп с его стороны.
— Я нахожу то же самое, — отвечал цесаревич. — Я этого не забуду, и нужно будет постараться добыть твой дневник, но теперь оставим это дело! Довольствуйся тем, что ты на свободе, что ничего особенно неприятного тебе, как кажется, уже не предстоит. Чтобы ты служил мне — этого пока не желают, тебе готовят какое-то назначение, которое должно показать, что сожалеют о случившемся и тебе по-прежнему доверяют. О том, что ты жених — уже известно, ты можешь бывать здесь так часто, как тебе вздумается, — полагаю, на этом можно успокоиться покамест. К тому же, собственно говоря, ведь я был бы поставлен в затруднение приискать тебе у себя какое-нибудь подходящее занятие. Осмотрись хорошенько здесь, тогда выяснится. Я всегда рад тебя видеть. Я уже распорядился относительно того, чтобы тебе было у меня постоянное помещение на случай, если придется заночевать.
Сергею оставалось только опять благодарить. Ему в тот же день пришлось воспользоваться любезностью цесаревича и переночевать в Гатчине. Великая княгиня, пожелавшая его видеть, была добра по своему обыкновению, со слезами на глазах целовала Таню, поздравляла ее невестой и первая заговорила о том, когда будет свадьба. Сергей, конечно, выразил свое желание устроить все как можно скорее. Таня ничего не возражала, но в разговор вмешался цесаревич, который именно вошел в это время к великой княгине.
— Конечно, откладывать этого дела не следует, но и торопиться чересчур было бы смешно, — сказал он. — Ведь, вероятно, тебе, сударь, предстоят кое-какие переделки в доме?
— Да, конечно, ваше высочество, но на это потребуется немного времени: недели две, самое большее — три.
— Возьми пять, и помиримся на этом. Свадьбу будем справлять в первых числах ноября, а до тех пор приезжай чаще сюда, гости, сколько душе твоей угодно. Эти пять недель пройдут так быстро, что и не заметишь ты их, а потом, уверяю тебя, ты еще будешь пенять мне, зачем я не настаивал отложить свадьбу на дольший срок… И не возражайте, пожалуйста! — прибавил он, заметив недовольную мину Сергея, — я от своих слов не отступлюсь: раньше первых чисел ноября не бывать вашей свадьбы! Ах, Боже мой, да ведь это самое лучшее время в жизни человека, на вас обоих и глядеть-то завидно!
— Ведь так, ведь я правду говорю, Маша? — обратился он к великой княгине.
— Конечно, — сказала она, улыбаясь Сергею и ласково беря Таню за руку.
VI. НОВЫЙ ПРИЯТЕЛЬ
Сергей скоро убедился, что цесаревич был прав, настаивая, что со свадьбой нечего особенно торопиться. Время проходило совсем незаметно, и к тому же и переделки, задуманные Сергеем в его доме, шли не так уж быстро, как можно было ожидать. Сергей почти все дни проводил в Гатчине, возвращаясь в Петербург только на самое короткое время. Скоро ему предстояло убедиться и в том, что императрица действительно желает изгладить тяжелое впечатление, которое должен был в нем оставить его арест: он был пожалован званием камергера. Но лично благодарить Екатерину ему пока не было возможности: она продолжала себя дурно чувствовать и не выходила из своих комнат.
Желание Зубова осуществилось: грек Ламбро-Качиони был принят государыней, сумел ее уверить, что отлично понимает ее болезни и что у него есть самое действительное средство для того, чтобы в скором времени избавить ее от всех ее страданий. Она согласилась подвергнуть себя его лечению. Старик Роджерсон считал себя крайне оскорбленным. Он не доверял знаниям Ламбро-Качиони, почитал его шарлатаном. Он пробовал было уговорить Екатерину быть осторожной, но она так утомилась страдать, так боялась смерти, так вдруг поверила всем чудесам, какие Зубов рассказывал про Ламбро-Качиони, что Роджерсон должен был замолчать. Однако он говорил направо и налево о том, что дело плохо, что шарлатан-грек не только не излечит императрицу, а может очень легко погубить ее.
— Он предписал ей ставить ноги в соленую воду. Это страшный риск в ее положении, и я ничего хорошего не предвижу, — повторял Роджерсон.
Его слушали, пожимали плечами, но дни проходили, во дворце начали поговаривать о том, что императрице несравненно лучше, что Роджерсон устарел…
Сергей почти все время проводил в Гатчине. Приедет на несколько часов в Петербург, иногда переночует — и снова в обратный путь. Теперь он окончательно уже начал осваиваться с гатчинской жизнью, мало-помалу сближался со всеми гатчинцами, которые, конечно, выказывали ему знаки особого внимания, видя милости к нему цесаревича.
Сергею пришлось особенно сблизиться с Ростопчиным, человеком его лет, с которым он уже встречался в обществе до своего ареста.
Ростопчин ему понравился. Живой, остроумный, образованный, он был всегда душой общества, он умел оживить всякую беседу. Цесаревич, по-видимому, очень любил его и как-то выразился о нем в разговоре с Сергеем, что придет время, когда он окажет государству большие услуги.
— Иной раз у него язык, как бритва, но сердце золотое, и в его преданности ко мне я уверен.
Но и без рекомендации цесаревича Сергей очень заинтересовался Ростопчиным и несколько раз так устраивал, чтобы им вместе возвращаться из Гатчины в Петербург. Ростопчин, так же как и он, проводил время в разъездах. В Петербурге у него была молодая жена, в которую он был, очевидно, влюблен. Над этой любовью иногда добродушно подшучивали в Гатчине, называли Ростопчина «Отелло» (в этом названии был намек и на его крайне некрасивое, но энергическое смуглое лицо с блестящими глазами).
Как-то раз во время поездки из Гатчины, Сергей и Ростопчин между собой дружески разговорились… Ростопчин, проницательный, уж умевший отлично понимать людей с первого же свидания, расположился к Сергею.
«Не орел — никогда не сыграет большой роли, честолюбия нет никакого, но человек не без ума, а главное, истинно благородный человек, не способный ни на какую интригу, человек с чистым сердцем, независимый, гордый хорошей гордостью». — Так он охарактеризовал Сергея в разговоре с их общим приятелем Кутайсовым, и с каждым днем приятельские отношения между ними упрочивались.
Теперь, в этот дождливый осенний вечер, они весело и оживленно беседовали в удобной карете Сергея, которая мягко подбрасывала их на размытом дождем шоссе гатчинской дороги.
— Вы очень счастливый человек, — говорил Ростопчин, — и я, пожалуй, завидовал бы вам, Сергей Борисович, если бы раньше познакомился с вами, но теперь мне нечего завидовать — я тоже счастлив. И если вы станете доказывать мне, что моя жена в чем-нибудь уступает вашей прелестной невесте — я поссорюсь с вами. Шутки в сторону! Если вы прошли через тяжелую школу, то ведь и это должно принести вам пользу. Как бы то ни было, ваша юность протекла не бесследно — вы набрались-таки всяких впечатлений. У вас много воспоминаний.
— Это так со стороны кажется! — ответил Сергей. — Если бы только знали вы, Федор Васильевич, как томительно и однообразно до сих пор проходило мое время, моя жизнь! Но теперь я не хочу и вспоминать об этом. Я слишком истомился этой скукой жизни, теперь уж я ее не испытываю.
— Я совсем не понимаю, как можно скучать жизнью? — перебил Ростопчин. — Я никогда не скучаю. Я всегда занят, меня интересует все, но истинное благополучие и счастье я испытываю только у себя дома, с моей милой женою. Да, меня все интересует, я принимаю деятельное участие в общей жизни, мне нет времени скучать. Но иной раз желчь вскипает, ах, если бы вы знали, как иногда я бываю зол. Впрочем, теперь злюсь меньше, я решил, что злиться не стоит, нужно смеяться над людской глупостью. Ах, как глупы люди, и какое курьезное зрелище представляет их глупость! Ах, как глупы люди!
— Это же самое мне недавно доказывал мой карлик Степаныч, — улыбаясь, заметил Сергей.
— Он совершенно прав. Он-то не глуп, я сразу это увидел, он очень милое и интересное существо, ваш карлик… Вот императрица называет меня не иначе как «сумасшедший Федька», и нисколько не обижаюсь, но не согласен с этим определением и смею думать, что я, во всяком случае, менее сумасшедший, чем прочие умники. Я, по крайней мере, ясно вижу то, чего они не видят. Я отдаю себе отчет в том, что творится и здесь, и там, и, во всяком случае, должен сказать, что если где можно отдохнуть, то единственно в Гатчине — в Петербурге теперь настоящая вакханалия. И главное, приходится удивляться, глядя на некоторых умников, которые совершенно забывают самые простые истины. Никто даже и не задумывается о том, что на свете все изменяется, что нельзя уподобиться птицам и не думать о завтрашнем дне; напротив, теперь более, чем когда-либо о завтрашнем дне следует думать. Я теперь совсем почти не у дел, я только сумасшедший Федька, но полагаю дожить до того времени, когда и от меня понадобится большая работа, значит, нужно к ней приготовиться.
— В Гатчине, кажется, и готовятся к будущей работе, — заметил Сергей.
— Далеко не все, и не так, как следует, — сказал Ростопчин. — Вот приглядитесь побольше к нашим людям и увидите, что многого и у нас нельзя одобрить. Я всем моим сердцем предан цесаревичу, я понимаю все прекрасные его свойства, которых большинство не хочет видеть, но я вижу и его недостатки. Он порывист, увлекается! Он иногда может легко поддаться дурному влиянию, и меня в нем поражает одна черта: кажется, уж его-то жизнь должна была приучить не легко доверяться людям, а между тем он остался удивительным идеалистом. Вы, вероятно, заметили, что я нахожусь в числе, так сказать, его любимцев: он мне доверяет, хотя я полагаю, что может легко прийти день, когда вследствие какой-нибудь моей неловкости, он на меня разгневается. С ним этого легко можно опасаться. Теперь он должен видеть, что я действительно ему предан, что могу принести ему кое-какую пользу, но знаете ли, ведь если бы я был человек негодный, если бы я желал только его обманывать, мне это было бы очень легко. Он продолжал бы верить моей преданности.
— Я не знаю, правы ли вы, — сказал Сергей. — Мне приходилось несколько раз замечать в цесаревиче большую прозорливость и понимание людей.
— Да, иной раз, но далеко не всегда, и я могу доказать вам это историей моего с ним сближения.
Он задумался, но вдруг веселая улыбка скользнула по лицу его, он весело и доверчиво взглянул на Сергея.
— Да, я вам расскажу — это интересная история. Я уверен, что все останется между нами, уверен, что вы не заставите меня раскаиваться в моей откровенности, и в то же время я докажу вам мое доверие, мое искреннее к вам расположение, Сергей Борисыч. Вот послушайте, друг мой, как было дело. Этому уже несколько лет — я, надо вам сказать, вовсе не родился для придворной жизни, по крайней мере, мало было к тому задатков. Отец мой небогат, но спасибо ему — он постарался о моем воспитании, о моем образовании. Я еще в детстве был записан в службу, а лет двадцати уже имел чин поручика. Отец собрал денег и отправил меня оканчивать мое образование за границу. Изъездил я всю Германию, кое-чему научился… Хотя, признаться, учился я немного, но зато много веселился, по-студенчески… Славное было время! Прогостив изрядно по разным городам немецким, поселился я, наконец, в Берлине, и тут пристрастился к картежной игре, да так пристрастился, что теперь могу изумляться только, каким образом удалось отвыкнуть. Играл я, нужно вам сказать, искусно, а главное, счастливо, так что почти всегда был в большом выигрыше. Как-то собрались мы у одного знакомого немецкого офицера, картеж был такой, что упаси Господи! Засел я с прусским старым майором. Старик азартный, красный как рак, глаза налиты кровью, но добродушный малый, за картами все забывает, игрок, однако, плохой. Я стал выигрывать, он горячится и проигрывает все больше и больше. Часа в три, в четыре я в пух и прах обыграл его: между тем, поздно… Все мы утомились. Я встал из-за стола и говорю: «Довольно, господин майор, не угодно ли расплатиться!» Вижу — старик мой сидит как истукан, покраснел еще больше, потом вдруг таким сконфуженным голосом обратился ко мне и говорит: «Херр льетенант, ich habe kein Geld [3]. Мне нечем заплатить вам мой проигрыш, но вы не беспокойтесь — я честный человек. Будьте так добры, пожалуйте завтра ко мне, вот мой адрес. Денег нет, да есть у меня некоторые интересные вещи — может быть, они вам понравятся, и вы согласитесь принять их за деньги…» Я был раздосадован, деньги мне были крайне нужны в то время, и я находил недобросовестным со стороны этого майора садиться за игру, не разочтя вперед, может ли он заплатить свой проигрыш. Но вид у него был такой сконфуженный — и мне оставалось только ответить ему, что хорошо, приду завтра посмотреть его вещи. Так я и сделал, разыскал его. Он жил в старинном домике, квартирка у него была такая уютная, чистенькая, какая может быть только у немца. Встретил он меня, извиняется, совсем сконфуженный. Провел меня в маленькую комнатку, а в ней — по всем стенам шкафы расставлены и в этих шкафах за стеклами разложено, в маленьком виде, всевозможное оружие и воинское одеяние: латы, шлемы, щиты, мундиры, каски, шляпы, кивера, всевозможные ружья, пистолеты, алебарды, ну, словом, наиредчайшая коллекция оружия, воинских доспехов и костюмов всех времен и всех народов, начиная с глубочайшей древности. У меня просто глаза разбежались — так все это было мило, разнообразно, с таким вкусом разложено. А майор говорит: «Извольте смотреть дальше. Вот и воины в полном вооружении! А затем обратите внимание на этот стол»… Он подвел меня к столу, стоявшему посредите комнаты. На столе было расставлено целое войско. Каждая фигура была сделана с большим искусством. Майор тронул пружинку, и маленькое войско принялось делать правильные построения и передвижения. Это была самая занимательная игрушка, какую только я когда-либо видел, да и к тому же игрушка со значением. А коллекция заняла бы видное место в каком угодно музее. «Вижу, хер льетенант, — сказал майор, — что все это вам очень нравится, я так и полагал. Это наследство, доставшееся мне от моего покойного отца — большого любителя военного дела. Он всю свою жизнь собирал эту коллекцию. Он сам выдумал механизм, приводящий в движение маленькое войско. Примите все это в уплату моего вчерашнего долга. Я честный человек, хер льетенант, и не хочу, чтобы русский офицер мог упрекнуть меня в неблаговидном поступке, — возьмите, пожалуйста…» Я стал было отговариваться — мне жалко было лишать добродушного немца его сокровища, но, с другой стороны, сокровище это меня пленило, и, наконец, я рассудил: так вольно же было ему играть, не имея денег! Одним словом, хорошо ли, дурно ли я поступил, но я забрал все с собою, уложил в ящики и, по возвращении в Петербург, расставил и разложил все в том порядке, в каком оно было у майора. Мою коллекцию и маленькое маневрировавшее войско приходили смотреть все гвардейские офицеры: много забавлялись и восхищались… Вот однажды докладывают мне об адъютанте цесаревича. Он говорит мне, что великий князь слышал про мою коллекцию, очень желает ее видеть, и для этого намерен ко мне приехать. Само собою, я поспешил отвечать, что его высочеству нечего беспокоиться, что я все сам привезу к нему. Привез, расставил и жду… До этого времени я почти не знал великого князя: он не обращал на меня никакого внимания. Доложили ему, что все готово… выходит… Я все показываю, объясняю, завел пружинку… Цесаревич в полном восторге, глаза блестят, рассматривает каждую малейшую вещицу, не может нахвалиться… А маленькое войско так совсем его растрогало. «Как правильно! Как правильно! — повторял он. — Да, по этой модели просто можно учить наших солдат! Каким образом вы могли составить подобную коллекцию — ведь жизни человеческой мало, чтобы исполнить это!» Ну-с, Сергей Борисыч, теперь я признаюсь вам как на духу в грехе своем. То есть я-то, нераскаянный грешник, и грехом сего не почитаю, а уж вы, наверное, почтете. Слушайте-ка, сударь мой, вы полагаете, я рассказал цесаревичу всю историю? — Ничуть не бывало. Я опустил глаза, принял скромный вид и с чувством проговорил. «Ваше высочество, усердие к службе все превозмогает: военная служба моя страсть». «Удивительно! — воскликнул он. — Вы, сударь, как я вижу, большой знаток военного дела, поздравляю вас!» Он снова принялся разглядывать мою коллекцию и затем обратился ко мне: «Продайте мне все это, сударь, я постараюсь выплатить вам такую сумму, какую вы сами назначите. Не стесняйтесь цифрой, я хорошо понимаю, что такие вещи дешево не продаются!» «Ваше высочество, — ответил я, — продать эту коллекцию я не могу никаким образом — она непродажная». Он нахмурил брови, покраснел, но я поспешно прибавил: «Я почту для себя за великое счастье, если вы дозволите мне поднести все это вашему высочеству». Цесаревич сконфузился, покраснел еще больше, но по его глазам я сразу заметил, какое приятное впечатление произвели слова мои. Он горячо поблагодарил меня, обнял крепко, поцеловал, — и вот, Сергей Борисыч, с тех пор начались его ко мне милости, и уже вы не разубедите его в том, что я знаток военного дела!..
Сергей внимательно слушал этот рассказ, и по выражению его лица Ростопчин мог заметить, что он произвел на него не особенно приятное впечатление.
«И зачем это я выбалтываю, — подумал он. — Конечно, он меня не выдаст, но ведь он так благороден… наивно и детски благороден… У него такое фантастическое понятие о жизни!» Но, несмотря на это размышление, он все же был доволен, что высказался. Он испытывал особенное наслаждение от своей циничной откровенности: в нем кипела желчь. Ему хотелось смеяться, смеяться надо всеми и в том числе и над самим собою.
— Так вот-с, какими способами очень часто выходят в люди! — заговорил он снова, видя, что Сергей молчит и уныло смотрит в сторону. — И поверьте, так всегда было, есть и будет, и иначе быть не может. Все дело случая, ловкой фразы, подходящей минуты… И если подобный случай выдвинет действительно достойного человека, с достаточным талантом и доброй волей, то это будет только опять-таки случай и, к несчастью, очень редкий.
— Я надеюсь, — проговорил Сергей, — что ваш случай будет именно таким счастливым и редким случаем, но все же вы испортили мое веселое и радостное настроение.
— Что делать! — отвечал, пожимая плечами, Ростопчин. — Я это понимаю, но я чувствую истинное к вам расположение, мне кажется, что нам предстоит много соли съесть вместе, и мне не хотелось бы, чтобы вы на мой счет заблуждались. Полюбите, Сергей Борисыч, нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит! Если начало моего сближения с цесаревичем не в вашем вкусе, то я зато надеюсь, вы не сделаете мне упрека в том, что я злоупотреблял его доверием, что я недостоин этого доверия. Видит Бог, как я искренно расположен к нему, и видит Бог, как я теперь работаю, чтобы приготовить себя к полезной деятельности! В деле военном я не считаю себя знатоком — это не моя сфера — меня гораздо более занимают иные вопросы, и над ними-то я работаю. Я стараюсь добросовестно следить за всем, но, воля ваша, с каждым днем я больше и больше убеждаюсь, что нужно хитрить, что нужно быть ловким эквилибристом, что нужно за хвост ловить каждую удобную минуту для того, чтобы не оказаться не у дел, для того, чтобы не уступить свое место кому-нибудь, кто будет совсем уж не достоин занимать его.
— Да что ж… вы правы с практической точки зрения, — сказал Сергей, — я с вами спорить не буду, но это очень печально, во всяком случае.
— Ах, это уж другой вопрос, — живо перебил Ростопчин. — В годы юности и я представлял себе счастливую Аркадию, но, по счастью для себя и, может быть, для дела, я рано забыл эти юные грезы. Советовал бы и вам, Сергей Борисыч, отгонять их как можно чаще. Жизнь имеет свои права и выставляет свои требования — мы забыть этого не можем, если желаем сыграть свою роль в жизни.
— Я хорошо знаю, что не сыграю никакой роли, — сказал Сергей, — и даю вам слово, не страдаю от такого сознания. В жизни есть, быть может, иные задачи и иное удовлетворение.
— Да, конечно, конечно! — горячо повторил Ростопчин. — Но найти удовлетворение в том, что вас удовлетворяет, я не в силах. Я не могу ограничиться созерцанием — у меня сердце кипит, меня желчь душит. Я должен усиленно двигаться, я должен работать, бороться. Я пропаду, если окажусь в уединении, вдали от этой толпы, — я ее презираю, я над нею смеюсь, но она дает мне тот воздух, которым дышу я!..
Они уже въезжали в город.
VII. ГАТЧИНЦЫ
Такой человек, как Сергей, являлся вовсе не лишним в среде гатчинцев, и немудрено, что в Гатчине у него не нашлось недоброжелателей, что, напротив, не один Ростопчин, но и все к нему относились искренне и приветливо.
Никто не стал завидовать тому расположению, которое оказывал ему цесаревич: новый любимец никому не становился поперек дороги. Каждый из гатчинцев решил, что этот мешать не станет, ничего не отобьет, не будет высоко заноситься. Он не опасен, а человек милый, душевный… Жена вот у него будет красавица… большим домом заживет… Нет, к нему надо поближе — не в том, так в другом пригодится!
Особенно любил его Кутайсов. Более чем кто-либо человек случая, Иван Павлович очень чувствителен был к своему прошлому; вступая в сношения с новым человеком, он тщательно в него вглядывался, вслушивался в каждое его слово; он боялся себе обиды, неприятных для него напоминаний, и если замечал что-либо подобное, то считал себя глубоко оскорбленным, делался невольно врагом своего обидчика. И уже, конечно, пуще всего следил он за людьми родовитыми.
И вот знатный барин, Сергей Борисыч Горбатов, с первого своего появления в Гатчине еще тогда, восемь лет тому назад, несмотря на всю мнительность Ивана Павловича, ни разу не заставил его поморщиться, обидеться. Он всегда держал себя с ним как с равным, беседовал с ним просто и искренне, выказывал ему даже знаки уважения. Иван Павлович ему нравился как человек хотя несколько грубый, но бесспорно умный, а главное, беззаветно преданный цесаревичу, которого так почитал он. Сословных же предрассудков и чванства у Сергея, под влиянием его старого воспитателя Рено и собственного житейского опыта, не было. Иван Павлович в последние дни особенно чувствовал себя расположенным к Сергею. И вот почему. Во время одной из откровенных бесед он мимоходом высказал некоторые свои семейные затруднения, происшедшие от недостатка денег. Цесаревич дал бы, но Иван Павлович не смеет и заикнуться ему об этом, потому что знает, что у него у самого денег теперь совсем нет. Сергей заинтересовался, расспросил подробнее и, со свойственной ему простотою и добродушием, предложил Кутайсову нужную сумму.
— Батюшка, Сергей Борисыч, только как же это — ведь раньше, как года через два я вам не в силах буду выплачивать.
— Хоть десять лет не выплачивайте, Иван Павлыч, — улыбаясь, сказал Сергей, — я, слава Богу, не беден, такая ничтожная сумма стеснить меня нисколько не может. Все равно деньги часто лежат у меня без всякого употребления, и я сердечно доволен, что могу услужить вам.
— Ну, батюшка, в таком разе большое вам спасибо! Истинное, можно сказать, благодеяние оказываете, из беды выручаете. Спасибо, сударь, вовек этой услуги не забуду, позвольте вас, золотой мой, обнять да расцеловать попросту, по-русски.
Сергей расцеловался с Кутайсовым, и оба они остались крайне довольными друг другом.
Кутайсов не мог нахвалиться:
— Душа человек! Золотое сердце! Вот бы таких людей нам побольше! — говорил он про Сергея.
Сергей нередко, выходя от Тани, заходил к Кутайсову, заставал его в скромной обстановке, обыкновенно за чаем, до которого Иван Павлович был большой охотник.
— Что, батюшка, невеста-то, видно прогнала? — сказал он раз Сергею, вставая ему навстречу. — А минутами пятью раньше бы пришли, не застали бы меня — сам только что вернулся. Задал мне нынче работы его высочество, ух, как устал! Чайку вот напейтесь, нынче ром у меня первый сорт! Взгляните-ка в бутылочку, подарок это от приятеля большого, да и вашего, кажется, тоже приятеля, от Федора Васильевича Ростопчина. Не выпьете ли чашечку с ромком, коли минутка есть свободная?
— С большим удовольствием, Иван Павлыч, затем и пришел, чтобы посидеть с вами. Татьяну Владимировну великая княгиня звать приказала, ну, а одному что мне там делать, вот и захотелось вас проведать.
— Спасибо, сударь, что не забываете. Присядьте-ка сюда вот, к печке поближе, тут тепленько. Я, знаете, тепло люблю, и уж две недели, как у меня топится — холода что-то рано начались нынче.
Они уселись, принялись за чай. Ром действительно оказался отличный, и Иван Павлович то и дело похваливал.
— Спасибо Федору Васильичу, — говорил он, — и в каждом-то деле знаток он. Умная голова, нечего сказать! И помните мое слово, придет время, покажет он себя. Большому кораблю большое плаванье.
— Да, он человек умный и с богатыми способностями.
Кутайсов утвердительно кивал головою.
— Будет из него прок, будет! А и хитер он, ловок… Иной раз смеху с ним сколько.
— А что? — спросил Сергей.
— Шельмоват, ох, как шельмоват! Ну, да что же, оно ничего — простачком-то зачем быть? А вы, батюшка, на шпаге-то у него крестик анненский заметили?
— Нет, не заметил. Как это анненский крестик на шпаге?
— Тут целая история, да и препотешная, вот прислушайте-ка, а потом и решайте сами: шельмоват он али нет? Конечно, вам, сударь, ведомо, в каком уважении у цесаревича орден святой Анны.
— Ну да, это голштинский орден, и великий князь, в качестве герцога голштинского, один имеет право им жаловать.
— Так-то оно так, да не совсем. Грамоты подписывает великий князь, а жаловать без дозволения государыни он не может. И в том все у нас дело! Захочет великий князь пожаловать анненским орденом кого-нибудь, а государыня и не разрешает. Так и со мной не раз было, и по сию пору я без ордена. Ну, известно, оно и досадно великому князю. С полгода тому будет, вдруг призывает как-то он меня и приказывает заказать несколько маленьких анненских крестиков без колечка, а с винтиком посредине. Я спрашиваю, зачем такие крестики понадобились, а он даже рассердился. «Не твое, — говорит, — дело!» Замолчал я и никак не могу сообразить, на что те крестики вдруг навинчивать. Заказал, изготовили, принес я великому князю. Он принял, запер к себе в стол. Только вот потом и открылось: призывает он Федора Васильевича Ростопчина, дает ему крестик с винтиком и говорит: «Жалую тебя анненским кавалером! Привинти этот крестик к шпаге, только на заднюю чашку, а то, мол, узнает государыня и не разрешит тебе — она тебя не любит». Ростопчин взял, поблагодарил в приличных выражениях; а сам потом ко мне. Рассказывает: так и так, говорит, что я теперь стану делать? Узнает императрица — большие мне будут неприятности, а не исполнить приказа его высочества не могу — разгневается. «Ну, уж, — говорю ему, — батюшка, сам выпутывайся, а от милости, известное дело, не отказываются…» Что ж бы вы думали сударь, он сделал? Протасова Анна Степановна ему сродни приходится, а у государыни она в большой силе, так он прямо к ней. Рассказал ей, выставил свое трудное положение и просил ее доложить в удобную минуту государыне, что он очень опасается носить орден, между тем, боится оскорбить цесаревича. Так госпожа Протасова и сделала, выбрала удобную минуту и шуткою все передала императрице. Императрица выслушала, улыбнулась и говорит: «Вот он какими игрушками занимается! Ну, да пусть его тешится! Скажи ты Ростопчину, чтобы носил он свой орден, не боялся — я замечать не стану». Как узнал об этом Федор Васильевич, тотчас же взял, привинтил свой крест, только не к задней, а к передней чашке шпаги, и в таком виде является во дворец на выход. Цесаревич как увидел его, взглянул на шпагу — а крест-то и на самом видном месте — подходит к нему и говорит шепотом: «Что ты делаешь, сумасшедший! Я тебе приказал к задней чашке, а ты привинтил к передней… увидит государыня… вот сейчас пройдет и увидит, и тебе, и мне достанется». А Федор-то Васильевич наш вытянулся в струнку и говорит: «Милость вашего высочества так мне драгоценна, что и скрывать ее я не в силах». — «Да ты погубишь себя!» — «И погубить себя готов, но тем самым докажу свою преданность вашему высочеству!» Вам, сударь, известна чувствительность сердца цесаревича и его доверчивость: даже прослезился он, так его слова эти тронули. Ну, и носит он с тех пор крест на шпаге, а цесаревич за него опасается. А уж кабы знал всю истину, намылил бы он ему голову! Да зачем ему знать? Мы выдавать не станем… Худого тут ничего нет, а что шельмоват Федор Васильевич, это теперь, сударь, сами решить можете.
— Я не могу оправдать такого поступка, — сказал Сергей, — и все это кажется мне недостойным.
— То-то вот кажется, батюшка, мало вы нагляделись! Потерпите, вот поживете с нами, так и сами увидите, что с цесаревичем иной раз трудно ладить, — поневоле на всякие хитрости пустишься. Добрый человек, уж такой добрый, что и на всем свете не сыщешь, а не так сказал, оплошал малость — и невесть как накинется. Что ни год — то хуже. Совсем его раздражили, совсем замучили! Иной раз к нему и притронуться невозможно, вот ровно к человеку, у которого все болит… А Федора Васильевича вы не браните, да шельмоватостью не упрекайте — оно смешно только, а он человек хороший, доброжелательный.
— Я в этом не сомневаюсь, — сказал Сергей. — Мне Ростопчин самому очень нравится, и я вместе с вами полагаю, что ему его хитрость простить еще можно, а вот я хотел вас спросить, по старому приятельству нашему, что вы думаете о другом человеке, с которым я здесь познакомился и который, как мне кажется, в большом доверии у великого князя.
— О ком вы это сударь?.. Ну да уж по лицу вашему вижу о ком — об Аракчееве?
— Угадали! Но при чем тут лицо мое?
— Гримаску, батюшка, сделали — не по нраву вам наш Аракчеев. Я уж это не впервой замечаю.
— Я, видите ли, мало знаю его, могу ошибаться, только действительно он как-то не внушает к себе особенного доверия.
Кутайсов улыбнулся.
— Да, этот другого сорта. Этого, признаться, и я недолюбливаю. И уж не знаю, как сказать: достаточно ли в нем качеств, чтобы забыть о его дурных свойствах. Только по нраву он нам, или не по нраву, а этому человеку тоже предстоит большая роль: цесаревич о нем — ух, какого мнения! И ничем того мнения поколебать невозможно. А что такое Аракчеев — мужик, как есть мужик! Ума в нем нельзя сказать, чтоб было много. Он вот хвастается — я, мол, учился на медные гроши, а лучше всяких ученых да умников свое дело знаю!.. И врет он, извините вы меня, и хвастаться тут нечего — я вот тоже на медные гроши учился, так вижу, что нечем тут хвастаться, и, напротив, так полагаю, что кабы вот времени у меня было теперь довольно, так снова за указку бы принялся. Ищешь, как бы что узнать полезное, да с умным, ученым человеком потолковать, вот хотя бы с вами, Сергей Борисыч! Узнать: как, что и почему, как о том да о другом в науке сказано. А он, вишь ли — «наука вздор, одно усердие нужно!» Ну, и выезжает этим усердием. И так цесаревич полагает, что усерднее полковника Аракчеева никого и не найти ему. Чем взял — ума не приложу! Медведь неотесанный, ни кожи, ни рожи, только и знает свою маршировку, а смотрите, он и инспектор здешней пехоты, и губернатор гатчинский. А уж людей-то как мучает! Что слез из-за него пролилось! Солдаты-то еле живы — по двенадцати часов в день на ученье их держит. Из сил солдат выбьется — так его палкой! Аракчеев только и повторяет — «где ученье, там и палка!» А потом и то заметьте: ни до кого до нас ему нет никакого дела, ни с кем не сходится и все равно ему, любим мы его, али нет. «Я, — говорит, — свое дело знаю и больше знать ничего не хочу».
— Да что же, ведь в этом он совершенно прав, — заметил Сергей. — Это ведь, в сущности, есть настоящее отношение к службе.
— Так точно. Оно так, сударь, да ведь это слова только! Жестокий он человек, Аракчеев! Ему солдат все равно, что кукла. Он жизнь человеческую ни в грош не ставит: хоть перемри все, лишь бы его высочество сказал ему «спасибо» — так уж это что ж! Это уж не служба… Это уж зверство называется.
— Ваша правда! Так вот, значит, я и не виноват, что гримаса у меня выходит, когда думаю об Аракчееве. Значит, вы согласны со мною?
— Как, батюшка, не согласиться! Да тут только ничего не поделаешь — не избавимся мы от этого лютого зверя, и много еще он бед понаделает, увидите.
Так сидели они и беседовали.
Осенние сумерки уже быстро набегали. Из окон слышались далекие звуки военной команды, мерно постукивал маятник, сверчок чикал где-то за печкой.
Беседа вдруг смолкла. Иван Павлович зевнул и отклонился на спинку кресла.
— Засните-ка, — сказал Сергей, — отдохните, а и мне пора, чай, уж меня поджидают.
И с горячо забившимся сердцем он поспешил в комнаты Тани, где его действительно ждали.
VIII. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
Ламбро-Качиони, по-видимому, намеревался оправдать рекомендацию Зубова, — по крайней мере, императрица объявила всем приближенным, что чувствует себя несравненно лучше.
Она переехала из Таврического в Зимний дворец и, хотя не показывалась перед публикой, но продолжала вести свою обычную трудовую жизнь: каждое утро рано вставала, внимательно выслушивала доклады, писала, интересовалась самыми разнообразными делами и не покидала своей любимой мысли устроить-таки в конце концов бракосочетание короля Шведского с Александрой Павловной.
По вечерам иногда собиралось в Эрмитаже, как в прежние годы, ее интимное общество.
Она появлялась, — по-видимому, бодрая и свежая, шутила с Львом Александровичем Нарышкиным, садилась за карточный стол с Зубовым и Безбородко. Даже Морков, подвергшийся было сильному с ее стороны неудовольствию и на одном себе выносивший все последствия неудачи одиннадцатого сентября, снова стал получать знаки ее внимания. Она была с ним любезна и ни одним намеком не возвращалась к недавним событиям. Она так держала себя, будто ничего не случилось, и, одобренные ею, все мало-помалу стали успокаиваться и возвращаться к прежней жизни.
Одна только Марья Саввишна Перекусихина, эта простодушная и скромная старуха, бывшая, однако, в течение долгих лет чуть ли не самым близким другом Екатерины и ее наперсницей, с каждым днем все казалась задумчивее и печальнее. Иногда ее заставали в слезах; но на вопросы о том, что означают эти слезы, она упорно молчала, поспешно вытирала глаза и заговаривала о чем-нибудь постороннем. Только она одна, по многим несомненным для нее признакам, не доверяла этому внезапному улучшению в здоровье императрицы, этому нежданно вернувшемуся благоденствию. Но на Марью Саввишну, пока не требовалось прибегать к ее доброте и всегдашней готовности услужить ближнему, обращали мало внимания.
К концу октября стала зима, выпало много снега, мороз держался от трех до пяти градусов. Екатерина объявила, что желает выехать прокатиться в санках. Однако намерения этого она не выполнила.
Второго ноября, утром, она никого не принимала. По дворцу разнеслась весть, что у императрицы всю ночь были сильные колики, так что она заснула только под самое утро. Однако к обеду она вышла из спальни и на тревожные вопросы внуков и внучек отвечала, что чувствует себя хорошо, что действительно были колики, но совсем прошли и что это пустое…
В эти дни у Сергея Горбатова было много хлопот. Все приготовления к принятию новой хозяйки были сделаны в его доме. Он сам все осматривал, совещался с Моськой, закупал богатые подарки своей дорогой невесте. Свадьбы теперь уже недолго осталось дожидаться, она должна была совершиться на днях в Гатчине. Цесаревич и великая княгиня благословят жениха с невестой, и после венца молодые отправятся прямо в Петербург. Не так предполагалось сначала: свадьба должна была отпраздноваться со всею пышностью, но цесаревич вдруг решил, что будет так. И, конечно, ни Сергей, ни Таня не стали с ним спорить. Они были очень рады избежать в такой торжественный для них день пышности, присутствия людей совсем посторонних.
Четвертого ноября Сергей совсем было собрался в Гатчину, как вдруг к нему заехал Лев Александрович Нарышкин.
— Куда это ты, друг любезный? — спросил он, входя и видя дорожные приготовления Сергея. — Опять в путешествие! Но на сегодня моя будущая племянница тебя подождать должна, сегодня тебе в Гатчину ехать никоим образом невозможно…
— Что же, я опять арестован, что ли? — улыбаясь, сказал Сергей. — С вами, дядюшка, с полчаса побеседую, если угодно, а уж потом не задерживайте…
— Не поедешь ты нынче в Гатчину. Слушай-ка, государыня пожелала тебя видеть, ведь ты еще не представлялся ей после твоего пожалования в камергеры?
— Да ведь не было приемов, дядюшка!
— Знаю, знаю, и не нужно тебе официального приема, государыня приглашает тебя нынче вечером в Эрмитаж… Понимаешь, ведь это такая милость, которою теперь кроме нас, стариков, никого не удостоивают. И представь ты себе, как перекосит твоего друга, светлейшего князя Платона Александровича, он ничего не знает. Это в некотором роде сюрприз для него готовится. Мы с тобой вместе приедем, так приказано. Помнишь, как когда-то, давно, когда я в первый раз представлял тебя?
Как ни был теперь Сергей равнодушен ко всему, что не касалось до Тани, но все же он почувствовал некоторое удовольствие.
— Да, в таком случае поездку в Гатчину действительно отложить придется… Поедет один Степаныч, — сказал он.
— Вот и хорошо, и невеста не будет беспокоиться. А ты сегодня у меня пообедаешь, и вместе мы после обеда во дворец поедем… Ну, что, племянник, не говорил ли я тебе, что нечего кипятиться, ничего с тобой не поделает господин Зубов…
— Да, хорошо это говорить после того, как я больше недели просидел здесь в качестве преступника и изменника…
— Кто старое помянет, тому глаз вон… Да и, наконец, это к твоей же пользе послужило… о тебе заговорили с самой выгодной стороны… Зубова за тебя бранят еще пуще прежнего… А она… сегодня она доказывает тебе, как ей хочется загладить эту ошибку. Твоему положению наши царедворцы только завидовать могут — государыня в долгу у тебя и начинает расплачиваться — чего же лучше!..
Тихий свет ламп, прикрытых абажурами, озаряет несколько строгую, но величественную обстановку одной из обширных комнат Эрмитажа. Со стен глядят, выступая из-за золотых рам, произведения кисти знаменитых художников. Сцены религиозного содержания сменяются сценами неги и наслаждений золотого века. То выступают на темном фоне кроткий, одухотворенный лик Богоматери и загадочная улыбка божественного ребенка, то сверкает, озаренная полосой рефлектора, классическая нагота греческой богини. Но все эти разнородные образы, созданные в минуту вдохновенного трепета, запечатленные никому не ведомыми муками и восторгом их творцов, не обращают на себя ничьего внимания.
Тихие, сдержанные разговоры ведутся в обширной комнате. Партия только что окончена. Толстяк Безбородко то и дело утирает платком свое красное, лоснящееся лицо. Зубов с небрежным и скучающим видом чертит что-то мелком на сукне карточного столика.
Императрица отклонилась на спинку своего кресла, полузакрыла глаза и не то дремлет, не то погружена в размышления. Резко обрисовывается глубокая складка между ее бровями, губы крепко сжаты, нижняя часть лица скрыта за кружевами, покрывающими ее высокую грудь, которая по временам колеблется от тяжелого дыхания.
Вот звуки шагов достигают ее слуха. Она открывает глаза и видит входящих Нарышкина и Горбатова.
Зубов не удержался, дернул свой стул, и мелок сломался от нервного движения руки его. Но Екатерина не замечает этого. Она с благосклонной улыбкой кивает головой входящим, она протягивает им для поцелуя свою руку, обменивается несколькими шутливыми фразами с Нарышкиным и, сделав ему почти незаметный знак, указывает Сергею на стул рядом с собою.
Зубов вне себя; он даже и не скрывает своего бешенства. Он шумно встает и быстрыми шагами выходит из комнаты. Нарышкин вступает в разговор с Безбородко, отводит его в сторону. Сергей и императрица одни перед карточным столиком.
Сергей благодарил государыню за пожалование. Она улыбнулась ему еще ласковее.
— Я давно думала об этом, — сказала она. — Но ведь это совсем не та служба, которую бы хотела поручить вам, мой друг. Время терпит, конечно, я вовсе не желаю стеснять вас теперь… Но постойте! Ведь у нас есть счеты и их прежде всего надо кончить. Вы имеете право на меня очень сердиться, но я прошу вас, навсегда забудьте об этом.
— Я так и сделал, ваше величество.
— Знайте, мне очень грустно, что случилось такое печальное недоразумение. Я, может быть, менее виновата в нем, чем вы полагаете, да и вообще, если разобрать хорошенько, то виноватых, пожалуй, и не окажется. Случаются иногда очень странные недоразумения. А теперь довольно об этом, тем более что вы сами несколько виноваты передо мною, вы сами хитрили, скрытничали и обманули меня.
— Когда же? В чем, ваше величество? — смущенно проговорил Сергей.
Но он уже понимал, в чем дело.
— Я хотела вам сватать невесту, а вы скрыли от меня, что невеста была уже у вас готова и именно та особа, о которой я вас спрашивала.
— Я это очень хорошо помню, ваше величество, но дело в том, что в тот день у меня не было невесты, и я сам не знал, чем кончится это дело. Я боялся сам обмануться и нисколько вас не обманывал.
— Да, я понимаю. Конечно, я шучу… я хочу сказать вам, что очень за вас рада. Я, признаюсь, имею мало сведений о вашей невесте, но то немногое, что я о ней знаю, очень говорит в ее пользу. Recevez mes félicitations, mon cher, soyez heureux, je vous le souhaite de tout mon coeur [4].
— От глубины души благодарю ваше величество и смею надеяться, что добрые пожелания ваши исполнятся.
— И я тоже надеюсь. Скажите, когда ваша свадьба? Как вы намерены устроиться? Мне это нужно знать именно ввиду мыслей о предстоящей вам новой службе, которую мне хотелось бы поручить вам.
Сергей передал ей все, о чем она его спрашивала.
— Вот и прекрасно, это ничему не помешает, и, во всяком случае, будьте уверены, что я не желаю стеснять вас. Я все нездорова, — хотя теперь мне гораздо лучше, — но, во всяком случае, я желаю, чтобы вы представили мне вашу жену немедленно после вашей свадьбы.
— Она почтет для себя величайшим счастьем эту милость вашего величества.
— Лев Александрович, — обратилась Екатерина к проходившему в эту минуту невдалеке от них Нарышкину, — что это ты прихрамываешь?
— Ревматизм одолел, матушка государыня.
— Смотри ты, совсем стариком становишься, того и жди — умрешь. Я про тебя уж и сон дурной видела.
— Ах, матушка, ради Создателя, не стращайте, — скорчив испуганную мину, аффектированно крикнул Нарышкин, — я смерти до смерти боюсь.
— Да уж боишься либо нет, а она за тобою. Я вот тоже было испугалась, как прихворнула, так и думала — умирать приходится. Вон и гроза была в конце сентября, а это редкий ведь случай. Помнишь, когда такая поздняя гроза была?
— Не помню что-то, государыня, — ответил Нарышкин, который отлично помнил и слышал от Марьи Саввишны Перекусихиной, что Екатерина не раз заговаривала о грозе этой.
— Не помнишь? Так у тебя, знать, память коротка, я-то помню: в год кончины тетушки, императрицы Елизаветы Петровны была такая гроза. Вот и я, старуха, перепугалась. Только нет, я еще не умру, а вот ты — другое дело, и гроза-то эта, может быть, к тебе относится.
— Чтобы сферы небесные да о таких людишках, как я, помышляли… И-и! Нет, матушка, они там своими делами заняты и не токмо что нас грешных, да и ваше величество в грош не ставят.
И таким образом, переговариваясь и перешучиваясь с «матушкой», старый Левушка исполнял свою вечную должность шутника и забавника, а сам не без грусти поглядывал на своего неизменного державного друга и, отшучиваясь, думал:
«Не ладно что-то: меня стращает, а сама боится, уже и в знамения начинает верить; прежде этого не бывало. Да и глаза не хороши, совсем другая стала. Не вылечил ее грек-мошенник».
Зубов не возвращался. Безбородко предложил было еще игру, но Екатерина ответила, что на сегодня довольно, что у нее, еще до отхода ко сну, есть работа.
С помощью Левушки она приподнялась с кресла, простилась с обществом, ласково улыбнулась Сергею и тяжелою, не прежней поступью, вышла из комнаты.
Сергею вдруг стало почему-то неловко и даже грустно, что-то сдавило сердце, будто духота и тягость чувствовались в воздухе. Унылым светом горели лампы, уныло и безжизненно глядели со стен грезы старинных художников.
Но он не стал предаваться этому внезапному чувству, он поговорил несколько минут с Безбородко и в сопровождении Нарышкина вышел из Эрмитажа.
IX. ОБЕД НА МЕЛЬНИЦЕ
Сергей еще до рассвета выехал в Гатчину. Погода стояла прелестная, день начинался ясный, ветру никакого. Небольшой морозец. В гатчинцах было заметно особенное оживление. Цесаревич вышел в самом лучшем настроении духа, ничто его не раздражало, он всем был доволен и объявил, что в такой день грешно сидеть на месте, что следует непременно прокатиться и, самое лучшее, пообедать на гатчинской мельнице.
До мельницы от дворца было всего верст пять.
Великая княгиня приказала сделать нужные распоряжения. Сергей, конечно, получил приглашение участвовать в этой partie de plaisir [5], и в двенадцатом часу несколько троек, впряженных в широкие сани, выехали из дворца по сверкавшей на ярком зимнем солнце, еще не наезженной дороге.
Жениху и невесте оказывались всевозможные знаки внимания, и в первые четырехместные сани поместились цесаревич, великая княгиня, Сергей и Таня. Павел шутил всю дорогу, поддразнивал Сергея, уверяя его, что свадьбу нужно еще отложить, так как он ни за что не отпустит княжну в город, пока стоит такая прекрасная погода — пусть она надышится напоследок чистым воздухом.
— Вы считаете себя очень счастливой, княжна, и ошибаетесь. Вы еще будете вспоминать Гатчину.
— Не придется, ваше высочество, — отвечала Таня, — мы часто сюда будем возвращаться.
— На это не рассчитывайте, — посмотрите, каким зверем он взглянул сейчас. Все они хороши, пока еще не чувствуют своей власти, заберет он вас в руки и запрет в четырех стенах.
— В таком случае я вам пожалуюсь, и вы должны будете явиться моим спасителем, ваше высочество.
— Извините! Вы от нас отказываетесь, вы нам изменяете, и нам до вас никакого не будет дела. Вы отдаетесь во власть его, помните это, время еще есть, одумайтесь… Вот теперь я еще могу защитить вас, хотите сейчас его из саней выброшу?
Но Таня этого не хотела. Они подъезжали к мельнице.
— Что же, готово обедать? — крикнул цесаревич, входя на крыльцо. — Мы проголодались, живо!
Ему доложили, что можно садиться за стол, что все готово. Веселое общество разместилось, цесаревич сам разливал и подавал мужчинам водку в маленьких рюмках. Присутствовали Плещеев, Кушелев, граф Вьельгорский, камергер Бибиков и неизменный Кутайсов. Все это были люди, считавшиеся в Гатчине своими. Недоставало только Аракчеева, который никогда не покидал своих служебных обязанностей, да Ростопчина.
— Жаль, недостает нашего Федора Васильевича, — проговорил вдруг Павел, — он бы повеселил нас, наверное, рассказал бы что-нибудь смешное: всегда является с целым запасом. Скажи, Горбатов, не видал ли ты его вчера? Я так полагал, что он нынче утром приедет.
— Как же, ваше высочество, я с ним встретился вчера утром, и он сказал мне, что будет здесь завтра и на несколько дней.
— Обидно! А я даже хотел спросить у него разъяснение моего нынешнего сна — ведь он на все руки мастер: и дело делает, и сны разъясняет. Но шутки в сторону, господа, я видел нынче ночью очень странный сон, и почему-то этот сон не выходит у меня из головы.
Великая княгиня, говорившая в это время что-то своему соседу, Плещееву, вдруг замолчала и стала прислушиваться. Лицо ее сделалось серьезным, даже озабоченным. Между тем, великий князь продолжал:
— Да, собственно, это и не сон, а какое-то странное ощущение, мне казалось, что вдруг будто меня разбудили и какая-то неведомая сила подхватила меня и понесла все выше и выше. Кругом будто сиянье, лазурь небесная, звезды со всех сторон яркие…
Великая княгиня слабо вскрикнула. Но все внимательно слушали, и никто не обратил на это внимания.
— Я проснулся, — говорил Павел, — потом снова заснул, и опять тот же сон, то же ощущение, опять неведомая сила подхватывает меня, поднимает, и опять бесконечное небесное пространство и, поверите ли мне, так было всю ночь. Несколько раз я просыпался, засыпал и опять видел то же самое. Не правда ли, странно?
— Друг мой, — сказала взволнованно великая княгиня, — вы изумитесь еще больше, когда узнаете, что я испытала то же самое. Я ничего не могу прибавить к словам вашим, мне придется только повторить их.
— Не может быть! — воскликнул Павел, даже приподнимаясь со своего места. — Как, и вы то же видели? Зачем же вы мне раньше этого не сказали?
— Я не хотела вас беспокоить понапрасну, я знаю, какое вы придаете значение таким вещам, о которых, по моему убеждению, следует как можно меньше думать… но сегодняшний случай действительно кажется мне странным.
Цесаревич не то насмешливо, не то печально улыбнулся.
— Вот видите, значит, я не напрасно придаю значение подобным вещам, и очень естественно, что все таинственное, необъяснимое, выходящее из сферы нашей повседневной жизни, останавливает мое внимание, интересует меня. Иначе быть не может, я хорошо знаю, что в каждом из нас наряду с жизнью нашего тела есть иная, душевная жизнь. Есть в душе нашей предчувствие высших законов, действующих в иной, высшей сфере, откуда мы явились и куда рано или поздно вернемся из нашего временного странствования.
Он совсем изменился. Веселость исчезла с лица его, глаза приняли задумчивое, мечтательное выражение.
— Рано или поздно… — повторил он глухим голосом, уходя в свой внутренний, никому не ведомый мир. — Мне уже недолго ждать этого возвращения, я уверен, что мое странствование прекратится скоро.
— По крайней мере, сегодняшний сон вашего высочества никак не указывает на это, и, если придавать ему значение предзнаменования, то он, вероятно, предвещает величие и блестящую жизнь, а не смерть! — невольно проговорил Сергей, вспоминая свои ощущения в Эрмитаже.
— Величие, блестящая жизнь! — отвечал ему Павел. — Разве здесь может быть истинное величие и истинный блеск! Жизнь настоящая начинается только с того мига, когда временная жизнь тела окончилась.
Все как-то приумолкли, шутки прекратились. Конец обеда прошел вовсе не оживленно.
Сергей тихо беседовал с Таней; цесаревич молчал, и одна великая княгиня, борясь с невольным волнением, в котором даже не отдавала себе отчета, всеми мерами, как и всегда, старалась поддерживать роль любезной хозяйки.
После обеда решено было тотчас же возвратиться в Гатчину.
На полдороге к саням, в которых ехал цесаревич, подлетел на всем скаку гатчинский гусар, быстро осадил свою лошадь и объявил о том, что во дворец приехал из Петербурга шталмейстер граф Зубов с каким-то очень важным известием.
— Что такое? Что? — тревожно спросил Павел.
— Не могу знать, ваше высочество, граф Зубов не сказывает. Мне приказано только доложить, что очень важно.
— Пошел скорей! — крикнул Павел кучеру.
— Что такое может быть? — обратился цесаревич к Сергею. — Ты вчера не слыхал ничего? Ведь ты говорил, что был вечером в Эрмитаже?
— Ровно ничего особенного не знаю, ваше высочество.
— Государыня была здорова?
— По-видимому. Она сама изволила говорить мне, что чувствует себя несравненно лучше.
— Что же бы это могло быть? Que pensez — vous? [6] — обратился Павел к великой княгине.
— Не могу придумать, — тревожно ответила она, — разве…
— Что разве?
— Быть может, получены известия из Швеции.
— Да, пожалуй… конечно… может, он пришел в себя и решился, наконец, действовать, как следует… Да, вероятно! Так оно и есть!.. Скорей, скорей! — несколько раз повторил он.
Но кучер и так изо всех сил гнал тройку. Другие далеко отстали, их не было и видно.
По приезде во дворец цесаревич тревожно спросил, где дожидается граф Зубов, велел звать его к себе в кабинет. Граф Николай Зубов, брат Платона Александровича, был самым порядочным членом этого семейства; он не отличался никакими способностями, но в то же время и не воображал о себе очень много, держался более или менее в стороне, никому не мешая, и цесаревич не чувствовал к нему такого невольного отвращения, как к его братьям Платону и Валерьяну. Граф Зубов вошел в кабинет цесаревича с таким растерянным, испуганным видом, был так бледен, что Павел сразу понял, что он привез ему какое-нибудь необычайное и в то же время печальное известие.
— Что такое? — спросил он упавшим голосом.
— Ваше высочество, государыне худо.
— Как? Что?
Павел остановился неподвижно.
— Жива она? — наконец, прошептал он.
— Жива, ваше высочество, но надежды мало. Государыня чувствовала себя целый день хорошо, и нынче утром в семь часов Марья Саввишна вошла к ее величеству, спросила, каково она почивала, государыня изволила ответить, что давно не проводила такой приятной ночи…
— Ну, скорей, дальше!
— Затем государыня, встав с постели, оделась, выпила кофе, прошла в кабинет, затем…
Зубов запнулся на мгновение, но потом продолжал:
— …Вышла в гардероб и более получаса не выходила оттуда… так полагали, что она изволила пойти погулять по Эрмитажу… Между тем, встревожились…
— Ну?
— Нашли лежащую на полу в гардеробе. Медики не могут привести в чувство.
— Боже мой! — прошептал Павел, хватаясь за голову. — Скорей велите закладывать.
Он кинулся в комнаты великой княгини.
— Маша, она умирает, может быть, ее уже нет на свете… — мог только проговорить он. — Собирайся и едем!
Великая княгиня вскрикнула и залилась слезами, а он, ничего не видя перед собою, бросился опять к себе и, пока подавали экипаж, заставил Зубова рассказать все подробности. Оказалось, что камердинер Зотов, видя, что происходит что-то неладное, решился отворить дверь гардероба. Дверь была не заперта, но отворить ее почти не было возможности — мешало что-то. Это что-то было тело императрицы, лежавшее на полу в самом неудобном положении. Место было узкое, дверь затворена, она не могла упасть на пол и почти сидела с закинувшейся головой, с подвернутой ногой. Пришлось позвать несколько человек камердинеров, которые с большим усилием подняли императрицу и перенесли ее в спальню; но она так была тяжела, что не могли ее поднять на кровать и уложили на полу на сафьянном матраце.
— Господи! Да что же говорят медики? — спрашивал цесаревич. — Что сказал Роджерсон?
— Все согласны в том, что это удар в голову и, как я уже докладывал вашему высочеству, имеют мало надежды, — отвечал Зубов.
В это время доложили о том, что карета подана.
— Едем, едем! Скорей! — повторял Павел, обращаясь к вошедшей в комнату великой княгине.
— Я готова.
Проходя коридором, они столкнулись с Сергеем, который уж знал, в чем дело.
— За мной! — сказал ему цесаревич.
X. ЧТО ЗНАЧИЛ СОН
Сани, в которых цесаревич приехал с мельницы, стояли еще тут же, у подъезда. Сергей поспешно занял в них место и приказал, не отставая, ехать за каретой. В первую минуту он даже не обратил внимания на то, что не один в санях — рядом с ним сидел Николай Зубов.
Карета цесаревича мчалась что есть духу, сани не отставали. Мало-помалу наступили ранние сумерки. Погода была все так же хороша: маленький морозец, ни малейшего дуновения ветра, безоблачное небо. И вот из-за леса выплыла луна и озарила белый путь.
Горбатов и Зубов молчали, обменявшись двумя-тремя фразами. Они совсем не знали друг друга, к тому же Сергей долгое время был поглощен своими думами и чувствами.
«Так вот оно, его вчерашнее несознанное предчувствие в Эрмитаже! Вот оно, странное сновидение цесаревича и великой княгини! Значит, действительно есть в природе нечто такое, о чем он до сих пор мало думал, а если и думал, то единственно, как о сказке, выдуманной легковерным, праздным воображением темного люда. Значит, прав Павел, придавая этой сказке значение действительности!..»
«Она умирает, быть может, умерла, — великая Екатерина… Это в порядке вещей, этого даже следовало уж ожидать. Но между тем, было нечто совсем не совместимое в мысли об Екатерине и о смерти. Казалось диким, невозможным, что ее нет… С нею погибал целый огромный мир, созданный ее силою… Содрогнется Россия, содрогнется вся Европа, услышав страшную новость, и долго не поверят, что не стало Екатерины…»
Однако Сергей не думал теперь ни о России, ни об Европе, — он был просто поражен смертью женщины, которую знал хорошо, которую видел еще накануне. Он вспоминал всякую мельчайшую подробность своего вчерашнего свидания с нею. Он будто слышал каждое ее слово; в его ушах так и звучал ее голос, повторялся ее шутливый разговор с Нарышкиным.
«Нет, я еще не умру!» — говорила она.
И вот она умирает… и вот ее, верно, уже нет на свете!..
«Я хочу, чтобы вы представили мне жену вашу, я искренне желаю вам счастья»…
И при этом ее добрая, ласковая улыбка… Это были прощальные слова ее, прощальные перед вечной разлукой. В этом заключалось так много для Сергея нежданного, грустного и трогательного. Все, в чем он мог упрекнуть ее относительно себя — теперь забылось… в нем говорило почти с прежнею силой его юное поклонение великой женщине. Она представлялась ему теперь не в слабостях последних лет, а в прежнем блеске и славе…
«И ее нет!.. Что же это теперь будет?..»
Конечно, для него лично не могло быть ничего дурного; но он думал совсем не об этом. Невольные слезы навернулись на глаза его.
— Граф! — обратился он к своему спутнику. — Позвольте обеспокоить вас моей просьбою — расскажите мне все подробности…
Николай Зубов сообразил, что имеет дело с одним из любимцев восходящего светила, а потому очень предупредительно поспешил исполнить его просьбу и начал рассказывать. Он был поражен не меньше Сергея и при этом, что можно было легко сразу заметить, сильно упал духом. Он не знал, чего ожидать ему. Он был уверен, что печальная судьба ждет его светлейшего брата, по всем вероятиям, и ему придется разделить судьбу эту… Передав Сергею все подробности ужасного происшествия, он стал поверять ему отчасти и свои грустные мысли; стал оправдываться, доказывать свою невинность, свои искренние чувства к цесаревичу. Он старался всячески задобрить Сергея. Тому сделалось противно это, и мало-помалу разговор прекратился.
Сани несколько отстали от кареты.
— Что же ты отстаешь? — крикнул Зубов кучеру. — Пошел скорее!..
— Да я вовсе не отстаю, — обернувшись, отвечал кучер, — нагнать-то ничего не стоит, лошади добрые, и мигом бы мы карету далече за собою оставили… докатили бы до Софии…
— Так чего же лучше, — сказал Сергей, — перегони карету…
— Давно бы нам следовало догадаться, — обратился он к Зубову, — обгоним, а в Софии прикажем приготовить для его высочества лошадей, чтобы не было никакой остановки.
— Конечно, конечно! — изумляясь своей недогадливости, подтвердил Зубов.
«Ведь теперь одно спасенье, — подумал он, — угадывать, услужить вовремя, попадаться на глаза и заставить обратить внимание на свою распорядительность… Зачем только этот любимчик привязался!..»
Кучер поправился на своем сиденье, передернул вожжами, гикнул — и быстрая тройка сильных лошадей, как стрела, помчалась по снежной дороге… Вот промелькнула карета и затем опять тишина… Все мелькает, рябит перед глазами… все будто крутится в вихре и уносится куда-то… встают на мгновение новые предметы и исчезают как призраки.
Промчались несколько курьеров, спешивших навстречу к цесаревичу с вестями из Зимнего дворца.
— Едет!.. за нами!.. в карете!.. — кричал им Зубов.
— Теперь до Софии рукой подать, — самодовольно осклабляясь, докладывал кучер.
Еще несколько минут — и тройка подлетела к станции.
— Ну, теперь нужно как можно скорее распорядиться относительно лошадей!.. Вы извольте остаться в санях, а я мигом заставлю этих негодяев расшевелиться… Мне это дело привычное!
Так говорил Зубов, внезапно оживляясь и выскакивая из саней. Может быть, он и Сергею желал показать свое усердие. Он побежал к крыльцу станционного дома и столкнулся с выходившим из дверей каким-то человеком в шубе.
Это был заседатель, ехавший из Петербурга и не имевший ни о чем никакого понятия. Заседатель этот, очевидно, с утра находился в самом приятном расположении духа, а за обедом сильно выпил и теперь начал спускаться со ступенек очень нетвердым шагом, покачиваясь во все стороны. Зубов принял его за смотрителя, и, по привычке обращаться грубо со всеми, кого считал ниже себя, он бесцеремонно остановил его рукою.
— Эй, ты! Узнаешь меня, что ли?..
Заседатель вгляделся и действительно узнал его. Неизвестно, был ли он храбрым человеком в трезвом виде, но теперь, под влиянием винных паров, своего хорошего настроения и ясной морозной ночи, он был очень храбр и не чувствовал никакого смущения при окрике такого важного человека, каким почитался брат «его светлости».
— Узнаю, ваше сиятельство, — любезно, но с трудом ворочая языком, отвечал он, — только за что же, ваше сиятельство, изволите трясти меня?.. Пропустите!..
— Что! — закричал Зубов. — Что за околесную несешь ты? Лошадей! Слышь ты, лошадей, чтобы вмиг были готовы!..
— Кому лошадей? Каких лошадей?.. — лепетал заседатель.
— Император едет! Лошади должны быть готовы… Ну, поворачивайся, не то я тебя самого запрягу под императора!..
Заседатель отстранился от Зубова, покачнулся, а потом вдруг стал фертом и, очень комично раскланиваясь, проговорил:
— Ваше сиятельство, оно точно — запрячь меня не диковинка, да какая из того польза выйдет? Ведь я не повезу, хоть до смерти извольте убить — не повезу! И что такое император? Если есть император в России, то дай Бог ему здравствовать… Буде Матери нашей не стало, то ему виват!.. А я не повезу… хоть на месте убейте — не повезу!..
— Да что ты, пьян совсем? Что ты, о двух головах, что ли? — окончательно взбешенный и все еще не понимавший своей ошибки, заорал Зубов.
Сергей, слышавший весь этот разговор, хотел уже выйти из саней, чтобы поспешить на помощь бедному заседателю, как вдруг к крыльцу подъехали сани. Быстро выскочивший из них человек подбежал к нему.
— Ах, дорогой мой Сергей Борисыч, это вы! Едет цесаревич? Где он?
Сергей узнал Ростопчина.
— Сейчас должен быть здесь. Что, жива еще?
— Когда я выехал, была жива… теперь не знаю…
— Да что же — неужели никакой надежды?
— Какая надежда! Все это кончено, Сергей Борисыч!.. Но что это за крик? Что такое тут происходит?
Он вслушался, и на его взволнованном, некрасивом лице с блестящими глазами мелькнула улыбка.
— Ах, это граф Николай Зубов напоследях свою власть показывает! — проговорил он.
— Да, — отвечал Сергей, — но дело в том, что цесаревич сейчас будет, а о лошадях еще никакого распоряжения не сделано… Пойдемте скорее…
Они поспешили отыскать не мнимого, а действительного смотрителя. Когда они вернулись на крыльцо, отдав нужные приказания, карета цесаревича уже подъезжала. Ростопчин закричал кучеру, чтобы он скорее отпрягал, что лошадей сейчас выведут. В окне кареты показалась голова Павла.
— Ah, c'est vous, mon cher Rostopschine! [7] — проговорил он и вышел из кареты.- Quelle nouvelle m'apportez vous? [8]
Ростопчин мог только дополнить очень немногим то, что уже было известно цесаревичу из слов Зубова и из донесений высланных курьеров:
— Государыня жива, но без движения и без сознания…
Павел, выслушав, опустил голову и несколько мгновений стоял неподвижно. Между тем, лошади, благодаря сбежавшимся ямщикам, были уже впряжены. Кто-то крикнул, что все готово. Павел пошел к карете, но вдруг обернулся, подозвал жестом Ростопчина и Сергея и сказал им:
— Faites — moi le plaisir de me suivre [9], вы оба должны быть со мною, можете мне понадобится.
Карета тронулась. Ростопчин и Горбатов сели в сани и помчались за нею.
— Стой! — вдруг крикнул Ростопчин. — Поворачивай назад на станцию!..
— Зачем? Что такое? — изумленно спросил Сергей.
— А вот сейчас увидите. Мы мигом догоним карету.
Когда они снова подъехали к станции, Ростопчин как стрела вылетел из саней и через минуту вернулся, держа что-то в руке.
— Ну, теперь догоняй, мчись что есть духу!.. Видите, это фонарь, — запыхавшись, говорил он, обращаясь к Сергею, — теперь на каждом шагу будут курьеры, и если окажутся письма, то с помощью этого фонаря он будет иметь возможность прочесть их в карете.
Предположение Ростопчина скоро оправдалось: первый же курьер был с письмом от великого князя Александра. Ростопчин подбежал к карете и подал зажженный фонарь цесаревичу.
— Merci, mon ami! — сказал Павел. — Я именно думал о том, как хорошо бы читать письма так, чтобы не было остановок. Весьма благодарен! — повторил он, ласково кивнув головою.
Снова помчалась карета, за нею трое саней. Но этот кортеж с каждой верстой все прибавлялся, потому что навстречу один за другим попадались курьеры. Цесаревич приказал не останавливаясь их опрашивать и, если с ними не было писем, ворочать обратно. Прочтя письмо сына, он увидел, что нельзя терять ни минуты, и то и дело стучал в переднее окно кареты, давая этим знать кучеру, чтобы он гнал лошадей. Однако все же пришлось остановиться. Попался курьер с новым письмом, и в то же время одна из лошадей как-то зацепила за постромки. Письмо не заключало в себе опять ничего нового: «Она еще жива».
Пока прислуга возилась около лошадей, Павел Петрович вышел из кареты и подошел к саням, в которых находились Ростопчин с Сергеем.
— Ваше высочество! — сказал Ростопчин. — Обратите внимание на красоту ночи… Как светло и тихо, какая игра облаков вокруг луны! Стихии будто пребывают в ожидании важной перемены и торжественно молчат…
Цесаревич поднял голову, взглянул на луну. Сергей ясно различил, как крупные слезы блеснули на глазах его и тихо скатились по щекам.
Вдруг Ростопчин, действительно растроганный, но в то же время верный себе, то есть не упускавший без расчета ни одной минуты, довольно резким движением схватил цесаревича за руку и каким-то вдохновенным голосом проговорил:
— Ah, quel moment, monseigneur, pour vous! [10]
Павел ответил ему крепким пожатием и тихо, не отрывая взгляда от неба, сказал:
— Attendez, mon cher, attendez. J'ai vécu quarante deux ans. Dieu m'a soutenu; peut-être, me donnera — t'il la force et la raison pour supporter l'état, auquel il me destine. Espérons tout de sa bonté… [11]
Затем он поместился в карету, из которой на мгновение выглянуло заплаканное лицо великой княгини.
Остановок больше не было, и в половине девятого весь поезд уже мчался по петербургским улицам.
Дворец был наполнен народом. На всех лицах изображались ужас и волнение. Несмотря на эту толпу, мелькавшую по всем комнатам, не было слышно почти никакого шума; шепотом передавались вопросы и ответы, касавшиеся только одного предмета — «что с нею?..»
Цесаревич взял под руку жену и, обернувшись к приехавшим вместе с ними, сказал:
— Идите туда, мы сейчас будем…
Все поспешили на половину императрицы. У дверей спальни была целая толпа, но немногие решались войти. Однако никто не остановил Ростопчина и Сергея, когда они входили.
Императрица по-прежнему лежала на матраце, на полу, возле кровати. Роджерсон и несколько других докторов стояли на коленях вокруг нее, следя за ее дыханием и за ее пульсом. Марья Саввишна Перекусихина, с распухшим от слез лицом, то и дело прикладывала к губам Екатерины и отнимала потом платки.
Сергей подошел ближе и невольно содрогнулся. Лицо Екатерины было темно-багрового цвета, глаза закрыты, а изо рта текла черноватая материя. Явственно слышна была хрипота, которая одна только и являлась для окружавших признаком жизни, не покинувшей еще это неподвижное тело.
В нескольких шагах от матраца, на кресле, придвинутом к кровати, сидел Зубов. Он бессильно уронил платок, весь смоченный слезами, в лице его не было кровинки, красные, распухшие глаза его были устремлены на одну точку, на лицо Екатерины. Время от времени судорога пробегала по чертам его. Весь его вид выражал отчаяние и ужас.
Вот вошел цесаревич в сопровождении великой княгини. Мария Федоровна склонилась над Екатериной, упала на колени и прижалась губами к ее руке. Послышались ее сдерживаемые рыдания. Цесаревич, бледный, но, по-видимому, владеющий собою, ласково поклонился на все стороны, потом обратился к Роджерсону, и спросил его:
— Неужели нет решительно никакой надежды?
— Все во власти Божьей! — грустно ответил Роджерсон. — Мы только что отняли шпанские мухи… Государыня открыла глаза, попросила пить, но вот снова началось забытье… Медицина не имеет средств бороться с таким недугом…
Павел опустил голову, взглянул на императрицу. Губы его задрожали, он хотел спросить еще что-то, но голос его оборвался, глаза наполнились слезами, и он вышел из спальни.
Как ни был взволнован Сергей, он замечал, однако, что в этой комнате, наряду с действительным отчаянием, уже начинается и игра в отчаяние, прикрывающая собой совсем иные чувства.
Марья Саввишна Перекусихина, князь Зубов, Протасова, пожалуй, Роджерсон — эти не притворялись. С Екатериной они теряли все. Но из них у одной Марьи Саввишны печаль не имела ничего эгоистичного, одна только она думала не о себе, а о той, которая лежала теперь перед нею почти без признаков жизни, которой она посвятила многие, многие годы, за кем ухаживала как за малым ребенком, о ком она думала ежеминутно, кого она знала лучше и вернее, чем кто-либо на свете.
Все же остальные только изображали более или менее искусно на своих лицах печаль, в которую повергало их состояние императрицы. Но их печаль была иного сорта — они уже рассчитали все шансы своей близкой погибели или своего успеха.
Подметил Сергей как его приятель Ростопчин зорко оглядывается, наблюдает и обдумывает каждое свое движение. Вот Ростопчин подошел к нему и шепнул:
— Сергей Борисыч, выйдемте отсюда, посмотрим, что там делается…
Сергей за ним последовал. Толпа, наполнявшая соседние комнаты, расступилась, чтобы давать им дорогу. Все глядели на них с видимым интересом. Все уже знали, что эти два человека, до сих пор не имевшие никакого влияния, вероятно, не далее как завтра окажутся большой силою.
Это гатчинцы! Это любимцы Павла Петровича!
Несмотря на всеобщее внимание, несмотря на благоговейную тишину, теперь соблюдавшуюся, об этих людях почти все уже успели перешепнуться, о них уже знали подробности, которые вдруг неведомо откуда явились. Многие уже подумали, как бы обратить на себя их внимание, заговорить с ними, понравиться, заручиться чем-нибудь для близкого будущего.
На лице Ростопчина несколько раз мелькнула презрительная, насмешливая улыбка. Он отлично понимал, что значит эта всеобщая предупредительность, эти внимательные и ласковые взгляды. Понимал и Сергей, и ему вдруг так стало все противно, так захотелось ему скорей отсюда, из этой удушливой атмосферы.
— Федор Васильевич, я уеду, — сказал он, обращаясь к Ростопчину.
— Зачем? — изумленно спросил тот.
— Я не вижу никакой причины оставаться. Что же тут я буду делать?
— Боже вас избави уезжать!.. Ради Бога, останьтесь, ведь вы же видите, это может кончиться с минуты на минуту. Во всяком случае, вам незачем подвергать себя его неудовольствию. Он, наверно, будет вас спрашивать, и что же мне придется отвечать за вас? Нет, я вас не выпущу — как хотите. Да и, наконец, ведь он прямо приказал вам быть здесь и ожидать его распоряжений — быть может, он желает дать вам какое-нибудь поручение…
— Но в таком случае поищем такой уголок, где бы можно было отдохнуть. Я давно не чувствовал такой усталости.
— Вот это дело другое, отдохнуть и мне не мешает. Нам непременно надо поберечь силы.
Он хорошо знал расположение этих комнат и провел Сергея в небольшую приемную, где почти никого не было и где они поместились на большом удобном диване.
— Если можете уснуть, — сказал Ростопчин, — засните. Я разбужу вас, когда будет нужно.
— Да вы и сами, пожалуй, заснете?
— Я-то? Нет, я не засну, я отдохну и не засыпая. Между немногими качествами, которые я признаю за собою, у меня есть одно, а именно: я умею отдыхать и даже дремать, не забываясь окончательно, продолжая все слышать и соображая, когда надо очнуться и встать на ноги.
Сергей действительно был так утомлен, что прислонился головой к подушке дивана и через минуту уже спал. Его сон продолжался несколько часов. Ростопчин разбудил его.
— Однако какой вы счастливый человек, в такую ночь и спать можете! Я тоже отдохнул, но три раза был там и сейчас оттуда. Ее положение не улучшается нисколько. Пойдем туда.
Сон значительно освежил Сергея. Он уже мог теперь ясно отдать себе отчет во всем.
— Пойдем, пойдем! — живо проговорил он, вскакивая с дивана и чувствуя, как охватывает и его интерес этих торжественных и печальных минут.
Они снова направились к спальне императрицы. Там ничего не изменилось, будто прошло не несколько часов, а несколько минут с тех пор, как Сергей вышел. Все были на своем месте.
Екатерина лежала все так же неподвижно, окруженная все теми же самыми лицами. Зубов сидел на своем кресле, с искаженным лицом, с блуждавшими глазами. Ежеминутно в комнату входили новые лица, беззвучно затаив дыхание, оставались несколько мгновений, прислушивались и так же неслышно уходили. В соседней комнате была та же толпа народа, и каждый старался стоять на виду, попасться на глаза кому нужно. Минуты проходили за минутами, утро приближалось. Вот в толпе произошло некоторое движение.
«Идет!» — расслышал Сергей несколько голосов.
Он оглянулся — входил цесаревич.
Павел шел своей прямой, военной походкой, ни на кого не глядя. Он прошел в спальню, подозвал к себе Роджерсона и других докторов и спросил:
— В каком она теперь положении?
— Все в том же, ваше высочество! — ответили ему.
— И решительно никакой надежды?
— Никакой!..
Цесаревич вышел из спальни, заметил Сергея и обратился к нему:
— Пожалуйста, призови преосвященного Гавриила с духовенством, скажи, что нужно прочесть глухую исповедь и причастить государыню Святых Тайн.
Сергей поспешил исполнить это приказание. Через несколько минут в спальню входило духовенство. Екатерина не приходила в себя. Ее причастили. Цесаревич и великая княгиня горячо молились. Зубов не удержался и громко зарыдал. По лицу Марьи Саввишны катились тихие слезы. Павел несколько минут еще постоял возле государыни, а затем вышел. Возле него оказался Ростопчин.
— Тебя мне и надо, — сказал Павел. — Позови Горбатова и идите за мною в кабинет.
Ростопчин сделал знак Сергею. Завистливые и подобострастные взгляды провожали их. Придя в кабинет и заперев за собою двери, Павел обратился к Ростопчину и Сергею:
— Господа, — сказал он, — я знаю вас такими, каковы вы есть, и на ваш счет не обманываюсь… Я на вас рассчитываю. Скажи мне, Ростопчин, скажи откровенно: чем ты при мне быть желаешь?
— Ваше высочество! — спокойно и в то же время несколько торжественно проговорил Ростопчин. — Истребление неправосудия — вот то, к чему я всегда стремился… вот та цель, к достижению которой послужить мне бы хотелось!.. А посему, отвечая на милостивый вопрос ваш, я, не задумываясь, могу просить: сделайте меня секретарем для принятия просьб!
Павел промолчал несколько мгновений, прошелся по комнате и сказал:
— Тут я не найду своего счета; знай, что я назначаю тебя генерал-адъютантом, но не таким, чтобы прогуливаться по дворцу с тростью, а для того, чтобы ты правил военною частию. Ты смыслишь в этом деле, ты от юности им занимаешься и питаешь к нему страсть — ты хорошо доказал мне это. А самое важное — приурочить человека к тому занятию, которое составляет его призвание.
Ростопчин немного поморщился и молчал. Сергей удерживал невольную улыбку, которая так и просилась на его губы, несмотря на торжественность минуты:
«Вот она, удивительная коллекция оружия! Попался сам в свои сети!» — невольно подумал он.
Но Павел, задумчиво ходивший по комнате, не заметил неудовольствия своего любимца.
— Итак, я назначаю тебя своим генерал-адъютантом! — проговорил он, останавливаясь перед Ростопчиным.
Тот отвесил глубокий поклон.
— А ты чего же попросишь? — обратился цесаревич к Сергею. — Впрочем, я знаю — ты ничего просить не станешь. На первое время жалую тебя в гофмаршалы!
И, не дослушав благодарности Сергея, он прибавил:
— Теперь, господа, позовите ко мне камер-пажа Нелидова, мне нужно спросить его о Катерине Ивановне, может быть, он видел ее сегодня…
XI. СВЕРШИЛОСЬ
Сергей уже не помышлял о том, чтобы ехать к себе домой. Он мало-помалу, незаметно для самого себя, входил в эту общую тревожную жизнь. Между тем, несмотря на томительное ожидание, время шло как-то незаметно. О времени даже совсем забывалось. Наступило утро, не принеся никакого изменения в положении императрицы, — ее могучая натура все еще боролась с неизбежной смертью. По-прежнему все члены царского семейства, за исключением цесаревича, который оставался у себя, почти неотлучно находились в спальне вместе с докторами, князем Зубовым и другими приближенными Екатерины.
Все забыли о сне, не сознавая усталости и голода.
Генеральша Ливен почти силою увела великих княжен, заставила их напиться чаю и уложила спать, дав им слово, что разбудит их, когда будет нужно.
— Вам необходимо поберечь свои силы, — решительным, не допускающим возражений тоном, сказала она им. — Своим присутствием в спальне бабушки, своими слезами вы ничему не поможете. Помолитесь Богу и положитесь на Его милосердие. Каждому человеку суждено умереть, и мы должны смиряться перед Божьей волей. Будьте же благоразумны!..
Великие княжны горько плакали. Они искренне любили бабушку и знали ее только как бабушку, подчас строгую и взыскательную, но гораздо чаще ласковую и добрую. Им, конечно, нечего было возражать на рассуждение воспитательницы, и они подчинились ее требованию — разделись, легли и долго горько плакали, спрятав свои милые детские лица в подушки. Но природа взяла свое — они заснули.
Между тем, во дворец все прибывало и прибывало народу. Почти весь Петербург уже знал о несчастье, которое вот-вот должно было совершиться, и всякий, кто имел только возможность проникнуть во дворец, спешил туда.
Цесаревич несколько раз призывал к себе то одного из сыновей, то Ростопчина, то Сергея. Все они заставали его сосредоточенным, задумчивым. Он спрашивал, нет ли какой перемены и, узнавая, что все по-прежнему, движением руки отпускал их и погружался снова в свои думы.
Таким образом, для того чтобы получить возможность иметь самые точные сведения на случай нового зова цесаревича, Ростопчин и Сергей должны были часто заглядывать в спальню и, выходя из нее, им приходилось отвечать на вопросы, со всех сторон к ним обращаемые.
К Сергею то и дело подходили новые лица, из которых очень многих он совсем даже и не знал. Ему отрекомендовывались, изыскивали все способы указать на общих родных, общих знакомых. Но в этой толпе часто приходилось ему сталкиваться и с более или менее близкими ему людьми, на которых он, так сказать, отдыхал от окружавшей его фальши и лицемерия. Так он должен был употребить большое усилие, чтобы хоть несколько успокоить Льва Александровича Нарышкина, который, подобно многим, со вчерашнего дня не покидал дворца и выказывал признаки истинного горя.
Этот вечно веселый и шутливый человек теперь был совсем неузнаваем. Он то и дело вытирал глаза, наполнявшиеся слезами.
— Господи, кто бы мог это думать? — говорил он прерывающимся голосом Сергею. — Вчера-то, вчера… то есть третьего дня вечером… не даром мне щемило сердце!.. Надо мною она шутила… меня стращала смертью… а смерть уже подкарауливала ее… была уже у нее за плечами… Я чувствовал, что плохо ее здоровье, что долго не протянет она… Но что это несчастье случится так скоро — не ожидал… никак не ожидал!..
Он зарыдал, как ребенок. Чем было его утешать? Сергей хорошо понимал, что всякие слова бессильны.
Он ласково взял дядю под руку, увел его подальше от толпы, усадил на диван и дал ему возможность выплакаться. Это было единственное средство его успокоить. Перед посторонними он должен был невольно сдерживаться, и это было чересчур тяжело ему. Действительно, Нарышкин облегчил себя слезами.
— Глупо плакать старику! — проговорил он. — Чуть ли не в первый раз в жизни плачу… Да, что же, не ее одну оплакиваю — и себя оплакиваю вместе с нею… Скоро и мой черед… ведь мы сверстники… почти всю жизнь прожили друг против друга… Ах, мой милый, я все шутил, все смеялся… да не всегда же!.. Я помню многое… под шуткой, под смехом бывало и другое… Вот я бранился, я часто сердился на нее в последние годы, негодовал даже… Я перед тобою жаловался… Но теперь я этого ничего не помню, знать не хочу… все это пустое — она иная передо мною!.. Разве вы знали ее?.. Разве понимали?.. А ведь я помню ее юной, оскорбляемой… унижаемой… Какое величие!.. Какая глубина характера! Нет, никогда не было такой женщины на свете и не будет!.. Там разве одна она умирает… с нею умирает слишком много… с нею вместе умирает и жизнь моя!..
Он поднялся с дивана, глаза его горели, и снова вдруг хлынули слезы.
— Не могу, не могу!.. Пойду еще взглянуть на нее!..
И он быстрыми шагами удалился по направлению к спальне. Сергей хотел за ним следовать, но в это время в уединенную комнату, где они находились, вошел граф Безбородко. У того уже все лицо опухло от слез, он тоже не выходил из дворца. Но кроме горя в нем была заметна и иная тревога. Вот и теперь, увидав Сергея, он подошел к нему, взял его за руку и заставил сесть рядом с собою.
— Сейчас говорил с Роджерсоном, он изумляется этой непостижимо долгой агонии; но она уже не придет в себя… она никого из нас не узнает, мы не слышим ее голоса. Сергей Борисыч, вы когда видели цесаревича?
— С полчаса тому назад я был у него…
— Каков он?
Безбородко так и насторожился.
— Он, очевидно, искренне огорчен и в то же время поглощен важностью этого страшного события… Он очень задумчив…
— Да, ему есть о чем подумать: час, другой — и он император… Боже мой, что-то будет? Чего ожидать нам? Тяжело, проработав всю жизнь, под старость чувствовать себя накануне того дня, когда будешь выброшен за борт, как ненужный балласт…
— Мне кажется, — перебил Сергей, — что это сравнение ни как уже не может относиться к вам, граф, и вам такой участи нечего бояться.
— А между тем, я именно и боюсь, голубчик, я откровенно говорю с вами. Он меня не любит, а за что — не знаю.
— Я никогда не слыхал от цесаревича ничего, что указывало бы на его к вам нерасположение.
— Не слыхали, так услышите, я это наверное знаю. Но, видит Бог, вины за собою перед ним не чувствую!.. Вот вас он любит, и я рассчитываю на вас… Замолвите за меня доброе слово!..
Сергею стало тяжело. И граф Безбородко наравне с другими заискивает перед ним, как перед будущим любимцем.
— Да, я прошу вас, — между тем, продолжал Безбородко, — сослужить мне большую службу… Помогите, я прошу немногого… Я стар, здоровье мое очень плохо, я устал, мне ничего не надо, у меня больше четверти миллиона годового дохода — только одну милость может оказать мне новый император: пусть отставит меня от службы без посрамления.
— Вы меня изумляете, граф! — смущенно проговорил Сергей. — Я решительно не понимаю, откуда у вас такое опасение? Конечно, если я буду иметь какую-нибудь возможность, вы можете на меня рассчитывать. Но не заблуждайтесь, не предполагайте, чтобы я имел большое влияние. И если действительно у вас есть основание беспокоиться, то я вам могу указать на человека, который может быть вам гораздо полезнее, чем я.
— Кто это?
— Ростопчин.
— Да, да! — оживленно повторил Безбородко. — Ваша правда. Ростопчин прекрасный, умный человек, я всегда был искренне расположен к нему…
И, боясь упустить минуту, этот меценат, этот государственный человек, имевший за собою неоспоримые заслуги, несмотря на свое волнение, на свои годы, болезнь и тучность, почти побежал отыскивать молодого человека, которого до сих пор, по примеру Екатерины, не иначе называл, как «сумасшедшим Федькой».
Часа через два Сергей столкнулся с Ростопчиным и спросил его, видел ли он Безбородко.
— А, так это вы его ко мне направили! — насмешливо улыбнувшись, отвечал Ростопчин. — Впрочем, я так и думал. Я заметил, как он сначала искал вас и видел, что вы с ним беседовали…
Когда он все успевал замечать и видеть? Он весь день, несмотря на бессонную ночь, был на ногах, появлялся то здесь, то там, исполнял поручения цесаревича; выслушивал всех, кто к нему обращался, а к нему обращались очень многие, — и с каждым часом казался все оживленнее, все бодрее.
— Как же вы отнеслись к его просьбе ходатайствовать перед цесаревичем? — спросил Сергей.
— Как отнесся? Конечно, с полным желанием ему услужить… и уже успел в этом. Безбородко человек хитрый, и высоких нравственных качеств я что-то вовсе не наблюдал в нем. Он вздумал теперь уверять меня в своей дружбе; но эта дружба только что началась, потому что до сих пор раза два, три он даже делал мне большие неприятности. И уже, во всяком случае, относился ко мне свысока, как к ничтожному мальчишке. Но дело в том, что я равнодушен к этому, и мне нет дела до его нравственных качеств. Я знаю одно — это самый способный человек из всех, кого нам здесь оставляет императрица; без него мы не обойдемся, он крайне нужен России…
— Но чего же он боится? Разве это правда, что он в такой немилости был у цесаревича?
— Правда, был, но мне уже удалось изменить это…
— Каким образом?
— Выслушав его, я отправился к цесаревичу и так навел разговор, что оказалось удобным описать отчаяние Безбородки. Я выставил все значение этого человека, все его достоинства как государственного деятеля: его опытность, познания, невероятную память. Цесаревич внимательно меня выслушал, очевидно, согласился со мною и велел мне уверить Безбородку, что он не питает к нему особенного неудовольствия, просит его забыть все происшедшее, полагается на его усердие и ждет его помощи. Если бы вы знали, как просиял наш граф, даже позабыл о своем горе, а ведь горе его искреннее… О, как много золота и грязи может вместиться в одном и том же человеке!.. Впрочем, теперь, мой друг, не до философии… вон уже опять меня, кажется, ищут… верно, опять к нему… Ну, денек!..
Он отошел от Сергея.
Скоро цесаревич потребовал к себе Безбородку и приказал ему изготовить указ о восшествии на престол. После этого начались распоряжения. Графу Остерману было велено ехать к графу Моркову, взять у него все бумаги, запечатать их и привезти во дворец. Это приказание сделалось всем известным, так как растерявшийся Остерман не мог сообразить, как бы ему как можно обстоятельнее исполнить возложенное на него поручение, и решился собственноручно принести все бумаги цесаревичу. Он увязал их в две скатерти и тащил эти огромные тюки через все дворцовые комнаты, едва двигаясь под своей ношей.
Затем Ростопчин получил повеление запечатать кабинет государыни.
Было уже три часа. Между медиками, окружавшими тело Екатерины, произошло движение. Пульс умиравшей начал слабеть. Она лежала по-прежнему недвижно с закрытыми глазами. Хрипота в горле усиливалась с каждой минутой, так что даже в соседней комнате можно было ее расслышать. Вся кровь ударяла в голову, и лицо багровело.
Зубов с громким рыданием выбежал из спальни. Он дрожал всем телом и несколько раз хватался за горло, ему нечем было дышать, у него пересохло во рту.
— Воды, ради Бога! — простонал он.
Вокруг была толпа народу, и если бы дня два тому назад он потребовал воды, то каждый, конечно, тотчас же бросился бы исполнять это желание, каждый считал бы себя счастливым, если бы ему удалось первым преподнести стакан его светлости. Теперь же никто даже не обратил внимания на него, никто не шевельнулся, чтобы его напоить; напротив, все от него отстранялись, как от зачумленного. Он несколько раз повторял:
— Воды, ради Бога, воды!
Наконец, нашелся человек, который над ним сжалился — человек этот был Ростопчин. Он приказал лакею принести воды, сам налил в стакан и напоил Зубова.
Время шло. Давно уже наступил вечер. Часы показывали девять. Царское семейство собралось в соседнем со спальней кабинете. Вдруг у дверей этого кабинета из спальни появился Роджерсон и глухим голосом проговорил:
— Государыня кончается!
Все бросились в спальню, окружили Екатерину.
Торжественная тишина царствовала в комнате и нарушалась только уже слабой теперь хрипотой умиравшей. Все как будто застыло, устремив взгляды на ту, которая давно уже никого не видела и ничего не сознавала.
Целый час прошел в этом томительном ожидании. Но вот последний вздох, слабое содрогание всего тела — и ни звука… ни движения…
Глухой стон вырвался из груди Марии Саввишны. Великая княгиня и княжны громко зарыдали. Крупные слезы одна за другою текли по щекам цесаревича.
Через минуту из спальни к притихшей в ожидании толпе царедворцев вышел граф Самойлов и с легким поклоном торжественно провозгласил:
— Милостивые государи! Императрица Екатерина скончалась, а государь Павел Петрович изволил взойти на Всероссийский престол!
Этой фразой возвещено было о событии, значение которого никто из присутствовавших, несмотря на долгое его ожидание, не мог уяснить себе в ту минуту.
В придворной церкви делалось приготовление к присяге.
XII. СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ
Ночь. Тишина в царицыной спальне, только однозвучно раздаются слова напутственных молитв. Неподвижно лежит Екатерина — вся в белом, и огромные восковые свечи обливают ее печальным светом. Спокойно и величественно лицо ее, отхлынула от него кровь в последнюю минуту, и оно теперь бледно. Смерть не исказила его, а напротив, придала ему новую прелесть.
Все муки последних дней, все земные скорби, страсти и волнения отлетели и унесли вместе с собою ту печаль, которую они клали на лицо это. Блаженная улыбка, улыбка освобождения, застыла на устах, сгладилась даже резкая черта между бровями, и только один высокий, прекрасный лоб сохранил отблеск глубоких мыслей, рождавшихся, созревавших и приносивших богатые плоды в этой тесной оболочке, уже предающейся тлению.
Все совершилось по вечным и неизменным законам природы. С одной стороны, произошел обычный физиологический процесс, который легко было подвергнуть точному анализу — одна форма материи переходила в другую. Но рядом с этим видимым процессом произошел другой, невидимый, таинственный, отвергаемый слабым рассудком, находящим жалкое удовлетворение в сознании человеческого ничтожества, признаваемый рассудком, умеющим всесторонне наблюдать связь и развитие жизненных явлений, но, во всяком случае, неспособный стать предметом анализа, предметом человеческого знания… Екатерины не стало… Но разве могло это могучее, феноменальное существо исчезнуть, уничтожиться, превратиться в прах? Уничтожилось тело, но это тело было совсем не то, что означало собою понятие: Екатерина…
Екатерина… маленькая немецкая принцесса из бедного дома, воспитанная дурною матерью, которая не могла дать ей и хорошего примера, которая не позаботилась и о развитии ее ума и сердца. С первых же лет своей жизни она сама должна была о себе заботиться, сама должна была так или иначе воспитать себя. Какое же воспитание, какое же развитие даст она себе? Очевидно, в основе их должно лечь то, что представляет ей окружающая жизнь, те впечатления, которые она встречает, та среда, в которой она живет. Ее окружают жалкие интриги, мелкая хитрость, ложь и обман.
Из своего бедного, родного дома обстоятельства переносят ее в чужую страну почти ребенком. И здесь снова, только еще в большей степени, интриги, обман и фальшь. Хитрить и притворяться с утра и до вечера, вечно рассчитывать, вести ловкую игру — вот что ей предстояло с первых же дней.
Затем союз с человеком, который очень мало говорил ее сердцу, не любил ее и начал семейную жизнь с оскорблений ей, грубых и бессмысленных оскорблений, ею не заслуженных. Она была одинока, в самом жалком положении. До нее не было никому дела, ею пренебрегали. Она могла дойти до отчаяния, зачахнуть и безвременно умереть, как уже было и будет со многими в подобных обстоятельствах. Но она не сделала этого.
Наблюдая в огромном большинстве окружавших ее людей самые низкие свойства и видя к себе почти всеобщую несправедливость, она могла бы начать относиться к людям с презрением и ненавистью, а между тем, она сохранила в себе любовь к человечеству, веру в то, что есть настоящие люди, и впоследствии она умела отыскивать таких людей.
Плохо воспитанная и еще плоше образованная, среди всеобщего невежества, прикрывавшегося только внешним лоском, она могла забыть и то, что знала, и всецело уйти в животную жизнь. А между тем, каждый новый день приносил ей новое умственное приобретение. Покинутая и оскорбляемая, она не падала духом, она училась, думала и наблюдала.
Все были против нее, все сулили ей печальную будущность, но она сказала себе, что ее будущность не такова, как всем казалось, и что она должна себя подготовить к ней…
И все перенося, ничем себя не проявляя, умаляясь, насколько это возможно, она вдруг, в один день, с помощью нескольких неопытных молодых людей, которые повиновались ее приказаниям, из загнанной, отверженной женщины превратилась в самодержавную русскую императрицу. Твердо и не оглядываясь, переступала она через все преграды и вдруг появилась во всей своей силе, во всем своем величии.
Маленькая немецкая принцесса стала русской женщиной. И эта женщина твердо и сознательно; мощной рукою приняла бразды правления с тем, чтобы не выпускать их до последней минуты жизни, с сознанием, что только ее крепкая рука может с честью их выдержать.
Окруженная блеском и всеми соблазнами самодержавной власти, она не забывалась ни на минуту. Перед нею был пример великого труженика, наследие которого она сделала своею собственностью наперекор природе. Она чувствовала свое близкое духовное родство с русским великаном и только его могучую тень признавала судьею своих деяний. Она принялась за работу и работала не покладая рук, изумляя мир силою своего разума, своих неслыханных способностей. Не было сферы, которую бы она признавала себе чуждой. И все, за что ни бралась она, поддавалось ей.
В ней было два существа, по-видимому, противоположных друг другу: разносторонне гениальный человек и страстная женщина. Но она умела примирить непримиримое. Предаваясь страстям своим, она никогда не забывалась и каждую минуту готова была воспрянуть духом, чтобы спешить навстречу своему высшему призванию.
И она имела великое счастие видеть плоды трудов своих.
Ее сравнивали со знаменитой царицей древнего мира, и она, ненавистница лести, спокойно принимала это сравнение. Ей самой казалось, что в ней воплотился дух Семирамиды.
Древние авторы приписывают владычице Ассирии такую эпитафию:
«Природа дала мне тело женщины, мои деяния сделали меня подобной самым крепким мужам. Я владычествовала над государством, распространенным во все концы света; до меня ни один ассириянин не видал моря — я видела четыре моря, до которых не достигал еще никто — и я подчинила эти моря моим законам. Я принудила реки изменить по моей воле течение, для блага подвластных мне народов. Я сделала плодоносною пустыню, оросив ее моими реками. Я воздвигла грозные твердыни. Я проложила дороги через недостижимые утесы. Я вымостила моим серебром пути, на которых до меня виднелись только следы диких зверей. И совершая все это, я находила время для своих наслаждений и для наслаждений друзей моих!»
Подобную же эпитафию могла начертать себе Екатерина, с тою только разницею, что новой Семирамиде было доступно многое, о чем и не помышляла древняя.
Ввиду такой деятельности, ввиду такой славы долгих лет знаменательного царствования, невольно забывались слабости женщины. Еще вчера Екатерину можно было судить, как дряхлеющую старуху; но теперь, когда ее тело лежало неподвижно, озаренное печальным светом погребальных свечей, — старухи уже не было больше, оставалась только великая женщина со своим законным, неотъемлемым правом на бессмертие…
Торжественная тишина стояла по дворцовым комнатам; только время от времени едва слышно раздавались боязливые шаги; как тени, мелькали люди, делавшие какие-то приготовления к завтрашнему утру.
Все утомились в течение двух дней ужасной агонии императрицы, и все теперь спали, забыв свои тревожные ощущения, забыв свое горе и страх за близкое будущее.
Не спал только один человек — человек этот был Павел. Он ходил быстрыми шагами по своему рабочему кабинету, озарявшемуся слабым отблеском двух догоравших свечей. При первом взгляде на него можно было заметить, что он находится в том особенном состоянии, когда человек совершенно не замечает окружающей обстановки, когда он движется и действует бессознательно. Глаза Павла, широко открытые, были устремлены в пространство, его губы то и дело шептали что-то. Иногда он схватывался рукою за сердце, иногда сжимал себе руками голову; иногда по щекам его катились слезы. Бесконечные вереницы мыслей одни за другими проносились в голове его, вставали целые картины, судорожный трепет пробегал по его членам, холодный пот выступал на лбу его. Вспоминалась вся жизнь.
Вот наступил, наконец, этот день, которого ждал он долгие годы, день, к которому он себя постоянно готовил! И с ужасом чувствовал он, что все же остался неприготовленным, что этот день застал его нежданно и поразил своим появлением…
Он — русский император! Он надевает на себя корону, которая со дня его совершеннолетия принадлежит ему по законнейшему праву!
И он содрогается под тяжестью этой незримой короны, его охватывает благоговейный трепет, соединенный с невольным ужасом.
— Достоин ли я, — шепчет он, — того, что выпало мне на долю? Снесу ли я эту тяжесть? Достойно ли выполню великое и тяжкое призвание? Боже, помоги мне, на Тебя одного мое упование!..
Он падает на колени, простирая перед собою руки. Он рыдает и горячо молится.
И вот, после этой облегчающей молитвы, снова наплывают думы.
— Забыть… забыть себя! — шепчет он. — Забыть все это прошлое, к чему оно теперь?.. Его нет… И, может быть, даже лучше, что оно было!
Но, плмимо его воли, многие минуты пережитой тяжелой жизни встают перед ним, и невольная горечь обливает его сердце. Вспоминаются обиды, несправедливости, которые он должен был выносить часто от людей ничтожных. Вспоминается бессилие перед торжествующим злом, перед неправдой, которую он ясно видел и с которой не мог бороться.
— Забыть… забыть! — повторяет он и делает над собой последние усилия. И, наконец, достигает забвения. Его прошлое отходит, и мало-помалу восстает образ настоящего, а за ним и будущего.
«Много неправды внедрилось повсеместно, все распущено, разнуздано, истина скрылась где-то и не смеет показаться наружу. Нужно заставить ее выйти на свет Божий, нужно заставить ее явиться победительницей неправды. Но достанет ли для этого сил одного человека? Нужны помощники, нужны верные слуги, истинные русские люди с неподкупным и любящим сердцем…»
Он стал искать людей этих, вызывал их мысленно перед собою. Но не многие явились на зов его.
«С этими начну, а затем, Бог даст, придут и другие! Они попрятались теперь, им не было хода. Они поймут, что я зову их, что я их жду, и явятся мне на помощь. Я обращусь ко всему, что есть честного и лучшего в моем отечестве. Я каждым моим шагом буду доказывать, что ищу только правды, что не боюсь правды, что ненавижу ложь и бесчестность».
«Меня поддержат, меня поймут. Я дам возможность каждому сказать мне все, что сказать он может. Первое, что я сделаю завтра же — выставлю перед дворцом ящик, в который каждый свободно будет опускать свои письма. Ключ от ящика буду хранить я и ежедневно сам буду отпирать его и прочитывать все, что там найдется; таким образом я стану узнавать многое, что иначе осталось бы навсегда мне неизвестным»…
«А эти развратные, разнузданные люди — пусть они меня ненавидят! Мне не нужно их любви, — она была бы для меня позором. Я заставлю их дрожать перед собою от страха, этих развратителей народа, этих служителей лжи и обмана!.. Их ненависть будет лучшим моим украшением. Я очищу этот новый Вавилон, я превращу его в христианский город… И никто не осмелится сказать мне, что я плохой учитель, потому что каждому я буду подавать пример собой, своей добропорядочной жизнью…»
Мало-помалу трепет и страх за будущее, неуверенность в своих силах отходили, являлось спокойствие. Широкое чувство наполняло Павла, в нем заговорили все заветные стороны души его, в нем выступал в полном блеске последний истинный рыцарь, честный и бесстрашный, бьющийся за правду.
Мало-помалу все грезы, которыми он наполнял однообразные дни гатчинского досуга, возвращались и улыбались ему. Приходили на ум все планы государственного устройства и внутренней политики, которые он разрабатывал вдали от действительной жизни, в тишине своего гатчинского кабинета.
«Нет, не даром прожиты эти годы! — решил он. — Все же многое подготовлено».
Он вспомнил свое войско, дисциплинированное, выносливое, прошедшее тяжелую школу. Он призовет своих гатчинцев, разместит их по всем полкам.
«Пусть они научат этих солдат, этих офицеров, которые только срамят имя русского солдата и русского офицера!»
«Да, его гатчинцы в короткое время сумеют создать настоящее войско, и с ним не стыдно будет глядеть в глаза Европе. С хорошим войском можно будет поддерживать свое влияние, свое значение. Но он вовсе не ищет военной славы. Он без крайней необходимости не станет водить русских людей на убой. Он начнет с того, что покончит ненужные военные действия. Россия не нуждается в приобретениях; прежде нужно подумать о внутреннем благосостоянии; нужно устроить внутреннюю свою жизнь на честных и законных основаниях»…
«Но с чего же начать? О, он должен начать с утверждения справедливости, он должен удовлетворить всех обиженных в последнее время и щедро наградить их за претерпенные невзгоды. С другой стороны, он должен наказать тех, кто злоупотреблял своим временным значением»…
«Наказать!..»
«Начнем с кары, с наказаний. Нет, я не хочу этого. Достаточно будет, если я лишу злых людей возможности творить зло, если я отберу от них оружие. Да и какое наказание могу я придумать больше того, какому они должны будут сами себя подвергнуть, увидя свое бессилие?»
«А своих личных врагов?..»
В нем закипело сердце, но он быстро успокоился.
— Я должен простить врагам своим! — прошептали его губы.
Утомленный, обессиленный, он упал в кресло и долго сидел неподвижно, опустив голову. На него напало тихое раздумье. Мысль переставала работать, но зато в сердце просыпалось новое ощущение. Тоска какая-то начинала давить его. Это была знакомая ему тоска, уже не раз им испытанная, приходившая неведомо откуда и, по-видимому, без всякой причины. Это была тоска, которую он называл предчувствием…
Он вздрогнул.
«Беда грозит, новая беда!»
Но ведь он знал, что не на счастье дана ему жизнь; он знал, что эта жизнь — тяжкое бремя, и он должен нести его со смирением до последней минуты.
— Прочь предчувствие! — почти громко крикнул он и встал, будто отгоняя от себя мрачные призраки.
«Да будет воля Божья надо мною, а я должен нести крест свой и понесу его, не заглядывая, что ожидает меня на пути моем!»
Снова загорелись глаза его, снова по всем членам пробежал вдохновенный трепет. Он чувствовал, как и двое суток перед тем, во время своего странного сновидения, будто какая-то невидимая сила поднимает его, наполняет его новым избытком жизни. Торжественное спокойствие теперь нисходило в его душу.
— Господи, благослови труд мой! Благослови путь мой! — прошептал он, широко осеняя себя крестным знамением.
Все тревоги, все сомнения отлетели. В нем не было уже места тяжелым или злым воспоминаниям, в нем было только одно могучее, честное чувство — любовь к правде, любовь к родине, одно сознание своего высокого призвания.
XIII. ПЕРВЫЕ ДНИ
Зимний, ясный день светил в окна. Сергей Горбатов, склонившись над письменным столом в своей обширной рабочей комнате, быстро писал инструкцию одному из своих управителей. Он пользовался свободной минутой и спешил окончить письмо, чтобы кто-нибудь или что-нибудь ему не помешало. У него совсем не было свободного времени; дни проходили так быстро и разнообразно, что даже трудно было отмечать их.
Уже около трех недель прошло с кончины императрицы. Сколько знаменательного совершилось в это время. Екатерина еще не была похоронена, ее набальзамированные останки находились еще в Зимнем дворце, и рядом с ее пышным гробом стоял другой гроб, такой же пышный, — и на нем лежала императорская корона.
Что же это означало? Кто за это время еще скончался из членов царской семьи? Никто. Все были живы. В этом новом гробу, поставленном рядом с гробом императрицы, для поклонения народа, лежали кости человека, давно окончившего свою жизнь. Корона на гробу являлась символом того, что человек этот не успел короноваться при жизни. Сын вспомнил отца, и из Невской лавры, где были похоронены останки императора Петра III, приказал перенести их со всевозможными почестями в Зимний дворец с тем, чтобы вместе с телом императрицы похоронить в Петропавловском соборе, в фамильном склепе Русского императорского дома.
Такое неожиданное распоряжение императора Павла изумило всех. Об этом было много толков и разговоров. Сам император не распространялся относительно этого предмета и только однажды мрачно проговорил:
— Нужно же, чтоб хоть по смерти человеку была оказана справедливость!
Из числа немногих, кто понимал и одобрял этот поступок императора, был Сергей. Он участвовал в церемонии перенесения костей Петра III, он проследил по лицу Павла Петровича все волновавшие его ощущения и все понял. Он сам бы поступил так на его месте. Вообще следить как можно пристальнее за императором теперь сделалось невольною потребностью Сергея. Он более чем когда-либо чувствовал себя ему преданным, изумлялся его неустанной, лихорадочной деятельности. Иногда в него закрадывалась тревога:
«Разве так может продолжаться? Он должен утомиться. Теперь еще он возбужден, но возбуждение мало-помалу станет остывать, и тогда он увидит многое, чего пока не замечает. Он увидит, что большая часть его усилий пропадает даром, что часто приходится ему встречать вместо понимания его благих намерений одно недоброжелательство, подавленный страх и злобу…»
Верный своим взглядам и выработанному плану, император, не откладывая ни минуты, приступил, и приступил, по своему обычаю, резко и решительно к изменению многого в существовавшем строе. Гатчинские войска уже были в Петербурге. Гатчинцы явились учителями в гвардейских полках, и в городе уже шел говор, шел ропот. Укоренившейся распущенности полагался конец. Привольная жизнь петербургских гвардейцев быстро изменилась. Теперь уже нельзя было только считаться на службе, получать все права и отличия и не нести никаких обязанностей. Нужно было или служить, или выходить в отставку. И при Екатерине многие дворяне находили службу тяжелою, хотя она и не заключала в себе никакой тяжести. Теперь же служба становилась действительно тяжелою. Теперь в привилегированных полках водворилась суровая, чересчур суровая дисциплина, ревностным блюстителем которой был Аракчеев. Изящный, блестящий костюм, дорогие шубы и муфты офицеров превращались в приятное воспоминание. Стояла морозная зима, но ни шуб, ни муфт уже не существовало; нужно было по морозу в одних мундирах являться на ученье. Изнеженные, не привыкшие к суровой школе люди отмораживали себе уши и руки.
Петербург издавна привык обращать ночь в день, теперь и этого уже нельзя было делать. День начинался рано, еще до света, когда государь, уже давно вставший и принявшийся за работу, принимал своих докладчиков. День кончался рано, когда государь, утомленный разнообразной дневной деятельностью, прощался со своими домашними и приближенными и удалялся в опочивальню. В десять часов вечера на улицах Петербурга должно было прекращаться движение. Огни в домах должны были гаснуть.
«Ночью надо спать — днем надо дело делать», — так говорил император и на себе показывал пример этой аккуратной, размеренной жизни. Он надеялся, что его доброму примеру будут следовать добровольно. Он требовал от людей, имевших с ним соприкосновение по своим обязанностям, чтобы они согласовались с его привычками и правилами. Он несколько раз повторял, что мало-помалу, видя строй придворной жизни, и все петербургское общество изменит свои обычаи.
Но нашлись люди, которые, не получая от него никаких приказаний, сами уже начинали распоряжаться, врывались в частную жизнь. Ежедневно оказывались новые полицейские распоряжения, о которых в большинстве случаев государь не имел никакого понятия. Эти распоряжения строго проводились в исполнение, поселяли в обществе, не привыкшем ни к какому стеснению, неудовольствие и ропот, но об этом ропоте никто из распорядителей не думал. Лишь бы государь был доволен, лишь бы ничто его не раздражало. Одним из таких усердных людей, усердие которых хуже измены, был петербургский губернатор Архаров…
Вообще Сергей видел, что случилось что-то крайне прискорбное и неожиданное. Еще так недавно цесаревич Павел будто не существовал, и никто не обращал на него никакого внимания. Об его взглядах, желаниях никто не заботился. Перечить ему во всем считалось чуть ли не обязанностью. Теперь император Павел, несмотря на свою раздражительность, которая, впрочем, очень скоро проходила, ко всем относился с большой снисходительностью, щедрый, чересчур щедрый, направо и налево сыпал свои милости, требовал только должного, — и, между тем, во всех вселял к себе чувство страха.
Да, все боялись императора, а он хотел именно одного, чтобы его не боялись порядочные люди, чтобы его боялись только негодяи и изменники. Император уже сам начинал замечать это производимое им впечатление, и ничто так не мучило его, ничто так не раздражало, как этот бессмысленный страх. Он даже жаловался на это близким людям, он удесятерял свои милости каждому, кто, по его мнению, хоть чем-нибудь мог оправдать эти милости, но ничто не помогало, государь все же являлся одиноким. Его окружала только небольшая кучка людей, давно ему преданных, а новых людей, способных понять и оценить его, почти не прибывало.
Это было очень грустно Сергею, и он не раз об этом беседовал с Таней, которая переехала из Гатчины в Зимний дворец, и с которой он видался ежедневно. Свадьба их теперь поневоле была отложена до похорон императрицы.
— Знаешь, — раз как-то сказала Таня жениху, когда они толковали о государе, — я ведь имела достаточно времени изучить его характер, я знаю все достоинства его и недостатки, и знаю, как прожил он всю свою жизнь. Он там, в Гатчине, часто откровенно беседовал со мною о разных предметах, многое мне высказывал. У меня даже в моих тетрадях записаны иные наши разговоры. Как-нибудь на досуге я дам их тебе прочесть, найдешь в них много интересного. Так, знаешь ли, этот человек самый несчастный, какого только можно встретить в жизни. Есть люди, которым все дозволено, и все удается, они могут делать какие им угодно ошибки, и каждая из таких ошибок обращается в их пользу. У них может быть пропасть недостатков, но эти недостатки им извиняются; они могут быть, в сущности, почти ничтожными, а их величают. Есть другие люди, которым ничто не удается, которых преследует будто какое-то проклятие, ими не заслуженное; все обращается им во вред и в осуждение, и каждое обстоятельство складывается для них бедою. Малейший недостаток их представляется для всех удесятеренным, раздувается и превращается чуть ли не в преступление. Каждое их хорошее свойство не понимается и объясняется в худую сторону. Что бы они ни сделали, и если даже сделают что-нибудь великое, все это оказывается ошибкой. Они питают в себе великие замыслы, они относятся к ближним своим как истые христиане, а, между тем, их считают чуть ли не извергами, их сердце обливается кровью, а их обвиняют в холодности, в себялюбии. Такой вот, такой человек и государь наш. Я давно это уже вижу и давно это меня мучает. Он мне еще в прежнее время говорил, что считает себя самым несчастным человеком; я не находила слов его утешить и разуверить, потому что была с ним согласна. Теперь же, что же это такое? С утра и до вечера приходится мне слышать: «Ах, он увидит, он рассердится, ах, как бы от него скрыть!» Всякий ждет себе от него погибели, а он хочет всем блага.
— Твоя правда, — грустно сказал Сергей. — И что всего ужаснее, что этому ничем помочь невозможно.
— Нет, есть вещи еще ужаснее этого, — быстро перебила Таня. — Я начинаю замечать в нем большую перемену. Это непонимание, встречаемое им почти ото всех, доводит его до изнеможения и до бешенства. Я не могу себе представить, чем все это может окончиться!
— А, между тем, как он сдержан иногда может быть, — заметил Сергей. — Он меня поражает иной раз своим уменьем владеть собою. В нем, как и в каждом необыкновенном человеке, соединение самых разнородных свойств. Болезненная раздражительность уживается в нем наряду с необычайным, нечеловеческим терпением.
— А откуда берется это терпение? — горячо сказала Таня, и глаза ее блеснули.
Она пристально взглянула в лицо Сергея и, не сводя с него своего взгляда, продолжала:
— Откуда берется у него, как ты говоришь, нечеловеческое терпение? Он почерпает его в Евангелии.
Сергей понял этот горячий, пристальный взгляд Тани, от которого ему стало неловко. Он хорошо помнил их давнишние разговоры и споры о религиозных вопросах, вспомнил ужас Тани перед тем, что она называла его неверием. Теперь, со времени их новой встречи, она не поднимала никаких религиозных вопросов. Она все ждала, что, может быть, Сергей сам как-нибудь выскажется и решит ее сомнения. Он подумал, что может ее успокоить.
— Конечно, — сказал он, — в такой великой книге, как Евангелие, каждый человек может почерпать очень многое для своей жизни. В этой книге сосредоточена нравственная философия всех веков.
Таня почти безнадежно махнула рукой.
— Нравственная философия всех веков! — повторила она. — Ах, совсем не в этом дело, и лучше теперь не будем говорить об этом.
— Я не понимаю, — сказал Сергей, — отчего тебя смущает это определение; когда-нибудь поговорим на досуге и, я думаю, мы сойдемся. Сначала мы будем расходиться в словах, но слова, Таня, последнее дело. Я согласен с тобою, что государь проникнут евангельским духом. Разительный пример этого мы могли видеть в его поведении относительно князя Зубова: признаюсь, я никак не ожидал, что он так поступит. Да и никто не ожидал этого, а тем менее Зубов.
— Да и после такого поступка я горжусь моим государем, — сказала Таня. — Но скажи мне прямо и откровенно, Сергей, ты, ты-то доволен, что он так поступил?
Сергей добродушно улыбнулся.
— А ты меня считаешь язычником и думаешь, что я пылаю мщением. Нет, княжна, видно, мои дела перед вами все же очень плохи. Я все еще на самом дурном счету у вас.
Она зажала ему рот рукой.
— Милый, я говорила это тебе не в осуждение и сама сейчас признаюсь, что в первую минуту поддалась очень греховному чувству. Я порадовалась, что негодный человек получит должное наказание.
— Мы имеем самое законное право радоваться тому, что он, во всяком случае, уже лишен возможности делать то зло, которое беспрепятственно делал столь долгое время. Он враг мне, и мстить ему я считаю для себя унизительным. За все ему будет заплачено и без наших стараний, и я так полагаю, что он несет уже очень тяжелую кару. Он уже пережил страшное время, и будь я даже гораздо злее, чем в действительности, я могу считать себя удовлетворенным. Ведь я был там, я видел. Ах, если бы ты знала, в каком он был положении, от него все отшатнулись, как от зараженного. Он был, право, достоин жалости. Он ждал себе неминуемой гибели. Я присутствовал при первой его встрече с императором. Полагаю, его горесть была искренна, на него было страшно смотреть. Он с громким рыданием упал к ногам государя, но тот его милостиво поднял и сказал ему: «Вы верно служили моей матери, вы искренне ее оплакиваете. Продолжайте исполнять ваши служебные обязанности при ее теле. Надеюсь, что и мне будете так же верно служить, как и ей служили». Никто не верил ушам своим, услышав эти милостивые слова. Я ждал, что вот теперь снова все вернутся к Зубову и по-прежнему станут угождать ему. А, между тем, от него продолжали отвертываться. Я раз слышал шепот: «Это он в первую минуту так обошелся с ним, он не хочет начинать с немилости. Но уж, наверно, на этих днях его судьба будет решена. Его будут судить и сошлют в Сибирь, иначе и быть не может». А вот прошло столько времени, и его не судят. Ему пожалован орден Анны первой степени, а это, знаешь, какая важная награда в глазах государя!
— Однако же великодушие имеет свои пределы, — заметила Таня. — Государь так поступил с Зубовым, как с личным своим врагом, но я считаю Зубова врагом России, и государь не имеет права прощать ему все беззакония.
— В этом отношении не беспокойся, — несмотря на награды и милости государя, Зубов уже не то, что прежде. Он сам должен был отказаться от разных своих почетных должностей. Вся его канцелярия была опечатана и пересмотрена. Великий князь Александр Павлович руководил этим пересмотром. К счастью для Зубова, в его бумагах не найдено было ничего, что могло бы его сильно скомпрометировать. Но, во всяком случае, я предвижу, что дела его довольно плохи. Конечно, мало-помалу будут всплывать наружу очень грязные его проделки. Ожидали его быстрого падения — этого не дождались, но падение, во всяком случае, уже совершилось и будет продолжаться медленно и постепенно. А это, пожалуй, для него еще большее наказание.
— А твой дневник? — вдруг вспомнила Таня.
— Мой дневник у него, но я ручаюсь, что он возвратит мне его. И ты права была, Таня, когда заподозрила меня в жестокости и мстительности. Я намерен отомстить ему. Я заставлю его отдать мне дневник мой из рук в руки. А пока до свидания, моя дорогая, я уж больше недели как получил письмо от моего управителя, он дожидается очень нужных распоряжений, да и, кроме того, вероятно, дома ждет меня много дел. До свидания, увидимся сегодня вечером.
И вот, возвратясь от нее, он спешит докончить нужные письма, будучи уверен, что непременно, кто-нибудь ему помешает. Теперь вдруг оказалось стольким людям до него дело, теперь ежеминутно подкатывают к его подъезду экипажи. Почти весь Петербург выражает ему знаки особого почтения и преданности.
Так и есть — раздается стук в дверь.
Сергей с неудовольствием поднялся со своего места, отворил дверь.
— Я занят, — сказал он. — Никого не принимать. Но камердинер доложил ему, что приехал Ростопчин.
— Господина Ростопчина проси, а всем остальным говори, что меня нет дома.
Через минуту в кабинет входил Федор Васильевич, оживленный более чем когда-либо, и издали дружески протягивал Сергею руку.
XIV. НОВЫЕ ВЕСТИ
— Счастливец, — с видимым удовольствием говорил Ростопчин, развалясь в кресле, — сидит в своих чертогах, сибаритствует, ему и горя мало, что на дворе мороз и что по такому морозу мы все на разводе чуть не замерзли в мундирах.
— Ну, вы-то не замерзнете, — улыбаясь, сказал Сергей, — я ваш секрет знаю и давно уже собираюсь донести на вас государю, пусть-ка он прикажет вам снять мундир, тогда и увидит тепленькую шкуру, которую вы носите.
— А сделайте милость, пусть велит раздеться, я и из шкурки благополучно выберусь, все на жену свалю. Пусть он с нею ведается. Она меня без этой шкурки ни за что из дому не пускает.
— Да, но не у всех такие настойчивые и предусмотрительные жены.
— Право, эта наша борьба с климатом плохо кончится. На разводе только и раздавалось, что чиханье. У всех насморк, все распростужены. Старики стали на ревматизмы жаловаться, а между тем, каждый друг перед дружкой стараются выказать свое молодечество. Хоть умереть, лишь бы только государь заметил. Вон сегодня, капитан Левашев со своими офицерами даже без перчаток явился. Руки у всех совсем синие, головой поручусь, что отморозили, а своего добились. Государь обратил на них внимание. «Что это, — говорит он Левашеву, — ты в такую стужу без перчаток, к чему так, это уж лишнее». А тот отвечает: «Государь, перчатки у нас у всех в кармане, а мы сделали сие единственно, чтобы вам угодно было. Мы все, — говорит, — государь, вам в угодность сделаем, только не торопите вы нас». Засмеялся государь. «Молодцы!» — говорит. Ну, не кукольная ли это комедия. Сергей Борисович, ведь они сами себе все портят! Сами на свою голову глупости делают… и так все!
— А кроме этого геройского поступка, на нынешнем разводе ничего интересного не было? — спросил Сергей.
— Как не быть. Каждый день прекурьезные обстоятельства случаются. Не будь всех этих комедий, то и взаправду можно было бы замерзнуть, а тут веселость поддерживает. Сегодня презабавная история случилась, и как бы вы думали, с кем? В жизнь не отгадаете. С самим нашим генерал-губернатором, с господином Архаровым.
— А что такое?
— Я, нужно вам сказать, не из поклонников Архарова, и почти ежедневно, вовсе того не желая, узнаю о нем преплохие вещи. Вот и сегодня одна плохая вещь узналась. Я, признаться, думал, что его проучат хорошенько. Нет, однако ж, сух из воды вышел. Дело, видите, в том, что господин Архаров в долгу, как в шелку, и долгов своих платить не имеет обычая. Должен он тут купцу одному, Сидорову, двенадцать тысяч. Денег не платит. Купец к нему ходит, а он ему только все: «Завтра да завтра». Потом надоело это — выгонять стал. А в последний раз просто-напросто взял да исколотил купца. Тот не знает, что и делать. Да добрые люди его надоумили, говорят ему: государь все просьбы принимает и самолично рассматривает, и каждому к нему доступ с просьбою. Настрочил купец просьбу, да нынче на разводе подает эту просьбу государю. Архаров, заметьте, тут же. Обмер, только виду не показывает. Держится, как бы до него не касается. Государь пробежал просьбу, вспыхнул весь; потом, гляжу, вдруг усмехнулся. «Пойдите-ка сюда, Николай Петрович. Вот просьбу, говорит, подали, да у меня что-то нынче глаза слипаются, будто запорошены, прочесть никак не могу. Сделай милость, возьми на себя труд и прочти мне сию просьбу». Архаров позеленел весь. Принял бумагу и начинает читать, и с первых же слов видит, что не пожалели его, отрекомендовывают его как следует, без всякого стеснения. Глядим мы все, видим — наш Николай Петрович совсем на себя не похож. Бормочет себе что-то под нос, ничего расслышать не можно. Ну, думаю я, вот и Архарову конец наступает. Между тем, государь продолжает улыбаться и тихо так, спокойно говорит: «Читай, сударь, громче, я что-то оглох сегодня и ничего не слышу». Архаров жмется к государю, возвышает голос, но все же старается так, чтобы никто не мог расслышать. Вижу, вспыхнул, наконец, государь, крикнул: «Читай громче, так, чтобы все слышали!» Архаров, ни жив, ни мертв, а делать нечего, исполнил повеление, всю просьбу от первого до последнего слова прочел во всеуслышание! То есть так я вам скажу, Сергей Борисыч, — много смешных сцен на веку пришлось мне видеть, а такой еще не видал. Смех так вот и разбирает, едва удержаться мог. Вы представьте себе только Архарова…
И Ростопчин, вскочив с кресла, принял позу Архарова, состроил гримасу и вдруг сделался на него необыкновенно похожим.
Сергей рассмеялся.
— Ну, и что же, чем все это кончилось? Неужели Архаров уволен?
— К сожалению, нет. Его наказание ограничилось только тем, что он был отдан на всеобщее посмешище. Государь находит его полезным. Но, во всяком случае, урок ему хороший. Когда чтение кончилось, государь огляделся, насладился картиной и спокойно спрашивает: «Николай Петрович, что это такое, ведь это на тебя?» — «Так точно, ваше величество»…
Ростопчин опять превратился в Архарова и начал в лицах разыгрывать дальнейшую сцену, так что Сергей смеялся до слез.
«Да, на тебя, неужто это правда?» — «Виноват, государь». — «Но неужели и то все правда, что за его же добро ты, вместо благодарности, не только что взашей выталкивал, но даже и бил?» — «Что делать, должен и в этом признаться, государь, что виноват, обстоятельства мои меня к тому принудили. Однако я в угоду вашему величеству сегодня же и деньги ему уплачу». А у самого на лице смирение, сознание своей вины, раскаяние. Хитрец этот Архаров. Вижу, понял, что только таким способом может выпутаться. Государю это чистосердечное раскаяние, очевидно, понравилось. «Ну, хорошо, — говорит он, — на этот раз Бог тебя простит, и надеюсь, что впредь такого себе не позволишь». Потом подозвал купца и говорит ему: «Друг мой, деньги тебе сегодня же заплатят, ступай себе с Богом, однако, когда все получишь по расчету, приходи ко мне и скажи. Я должен знать, что сие исполнено». А сам в это время на Архарова поглядывает… Вот, Сергей Борисыч, какое было у нас представление.
— Вы меня порадовали, побольше бы таких представлений!
— Только ни к чему они не поведут, — заметил Ростопчин. — Он о людях слишком хорошо думает. Легкими уроками их нельзя выучить, и потом, в каждой хорошей мере есть дурная сторона. Вот хотя бы теперь это, что всякий может обращаться к государю со своей просьбой. Ну, на этот раз просьба оказалась дельною, а ведь уж этой милостью как злоупотреблять стали. Третьего дня что у нас на разводе было, слышали?
— Нет, ничего особенного не слыхал.
— А как же, господские лакеи, тунеядцы негодные, смастерили челобитную и целой ватагой преподнесли ее государю. Кабы только знали, что в той челобитной прописано! Ругаются холопы ругательски, издеваются над своими господами, взводят на них всякие небылицы и кончают так: освободи, мол, нас, милосердый отец, от тиранства наших помещиков; не хотим быть у них в услужении, а хотим только служить тебе одному. Видите, куда метят! И уже наверное эту челобитную не своим умом они сочинили, а нашелся человек знающий. Конечно, легко может случиться, что некоторые из помещиков и виноваты, но, признаться, мы все с трепетом ждали, чем решит государь. Если бы мы начали потакать холопам, могли бы произойти опасные бедственные последствия, но он прекрасно это понял, и дерзкие слуги были наказаны, чтобы впредь не повадно было никому на своих господ жаловаться. Да неужто вы об этом деле не слыхали? Во всем городе говорят, и это чуть ли не первый поступок, который всеми одобряется и прославляется.
Сергей задумался.
— Это чуть ли не первый поступок государя, — проговорил он, — который я не могу прославлять. Мне кажется, что прежде чем наказывать слуг, следовало разобрать, насколько основательны их обвинения.
— И это говорите вы, вы, — русский дворянин? — изумленно воскликнул Ростопчин.
— Да, это говорю я, и иначе говорить не могу. Я нисколько не желаю умалить значение дворянства, нисколько не хочу унижать сословия, к которому принадлежу. Напротив, я желал бы, чтобы это сословие так себя держало, чтобы невозможны были никакие унижающие и позорящие обвинения, а между тем, я знаю, что позволяют себе наши господа со своими слугами. Государь оказал бы великое благодеяние во имя справедливости, если бы так или иначе положил предел всем этим безнаказанным жестокостям.
— Как ставить на одну доску слуг и господ? — все более и более изумляясь, говорил Ростопчин. — Послушайте, Сергей Борисыч, ведь к этому нельзя так легко относиться, ведь тут принцип, и мы знаем, если принцип этот поколеблен, какие наступают результаты. У нас пред глазами Европа.
Но в Сергее уже проснулось старое, совсем было позабытое им раздражение, на него вдруг пахнуло прежним воздухом, пахнуло его юностью.
— «Pereat mundus — fiat justitia» [12] — бессознательно прошептал он.
Ростопчин укоризненно покачал головой.
— Однако, Сергей Борисыч, — сказал он, — ведь запад отравил вас, вы действительно, как я вижу, «вольтерьянец».
— Пускай, называйте меня, как хотите, но есть вещи, которые меня невольно волнуют, и я не могу с собою справиться. Есть вещи, существование которых возмутительно, и они так или иначе, по существу своему обречены гибели. Я так полагаю, что усилия всех честных людей должны быть направлены к тому, чтобы хоть мало-помалу установить правильный порядок вещей. Установить его вовремя, именно ради того, чтобы избегнуть тех ужасов, какие мы видим на западе. Человека, при каких бы он обстоятельствах ни родился, нельзя лишить человеческих прав и поставить его в зависимость, сделать его вещью другого человека, только ввиду того, что этот другой человек родился при других обстоятельствах, чем он.
— Иными словами, вы хотите сказать, — перебил его Ростопчин, — что нужно освободить наших крепостных и дать им все права, какими мы сами пользуемся?
— Да, я хочу сказать это, и удивляюсь, как вы, при вашем образовании, при вашем уме и развитии, хотите со мною в этом спорить.
Ростопчин задумался.
— Я спорить с вами не буду, — наконец, произнес он, — если мы станем говорить отвлеченно, но все дело в том, что нам трудно понять друг друга. Я уже говорил вам, что мы разные люди. Вы мечтаете — я живу. Я вижу только требования живой действительной жизни и знаю, что прекрасные мечтания о всеобщем счастии никаким образом не могут осуществиться в действительности. Вы — теория, я — практика.
— Положим так, — сказал Сергей, — я согласен с вами, что я человек непрактический, но не злоупотребляйте этим моим признанием. Теория имеет соприкосновение с практикой, и разумная теория, рано или поздно, принимается на практике. И поверьте мне, Федор Васильевич, — голос Сергея поднялся и дрогнул, — поверьте мне, что придет время, и у нас на Руси когда-нибудь все то, о чем я теперь мечтаю, то, что вы называете моей западной отравой, моим вольтерьянством, перейдет в действительность. Наши крестьяне, крепостные наши будут освобождены, и совершится это без всяких ужасов. Вытечет это из общего сознания, которое окажется заодно с самодержавною волею русского монарха.
— Что же это, вы пророчествуете?
— Да, я пророчествую и твердо верю в свое пророчество!
— Когда же это должно совершиться по вашему мнению? В скором времени?
— Не знаю, это будет зависеть от обстоятельств, а уяснить их себе заранее невозможно. Это могло бы совершиться очень скоро, могло бы совершиться даже теперь, и я был бы самым счастливейшим человеком, если бы такой акт высочайшей справедливости был совершен императором Павлом.
— Это немыслимо, и хотя он сам мечтатель не хуже вас, но до таких мечтаний никогда не может дойти, потому что он отлично понимает, что для него первая попытка осуществить такое мечтание будет гибельна. Кто его поддержит, вы?
Они оба замолчали, Ростопчин думал:
«Век живи, век учись. Я полагал, что понял его и определял верно, и вдруг такое открытие. Да ведь это помешательство, он бредит. Однако надо предупредить его, как бы он этим бредом не сломил себе голову…»
— Сергей Борисыч, — сказал он, — вы никогда не говорили с государем об этом предмете?
— Не высказывал своих мыслей до сих пор, не приходилось.
— Так я, из искреннего расположения к вам, должен просить вас: ради Создателя и впредь ничего подобного ему не говорите.
— Отчего? Я всегда бываю с ним откровенен.
— Все до известной степени. Если бы он присутствовал при теперешнем нашем разговоре, вы были бы погибшим человеком. Ах, как это досадно, как это обидно! — продолжал он, раздраженно шагая по комнате. — Тут столько дела насущного, живого дела, вее, к чему ни прикоснешься, требует работы, нужны так честные, хорошие люди, а эти честные, хорошие люди мечтают, фантазируют, носятся в эмпиреях, знать не хотят действительности!..
— Неужели вы когда-нибудь рассчитывали и полагали мне найти работу? — улыбаясь, перебил его Сергей. — Я сам давно записал себя неспособным, сделайте это и вы, если еще не сделали. Я хорошо знаю, что работы много, я знаю, что вы работаете и будете работать, но представьте себе мое безумие, или глупость, назовите, как хотите — я плохо что-то верю в результаты вашей работы, как добросовестна она ни была. Все это то, что в медицине называют «паллиативы». Вы ходите по поверхности, вы заботитесь о листьях, а до корней вам нет дела. Да и с листьями что вы делаете? Скажите мне откровенно, чем вы теперь заняты, Федор Васильевич?
— Ах, Боже мой, чем я теперь занят! — горячо и внезапно забыв весь предшествовавший разговор, воскликнул Ростопчин. — Чем я занят? Представьте себе, государь упорно продолжает верить в мое знание военного дела, мне поручено составить новый устав для русской армии, конечно, на основании прусского устава.
— И вы взяли на себя эту работу?
— Что же иное мог я сделать?
— Но ведь вы сами говорили мне, что не чувствуете склонности к военному делу и не имеете хорошей подготовки.
— Поэтому я не намерен на себя полагаться. Я, так сказать, буду только редактировать устав. Главную работу сделают более, чем я, опытные люди в этом деле. Я вообще надеюсь заняться в скором времени тем, что меня интересует больше, и в чем я больше понимаю. Я сразу отказываться от назначенной мне государем работы не имею возможности.
Сергей укоризненно покачал головой.
— Вот к чему приводит ваша практичность — и лучше не будем больше говорить об этом, не то еще, пожалуй, поссоримся.
— Я с вами никогда не поссорюсь, Сергей Борисыч, — сказал Ростопчин.
Он почувствовал неловкость своего положения, почувствовал, что проговорился, и что, во всяком случае, не он остался победителем в их споре, а этот непрактичный мечтатель, которого он только что мысленно назвал помешанным. Он рад был перевести разговор на иную тему.
— А ведь я, собственно, к вам за делом, по поручению государя, но прежде чем скажу вам об этом поручении, нужно приступить к некоторым разъяснениям. Все дело в одном из ваших больших приятелей, даже, так сказать, в самом лучшем вашем друге.
— О ком вы говорите?
— О светлейшем князе Платоне Александровиче Зубове.
— А, извините, я и так должен был догадаться.
— Так вот, видите, Платон Александрович пользуется большими милостями государя…
— Я это знаю, и не изумляюсь нисколько. Я еще сегодня утром говорил об этом с моей невестой, и мы восхищались образом действий государя.
— Восхищаться нужно, — улыбаясь, протянул Ростопчин, — но все же тут есть кое-что совсем для меня непонятное. С этим господином чересчур уже церемонятся.
— Из некоторых слов я могу заключить, что тут действуют действительно христианские чувства.
— Но оказывается, что от некоторых христианских чувств тем, на которых они обращены, бывает не совсем приятно. Если б я не знал хорошо государя, я подумал бы, что он играет с Зубовым как кошка с мышью. По крайней мере, светлейший князь должен пройти через все ощущения мыши… Скажите, пожалуйста, слышали вы, что государь купил на Морской дом?
— Да, я знаю это и знаю этот дом, он великолепен.
— Посмотрели бы вы, как в несколько дней его отделали! Совершенно как дворец, роскошь удивительная. Кроме того, дом снабжен великолепной посудой, золотым столовым прибором, серебром в огромном количестве. Лошади, экипажи. Нанят целый штат прислуги. Для многих, и, в особенности, для придворных дам, это обстоятельство являлось большой загадкой. Любопытство их не давало им ни минуты спокойствия. Кому предназначен этот дом? Кто будет жить в нем? И представьте себе, вчера загадка разъяснилась. Платон Александрович все это время находится в доме у сестры своей, и вот вчера государь посылает к нему Котлубицкого сказать, что дарит ему дом на Морской, просит его немедленно же в него переехать, и что сегодня вечером с некоторыми из близких к нему людей будет у него пить чай на новоселье.
— Неужели? — изумленно проговорил Сергей.
— Да, и согласитесь, что это уж чересчур. Но как бы то ни было, в числе приглашенных сопровождать государя и государыню на вечерний чай к светлейшему князю находитесь и вы. Государь приказал мне известить вас об этом. Вы должны явиться в Зимний дворец к шести часам.
Подобное приглашение было очень неприятно для Сергея, но отказываться не было возможности.
— Не замедлю исполнить приказание государя, — сказал он.
— А за сим, — проговорил Ростопчин, вставая и взглянув на часы, — до приятного свидания. Ох, как я у вас засиделся!..
Оставшись один, Сергей задумался. В мыслях и сердце у него было как-то смутно. Ему вдруг захотелось подальше от всего и ото всех. Захотелось вместе с Таней в тишину и уединение так давно позабытого им Горбатовского.
XV. СЮРПРИЗ
В шесть часов Сергей был во дворце. Его проводили к государю, который встретил его с довольным видом.
— Аккуратен, за это спасибо. Но на сей раз я должен задержать немного. Меня почти с полудня дожидается депутация купцов, и до сей минуты не могу принять ее. Пойдем, любопытно, что будут говорить эти господа. Мне, признаться, очень хотелось бы как-нибудь их усовестить. Ведь это ужас что такое они себе позволяют. Впрочем, ты, я полагаю, ничего не знаешь, ты не считаешь своих денег. Знаешь ли ты, что бедным людям скоро жить нельзя будет в Петербурге, что цены на съестные припасы поднимаются с каждым днем?
— Может быть, я и не считаю своих денег, ваше величество, но обстоятельство поднятия цен мне очень хорошо известно. Об этом говорят все, и я полагаю, что необходимо найти какой-нибудь выход.
— Полагаю и я, — сказал государь. — До сих пор на это не было обращено никакого внимания. Богатым все равно, а жалобы бедных людей замирают в воздухе. Пойдем.
Но прежде чем выйти из комнаты, он выпил стакан воды и, по-видимому, делал над собой усилие, чтобы успокоиться.
— Нужно попробовать подействовать на них убеждением, — прошептал он.
В одной из зал дворца дожидалась депутация с хлебом и солью на огромном золотом блюде. Несколько человек купцов, все как на подбор, с важным и степенным видом, благообразные собою, почти земно поклонились государю, поздравляя его с восшествием на прародительский престол и прося его принять хлеб-соль.
— Благодарю вас, — отвечал Павел Петрович, ласково к ним обращаясь.
И затем, подходя от одного к другому, спрашивал каждого о его имени и фамилии и о его торговле.
Расспросив всех и несколько отойдя, он проговорил:
— Благодарю вас, мне очень приятно вас видеть. Одно только неприятно, это то, что вы меня не любите.
Купцы совершенно растерялись, вздрогнули. С изумлением и почти с ужасом глядели они на государя. Несколько мгновений продолжалось молчание. Наконец, один из них вышел вперед и прерывающимся голосом проговорил:
— Ваше императорское величество, слова ваши поразили нас, и не можем мы прийти в себя от горести, и не можем понять, чем мы провинились. Как перед истинным Богом можем засвидетельствовать, что привержены мы к вашему императорскому величеству самою искреннею и верноподданническою любовью. Да и как может быть иначе? Мы ведь крещеные русские люди. Кого же нам и любить, как не царя нашего батюшку?
Государь выслушал, покачал головой.
— Нет, неправду вы говорите. Я очень хорошо знаю, что вы меня не любите.
Опять несколько мгновений продолжалось молчание. Купцы, совсем перепуганные и смущенные, переглядывались и тихонько подталкивали того, который говорил с государем. Но тот молчал, не находя слов. Наконец, выискался один из членов депутации и проговорил:
— Почему бы мы были так несчастны, что ваше императорское величество заключаете о нас столь невыгодно?
— А вот я вам сейчас же и изъясню сие, — сказал государь. — Я заключаю о любви каждого ко мне по любви его к моим подданным, и думаю так, что когда кто не любит моих подданных, тот не любит в лице их и меня. А вы-то и не любите их, не имеете к ним ни малейшего человеколюбия. Вы стараетесь во всем и всячески их обманывать. Вы продаете им все ваши товары, беря с них неумеренно высокую цену. Отягощаете их всячески, нередко бессовестнейшим образом, и нередко вынуждаете их платить за товар двойную и тройную цену. Доказывает ли все сие вашу любовь к ним? Нет, вы их не любите, а не любите их — не любите и меня, потому что я пекусь о них, как о детях своих.
Купцы молчали, как убитые. Сергей радостно глядел на государя.
— Так-то, друзья мои, — вдруг сказал Павел Петрович. — Ежели вы хотите, чтобы я был уверен в вашей любви ко мне, то любите моих подданных и будьте к ним человеколюбивее, совестнее, честнее и снисходительнее, и лишнее все оставьте и удовольствуйтесь во всем умеренными себе прибытками. Одним этим докажете мне любовь свою и заслужите от меня благоволение. Так-то, друзья мои, и не забывайте этих слов моих!
Он ласково поклонился купцам и, кивнув Сергею, чтобы тот за ним следовал, вышел из залы.
— Ну, слава Богу, — сказал он, — обошлось благополучно. А уж я боялся за себя. Очень они меня рассердили!
— Ваше величество, — горячо сказал Сергей, — я счастлив, что имел случай присутствовать на этом приеме. Я уверен, что слова вашего величества не пропадут даром и в скором же времени окажутся благие их последствия.
— Ты думаешь? Дай Бог! Только этого я и желаю. Если же они будут продолжать свои беззакония, то придется действовать строгостью. Я не могу потерпеть этого всеобщего разорения. А теперь вернемся к нашему делу. Ведь Ростопчин передал тебе, что ты едешь со мной и государыней к князю Зубову?
— Я явился для исполнения вашего приказания, — отвечал Сергей, — но осмеливаюсь выразить, что мне очень тяжело ехать к князю.
— Пустое, друг, пустое! Одного бы я тебя не послал, а со мною — это другое дело. Разве ты забыл о том, что у него твой дневник, ты должен же получить его. Да и потом, зачем помнить старое. Надеюсь, князь несколько изменился, он уж не тот, что был недавно. Поедем.
Через полчаса государь с государыней и в сопровождении Сергея и двух адъютантов поднимался по широкой, роскошной лестнице заново отделанного великолепного дома. Навстречу гостям вышел новый хозяин. Сергей не видал Зубова в последнее время и невольно изумился перемене, происшедшей с ним. Он похудел, постарел, осунулся, но не в этом заключалась главная перемена. Он казался совсем другим человеком. В нем не было и тени прежнего сознания своего величия, прежних манер. Он казался совсем запуганным, загнанным, казался приговоренным к казни.
Стремительно выйдя на лестницу, он вдруг опустился на колени перед государем.
— Встаньте, князь, — мягко проговорил Павел Петрович.
Затем сам его поднял, взял под руку.
— Кто старое помянет — тому глаз вон. Довольны ли вы моим подарком, нравится ли вам этот дом?
— Ваше величество, — шептал, заикаясь, Зубов, — я не нахожу слов благодарить вас, я чувствую себя недостойным такой милости.
— Очень рад, если дом вам по вкусу.
Они вошли в гостиную, и тут только Зубов заметил, что государь и государыня были не одни. Тут только он встретился со взглядом Сергея. Он робко направился к нему и протянул ему руку. Сергею сделалось тяжело и неловко. Он уже не чувствовал никакой ненависти к этому человеку. В нем заговорила жалость. Но в этой жалости было что-то гадливое. Зубов, трусливый, робкий, как-то весь прижимавшийся, был просто противен.
В это время подали шампанское. Государь взял бокал, поднял его и, обращаясь к Зубову, сказал:
— Сколько здесь капель, столько желаю тебе всякого добра.
И затем, обернувшись к императрице, прибавил:
— Выпей все до капли.
Он выпил свой бокал и бросил его на пол. Зубов снова бросился к ногам его и лепетал:
— Выше величество, благодетель, простите!..
— Ведь я же сказал тебе: кто старое помянет — тому глаз вон, — повторил Павел Петрович, поднимая его и усаживая рядом с собой. — Прикажите-ка скорее подать самовар. Хозяйки у тебя нет, так вот она будет хозяйкой, — он показал на императрицу, — она разольет нам чай.
Очевидно, все распоряжения были сделаны заблаговременно, так как в ту же минуту слуги внесли серебряный самовар и чайный прибор. Мария Федоровна с привычной, грациозной и простой манерой присела к чайному столику и начала хозяйничать. Сергей еще ни разу в жизни не чувствовал себя так неловко, как теперь. Павел Петрович, очевидно, понял его положение и его смущение.
— Послушай, князь, — сказал он, обращаясь к Зубову, — со всем прежним, как я говорю, нужно навсегда покончить. Было много ошибок, прискорбных ошибок. Теперь уже их не должно быть больше. Я, как видишь, от всего сердца помирился с тобой, и ты должен чистосердечно примириться со всеми. Вот я позвал к тебе с собою Сергея Борисыча Горбатова! Вы не ладили. Ты был очень виноват перед ним. Я должен помирить вас. Он, я уверен в этом, не будет тебе помнить старого, забудь и ты. Помиритесь, господа, и от всего сердца.
Зубов взглянул было на Сергея, но тотчас же опустил глаза. Смертельная бледность разлилась по лицу его. Он хотел говорить что-то, но не в силах был вымолвить ни звука. Он думал:
«Лучше бы сразу сослал меня в Сибирь, лучше бы казнил. Эти милости хуже всякой казни. Этот Горбатов здесь! — свидетель моего унижения, за которое я должен благодарить, которое имеет только вид милости. Горбатов победителем у меня в доме! О, они, знали, какую придумать мне пытку. Я готов растерзать его, я не могу выносить его присутствия!..»
Он просто начинал задыхаться. Бешенство душило его. Ему хотелось кинуться на Сергея, вцепиться в него ногтями. Хотелось задушить его, исцарапать, истоптать, но он оставался неподвижен. Бледнея все больше и больше, он чувствовал, как оставляют его силы, как он, того и гляди, лишится сознания. А государь спрашивал:
— Что же ты молчишь, князь? Неужели не желаешь искреннего примирения? Сергей Борисыч, так сделай ты первый шаг, скажи ему, что прощаешь оскорбления, тебе им нанесенные.
Едва слышный стон вырвался из груди Зубова. Это был первый и последний звук, которым выразилось его истинное чувство. В нем уже заговорили другие инстинкты. Заговорили его природная трусость и низость его натуры. Он нашел в себе силы подняться с кресла, на которое усадил его государь рядом с собою. Он подошел к Горбатову. Жалкая улыбка изобразилась на потускневшем лице его. Он протянул руку. Сергей должен был принять эту холодную, дрожащую руку.
— Ваше величество, — проговорил он, обращаясь к государю, — у меня не было с князем и не может быть никаких счетов.
Недовольная мина мелькнула на лице Павла Петровича.
— Нет, у вас есть счеты, и их нужно немедленно окончить. Скажите, любезный князь, ведь вы уже успели, вероятно, все свои вещи перевезти в это новое ваше жилище?
— Точно так, ваше величество, все перевезено, — прошептал Зубов.
— В таком случае, значит, перевезен и дневник господина Горбатова, которым вы, вероятно, очень заинтересовались. Не угодно ли вам немедленно возратить его по принадлежности?
Это было последним ударом. Зубов едва устоял на месте.
— Дневник! Какой дневник! — прошептал он, проводя рукой по лбу, с которого струились капли холодного пота.
Сергей вспыхнул в свою очередь.
— Да, я желал бы получить мой дневник, который был отобран у меня вместе с прочими моими бумагами в тот день, когда я был арестован, не зная, не имея за собой никакой вины.
— Ты говорил, князь, — перебил государь, — ты говорил покойной матушке, что этот дневник тебе не был доставлен, но ты ошибался. Он у тебя. Будь же столь добр, пойди, разыщи его и принеси нам.
Зубов поднял глаза на Павла Петровича. Он заметил сверкавший взгляд его, заметил яркий румянец гнева, разливавшийся по лицу его, заметил, как пальцы государя судорожно мяли чайную салфетку. Он понял, что еще миг, одно слово с его стороны — и гроза разразится. Не произнеся ни звука, как пришибленный, едва волоча ноги, он вышел из комнаты.
Императрица закрыла лицо рукой.
— Как это тяжело! — невольно прошептала она.
Сергей чувствовал нервную дрожь. Ему хотелось убежать. Павел Петрович заговорил громко и раздражительно:
— Тяжело! Конечно, не легко. Но каждый человек должен пожинать то, что посеял. Если в нем осталась хоть искра совести, если он способен на раскаяние, если может еще очнуться и понять все свое нравственное падение, то этот урок принесет ему большую пользу. Он унижен, но он гораздо больше унижал многих людей, ни в чем не повинных. Да, я уверен, если он может еще очнуться, то теперь очнется, если же нет, то пусть получит должную кару. Она, во всяком случае, слишком ничтожна в сравнении с его грехами.
— Не нам судить его, — прошептала императрица.
Павел вздрогнул.
— Не нам, конечно! Мы и не судим, но только требуем, чтобы он возвратил человеку его собственность, которую отнял у него самым низким образом. Скажи, Сергей Борисыч, или и ты против этого? Ты не доволен тем, что я за тебя вступился?
— Ваше величество, вы знаете мои отношения к этому человеку и все то зло, которое он мне сделал. Но теперь мне невыносимо видеть это зрелище унижения. Зачем…
Он не договорил, должен был замолкнуть, так как Зубов показался у двери. Злополучный дневник нечего было искать. Зубов хорошо знал, где он хранится. Он еще в это же утро его перелистывал и не мог решить вопроса, что с ним делать: уничтожить или оставить до востребования. Он предчувствовал, что история с дневником теперь всплывет наружу, что Павел Петрович не забудет этого обстоятельства. И вот, когда он увидал, что гроза может разразиться над ним из-за этого дневника, он счел необходимым как можно скорее вернуться с дневником в гостиную и не заставлять государя дожидаться. Между тем, Павел Петрович был, очевидно, недоволен словами Сергея, он уже хотел резко возразить ему, но, в свою очередь, заметил входившего Зубова. Зубов подошел к Сергею и упавшим голосом проговорил:
— Извините меня, пожалуйста, ваш дневник действительно оказался у меня, благодаря оплошности моего секретаря. Я его тогда не видел. Извините, пожалуйста, и будьте, во всяком случае, уверены, что я не читал его.
Ничего умнее, ничего правдоподобнее он не мог найти в голове своей, да и не задумывался над тем, что говорит. Он помышлял только о том, чтобы как-нибудь избежать грозы, чтобы покончить со своим невыносимым положением.
«Долго ли же они будут меня мучить?» — повторялось в его мыслях.
— О, мы вполне уверены, что ты не читал этого дневника, не имея на то разрешения автора, — с улыбкою сказал Павел Петрович, — да и времени, я думаю, не было. Сергей Борисыч, если ты не отступаешься от своих слов и находишь возможным дать мне для прочтения эти тетради, я буду тебе очень благодарен. В свободную минуту я прочитаю.
Он взял из рук Сергея тетради и положил их к себе на колени.
Пытка Зубова продолжалась еще полчаса, после чего ему предстояло проводить гостей до низу лестницы и остаться наедине со своими мыслями и чувствами.
Он, как сумасшедший, пробежал ряд комнат, заперся в своей новой спальне, и тут припадок бешенства овладел им. Он метался из угла в угол, рвал и ломал все, что ему попадалось под руки, а потом в изнеможении кинулся на постель.
Этот день был самым ужасным днем его жизни.
XVI. ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
Павел Петрович, сам постоянно находившийся в движении и работе, не любил оставлять людей без занятия. А уж в особенности своим гатчинцам дал много дела. Не остался без дела и Сергей Горбатов. Он снова оказался занятым в иностранной коллегии, где пересматривались и приводились в ясность дела, запутанные Зубовым. Сергею снова пришлось работать под руководством своего первого учителя, графа Безбородко. Безбородко не потерял времени и сумел не только примирить с собою государя, но и оказать ему существенную услугу своевременной передачей некоторых важных и тайных бумаг.
Теперь Безбородко убедился, что звезда его ничуть не померкла, но разгорается с новою силою. Теперь у него уже не было соперника. Он снова хозяйничал на знакомом ему поприще, и снова работа кипела и спорилась в его искусных руках. Сергей ежедневно в течение нескольких часов с ним работал. Он, как и всегда, удивлялся необыкновенным способностям Безбородко, но часто чувствовал себя на него сердитым: Безбородко то и дело прерывал работу и начинал разговор на свою любимую тему о женщинах. Теперь он был уже совсем старик, расслабленный разгульною жизнью, и в его устах подобные разговоры были очень противны Сергею. С каждым днем между ними рос глухой разлад.
Безбородко, очевидно, был не совсем доволен своим сотрудником; что касается до Сергея, то он, собственно, мало обращал на это внимание и, исполнив свои обязанности, спешил скорее от этого сластолюбца в тихие комнаты отдаленной части Зимнего дворца, где его ждала Таня. Здесь он отдыхал от своих разнородных и часто тревожных мыслей и работы, в которых он не находил себе удовлетворения.
Судьба продолжала подсмеиваться над ним, все отдаляя день его свадьбы. Но, во всяком случае, день этот наступит же, наконец! Время идет так быстро; промелькнут первые недели глубокого траура, и тогда… но что будет тогда? Совсем не о такой жизни мечтал он с Таней. Ему и в первое-то время не удастся прожить с ней как следует. Не удастся отдать ей столько часов, сколько бы ему хотелось. Служебные обязанности, положение придворного, находящегося в большом приближении у государя, отнимут его и будут постоянно отнимать его у Тани. Вот Ростопчин, несмотря на всю любовь свою к жене, удовлетворяется такою жизнью. Но Ростопчин ему не указка. Он не раз уже начинал поговаривать Тане о том, как хорошо было бы тотчас же после свадьбы уехать в деревню.
— Неужели тебя не томит здешняя жизнь? — спрашивал он ее. — Скажи мне откровенно, думала ли ты о том, как нам придется жить постоянно напоказ, хотя и близко друг от друга, но в вечной разлуке друг с другом, не имея возможности заняться тем, чем бы хотелось, вечно в зависимости от требований света, с обязанностью делать приемы, любезно и ласково улыбаться, говорить на известные заученные темы?
— Я об этом много думала, — отвечала ему Таня, — и меня начинает сильно тянуть в деревню, но я не знала на этот счет твоих мыслей. Я ведь собственно говоря, несмотря на свои года, очень многого еще не понимаю. Ты знаешь, какую уединенную жизнь вела я в Гатчине. Другой жизни я и не знала и поневоле должна была находить себе удовлетворение в том, что меня окружало. Я не могла желать другого, и потом, ах, Боже мой, ведь это были годы забытья какого-то, я не хочу даже вспоминать их. Теперь я будто проснулась и сразу поняла, в чем заключается здешняя столичная придворная жизнь. Я очень счастлива, что вижу в тебе такие же взгляды. Теперь я имею право сказать тебе, что совсем не создана для такой жизни. Но возможно ли нам избежать ее? Ведь у тебя есть обязанности, есть служба, я никаким образом не желаю мешать тебе в чем-либо. У мужчин свое назначение, свое призвание. Тебе, быть может, предстоит большая деятельность.
— Ничего не предстоит мне, — перебил ее Сергей, — и я ничего не хочу, у меня нет такого самолюбия, как у других, и раз навсегда говорю тебе, что я с удовольствие откажусь от всего, чтобы иметь возможность пожить с тобой в уединении. Ты, уединение и книги, — вот все, что мне надо.
— Если бы ты знал, как мне приятно это слышать, но ведь нас не отпустят, ни тебя, ни меня.
— Таня, теперь, конечно, не время поднимать этих вопросов, подождем, потерпим, но знай, что долго терпеть я не стану, я вырвусь отсюда, насильно держать не будут.
— И ты потом никогда не раскаешься, твоему самолюбию не будет тяжело, когда ты будешь видеть, как тебя далеко опередили в значении и почестях люди, стоявшие гораздо ниже тебя и менее тебя достойные?
Сергей улыбнулся.
— Я надеюсь, что скоро такие вопросы будут уже невозможны с твоей стороны, потому что ты, наконец, узнаешь меня. Пойми же, такого самолюбия, такого честолюбия во мне нет! С меня достаточно быть тем, что я есть, а добиваться чего-нибудь иного — это утомительно и скучно!
— А коли так, — весело перебила его Таня, — будем мало-помалу приготовлять себе средства к побегу.
— Отлично, давай руку. Итак, мы заговорщики?
— Да, заговорщики, и убежим непременно.
— Где же мы поселимся? В Горбатовском?
— Но знаешь ли, — сказала Таня, — я еще не очень давно получила письмо из Знаменского, в котором мой управитель Потапов — помнишь Потапова, он наш сосед, человек хороший и даже как-то приходится нам сродни. Ему еще матушка поручила главное наблюдение над Знаменским. Так вот, он писал мне, что был в Горбатовском и нашел, что дом приходит в большую ветхость.
— Да, дом старый, нужно будет произвести большие починки, переделки и постройки. Что же, мы можем на первое время и в Знаменском поселиться. Составим план нового дома, будем сами следить за работами. Совсем по-своему, по своим вкусам и фантазиям устроим себе гнездо. Таня, что же может быть лучше этого? Так будем же решительнее работать над скорейшим достижением нашей цели!
— Да, будем, будем, но, Боже мой, как станет сердиться государь! Я знаю его, он никогда не простит нам нашего поступка. Он говорил мне, что на тебя рассчитывает.
— Он скоро убедится, что расчеты его неверны.
— Да ведь ты сам желал служить ему, ты сам добивался этого и еще так недавно.
— Были иные обстоятельства, Таня; тогда он был одинок, в тяжелом положении. Ему каждый преданный человек был нужен. Теперь, слава Богу, все изменилось.
— Изменилось очень мало, и точно так же, как и прежде, ему нужны преданные люди, — сказала Таня. — Я вообще замечаю, Сережа, в тебе что-то странное. Ты стал непоследователен. В тебе разлад. Ты уж не по-прежнему относишься к государю. Что это значит? Объясни мне.
Сергей задумался.
— Да, меня легко обвинить в неблагодарности. Мне самому тяжело, когда я подмечаю то, что во мне творится… Я люблю государя по-прежнему, я хорошо понимаю все то добро, которое он мне сделал… я говорю это искренне, готов умереть за него, но вместе с тем я уже вижу невозможность принимать участие в этой жизни. Я не хочу совсем удалиться. Будем возвращаться. Я полагаю, что эти свидания с людьми, которым мы так многим обязаны, будут нашим благополучием. Но жить здесь, служить… Нет, Таня, это свыше сил моих! Я чувствую себя чужим всему, с чем встречаюсь. Испорчен я, что ли, болезнь во мне, что ли какая, но когда я не с тобою, на меня находит тоска. Я как-то не верю в то, что все делается по-настоящему, как вот нужно. Мне кажется, будто передо мною какая-то комедия, и все играют роли.
— Я понимаю тебя; мне самой иногда кажется, но ведь мы не правы. Во всяком случае, делается большое дело; посмотри на государя, как он борется, что-нибудь да должно же, наконец, выйти из этой борьбы, у которой такая возвышенная цель. Каждый день, каждый час приносят новые доказательства того, что борец не ослабевает; иногда невозможно им не восхищаться. И знаешь, чему больше всего я удивляюсь, это перемене, происшедшей с ним. Как он владеет собой, мы все знаем его раздражительность, а, между тем, с тех пор, как он царствует, еще ни разу не проявил ее. Вот ты мне рассказал этот прекрасный прием депутации. Знаешь ли ты, ведь это произвело-таки должное впечатление. Купцы значительно понизили цены на многие товары.
— Да, я слышал об этом.
— Но что особенно нравится, — улыбнувшись, сказала Таня, — это его способ учить важных господ. Сегодня у императрицы рассказывали очень милую историю, — она случилась этим утром с графом Самойловым.
— Что такое? Я еще не слыхал, расскажи, пожалуйста.
— Не слыхал еще, так слушай. Тебе, конечно, известно, что приемы для докладов назначены в шесть часов утра. В Гатчине мы все приучены рано ложиться, рано вставать, и для нас нипочем не только в шесть, но и в пять часов быть на ногах. Для здешних же людей это большое наказание.
— И я даже полагаю, — перебил Сергей, — что государю следует несколько смягчить свои требования, не возбуждать излишнего неудовольствия. Во всяком случае, в подобном деле не следовало бы уж так спешить, но это мое соображение, извини, что я перебил тебя, я слушаю.
— Как бы то ни было, — продолжала Таня, — в шесть часов все докладчики должны быть уже во дворце. Сегодня первый доклад был графа Самойлова. Он, говорят, любит поспать и опоздал. Государь выходит, по обычаю, ровно в шесть часов и замечает, что Самойлова нет. Не сказал ни слова, переходит от одного к другому, выслушивает, а сам все на часы поглядывает. Уже половина седьмого, а Самойлова все нет. Государь призывает адъютанта, приказывает встать у крыльца и как только что подъедет Самойлов, тотчас же вернуться и сообщить ему об этом. Наконец, Самойлов приезжает. Адъютант бежит, докладывает. Государь скорым шагом направляется через целый ряд комнат навстречу к Самойлову. Тот, говорят, бегом бежит, красный, перепугался; а государь его встретил милостиво, спросил о здоровье, выразил удовольствие, узнав, что он чувствует себя хорошо. Тот ждет строгого выговора, быть может, немилости. Между тем, государь ласково и, по-видимому, очень спокойно вынул часы, показал ему, — «теперь уже, граф, больше половины седьмого, — говорит, — и все то, зачем вы мне были нужны, я сам за вас сделал, и теперь не стану вас задерживать. Извольте ехать обратно и быть здесь к вечеру в назначенное время». Повернулся и ушел от него. Самойлов долго стоял как пораженный громом, а когда пришел в себя, то, говорят, поклялся, что уже никогда больше не опоздает. Не знаю, как тебе, но мне, право, это очень нравится.
— Это и мне нравится. Таня, но ведь каждый из нас может очутиться в таком же положении. И если государь сдержал себя сегодня, то кто поручится, что он и впредь будет себя сдерживать. Мы знаем, как он иногда бывает раздражителен. А шесть часов — время раннее, особенно, для человека, пожилого и, особенно, если до дворца предстоит дальняя дорога. Нет, у меня в этом же роде есть рассказ, только лучше. Это случилось несколько дней тому назад на разводе. Так как все знают, что на разводе ежедневно присутствует государь, то для того, чтобы взглянуть на него, собирается всегда много народу. В толпе оказался какой-то чиновник в мундире петербургского наместничества, шел он в должность и остановился посмотреть на государя. Государь по мундиру его приметил и вдруг к нему подходит. «Конечно, вы где-нибудь на гражданской службе здесь служите?» — спрашивает так ласково. Чиновник смутился, однако же, одобренный ласковым голосом государя, отвечает: «Точно так, ваше величество, служу в такой-то палате». Тогда государь вынул часы, показал ему и проговорил: «Вот видите, давно уже одиннадцатый час, прощайте, сударь, мне недосужно. Пора к своему делу». И с минуту простоял чиновник, будто его пригвоздили к месту, потом повернулся и стрелой помчался в свою палату. Как видишь, это почти то же самое, что случилось сегодня с Самойловым, только разница, в часе. Шесть часов и полдень — две вещи разные. Но уж раз мы начали о проказах нашего дорогого государя, так скажи мне, не слыхала ли еще чего-нибудь нового?
— Ах, Боже мой, — смеясь, воскликнула Таня, — нового сколько угодно, но, вероятно, все новости ты не хуже моего знаешь. А вот сегодня государыня не весела. Великие княгини все ей жалуются, говорят, что своих молодых мужей не видят. Если всем вам государь много дела надавал, так сыновьям больше вашего. Заставляет их так работать, что они из сил выбиваются.
— В особенности с непривычки, — заметил Сергей. — При государыне покойной не то было. Ну и что же, ты вот смеешься, Таня, а мне совсем не до смеха, ведь всего должно быть в меру; а меры-то мы не видим. Он прав, и, конечно, с ним нельзя спорить, конечно, все распущено и все следует подтянуть. Конечно, работы много, но крутые повороты всегда приносят больше вреда, чем пользы. Я боюсь, что явится всеобщее неудовольствие, и что же это будет, если в числе недовольных и во главе их окажутся сами великие князья?..
— Сергей Борисыч, я в первый раз вижу и убеждаюсь, что ты ленив больно, — погрозив пальцем и обдавая Сергея горячим, любящим взглядом, проговорила Таня.
И в миг один вылетели из головы его все тревожные мысли. Он видел только эти горящие глаза, притягивавшие его к себе с неудержимою силою. Он поймал руку Тани, он привлек ее к себе и покрыл лицо ее несчетными поцелуями. Его чуть был не застали в этом занятии, когда пришли доложить ей, что ее приказала звать императрица.
XVII. СТАРЫЙ ДРУГ
В то время как Сергей беседовал с Таней, государь вернулся во дворец со своей обычной прогулки. Быстро прошел он ряд комнат, направляясь на половину императрицы. Он шел все дальше и дальше, всматриваясь перед собою, очевидно желая и надеясь кого-то встретить. Наконец, он очутился на пороге маленькой гостиной. Ему навстречу поднялась женская фигура. С радостным восклицанием он кинулся к ней и припал губами к протянутой ему тонкой, почти детской руке.
— Как я вам благодарен, что вы исполнили мою просьбу, — сказал он. — Давно вы здесь? Я не заставил вас ждать?
— Я только что приехала, государь, и еще не видела императрицу.
— Но ведь ее, конечно, известили о вашем приезде. Она, наверное, скоро выйдет. Сядем, поговорим, ведь я давно не видал вас. Столько дела, день проходит за днем. Я хотел к вам ехать, но потом сообразил, что удобнее будет попросить вас. Здоровы ли вы? Вы кажетесь мне бледной! Скажите откровенно, как вы себя чувствуете, Катерина Ивановна?
— Я всегда здорова, и моя бледность ничего не значит, — с тихой улыбкой ответила Нелидова.
Это была она, старый, неизменный друг Павла Петровича, и кто видел ее в прежние годы в Гатчине и в Павловске, тот нашел бы в ней мало перемены. Время щадило ее, хотя и на ней мало-помалу отпечатлевались неизбежные следы его. Екатерина Ивановна была все так же нежна и грациозна. Ее прелестное лицо так же останавливало на себе все взоры своим необыкновенным выражением. Но все же ее тонкая прозрачная кожа успела несколько поблекнуть, вокруг глаз образовались мелкие морщинки, мелкие морщинки легли и кругом рта, придавая лицу выражение усталости.
— Катерина Ивановна, — заговорил Павел, — я по своей старой привычке быть с вами откровенным и сегодня начну прямо. У меня к вам просьба.
— Вы скажите ее, государь, и если только я в состоянии исполнить, я исполню, но заранее не обещаю. Я должна знать, какова ваша просьба?
— Видите, в чем дело, вы назначены теперь камер-фрейлиной моей жены, вы кавалерственная дама святой Екатерины…
— Я уже благодарила ее величество за эти милости.
— Дело не в милостях, и странно мне, что вы говорите таким тоном, я знаю, как мало вы придаете значения этим отличиям. Я упомянул об этом только к тому, что ваше настоящее положение камер-фрейлины дает мне возможность просить вас убедительно переехать во дворец.
Нелидова вздрогнула.
— Я предчувствовала, что не могу заранее обещать вам исполнить ваше желание, — сказала она, — и я ждала, что рано или поздно вы обратитесь ко мне с этим предложением.
— Оно вам неприятно? — Павел покраснел. — Вы не желаете быть с нами, вы предпочитаете возвращению нашей прежней хорошей жизни ваше скучное уединение в Смольном?
— Нисколько, нисколько, государь, и ваши упреки так несправедливы, что мне тяжело их слышать. Мало ли чего бы я хотела, но вовсе не следует в жизни исполнять только свои желания. Оставьте меня в Смольном, я уже там так привыкла и, уходя туда, я говорила и вам, я дала знать и покойной государыне, что поселяюсь там навсегда, до конца дней моих. Я сама, наконец, дала себе это обещание и не могу его не исполнить — это обет.
— Но ведь вы же не монахиня, чтобы жить в келье, у вас есть другое призвание. Вы здесь нужны и именно теперь.
— Если бы вы знали, как нужны мне, как мне часто недостает вас. Тогда я должен был согласиться на ваше настоятельное требование, я понимал, что иначе невозможно. Теперь обстоятельства изменились. Повторяю, вы не монахиня, вам незачем запереться!..
— Не монахиня только потому, что на мне нет монашеского платья, — ответила она все с той же тихой, кроткой улыбкой, — но я веду жизнь монахини. Я нашла в этой жизни себе успокоение и твердо решилась дожить так до конца. Когда я вам нужна, я всегда готова служить вам. Вам стоит известить меня, и я приеду. Наконец, если вам любопытно будет знать мое мнение в каком-нибудь деле, напишите мне, и я тотчас же отвечу.
— Ах, все это не то, — горячо проговорил государь, поднимаясь с кресла и начиная ходить по комнате, — все это не то, и зачем эта комедия между нами? Зачем вы притворяетесь, что меня не знаете, что не понимаете, какая разница, если вы здесь, или я только имею возможность так или иначе редко сноситься с вами?
Нелидова сидела грустная, опустив голову. Но на тонком лице ее изображалась твердая решимость. А он продолжал все горячее и горячее:
— Мне нужно, более чем когда-либо, ваше присутствие. Если бы вы знали только, как мне теперь трудно, как тяжело бывает в иную минуту. Какую борьбу я должен вести постоянно с самим собою. Друг мой, старый верный друг мой, зачем же вы мне изменяете именно тогда, когда вы мне так нужны, когда на вас, только на вас моя главная надежда? Вспомните, бывало, я раздражен, я не владею собой, я сделаю какую-нибудь несправедливость, но вы уже следите, вы уже тут. Вы одним взглядом, одним словом вашим меня успокаиваете, доведете меня до сознания содеянной мною несправедливости — и я спешу ее исправить. Но ведь тогда у меня был такой маленький круг действий, теперь же он стал так обширен, теперь каждый день у меня является возможность какой-нибудь ошибки, и, между тем, именно теперь ошибок не должно быть. Я постоянно должен сдерживаться и всегда должен быть спокойным, а спокойствия нет. Без вашей помощи я его не достигну. В чем заключается тайна вашего на меня влияния, этой душевной тишины, которая снисходит до меня в вашем присутствии, я сам не знаю. Вспомните, как много было клеветы на нас, все были уверены, да и теперь, вероятно, думают тоже, что у меня к вам было страстное чувство. Вы знаете, что этого чувства не было, что для меня вы никогда не были женщиной, вы и остались моим ангелом-хранителем. Вы не раз спрашивали меня, почему я так к вам привязался, почему вы так близки душе моей? Я не мог вам ответить, я и теперь не могу вам ответить, да и не сумею рассказать это словами. Это моя тайна, моя фантазия, мое сумасшествие — назовите, как угодно, дело не в названии, не в происхождении моего чувства. Дело в том, что оно существует, и что вы мне нужны, а вы от меня отказываетесь!..
— Боже мой, дорогой государь, вы не хотите понять меня! — заломив руки и с истинным отчаянием в лице, проговорила Нелидова. — Я от вас отказываюсь! Да разве я способна на это? Я говорю, что близкие дружеские отношения между нами легко могут поддерживаться, если я останусь в Смольном. Сюда я не могу переехать для вас же… для вас и для императрицы. Наше далекое прошлое было хорошим уроком, и в наши с вами годы пора понимать уже такие уроки. Взгляните на меня, разве я прежняя неопытная девушка! Ведь уже скоро начнут седеть мои волосы, я сама замечаю, как быстро старею. Пора же, наконец, понимать все ясно. Я вам говорю, я давно ждала вашего предложения переехать во дворец и давно его обдумала. Я взвесила все и только после долгих, долгих обсуждений этого вопроса решаюсь отказать вам. Или вы хотите, чтобы я переехала, а через некоторое время должна была снова возвратиться в Смольный? Или вы хотите, чтобы снова всплыли все клеветы, все оскорбления? Теперь я могу прийти к вам с духом спокойствия, зная, что радостно встретите вы, что точно так же радостно встретит меня и государыня. А если бы я согласилась на ваше предложение — сколько людей постарались бы стать между нами! Я опять явилась бы невольной помехой вашему семейному счастью и опять невольно заставила бы страдать государыню, которую люблю и уважаю.
Павел продолжал в волнении ходить по комнате.
— Вы боитесь призрака, — сказал он, — вы забываете, что обстоятельства изменились. Тогда, прежде каждому легко было мешать нам, враждовать с нами, копать нам яму. Теперь уже становится трудным: кто осмелится?
Нелидова покачала головой.
— Вы видите чересчур большую перемену там, где я почти не вижу никакой перемены, — сказала она. — Люди все те же, и мы все люди. Если вы действительно по-прежнему ко мне привязаны, если вы уважаете меня, то не ставьте же меня в положение тяжелое и фальшивое, какого я совсем не заслужила. В семейной жизни не может быть третьего человека. Повторяю вам, долгими тяжелыми годами я пришла к этому убеждению, и ничто не заставит меня снова подвергать и себя, и самых близких мне людей пережитой уже тягости.
— Вы доводите меня до отчаяния, — проговорил Павел, останавливаясь перед нею и грустно всматриваясь в лицо ее. — Я вижу, я понимаю, что решение ваше неизменно. Я понимаю, наконец, что все ваши рассуждения справедливы, хотя все же не вполне справедливы, хотя все же и вы смотрите несколько односторонне. Но как бы то ни было, для меня ясно одно, что вы от меня отказываетесь. Это чересчур жестоко и относительно не меня одного. Вы отказываетесь от помощи многим, многим людям!
— Нет, я ни от чего не отказываюсь, — твердо проговорила она. — Я уверяю вас, что мое пребывание постоянно с вами — излишне. Вы точно так же можете пользоваться мною и издали.
— Каким это образом? Вы утешаете меня, как ребенка.
— Нисколько, — горячо возразила она, — нисколько, дорогой государь, я и сейчас докажу вам это. Когда-то вы говорили мне, что часто обо мне думаете.
— Я и теперь часто о вас думаю, еще чаще, чем прежде.
— Ну, так знайте, что и я постоянно о вас думаю, что я постоянно молюсь за вас. И таким образом, вы должны всегда чувствовать мое присутствие с вами. Поймите, что цель моей жизни — ваша добрая слава. Поймите, что все мои мечтания сосредоточиваются на одном предмете, на том, чтобы ваше царствование было велико и прекрасно, чтобы все лучшие сокровища души вашей, существование которых мне известно, расцвели самым пышным цветом, чтобы наша так горячо мною и вами любимая родина процветала под вашей державой, чтобы от вас исходила только одна справедливость, одна правда. Я молюсь горячо, по целым часам молюсь и плачу, прося Бога, чтобы он помог вам сдерживать дурные инстинкты вашей натуры, которые иногда затемняют ваш светлый разум. И я твердо верю, что моя молитва, мои слезы, мои постоянные думы имеют силу. Для них не может существовать этого ничтожного пространства, я всегда с вами. И там, в моем уединении, которое только и дает мне возможность так думать, молиться и плакать — я ближе к вам, чем если бы жила здесь, всегда имея возможность видеть вас и беседовать с вами, но в то же время отдаленная от вас шумом и мелкими волнениями придворной жизни. Вот что я хотела сказать вам, и решайте теперь сами, утешаю ли я вас как ребенок, или в словах моих что-нибудь более серьезное!..
Крупные слезы одна за другой катились по щекам Павла.
— Друг мой, дорогой, святой друг мой, какими словами выражу я вам все, что наполняет мое сердце! — шептал он. — Да благословит вас Бог, вы успокоили мою душу, вы отогнали от меня тревогу и опасения. Да, вы победили меня. Оставайтесь в вашем Смольном, только молитесь там обо мне, думайте обо мне. И одно мне обещайте, что если придет вам какая-нибудь мысль, которая может принести мне пользу, обещайте, что вы тотчас же сообщите мне ее; так буду делать и я.
— Конечно, обещаю, как же тому и быть иначе? Но и вы, в свою очередь, обещайте мне, государь: почаще вспоминайте обо мне в те минуты, когда чувствуете раздражение. Обещайте мне, что в тот миг, когда гнев закипит в вашем сердце, вы вспомните, что я стою на коленях перед Богом и горько плачу и молю утешить вашу душу и направить стопы на путь правды!..
Она поднялась и стала перед ним. И вся ее маленькая воздушная фигурка вдруг будто выросла. Она преобразилась, светлые глаза ее горели вдохновением, на увядающих щеках заиграл румянец.
Она подняла руку, благословляя его. А он с рыданием упал перед нею на колени. Он забыл все. Он чувствовал только, как святая тишина нисходит в его горячее, наболевшее сердце, как чувство бесконечной любви ко всему чистому и прекрасному наполняет его. Он был счастлив в эту минуту. Она положила свою дрожащую, горячую руку на его голову и вывела его из этого сладкого забытья. Он очнулся, встал и взглянул на нее. Бесконечную благодарность прочла она в его взгляде.
Он был прав, она была его ангелом-хранителем, она была добрым гением его сумрачной, тяжелой жизни.
А, между тем, никто не мог понять, какая таинственная связь существовала между этими двумя людьми, когда-то случайно встретившимися и с первой же минуту понявшими друг друга. Да и что же им было до этого?..
XVIII. ДВЕ ЖЕНЩИНЫ
В это время на пороге гостиной показалась императрица. Она остановилась на мгновение, зорко взглянула на Павла Петровича и Нелидову и слабо улыбнулась.
— Вот и ты, Маша! — каким-то растерянным, мечтательным тоном проговорил император. — Я вас оставлю, мне пора, нынче столько дела.
Он крепко пожал руку Нелидовой, ласково кивнул головой жене и вышел из комнаты.
— Я нарочно промедлила, — заговорила Мария Федоровна, — я знала, что он здесь, и была уверена, что ему есть о чем переговорить с вами. Ведь я угадала?
— Да, вы угадали.
— Теперь постараюсь угадывать дальше, — продолжала она, подвигая себе кресло и глядя в лицо приятельнице своими ясными, светлыми глазами, в которых, однако, иногда трудно было прочесть ее мысли и чувства. — Я полагаю, он просил вас переехать сюда?
— Да, это правда, — тихим и спокойным голосом ответила Екатерина Ивановна.
Императрица задумалась на мгновение.
«Что же дальше? Согласилась она или нет? Он вышел таким довольным, лицо его такое светлое, радостное, восторженное — значит, она согласилась».
— Я надеюсь, вы исполнили желание государя, вполне согласное и с моим желанием? — договорила она.
— Дорогая государыня, я не знаю на этот счет ваших мыслей и прошу вас откровенно их высказать.
Императрица пожала плечами.
— Разве вы можете сомневаться, chère amie, в том, что мне приятно постоянно вас видеть? Если стараниями враждебных нам людей между нами и были недоразумения, то все-таки это давно прошло, давно забыто. Да и, наконец, эти недоразумения были невелики. Вы должны знать, как я искренне люблю вас, как я ценю вашу дружбу к моему мужу и ко мне. Я хорошо вижу, что он нуждается в ваших советах, в вашем успокоительном для него действии. Мы об этом даже с ним говорили, и я, конечно, рассчитываю на ваше согласие переехать к нам, тем более, что это даже необходимо при том официальном положении, которое вы у меня теперь занимаете.
— Я очень счастлива, что слышу эти добрые слова, — сказала Нелидова. — Впрочем, ничего иного я от вас не ожидала услышать, но…
— Что значит это «но»? Что такое вас смущает, друг мой? Вы как будто в чем-то сомневаетесь? — живо перебила ее императрица.
— Я ни в чем не сомневаюсь, мое «но» означает только то, что я, несмотря на всю доброту вашу и государя, решительно и навсегда отказалась переехать во дворец. Я намерена остаться в Смольном, как уже не раз вам говорила.
— Что такое? Что? Вы отказались? Возможно ли это?
Императрица даже поднялась с кресла.
— Возможно ли? Зачем вы оскорбили его вашим отказом?
Но в то же время зоркий взгляд Нелидовой прочел в лице ее, что известие, только что сообщенное, в сущности, было для нее приятно.
— Нет, как же это, — продолжала Мария Федоровна, — надеюсь, однако, он уговорил вас, он никак не ожидал вашего отказа, он был совершенно уверен в вашем согласии.
«Что же в таком случае значит его довольный и радостный вид?» — подумала она.
— Несмотря на все доводы государя, — отвечала Нелидова, — а вы знаете, что он умеет убеждать, я все же выказала большое упорство и в конце концов заставила его согласиться со мною.
— Так вы остаетесь в Смольном, это решено?
— Да, это решено и бесповоротно.
Императрица глубоко вздохнула. С нее спала большая тяжесть.
— Каким же образом вы сумели уговорить его? Вы делаете с ним просто чудеса, моя дорогая… и откуда у вас взялось такое упорство?
— Зачем же вы меня спрашиваете, государыня? — несколько упавшим, утомленным голосом проговорила Нелидова. — Неужели вы не согласны со мною, что я хорошо поступила? Ведь вы сами не хуже меня знаете, что мне не следует покидать ту жизнь, которую я себе устроила. Мне хорошо, надеюсь, что и вам будет теперь хорошо при новых обстоятельствах. А служить вам обоим, любить вас я могу и оттуда, из своей кельи. Это же самое я сказала и государю и доказала ему, что так будет лучше.
— Что же он?
— Он во всем согласился со мною.
Императрица крепко сжала руки Нелидовой, притянула ее к себе и горячо поцеловала.
— Я всегда знала, что вы самое умное и самое доброе существо, какое мне только привелось встретить в жизни. Я всегда знала, что вы истинный и лучший друг наш, — растроганным голосом говорила она. — Спасибо вам за все, за прошлое, за настоящее и будущее!
Слезы показались на глазах ее. Слезы блеснули и на глазах Нелидовой. Обе они нежно и любовно глядели друг на друга. Прошло несколько минут молчания, но минуты эти не прошли даром. Императрица и Нелидова, молча глядя в глаза друг другу и держась за руки, решили все свои вопросы. Императрица заговорила первая.
— Надеюсь, однако, моя милая, моя добрая Екатерина Ивановна, — сказала она, — что мы будем теперь гораздо чаще видеться, чем в эти последние, тяжелые для всех нас годы?
— Я надеюсь на это, — проговорила Нелидова.
— Да, непременно. Если бы вы знали, как часто мне вас недоставало, как часто мне хотелось вас видеть. Вы ведь не откажетесь бывать здесь? Вы позволите мне навещать вас в вашей келье?
Нелидова ответила благодарным взглядом.
— А летом, — продолжала императрица, — я заранее должна условиться с вами, летом вы будете гостить у нас в Гатчине и Павловске. Дайте мне слово, только под этим условием я соглашусь оставить вас в Смольном. Я знаю, что зимой там хорошо, и что эта тихая жизнь, к которой вы привыкли, согласуется с вашим характером и с вашими занятиями. Но летом оставаться в городе для вас невозможно. Нужно позаботиться и о здоровье. Говорите же: согласны?
— Неужели я стану с вами спорить? Вы мне рисуете прелестную перспективу летнего отдыха в милой Гатчине, в милом Павловске. Я так люблю лето и природу. Вы думаете, я не вспоминаю наши прекрасные прогулки. Ах, я в летние месяцы всегда чувствовала себя особенно грустной. Для меня было большим лишением оставаться в городе. Помните наши прогулки, помните наши заботы о том, как бы расчистить парк? Помните, как мы с вами придумывали различные беседки, лесные избушки? Воображаю, как теперь там все хорошо!..
— Да, там хорошо, — радостно сказала Мария Федоровна, — я успела в последнее время исполнить все, о чем мы с вами мечтали. И гатчинский парк, и павловский почти окончены. Много мест там вы совсем не узнаете. Подождите только, вот придет весна, и наше старое время вернется. Как я счастлива, что буду там опять вместе с вами!..
Но вдруг улыбка, осветившая все лицо ее, погасла, она грустно опустила голову.
— Государыня милая, что с вами? — заглядывая ей в глаза, почти испуганно воскликнула Нелидова. — Отчего такая внезапная перемена? О чем вы вспомнили, что вас тревожит?
— Многое тревожит, мой друг. Вот я совсем было забылась, поддалась старым, милым воспоминаниям, поддалась радости свидания с вами. А между тем, какое же право я имею радоваться! Счастья мало, и нечего надеяться на безоблачные дни. Вспоминая прошлое, мы нередко называем его тяжелым, а между тем, это прошлое гораздо лучше настоящего, потому что…
— Я не совсем понимаю вас.
— Подождите немного, сейчас поймете. Мы томились нашей однообразной, унылой жизнью, я тяготилась моей постоянной тревогой, моими вечными разъездами. А между тем, верите ли, теперь я сожалею о том, что прошло то время. Как ни тяжела была прежняя жизнь, все же это была жизнь частных людей. Теперь и он, и я, мы уже не принадлежим себе. Такая страшная ответственность, такая мучительная неволя! Но я говорю не о себе, я всегда знала, что не могу жить так, как мне бы хотелось, я уж ко всему привыкла — я говорю о нем. Вы думаете, он будет теперь счастлив? Ох, как я боюсь за него!
— И я боюсь тоже, — сказала Нелидова, — но он показался мне таким бодрым. Он проникнут сознанием своего высокого призвания, своего долга. Я старательно разузнавала в это время о каждом его поступке и пока могу только одобрять каждый его шаг.
— Да, вы правы, но ведь вы знаете его так же хорошо, как и я, вы знаете его характер: надолго ли хватит этого терпения, этой сдержанности? Знаете ли вы, что уже кругом во всех я замечаю неудовольствие. Требования его всегда справедливы, но он ставит их так круто, резко и потом, рядом со всякими порывами, перед которыми можно преклоняться, в нем заметна мелочность, подозрительность какая-то. Она и прежде была, но я с ужасом замечаю, как развиваются в нем эти свойства.
Нелидова сидела, глубоко задумавшись.
— Это очень серьезно, все, что вы говорите, и я невольно с вами соглашаюсь, — произнесла она. — Прошлое не остается бесследно, обстоятельства его жизни развили в нем эти свойства. Я всегда думала, что если бы у него была другая молодость, если бы он воспитался и созрел при иных обстоятельствах — какой бы изумительный пример совершеннейшего государя представил он миру!
— Я тоже всегда так думала! Я хорошо понимаю, что он нисколько не виноват во многих своих недостатках. Поэтому я всегда извиняю ему эти недостатки, но другие не знают и не понимают того, что можем знать и понимать мы с вами. Другие не находят необходимостью прощать ему. Напротив, я с ужасом вижу, как его недостатки преувеличивают, а добрые, лучшие его качества умаляют, не хотят даже замечать их. Он встречает на каждом шагу недобросовестность, и он скоро так привыкнет к этому зрелищу, что начнет, пожалуй, искать недобросовестность и там, где ее совсем нет. Наконец, и этого мало, друг мой, — предвидится опасность не только от недостатков его, но даже и от хороших качеств. Вы знаете, как он щедр и знаете тоже, что до последнего времени его щедрость никогда не могла проявляться в больших размерах: он был всегда стеснен. Мы часто нуждались в самом необходимом. Он поневоле должен был себя сдерживать и часто сильно страдал от этого. Теперь никаких сдержек быть не может. Наша жизнь домашняя не изменилась нисколько и, конечно, не изменится. Ему всего так мало для себя нужно, привычки у него спартанские. Он любит простоту. Он всегда возмущался той безумной роскошью, которая существовала при дворе матушки. Он начал с того, что значительно, даже, быть может, чрезмерно сократил расходы двора: но в то же время он неудержимо стремится расточать свои милости как достойным их, так и недостойным. Знаете ли вы, что в это короткое время раздарены им направо и налево десятки тысяч крестьян, богатейшие земли, лучшие имения? Если он начнет кого-нибудь награждать, то ему трудно уже остановиться. Он теряет всему меру. Чем же все это кончится, что нам делать? Посоветуйте, друг мой!
— Что делать? — грустно проговорила Нелидова. — Наши силы очень слабы в этом отношении, но все же я полагаю, действуя осмотрительно, можно его сдерживать.
— Каким образом? Вы знаете, как редко, будучи в возбужденном состоянии, он способен бывает выслушать совет, противоречащий его желаниям. Конечно, вы всегда умели вовремя останавливать его, но это легко было там, в Гатчине, при нашей совместной жизни. Там все дела, каждый шаг его был нам известен. Легко было следить за всем. Теперь совсем другое.
— Однако вы и теперь можете следить и вовремя узнавать многое. Делайте это и, если вам когда-нибудь не удастся остановить его, известите меня, и я письменно или лично постараюсь действовать на него. Если мы заключим тесный союз с вами, то, быть может, многое нам будет удаваться.
Императрица задумалась.
— Да, вы правы и, во всяком случае, только такой способ действий нам и остается. Итак, решено, в каждом важном случае я буду к вам обращаться, и вы обещайте мне употреблять все ваши усилия, воспользоваться всем вашим добрым влиянием на него, чтобы отвращать его от таких поступков, которые так или иначе могут ему повредить.
— Конечно, ведь это единственная цель моя.
— В таком случае, начните, не откладывая. Не далее, как сегодня, я узнала об одном принятом им решении, которое, кажется, завтра же уже должно быть приведено в исполнение, и которое вооружит против него многих и, во всяком случае, будет истолковано ему во вред.
— Что такое, государыня?
— Представьте себе, он желает уничтожить орден Георгия Победоносца. Он сам сказал мне об этом, но ведь этого нельзя допустить!
— Да, это произведет целую бурю.
— Как же поступить нам?
— Я попробую написать ему, — сказала Нелидова.
— Пожалуйста, я уверена, что письмо ваше на него подействует. Он всегда так радуется, получая ваши письма, перечитывает их несколько раз. Вы умеете так убедительно, так горячо писать. Пойдемте ко мне в кабинет, составьте письмо, мы прочтем его вместе, а потом вы его пришлите.
— Хорошо, я напишу сейчас. Я всегда лучше пишу под первым впечатлением.
Они заперлись в кабинете императрицы, и через полчаса письмо было готово.
— Вот, — сказала Екатерина Ивановна, — не знаю, одобрите ли вы, государыня, я писала от всего сердца.
— Прочтите, я вся — внимание.
Екатерина Ивановна принялась за чтение своего письма. Она прекрасно писала на изысканном французском языке и умела придавать своим выражениям именно тот оттенок решительности и правдивости, который так любил Павел.
Она писала теперь между прочим: «Подумайте, государь, о том, что в течение долгого времени этот знак отличия был наградою за кровь пролитую, за члены, истерзанные на службе отечеству. Сжальтесь над столькими несчастными, которые утратили бы все, увидев, что их государь оказывает презрение тому, что составляет их славу, свидетельствуя об их мужестве. Если вы имеете намерение упразднить этот орден, вы, переставая возлагать его на ваших подданных, тем самым упраздните его, но пока удостойте почтить носящих его, становясь, при случае, во главе их. Ваше величество может найти разные предлоги, чтобы самому им не украшаться, как, например, тот, что вы не успели его заслужить, так как обстоятельства не дали вам к тому случая, причем вы, умея ценить заслуги тех, которые носят, все-таки можете поставить в удовольствие доказать им ваше уважение вашим присутствием. Простите меня, государь, если мое усердие нескромно, но пока я буду принимать к сердцу вашу славу, и пока любовь к вам ваших верноподданных будет предметом моих желаний для вас, я буду считать моим долгом раскрывать вам мое сердце, насчет всего, что может касаться лично вашего императорского величества. В таких чувствах относительно моего государя считаю я долгом жить и умереть».
— Отлично, отлично! — сказала императрица, дослушав до конца. — Только как мы сделаем, чтобы доставить письмо это? Пришлите его завтра утром пораньше. Потом… постойте… вы не говорите ему, что я сообщила вам о решении… Я знаю, что он говорил об этом деле с Плещеевым. Сегодня вечером я, наверно, увижу Плещеева и пошлю его к вам. Вы так прямо и напишите, что от него все узнали.
— Хорошо, — сказала Нелидова, — дай Бог, чтобы первая наша проба увенчалась успехом. А теперь пора мне и в мою келью. Я буду ждать Плещеева до девяти часов. До свиданья же, дорогая государыня, да хранит вас Бог!
Они обнялись, крепко поцеловались. И Нелидова своей неслышной походкой направилась к двери.
Будто легкая тень скользила она по обширным дворцовым комнатам. Встречные почтительно давали ей дорогу, низко кланяясь. Она отвечала им грациозным наклонением головы. И вовсе не думала она о том, что оставляла за собою недружелюбный, злонамеренный шепот, в котором ее имя повторялось рядом с именем государя.
XIX. ТЕНИ ПРОШЛОГО
На следующее утро в Смольном монастыре шла торжественная и в то же время печальная обедня.
Это было двадцать четвертое ноября — Екатеринин день, день именин покойной императрицы, которая всегда с такою любовью относилась к монастырю, которая устроила в стенах его «общество благородных девиц».
Это «Общество», этот Институт был одним из дорогих детищ Екатерины. Здесь, по ее плану и даже под ее верховным руководством, воспитывались будущие русские жены и матери.
Императрица часто приезжала отдыхать среди веселой толпы детей и подраставших девочек, которые шумно выбегали ей навстречу, как к любимой матери, никогда не стеснялись ее присутствием, откровенно беседовали с нею, веселили ее своей наивностью, своей живостью. Она зорким, привычным взглядом подмечала среди них самых талантливых и, следя за их успехами, находила время, неустанно предаваясь своим разнообразным занятиям, даже переписываться со своими любимцами. Посещения императрицы составляли самые светлые праздники для маленьких затворниц, и эти праздники часто выпадали на их долю. Еще не очень давно, каких-нибудь месяца два тому назад, была здесь Екатерина, так же мило, ласково и шутливо беседовала она с девочками, каждую из них подарила своей улыбкой. Но даже детские, неопытные взгляды подметили перемену, происшедшую в дорогой гостье за летние месяцы, во время которых ее не видали.
И вот теперь институтки, стоя рядами на своем обычном месте в церкви, молятся за упокой души той, которую так любили, которая на всю жизнь оставила в них самое светлое воспоминание. Едва раздадутся под сводами церковными унылые, за душу хватающие звуки поминального напева, мгновенно склоняются эти длинные ряды детских и женских головок, как один человек падают институтки на колени. Почти все плачут, даже рыдания громкие, неудержимые то там, то здесь раздаются по церкви.
Всем вспоминается этот торжественный день в прежние годы, этот день — чуть ли не самый веселый в году, а теперь что? Ее нет, она никогда не вернется. Их недавно возили всех проститься с нею. Они увидали ее неподвижною, в блеске парчи. Они приложились к ее ледяной руке, взглянули и не узнали ту, которая была перед ними. Многие отшатнулись с криком ужаса. Разве это она? Где ее улыбка? Где ясный взгляд ее светлых глаз? Не она, не она это! Ее больше нет! Для многих из детей это было первое горе, и оно поразило их и изменило внутри их многое. Для них это нежданное первое горе было прощанием с детской безмятежностью, было вступлением в новую жизнь, где на каждом шагу борьба и страдания. Детский разум, детское сердце остановились пораженные и начали задавать себе серьезные и трудноразрешимые вопросы.
Что же теперь остается? Нужно молиться за нее, горячо молиться! И молятся дети, вслушиваясь в заунывные звуки молитвы, содрогаясь перед таинственной, великой загадкой смерти…
Но горячее их всех, обливаясь вдохновленными и страстными слезами, молится в тихом уголке церкви закрытая от всех взоров колонной Екатерина Ивановна Нелидова.
Она ничего не видит перед собою. Под звуки церковного хора в ее душе звучит другой ответный хор, и все существо ее уносится в блаженный высший мир, который открывается перед нею.
Ей чудится, что издалека, из лучезарной, сверкающей неземным светом вышины к ней доносятся дивные звуки. И она делает над собою последние усилия, чтобы понять значение этой небесной речи, чтобы уяснить себе ее смысл. Ей иногда кажется, что она достигает этого, и блаженная тишина наполняет ее. Но вдруг замирают дивные звуки, она будто просыпается и видит себя в тихом уголке церкви, видит перед собою знакомые лики иконостаса, теряющиеся в облаках ладана. Внутренний, лучезарный мир отлетает, приходят иные грезы.
Она шепчет имя той, о которой все вокруг нее молятся, и невольно, в быстро являющейся и исчезающей картине, мелькают перед нею далекие годы, проведенные ею в этих же стенах. Вспоминается ей, как маленькой девочкой была привезена она из бедной далекой деревеньки своей матери в Петербург, как один из дальних родственников, имевший при дворе связи, устроил ее помещение в Смольный. Перед нею, будто сейчас это было, ее первая встреча с императрицей. Екатерина ласковым движением подзывает к себе маленькую девочку, берет ее за руку, внимательно в нее вглядывается.
— Ты не скучаешь, дитя мое? Скажи мне правду.
Девочка изумленно смотрит. Что же иное и может она сказать, как не правду? Она еще никогда не лгала и хотя уже знает, что другие иногда лгут, но никак понять не может, зачем они это делают.
— Скучно иногда, но теперь гораздо реже, — отвечает она, робко поднимая свои прекрасные глаза на государыню.
— А учиться любишь? Учись, милая, учись хорошенько, увидишь — чем дальше, тем интереснее будет учиться. Любишь ли ты своих начальниц, своих учителей, своих подруг?
— Люблю, все со мною такие добрые, меня все любят, так как же я могу не любить?
— А меня любить будешь?
Девочка доверчиво улыбнулась и невольным детским движением протянула было руки, чтобы обнять ту, которая спрашивала, но тут же и испугалась своего движения и опустила руки.
Екатерина, улыбаясь, прижала к своей груди девочку и крепко ее поцеловала.
— Ну, ступай теперь к своим подругам. Я буду узнавать, как ты учишься, и если узнаю, что учишься хорошо — это доставит мне большое удовольствие. Помни, что я тебе сказала…
И когда девочка отошла, Екатерина обратилась к воспитательнице:
— Славный ребенок, очень она мне понравилась.
— Точно так, ваше величество, — поспешно проговорила воспитательница, — умная и добрая девочка, все ее сразу полюбили. При этом удивительная понятливость и прилежание. Я так полагаю, что скоро она окажется первой ученицей в классе.
— Значит, я угадала, первое впечатление меня не обмануло.
— Когда же вы ошибаетесь, ваше величество? — прошептала воспитательница.
Екатерина сдержала свое обещание: с этого дня она следила за девочкой, каждый раз осведомлялась об ее успехах, каждый почти раз ласково беседовала с нею.
Прошли года, и маленькая робкая девочка превратилась в разумную девушку. Окончила она свое образование в числе самых первых учениц. Поражала всех скромностью, ясным, серьезным умом и в то же время ровным, веселым характером. И вместе с этим, как и в детские годы, она продолжала не понимать, каким образом существует ложь на свете, и зачем лгут иные люди?
Нелидова не возвратилась в далекую деревеньку своей матери. Бедная незнатная девушка осталась при дворе и назначена была фрейлиной к великой княгине. Вспоминается ей тот вечер, когда она очутилась после своего монастырского уединения среди блеска и шума придворного бала. Она не произвела большого впечатления. Маленькая, далеко не красавица, просто и скромно одетая, она исчезала в толпе великолепных, залитых бриллиантами женщин и девушек. Она любопытно и внимательно вглядывалась во все и во всех, старалась отдать себе отчет в своих впечатлениях.
И вдруг среди этого занятия заметила она пристально устремленный на себя взгляд. Будто прикованная к месту, она остановилась и не могла шевельнуть ни одним членом. Этот взгляд заколдовал ее, произвел на нее странное, магическое впечатление. Сердце ее шибко забилось, и вдруг она почувствовала в этом сердце одновременно и тоску, и радость. Что это было? Предчувствие? А тот, кто глядел на нее, уже был подле и говорил ей что-то. Она очнулась, она подняла на него свои безмятежные, ясные глаза, вслушалась в слова его, и сама с ним заговорила. Заговорила так, как будто встретила старого дорогого друга, будто знала она этого человека долгие годы. Но ведь она в первый раз его видела. Она доверчиво и свободно оперлась на его руку, когда он повел ее в танцевальную залу.
А между тем, она слышала уже о нем много такого, что, по-видимому, не могло расположить ее в его пользу. Но теперь она забыла все, что о нем слышала, она увидала его, она его узнала с первой же минуты. Она не могла в нем ошибиться. Долгие, долгие годы доказали ей потом, что она действительно не ошибалась.
Что это было? Первая девическая любовь? Быть может, но она никогда не задумывалась над свойством своего чувства, никогда, ни разу в жизни не мелькнуло ей в мыслях, что этот человек мог бы быть для нее чем-нибудь иным, как просто другом. И сам он ни разу не навел ее на эти мысли. Она просто и бесповоротно, с первой минуты встречи, отдала ему всю свою жизнь, все свои помыслы. Она забыла себя для того, чтобы думать о нем, то есть о той пользе, которую она могла принести ему. Она была счастлива, когда видела, что нужна ему, что исполняет свое назначение.
Незаметно промелькнула юность, незаметно прошла молодость. Много горя пришлось испытать честному, самоотверженному сердцу, но это сердце не изменилось, и как в первый день, так и теперь, оно всецело принадлежало ему, этому непонятному рыцарю, этому страдающему искателю правды, этому неустанному борцу с самим собою. И как в первый день, так и теперь, было девственно чисто это сердце, и не было в нем и тени упрека. Она могла оглядываться назад, могла вспоминать каждый день, каждый час своей жизни и не встречала ни одной минуты, за которую могла бы покраснеть, которую хотелось бы вычеркнуть из жизни. Нет, если бы пришлось ей снова жить, она не взяла бы себе иного удела. Она бестрепетно приняла из рук судьбы крест свой и не утомилась под его ношей. Она знала, хорошо знала, что есть другая жизнь и другие радости. Быть может, и в ней шевельнулась когда-нибудь невольная тоска по этим радостям, но она всегда умела легко заглушать в себе тоску эту. Она говорила себе, что нельзя иметь всего, что нельзя всем пользоваться разом, и находила достаточно для себя того, что дала ей жизнь.
И теперь, в этот торжественный день, который ежегодно был для нее радостным днем, который когда-то проводила она в иной обстановке, в тесном гатчинском кругу, где жилось ей, бывало, так привольно, — и теперь она чувствовала себя как всегда спокойной и удовлетворенной.
Обедня и панихида кончены. В церкви началось движение.
Екатерина Ивановна вышла из-за колонны. Она видит, что взоры всех мало-помалу начинают обращаться на нее, к ней подходят почти все, находящиеся в церкви, и поздравляют со днем ее ангела. Ей желают всяких благополучий. Она приветливо, своим тихим голосом благодарит за поздравления и незаметно, затерявшись в толпе молодых, всегда милых ей лиц, выходит из церкви, направляясь по длинным коридорам в занимаемую ею маленькую квартирку.
XX. «В КЕЛЬЕ»
Екатерина Ивановна занимала маленькое помещение, состоящее всего из трех комнат. Никакой роскоши нельзя было найти в этих комнатах, но между тем, всякий, кто входил сюда, не мог не обратить внимания на окружавшую его обстановку, всякому она казалась чем-то особенным, никогда не виданным, и поражала несравненно больше царской роскоши. Причина такого впечатления заключалась в изяществе, в сочетании простоты и художественного вкуса. Между человеком и той обстановкой, в которой живет он, всегда есть много общего. И в особенности женщины умеют внести в окружающее их частичку души своей.
В течение нескольких лет, которые, переехав из Гатчины, Екатерина Ивановна провела в Смольном, она мало-помалу свила здесь теплое гнездышко, всецело отражавшее ее образ. Она любила все красивое, все изящное. Но ведь красивое и изящное можно найти и в самых дорогих, и в самых дешевых предметах. У нее не было возможности окружить себя предметами дорогими, да и к тому же она находила это излишним: все, что принадлежало ей, было очень дешево и в то же время прелестно. В ее светленьких комнатах оказывался, однако, и излишек: в них постоянно было слишком много цветов. Был такой же излишек в другом — а именно в книгах. Цветы и книги составляли слабость Екатерины Ивановны, и на них она иногда решалась тратить частицу своих маленьких средств, которые, главным образом, раздавались ею бедным людям. К тому же, все, кто знал и любил Екатерину Ивановну, знали также ее слабость к цветам и книгам, и нередко находила она, возвращаясь из церкви или из своих редких поездок в город, какое-нибудь новое красивое растение, присланное ей от друзей ее, или пакет с только что вышедшими как за границей, так и в России книгами. Часто она не могла даже узнать, откуда ей такой подарок, но она догадывалась, конечно, что почти всегда он идет от Павла Петровича или от Марии Федоровны. Так оно и было в действительности.
С первых еще лет юности, с первого времени своего житья в Гатчине Екатерина Ивановна пристрастилась к чтению. Хотя она и блистательным образом окончила институтский курс, но без труда поняла, что ее знания недостаточны: она была только подготовлена к тому, чтобы продолжать теперь свое образование без помощи учителей, продолжать своими собственными средствами. И она принялась за это дело. Она перечла и изучила все, что только было ей доступно, она хранила в своей отличной памяти самые разнообразные предметы. И в редких случаях, когда ей приходилось беседовать с людьми действительно образованными, она поражала этих людей своими знаниями, начитанностью, ясным взглядом на вещи.
Она любила также искусство, и хотя в ней не было особенного таланта, но было его достаточно, чтобы доставлять себе самой удовольствие. Она очень мило рисовала, с большим чувством играла на клавесине и часто, среди тишины Смольного, из ее окон доносились хватающие за душу звуки. По целым часам забывалась она и не замечала, как ноты, которые она разбирала, оказывались на полу, и как ее маленькие тонкие пальцы, бегая по клавишам, фантазировали и верно передавали ее душевные ощущения, ее мысли и грезы. У нее не было слушателей, и некому было решать, насколько музыкальны, насколько ярки ее фантазии. Они ее удовлетворяли, с их помощью она проводила тихие, волшебные часы, совсем отделяясь от земли, а когда возвращалась на землю после такого сладкого забытья, то чувствовала себя освеженной, ободренной, готовой с благодарностью к судьбе продолжать свое мало кому ведомое, исполненное никем не понятых радостей и страданий существование. Теперь, возвращаясь к себе из церкви, Екатерина Ивановна была занята одною мыслью: удалось или нет ее дело, вчера задуманное ею вместе с императрицей. Как и было между ними условлено, вечером к ней приезжал Плещеев. Он подтвердил ей слова императрицы, передал подробности разговора с ним государя относительно уничтожения ордена Св. Георгия. Он разрешил ей в письме к государю упомянуть, что именно от него она слышала об этом деле. Она переписала свое письмо, и рано утром оно было доставлено Павлу Петровичу. Теперь уже мог быть ответ от него, и, вероятно, этот ответ ее ожидает. Да и во всяком случае он, наверно, сегодня пришлет весточку. Он никогда не забывал этого дня. И как хорошо, что все это случилось именно в этот день! Она торопливо вошла к себе, спросила, есть ли письма на ее имя. Прислуживавшая ей девушка отвечала, что недавно принесли из дворца письмо и посылку.
— Пожалуйста, сойди вниз, — своим неизменно ласковым тоном проговорила Екатерина Ивановна, — и скажи швейцару, что если кто-нибудь будет меня спрашивать, то чтобы он всем говорил, что я сегодня нездорова и потому никого не принимаю.
— Уже многие приезжали с поздравлением, — отвечала девушка.
— Так, пожалуйста, распорядись поскорей.
Это приказание было отдано вовремя, потому что к Смольному то и дело стали подъезжать кареты. Многие из членов петербургской знати после обедни во дворце сочли нужным заехать поздравить именинницу, новую кавалерственную даму и камер-фрейлину. Между тем, Екатерина Ивановна, рассеянно взглянув на большой ящик, стоявший на столе в ее маленькой гостиной, порывисто и в волнении распечатала письмо, лежавшее на этом ящике. Она жадно пробегала строки, написанные давно и хорошо знакомым ей почерком.
«Дорогой друг мой, — читала она, — прежде всего от всей души и от всего сердца поздравляю вас с ангелом, глубоко сожалею, что не придется сегодня вас увидеть, — такой тяжелый день! Не предвижу ни минуты свободной, потому даже и не зову вас, а приехать к вам на минутку, сами знаете, возможно ли нынче это? Но я бы сделал и невозможное, да боюсь, что вы рассердитесь, а сердить вас сегодня я не желаю ни под каким видом.
Посылаю вам маленькую память о сегодняшнем дне и пуще всего желаю, чтобы вы одобрили мой выбор и страшусь, ибо вы не раз говорили, что у меня дурной вкус.
А затем перехожу к тому, что вас, вероятно, всего больше интересует: я получил милое письмо ваше и несколько раз перечел его и обдумал то, что вы мне пишете. Зачем Плещеев разболтал вам? Я его на сие не уполномочивал, но ради сегодняшнего дня сердиться на него не стану. Что же мне ответить? Если бы я даже полагал, что вы неправы, я не мог бы сегодня отказать в вашей просьбе: вы очень хитры и, по обычаю, и на сей раз верно рассчитали. Но успокойтесь, мой друг, я согласен с вами, вы меня убедили, я отказываюсь от своего намерения, — орден не будет уничтожен. Довольны ли вы? Скажите, что довольны, я только этого и желаю. Ваш преданный Павел».
— Слава Богу! слава Богу! — радостно прошептала Нелидова и даже перекрестилась. — Но что же это за память? Что в этом ящике? Зачем это?..
Она покраснела. Ей вдруг стало неловко, почти даже обидно. Она развязала шнурок, открыла ящик. Перед нею был маленький саксонский сервиз, так называемый «déjeuné» [13]. Она очень любила саксонский фарфор, и этот «déjeuné» был прелестен, совсем в ее вкусе, такой светленький, простенький и в то же время необыкновенно изящный. Она невольно осматривала каждую вещицу, восхищалась, расставила все на столе и любовалась несколько мгновений. Но вдруг она заметила, что не все еще выбрала из ящика, что там лежит еще что-то, завернутое в тонкую розовую бумагу. Она раскрыла — кожаный футляр! «Что же это?» Внезапно краска залила все лицо ее, так что даже совсем покраснели ее маленькие уши. Полоса солнечного света, пробивавшаяся из окошка и падавшая прямо на стол, перед которым она стояла, озарила футляр, и загорелись, заиграли разноцветными огнями крупные, великолепные бриллианты дорогой парюры. Екатерина Ивановна захлопнула футляр и оттолкнула его от себя.
— Это невозможно! — говорила она сама с собою, быстрыми шагами ходя по комнате. — Когда же он, наконец, поймет меня? Разве он не знает, что оскорбляет меня подобными подарками?.. Да и к чему мне это? Разве когда-нибудь я надену на себя эти каменья? И в молодости-то не носила, так уж, конечно, под старость носить не буду… И каких денег это стоит! Откуда только берутся эти деньги? Будто им и конца нет, будто их неиссякаемый источник! Сам же ведь говорит, что денег мало, а нужд много. Зачем он меня сердит, а сам пишет, что сердить сегодня не может? Как смеет он присылать мне такие вещи? Как будто мало этого прелестного «déjeuné»!..
Она уже сердилась, что так редко бывало с нею, она чувствовала себя оскорбленной, чувствовала, как поднимается в ней негодование. Но долго негодовать и сердиться она не была в силах. Ей вспомнилось доброе и ласковое лицо его; такое лицо у него всегда бывало в минуты их дружеских бесед. Она поняла, что напрасно его обвиняет, поняла, как, должно быть, было ему приятно выбрать для нее и послать ей подарок, — первый «драгоценный» подарок. Он так часто говорил в прежнее время, что его мучает невозможность дарить как следует близких ему людей.
— Странные понятия, однако! — шепнула Нелидова. — Ведь должен же он знать, кому что нужно… Он не хочет сегодня сердить меня, а уж рассердил, ну, так и я рассержу его, хоть он и исполнил мою просьбу… Ведь не могу же я принять от него эти бриллианты, а главное, нужно сразу положить этому конец, чтобы не было повторений…
Она припомнила свой вчерашний разговор с императрицей и снова покраснела.
— Сейчас же, сейчас напишу ему и возвращу ему его бриллианты!
Она подошла к письменному столу и своим тонким, красивым почерком написала:
«Ваше императорское величество, соизволите допустить, чтобы, не изменяя своего образа мыслей, я поступила так же, как и всегда поступала в подобных случаях. Вы знаете, что, ценя по достоинству дружбу, которую вы с давних пор мне оказываете, я умею ценить единственно это чувство, и что дары ваши всегда мне были более тягостны, чем приятны. Позвольте мне умолять вас не принуждать меня к принятию того подарка, который я осмеливаюсь возвратить вашему величеству. Вы должны быть спокойны насчет чувства, заставляющего меня так поступать, потому что я в то же время с благодарностью принимаю фарфоровый «déjeuné».
Она запечатала свою записку, завернула футляр и позвала горничную.
— Отдай Семену вот это и скажи, чтобы он, как можно скорей, свез во дворец для передачи государю… Да пусть поторопится, и чтобы было передано в собственные руки. Ответа не надо.
— И Семена нечего посылать, сударыня, он может еще вам понадобиться, из дворца есть посланный, принес вот эту записку, он еще здесь, я поручу ему, если прикажете…
— Записку? Подожди, быть может, нужно будет ответить.
Она узнала почерк императрицы.
Мария Федоровна, в свою очередь, поздравляла ее, сожалела, что не будет иметь возможности ее навестить, но завтра утром постарается быть у нее. «Государь уже писал вам, — заканчивала она, — но не знаю, сообщил ли он о предмете, нас интересующем… Я могу вас успокоить и обрадовать. Письмо ваше, полученное рано утром, возымело желаемое действие: он сам сказал мне, что отказывается от своего намерения. Мне остается только благодарить вас, потому что единственно с вашей помощью и можно было отклонить его от этого необдуманного поступка, который мог бы иметь столь печальные последствия. Итак, до завтра, моя добрая Катерина Ивановна, спешу, сегодня ужасный день во всех отношениях — и по печальным воспоминаниям, и по тем хлопотам, которые начались уже с раннего утра. О, если б вы знали, как я завидую вашему уединению и спокойствию! Крепко обнимаю вас, добрый друг мой, так же крепко, как нежно люблю вас».
— Вот и нужно ответить! — сказала Нелидова, обращаясь к горничной. — Подожди, я сейчас кончу.
Она в горячих выражениях благодарила императрицу и не преминула известить ее о подарке, который так ее растревожил и который она возвращала. «Если доведут об этом до вашего сведения, — писала она, — заступитесь за меня и объясните то, что побуждает меня так действовать. Я уверена, что вы поймете мои ощущения, и уверена, что и вы точно так же бы поступили на моем месте».
Отправив письмо и футляр, Екатерина Ивановна снова подошла к столу, на котором был расставлен «déjeuné», снова стала любоваться изящными вещицами. Она почувствовала аппетит, и, когда горничная вернулась доложить ей, что приказание исполнено, она велела подать себе завтрак с тем, чтобы обновить подарок своего старого, дорогого друга, с которым ей так трудно было ладить.
XXI. ЧТО ЭТО С НЕЮ?
Каждому дню свои злобы, — но проходит день и вместе с ним проходит и злоба его. То, что казалось важным, что представлялось полным значения и интереса, то внезапно забывается и исчезает, заменяясь чем-нибудь новым, что кажется несравненно важнее и значительнее, и что, в свою очередь, исчезает с последними лучами своего дня, чтобы уступить место опять иной злобе, иному, восставшему в своем временном блеске, событию.
Таков закон природы. Таково свойство натуры человеческой, склонной нестись постоянно вперед и легкомысленно забывать прошлое. Но есть и другие законы, по которым это прошлое укладывается мало-помалу, по мере своего совершения, оставляет следы свои в обрывках человеческой памяти, в предметах вещественных, в записанных документах, — и следы эти сохраняются иногда случайно, иногда сберегаемые чьей-нибудь благоразумной рукою.
Время идет и творит свою вечную, неустанную работу. Проходит много времени. Иногда человек, не способный удовлетворяться злобою для, утомленный этою злобой, любит отойти от себя и заглянуть в далекое прошлое, в чужое прошлое, которое тем не менее получает для него значение. Ведь это прошлое — общечеловеческое и не может не заинтересовать всякого живого человека.
И вот далекая, чужая злоба дня, записанная или сохранившаяся в чьей-либо памяти, как старое сказание, является совсем в ином виде, в ином освещении. Она теряет то значение, в каком представлялась современникам, занимает подобающее ей место, и человек, всматривающийся в даль прошедшего, легко понимает ее истинный смысл, ее действительную важность. Часто приходится ему изумляться, когда он встречается с доказательствами непонимания, с каким современники относились к тому или другому занимавшему их явлению. Он видит, что иногда явление, само по себе незначительное, производило впечатление несравненно сильнейшее и продолжительнейшее, чем явление действительно крупное, имевшее большие последствия. Иногда изумляется он людской забывчивости: прошумело какое-нибудь событие, у целого общества было на устах чье-нибудь имя, все были заняты чьей-нибудь судьбою и вдруг — обрываются нити, и человек, разбирающийся в прошлом, не может доискаться конца истории. Все забылось, нахлынули новые волны иных событий, затерялась судьба человека, имя которого смущало столько сердец, вызывало такие горячие порицания или такие восторги. Никому вдруг не стало дела до этого человека!..
А между тем, ведь всякое событие, всякая судьба души человеческой должны быть исследованы до конца, для того чтобы их можно было ясно и верно понять, для того чтобы они получили свое настоящее место в истории человечества.
И особенно тяжело становится, когда среди тумана прошедшего вдруг выступит светлый и чистый образ, который по каким-либо обстоятельствам вызвал мгновенно всеобщее сочувствие и вдруг, блеснув прекрасным светом, померк и забылся. Таких чистых, светлых образов вырастает немного — и в интересах развития души человеческой следует сохранять о них воспоминание и бережно передавать их следующим поколениям. Пусть эти чистые образы, озаренные случайной злобой дня, не имели никакого влияния на судьбу государств и народов, но они, во всяком случае, представят собою пример и урок, нужный для последующих поколений.
Нежданная кончина Екатерины, ожидания, тревоги и волнения, соединенные с началом нового царствования, естественно, заставили забыть все те интересы, которыми еще за несколько недель перед тем жило петербургское общество. И тут совершилось нечто в высшей степени несправедливое, и жестокое, что обыкновенно совершается в подобных случаях: петербургские люди, в новой злобе дня, совершено позабыли об одном существе, имя которого еще так недавно повторялось всеми, трогательная судьба которого заставляла интересоваться собою даже самых холодных и мало чувствительных людей. Недавнее прошлое было забыто, как будто его никогда и не было. Память о нем сохранилась только в тесном кружке семьи царской, но и здесь новые интересы поглощали внимание всех, и здесь была невольная несправедливость.
Великая княжна Александра Павловна почувствовала себя совершенно одинокой со своим тяжелым горем. Несмотря на всю любовь к ней родных, на нее теперь обращали слишком мало внимания, и она, как цветок, едва распустившийся и уже подкошенный недавно налетевшей весенней бурей, бледнела и увядала среди роскоши Зимнего Дворца, где еще так недавно познала сказочное, погубившее ее счастье.
Что такое была она, эта девушка-ребенок? Она не являла в себе зачатков гениальности своей бабки, она не совершила никакого подвига, она просто погибала, насмерть раненная бессмысленно направленной рукою, погибала жертвою чужих ошибок, чужих пороков, чужой настойчивости и честолюбия, которым даже трудно найти объяснение: Но душа ее, прозрачная, как хрусталь, и рожденная в среде, где кипели все человеческие пороки, она была чужда этих пороков. Ее помыслы были чисты, ее чувства были святы. Она была непричастна злу, которое ее окружало. Казалось, ее все любили, казалось, иначе не могло и быть, такое светлое, такое чарующее впечатление производила она своей красотой и своей детской невинностью, своей кротостью и добротою. А между тем, будто нарочно был составлен против нее заговор для того, чтобы истерзать ее, провести через все пытки, каким только можно подвергнуть ребенка и женщину. О ней стоит подумать и не следует забывать судьбу ее…
Если бы тот, кто не видел великую княжну в течение последних трех месяцев, теперь встретился с нею, то вряд ли бы узнал ее, — так она изменилась. Недавно она была свежим, веселым ребенком, теперь казалась уже совершенно взрослой девушкой. Она стала несравненно лучше, чем прежде, ее прелестное, оригинальное лицо получило новое очарование. Следы тяжелого страдания на молодом лице представляют собою высшую прелесть, высшую красоту, но эта красота такого рода, что тяжело и невыносимо ею любоваться.
Мало кто видел теперь великую княжну: она появлялась перед посторонними только в крайнем случае. Она почти все дни проводила в своих комнатах, встречалась с отцом и матерью только во время завтрака и обеда, и нужно было видеть, как мужественно несла она свое горе, которое удвоилось теперь новой, страшной для нее утратой — утратой любимой бабушки. Великая княжна, очевидно, поставила своей задачей, своим священным долгом скрывать ото всех, а главным образом, от отца с матерью, ту невыносимую тоску, которая ее не покидала и отравляла каждую минуту ее жизни. Она, эта четырнадцатилетняя девочка, делала над собой необычайные усилия, на какие вряд ли была бы способна и зрелая, давно привыкшая владеть собой женщина.
И она достигала своей цели. Появляясь к столу, она имела спокойный и бодрый вид, и если бы не бледность, заменившая прежний ее румянец, она могла бы обмануть самый внимательный, заботливый взгляд. Она, мужественно борясь с собою и насильно отрываясь от своего внутреннего существования, по-видимому, принимала участие во всех интересах, которыми жили ее близкие. Она спокойно беседовала, даже улыбалась. Она подмечала, что за нею наблюдают. Но ведь им так горько было бы видеть ее страдания! При этой мысли ее силы удваивались. Она обманывала и отца, и мать и мало-помалу доводила их до уверенности, что успокоилась, что благополучно пережила недавние волнения. Одно можно было только в ней заметить, — ее упорное желание каждый раз, как только оказывалось это возможным, спешить к себе, скрываться в своих комнатах. Она чувствовала, что есть предел ее силам. Час, другой тяжелой борьбы с собою чересчур утомляли ее, ей нужно было отдохнуть, чтобы подготовиться к новому испытанию.
И только что оказывалась она в своей тихой комнате, только что, благодаря употребляемым ею маленьким хитростям, ей удавалось остаться одной, вдали от посторонних наблюдающих глаз, она мгновенно преображалась: о бодрости и спокойствии уже не было и помину. Лицо ее, которым она за несколько минут до того так хорошо владела, вдруг выдавало все ее внутренние ощущения. Оно внезапно тускнело как-то, бледнело еще больше, на него ложилась мертвенная тень, и никто бы, взглянув на нее в эти минуты, не сказал, что это еще совсем ребенок. Она делалась утомленной жизнью женщиной.
Но отчего же она так страдала? Ведь вся жизнь еще была у нее впереди!.. Ее воспитательница, госпожа Ливен, не раз утешала ее подобными суждениями.
— Дорогая моя, — говорила она ей, — зачем вы себя так мучаете? Ведь вы умны, рассудите же хорошенько; я знаю, вы привязались к вашему жениху, вы были уверены, что скоро должна состояться ваша свадьба… Случилось неожиданно неприятное обстоятельство… ваш жених очень молод, неопытен, он поступил неосмотрительно… странно… ваша свадьба отложена; но ведь и только. Будьте спокойны и знайте, что если вы продолжаете любить его, то разлука ваша, может быть, окончится довольно скоро. Уверяю вас, дело это вовсе не расстроено, и обстоятельства таковы, что непременно все завершится вашей свадьбой. Зачем эта печаль? Зачем эти слезы, которые я постоянно вижу на глазах ваших, хотя вы и стараетесь их скрыть от меня?
— Разве у меня мало причин плакать? — тихо отвечала великая княжна.
Госпожа Ливен отходила, видя, что ей нисколько не удалось ее успокоить.
«Быть может, она грустит о бабушке, она так ее любила», — думала она.
Великая княжна грустила и о бабушке, и о бабушке иной раз плакала она, но это семейное горе все же уступало место ее личному горю. Слова госпожи Ливен, ее уверения, что все завершится счастливым браком, нисколько на нее не действовали: она очень хорошо и давно знала, что никакого счастливого брака не будет, что она никогда уже, ни разу в жизни, не встретится с Густавом. О! Если бы у нее оставалась хотя какая-нибудь надежда! Разве бы она стала так мучиться даже и тогда, если бы она знала, что пройдут годы, много лет в разлуке, но затем наступит все же встреча, и Густав вернется прежним Густавом, которого она увидела в тот незабвенный день, когда бабушка вывела ее к нему. Она бы не стала терзать себя. Она ждала бы спокойно, сколько бы ни пришлось ждать… Но она знала, что прошлое не вернется. Он не оставляет мысли на ней жениться, госпожа Ливен уверяет, и, конечно, она говорит правду, что он прислал государю письмо, где извиняется за сделанную им неловкость и обещает, что в скором времени все затруднения будут устранены им. Теперь он достиг своего совершеннолетия, у него много дел, но он спешит с окончанием всех этих дел и при первой возможности совершит то, что составляет предмет его страстного желания. Он просит смотреть на него как на будущего родственника…
Все это так, и, может быть, он даже пишет искренне, и, может быть, он сам думает, что непременно все завершится их браком, а между тем, она отлично знает, что никогда этого не будет. Кто же сказал ей это? Почему она знает? Потому что он умер, прежний Густав, а тот, кто называется теперь его именем, тот, кого признают теперь королем Швеции, — неизвестно кто, чужой ей совсем человек… Да, прежний Густав умер. Тот Густав, который стоял перед нею в розовой бабушкиной гостиной, который обратился к ней с робким первым приветствием, — он был лучше всех в мире, всех добрее, всех благороднее. Он так горячо, так искренне любил ее. Он дал ей такое счастье, о каком прежде она никогда и не грезила, которое повергло ее в необычайное изумление и восторг…
И вдруг… его не стало, доброго, любящего Густава… вдруг он умер, на его место явился этот новый, ужасный… Он принял его образ. Она встретила этого нового человека тогда, 12-го сентября вечером, когда ее насильно заставили показаться на балу. Она взглянула на него и тотчас же увидела, что это не ее Густав, что это бессовестный самозванец. Страшный ужас наполнил ей сердце, она едва вышла из залы и потеряла сознание. И с тех пор, что бы ей ни говорили, как бы ни уверяли ее, — она знает, что ее Густав умер. Пусть этот самозванец приезжает за ней, пусть он возьмет ее и увезет в Швецию, все равно она умрет там, потому что его, ее дорогого друга, ее милого принца мелькнувшей перед ней и исчезнувшей сказки не будет с ней — он умер…
Что же! Вот и она умирать начинает, и она умрет скоро, иначе быть не может. Это она знала хорошо, знала, что недолго уже ей жить на свете, а ей всего четырнадцать лет. А ей говорят, что впереди у нее целая жизнь… Что впереди? Впереди ничего, кроме медленно приближающейся смерти: жизнь позади осталась. Ведь когда была «такая» жизнь, когда было и ушло «такое» счастье, то иная жизнь несет с собою смерть. Воскресить ее может только возвращение прошлого блаженства, но оно никогда не вернется, потому что того, кто принес с собой это блаженство, нет…
День наступал, день проходил, проходили недели, и она все больше и больше убеждалась в том, что умирает. Какая это мучительная, какая странная смерть — ничего не болит, она движется, как и все люди, так же, как все, спит и ест. Она делает над собою усилие, — видит и понимает, что кругом нее творится. Она разговаривает со всеми, рассуждает обо всем, читает и понимает прочитанное, а между тем, она умирает! Она улыбается, чтобы доставить удовольствие отцу, который так пристально, так пытливо на нее смотрит, который, очевидно, так хочет видеть ее счастливой и довольной. Она, в угоду ему, шутит и достигает того, что шутки ее выходят остроумны. А все же она умирает!
Зачем же ей сулят что-то? Зачем хотят обмануть ее, и отчего это никто не видит и не понимает, что смерть ее близка? Да и хорошо умереть…
Она дошла до этой мысли и с радостью на ней остановилась, и с тех пор эта мысль ее не покидает, и с тех пор, с каждым днем, она, даже оставаясь сама с собою, становится спокойнее. Хорошо умереть, когда нет жизни и когда наверное знаешь, что ее никогда не будет. Когда только придет эта смерть? Когда окончится это томительное, долгое умиранье?..
А между тем, госпожа Ливен тревожно следит за ней. «Нет, в таком положении оставлять ее опасно, — решает, наконец, она, — нужно поговорить с государем — если кто может ее успокоить, то один он!..» И она, выбрав удобную минуту, сообщила Павлу Петровичу о положении его дочери.
— Опасно!.. Вы меня пугаете, — встревоженно сказал он, — Боже мой! Столько дел, столько, что я даже ничего не заметил, мне казалось, напротив, что она совсем успокоилась, я решил, что в ее годы горе забывается скоро.
— Да, это очень часто так бывает, ваше величество, но великая княжна развивается совсем иначе, чем другие. Если я решилась говорить с вами, то единственно потому, что считаю дело очень серьезным.
— Что же вы замечаете?
— Она необыкновенно сосредоточена, я осторожно слежу за нею, я часто гляжу на нее тогда, когда она воображает, что ее никто не видит, и, уже не говоря о том, что она часто тихонько плачет, у нее временами бывает такое странное лицо, она так невыносимо глядит, будто ничего не видя перед собою, она сама с собою шепчет, у нее по временам является необыкновенная болезненная слабость, которую она не в силах даже скрывать, и, между тем, я знаю, как она хорошо владеет собою…
Павел побледнел. Госпожа Ливен заметила эту бледность, на ее глазах выступили слезы.
— Простите меня, ваше величество, я доставила вам большое огорчение, но я считала своим долгом сказать все, что думаю. Мне кажется, что только вы помочь можете. Вы никогда не говорили с нею об этом предмете, попробуйте, ваше величество.
— Благодарю вас, — задумчиво проговорил Павел, протягивая ей руку. — Прошу, позовите ко мне дочь мою.
По уходе воспитательницы он тревожно стал ходить, сжимая рукой себе голову, как всегда делал в минуты крайнего душевного возбуждения.
«Она вряд ли ошибается, — думал он, — она умна и наблюдательна, и она хорошо знает бедную девочку. Если так, делать нечего, придется отдать ее этому дрянному мальчишке!.. Быть может, он когда-нибудь одумается, быть может, она сумеет подчинить и его своему доброму влиянию…»
Великая княжна не заставила себя ждать. Она робко вошла в кабинет отца, изумленная, зачем это он позвал ее.
— Что вам угодно, папа? — спросила она, поднимая на него свои кроткие глаза.
Он пристально, пристально всматривался в нее. Сердце его защемило. Он увидел, что госпожа Ливен сказала ему правду, что его «малютке» действительно плохо. Он крепко ее обнял с такою нежностью и такой тоскою, как никогда в жизни. Она спрятала на его груди свою головку и вдруг зарыдала.
— О чем ты плачешь, дитя мое, моя добрая Саша! Что с тобой?
Он посадил ее к себе на колени, не выпуская из своих объятий. Она сдержала рыдания, подняла голову, взглянула на него. Но он уж и сам плакал.
— Успокойся же, мой ангел, — говорил он так тихо, так нежно, таким голосом, какого она никогда от него не слыхала. — Успокойся, я позвал тебя потому, что у меня есть кое-что сообщить тебе, мне нужно кое о чем спросить тебя, посоветоваться с тобою.
— Я слушаю, папа. И вот видите, я спокойна.
Она улыбнулась ему побледневшими губами.
— Послушай, Саша, ты должна догадаться, о чем я буду говорить с тобою. Ты хорошо знаешь все, что случилось в сентябре месяце, и я повторять этого не стану. Ты знаешь, что все произошло оттого, что оказалось несколько недоразумений. Некоторые люди взялись за дело не так, как бы следовало. Король Густав продолжает настаивать на своем желании получить твою руку. Генерал Клингспорр приехал от него и находится в настоящее время в Петербурге. Теперь есть возможность вести переговоры совсем иначе. Тогда вела их твоя покойная бабушка, теперь буду вести я. Мы обойдем прежние недоразумения. Я сделаю все, что от меня зависит, ради твоего счастья, но если мне придется решиться на какие-нибудь уступки, я должен, по крайней мере, знать, что делаю это для тебя. Как же ты прикажешь мне, моя дорогая? Во что бы то ни стало сделать тебя шведской королевой, да? Ведь так? Ведь это нужно?
Она покачала головою.
— Нет, папа, мне ничего не нужно, и вы, пожалуйста, меня ни о чем не спрашивайте. Я знаю — ведь главный вопрос о моем переходе в лютеранство, но я православная и всегда останусь православной.
— Хорошо, я рад это слышать. Впрочем, я и был уверен, что таково твое решение. Они уступят… они должны будут уступить. В этом главный вопрос, а затем уже с нашей стороны могут начаться уступки. Так успокойся же и знай, я тебе говорю это не как пустое обещание, а говорю серьезно и решительно, и ты должна мне верить, — знай, что ты будешь шведской королевой!
— Папа, папа, совсем не то! — опять прижимаясь к отцу и крепко его обнимая, проговорила великая княжна. — Не делайте никаких уступок — этого не должно. Я говорю вам правду, как перед Богом, что мне ничего не надо, что я вовсе не хочу быть шведской королевой. Поверьте мне, если дело и будет устроено, это все меня не обрадует. Мне ничего, ничего не надо…
Он с изумлением глядел на нее. Она говорила так горячо, так искренне, к тому же он знал, что она всегда была правдива, что она не способна кривить душою. Он не понимал, в чем дело.
— Отчего же ты так печальна? Отчего ты так побледнела? Я думал, что всему виною Густав, его отъезд. Скажи мне правду, отчего ты такая стала? Что с тобою?
— Я сама не знаю, — прошептала она.
— Ты больна? Что у тебя болит? Скажи мне.
— Ничего не болит, и все болит, папа. Да, может быть, это правда, что я больна… мне тяжело… иногда дурно мне… и я чувствую большую слабость…
Он печально задумался, еще раз ее обнял.
— Так ступай, малютка, и успокойся, ты больна, тебе полечиться нужно… Тебя скоро вылечат…
Она хотела было сказать ему что-то, но остановилась и, тихо, печально ему улыбнувшись, вышла из кабинета.
Она хотела ему сказать, что ей незачем лечиться, что она все равно умирает, но ей было жалко испугать его — и она ничего не сказала…
XXII. КОНЕЦ СКАЗКИ
Наконец, наступил день, так давно ожидавшийся Сергеем и Таней.
Длинная сказка со злыми и добрыми волшебниками, со всевозможными препятствиями и превращениями, наконец, должна была завершиться счастливой развязкой. По воле судьбы совершалось, давно и неизменно предназначенное, по убеждению карлика Моськи, соединение двух людей, когда-то, почти еще в детские свои годы, почувствовавших страстное влечение друг к другу и оставшихся верными этому влечению, несмотря на все преграды, которые жизнь ставила между ними.
Карлик Моська, этот мудрый, хотя и не признанный философ, конечно, был прав, утверждая, что они созданы друг для друга. Но дело в том, что он очень легко мог ошибиться, основывая на этом обстоятельстве неизбежность их соединения. Несмотря на всю свою мудрость, он забывал, что в жизни очень часто соединяются именно те люди, которые вовсе не созданы друг для друга, а родственные натуры разметываются в разные стороны неизбежной, но слишком часто совсем не понятной и, по-видимому, злой судьбою.
Злая судьба смеется над человеком, шутит с ним злые шутки, заставляет сердце человеческое исходить кровью, тогда как то, что могло бы дать ему успокоение, дать ему возможное на земле счастье, было от него так близко, так достижимо. Но замешалась судьба, сшутила свою шутку, и то, что было близко и достижимо, отдалилось за тридевять земель в тридесятое царство, куда нет доступа, куда не проведет никакой добрый волшебник…
Но кто знает, быть может, людям только кажется, что судьба зла и насмешлива, быть может, люди клевещут на судьбу, не понимая высших законов, высшей справедливости, высших целей, по которым, может быть, и нужно, чтобы сердце человеческое исходило кровью, нужно для того же самого сердца…
Как бы то ни было, судьба давала Сергею и Тане редкую возможность благодарить ее. Судьба исполняла их желания, согласовала эти желания со своей неведомой целью.
Пройдет еще день — и после многих лет невольной разлуки Сергей и Таня соединятся с тем, чтобы уже не разлучаться до скончания дней своих.
Прах великой Екатерины и прах Петра III перенесены из Зимнего дворца и покоятся в Петропавловском соборе.
Государь объявил Сергею, что он находит теперь возможным обвенчать его с Таней. Он назначил венчание в дворцовой церкви. Приглашенных было очень немного. Конечно, не предполагалось никакого торжества. Венчание должно было совершиться в шесть часов вечера.
Сергей весь день проводил у себя. Он, по обычаю, не мог быть до самого венца с невестой. А видеть кого-нибудь из посторонних ему не хотелось. Он сделал исключение для дяди Нарышкина, который был в числе приглашенных на свадьбу и теперь заехал проведать племянника.
Лев Александрович очень изменился со дня кончины императрицы. На нем можно было видеть, что значила Екатерина для людей, давно и близко ее знавших. Он, этот шутник и весельчак, он, счастливый сибарит, всю жизнь отстранявший от себя мрачные мысли, искавший только во всем забавную и смешную сторону, умевший с философским хладнокровием выходить из самых затруднительных и печальных обстоятельств, — он забыл теперь всю свою житейскую философию, потерял свою природную веселость и некоторое легкомыслие, не пропадавшее в нем даже и в самые зрелые годы.
Еще недавно, еще несколько недель тому назад, несмотря на следы времени, которое хотя и обращалось с ним очень бережно, но все же не забывало его, он оставался еще «Левушкой», неизменным «Левушкой» первых лет славного Екатерининского царствования. Он ни за что не хотел признавать прав и обязанностей своей старости, он молодился, бодрился насколько сил хватало.
А теперь никто уже не назвал бы его «Левушкой». Это был старик, проживший очень широко, очень весело, безо всяких стеснений, безо всяких дум о грядущих днях, ради которых следовало бы давно уже наложить узду на свои желания и порывы; но теперь он оказался человеком даже чересчур равно состарившимся и одряхлевшим. А между тем, еще недавно, глядя на него, можно было подумать, что этому человеку и конца не будет. Что же вдруг так надломило, так разрушило весельчака и забавника? Умерла Екатерина!
Но ведь по мере того, как человек живет, по мере того, как он все быстрее и быстрее приближается к старости, он начинает мириться с мыслью о смерти. Потеря близких, друзей и сверстников поражает все меньше и меньше. Человек ко всему привыкает, привыкает он и теряет то, что было близко и дорого. К тому же смерть эта ни в чем не изменила положения бессменного обер-шталмейстера. Ему нечего было бояться за дальнейшую судьбу свою. Он не мог думать о том, что его старость будет потревожена какими-нибудь неприятными заботами, что его самолюбие будет страдать. Он был одним из тех немногих, постоянно приближенных к Екатерине людей, которые сохраняли добрые отношения к цесаревичу. Новый государь всегда выказывал расположение другу своей матери и теперь, в первые дни своего царствования, обошелся с ним очень милостиво. Сказал ему несколько горячих, искренних слов, обнял и поцеловал его, говоря, что по-прежнему его любит.
И все же Нарышкин был совсем надломлен горем, и несмотря на то, что время проходило, все еще не мог прийти в себя, не мог помириться с мыслью о том, что нет Екатерины. Он похоронил с нею всю жизнь свою, он понимал одно, что для него нет настоящего, нет будущего, что у него осталось одно прошедшее, и он постоянно возвращался к этому прошедшему, к этой свежей могиле и стонал, и плакал, и изнывал над нею.
И теперь, в беседе с Сергеем, несмотря на все желание не омрачать своим горем этот радостный день в жизни племянника, он нет-нет, да и прорывался. Он не мог сказать нескольких слов, чтобы не упомянуть «о ней».
— Вот, — говорил он, — не дожила!.. А с каким интересом расспрашивала она про твою невесту. Знаешь ли, мой милый, несмотря на все, ведь она всегда была искренне расположена к тебе.
— Мне очень приятно это сознание, — отвечал Сергей.
— Нет, скажи мне откровенно, — перебил его Нарышкин, — у тебя не осталось никакого горького чувства?
— Можете быть уверены в этом, дядюшка.
— Ах, да ты мало знал ее! Все ее мало знали, все ее мало ценили. Даже я, сколько раз ворчал, негодовал, сердился на нее, находил и то, и другое, и только теперь вижу, что был неправ, что все же не умел ценить ее как следует. Теперь вот оценил — и поздно!.. Друг мой, что же это будет, как будем жить мы без нее?..
И вдруг в нем закипела почти даже злоба.
— Э, да что я говорю тебе об этом, разве вы, молодые люди, поймете? У вас все впереди, вы заняты новостями, вы думаете, как бы уничтожить все старое, как бы насадить новое. Вам блестящая карьера, почести, а мы… ах, кабы только умереть скорее!
— Дядюшка, вы ли это? Зачем вы говорите о смерти? Вы очень пригодитесь государю, подумайте об этом…
— Я пригожусь? Никому я не пригожусь, никому я не нужен, и мне никто не нужен. Я годился для нее, я нужен был ей. В этом моя гордость. После нее разве я кому-нибудь могу служить, разве я смею? Да и хорош бы я был, если бы желал этого! Нет, служите теперь вы, бейтесь, волнуйтесь, кричите, добивайтесь, чего хотите, а нам дайте только умереть, чтобы не видеть всей этой вашей путаницы…
Он совсем забылся, он волновался больше и больше. Сергей начинал понимать его и глядел на него с сочувствием. Но вот он пришел в себя, сморгнул набежавшие на глаза слезы.
— Прости меня, друг мой, — упавшим голосом проговорил он. — Я наболтал невесть что, не к месту и не ко времени, оглупел я совсем, голубчик!.. Тоска все такая скверная овладевает, совсем ни на что не годен. Приехал побеседовать с тобою, потолковать о невесте — и только скуку нагнал на себя… Прости ты меня. До свидания, мой милый…
— Куда же вы, дядюшка, посидите. Я весь день один.
— Нет, что же, поеду лучше туда, в собор, к ней на могилку. Там как-то легче дышится.
Он махнул рукою и совсем расстроенный вышел от Сергея.
«Плохо жить на свете! Уж если дядюшка Нарышкин мог таким сделаться — совсем плохо!» — подумал счастливый жених, несмотря на все свое счастье.
Он никак не мог заглушить в себе чувства какого-то тоскливого неудовольствия, которое с каждым днем росло в нем больше и больше.
На смену Нарышкину в кабинете Сергея очутился Моська, и явился он как бы живым протестом против вывода Сергея о том, что плохо жить на свете. Мудрецу-карлику, очевидно, очень хорошо жилось с некоторого времени. Он знал теперь, что все мрачное отошло и впереди ничего худого не предвидится. Нежданный арест и все соединенные с ним треволнения были последним горем. Правда, скончалась императрица, но Моська этого давно ожидал, он рассуждал так, что всему свой час и свое время, пожил человек, пожил на свете, да и умер. Как тому и быть иначе?
«Матушка государыня была в летах, пожила на славу, в свое удовольствие. Мудрая была государыня, что и говорить, весь свет тому свидетель. Упокой Господи ее душу!..»
Карлик помолился, помолился от всего сердца, записал «царицу Екатерину» в свое поминаньице, отслужил по ней панихиду, поминал ее на молитве каждое утро и каждый вечер. Одним словом, исполнял все то, что повелевал ему долг доброго христианина. И затем, с чистым сердцем и спокойной совестью, принялся за исполнение другого своего долга: принялся радоваться тому, что воцарился на Руси прирожденный, истинный государь, Павел Петрович.
«Дай ему Господи много лет здравствовать и царствовать на славу. Такого государя и не было, и не будет. Истинный отец и милостивец!»
«А уж мы-то! — восторженно оканчивал он свои мысли, — чем отблагодарим его за все его милости? Ну, что бы мы без него стали делать? Пропали бы, совсем пропали. И ведь поди ж ты, какой человек, сама истина говорит его устами. Святой человек совсем!.. А находятся дураки — и то, вишь, в нем не ладно, и другое…»
Он уж начинал слышать отзвуки того глухого ропота, который поднимался в петербургском обществе. Он жадно ловил каждое слово о государе и твердо решил вцепиться в лицо тому, кто вздумает при нем сказать что-нибудь неладное.
До сих пор, впрочем, ему не пришлось привести в действие этого решения, так как в низших классах, среди которых он, главным образом, вращался, и в большом доме Горбатова, и во время своих ежедневных прогулок по городу, он слышал пока только одобрение поступков нового императора. О нем передавались многие анекдоты, иногда основанные на действительном случае, иногда выдуманные неизвестно кем, прошедшие целый ряд всевозможных вариантов. Из этих анекдотов и рассказов вырастал своеобразный образ гонителя всякой неправды, всякого зла, любителя прямоты и правды, образ, милый русскому народу.
И не подозревал еще Моська, что уже выискиваются охотники и плодятся с каждым часом, и изощряются всячески, как бы исказить, как бы затемнить этот милый народу образ…
Но и мысли свои «о благодетеле государе» позабыл Моська с тех пор, как Сергей объявил ему, что день свадьбы назначен и уже окончательно, и что к этому дню следует сделать последние приготовления. Моська блаженствовал. Он по нескольку раз в день осматривал каждую вещицу в доме, заглядывал во всякие углы, тормошил прислугу, заставляя ее беспрестанно сметать пыль.
— Олухи, — пищал он во весь свой слабый голос, — да бросьте хоть теперь-то вашу леность, подумайте, время какое! Привыкли, небось, ничего не делать, благо хозяин не взыскивает. Так о том помыслите, что хозяюшка молодая к нам пожалует. Она к чистоте да ко всякому порядку привыкла. Сквозь пальцы на такую пыль глядеть не станет.
— И чего это ты, Моисей Схепаныч, хозяйкой пугаешь, — улыбаясь, отвечали ему. — Не страшна нам хозяйка. Видели мы ее, разглядели, как намедни с государем пожаловала. И ничего-то в ней страшного нету. Красавица, да и сейчас по лицу видно, что добрая…
— То-то добрая… У! Избаловались вы все! Надо бы вам вон такую боярыню, как была Салтычиха, что слуг своих с утра и до вечера каленым железом потчевала… Народятся же такие олухи, — ни стыда в вас, ни совести, и как это вам, братцы, глядеть на свет Божий не зазорно… Смотри, смотри, видишь, что это такое? Ведь говорил: смотри, нет-таки оставил! Ишь, пылища-то, ну, мигом, мне ведь за вас отвечать придется, с меня хозяйка взыскивать станет, зачем не доглядел…
И он, ворча и в то же время задыхаясь от восторга при мысли о хозяйке, стремился быстрыми мелкими шагами дальше, заглядывать в новые уголки и осматривать каждую вещицу.
Но вот наступил торжественный день. Еще несколько часов, и новобрачная хозяйка появится в горбатовском доме…
Моська, войдя в кабинет Сергея, так и сиял. Он весь превратился в олицетворение радости.
— Фу ты, как разрядился! — ласково ему улыбаясь, проговорил Сергей.
— Еще бы не разрядиться, батюшка, нынче-то! Когда же мне и вырядиться?..
Он был в новом, богатом кафтанчике малинового бархата. Весь кафтанчик был зашит золотыми блестками, на рукавах и по фалдам шло разноцветного шелка шитье, камзольчик был белый атласный, и из-под него пышно выглядывало широкое кружево. Паричок на кругленькой голове Моськи был особенно щедро напудрен — пудра так и сыпалась.
— И откуда такая роскошь? — поворачивая перед собою своего крошечного старого друга, шутливо продолжал Сергей. — Никогда я тебя, Степаныч, в таком наряде не видывал.
— Откуда, откуда! — повторял Моська. — К нынешнему дню все справил в лучшем виде. Наряд — точно краше не найти, не то, что нынешние басурманские выдумки, вот что ты, батюшка, навез из Лондона. Здесь-то у нас все еще люди по-настоящему одеты… Ну, да уж признаться разве, откуда такой наряд у меня? Ты вот не позаботился, небось, к своей свадьбе меня украсить. Да нашлась-таки добрая душа, Татьяна Владимировна это мне нынче прислала. Вот посмотри-ка, как порадовала… и цидулочка ее руки при посылке…
Он осторожно вынул из кармашка маленькую записочку и передал ее Сергею. Сергей, продолжая улыбаться, прочел:
«Милый Степаныч, посылаю тебе наряд, в котором ты должен нынче быть на моей свадьбе. Сама два дня на кафтан блестки нашивала, авось, тебе понравится и ворчать не будешь на меня».
— Ишь ты, какая хитрая, — сказал Сергей, снова осматривая Моську, — это она задобрить тебя хочет, чтобы ты был к ней милостив. Боится она тебя, страшен ты больно, Степаныч!
— Ну, ну, шути, шути, а кабы знал ты, как она меня, голубушка, своей лаской да заботой за сердце тронула. Одеваюсь это я нынче, а сам плачу, давно таких слез радостных не было.
— Известно, у тебя глаза на мокром месте, ревешь по всякому пустяку, будто малый ребенок. И когда это ты вырастешь?
— Полно, полно, сударь, нечего балясы-то точить! — вдруг принимая на себя серьезный и даже строгий вид, проговорил Моська. — А ты вот что скажи, Сергей Борисыч, как мы теперь жить будем?
— Я и сам все об этом думаю. Знаешь ты что, — так мне сдается, что не надолго мы с тобой этот дом устраиваем. В Горабатовское тянет.
— В Горбатовское?
Моська так весь и встрепенулся.
— Да, мы уж с Татьяной Владимировной так решили. Отпрошусь я у государя.
— Как же это так? — Моська совсем растерялся. — Не ладно что-то, батюшка, тебе уезжать-то отсюда, — после некоторого раздумья проговорил он. — Как это уезжать от государя?
— Да тебе самому разве в Горбатовское не хочется?
— Ох, не искушай ты меня, Сергей Борисыч! Так хочется, что и сказать невозможно. Там и могилки родные, и все родное там, батюшка. В деревне-то жизнь не в пример лучше здешней, городской. Греха меньше, для души спасительнее, и люди деревенские, простые, куда лучше здешних. Эх, кабы только можно было! Да нет, где уж. Я о таком счастье и мыслить не смею…
— Так слушай ты мое слово, Степаныч! Обещаю тебе, к весне будем мы в Горбатовском. Да не на короткое время, а надолго.
— Твоими бы устами да мед пить.
Он вдруг замолчал, сморщил брови, вся фигурка его выразила сначала смущение, а потом внезапную решимость.
— Вот что, золотой мой. Есть у меня до тебя маленькая просьба.
— Какая?
Моська запустил руку в кармашек, вынул оттуда что-то и держал в кулачонке.
— Вот, — проговорил он, — крестик. Это от мощей святого Сергия Преподобного. Мне твоя маменька покойница дала этот крестик. Голубчик ты мой, золотой мой, не обидь ты меня, старика: осчастливь ты мою душу, дозволь нынче надеть на тебя этот крестик… Молился я усердно, молился за твое благополучие… Дозволь, дитятко…
Он глядел на Сергея таким умильным взглядом, в его голосе слышалась такая страстная ласка. Крохотная ручонка его, в которой блестел маленький золотой крестик, так и дрожала от волнения.
— Спасибо, Степаныч, дай, я надену.
— Да ты без греха, без насмешки?
Сергей укоризненно взглянул на него и наклонил голову. Моська благословил его. Сергей приложился к крестику и спрятал его на груди своей.
И вдруг он почувствовал в себе что-то странное. На него откуда-то пахнуло каким-то теплом, какой-то тихой радостью, и в то же время грустью. Ему вспомнилась мать, ему будто даже почудился ее голос, ее прикосновение. Ему вспомнилось детство и не только вспомнилось оно, но на мгновенье даже и вернулось в его сердце со всем обаянием своих неуловимых, тончайших блаженных ощущений.
Он обнял карлика, этого единственного друга, оставшегося ему от далекого прошлого, и несколько минут не мог от него оторваться, и покрывал его сморщенное старое лицо поцелуями.
XXIII. ПОД ВЕНЦОМ
К назначенному часу все приглашенные собрались в дворцовой церкви. Жених уже приехал и стоял невдалеке от правого клироса, окруженный родственниками и друзьями. В числе последних было несколько гатчинцев, Плещеев, Кушелев, Кутайсов и Ростопчин. Все, очевидно, чувствовали себя очень хорошо, на всех лицах выражались торжественность и серьезность, приличные случаю; только один Ростопчин никак не мог долго стоять на месте и изображать собою важного государственного человека, каким сделался в последние дни. Его живой характер, его нервность заставляли его то и дело двигаться, он то подходил к жениху, шептал ему несколько слов, вызывал на его лице улыбку, потом пробирался в алтарь, оттуда стремился к церковным дверям взглянуть, не ведут ли невесту.
Глядя на него, Иван Павлович Кутайсов укоризненно качал головой. «Ишь ведь непоседа! — добродушно думал он. — Право, будто черти в нем завелись, так его и дергает!»
Сам Иван Павлович был теперь образцом важности и величия. Он будто переродился с тех пор, как попал из Гатчины в Петербург, с тех пор, как «пришли наши времена». Его прошлое для него не существовало больше, да и не только сам он, но и все, кто с ним теперь встречался, должны были забыть об этом прошлом. Пленный турчонок, камердинер и цирюльник превратился в сановника и самым лучшим образом играл роль свою. Человек, не знавший его истории, глядя на него, должен был непременно подумать, что он всю жизнь прожил в высшем обществе, что он с молодости был предназначен к деятельности государственной. Красивая его фигура, его благообразное, умное лицо, его важные полные достоинства манеры могли обмануть каждого. Только тем, кто давно знал его в Гатчине, кто видал его запросто, забавной казалась эта важность, которую он счел долгом напустить на себя.
Но, конечно, никто, даже между собою, теперь не желал над ним подсмеиваться: все отлично понимали, что если Иван Павлович до сих пор был нужным и сильным человеком, то теперь его значение еще увеличилось. Государь, поставивший одной из первых задач своих как можно шире и щедрее награждать тех людей, которые в иные, сумрачные дни, выказывали ему нелицемерную преданность, начал с того, что засыпал милостями своего верного Кутайсова.
Теперь Ивану Павловичу уже нечего было задумываться о нуждах семьи своей и обращаться к помощи друзей, он «с превеликой своей благодарностью» возвратил свой долг Сергею Горбатову и счел даже нужным объявить ему, что и «процентики на этот должок так или иначе, а выплатит ему в скором времени».
Сергей вспыхнул.
— О каких процентиках вы говорите, Иван Павлыч? Что это вы, ссориться со мной вздумали.
— Батюшка, за кого же вы меня принимаете! — добродушно улыбаясь, перебил его Кутайсов. — Я не о денежных процентиках говорю, а совсем о других. Я, знаете, в долгу не люблю оставаться и доброму человеку всегда рад услужить, а коли этот добрый человек меня в трудную минуту еще и выручил, так тем паче. Очень я вам благодарен, Сергей Борисыч, и благодарность свою докажу на деле. Прежде вот мало чем мог такому важному барину, как вы, пригодиться, ну, а нынче времена изменились, рассчитывайте на меня: нужда в чем окажется — прямо ко мне, так, мол, и так, Иван Павлыч, и уж будьте благонадежны — все по вашему слову будет сделано…
Сергей замолчал. Он хорошо понимал, какое удовольствие доставляет Кутайсову возможность говорить таким образом, а потому снисходительно отнесся к словам его и напыщенному, но все же добродушному тону.
Иван Павлович был прав, сознавая свою силу: хотя он еще и не имел какой-нибудь определенной должности, но по-прежнему оставался одним из самых близких советников государя. Он по-прежнему имел право входа к государю без доклада и во всякое время. Наконец, он приготовил себе последнее торжество. Благодаря в последний раз государя за его милости, он вдруг состроил самую печальную и трогательную физиономию, даже вдруг будто невольно всхлипнул. Павел с удивлением взглянул на него.
— Что с тобой, Иван Павлыч?
— Простите, ваше величество, не сдержался, это так, ничего, не обращайте внимания.
— Нет, ты стой! Ты знаешь, я терпеть не могу таких ответов, изволь сейчас же говорить, что с тобой?
Иван Павлович замялся, развел руками, глубоко вздохнул и, будто решившись на нечто для себя крайне тяжелое, заговорил с большим волнением:
— Грустно мне…
— Что же у тебя, горе, что ли, какое? Я думал, что ты всем доволен.
— Нет у меня горя! Награжден я от вашего величества чрезмерно, а все же иной раз тяжко бывает, обид много себе вижу…
— От кого это? Кто смеет обижать тебя?
— Невольно всяк обижает, такова судьба моя, такова моя доля, и с этим ничего не поделаешь…
— Не понимаю. Ты говоришь загадками, а я не люблю загадок, да и времени нет, объяснись прямо.
— Вот я взыскан вашей милостью, тружусь, сколько сил хватает, не хуже других тружусь, с важными господами нахожусь в компании, об одних и тех же важных делах толкуем, и мое слово иной раз не пропадает даром… ваше величество не находите противным мое присутствие, а все же, что я такое? Холоп! — и всякий если не словом, так взглядом дает мне понять: ты говорить-то, мол, говори и дело делай, а место свое знай и понимай, что ты нам не ровня.
— Вздор! — покраснев, сказал Павел. — Коли я тебя нахожу, Иван, разумным и хорошим человеком, коли я доволен тобою и считаю тебя ничуть не хуже князей да графов, так, значит, твое место наравне с ними и к твоей чести относится, что ты сам, своим достоинством возвысил себя. Ну, уж если на то пошло, я заставлю всех признать твое достоинство, я покажу, что истинное достоинство человека не в его происхождении, а в его заслугах. При первом случае, какой только представится, я пожалую тебя в графы, слышишь? Так и знай, ты заслужил это, и я слов на ветер не кидаю. Довольно ли тебе? Только смотри, Иван, не показывай ты мне такую кислую мину, не к лицу она тебе!
Кутайсов весь так и расцвел, вся важность с него совсем соскочила, он бросился в ноги государю, целовал его руки, заливаясь благодарными слезами.
— Ваше величество!.. Отец и благодетель!.. — шептал он и ничего не мог больше прибавить.
Павел поднял его, поцеловал и махнул рукою.
— Ступай теперь к своему делу, да и смотри, не заленись только — не время лениться!..
До сих пор еще никто не знал, что Иван Павлович в скором времени должен превратиться в графа, но сам он уже чувствовал себя графом, и это придавало ему необыкновенную бодрость и самое счастливое сознание собственного достоинства. Разговор этот с государем происходил накануне, и Иван Павлович еще не успел прийти в себя от счастья.
Но как ни был он счастлив, в толпе, окружавшей жениха, находился человек несравненно еще более счастливый, человек этот, конечно, был Моська. В своем нарядном, подаренном Таней кафтанчике, стоял он неподвижно, как маленькая кукла, и только глаза его находились в движении и то устремлялись на Сергея Борисыча, то, отрываясь от него, нетерпеливо впивались в дверь, откуда должна была показаться Таня.
Лицо Сергея было спокойно, и внутри его с каждой минутой водворялось спокойствие. Он еще волновался весь этот день до самой той минуты, когда вошел в церковь. Он чувствовал себя как-то неловко при мысли о том, что столько посторонних глаз будут глядеть на него и на Таню, столько посторонних людей будут присутствовать при событии, которое по-настоящему должно было бы совершиться без этих лишних свидетелей. Ему казалось, что его чувство, бывшее столько времени его святыней, его сокровищем, профанируется теперь, выставляясь на показ чужим людям.
Но вот он в церкви, сейчас должна явиться Таня, сейчас начнется венчанье — и все волнение, вся неловкость вдруг прошли бесследно, совсем забылись, ощущается только торжественное спокойствие, которое невольно находит на человека, сознающего, что он приступает к самому важному шагу в своей жизни. Сергей мало-помалу начинает забываться в каких-то неопределенных грезах или, вернее, это не грезы — это просто переживание давно накопившихся ощущений, подведение им итога.
Но что это? Сергей вздрогнул. Грянул хор певчих. Какие звуки! Он никогда не слыхал еще таких звуков, такая в них торжественность, такая спокойная радость, так гармонирует они с его ощущениями.
Эти звуки приветствовали входившую невесту. Двери широко распахнулись, в церкви показался государь; он ведет под руку Таню, за ними государыня, великие князья, великие княгини и княжны и несколько придворных дам.
Боже, как хороша Таня в своем роскошном подвенечном платье, в своем длинном, стелющемся за нею, вуале, осыпанная вся померанцевыми цветами, сверкающая бриллиантами.
Все так и впились в нее глазами.
— Какая красавица!
Некоторые из присутствовавших видели ее в первый раз, другие хоть и видели, но никогда не видали такою.
— Красавица! красавица! — раздается по церкви восторженный шепот и достигает до слуха Сергея.
Глядит и он, глядит на нее, не отрываясь, но он видит в ней иную красоту. Взгляд ее полуопущен, сверкающие глаза встретились с его взглядом, и он прочел в этом взгляде такое счастье, такое блаженство, такую любовь, что едва удержался, чтобы не кинуться к ней и не принять ее в свои объятия. Но это было лишь на мгновение. Снова торжественное спокойствие вернулось к нему. «Моя! моя!» — радостно повторялось в его сердце. Он отогнал эту мысль, он знал, что теперь уже нечего торопить свое счастье, что оно пришло, оно не уйдет… не уйдет! Мерными шагами направился он к середине церкви, где уже собралось духовенство.
Венчание началось. Присутствовавшие могли видеть, что и жених, и невеста очень серьезны и не выказывают никаких признаков волнения. Они, очевидно, оба вслушивались в каждое слово и повторяли про себя все слова молитв; они ни разу не взглянули друг на друга; каждый был углублен в себя.
В дальних рядах шел тихий шепот; передавались друг другу замечания:
— Прекрасная пара!
— Вот ведь мало кто и слыхал о ней, об этой княжне, а ведь первая красавица!
— Да там, в Гатчине, если покопать хорошенько, наверно, немало таких бриллиантов найдется — государь красоту любит.
— Тсс, тише! — останавливал испуганный голос. — Неравно кто услышит, да передаст!
— Никто не услышит!
А между тем, слово было уже сказано, по-видимому, самое невинное слово, но в тоне его звучало что-то нехорошее, какая-то насмешка, какое-то злорадство, зависть; это было началом клеветы, и только нужно было пустить в ход этот ничтожный намек, чтобы за него ухватились. Казалось, никто не слышал, между тем, через несколько минут на красавицу-невесту многие смотрели как-то иначе и с нее непременно переводили взгляд на государя. А он ничего не замечал, он стоял задумчиво, почти совсем закрыв глаза, и время от времени набожно крестился.
Шепот в задних рядах прерывался и начинался снова.
— В большой силе будут… того и жди, получит он важное назначение… наверно, засыпят милостями…
— Да очень ему нужно — денег куры не клюют, говорят, и скуп как: рассчитывает каждую копейку.
— Какое скуп, уж это-то неправда, человек он хороший, добрый, тороватый, а что не мот, это верно, даром денег не бросает, говорят, и половины доходов не проживает, с каждым годом капитал увеличивает.
— Хорошего женишка эта княжна подцепила…
«Милый! милый!» — вдруг отрываясь от своей молитвы и случайно взглянув на Сергея, неожиданно для себя, подумала Таня.
Ее спокойствие мгновенно исчезло, и сердце шибко забилось.
«Милый, милый! — мысленно повторила она. — О! как я люблю тебя! Как любить буду!»
И в его сердце повторилось то же…
Они были уже обвенчаны и стояли друг перед другом растерянно, счастливо глядя, они оба вдруг перестали понимать, что это такое случилось с ними.
«Неужели совершилось? Неужели все уж кончено, все это бесконечное ожидание, эта тоска, эти муки долгих дней?»
Со всех сторон на них глядели с любопытством, силились прочесть на их лицах то, чего в них не было, смотрели так же пристально и на государя, который подходил к новобрачным.
— Поздравляю, поздравляю! — радостно говорил он, протягивая им руки.
Таня благодарно взглянула на доброго волшебника, счастливые слезы блеснули на глазах ее, в невольном порыве склонилась она и поднесла к своим губам его руку. Он приподнял ее голову, крепко поцеловал ее в лоб, а затем обнял Сергея.
Некоторые выразительно переглянулись.
Начались поздравления, новобрачных окружили. Государь с государыней поспешили из церкви с тем, чтобы в качестве посаженых отца и матери встретить новобрачных в их доме и благословить их.
Таня, улыбающаяся и вспыхивающая милым румянцем, крепко опиралась на руку Сергея, благодаря поздравлявших ее, из числа которых многих видела в первый раз.
Но вот пора и им выйти из церкви. Они двинулись, сопровождаемые нарядной толпой.
— Матушка, золотая!.. ненаглядная моя!.. — вдруг невдалеке от себя расслышала Таня.
Она оглянулась. К ней протискивался карлик, он имел вид сумасшедшего, он как-то захлебывался, дрожал всем телом. Он протиснулся к ней и прильнул к руке ее, повторяя:
— Матушка, золотая… ненаглядная…
От нее он повернулся к Сергею.
Они оба остановились, нагнулись, поцеловали его.
— Ты поедешь с нами, — сказал Сергей.
И странное дело: почти никто из гостей не обратил внимания на эту остановку, не обратил внимания на карлика. Но, впрочем, кто же и знал, кроме Льва Александровича Нарышкина, что это был за карлик и кем он был для новобрачных?
XXIV. КЛЕВЕТА
У ярко освещенного и на этот раз потерявшего всю свою постоянную мрачность подъезда дома Горбатова то и дело останавливались кареты. Хоть и невозможно было по случаю всеобщего траура как следовало отпраздновать свадьбу, завершить ее роскошным балом, но все же все приглашенные присутствовать на венчании были званы и на новоселье к новобрачным, чтобы поздравить их и выпить за их здоровье. Государь с государыней приехали первые и уже дожидались в парадной зале…
Но что же такое произошло? Все видели в церкви, что государь находится в самом лучшем расположении духа, что он весел и доволен, а теперь даже самый ненаблюдательный человек мог заметить резкую в нем перемену. Лицо его, очень часто выдававшее его душевное состояние, было теперь таким, что на него смотреть становилось страшно. В минуты гнева все, что было привлекательного в некрасивой наружности Павла, пропадало. Он то бледнел, то багровел, глаза наливались кровью, ноздри широко раздувались, губы тряслись, он, очевидно, делал последние усилия, чтобы овладеть собою. Но всем хорошо было известно, что когда он таким становился, то уже должен был отказаться от борьбы, он слабел, гнев одолевал его, и он себя не помнил.
Гости входили в зал веселые и довольные, но, взглянув на государя, оставались будто прикованными к месту. Что такое случилось? Что будет? Страх разбирал каждого, каждый много бы дал, чтобы иметь какую-нибудь возможность исчезнуть, скрыться, лишь бы не попасться на глаза государю, но для этого не представлялось никакой возможности — он зорко глядел на всех, он всех видит, он всех заметил.
Вот на пороге залы появились новобрачные. Их лица сияют счастьем, они поспешно подходят к государю и государыне, которые должны благословить их.
— Боже мой! — едва шепнула Таня Сергею.
Он расслышал, взглянул — перед ним было искаженное от гнева лицо государя.
Между тем, Павел Петрович продолжал бороться с собою. Он благословил Сергея и Таню, дрожащим голосом, будто задыхаясь, пожелал им всякого счастья, выпил за их здоровье стакан шампанского, затем подошел к Ивану Павловичу Кутайсову и сказал ему:
— Зови Нарышкина и Ростопчина, и идите за мною!
После того круто повернулся и вышел из залы, направляясь в дальние комнаты.
Все видели, как Кутайсов, несмотря на всю свою важность, бегом подбежал к Нарышкину, потом к Ростопчину, шепнул им что-то, и они втроем исчезли вслед за государем.
Они спешили длинной анфиладой комнат огромного дома, следуя за удалявшимся Павлом Петровичем.
— Что случилось? Куда мы? — шепотом спрашивали Нарышкин и Ростопчин.
— Что случилось! Не знаю… не понимаю… Вы видели — на нем лица нет… Ума приложить не могу!..
Павел остановился.
— Иван, запри дверь на ключ, — проговорил он и почти упал в кресло.
Кутайсов исполнил приказание, и все они втроем стояли, выжидая. У всех даже захватило дыхание. Один только Нарышкин был спокойнее. В том состоянии, в каком он находился, ничто уже, казалось, не могло вывести его из апатии. Что может случиться? Ничего теперь случиться не может, и ни до чего ему не было никакого дела.
Несколько мгновений продолжалось тяжелое молчание, но вот государь заговорил, обрываясь на каждом слове.
— Изменники! Негодяи! Клеветники бессовестные! Звери! — несколько раз повторил он. — Где они? Дайте мне их, чтобы я мог указать на них пальцем, чтобы все могли осудить их по заслугам… Дня прожить не дадут спокойно…
Никто ничего не понимал, но никто не решался прервать его вопросом. Он продолжал:
— Ведь вы знаете, что я выставил у дворца ящик, куда всякий может опускать свою просьбу. Вы знаете, что эти просьбы, эти письма, которых каждый день такое множество, я распечатываю сам и читаю. Вы знаете, что по многим просьбам уже были исполнения, но не знаете вы, что мне иногда читать приходится. Я полагал, что совершаю полезное и справедливое дело, давая всем моим подданным возможность обращаться прямо ко мне, я полагал, что этим способом я узнаю о многих злоупотреблениях, которые иначе никогда бы не были мне ведомы — и что же? Быть может, четверть всего того, что я нахожу каждый день в ящике, имеет какой-нибудь смысл? С первого же дня мне пришлось читать вороха самого безобразного вздора; но этого мало, я принужден читать пасквили, насмешки, обращенные неведомо кем прямо ко мне!.. Сегодня, по обычаю, я отпер ящик около пяти часов, и до того времени, как нужно было вести невесту в церковь, читал. Я был доволен, на этот раз вздору оказалось мало. Я отложил для справок три интересных письма. Но пора было в церковь… Два письма я не успел прочесть, взял их в карман, вспомнил о них, как сюда приехал, прочел одно…
Он выхватил письмо из кармана и бросил его на пол.
— Вот оно, читайте! Ростопчин, читай громко!
Ростопчин поднял письмо и, едва владея собою, прочел его.
Неведомо кто писал следующее:
«Государь желает показать себя сочетанием всех совершенств человеческих: он и справедлив, он и добр, он ненавидит неправду, он желает награждать истинные достоинства и наказывает пороки, он желает водворить в государстве жизнь добропорядочную, охранять семейную честь и целомудрие, он желает подать собою пример всем. Он воспрещает приезд ко двору некоторым важным дамам, имеющим заслуженных и родовитых мужей, носящих знаменитое имя. Он не боится подвергать их такому унижению и позору ввиду того, что непристойное и развратное поведение их известно всем и каждому. Сие достойно похвалы великой. Но что же творится в нынешний день? Некая девица, забывшая всякий стыд и заменившая собою, что многим ведомо, состарившуюся и уже лишенную прежних своих прелестей госпожу Нелидову, выходит замуж. И кто же выдает ее? Сам государь…»
— Ваше величество, увольте, — прошептал Ростопчин. — Если только есть малейшая возможность, мы выследим и узнаем того негодяя, который осмелился…
— Да, вы должны узнать его! — крикнул Павел. — Не читай дальше — там все то же, те же клеветы, та же скверность!.. Подай мне письмо.
Ростопчин подал. Павел несколько раз прошелся по комнате, тяжело переводя дух, и заговорил снова, но уже более спокойным голосом:
— Что же со мной делают? До чего хотят довести меня? Вы подумаете, может быть, что я не должен был показывать вам письмо это. Я и сам так хотел сначала, но затем раздумал. Две причины заставили меня сообщить вам о наглом пасквиле и клевете низкой. Первое — что только на вас двух (он кивнул Кутайсову и Ростопчину) я мог положиться, чтобы разузнать, кто осмелился опустить в ящик письмо это, кто писал его. Второе — что клевета уже придумана, и, наверное, этим письмом клеветник не ограничится, наверное, он будет распространять, он будет пятнать трех ни в чем не повинных людей… Услышат… поверят. Почем знать, кто поверит!.. Лев Александрович! — обратился он к Нарышкину, — ты ему родственник, ты честный человек, ты его знаешь — способен ли он быть в сей гнусной роли, а вы… вы меня хорошо знаете и знаете ее… в особенности ты, Иван, тебе вся история, как самому мне, известна. При тебе она приехала и поселилась в Гатчине… Вот — думал, делаю доброе дело, устраиваю счастье двух людей, коих считаю достойными счастье… и вдруг такая низость!
— Государь, — приходя в себя и уже начиная вполне владеть собою, проговорил Ростопчин, — гнусный пасквиль ничего не изменяет. Наш достойный благоприятель и его прекрасная невеста соединены и счастливы, ибо они стоили этого, давно любят друг друга, и вы, государь — устроитель их счастья. Ради Бога, не мучайте себя понапрасну. Есть поговорка «собака лает — ветер носит».
— Чего ты меня успокаиваешь! — раздражительно воскликнул Павел Петрович и снова стал ходить по комнате. — Чем ты меня успокоишь! Почем я знаю… первые счастливые их дни отравят этою клеветою. Уж, наверное, их-то не оставят в покое. Но что об этом говорить… Мы вот заперлись тут… неловко… нужно будет выйти… Но я не мог выдержать. Подумайте и скажите мне — как вы полагаете: от какого может быть подобный пасквиль?
Нарышкин стоял молча, понурив голову. Как ни был он равнодушен ко всему, но это неожиданное отвратительное обстоятельство задело и его за живое, и в то же время он ничего не мог придумать. Его голова, всегда находчивая, теперь совсем отказывалась работать.
— Должно так полагать, что человек близкий, — проговорил Кутайсов.
— Я согласен с мнением Ивана Павловича, — сказал Ростопчин. — Да, близкий — в том смысле, что ему должны быть известны некоторые обстоятельства, и человек этот, должно быть, имеет особые причины питать злобу, если не к Татьяне Владимировне, то уж, во всяком случае, к вашему величеству и к господину Горбатову.
Государь остановился. Вдруг внезапная мысль пришла ему в голову. Он вздрогнул.
— Так знаете — я назову вам этого человека! Если не сам он, то кто-нибудь из его близких, по его наущению… Конечно, он!.. Он только один и может так ненавидеть и меня, и Горбатова. И это средство в его вкусе. Он уже доказал, что любит действовать именно таким способом, да к тому же теперь иначе и не может. О, разыщите, разузнайте! Я не успокоюсь, пока вы не разузнаете.
— Но наши действия, во всяком случае, пойдут успешнее и скорее, если мы будем знать, откуда прежде всего следует начать поиски.
— Так неужели вы не догадываетесь? Подумайте сами хорошенько.
— Это Зубов! — разом прошептали все трое.
— Вот, видите, и я того же мнения. Он неисправим, и нечего мне было стараться над его исправлением. Мои милости только пуще раздразнили этого зверя. Это он мстит и мстит по-своему. А теперь пойдем…
Он чувствовал себя несколько успокоенным, он высказался.
— Ах, если бы от них-то, бедных, это скрыть как-нибудь! Пусть бы меня одного укусила эта жаба.
— Это можно будет устроить, ваше величество, — сказал Кутайсов.
— Да как же ты устроишь?
— А через карлика.
— Бедный карлик — и ему горе, но ты прав: он один только и может уберечь их. Он умен, ловок… Идем.
Кутайсов отпер дверь. Государь быстро вышел вперед. Вид его был значительно спокойнее, только нервная судорога то и дело передергивала его губы. Ва время его отсутствия императрица употребляла все усилия, чтобы не выдать своей тревоги, чтобы развлечь новобрачных и не дать им ничего заметить. Государь вошел, она тревожно взглянула на него и с радостью поняла, что теперь уже нечего за него бояться. Она не знала еще, в чем дело, он не показал ей письма.
Между тем, Павел Петрович снова подозвал к себе Кутайсова и шепнул ему:
— Дай футляр, который у тебя в кармане, и немедленно разыщи карлика.
— Будьте покойны, ваше величество, — бодрым, уверенным тоном сказал Кутайсов.
Этот тон всегда успокаивал государя, подействовал он и теперь. Павел Петрович подошел к Сергею и положил ему руку на плечо.
— Думаю, ты ждешь не дождешься, когда мы все оставим тебя с молодой женой в покое. Я подам сейчас всем пример и уеду, но не хочу сегодня оставить тебя без подарка, который тебе давно предназначен… Вот… наклони голову!
Государь открыл футляр, вынул широкую анненскую ленту и сам надел ее через плечо Сергея. В это время подошла к ним императрица.
— А вы приколите ему звезду! — обратился он к ней, передавая футляр.
— Эта милость чересчур велика для меня, — смущенно проговорил Сергей. — Я знаю, какое значение ваше величество придаете этому ордену и поистине чувствую пока себя его недостойным.
— Вздор говоришь, я сам знаю, что делаю! — раздражительно, не сдерживая голос, перебил его Павел Петрович.
— Вы оказались достойным лучшей жены, какую только можно пожелать, и мы смело надеемся, что не окажетесь недостойным носить эту звезду, — с тихой и ласковой улыбкой проговорила императрица.
— Да, пусть она послужит тебе путеводной звездой твоего счастья, я этого от души тебе желаю. Прощай, до свиданья!
Павел крепко сжал его руку, простился с Таней, откланялся с гостями, взял императрицу под руку и спешным шагом направился из залы.
Вслед за ними начали разъезжаться и гости…
А в это время в нижнем этаже дома, в комнатке карлика сидел Кутайсов. Моська стоял перед ним весь дрожа, с побледневшим лицом. Кутайсов уже рассказал ему, в чем дело, и вконец поразил его.
Бедный Моська в первую минуту подумал, что он с ума сходит, но затем в нем поднялась злоба, бешенство… Он сразу решил, что это дело рук Зубова.
— Кто же другой, как не он?.. Ах, изверг! Давно бы его следовало на каторгу. Ах, душегубец! Да ведь его повесить надо! Колесовать! На клочки растерзать его!
Карлик не знал, какую уж и казнь придумать Зубову.
— Да ты не вылезай из кожи! — остановил его Кутайсов. — Бранью не поможешь, к тому же ведь не знаем мы еще, точно ли он это…
— Он! он! Сердце говорит, что он. Никому другому и в голову прийти такая пакость не может. Он — вечный враг! Погибели Сергея Борисыча добивается, не мытьем, так катаньем. Раз не удалось погубить… И сам черт его наущает. Что ж теперича нам делать?
— А как ты полагаешь, зачем это я к тебе сюда затесался и все это сказал?
Карлик очнулся и сообразил.
— Уж коли государю письмо подослано, так Сергею Борисычу и подавно такую же пакостную цидулу пришлют, — проговорил он.
— Догадался! Ну, слава Богу! Так ты эту цидулу и не допусти до своего господина. Вот в чем дело.
— Спасибо вам, Иван Павлович, спасибо, сударь. А ведь цидула-то у меня в кармане. Ведь не скажи вы мне все это, прочел бы ее Сергей Борисыч!.. Неведомо какой человек принес, пока были мы в церкви. Все письма да посылки через мои руки проходят, вот я и взял конверт, собираюсь, как разъедутся гости, так и подать Сергею Борисычу… И что бы это такое было! Спасибо вам, надоумили.
Он отвесил низкий поклон Кутайсову.
— Где же этот конверт, покажи мне.
— Вот, вот тут он, со мной, в кармане с собой и носил.
Он вынул конверт — Кутайсов взглянул.
— Я видел тот почерк и вряд ли ошибусь, кажись, одной рукой писано. Ну, уж распечатаем, а коли ошибка, так ты как-нибудь выпутывайся перед своим господином.
— Вестимо, сударь, распечатывайте, чего тут!
Кутайсов вскрыл конверт, заглянул в письмо и убедился, что ошибки с их стороны не было. Анонимное письмо принадлежало, очевидно, тому же автору, который опустил пасквиль в дворцовый ящик. Письмо это, в котором заключалась самая бесстыдная, самая грязная клевета, никаким образом не должно было отравить первые светлые минуты новобрачных.
— Слава тебе, Господи! — крестился Моська. — Не без милости Бог. Возьмите, Иван Павлович, эту поганую бумагу, делайте с ней, что хотите.
Кутайсов спрятал письмо и возвратился в зал именно в ту минуту, когда последние гости прощались с хозяевами.
Вот и все разъехались. Сергей и Таня остались вдвоем. Взявшись за руки, они вышли из зала и направились в кабинет. Многочисленная прислуга, неслышно сновавшая по комнатам, робко и в то же время радостно поглядывала на новую госпожу, и каждому было ясно, что не на беды, не на страх людям явилась в этот дом хозяйка. Сергей оглянулся, за ними шел Моська, но он был какой-то странный, совсем не такой, каким он ожидал его видеть.
— Что с тобой? — спросил он.
— Ничего, золотой мой. Не изволишь ли дать какие приказания?
— Спрашивай хозяйку.
Таня только улыбнулась. Моська взглянул на нее с обожанием.
«И этакую-то голубку чистую, этакую душу хрустальную не пощадил изверг! Господи, велико твое долготерпение!»
Он сморгнул набегавшие слезы и, чувствуя, что не может больше владеть собой, что непременно расплачется и встревожит господ, поспешно скрылся.
Они были уже в маленькой, хорошенькой гостиной, рядом с кабинетом, в той самой гостиной, где произошло их последнее объяснение. Все было тихо. Они остановились, взглянули друг на друга. Голова Тани упала на грудь Сергея.
— Пришел-таки наш день! — прошептал он.
— И знаешь, — ответила она, — я благословляю все наше ужасное прошлое — не будь его, не будь этих испытаний, быть может, мы никогда бы не были так счастливы, как сегодня…
XXV. НОВЫЙ РАБОТНИК
Дни проходили, и каждый день приносил новые доказательства лихорадочной, неутомимой, многосторонней деятельности императора Павла. Он не знал себе покоя, его одинаково интересовали без исключения все стороны государственного правления, и всюду он встречал и прежде уже известные ему упущения. Ему страстно хотелось как можно скорее все исправить, всюду водворить справедливость, уничтожить злоупотребления, поднять благосостояние своих подданных.
Он слишком долго ждал, слишком долго бездействовал и томился этим бездействием. Теперь нужно было наверстать потерянное время, и он начал борьбу со временем. Но так как время не замедляло для него своего хода, то ему оставалось только одно — каждую проходящую минуту так наполнять работой, чтобы этой работы на целый бы день хватило при других обстоятельствах.
Дело кипело в руках его, и он не замечал, что поставил себе невыполнимую задачу, что силы человеческие ограничены и требуют для плодотворности работы, для ее полной успешности и крепости систематизации в работе, требуют спокойствия и необходимого отдыха, во время которого пополнялась бы затрата этих сил. Он не думал об этом. Он чувствовал, что честно исполняет свое призвание. В его голове роились великие мысли, обширные планы. В его сердце кипело страстное, горячее чувство стремления ко всеобщему благу.
Ему казалось, что в нем достаточно сил, и не замечал он утомления. Нервное свое возбуждение он принимал за признак силы, он не видел, как каждый день этой лихорадочной деятельности оставлял на нем печать свою. Его волосы вылезали, морщины одна за другой появлялись на лице его, стан сгорбливался. Иногда, несмотря на привычку не поддаваться слабости, не замечать болезненных ощущений своего организма, он вдруг, после какого-нибудь чрезмерного умственного напряжения, испытывал полный упадок сил.
«Что это, что это со мною? — с ужасом думал он. — Вздор, пустяки, не следует только поддаваться!..»
И он, в то время как его неудержимо тянуло к отдыху и покою, снова принимался за работу, делал над собою страшные усилия — и нервы снова напрягались, и снова казалось ему, что он силен и бодр. А между тем эта постоянная смена впечатлений, постоянная смена мыслей, переходя от одного предмета к другому, оказывали свои последствия, не принося того результата, на который он рассчитывал.
Всюду было произведено сильное сотрясение, но затем, вместо равномерного и правильного движения, наступал перерыв, потому что уже другая сфера требовала внимания. И в этой новой сфере производилось сотрясение — и опять происходила остановка. Внимание и сила обращались в третью сторону.
Что намерения и планы государя, его основные мысли, принятые им решения были в большинстве случаев мудры — история приводит тому достаточные доказательства. Он отчетливо и ясно видел зло, меры его были решительны и, если бы применялись спокойно и последовательно, то приносили бы огромную пользу. Но о последовательности и спокойствии не могло быть и речи. Затем, наряду с предметами серьезными, он обращал внимание и на мелочи. Он ничего не хотел оставить в том виде, какой казался ему безобразным, и при этом хотел сделать все сам, собственными руками, хотел возвести гигантскую постройку, которая была бы равно прекрасна как в общем, так и во всех мельчайших частностях.
Эта невероятная, лихорадочная работа производила тревожное, неопределенное, странное впечатление. Свойство этой работы, ее неправильные порывы, ее скачки, отражались и на самом обществе, которое было свидетелем этой работы, которое так или иначе должно было принять в ней участие, которого интересы она затрагивала тем или иным способом.
Что это — зло или благо? Иные благословляли, иные роптали. И все понимали только одно, что так не могло постоянно продолжаться. Все чувствовали утомление, чувствовали его тем более, что были слишком приучены к покою, слишком избалованы.
Так работали деды и прадеды тогдашних людей в дни величайшего из русских работников, который сам, рук не покладая, шел вперед и заставлял догонять себя русских людей. И эти русские люди догоняли, кто вольной волею, в сознании своих пробудившихся сил, в благородном соревновании с великим вожаком, — а кто и невольно, подгоняемый страхом пресловутой царской дубинки, под которою подразумевалось многое, весьма неприятное, но способное прогнать русскую лень.
Но к чему приучились, с чем справились деды и прадеды, то оказывалось не по силам внукам и правнукам. Времена изменились, изменились, и нравы…
Несмотря на свои труды и заботы, Павел Петрович, по своей способности ничего не забывать как крупного, так и мелочного, не забывал обстоятельство, которое так омрачило его и огорчило в день свадьбы Горбатова. Каждое утро спрашивал он Кутайсова и Ростопчина, не успели ли они что-нибудь разузнать, найти какую-нибудь нить, чтобы с ее помощью было бы уличить в самом грязном и возмутительно дерзком проступке человека, которому столько простилось, но которого щадить теперь государь уже не был намерен.
И Кутайсов, и Ростопчин должны были признаться, что, несмотря на все их желание и попытки, они ничего не узнали, да вряд ли и могут узнать. В первую минуту, видя гнев государя и ища какого-нибудь исхода, какой-нибудь возможности утишить грозу, они ухватились за первое, что им представилось, и приняли на себя неисполнимую задачу. Но в тот же день, обсудив и размыслив хорошенько, оба они поняли, что вряд ли что-нибудь сделают. Внутренно они были почти уверены, что скверный, анонимный пасквиль — дело Зубова. Но ведь, конечно, писал не он сам, а тот, кто писал, вероятно, сумел себя обезопасить, постарался совсем изменить свой почерк. Только случай, простой случай, на который нельзя было рассчитывать, мог выдать писавшего. Между тем государь настаивал, чтобы это дело непременно было выяснено. Дольше тянуть не приходилось, нужно было решиться сложить оружие и прямо сознаться в своей неудаче.
Кутайсов и Ростопчин так и сделали. По счастью для них, государь был довольно спокоен, не выказал особенного раздражения.
— Плохи же вы, однако, господа, — не без некоторой горечи заметил он им, — если и с таким делом не справились!
— Ваше величество, — сказал Кутайсов, — да ведь иной раз и малое, по-видимому, дело труднее самого что ни на есть большого… Посудите сами, что тут делать? Одна и та же рука писала письмо и господину Горбатову, и то, которое было опущено в ящик. Почерк изменен. В канцелярии князя Зубова не оказалось ни одной бумаги, которая была бы написана подходящим почерком. Часовые, стоявшие близ того места, где находится ящик — опрошены. Но что же они объяснить могут? Всякого, кто идет мимо, — не приметишь, особливо, если нет наказа примечать. Идет себе мужчина либо женщина, идет благопристойным образом, вдруг останавливается около ящика, опускает бумагу и идет дальше. Что же тут такого!..
— Впредь, чтобы часовой стоял у самого ящика, — сказал государь, — и чтобы примечал всех, кто будет опускать письма.
— Слушаю-с, ваше величество, будет исполнено.
— Да, и чтобы приметы каждого были известны.
Ростопчин стоял насупившись и думал:
«А из этого что же выйдет? Только путаница, только неприятности. Просто придется уничтожить этот ящик. Не прививаются у нас такие вещи. Это было возможно в те времена, когда царь в порфире и короне чинил суд и расправу над народом — те времена прошли, о них рассказывается только в сказках, а наш век сказкам не верит!..»
— А кто же принес письмо в дом Горбатова? — спросил государь. — Неужели и этого человека не могли приметить?
— Человек этот был простой мужик, которого, как я полагаю, взяли на улице, дали ему на водку и велели снести письмо.
— Обидно, обидно! — несколько раз повторил государь. — Если бы накрыть его на этом деле, он получил бы должное возмездие.
— Ну, да делать нечего, — проговорил Ростопчин. — Мы все же ведь не можем сказать наверное, вина ли это князя Зубова.
— А ты уж начинаешь сомневаться?
— Внутренно я имею мало сомнения, но я хочу сказать только то, что князь Зубов и без подобной вины заслуживает строгого взыскания.
— Да, ты прав. Я сегодня еще имел по этому поводу с графом Безбородко объяснение. Дела сего господина в настоящее время окончательно разобраны, и во всех экспедициях обнаружены величайшие злоупотребления.
— Этого мало, — сказал Ростопчин, — что оказывается по иностранной коллегии — того я не знаю; но хорошо знаю, что натворил он в военной коллегии.
— Я всегда был уверен, — перебил его Павел Петрович, — что он единственно ради собственных выгод затеял войну с Персией и поручил ее ведение своему брату. Ради собственных выгод делал огромную ошибку, которая должна отразиться на всем государстве! Терять огромные суммы денег, губить людей, — да за одно это можно приговорить его к высшему наказанию! И, Боже мой, это чванство, это кривлянье!..
— У государыни был обед в присутствии шведского короля, — помолчав немного, продолжал он. — Перед обедом только что приехал с письмом курьер от Валериана Зубова. Говорилось о новостях, привезенных этим курьером. Штединг спрашивает Зубова: «Какие новости привез курьер?» Он не расслышал или не понял, так как многое говорилось по-русски. И что ж бы вы думали, что ответил Зубов? Я сидел поблизости, я своими ушами слышал… Он сделал презрительную гримасу и говорит: «Это пустяки, мой брат пишет нам, что выиграл сражение и завоевал область. Собственно, нового, интересного ничего нет». Как вам это нравится и каково мне было выслушать это? Но я перебил тебя, — прибавил государь, обращаясь к Ростопчину, — продолжай, пожалуйста, что вы нового узнали об этом злокозненном человеке?..
— Все то же, государь. Зубов не сообщил в военную коллегию ни одного рапорта. Теперь, когда мы приступили к новому распределению войск, мы ведь не можем знать, где находится большая часть полков, мы не можем знать, в каком состоянии они обретаются. Все последнее время являлись офицеры, которые должны присоединиться к своим корпусам, но они не знают, в какую сторону им ехать, где их встретить. Они просто осаждают департаменты, наводят справки и ничего не могут добиться. Что им ответить, никто ничего не знает!..
Павел поднялся со своего кресла, стукнул кулаком по столу, глаза его загорелись гневом.
— Довольно! — крикнул он. — Этого господина следовало бы по меньшей мере сослать в Сибирь на каторгу, но я связан. Я не хочу, чтобы заслуженное им наказание было отнесено к моим личным отношениям, к моим личным чувствам. Поэтому я должен был щадить его, должен щадить его и теперь. Но мера терпения истощилась, он не может оставаться здесь более. Кутайсов, сделай распоряжение, чтобы ему немедленно был объявлен приказ выехать из России, да чтобы поторопился, пусть меня не искушает!..
«Недолго же он попировал в своем новом прекрасном доме, — подумал Ростопчин. — Ах, значит, у нас на сегодня прекрасная новость! То-то будет толков, то-то будет радости многим!..»
Кутайсов отправился исполнять приказание государя, а Ростопчин, даже позабыв о своих делах, которых, по обыкновению, было у него великое множество, поспешил на половину государыни, чтобы там кое-кому сообщить интереснейшую новость дня…
XXVI. ПЕВЕЦ ФЕЛИЦЫ
В тот же вечер Ростопчин отправился к Горбатовым.
«Как-то у них принята новость о судьбе, постигшей Зубова?»
«А ведь хотя он и невозможный человек, — думал он про Сергея, подъезжая к знакомому дому, — а все же, пожалуй, в настоящее время он чуть ли не самый счастливый человек во всем Петербурге… Очевидно, теперь у него нет больше никаких желаний, получил все, ничего не хочет… Неужели я никогда не испытаю хоть на несколько дней такое душевное состояние? Да нет, где там. Были ведь уже хорошие минуты, только проходили чересчур скоро… Вечно бороться, вечно достигать чего-нибудь, что-нибудь устраивать — такова судьба моя!..»
И он никак не предполагал, что Сергей, несмотря на все свое счастье, тоже находил в глубине души своей неудовольствие. Только его тревоги были иного сорта, его желания и цели не согласовались с желаниями и целями Ростопчина. А судьба была одинакова, общая судьба всего человечества — стремиться, достигать и снова стремиться, быть в вечной погоне за неуловимым призраком, называемым душевным удовлетворением.
Впрочем, Сергей все же был теперь, конечно, счастливее Ростопчина, потому что тот помнил только минуты счастья, а он проводил уже целую безмятежную неделю. Он на время спрятал и позабыл все свои душевные запросы, на которые еще не было ответа. Он отвечал пока на один из этих запросов, он был действительно счастлив, глядя на Таню, видя, что и она счастлива.
Она теперь была совсем другая. Она в несколько дней сбросила с себя все, что ее затуманивало, что мрачило ее светлый образ. Она будто вернулась назад, будто воротила свою первую юность. В несколько дней она расцвела и еще похорошела — хотя, казалось, трудно похорошеть такой красавице. Но ведь в ее прежней красоте была тоска и тревога, была борьбы. Теперь же в ней хоть и не замечалось безумной радости, но в каждой ее мине, в каждом ее движении светилось торжественное, блаженное спокойствие.
В одной из самых уютных гостиных Ростопчин застал молодых хозяев и с ними одного нежданного для него собеседника. Собеседник этот был Гавриил Романович Державин.
Ростопчина встретили с обычным радушием.
— А я к вам с новостью, — тотчас начал он. — Вы сегодня не были во дворце, Сергей Борисыч, и, наверное, еще не знаете, что Зубову объявлено, чтобы он немедленно выезжал не только из Петербурга, но и из России.
— Неужели? — воскликнули в один голос Сергей и Таня.
— И я тоже ничего не слыхал об этом, — прибавил Державин. — Какая же тому причина?
Ростопчин передал все подробности.
— Я совершенно согласен, что после этого ему нельзя более здесь оставаться, — спокойно проговорил Сергей, — и вполне одобряю сдержанность государя. Он очень хорошо сделал, что ограничился его высылкой.
— Бывают же такие счастливые люди, что самые их проступки и недостойный образ действий помогают им избежать полной ответственности и заставляют других снисходительно к ним относиться! — улыбаясь, прибавила Таня.
— Да, Зубов один из редких счастливцев, даже в своем несчастии, — сказал Ростопчин. — Но что же молчит Гавриил Романович?
Он обернулся к Державину и пристально, и несколько насмешливо взглянул на него.
— Ведь вы, Гавриил Романович, насколько я знаю, чувствовали к князю Зубову большое влечение. Вы даже воспели его в прекрасных стихах ваших.
Державин не смутился и выдержал спокойно насмешливый взгляд Ростопчина.
— Человеку свойственно ошибаться, — пожав плечами, проговорил он, — и при этом человек — существо, умеющее совмещать в себе самые разнородные свойства. Вы почитаете князя Зубова извергом и злодеем, я таковым его не почитаю, и заметьте одно, вы беспристрастно к нему относиться не можете, быть может, потомство найдет в этом человеке что-нибудь и хорошее.
— Князь Зубов должен быть очень счастлив, что имеет таких защитников, — сказал Ростопчин. — Итак, Гавриил Романович, мы можем ожидать в скором времени появления, новой прекрасной оды, где будет воспета печальная судьба любимца счастья, низринутого в бездну горя?
— Нет, оды не будет, — опять-таки спокойно ответила Державин.
Но на этот раз спокойствие поэта было только кажущимся. Ростопчин задел его за живое.
«Когда-нибудь и я тебя поймаю, — подумал он. — Зубоскалить легко, а вот посмотрели бы мы, кому и какие оды стал бы ты писать, кабы только умел…»
— Впрочем, — вдруг оживляясь и сверкнув глазами, сказал Державин, — если вы не станете меня подзадоривать, то, пожалуй, я и напишу оду себе на погибель.
— Нет, нет, я вовсе не желаю этого, — поспешно и с улыбкой воскликнул Ростопчин. — Я знаю, вы на это способны! Простите же меня, Гавриил Романыч, я сегодня в глупом настроении. Нет, я серьезно советую вам, если только дозволите мне подать совет… Я советую вам не сердить государя, вы и так его чересчур рассердили.
— Что же делать? Невтерпеж стало!
— Но расскажите, однако, как было дело? Я полагаю, не мне одному, но и нашим милым хозяевам будет интересно от вас самих узнать эту историю. А то всегда так перепутают у нас, что совсем не то выходит…
— Я своих поступков не скрываю, — отвечал Державин. — Дело происходило самым простым образом. Вам хорошо известно, государи мои, что я, при первых переменах, происшедших при воцарении государя, оставался по-прежнему сенатором и коммерц-коллегии президентом. Затем вдруг вышел указ о восстановлении в прежних правах, как учреждены были Петром Великим, всех государственных коллегий, в том числе и коммерц-коллегии. Ожидали, что из этого будет! И вот придворный ездовой рано утром привозит мне от государя повеление, чтобы я тотчас же ехал во дворец и велел ему доложить о себе через камердинера. Не медля ни минуты, исполняю свое приказание. Приезжаю во дворец, час ранний, темно еще совсем. Подождав немного, проведен был в кабинет, государь дал мне поцеловать руку, принял меня очень милостиво, расхвалил превыше заслуг моих и объявил, что желает сделать меня правителем своего верховного совета. При этом он дозволил мне к себе вход во всякое время. Поблагодарив государя как следует, я ждал, что он меня отпустит. А он мне и говорит: «Если что теперь имеешь сообщить мне, то скажи, не опасаясь». Я отвечаю, что рад служить ему со всею откровенностью, если его величество изволит любить правду, как любил ее Петр Великий.
— Так и сказал?
— Так и сказал. Да и что же другое было сказать мне?.. Только вижу — взглянул на меня государь так, что пронзил меня своим взором. Однако же раскланялся милостиво. Я вышел. Прошел день, и вдруг выходит указ о назначении меня не в правители совета, а в правители канцелярии совета. Я изумился. Ведь это две вещи совсем разные. Если я правитель совета, то могу пропускать и не пропускать решения, а если правитель канцелярии, то могу только управлять ею. Недоумевая, жду, как все выяснится. Между тем, сделал визиты членам совета и не скрыл от них, что решился попросить у государя инструкцию. Приходит день заседания совета. Я еду, но совсем не знаю, как мне вести себя: сесть ли за стол вместе с членами совета или садиться мне за стол правителя канцелярии. Так и промыкался во все время заседания — стоя или ходя вокруг присутствовавших. Затем, по окончании заседания, князь Александр Борисыч Куракин объявляет, что когда составится протокол о делах, о которых рассуждали, то чтобы я оный привез к нему для поднесения государю. Посудите сами, мое положение еще более запутывается. Не мне ли государь сам прямо сказал, что я имею к нему доступ со всеми делами. Вижу окончательную необходимость просить инструкции. Вот и поехал рано утром, до света, во дворец, попросил Кутайсова доложить. Между тем, за множеством дел меня не приняли, так и уехал я ни с чем и вернулся на следующее утро. Принят был ласково, спрашивает государь: «Что вы, Гавриил Романыч?» Я отвечаю: «По воле вашей был в совете, но не знаю, что мне делать?» — «Как, не знаете, делайте то, что Самойлов делал!»
— Это было достаточно ясно, — заметил Ростопчин.
— Не совсем ясно, государи мои, ибо вовсе не согласовалось с тем, что прежде объявлено было самим государем. Самойлов был правителем канцелярии и имел звание камергера. Я же, как вам известно, в ином несколько положении и невольно изумился, и заметил государю так: «Не знаю я, делал ли что Самойлов в совете, никаких его бумаг нет, а сказывали, что он только носил государыне протоколы. Посему осмеливаюсь испрашивать для себя инструкции». Между тем, вижу — государь начинает сердиться. «Хорошо, — говорит, — предоставьте мне!..»
Державин остановился. Ростопчин и Сергей с некоторым изумлением на него взглянули.
— Но это вовсе не то, что мы слышали! — в один голос сказали они.
— Я еще не кончил. Обсуждая свое дело хладнокровно, сам вижу, государи мои, следовало мне на сей раз удовольствоваться, но я не мог совладеть с собою, чувствуя себя обиженным, и прибавил: «Не знаю я, ваше величество, сидеть ли мне в совете или стоять?» Только что я проговорил слова эти, государь вздрогнул, глаза его блеснули, он подбежал к двери, отворил ее и крикнул Архарову, Трощинскому и другим, которые были рядом в комнате: «Слушайте, он почитает себя в совете лишним!» Затем обратился ко мне: «Пойди назад в Сенат и сиди там смирно, а то я тебя проучу!» И вот я пошел обратно в Сенат и сижу там теперь смирно…
Таня рассмеялась, улыбался и Сергей, а Ростопчин только развел руками.
— Вот вы смеетесь, сударыня, — жалобно и в то же время крайне комично проговорил Державин, — а мне-то каково! Поверите ли, я с того самого дня не могу найти себе покоя, уже не говоря о том, что чувствую обиду, да домашние мои совсем меня со свету сживают, так и пристают: вороти милость себе государя! А как я ее ворочу? Теперь мне во дворец и доступа нет, а коли каким-нибудь чудом меня и пропустят, я опять проболтаюсь…
— Вы на себя узду наложите, так ведь нельзя! — сказал Ростопчин.
— Сам себе, государи мои, тоже повторяю, да ничего с собой поделать не могу. Набалован покойницей государыней, набалован! Бывало, при ней как пробалтывался… Однажды она даже испугалась, кликнула господина Попова и говорит ему: «Сидите здесь до конца доклада, а то этот господин совсем меня съест». Я-то не съел ее, да и меня она не съела… Ну, а теперь времена трудные для человека с таким непослушным языком! Посоветуйте, добрые люди, что мне делать? Как полагаете, Сергей Борисыч?
— Мы вас не выручим, — смеясь, сказал Сергей, — вас может выручить только одна ваша Муза.
— Это верно, на нее только вся моя и надежда… Я уж, по правде сказать, и оду приготовил…
— Отлично сделали, и, если угодно вам, Гавриил Романыч, я выберу удобную минуту да сообщу государю, что готовится новая ода, — продолжал Ростопчин.
— Премного обяжете!
— И я, со своей стороны, с большим удовольствием скажу и государю, и государыне про вашу оду, — весело объявила Таня, — но с одним уговором, я даром этого не сделаю, да и Федор Васильевич получит от меня запрещение, если вы не исполните мою просьбу. Прочтите нам вашу оду первым, тогда мы будем знать, о чем говорить.
— В самом деле, Гавриил Романыч, сделайте нам это великое удовольствие!
Сергей присоединился к просьбе Тани. Ростопчин поддержал их.
Он любил хорошие стихи, да и к тому же ему было крайне любопытно узнать, как это Муза станет выводить из затруднения своего поэта.
— Моя ода еще не совсем готова. Я намерен выпустить ее в свет на новый год. Придется в некоторых местах переделать, и мне не хотелось бы показать ее вам в ее утреннем туалете. Но если вы непременно требуете… впрочем, оно и хорошо, может быть, вы удостоите меня замечаниями, которые я приму к сведению.
Глаза его блеснули, он откинул голову, несколько мгновений сидел неподвижно, глядя куда-то далеко перед собою и, очевидно, забывая окружающее.
И вдруг звучным голосом он начал:
Занес последний шаг — и, в вечность Ступя, сокрылся прошлый год; Пожрала мрачна неизвестность Его стремленье, быстрый ход. Где ризы светлы, златозарны, Где взоры голубых очес? Где век Екатерины славный? Уж нет их! В высоте небес Явился Новый Год нам в мире И Павел в блещущей порфире…Он остановился на мгновение.
— Начало прекрасно! — прошептали слушатели.
Между тем, поэт уже продолжал своими звучными, образными стихами. Он перечислял благие деяния и начинания Павла: он выбирал и указывал именно на то, что было ближе сердцу государя. Он, очевидно, понимал то, к чему стремился Павел.
Голос поэта звенел, он воодушевлялся больше и больше. Он рисовал широкую, блаженную картину, которая так долго, так заманчиво грезилась Павлу, которая манила его, на осуществление которой он надеялся и в этой надежде напрягал все свои силы…
Затем поэт переходил в глубину души государя и ясно видел в ней те свойства, которые, несмотря на их действительное существование, были мало кому ведомы:
По долгу строг и правосуден, Но нежен, милостив душой, На казнь жестоку медлен, труден, Ждет исправления людей! Виновных милует, прощает, Несчастных слезы отирает, Покоем жертвует драгим, Участвовать в трудах супруге И сыновьям велит своим; Чистосердечья ищет в друге, Блаженством общим дорожит, Народной споспешая льготе. По доблести и по щедроте Аврелий зрится в нем и Тит…Стих лился и вот завершился последним сильным аккордом:
А ты, о вождь полков нетленных, Летел, что средь небесных сил,[14] Ко дню твоих торжеств священных, Как Павел на престол входил! Храня его твоей рукою, Времен впредь цепью золотою Крылаты горы сопряги; Веди их всех цветов стезями И счастья Россов береги, Да с верными себе сынами Отец наш ввек не узрит зла; Но брань ли взникнет, иль коварство, Вкруг облесни мечом ты царство, — И их следы покроет мгла!Державин остановился.
— Великолепно! Какая сила! — воскликнули Сергей и Таня.
А Ростопчин прибавил:
— Да, если бы государь был здесь и выслушал эту оду, наверно, все ваши тревоги окончились бы, и неприятное требование инструкции было бы забыто. Вы можете успокоиться, Гавриил Романыч, Муза вас выручит, я вам отвечаю за это.
— Но теперь я жду ваших замечаний, — сказал Державин, — не откажите мне в них, мне хотелось бы, чтобы эта ода была как можно удачнее.
— Во всяком случае, не мы станем исправлять ее, — ответил Сергей. — Что касается до меня, я нахожу ее превосходной, к тому же вы так прекрасно прочли. Я слышал музыку, она произвела на меня сильное впечатление. Я слышал очень верное определение характера государя, его стремлений, и во всяком случае, у меня осталось представление о прекрасном целом. Когда я сам прочту, быть может, мне и покажется, что какой-нибудь стих изменить надо. Но ведь с вами нет рукописи?..
— Рукописи нет. А вы, сударыня, не имеете ли мне сделать какое-нибудь замечание? — обратился Державин к Тане.
— Имею. Я много порадовалась, что вы понимаете государя именно так, как я его понимаю, но для полноты и верности у вас недостает одной черты.
— Пожалуйста, скажите, это любопытно.
— Вы не указали на присутствие чего-то высшего и таинственного в жизни государя. А между тем, без этого он не может быть вполне объяснен.
— Вы правы, сударыня, но я считаю неуместным касаться этой черты в стихах моих.
— Жаль, образ не полный, — настаивала Таня. — Мне еще не далее как сегодня, — я утром была у государыни, — рассказали новую необъяснимую историю… Федор Васильевич, вы, конечно, знаете, о чем я говорю?
— Вероятно, о Михайловском дворце?
— Да, конечно. Мне рассказала это сама императрица.
— Объясните, пожалуйста, что это такое? — спросил Державин. — Я что-то слышал… ведь дело в том, что летний дворец на Фонтанке, построенный еще Петром Великим, вдруг обратил на себя внимание государя, и он повелел наименовать его Михайловским. Говорят, что солдат, стоявший на часах у этого дворца, приходил к государю, что-то сообщил ему, и государь был очень взволнован. Что же означает эта загадка?
— Загадка и остается загадкой, — сказала Таня. — Караульный солдат действительно пришел к государю и рассказал, что недавно, в глухую полночь, когда он стоял на часах, к нему подошел почтенного и важного вида старец и повелел ему идти к государю. «Скажи ему, — говорил старец, — чтобы он велел немедленно на этом месте воздвигнуть храм во имя Николая Чудотворца с приделом Михаила Архангела».
Часовой, пораженный видом старца, смутился, не знал, что делать. Наконец, несколько придя в себя, ответил: «Как же могу я исполнить такое повеление, как отважусь подступиться к государю с такими словами? Ведь я буду за это жестоко наказан!» — «Не опасайся ничего, — сказал старец, — никакого зла тебе за это не будет, а ты только напомни об этом государю — он уже сам все знает. Прибавь, что я поручил передать ему, что увижу его через тридцать лет снова».
И вдруг, сказав это, старец исчез. Солдат уверяет, что если бы это был обыкновенный человек, то он не мог бы так исчезнуть. И что же бы вы думали! Солдат, несмотря на весь страх свой, влекомый будто неведомой силой, явился во дворец, заставил доложить о себе государю и рассказал ему слово в слово свою беседу со старцем. Государь выслушал внимательно, задумчиво и проговорил: «Спасибо, что исполнил данное тебе приказание. Да, я все это уже знаю!» И вот древний дворец велено ломать, а на его месте заложена церковь во имя Николая Чудотворца с приделом архангела Михаила. Теперь государь приказал представить ему проект нового дворца. Государыня слышала от него, что к постройке дворца будет приступлено одновременно с постройкой церкви, которая будет в связи с дворцом. Вот все, что я знаю…
— Да, странное происшествие! — промолвил Державин. — Загадка остается загадкой, решить ее может только государь. Но он молчит и отказывается сообщить что-либо даже государыне.
Они перешли к рассказам о других таинственных случаях в жизни Павла. Этих случаев было очень много.
— Конечно, это знаменательная черта, но все же мне ничего ее касаться, — говорил Державин. — Как знать, быть может, и он сам был бы недоволен, если бы я коснулся…
— Одним словом, ваша Муза справляется со своим языком лучше, чем вы! — не утерпел Ростопчин.
XXVII. МЕЛОЧИ
Муза не изменила своему поэту и еще раз выручила Гавриила Романовича. Его ода на новый 1797 год, о которой государь уже заранее слышал от Тани и Ростопчина, произвела самое лучшее впечатление. Державину был снова разрешен приезд ко двору и «вход за кавалергардов».
Государь обратился к нему ласково, поблагодарил за оду.
— Твоими бы устами да мед пить, Гавриила Романович, — сказал он ему. — Но все же я должен сказать тебе, что ты большой льстец, — прибавил он с улыбкой. — Ты придал мне много таких качеств, которых, быть может, во мне нет вовсе, ты изобразил уже исполненным многое такое, об исполнении чего я пока только еще мечтаю, ты ни словом не заикнуться о моих недостатках, а ведь я грешный человек, и «от юности моея мнози борят мя страсти»…
Державин вспыхнул и смело взглянул в глаза государю.
— Льстецом я никогда не был, ваше величество, — твердым голосом проговорил он, — и тому немало могу привести доказательств. Люблю правду и готов умереть за нее; писал мою оду, подъятый вдохновением, и то, что писал — видел перед собою, и верю, что коли ваше величество приложите старание, то и неисполненное еще, о чем говорить изволите, будет вскорости исполнено… А о недостатках ваших мне говорить не приходилось — вы сами их знаете и нечего указывать на них всем и каждому. К тому же, государь, главнейшее мое оправдание в том, что у пиитического искусства есть свои законы и противно сим законам хвалебную торжественную оду смешивать с сатирою.
— Твоя правда, — продолжая улыбаться, ответил Павел Петрович, — но в таком случае я буду ждать теперь твоей сатиры.
— Не чувствую на сие вдохновения, ваше величество, и уповаю, что прежде чем таковое вдохновение во мне явится, вы сами, силою своей воли, которую так блистательно проявляете, избавитесь от своих недостатков.
— Тебя не переспоришь! Еще раз спасибо!
Государь пожал ему руку и отошел от него.
«День на день не приходится, — подумал Державин, — ведь вот так и ждал, что, еще не успев поправить свое дело, снова его испорчу, ан нет! С ним говорить можно, в нем воистину есть высокие свойства. Отчего это такой страх он на всех нагоняет? Отчего это всем почти ныне тяжело дышится? Он добр и благороден, у него великие и благие начинания, а всем тягостно — какая тому причина?..»
Но современнику, даже и такому, каким был Державин, трудно было уяснить себе эту причину…
Дни, недели проходили. Петербург все больше и больше изменялся, толковали о всевозможных стеснениях. Многие уезжали из столицы по своим поместьям или в иные города, шепотом объясняя свой отъезд страхом.
«Жить нельзя нынче! Такие пошли строгости, и что ни день, то хуже… и чем только все это кончится? Нет, лучше от греха подальше, пока еще время — не то ни за что, ни про что пропадешь!..»
Но это были только слова — покуда еще не пропадал никто, за исключением некоторых проворовавшихся и уличенных в самых возмутительных злоупотреблениях чиновников и сановников, которые были отрешены от должностей своих и высланы.
Стеснений действительно оказывалось много, но все эти стеснения относились к лавочникам-купцам, магазинщикам, буквально грабившим покупателей, да к разнузданной молодежи, которой опасно было теперь превращать ночь в день и бесчинствовать. Обращая внимание на все, государь обратил внимание и на пьянство, от которого совсем пропадали многие молодые люди и, по преимуществу, служившие в гвардейских полках.
В одну из своих послеобеденных поездок по городу государь вдруг нежданно приказал кучеру везти его в очень хорошо известный по всему Петербургу трактир «Очаков», бывший притон разгульной молодежи.
Он вошел в этот трактир и застал в нем много гвардейских унтер-офицеров и иных молодых людей. Кутеж стоял в полном разгаре; иные были совсем уж пьяны. Из дальних комнат доносились звуки музыкальных инструментов; там находились арфистки — главнейшая приманка всей этой молодежи.
Но государь даже не заглянул в эти дальние комнаты. Он всю жизнь чувствовал отвращение к подобному распутству. Он сдержал гнев свой и обратился спокойным тоном к молодежи, которая затихла и окаменела при его появлении. Даже у тех, кто был совсем пьян — хмель соскочил. Все с ужасом глядели на государя, считая себя погибшими.
— Не стыдно ли вам, господа, — сказал государь, — так недостойно препровождать свое время! Ведь у каждого из вас есть обязанности и, во всяком случае, вы легко можете наполнить ваш день чем-нибудь лучшим и полезнейшим. Одумайтесь, ради вас же самих и важнейшей же собственной пользы откажитесь от пьянства и распутства, пока еще есть время — не то пропадете. Неужели не видите вы той бездны, в которую стремитесь! Вы уничтожаете ваши молодые силы, портите себе здоровье, приготовляете себе раннюю и болезненную старость, приближаете себя к могиле. При этом вы проматываете все свои средства, разоряете себя и ваших родителей. И сами не заметите, как потеряете разум и станете буянами и негодниками. Одумайтесь, господа, из желания вам пользы и добра советую вам это!..
Он повернулся и приказал позвать к себе содержателя трактира. Тот так перетрусил, что забился где-то в угол и хотел скрыться, но это оказалось невозможным. Он поневоле должен был выйти, ожидая, что тотчас же его схватят и казнят.
Но и к нему обратился государь, не возвышая голоса.
— Подай мне подробную роспись всего, что у тебя продается, всех спиртных напитков и вин, и скажи, — только смотри, без утайки! — те цены, которые ты за них берешь!
Пришлось подать роспись с обозначенными ценами. Государь проглядел и ужаснулся необыкновенно высоким ценам.
— Ты грабитель! — сказал он трактирщику и, не прибавив ни слова, вышел.
Но тут он подозвал оказавшегося уже у трактира квартального.
— Слушай, — сказал он ему, — сегодня же отбери здесь все напитки, какие только окажутся в наличности, представь их список по начальству, я прикажу выплатить трактирщику все, что они стоят, а затем чтобы все бутылки были перебиты, и чтобы завтра не существовало этого трактира!
Он сел в сани и продолжал свою прогулку. Он думал:
«Опять начнутся вопли, опять станут прославлять меня мучителем, но ведь поймут же, наконец, что я не хочу никого мучить… Очнутся многие из тех, кто не совсем еще погиб, и когда-нибудь поблагодарят меня, а я должен делать свое дело!..»
Он ехал грустный и задумчивый, но все же не забывал отвечать, направо и налево, на обращенные к нему поклоны. Прохожие, завидя его, останавливались, снимали шапки и низко кланялись. Проезжавшие в экипажах останавливали своих кучеров, вылезали из экипажей, для того чтобы поклониться, даже дамы растворяли дверцы кареты и ступали на подножку. Так приказано было петербургским жителям через господина Архарова.
Вот какой-то франт, закутанный в длинную шубу, с трудом выбрался из-под полости своих саней. Шуба распахнулась — франт оказался в шелковых тонких чулках и красивых лакированных башмаках.
Государь приказал ехать тише, обернулся и смотрел, как франт отряхивает снег со своих башмачков, усаживается в сани и закутывает себе ноги.
«Вот, должно быть, бранится про себя! Ничего! Как раз десяток встретится со мною да попортит свои башмачки и чулочки, ознобит свои ноги, авось, бросит носить эти шелковые и заграничные чулочки, за которые платятся и уплывают в чужие руки русские червонцы, авось, поймет, что во сто крат лучше обзавестись удобными, теплыми ботфортами. Как наденут более простое, удобное платье из русского материала, тогда я отменю приказание выходить при встрече со мной из экипажа».
Но он не замечал, что слишком долго думает об этих вещах, которые, во всяком случае, оказывались мелочью в сравнении с тем, о чем ему предстояло думать и к достижению чего были направлены его главные стремления. Он не замечал, что с каждым днем крупное и мелочное начинают смешиваться в его мыслях и чувствах, не замечал, что его вечное возбуждение, напряженные нервы мешают ему отличать существенное от второстепенного.
Он спешил теперь во дворец, где ждали его важные государственные дела, но мелочность начинала его преследовать.
Подъехав ко дворцу и остановившись на крыльце, он обратил внимание на такую странность: едет вдали карета, вдруг несколько полицейских солдат кидаются к ней, кричат что-то кучеру, заставляют его остановиться, хватают лошадей под уздцы. Кучер, перепуганный, очевидно, ничего не понимающий, останавливается, солдаты карабкаются на козлы, снимают с него шапку, грозят ему. Наконец, экипаж трогается: кучер без шапки.
Государь подозвал караульного офицера.
— Что это значит? — спросил он. — Ты видел?
— Точно так, ваше величество. Кучер при въезде на дворцовую площадь не снял шапки, и полицейские должны были заставить его это сделать в силу приказа вашего императорского величества.
— Что за вздор! Когда я отдавал такой приказ? — крикнул Павел Петрович, весь багровея. — Когда я отдавал такой приказ? — повторил он, подступая к оторопевшему офицеру.
— Не могу знать, ваше императорское величество! — едва ворочая языком, пролепетал тот. — Мне известно только, что вышел такой наказ от господина Архарова, и я полагал, что такова воля вашего величества.
— Напрасно полагал. Я не люблю невежливости, мне не нравится, когда при встрече со мною не кланяются и не снимают шапок. Не для себя я требую почтения — мне его не нужно; почтение должно оказываться не мне, а моему сану. А это что за вздор! Кучер не может кланяться, когда правит лошадьми, и чему же он будет кланяться? Стенам дворца? Да разве мой дворец — храм Божий… Слышишь, беги и объяви этим полицейским мой приказ, чтобы кучера не снимали шапок, проезжая по дворцовой площади.
— Слушаю, ваше императорское величество!
Офицер сломя голову побежал через площадь, а государь вошел во дворец раздосадованный.
Но на следующий день ему пришлось досадовать еще больше. Он случайно подошел к окну, выходившему на площадь, и увидел такую сцену: едет карета, кучер еще издали, забирая вожжи в одну руку, с трудом снимает с себя зимнюю нахлобученную шапку: вдруг полицейские останавливают карету, накидываются на кучера. Тот, очевидно, объясняет им что-то, но вот один из полицейских ударил его, другой схватил шапку и силою надел на него. Оказалось, что приказ не в меру усердного Архарова был известен уже всем в городе! Кучерам строго-настрого было наказано снимать шапки, едва они издали увидят Зимний дворец — теперь нужно было заставлять их надевать шапки. И подобные сцены продолжались в течение нескольких дней.
— Да что ж это, в насмешку надо мною все делается? — волновался государь. — Все согласились искажать смысл моих желаний! Чтобы я не видел подобных сцен! Чтобы не было передо мной этого безобразия!
Кругом все молчали, дрожали, терялись. Его гнев действовал на всех каким-то особенным образом. Самые рассудительные теряли рассудок при резких звуках его раздраженного голоса, при горящем взгляде глаз его. Это было что-то фатальное. Но он не знал такого печального свойства своей наружности, он знал только одно, что ему мешают работать, когда столько работы. В иные минуты он начинал доходить до отчаяния.
XXVIII. ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА
Между тем, время приближалось к весне; в городе начинали поговаривать о близости коронации и о тех необыкновенно щедрых милостях, которые готовятся со стороны государя ко дню этого торжественного события. Но и теперь он почти ежедневно расточал всякие милости; постоянно рассказывалось о том, что такой-то получил такую-то нежданную и чрезмерную награду, другой получил еще больше. Раздавались тысячи душ крестьян, раздавались высшие знаки отличия. Чтобы получить какой-нибудь важный чин, не требовалось ни времени, ни очереди: государь был доволен, ему сделано было приятное, а так как приятное ему делалось редко, то он спешил отблагодарить и не знал меры своей благодарности.
Однако государыня и Екатерина Ивановна Нелидова, верные принятому ими образу действий, иногда достигали того, что сокращали размеры государевых милостей и останавливали его чрезмерную щедрость. Екатерине Ивановне, настоявшей на своем и не принявшей дорогих бриллиантов, присланных ей государем, вскоре представился случай опять рассердить его. Он приказал заготовить указ о пожаловании ее матери двух тысяч душ. Он думал так: «О денежном подарке Екатерине Ивановне я не смею и заикнуться; бриллиантов, которые можно обратить в деньги, она тоже не принимает, а между тем, ведь у нее нет никаких средств, должно же ей подумать о будущем, да и, наконец, на добрые дела нужны ей деньги. Что ж делать? Подарю две тысячи душ ее матери, не ей подарок, и она не решится лишить свою старуху мать состояния, а состояние матери перейдет к ней по закону, и цель будет достигнута».
Но расчет его оказался неверен. Екатерина Ивановна, едва узнала о заготовленном указе, тотчас же прислала государю письмо. Она писала ему: «Ради Бога, государь, позвольте мне просить у вас как милости, чтобы вы уменьшили этот дар, слишком щедрый, наполовину. Моя мать всегда сочла бы за великое и неожиданное богатство тысячу душ, от которых не смею отказаться за нее, потому что она мне мать; вы понимаете, государь, что мне связывает язык в этих обстоятельствах. Но я осмеливаюсь заверить вас всем, что есть для меня священного, что я сочла бы истинным благодеянием, если бы по щедрости вашей вы дали ей пятьсот душ, и моя мать, конечно, почитала бы себя навсегда благодарной и щедро награжденной. Но две тысячи душ тяготят мне сердце: моя мать и никто другой из моих близких еще не служили вам. Время не ушло уменьшить ваш дар наполовину, и я, повергаясь к стопам вашим, умоляю вас об этом. Можно объявить, что две тысячи душ было выставлено по ошибке. Сделайте это, государь, ради Бога, пока на то есть время, снимите с моего сердца тяжесть. Не сочтите моего поступка скромностью, я требую от вас лишь справедливости, вы найдете между вашими подданными много людей, которые поистине заслуживают или заслужат со временем этот подарок, — он останется про запас. Подумайте о том, что источник ваших щедрот может иссякнуть, послушайтесь совета, который осмеливается вам дать ваш старый друг».
— Что с ней делать? — совершенно огорченный, сказал Павел Петрович императрице, показывая ей письмо Нелидовой. — Прошу вас, уговорите ее не сердить меня и не делать таких глупостей.
— Мои уговоры не приведут ни к чему, — отвечала императрица. — Вы так же хорошо, как и я, должны знать это, мой друг.
— Но подумайте, что с нею будет! Я должен позаботиться о ее будущем, она может пережить нас с вами, и когда нас не будет, как отнесутся к ней? Быть может, ей придется испытывать всякие лишения…
— Это невероятно. Все наши дети ценят и уважают Катерину Ивановну, и я постоянно внушаю им эти чувства…
Пришлось опять сдаться. Павел Петрович не мог выносить сердитого и огорченного вида Нелидовой, ему нужна была ее светлая улыбка, сознание, что она им довольна.
В числе лиц, к которым государь, несмотря на всю изменчивость своего настроения духа, продолжал относиться постоянно любовно, были молодые Горбатовы. Государь несколько раз был у них в доме и любовался их счастьем. Они постоянно получали приглашение во дворец и были принимаемы в самом интимном кружке царского семейства. Государь полагал, что с удалением Зубова грязная клевета, единственным создателем которой он его почитал, теперь навсегда исчезла. Между тем, было не так. Одна и та же клевета часто вырастает в различных местах, и мы видели, как зерно ее неведомо каким способом зародилось в дворцовой церкви во время венчания Сергея и Тани. Клевета вырастала и уже начала похаживать по городу, будто разносимая ветром.
У Сергея Горбатова не было врагов, но были завистники, как у очень богатого человека, как у одного из государевых любимцев. И вот, несмотря на то, что карлик Моська изо всех сил оберегал своего Сергея Борисыча и Татьяну Владимировну, не доглядел он как-то, отлучился из дому, а во время его отлучки принесли письмо.
Швейцар не обратил внимания на принесшего, положил письмо на обычное место, полагая, что это один из просителей, которых всегда много являлось со своими жалобными письмами в богатый дом, где хозяева щедро раздавали деньги всякому, кто заявлял о нужде своей.
Сергей, вернувшись с Таней из дворца, взял все дожидавшиеся его письма и прошел с ними в кабинет. Таня от него не отставала.
— Большая сегодня корреспонденция! — сказала она. — Ну, мой милый, садись теперь вот в это кресло, а я тебе буду читать письма, ведь не может в них быть для меня тайн…
— Да и мало интересного, я думаю.
— Нет, напротив, быть может, и много интересного. Ах! сколько здесь нищеты, и как мы должны благодарить Бога, что имеем возможность хоть чем-нибудь помогать несчастным людям…
Таня распечатала первое попавшееся ей в руки письмо; начала было читать его, но вдруг остановилась, пробежала письмо глазами, слабо вскрикнула и схватила себя за голову.
— Господи! Да что же? — прошептала она, бледнея. Письмо выпало из рук ее.
Сергей испуганно взглянул на нее, схватил письмо, прочел, побледнел в свою очередь, и несколько мгновений они сидели неподвижно, не в силах будучи вымолвить ни слова.
В письме неведомый человек, осмелившийся подписаться «другом», сообщал Сергею о том, какого рода клевета ходит по городу относительно его самого и его молодой жены.
Таня очнулась первая.
— Какое зло мы сделали людям? — говорила она. — За что чернят нас, за что позорят твое честное имя? За что и на него так клевещут? Мы стольким ему обязаны, мы знаем его чистое сердце!.. Боже, как ужасны, как злы люди!
— Ах, что в моем имени!.. — глухо прошептал Сергей.
И в первый раз в жизни вымолвил он такое слово, и никогда он не считал себя на него способным.
— Что в моем имени! Тебя, моя голубка белая, очернить хотят… я не могу этого вынести!
Стон вырвался из груди его, все в нем кипело, но что ему было делать: он чувствовал себя бессильным пред таким оружием…
— Недаром я не люблю этого Петербурга, — между тем, говорила Таня. — Это ужасный город, здесь люди как-то невольно становятся злыми.
— Ах, Таня, люди везде одинаковы!..
— Уедем отсюда, — продолжала она, — уедем скорей, пришло время исполнить наше желание; я уже думала, что нам долго не удастся отсюда вырваться, да и не удалось бы, тебя не выпустили бы, но теперь другое дело, теперь мы можем уехать. Скорей, скорей, подальше отсюда. Там, у себя, в родных местах, мы успокоимся и забудем всю эту здешнюю жизнь, все это зло.
— Да, ты права, — сказал, несколько начиная владеть собою, Сергей, — уедем, Таня…
— Завтра же отправляйся к государю, — перебила она, — просись в отпуск, да возьми это письмо на всякий случай с собою, не смущайся… Он потребует узнать правду, и ты скажи ему всю правду…
Они так и порешили, затем стали успокаивать друг друга, и кончилось тем, что каждый из них был уверен в своем успехе. Но они только хорошо обманули друг друга: каждый из них негодовал и мучился.
На следующий день Сергей рано утром поехал во дворец и был принят государем.
— Ты по делу? — спросил Павел Петрович, взглянув на него. — Какая-нибудь неприятность? Ты встревожен, говори скорей, что такое?
— Государь, простите меня, что я вас беспокою, я должен просить отпуска в деревню.
Государь покраснел, неудовольствие изобразилось на лице его.
— Отпуск?.. В деревню? — протянул он. — Нашел время! Самое теперь время уезжать отсюда в отпуск, Сергей Борисыч…
— Мне необходимо, ваше величество.
— Не ожидал я этого от тебя! Что ж, работы много? Замучил я тебя, что ли?
Сергей видел, что он раздражается с каждой секундой все больше и больше.
— Ваше величество, вы гневаетесь, а мне пуще всего невыносимо заслужить гнев ваш!.. Ради Бога, не сердитесь на меня, у меня есть важные причины желать в настоящее время удалиться отсюда…
— Так скажи мне эти причины, увидим, каковы они!
Сергей вынул полученное накануне письмо и передал его государю. Он быстро прочел его, побагровел и невольно вскричал:
— Таки добрались!.. Уберечь не сумели!
— Ваше величество, — изумленно и чувствуя себя совсем несчастным, проговорил Сергей, — значит, вам уже известно?
— Мне ничего не известно! — раздраженно перебил его Павел, потом замолчал и несколько минут ходил по кабинету.
Сергей ждал, чувствуя, как болезненно замирает его сердце, как бессильное бешенство подступает к груди его. Эти несколько минут казались ему невыносимыми и бесконечными. Павел подошел к нему и положил ему на плечо руку.
— Уезжай! — сказал он тихим голосом. — Тебе, видно, не судьба служить мне… но неужели она это знает, неужели ты не скрыл от нее!
— К несчастию, она знает.
Сергей рассказал, как было дело.
— Что же это? — уж без всяких признаков раздражения, с видимым душевным страданием и скорбью проговорил Павел Петрович. — Что же это, неужели мне суждено приносить только несчастье друзьям моим, счастье которых мне хотелось бы устроить?..
— Дорогой государь! — со слезами на глазах обратился к нему Сергей. — Умоляю вас, успокойтесь, и я, и жена моя до скончания дней наших будем смотреть на вас как на истинного нашего отца и благодетеля, и если я решился просить разрешения уехать теперь отсюда, то главным образом не для себя, а для нее. Ей нужно успокоиться, ей нужно забыть это не заслуженное нами оскорбление, ей нужно быть теперь спокойной: низкая клевета нашла себе пищу именно в такое время, когда жену мою нужно беречь от всякого волнения не только для нее самой…
— Что ты хочешь сказать?
— На этих днях я получил надежду сделаться отцом.
— Друг мой, поздравляю тебя, это большое счастье, и ради такого счастья ты должен быть спокоен, забудь эту скверную клевету, ты хорошо знаешь, что никто от нее не избавлен, и что с этим ядом нельзя бороться — против него не найдено средства. Благодарю тебя, что не скрыл от меня истину. Да, теперь я вижу, что просьба твоя законна; уезжай, конечно, уезжай, хоть мне и грустно расставаться с вами, но надеюсь все же — разлука наша не будет продолжительна, я увижу тебя счастливым отцом семейства. Когда ты думаешь ехать?
— Когда, ваше величество, разрешите?
— Это зависит от тебя.
Государь обнял и крепко поцеловал Сергея…
Через неделю в Петербурге узнали об отъезде Горбатовых. Эта новость была неожиданна. Никакой особенной, уважительной причины для подобного отъезда найти не могли, начали судить и рядить.
«Немилость это?»
Нет, знающие люди уверяли, что нет никакой немилости, что, напротив, и государь, и государыня выразили отъезжающим самое теплое участие.
«Как же объяснить, что люди убежали от своего счастья?»
Останавливались на самых невероятных предположениях.
ЭПИЛОГ
Прошло четыре года. Стояли первые теплые дни. Весна началась рано. Снег уже растаял, и из-за сухих прошлогодних листьев показывалась первая травка в горбатовском парке.
В последние годы не узнать стало Горбатовского. Дом был перестроен заново, изменена была и внешняя его архитектура. Сергей Борисович не пожалел денег, чтобы на славу отделать свое родовое гнездо. Огромный деревенский дом этот, прежде отличавшийся невзыскательной простотою, наполненный неуклюжей, иногда самодельной мебелью, теперь поражал роскошью обстановки. Мебель была выписана не только из Петербурга, но и прямо из-за границы.
От прежнего дома, собственно говоря, осталась только зала с хорами, увешанная старыми фамильными портретами. К дому теперь примыкал, завершая длинную анфиладу комнат, обширный зимний сад, наполненный самыми роскошными тропическими растениями, которые под руководством опытного немца-садовника выращивались в многочисленных теплицах и оранжереях.
В доме, незадолго еще перед тем тихом и унылом, теперь было постоянное оживление, показывавшее, что хозяева живут в нем.
Действительно, Сергей и Таня, как приехали из Петербурга весною 1797 года, так и остались здесь безвыездно. Уж очень хорошо было им в первое время на родине. К концу года Таня благополучно родила сына, названного в честь покойного деда Борисом.
Сначала еще поговаривали Горбатовы о поездке в Петербург, но, несмотря на все желание увидаться с некоторыми близкими людьми и, главнейшим образом, с государем и государыней, они все же глядели на эту поездку как на тяжкий для себя долг, исполнение которого старались отложить всеми мерами.
Между Сергеем и его петербургскими благоприятелями шла довольно деятельная переписка. Ему сообщались из Петербурга все новости, но мало радости приносили эти письма. Читая их, печально задумывались и Сергей, и Таня. Из этих писем, и в особенности из писем Кутайсова, уже подписывавшегося теперь своим новым графским титулом, Горбатов узнавал, что государь, несмотря на продолжение своей всесторонней изумительной деятельности, быстро изменяется. Он на ногах, он в постоянном движении, но, между тем, в здоровье его, очевидно, происходит быстрая перемена. Он не сознает этого, не сознают этого и почти все окружающие, сознает один только Иван Павлович, который лучше чем кто-либо понимает своего благодетеля.
И видит Горбатов, как тяжело теперь иной раз должно быть государю и как в то же время тяжело должно быть и окружающим. Он становится все раздражительнее и раздражительнее, в нем развиваются все больше и больше мелочность и подозрительность.
Скоро пришлось окончательно убедиться в перемене, происшедшей с государем. Сергея перестали звать в Петербург. И вот он узнал, наконец, от одного из своих корреспондентов, от одного из тех друзей, которые всегда так рады бывают сообщить другу неприятное известие, что государь при многих свидетелях выразился следующим образом: «Горбатов обманул меня, сказал что вернется — до сих пор его нет, ну, так мне его и не надо!.. Пусть и сидит в своей деревне!»
Никому, конечно, не пришло в голову, что в этих словах государя звучало прежде всего желание, чтобы Горбатов вернулся. Поняли так, что кто-нибудь подставил ногу недавнему любимцу и что теперь песня эта спета. Потолковали об этом, иные выразили равнодушное сожаление, другие порадовались неудаче ближнего. Но вскоре затем Сергей получил письмо от Кутайсова. Иван Павлович писал ему: «Не в моем обычае, милостивый государь мой, забывать старых друзей и старые услуги. Считаю до сего дня себя в долгу у вас, а посему поспешаю преподать добрый совет: если желаете сохранить к себе милость государя, выезжайте немедля в Петербург, но без огласки. Известите меня, когда прибудете, и я исполню все, что в моих силах, чтобы уговорить государя отменить решение, им относительно вас принятое, и встретить вас по-прежнему. Много, сударь, повредило ваше отсутствие! Не знаю, удастся ли мне все исправить, однако же, пребываю в уповании на доброе окончание сего дела…»
— Что же, Таня, как ты полагаешь? — спросил Сергей, когда они окончили чтение этого письма. — Ехать?
— Да, делать нечего, — ответила она, — надо расстаться нам с мирной здешней жизнью.
И в то же время лицо ее выразило всю тоску, вызванную одной мыслью о Петербурге. Тем не менее, стали приготовляться к отъезду. Но судьба вмешалась и удержала их снова. Маленький Борис внезапно заболел. Врач нашел его положение серьезным, об отъезде нечего было и думать. Целый месяц был болен ребенок, а ко времени его выздоровления получились новые, не совсем успокоительные письма. Отъезд затянулся, и скоро перестали говорить о нем. Сам Иван Павлович писал, что дело испорчено, называл поступок Сергея «губительным».
Сергей примирился с мыслью о немилости государя и вдруг почувствовал себя несравненно спокойнее. Не было больше колебаний, не стояла постоянно в мыслях необходимость поездки, можно было успокоиться, сложив всю вину на обстоятельства. Сергей так и сделал, сделала так и Таня. Окончательно основались они в Горбатовском. И забывали мало-помалу свою придворную жизнь, для которой не были созданы, ушли всецело в жизнь деревенскую. Вернулись привычки детства, вернулись старые воспоминания.
Им дано было огромное и редкое счастье любить друг друга, не охлаждаясь с годами, и не отравлять своей семейной жизни заботами о насущном хлебе, печальными думами о грядущем будущем. Все, что могло дать богатство, было у них под руками. Роскошный дом, не уступавший своим великолепием царским чертогам, огромная толпа прислуги, — целое государство в малом размере. Горбатов был самым богатым и важным человеком в губернии. Его богатство, ласковое обращение как его, так и Тани, привлекали в их дом постоянных гостей. Незаметно сложился сам собою строй привольной барской жизни того времени.
Время шло довольно скоро. Через год у Тани родился второй сын, названный в честь ее отца, князя Пересветова, Владимиром.
Все было, ничего не недоставало, — но все же иногда казалось Тане, что становится меньше свободы. Иногда утомляли эти наезды по большей части неинтересных гостей, эти большие обеды, празднества неизбежные. Но, во-первых, в такие минуты она решала, что иначе и быть не может, а, во-вторых, условия этой широкой, барской жизни дозволяли ей, несмотря даже на присутствие гостей, удаляться к себе, в свои комнаты, возвращаться к любимым книгам или проводить час-другой одной с детьми, с мужем.
Не совсем такою представлялась ей ее будущая жизнь в те дни, когда она убедилась, что Сергей возвращен ей. Но она решила, что то были грезы, а теперь настала действительность.
Сергей, несмотря на все свое благополучие, чувствовал себя значительно хуже. Ему по временам снова становилось скучно, снова одолевало его томление неудовлетворенности. Таня поглощена своими разнородными занятиями, и он часто один. И всего более он один тогда, когда окружен народом. Почти ничего общего нет между ним и этими соседями, по большей части, людьми совсем необразованными, на которых он поневоле должен смотреть сверху вниз.
Но и у него задаются светлые минуты. Привезут из Петербурга посылку с новыми книгами и газетами — он встрепенется и на несколько дней хватит ему любимого занятия.
Он любит природу, любит охоту. Окружающая родная природа навевает тишину ему на душу. Волнения охоты заставляют горячо биться его сердце…
Дни проходят за днями. Может быть, и хотелось бы чего-нибудь иного, но он знает, что иного нет на свете. Он знает, что это настоящее, во всяком случае, счастливее и лучше его прошедшего — и успокаивается на этом так же, как и Таня.
Все эти соседи, все эти гости, наполняющие дом его, вся губерния его почитают, все перед ним преклоняются и в то же время толкуют об его странностях.
«Отец был чудак, да и сын вышел такой же!»
И нет-нет, да и произнесется то тем, то другим и в деревню занесенное слово. Называют Сергея «вольтерьянцем».
«Вольтерьянец, это точно, этого уж не скроешь! — говорят про него. — Все книги, Бог его ведает, какие читает, в церковь редко заглядывает. Испортили его там за границею. Не будь он „вольтерьянцем“, не сидел бы в деревне. Ведь уж как не скрывай, а ведь всем известно — в Петербург бы и рад показаться, да не смеет. Ну, а при всем том, человек добрый, обходительный — одно слово, вельможа!..»
Таково было мнение губернии о Сергее. Он бы добродушно посмеялся, если бы узнал, что прозвище «вольтерьянец» его так преследует, но, конечно, он не знал этого, да и вообще не интересовался тем, что о нем говорят и думают.
Так и прошли однообразно, не скучно и не весело, эти четыре года…
Сергей и Таня после раннего деревенского обеда сошли со стеклянной террасы в сад. Никого почти из гостей на этот раз не было у них в доме.
Некоторые дорожки сада были уже расчищены и просохли. Теплый весенний ветерок едва колыхал сухие еще ветки деревьев. Обширные цветники, распланированные перед домом, были разрыты. Садовники приготавливались начинать над ними работу. Пахло разрыхленной землею, в воздухе носилось щебетание птиц. По ясному небу плыли легкие весенние облака.
Таня оперлась на руку Сергея, и они молча пошли по усыпанной ярко-желтым песком дорожке, и долго молчали. Они медленно двигались нога в ногу, любовно прижавшись друг к другу.
Приближение весны навевало на них тихую дрему, тихое приятное раздумье. О чем? Обо всем. И о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Время от времени они глубоко вдыхали в себя свежий, чистый воздух.
— Вот, когда хорошо в деревне, славное наступает время! — проговорил Сергей.
— Да, — шепнула Таня, — не позавидуешь теперь городской жизни.
— А ты разве когда-нибудь ей завидуешь?
— Ты знаешь, что нет.
— Однако, — сказал он, — что это Степаныч до сих пор не возвращается из города, я ждал его все утро. Ведь мы давно-таки не получали из Петербурга никаких известий!
Они снова замолчали и продолжали прогулку. И не успели подойти они к дому, как навстречу им, озаренная ясным солнцем, показалась фигурка Моськи. Вот он ближе и ближе. Они уже могут различить лицо его.
— Что это с ним такое? Что случилось? — в один голос воскликнули и Сергей, и Таня.
Моська шел, или вернее, плелся, волоча за собою ноги. Лицо у него было заплаканное. Они поспешили к нему. Он остановился, взглянул на них и вдруг, закрывая лицо ручонками, громко зарыдал.
— Что такое? О чем ты?
— Не стало нашего благодетеля… скончался! — сквозь рыдания проговорил Моська.
Сергей и Таня невольно вскрикнули и побледнели. Между тем, Моська вынул из висевшей у него через плечо сумки письмо и подал его Сергею. Сергей распечатал, прочел и передал Тане. Письмо это было от губернатора, который извещал Горбатовых о кончине государя.
Таня упала на грудь Сергея и залилась слезами. Сергей стоял, как громом пораженный, ни слез не было, ни мыслей. И вдруг он понял, кого лишился. Вдруг в нем нежданно встали и мучительно заговорили новые чувства. Он схватился за голову.
— Ах, я несчастный! — простонал он. — Зачем же я жил здесь, зачем меня там не было? Он умер… так нежданно, так рано!..
И ясно, как живой, представился ему этот человек, на служение которому он когда-то мечтал отдать все свои силы. И казалось ему, что этот человек глядит на него с упреком, будто говоря:
«Мало было у меня друзей и слуг — да и те покидали!..»
События шли своей чередой. Началось новое царствование при самых лучших предзнаменованиях. На молодого, вступавшего на престол монарха обращались все взоры с любовью и надеждой. Муза Державина воспела хвалебный гимн. Все оживились, все воспрянули духом, все свободно вздохнули.
Страстное, благородное сердце непонятного труженика-страдальца успокоилось навеки. Мало кто оплакивал знаменательную, мрачную судьбу его. Все добро, которое в нем вмещалось, на глазах людей превратилось во зло. И этим злом долго была омрачена его память, пока, наконец, с течением времени далекие события не стали озаряться ясным, спокойным светом, пока злоба дня не стала превращаться в историю.
Время проходило, и одно за другим исчезали с жизненной сцены лица, появлявшиеся на страницах этого рассказа.
Почти одновременно с кончиной государя царское семейство понесло новую утрату. Вдали от родины, в Вене, скончалась Александра Павловна. Предчувствие ее исполнилось, она не возродилась к жизни, она медленно умирала четыре года.
Густав не вернулся к ней и своими безумными поступками, своим легкомыслием, взбалмошным характером приготовил себе печальную будущность. Великая княжна о нем не осведомлялась, она знала, что волшебный сон ее прошел навсегда. Она окончательно примирилась с мыслью о том, что жизнь ее кончилась, о том, что она умирает — и только изумлялась тому, как невыносимо долго происходит это умирание. Теперь она уже больше не волновалась и не плакала, тоска ее была тиха. Она на вид казалась даже совсем спокойной, и только временами блуждающий, рассеянный взгляд ее кротких глаз мог указать на то, что она живет совсем в особом мире, живет своей внутренней, никому не понятной жизнью.
И дожила она этой жизнью до конца 1799, когда покорно исполнила волю своих родителей, пошла под венец с Иосифом, Палатином Венгерским, эрцгерцогом Австрийским. На этот раз все устроено было без особых затруднений. Вопрос о вероисповедании великой княжны не явился препятствием. Православные австрийские подданные праздновали радостную весть о бракосочетании эрцгерцога с единоверною им русскою великою княжною. Покидая Россию, великая княжна вышла из своего спокойствия, из своей апатии. Она горько плакала и терзалась, прощаясь с родными. Ведь она прощалась с ними навсегда; злая смерть, так долго ее томившая, не захотела дать ей возможности умереть на родине. Она уехала умирать в далекую, чуждую землю, умирать, не чувствуя перед смертью ласк матери, не видя вокруг себя ни одного близкого и любимого лица.
В императорском австрийском семействе, к которому она теперь принадлежала, она встретила вражду. Императрица Терезия возненавидела ее с первого же дня и стала подвергать ее самым невыносимым оскорблениям. Александра Павловна все выносила, никто никогда не услышал от нее ни единого слова жалобы или упрека. Она продолжала умирать. Чем больше терзаний, тем больше обид и оскорблений, тем лучше. Авось, наконец, смерть сжалится над нею и скоро возьмет ее. И смерть сжалилась — четвертого марта 1801 года она скончалась, хотя накануне еще доктора уверяли, что она вне всякой опасности. Причина ее смерти осталась тайной, о которой много говорили и судили в свое время и которую так и не разгадали…
Человек, легкомыслие которого было одною из первых причин несчастья Александры Павловны, — князь Зубов, избежал-таки должного наказания за все свои грехи, за все то зло, какое он сделал в жизни. Впрочем, избежал ли? Верно решить вопрос этот было бы можно, только заглянув в его душу, а в душу его никто не заглядывал. Мы можем только указать на внешние обстоятельства дальнейшей судьбы его.
По приказу Павла Петровича, выехав из Петербурга за границу, он путешествовал по Германии. И всюду же он производил самое лучшее впечатление, изумлял всех своей обходительностью, любезностью, словом, теми качествами, которых именно и не было в нем в дни его величия. Оказалось у него теперь и нежное сердце. Он начал с того, что возил за собою какую-то очень хорошенькую особу, переодетую камердинером. Но затем эта хорошенькая особа исчезла. Он в Теплице влюбился в красавицу эмигрантку Рош Эмон, но вскоре распростился с нею и принялся ухаживать за молодыми курляндскими принцессами, очень красивыми и очень богатыми. На одной из них он намеревался жениться, но герцог Курляндский, помнивший прежнее надменное отношение к нему Зубова, не поддался и отказал ему в руке своей дочери. Тогда Зубов намеревался насильно похитить принцессу. Герцог, как уверяли, послал жалобу государю, и Зубов получил в скором времени приказание вернуться в Россию и поселиться в одном из своих поместий в Литве.
Однако и здесь ему пришлось прожить недолго, счастье продолжало ему улыбаться. Благодаря Суворову, дочь которого была замужем за его братом Николаем, ему разрешено было вернуться в Петербург, и еще раз Павел Петрович простил его. Чтобы добиться своих целей, светлейший князь Платон Александрович предложил руку и сердце дочери нового графа, Ивана Павловича Кутайсова, и тот, польщенный этим, стал за него ходатайствовать перед государем. Зубов был назначен шефом первого кадетского корпуса.
Но, несмотря на новые милости государя, в нем по-прежнему кипела злоба, и он оказался до конца в числе непримиримых тайных врагов его…
В начале царствования императора Александра Зубов уехал навсегда из Петербурга и поселился в одном из своих имений, Янишках, где прожил до самой своей смерти, которая долго его щадила. Здесь, в деревне, этот «дней гражданин золотых, истый любимец Астреи», по свидетельствам людей, близко знавших его в то время, явился в новом виде. Обладая громадным состоянием (у него было до тридцати тысяч душ крестьян, не говоря уже о весьма значительных денежных капиталах и всевозможных драгоценностях), он стал отличаться болезненной скупостью. Он сам, не доверяя никому, входил во все мельчайшие подробности своего хозяйства, торговался с жидами, умел обманывать даже их. Сколачивая деньги — а он не признавал иных денег, кроме звонкой монеты, — он свозил свои капиталы в подвалы своего замка. Бочонки с золотом и серебром хранились в этих подвалах. Платон Александрович в праздничные дни сходил в подвалы и по целым часам любовался блеском этого золота и серебра… Было чем любоваться — после его смерти одних серебряных рублей оказалось на двадцать миллионов.
И чем старее он становился, тем скряжничество его развивалось больше. Он даже начал плохо одеваться. Никто не видал его веселым, он всегда глядел мрачно и подозрительно, произнося, кстати, фразу, сделавшуюся его любимой поговоркой: «Так ему и надо, так ему надо!»
Он стал бояться смерти. При нем никто не смел говорить о покойниках. А, между тем, он быстро разрушался. Ему было немногим более пятидесяти лет, но он имел вид дряхлого старика…
За полтора года до своей смерти Зубов отправился на конную ярмарку в Вильно и встретился там с молоденькой, хорошенькой полькой Валентинович. Она была дочь бедной вдовы, которая приехала в Вильно хлопотать о каком-то деле. Панна Фекла Валентинович заронила в сердце старого скряги искру чего-то, похожего на страстное чувство, и он, недолго думая, пожелал купить дочь у матери за деньги. Его предложение было отвергнуто, но панне Фекле улыбнулась мысль сделаться светлейшей княгиней и владетельницей огромного богатства.
Она начала кокетничать с Платоном Александровичем и повела дело так ловко, что князь сделал ей предложение и женился. Всего год прожил он с женою и, вероятно, этот год не был из счастливых в его жизни…
Федор Васильевич Ростопчин, вместе с Кутайсовым получивший графское достоинство, неутомимо работал почти во все кратковременное царствование императора Павла. Но незадолго до кончины государя, несмотря на все свое искусство и умение пользоваться минутами, он вдруг впал в немилость и должен был выехать из Петербурга. Затем мы его видим в качестве одного из крупных деятелей 1812 года. Конец его жизни был тихий и скромный. Он доживал в Москве, удаленный от дел, уважаемый некоторыми современниками, порицаемый многими. У ближайших потомков о нем составилось самое противоречивое мнение. Но в настоящее время опубликована, между прочим, его многолетняя переписка с графом Воронцовым. Переписка эта полна интереса, ярко освещает многие из событий нашего исторического прошлого. Ярко освещает она и образ самого автора, образ талантливого, горячего и желчного человека, сделавшего много полезного и хорошего, сделавшего много ошибок, и, как бы то ни было, не бесследно поработавшего в жизни…
Остается сделать несколько последних слов о людях, не записавших своего имени в историю, но переживших вместе с историческими деятелями многие важные события.
Сергей Горбатов и Таня, несмотря на милостивое письмо к ним императрицы Марии Федоровны, несмотря на грустное письмо Екатерины Ивановны Нелидовой, которая после смерти своего несчастного друга оставалась в своей «келье» и молилась о душе его, — не поехали в Петербург. Если они и прежде ненавидели этот город, то теперь он был для них просто страшен. И как-то так само собою сложилось, что с Горбатовым повторилась судьба отца его.
Год проходил за годом, понемногу начали стариться и Сергей Борисыч, и Татьяна Владимировна. Прошлое им казалось далеким сном. И с каждым годом все больше и больше ощущали они связь с этим прошлым. Прежняя Таня — теперь уже странно было называть так эту красивую, величественную женщину, — посвящала все свои силы, все свои знания, приобретенные во время гатчинской жизни, своим двух подраставшим сыновьям.
В их воспитании и образовании для нее открылись широкие цели, целый новый мир радостей и горя. И во всяком случае, жизнь ее была полна теперь, и она не желала себе иного удела.
Карлик Моська, хотя горбатовская дворня и считала его по-прежнему бессмертным, дряхлел с каждым годом, но все еще сохранял ясность мыслей и свежесть чувств. Он обожал «крошек», как называл Бориса и Владимира Горбатовых, которые давно уже были более чем вдвое выше его ростом. Он молился на свою золотую Татьяну Владимировну. Он по-прежнему «ходил около Сергея Борисыча» и по-прежнему журил его и распекал даже гораздо чаще прежнего. А забираясь в свою тихую комнатку, где вечно пахло, мятным квасом, где на стенах красовались старые, засиженные мухами лубочные картины, изображавшие адские мучения, он вспоминал пережитые бедствия. Вспоминал и благодетеля государя. Его совсем сморщенное, испещренное глубокими морщинами личико сморщивалось и съеживалось еще больше, на потухающие глаза навертывались слезы. «Упокой, Господи, душу раба твоего царя Павла!» — шептал он, падая перед кивотом с иконами. И, быть может, никто так горячо не молился, за исключением далекой Екатерины Ивановны, об этой многострадальной душе, как старый карлик.
Менее всех счастлив в роскошном горбатовском доме был сам хозяин, «вольтерьянец», как упорно все продолжали называть его.
Хотя и спокойный духом, он чувствовал иногда тягость жизни, в которой не было ясной, определенной цели. Он понимал, что цель могла бы явиться, — ведь под его властью около сорока тысяч душ крестьян, ведь это все живые люди, о которых он когда-то пророчествовал Ростопчину, что придет время, когда эти люди будут свободны.
Но тогда наивный юноша верил в осуществление своих прекрасных мечтаний, — теперь человек, уже переживший вторую половину жизни, переставал верить грезам.
Мы еще встретимся с нашим «вольтерьянцем» в глубокой старости, во дни, когда будут действовать новые люди, когда его дети будут приобретать житейский опыт, который так мало пользы принес отцу их…
1882
Старый дом
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I. СВОИ
В одной из самых уютных и красивых комнат старого петербургского дома Горбатовых у маленького столика, на котором был сервирован утренний чай, сидели хозяева — Владимир Сергеевич Горбатов и жена его, Екатерина Михайловна, рожденная графиня Чернова. Владимир Сергеевич, статный и красивый молодой человек лет двадцати шести, удобно раскинулся в низеньком мягком кресле. Его мундир гвардейского офицера был расстегнут, и высочайший воротник, поднимавшийся с двух сторон, скрывал почти половину его свежих гладко выбритых щек, на которых оставалась только маленькая полоска искусно выведенных по моде того времени, у самого почти уха, бакенбард. Молодые тонкие усы были немного подвиты и закручены. Блестящие черные волосы взбиты со всех сторон и зачесаны наперед. Все лицо его, вся высокая, но уже, несмотря на молодые годы, очень полная фигура, делали из него красавца-гвардейца, на которого часто заглядывались женщины. Выражение его темных глаз уловить было трудно, так как он, по привычке, очень часто держал их полузакрытыми.
Катерина Михайловна, или Катрин, как называли ее родные и друзья, молоденькая женщина, лет двадцати, не больше, была похожа на «прелестную птичку», по мнению петербургского света. Маленькая, стройная, с хорошенькой белокурой головкой, с кокетливо приподнятым носиком и бледными, немного влажными глазами, она чрезвычайно нравилась старикам и юношам. Ее утренний туалет, отделанный по последней моде, свежий и изящный, мог бы выдержать какую угодно женскую критику. Маленькие узенькие ножки, выглядывавшие из-под тяжелой, но мягкой шелковой материи платья, были обуты в хорошенькие светлые парижские туфельки и заманчиво выделялись на темном бархате подкинутой мужем к ее креслу подушки. Катрин около трех лет была замужем. Она уже подарила своему мужу первенца-сына, но, несмотря на это, по крайней мере с первого раза, имела вид наивной девочки. Однако по тому, как относились друг к другу, как беседовали между собою молодые супруги, можно было заметить, что в них еще осталось и воспоминание о счастье медового месяца. Когда их взоры встречались, они ничего не передавали друг другу этими взорами. Катрин лениво прихлебывала чай из саксонской чашечки, лениво намазывала масло на тоненькие ломтики хлеба. Владимир Сергеевич по временам позевывал и потягивался.
— Ты отправляешься куда-нибудь, Владимир? — спросила Катрин.
— Конечно, видишь… я в мундире. Сегодня у меня служба, до обеда домой не вернусь. А ты что будешь делать?
— Ах, Боже мой, — протянула она, — как будто у меня мало дел, мало хлопот!.. Ты будто забыл, что у нас завтра бал…
— Я не забыл, но какие же у тебя хлопоты? Распоряжения все сделаны, все устроено, приглашения разосланы. О чем же еще хлопотать — не понимаю!
Она только пожала плечами, сделала полупрезрительную минку и ничего не ответила. В это время в соседней комнате послышались торопливые шаги, и из-за спущенной дверной занавески выглянула сияющая, улыбающаяся, благообразная фигура молодого лакея. Владимир Сергеевич взглянул на него и поморщился.
— Это еще что такое, Степан?! — сурово произнес он. — Без звонка, без спроса врываться сюда, когда раз навсегда сказано… Чего тебе надо?!
— Барин приехал, барин! — торопливо, почти задыхаясь, выговорил Степан, дрожа от волнения и не замечая сурового тона, с которым его встретили.
— Какой барин?
— Наш барин, наш, Борис Сергеевич… Идут сюда!..
И не успели они еще удивиться, как в комнату вбежал и с радостным криком: «Брат!» — обнял Владимира Сергеевича молодой человек, в котором было очень мало с ним братского сходства. Борис Горбатов был на год старше Владимира, но казался моложе его. Он был ниже ростом, худощав. Партикулярное, заграничного фасона платье прекрасно обрисовывало его стройную фигуру. Густые каштановые волосы были зачесаны назад и теперь находились даже в значительном беспорядке. Живые светлые глаза радостно блестели. На бледной тонкой коже лица вспыхивал и тотчас же пропадал слабый румянец. Все это молодое лицо, с тонкими, породистыми чертами, с почти детской, радостной, блуждающей улыбкой, постоянно меняло свое выражение; оно иногда становилось неотразимо привлекательным. Крепко обнявшись и расцеловавшись с братом, Борис Сергеевич поспешил к невестке, взял ее за обе руки и целовал их, повторяя:
— Belle comme le jour, belle comme toujours!..
— Ах, друзья мои, да как же я рад вас видеть! — крикнул он, отрываясь от невестки, опять подбегая к брату и, наконец, опускаясь в кресло.
— А батюшка, а матушка?! Неужели не приехали? Я ожидал их уже застать здесь. Как же вы живете, милые? Что Сережа? Я так себе живо его представляю… Покажите же вы мне его поскорее!..
— Заговорил совсем… Дай же вздохнуть! — с легкой улыбкой произнес Владимир.
— Boris, je vous verse une tasse de the, — своим тоненьким голосом проговорила молодая хозяйка, подсаживаясь к столику.
Лицо ее вовсе не выражало радости свидания — оно ничего не выражало.
— Mersi, Catherine, я с удовольствием выпью и даже съем что-нибудь — проголодался.
— Да объясни же прежде всего, каким образом ты явился? — сказал, подходя к брату и поглядывая на него своими полузакрытыми глазами, Владимир. — Мы ждали тебя не раньше как через неделю. Отчего ты не прислал ни письма, ни депеши с нарочным, чтобы тебя встретить и выслать экипаж?
— Да, видите ли, я и сам не знал, сколько времени пробуду в Варшаве… К тому же я не люблю этих встреч, шуму… Приехал, вышел из дилижанса, сел в наемную карету — и здесь. Так гораздо лучше… Относительно вещей своих тоже распорядился, да их со мною и немного, а большой мой багаж прибудет не раньше как через неделю… Но что же это наши?.. Каким это образом их здесь нет? Я ведь наверно рассчитывал… Они мне писали в Берлин, что непременно я их уже застану в Петербурге.
— Они и нам писали, что собираются. Вот больше месяца собираются, да когда-то будут?! — произнес, совсем почти закрывая глаза, Владимир. — Я думаю, нескоро выберутся, для них ведь это целое событие — приехать в Петербург.
— Ах, как это обидно! — повторил Борис. — Так я, пожалуй, вот что сделаю, если они еще станут мешкать: я сам поеду в Горбатовское и привезу их силой. А что же Сережа? Где он? Да покажи мне его наконец, Катрин?
— Успеешь, он теперь, верно, спит… Вот чай, вот масло! Я сейчас велю готовить завтрак…
Она протянула руку к сонетке и позвонила. Борис с аппетитом принялся за хлеб, масло и чай. Потом вдруг оглядел себя:
— Боже мой, простите, ведь я совсем грязный с дороги!
— Какие комнаты прикажешь тебе приготовить? — спросил Владимир. — Извини, мы не ждали, я сейчас позову Степана, распорядись сам, какие комнаты.
— Да все равно, лишь бы не стеснять вас.
— Вот странно, — пожал плечами Владимир, — приехал барин, барин par excellence, как сейчас возвестил Степан… Дом твой — выбирай какое угодно помещение!
Борис с изумлением взглянул на брата.
— Что ты говоришь? Что такое — дом твой? И ты, и я — мы, кажется, одинаково у отца с матерью в доме… Но я был бы очень огорчен, если бы чем-нибудь стеснил вас. Я не знаю, как вы разместились. Мне многого не нужно — две комнаты, и все тут! Только скажи, какие вам совсем, совсем не нужны, туда я и велю снести свои вещи.
— Покажи ему, Катрин! А мне пора.
Владимир взглянул на часы, пожал руку брату, приложился губами ко лбу жены.
— Прикажешь известить Петербург о твоем приезде? — спросил он, останавливаясь у двери и повертывая свою красивую голову с полузабытыми глазами, крепко подпираемую высоким воротником мундира.
— Кому это интересно?! Кто меня тут знает?
Владимир вышел, поправляя шарф вокруг своей талии.
— Et bien, Boris, je suis a vorte disposition, — слабо улыбнувшись, сказала Екатерина, — пойдемте!
Он встал. Она оперлась на его руку, и они пошли длинным рядом нарядных комнат.
— Если тебе все равно… Не поместишься ли ты внизу, в комнатах за бильярдной?
— Ах, Боже мой, Катрин, да веди куда хочешь, мне везде будет хорошо под этим кровом!..
Они сошли с лестницы, прошли в комнаты за бильярдной.
Эти комнаты были несколько запущены, в них, очевидно, редко кто заглядывал. Было холодно, даже как будто пахло сыростью. Но Катрин ничего этого не заметила. Она приказала нести сюда вещи Бориса Сергеевича. Потом, отпустив его руку, сделала ему маленький грациозный книксен, улыбнулась ничего не выражавшей улыбкой, шепнула:
— Я тебя жду через час к завтраку, тогда и Сережу покажу…
И скрылась, шурша длинным треном своего утреннего платья.
Борис остался один среди несколько мрачной, обветшалой обстановки старых комнат. Он присел на старинное жесткое кресло в ожидании своих чемоданов и умыванья. Веселое, счастливое настроение духа, в каком он был до сих пор, вдруг почему-то пропало. Ему стало не то грустно, не то как-то неловко, хоть он не отдавал себе в этом отчета.
II. СМЕРТЬ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА
Наконец внесли чемоданы, а затем появился Степан с полотенцами и другими принадлежностями умыванья.
Этот Степан, расторопный, щеголеватый парень, с некрасивым, но приятным и умным лицом, продолжал, очевидно, находиться в восторженном состоянии по случаю приезда барина.
Он влетел в комнату все с теми же сияющими глазами и блаженной улыбкой. Но вдруг остановился, мгновенно нахмурясь.
— Борис Сергеевич, да что же это, сударь? — смущенно проговорил он. — Зачем же вы тут? Неужто в этих покоях и останетесь?
— Здесь и останусь, Степанушка, — рассеянно ответил Борис.
— Да как же так? Зачем же? Ведь это, почитай, самые негожие покои в доме, тут вот и пыльно, и сыро, и холодно. Извольте-ка, сударь, взглянуть — у стенки-то и по сю пору плесень… Ведь тут у нас что такое было! Страсти!.. Так уж и полагали, что потонем… Чай, слышали… Про наводнение-то наше?
— Как же, слышал…
— Да, сударь, не дай Господи другой раз пережить такого, вспомнить — так дрожь пробирает… Что народу погибло, добра всякого! И не счесть… Вот и у нас — весь ведь нижний этаж затопило, потом была работа! Высушивали, высушивали, а плесень нет-нет и покажется… Насырело… Размокло… Шпалеры-то переменили — да оно вот насквозь… Гляньте-кось… Вот, вот она… Ишь ты: ровно вата… Кабы знать, так топить давно надо было, а то в кои-то веки тут и топили — потому никто не живет, никто не заглядывает.
— Так распорядись, чтобы натопили к вечеру, пыль чтобы хорошенько вымели, кровать мне вот сюда поставь, ширмы… Погоди, вот умоюсь, позавтракаю, так я тебе сам покажу, как все устроить. Здесь мне будет отлично, покойно, — говорил Борис, снимая свой длинный сюртук и засучивая рукава для умыванья.
Но Степан никак не мог успокоиться.
— Как же это? Как же? — повторил он. — Барин домой приехал, а ему словно и места нету, в этаком-то доме… Ведь у нас сколько места! Заняли бы, сударь, ваши покои наверху, там теперь столпотворение вавилонское — завтра бал у нас будет, так все вверх дном перевернуто. Столы карточные в ваших покоях наставлены, для гостей, по приказанию Владимира Сергеевича. Да это пустое! Для столов найдется место — зачем ваши покои занимать! Прикажите, через час времени все сделаю и в лучшем виде вашей милости все устрою, как до отъезда вашего было…
— Оставь, надоел! Сказал ведь: здесь останусь. Тут мне спокойнее будет. Лей больше воды на голову!
Степан замолчал и, схватив большой кувшин с водою, стал помогать барину умываться. Сбежавшее с его лица выражение радости снова вернулось. В малейшем движении его — в том, как он подавал умываться, как он лил воду, как он глядел на барина — видно было, что он прийти в себя не может от радости.
Борис кончил свое умыванье, дал Степану ключ от чемодана; затем они вынули белье, платье. Степан осторожно, заботливо, почти с ловкостью и ухватками опытной камеристки помогал своему господину.
— Ну, Степушка, — говорил, одеваясь, Борис, — вот и опять ты в должности моего камердинера.
— Опять, Борис Сергеич, слава тебе, Господи!
— Да что, может, у тебя тут дело какое?! Ты к чему-нибудь приставлен?
— Никакого, сударь, мне нет дела. Сами знаете, сколько нас в доме народу. Вас вот дожидался да мыкался из угла в угол — тут и все мое дело! А уже теперь дозвольте к службе своей вернуться, ходить за вами.
— Хорошо, я так и рассчитывал. Был у меня в чужих краях француз, честный человек и ловкий, просился, чтобы я взял с собою, а я все же его обратно на родину отправил в расчете на тебя.
Степан даже вздрогнул.
— Признаюсь, сударь, уж как я этого боялся! Иной раз взбредет в голову: а ну как барин вернется, да с немцем каким али там с французом, что тогда будет! Уж вот бы обидели — не перенес бы, кажется, такой обиды. Оно, конечно, я простой человек и у парикмахера-француза, вот как Петрушка, что при Владимире Сергеиче, не был, а Бог даст не хуже его головку вам причешу по самому модному. Высматривал я тут, как это господа знатные одеты да причесаны — в грязь лицом не ударю…
— Не хвастайся, Степушка, нужды в том нету, — ласково сказал Борис. — Ты знаешь, я не привередник. А привычки мои все тебе известны, с детства мы с тобою… в один день и родились. А вот что ты мне скажи — и говори правду. Вы ведь когда приехали из Горбатовского? Месяца три будет?
— Около того, сударь. Да… так оно и есть — вот-с в четверток аккурат три месяца будет.
— Скажи, как там в Горбатовском? Батюшка, матушка здоровы?
— Здоровы, Борис Сергеич, совсем как есть в полном здоровье, как при вашей милости были. И все в Горбатовском обстоит благополучно… только вот крестного нету…
Степан вдруг запнулся.
Борис вскочил с кресла, на котором сидел перед туалетным зеркалом, завязывая себе галстук.
— Что?! Что ты говоришь?! Как нет Степаныча! Что же он — умер?!
— Скончался! А разве вы о том неизвестны? — изумленно произнес Степан.
— Когда? И никто не написал мне ни слова!
— Не написали! Вот ведь оно дело какое!.. Видно, огорчать господа не желали, а я-то, дурак, и проболтался сразу, в первую минуту встретил приятной вестью!
— Хорошо, что сказал, зачем скрывать, — говорил Борис, в волнении ходя по комнате. — Бедный Степаныч!.. Когда же это?
— А летом еще, перед самым Успеньем.
— Как он умер? Расскажи!
— Да уж так это нежданно для всех нас было! Оно, конечно, годы крестного большие и сколько ему лет было, про то никто не знает. Только ведь у нас в Горбатовском, вам, сударь, ведомо, испокон веков толковали: Моисей, мол, Степаныч — человек особенный — карлик, и веку ему не будет — все таким останется. Говорили, вон, будто ему за двести лет уже перевалило — да врали, чай?!
— Конечно, врали, — заметил Борис, — кто же это теперь по двести лет живет?! Однако сколько ему лет? Пожалуй, около восьмидесяти было, только ведь он ни на что не жаловался. Какая же такая у него болезнь оказалась?
— Да никакой болезни, сударь; каким был года два тому, таким и остался. Ничего мы в нем не примечали особого. Только вот иной раз слабость с ним будто делалась. Помните, бывало он тихонько и пройти-то не может — все бегает, а тут вдруг выйдет из своего покойчика шажками такими маленькими, потолкует с нами. И голос у него такой слабенький стал: иной раз слово скажет — так даже расслышать трудно. А как лето пришло, все больше в саду перед домом сидел, на солнышке; часов пять сидит — не встает с места. Подойдешь к нему, как господ никого на террасе нет; он рад. Прикажет сесть рядом с собою на скамью. «Сядь, говорит, крестничек». И сейчас о божественном поучает меня. А то частенько о вашей милости говорил. «Что-то, мол, наш Борис Сергеич в чужих краях поделывает?» И чужие края начнет описывать. Все-то он знает, везде был, всяких ужасов на своем веку навидался! Чай, помните, сударь, как он нам про Париж да про революцию их сказывал?
— Как же не помнить! Господи, все помню! Бедный… милый Степаныч!
Борис сморгнул набежавшую слезу.
— Но вот после Спаса, — продолжает Степан, — вижу я, что крестный что-то из покойчика своего не выходит. Стал я частенько к нему заглядывать. И как к нему ни зайду — вижу: молится… целый-то день молится! Я ему и говорю: «Крестный, ты бы в сад вышел, теплынь такая, благодать. А коли неможется или ноги болят — дай я тебя на руках вынесу». А он мне: «Нет, говорит, Степушка, оставь ты меня, дай мне помолиться… Грешен я очень, не замолить мне, видно, грехов моих».
— Грешен! — с печальной улыбкой проговорил Борис. — Да, я думаю, он во всю жизнь свою не согрешил!.. Совсем святой человек был Степаныч…
— Это точно, сударь, — серьезно и торжественно заметил Степан. — Господь Бог ему и смерть праведную послал. Накануне Успенья было… Господа чай кушали… утром, в большой столовой. День был дождливый такой. Я у стола прислуживал. Вдруг гляжу — входит крестный и никакого такого в нем больного и слабого вида; вошел так бодро. Сейчас, как и всегда, у старой барыни у Татьяны Владимировны ручку поцеловал. Потом к Сергею Борисовичу подошел — поздоровался и стал обходить всех. Владимир Сергеич и Екатерина Михайловна тут были… и гости приезжие. Сергей Борисыч сами ему стул возле себя подвинули.
«Садись, говорит, Степаныч, откушай с нами чаю».
Старая барыня ему налили чашку, я подал. Крестный подобрался, вскарабкался на стул да и говорит:
«Спасибо, говорит, золотая моя Татьяна Владимировна, — (ведь он маменьку всегда золотой называл) — спасибо, откушаю я с вами чай в последний раз — проститься пришел».
А Сергей Борисыч засмеялся.
«Как проститься? Куда это ты собрался, Степаныч?»
«На тот свет, говорит, к Богу, отчет в грехах отдать — давно уж пора».
И так сказал это степенно да важно, что ажно мне жутко сделалось. Вижу — и все притихли, смотрят на него. А маменька и говорят:
«Полно, Степаныч, почему такие мысли! Еще, даст Бог, поживешь с нами. Зачем тебе умирать, ведь ты здоров!»
А у самих, слышу, голос дрожит.
«Нет, — отвечает крестный, — не пустые слова говорю, верно сказал: пришел проститься… ныне до всенощной отойду и на суд предстану… Вот чайку выпью — вчера весь день постился. Погляжу еще на вас, мои золотые…»
Да и замолчал. Чай начал прихлебывать, и все так спокойно. Господа сидят кругом… смех до того был, веселые разговоры, а тут ни смеху, ни разговоров. Перешептываются господа, да и опять на крестного смотрят. Допил он свой чай, опрокинул на блюдечко чашку.
«Будет, — говорит, — спасибо, матушка, спасибо, золотая».
Подошел к барыне, ручку поцеловал, барина в плечико — и вышел, бодро так вышел. Стали господа говорить, и Сергей Борисыч и Татьяна Владимировна, что напугал их крестный. Гости и молодые господа успокаивают. Так, мол, старику почудилось, здоров он и жив будет. Только Сергей Борисыч приказали мне сбегать к доктору Францу Карлычу и привести его к крестному. «Сам, говорят, тоже туда сейчас приду». Я скорым манером за Францем Карлычем. Привел его, а у крестного уж барин сидит. О чем они до нас беседу вели — не могу знать, только вижу: у барина глаза как бы немного заплаканы. А крестный сидит в своем маленьком кресельце важно и спокойно. Франц Карлыч начал его расспрашивать. Ощупал всего, ухо к груди да к спине прикладывал, за руку держал, на часы смотрел долго. А потом и говорит:
«Пустое, никакой в нем болезни. Но, само собою — года древние — не то, что молодость. А не только что смерти, даже и болезни никакой не предвидится».
Отпустил барин Франца Карлыча, а сам остался. Я тоже у двери стою. И вдруг вижу- крестный улыбается, так ласково, будто малый ребеночек, — чай, помните — у него улыбка такая была, — улыбается да головой качает.
«Сергей Борисыч, говорит, и к чему это ты немца ко мне призвал, растормошил он меня, старого, даром только. Ну, стану я тебя обманывать! И неужто ты немцу больше моего поверишь… Что он знает?! Что может он знать?! До всенощной не станет меня — это верно. Только ты не горюй, батюшка, чего горевать — радоваться надо. Долго я жил на свете, на покой пора. Оно точно, и мне мысли о суде страшны были, да Господь меня подкрепил верою в Его милосердие, и готовился я, как мог, к ответу…» И вдруг обратился ко мне да и говорит: «Степушка, а ты вот что: сходи к батюшке да скажи — мол, так и так, крестный помирать собирается. Надеялся, мол, сам сходить исповедаться нынче, а завтра, в день Успенья Пресвятой Богородицы, за литургиею причаститься Святых Тайн — да Господь не привел… Не доживу и до всенощной, и идти не могу…»
Сказал это, а сам силится приподняться с кресельца, да тут же и упал назад. Побежал я к батюшке. Тот сейчас же собрался. Крестный долго так исповедывался, потом батюшка приобщил его Святых Тайн. Перенесли мы с барином его на кроватку. Созвал он всех. Весь покойчик его народом наполнился. Барыня Татьяна Владимировна и барин на коленках у кровати стояли. Благословил их крестный, да и говорит таким слабеньким, тихеньким голосом:
«Спасибо, золотые… ждать буду — свидимся». Потом поманил Владимира Сергеевича… и его благословил. Меня благословил тоже и показывает глазами на господ.
«Служи, — это мне он шепнул, — будь слуга верный, себя не жалей».
А потом вас, сударь, вспомнил: «Боречке мой поклон передайте, не привел Бог свидеться. Пошли ему Господь всякого счастья, моему голубчику».
Сказал это, перекрестился, сложил на груди ручки, вытянулся как-то весь, вздрогнул… Смотрим мы — а он уж и не дышит…
И верите ли, сударь, может, с полчаса времени: как все в ту пору стояли, так никто и не шелохнулся! Барыня всплакнула было да и остановилась, слезы вытерла… И никто не плакал… И так это было чудно как-то, тихо так… не умею вам и сказать… будто Бог был с нами…
Степан замолчал. Молчал и Борис.
Ему так живо вспомнилась крошечная фигура карлика, когда-то принадлежавшего императрице Елизавете, потом подаренного Петром III его деду, Борису Григорьевичу Горбатову, карлика, вынянчившего его отца, бывшего всю жизнь его хранителем и другом, сыгравшего большую роль в его тревожной юности, наконец, бывшего пестуном и Бориса и Владимира.
Этот карлик представлялся теперь Борису не слугой и не низким, а уважаемым, любимым другом их дома. С этим карликом соединены были самые лучшие воспоминания его детства. Этот карлик вместе с матерью был его воспитателем. Он внушил ему силою своего убеждения глубокую веру в Бога, которая никогда не покидала Бориса.
Однако пора было прервать эти печальные и милые воспоминания — Катерина Михайловна, верно, уже ждала с завтраком.
Борис направился к двери.
— Вот, сударь, — сказал Степан, вдруг подходя к нему и глядя на него как-то странно светящимися глазами, — крестный завещал служить, себя забывать для господ… Я стараюсь… видит Бог… Только, Борис Сергеич, ведь вы мой настоящий и единый господин… дозвольте же навсегда нераздельно служить вам. А я… (голос его задрожал) я жизнь свою положу за вас!..
— Знаю, Степушка! — тоже совсем растроганный проговорил Борис.
И вдруг, богатый и знаменитый барин, наследник знаменитого, прославленного историей имени, и крепостной раб невольно, в общем порыве обнялись как братья.
III. ПТИЧКА
Когда Борис вошел в столовую, его невестки еще там не было. Но стол уже был сервирован на два куверта, и два почтенного вида официанта, обшитые позументами с вытесненными на них гербами, бережно держали блюда, прикрытые серебряными крышками, из-под которых пробивался пар, приятно щекотавший обоняние. При входе Бориса лица этих официантов вдруг оживились. Оба они, будто сговорившись, быстро поставили блюда на стол и кинулись к Борису, ловя и целуя его руки.
— Борис Сергеич, слава тебе, Господи, дождались мы тебя, сударь! В добром ли здоровье?! — радостно говорили они.
В это время из соседней комнаты донесся голосок молодой хозяйки. Официанты отбежали от Бориса, снова каждый бережно поднял свое блюдо и вытянулся в струнку. Катрин вошла в столовую уже в новом, еще более изящном туалете.
— Надеюсь, я не заставила тебя ждать, Борис, я очень спешила переодеться, помня, что ты голоден. Мы никогда так рано не завтракаем. Подавайте! — обратилась она к официантам, присаживаясь у стола.
Крышки с блюд были сняты. Произведения горбатовского повара, искусство которого было известно всему Петербургу того времени, появились во всей своей привлекательности, способной возбудить аппетит даже в сытом человеке. А между тем Борис мало обращал внимания на эти чудеса кулинарного искусства.
Катрин заметила это.
— Что же это значит? — сказала она. — Ты почти ничего не кушаешь.
Она пристально на него взглянула.
— Да у тебя совсем расстроенное лицо?!
— Невеселую новость я здесь встретил, — тихо отвечал он. — Степаныч скончался… и никто и не известил меня об этом…
— Кто же это теперь поспешил огорчить тебя — наверное, Степан?
— Да, он все рассказал мне.
— Ты как будто упрекаешь, что мы не известили; но это было решено еще в Горбатовском на общем совете, mon père и ma mère так решили. Зачем было тебя тревожить! Хотя я, право, изумляюсь такому твоему огорчению, которое даже лишает аппетита… Ведь он был очень стар, ваш карлик, и потом, ведь он же тебе не отец, не брат, он был только слуга. Право, это изумительно! Вы все… и mon père… и ma mère тоже…
Борис с изумлением глядел на нее. Она продолжала.
— Этот ваш карлик просто отравил мне целое лето! Он был такой несносный, иногда даже груб. Да, серьезно, он просто мне дерзости делал! А за ним ухаживали, как за большим барином. А когда умер, так ведь это такой мрак во всем доме сделался… ни с кем слова сказать нельзя было, даже Владимир, несмотря на все свое благоразумие, заразился общим настроением. Я не знала, куда мне деваться… и, главным образом, вследствие этого поторопила наш приезд сюда.
— Тебе, пожалуй, простительно, Катрин, изумляться отношению нашего семейства к этому человеку, но все же ведь ты знаешь, кем он был и для отца, и для матери, и для нас.
— Знаю, рассказывали мне разные истории, приключения этого карлика. Но, насколько я понимаю, он всегда только вмешивался в жизнь господ и все путал…
— Лучше перестанем говорить об этом, — перебил ее Борис, — я приехал не затем, чтобы ссориться с тобой.
— А ты можешь со мной поссориться из-за такого вздора?
— Очень могу.
Катрин надула губки.
В это время в столовую вошли две нянюшки, ведя за руки крошечного годовалого мальчика, который быстро переступал толстыми ножонками, то и дело закидывая назад темную курчавую головку и звонко выкрикивая все одно и то же, но совсем непонятное слово.
Борис встал, шумно, отодвинув свой стул, и через мгновение был уже на корточках перед ребенком, принимая его от нянек и повторяя:
— Вот он какой, вот!
Мальчик сразу изумился, испугался даже, отбросился назад. Хотел было закричать, но, не докончив и первой отчаянной нотки, вдруг рассмеялся, пуская пузыри своими сочными губками. Он нисколько не сопротивлялся, когда Борис, крепко обхватив его, высоко поднял над собою и потом стал целовать, щекотать и тискать.
— Вот так, вот так, — приговаривал он, — с первой же минуты познакомились, и друзья, и понимаем друг друга! Ведь правда, Сережа? Ах, да какой же ты милый! Какой умный, какой хорошенький!
И он опять целовал его, щекотал и тискал. Мальчик смеялся, отдувался и уже запустил обе толстенькие ручонки с ямками и перехватами в густые волосы дяди.
Это была такая прелестная сцена, что даже Катрин перестала сердиться и глядела, ласково улыбаясь.
— Да перестань, ведь ты его задушишь! Право, ты сам еще совсем ребенок!
Наконец Борис передал мальчика нянькам. Катрин подошла к сыну, поцеловала его, пригладила ему волосы и произнесла своим тоненьким, но властным голоском:
— Уведите!
Няньки и ребенок исчезли.
— Вот это хорошо! — сказал Борис, снова принимаясь за завтрак.
— Что хорошо?
— Хорошо — такой ребенок!
— Конечно, недурной! — не без некоторого самодовольства заметила Катрин. — Но если бы ты знал, сколько теперь уже с ним хлопот… Что же дальше будет?!
— Разве ты тяготишься этими хлопотами?
— Нет, конечно, нет. Я так только сказала. Однако, Борис, — прибавила она, — я все жду, когда ты станешь рассказывать. Ведь два года прожил в чужих краях, ведь много интересного?
— Подожди, все, что тебе может быть интересно, узнаешь. А сразу так — приехал и начинай рассказывать, этого я совсем не умею. Вот ничего даже на ум не идет, что бы такое тебе рассказать.
— В таком случае пойдем, я тебе покажу наши приготовления к завтрашнему балу. Ведь у нас бал завтра. Пойдем в большую залу, там теперь устанавливают растения. Я хочу, чтобы вся зала была в зелени. Сейчас проходила, больше половины уже готово — и это очень красиво!
— Пойдем!
Они направились в залу, которая, действительно, представляла теперь подобие сада. Громадные экзотические растения высились почти к самому потолку.
— N'est ce pas que c'est gentil? — говорила, любуясь, Катрин.- Puis il y aura des fleurs… des fleurs partout! Я нарочно выжидала и до сих пор не делала бала для того, чтобы наш бал был лучшим в эту зиму.
Она оживилась. Глаза ее заблестели. Она защебетала, не умолкая почти ни на минуту, и сделалась совсем похожей на «птичку». Из залы они стали обходить комнату за комнатой. Катрин показывала прекрасную бронзу, японские вазы и другие вещи, купленные в отсутствие Бориса. Она с наслаждением доказывала, что вот таких канделябр, за которые заплачена баснословная сумма, нигде нет и что такая и такой-то завтра с ума сойдут от зависти, когда их увидят.
Вообще она была вся в завтрашнем дне: он должен был доставить ей торжество, и о нем долго будут говорить в Петербурге.
Борис слушал ее рассеянно, иногда даже не слыша того, что она говорила. Ему становилось очень скучно. Он начинал чувствовать усталость, у него почти кружилась голова от этого несмолкаемого щебетания. На его счастье, Катрин доложили о каком-то визите. Она сделала, обращаясь к Борису, мину, обозначавшую: «Как это скучно!» — и, радостная и сияющая, упорхнула в одну из гостиных.
Скоро вернулся домой Владимир. Отыскав брата, он взял его под руку и повел в свой кабинет, огромную комнату, заставленную разнообразной дорогой мебелью и совсем не указывавшую на род занятий ее хозяина. На письменном столе лежало достаточное количество бумаги, но бумаги чистой. Лежало несколько книг, но не разрезанных.
— Знаешь, — сказал Владимир, — ко мне подошел великий князь, и я ему сообщил о твоем приезде. Он был очень милостив, велел тебе кланяться и спрашивал, что ты намерен делать.
— Что же ты ему ответил?
— Что ты намерен служить, продолжать начатую службу, запасшись в чужих краях новыми знаниями и опытом. Что же иное я мог ответить?! Да и, надеюсь, — я сказал правду? Ведь не думаешь же ты выходить в отставку, ты уже и так потерял много времени — целых два года!
Борис неопределенно улыбался.
— А ведь я еще не знаю, — проговорил он, — быть может, и в отставку выйду — там видно будет. Меня служба что-то не тянет при теперешних обстоятельствах.
— Да, обстоятельства тяжелые… Аракчеев доходит до последнего; но служить все же надо, надо делать карьеру — да и обстоятельства могут перемениться.
— Могут перемениться! — задумчиво повторил Борис. — От этого я и говорю: там видно будет. А как твои дела — кажется, хорошо?..
— Недурно, — самодовольно сказал Владимир, — понемногу подвигаюсь. Да, я вижу, что моя женитьба, действительно, принесла мне пользу: без помощи родни Катрин мне было бы трудно пробиться. Отец никогда не подумал о том, что ему следовало, если уж не для себя, то хоть для нас, поддерживать прежние связи.
Борис вспыхнул.
— Отцу об этом нечего было думать, — сказал он. — Он много думал о нас, сохранив для нас незапятнанным старое честное имя и богатство наших предков.
— Да, конечно, конечно, — перебил Владимир, — я ни в чем его не обвиняю… Он меня не стесняет средствами.
И вдруг их разговор замер. Обоим стало неловко. Эти неловкости часто появлялись между ними в разговорах с глазу на глаз и появлялись уже давно, с тех пор как они вышли из отроческих лет.
— Как ты нашел Катрин? Как нашел мальчика?
— Мальчик твой — прелесть! И ты очень счастливый человек!
— Тебе никто не мешает быстро достичь такого счастья, — заметил Владимир.
Но Борис будто не расслышал этого замечания и продолжал:
— А Катрин — что же я могу сказать тебе? Она еще похорошела… Она, кажется, очень довольна и счастлива?!
— Да, вероятно, она счастлива, я, по крайней мере, ее счастью не мешаю…
И опять им стало неловко.
IV. БАЛ
Катрин торжествовала. Она достигла своей цели. Ее бал, без всякого сомнения, будет признан самым блестящим балом сезона. Напрасно бы ее враги и недоброжелатели (она думала, что таких у нее много) старались к чему-либо придраться, что-нибудь осудить, найти в чем-нибудь недостаток — придраться положительно было не к чему…
Старый дом Горбатовых, со своими анфиладами величественных комнат, изукрашенный, весь наполненный предметами роскоши и вкуса, ярко горел бесчисленным количеством свечей и карселей. В огромной зале, с эстрады, скрываемой тропическими растениями, уже время от времени раздавались отрывистые звуки настраиваемых инструментов. Танцы еще не начинались.
Толпа блестящего общества с каждой минутой прибывала и наполняла парадные комнаты. Матовая белизна обнаженных женских плеч, блеск драгоценных камней перемешивались с золотом военных мундиров, со звездами и лентами.
Здесь собралось все высшее общество столицы.
Молодой хозяин не сходил со своего поста, встречал гостей. И, глядя на него, сразу можно было убедиться, что он исполняет свои обязанности с полным пониманием дела. Встречая без исключения всех улыбками и любезными фразами, он, тем не менее, придавал этим улыбкам и фразам бесчисленное разнообразие оттенков. Каждый и каждая получали от него именно то, что заслуживали — по крайней мере, по его мнению. От фамильярного кивания головы, от торопливого, немножко небрежного протягиванья двух пальцев он переходил к сдержанному поклону, полному чувства собственного достоинства. Затем вдруг совсем расцветал и благодарно взглядывал своими то и дело полузакрывающимися глазами на какого-нибудь сановника или высокопоставленную даму. Он шептал о том, как счастлив видеть их у себя в доме, со скромностью умного молодого человека, сознающего свою молодость.
Юная хозяйка тоже хорошо изучила науку приема гостей по рангам. Она щебетала, как птичка, рассылая направо и налево детские невинные улыбки. И только краска, то вспыхивавшая, то потухавшая на ее щеках, и быстрый, неспокойный взор, время от времени бросаемый ею по направлению ко входным дверям, указывали на ее волнение. Да, она сильно волновалась! Перед нею стоял мучительный вопрос: будет кто-нибудь из высоких гостей или не будет?.. Удача или неудача? Жизнь или смерть? Еще четверть часа — и все решится: или полное торжество, или все труды и заботы пропали даром. Еще четверть часа — и, Боже мой, ведь она, пожалуй, будет побеждена врагами, будет осмеяна, чуть ли не опозорена.
Вот будто какое-то движение там, впереди, откуда она ждет спасенья или гибели. Она вся насторожилась, слушает, смотрит. Сердце ее так и стучит под низко вырезанным корсажем прелестного парижского бального платья. Грудь ее высоко поднимается. Даже обнаженные нежные плечи нервно вздрагивают, приводя в движение массивное бриллиантовое колье, которое так и горит всеми цветами радуги, придавая еще более красоты ее хорошенькому детскому личику. Но вдруг ее взгляд мгновенно потухает, по всем чертам пробегает выражение некоторого разочарования. Однако все же она делает над собою усилие, тут же озаряется сияющей улыбкой и, кокетливо склоняясь, спешит навстречу входящему твердой военной походкой генералу, увешанному орденами и звездами, на ходу потряхивающему густыми эполетами.
— Ah que c'est aimable de votre part, comte, de ne pas nous oublier! — говорит она генералу, протягивая ему руку.
Он еще и еще встряхивает эполетами, склоняется к ее руке, целует ее, причем его старые щеки, подпертые высоким воротником, багровеют, а под нафабренными усами складывается любезная улыбка.
— Vous oublier, madame, — говорит он густым голосом, отвратительно произнося по-французски, — mais c'est impossible… pour chaque mortel!
Он отходит от нее, чтобы не мешать ей приветствовать новых гостей, и, остановившись на мгновение и оглядевшись, идет по направлению к танцевальной зале. Он выставляет вперед свою высокую грудь, украшенную всевозможными знаками отличия, старается придать величественную осанку своей несколько обрюзгшей фигуре, старается изобразить на своем лице важность. Но это ему плохо удается и скоро надоедает. Лицо его принимает мало-помалу обычное добродушное и простоватое выражение. Он ласково отвечает на обращаемые со всех сторон к нему почтительные поклоны; пожимает направо и налево руки иногда даже незнакомых людей. Впрочем, таких здесь мало. За ним идет шепот, его провожают иной раз улыбки, в которых уже не заметно только что выраженной ему почтительности.
А между тем это герой — любимец солдат, гроза врагов, человек, закаленный под градом пуль, закопченный в дыму пороха, русский Баярд, как его называют, — это граф Милорадович. Но герой Отечественной войны во дни внешнего мира, которые оказались далеко не мирными, пожелал отличиться на ином поприще, не задумавшись о том, были ли у него для этого поприща необходимые способности, — теперь он петербургский генерал-губернатор и чуть не ежедневно портит свою блестящую репутацию нераспорядительностью, легкомыслием и даже ленью…
Катрин вся в ожидании. Она ежеминутно взглядывает на часы, которые стоят в нескольких шагах от нее на камине. Она почти сама не понимает, что говорит подходящим к ней мужчинам и дамам.
«Пора, давно пора! — мучительно думает она. — Ведь не может же быть, чтобы не приехали, ведь еще после обеда cousin Nicolas приезжал прямо оттуда и сказал, что собираются… Ну, а что, если вдруг что-нибудь помешало? Мало ли что может помешать!»
Она вспоминает, что вот уже несколько дней, как в придворных кружках говорят о серьезном нездоровье императрицы Елизаветы Алексеевны. «Но ведь тот же cousin Nicolas, который все знает по своему положению при дворе, говорил, что ей лучше, что это вовсе не какая-нибудь определенная и опасная болезнь, а просто общая слабость, в которой поможет перемена климата. Но мало ли что может помешать! Быть может, кто-нибудь нарочно, кто-нибудь из врагов постарался! Ведь вот уже половина одиннадцатого скоро!.. Давно пора начать танцы… Если не приедут… что же тогда?!. Тогда я… я умру!..» — докончила Катрин свои мрачные мысли. Она совсем побледнела. На ее глазах навертывались слезы, у нее начинала кружиться голова.
«Боже! Какое счастье! Они! Они!!.» — едва сдерживая себя, чтобы не крикнуть громко, и внезапно оживляясь, решила Катрин.
В дверях комнаты показался молодой человек в генеральском мундире, с некрасивым, но умным и в то же время добродушным лицом, с ясными глазами, глядевшими зорко и пристально. Он вел под руку стройную, совсем еще юную даму, прелестные черты которой были будто выточены из мрамора. Катрин поспешила навстречу входившим, сделала глубокий, грациозный реверанс. Юная великая княгиня Елена Павловна ей ласково улыбалась, протягивая руку. Михаил Павлович любезно стал извиняться, снимая с себя вину и во всем обвиняя свою молодую супругу.
Катрин нанизывала одну за другой изысканные фразы, перебегая сияющим взглядом с великой княгини на великого князя. Недавнего томления как не бывало, мучительная тяжесть спала с плеч. Она вдруг расцвела своей детской красотой, будто выросла на полголовы и направилась с высокой четой в залу, где их встретили вдруг грянувшие с невидимой эстрады веселые звуки вальса.
Катрин остановилась в победоносной позе, с горделиво приподнятой головой, окидывая быстрым взглядом блестящее собрание. Через минуту к ней подошел великий князь и поклонился ей. Она приподняла свою тоненькую нежную руку, скользнувшую по рукаву его мундира, с детской счастливой улыбкой склонила голову почти к самому его плечу и, легкая, как птичка, помчалась с ним по зеркальному паркету громадной залы. За ними мчались длинной вереницей другие пары.
Все закружилось. Звуки оркестра постепенно усиливались, будто подступали к самому сердцу, рождая в нем какое-то волшебное ощущение. Катрин казалось, что она отделяется от пола, что она несется со своим кавалером и воздушном пространстве, что вокруг нее не хорошо знакомая ей старинная зала горбатовского дома, а тропический лес. Потолок исчезает, открывается бесконечно сияющее пространство. Огромные пальмы склоняются над нею, душистые гиацинты и розы дышат ей навстречу ароматом. Мириады сладкоголосых птиц поют ей свои волшебные песни. И она несется дальше и дальше, выше и выше, впереди воздушного роя сильфид и эльфов.
Но вот она спустилась на землю. Великий князь привычно и ловко придвинул ей легкий золоченый стул. Она опустилась на него, послав благодарную улыбку своему кавалеру, и стала обмахивать веером разгоряченное лицо и плечи. Она мигом забыла и тропический лес, и рой сильфид и эльфов. Она следила за удалявшимся от нее кавалером, отыскивая глазами великую княгиню. Она снова была полна забот и волнений.
Ведь он не пригласил ее еще на первый контрданс. Но он непременно должен протанцевать его с нею: ее самолюбие не может быть удовлетворено этим вальсом.
Вот он подошел к ее мужу. Он протягивает руку Борису, говорит с ним, чему-то смеется. Потом отходит к Милорадовичу и смеется еще больше… Вот он среди дам. Пары танцующих заслонили, ничего не видно. Она приподнимается. Она должна быть ближе, должна быть на глазах, чтобы ее не забыли пригласить.
Но в это время к ней подходит молодой красивый офицер. Опять вальсировать! А отказать невозможно. С едва заметной мимолетной гримасой она легким наклонением головы дает свое согласие. Она опять мчится, но уже не в воздушном пространстве, не среди тропического леса. Ее маленькие ножки, едва касаясь пола, скользят машинально выделывая па, а глаза все ищут кого-то.
— Assez, monsieur, ej suis fatiguée, — шепчут ее губы.
— Pardon, madame!
Слава Богу, великий князь подходит к ней и приглашает ее… на второй контрданс.
На второй! Она бледнеет, голос ее дрожит при ответе, с ней чуть не делается дурно. Но она сдерживается. Она еще горделивее, еще победоноснее поднимает свою головку, а в сердце бушует злоба и беспредметная ненависть.
«С кем же?! С кем же?!.»
V. ЭТО ОНА!.
Между тем великий князь, конечно, никак не мог себе представить, какое оскорбление нанес хорошенькой хозяйке, какой ад возбудил в душе ее. Зная женское самолюбие, он именно хотел поступить так, чтобы ни хозяйка, ни другая высокопоставленная молодая дама не могли считать себя обиженными. Сделав первый тур вальса с Катрин, он затем хотел показать, что здесь, в частном доме, не должно быть этикета и споров за первенство. Он решился танцевать первый контрданс с кем-нибудь, с первой молодой женщиной или девушкой, какая попадется ему на глаза.
Так он и сделал. Обойдя залу, он заметил несколько одиноко сидевшую девушку в довольно простом, но изящном белом наряде. Никакими особенными украшениями эта девушка не постаралась возвысить свою красоту. В ее темные волосы, довольно гладко причесанные, были вколоты две белые розы, на шее скромная жемчужная нить, небольшие жемчужные серьги в ушах — вот и все.
Но в этом скромном наряде она была великолепна. Высокая, стройная, плечи и руки немножко худощавы, но безукоризненных очертаний. Она сидела, опустив маленькую прелестную голову с правильными тонкими чертами нежного, бледного лица. Большие темные глаза ее глядели мягко и задумчиво. На вид ей было года двадцать два, быть может, меньше. Во всей ее прекрасной фигуре можно было подметить не то некоторую болезненность, не то утомление.
«Mais elle est vraiment bien belle», — подумал великий князь.
Он круто повернул, подошел к ней и спросил, свободен ли у нее первый контрданс. Она подняла на него задумчивые глаза, потом встала, причем еще более выказала свой прекрасный рост и грацию, и отвечала ему мелодическим голосом, что она свободна.
— В таком случае позвольте мне танцевать с вами.
Она поблагодарила спокойно и даже, может быть, чересчур равнодушно. Великий князь отошел.
Не прошло и мгновения как она была окружена дамами, за минуту перед тем не обращавшими на нее внимания.
— Mademoiselle Lamzine, qu'est ce qu'il vous a dit, le grand duc?
— Le grand duc m'a engege pour une contredance, — отвечала она тем же спокойным и равнодушным голосом.
— Pour laquelle?
— Pour la première.
Эффект был полный.
«Mademoiselle Lamzine» вдруг сделалась предметом самого нежного внимания. Пожилые дамы стали говорить ей о ее красоте. Молодые глядели на нее с завистью, но в то же время шептали ей нежные фразы. А потом, отходя от нее, передавали друг другу на ее счет такие замечания:
— Однако же ведь это ужасно — больше не существует настоящее общество! Его нигде найти невозможно…
— Да, это правда, всюду втираются неизвестно откуда… des parvenues.
— Какие-то племянницы! Какие-то бедные воспитанницы… Dieu sait qui!
— Хоть бы тетка одела ее прилично, старая скряга! Посмотрите — ведь это просто срам!
— И что в ней находят хорошего?!
— Нет, она красива без спора!
— Какая же красота! Pale, maigre… une vieille fille!
— Старуха говорит, что ей всего двадцать один год.
— Сказать все можно! Я уверена, что целых двадцать пять будет.
— Теперь еще недоставало, чтобы ее фрейлиной сделали!
— Ну, до этого не дойдут, — это было бы уже слишком!!.
«Mademoiselle Lamzine», конечно, не слышала и не подозревала этих разговоров. Она спокойно продолжала отвечать тем, кто обращался к ней с вопросами. И в то же время рассеянный взгляд ее темных, мечтательных глаз ясно показывал, что она очень далека от окружающего и что в ней нет никакого веселья. Иногда только ее тонкие, прелестные черты принимали какое-то странное, не то тревожное, не то испуганное выражение, будто она ждала чего-то, будто чего-то боялась.
Но замолкшие было звуки оркестра снова раздались. Прозвучал ритурнель контрданса. Произошло всеобщее движение. Блестящие кавалеры скользили по паркету, спешили к своим дамам, расставляли стулья.
Великий князь провел «mademoiselle Lamzine» через всю залу среди расступающейся толпы. Катрин несколько справилась с собою и получила хоть то маленькое удовлетворение, что оказалась vis-a-vis с великим князем. Она оглядела его даму быстрым, но глубоко презрительным взглядом, которого та, впрочем, не заметила.
«Вот так выбор!» — думала она. — И зачем это она здесь, по какому праву? Нет, если княгиня Маратова начинает таскать за собою всех своих бедных родственниц и крестниц — так пусть уж извинит… я и ее к себе приглашать не стану!.. Ни за что! Ни за что! Она совсем выживать из ума стала, эта толстая дура, и ее надо проучить… Меня поддержат и другие — я уверена в этом!..
Но в то же время она с досадой видела, что великий князь очень любезно беседует со своей дамой.
«О чем он может говорить с нею?! Чем она может занять его?!» — раздражительно думает она, рассеянно отвечая на вопросы своего кавалера.
Фигуры контрданса начинают сменять одна другую. Великий князь, очевидно, находившийся в самом веселом расположении духа, обращается к Катрин с любезными фразами. Она оживляется, глазки ее начинают сиять. Великолепные бриллианты ее сверкают на голове, на шее и на руках. Она детским голоском нанизывает одно на другие почти ничего не значащие французские словечки. Она мало-помалу проникается сознанием своей красоты, своего блеска — ей становится весело…
Танец окончен. Звуки оркестра замолкли. В зале снова начинается беспорядочное движение…
Великий князь отходит от своей дамы и, встретясь с графом Милорадовичем, берет его под руку и направляется с ним из залы.
— Любезнейший Михаил Андреевич, — говорит он Милорадовичу, — я сейчас вспомнил: мне нужно кое о чем спросить вас.
— Что прикажете, ваше высочество?
— Знаете ли вы, граф, что по городу ходит ужасная клевета на вас?
— Клевета на меня? — изумленно спросил Милорадович.
— Да, да и очень злая. Вы знаете — я терпеть не могу сплетен. Но из любви и уважения к вам должен предупредить вас и при этом узнать, в чем дело. Рассказывают, что в числе различных челобитен, с которыми к вам обращаются как к генерал-губернатору, на этих днях вы получили какой-то вздор… что-то такое… что «бесчеловечные благодеяния вашего сиятельства, пролитые на всех, аки река Нева протекла от Востока до Запада. Сим тронутый до глубины души моей, воздвигнул я в трубе своей жертвенник, пред кем, стоя на коленях, сожигаю фимиам и вопию: «Ты еси, Михаил, спаси меня с присносущными!» Конечно, я могу ошибиться, может быть, там и не совсем так было, но ведь мне дали яко бы копию… и это так глупо и смешно, что я, право, почти наизусть помню… А подпись: «Ямщик Ершов».
Лицо Милорадовича вспыхнуло.
— Никто не может быть избавлен, ваше высочество, от получения подобных глупых и дерзких анонимных бумаг. Я не могу отвечать за то, что прислано в мою канцелярию.
— Но ведь в том, любезнейший граф, уверяют, что на этой челобитной вы собственноручно написали: «Исполнить немедленно». Злая клевета именно и заключается в этом.
Милорадович побагровел еще сильнее.
— Может быть, я и подписал по рассеянности! — вдруг проговорил он. — Да, это возможно! Благодарю, ваше высочество, что вы сообщили мне об этом, — урок хороший!..
— Да, граф, — ласково смотря на своего собеседника, сказал великий князь, — я счел своим долгом… из уважения к вам… Не будьте рассеяны… ради Бога! Я вот вас предупреждаю, а ведь другие не скажут ни слова и будут потешаться. А вы не такой человек. Вы не должны давать над собою права смеяться людям, которые не стоят вашего мизинца!..
— Благодарю вас! Благодарю вас!.. — растерянно шептал Милорадович, сжимая протянутую ему руку великого князя.
Михаил Павлович отошел.
И все видели, как генерал-губернатор, красный и смущенный, что-то бормотал под своими нафабренными усами. Потом он вдруг тяжелым военным шагом пошел разыскивать хозяина, извинился внезапным нездоровьем и в сопровождении адъютанта уехал. Многие изумленно спрашивали друг у друга, что такое случилось с графом. Катрин была опять раздосадована. Она потребовала от мужа объяснений; но тот ничего не мог объяснить ей.
— Да ты бы как-нибудь удержал его… как же можно было выпустить… Ты просто с ума сходишь! — пренебрежительно прошептала она Владимиру.
— Что ж я за фалды, что ли, стал бы его удерживать?! Пойдем лучше к великой княгине, а то и она уедет…
Катрин поспешила исполнить этот совет, будто боясь как бы вдруг, действительно, не уехала великая княгиня. Ей даже начинало казаться, что нет ли он уж, чего доброго, заговора против нее, Катрин? Не участвует ли в этом заговоре и Милорадович? Не потому ли уехал, чтобы сделать ей неприятность?
— Катрин!! — вдруг раздалось над ее ухом.
Она взглянула — перед нею Борис… какой-то странный, бледный, с горящими глазами.
— Чего тебе? Извини, пожалуйста, мне некогда… я спешу!.. La grande duchesse…
— Одну секунду, Катрин! — проговорил он задыхающимся голосом. — Кто это… та дама, которая танцевала против тебя с великим князем?.. В белом…
— Что ж, и ты, что ли, пленился этой Сандрильоной?! Не стоит, мой друг! Une fille de rien, sans nom, sans fortune… une parvenue!
— Кто она? — настойчиво повторял Борис.
— Ах, Боже мой, — протянула она, пожимая плечами, — как ее… Ламзина — что ли?! Какая-то родственница княгини Маратовой.
— Как ее зовут — Ниной?
Даже что-то страшное разглядела Катрин в его побледневшем лице.
— Да, кажется, Нина… отвяжись, пожалуйста!
Она упорхнула. Она не видела, как он весь вздрогнул, как даже покачнулся, будто сильный электрический ток пронизал его. Он несколько мгновений стоял на одном месте, не замечая окружавшего, не уступая дорогу дамам, которые с изумлением на него взглядывали. Потом он вдруг очнулся, провел рукою по лбу и стремительно кинулся через залу, пристально всматриваясь во все стороны. Но он нигде не видел ту, кого искал. Он вышел из залы. Он проходил комнату за комнатой.
«Неужели уехала?! — с испугом, почти с отчаянием думал он. — А что если я ошибся? Что если это не она?.. Но ведь Катрин сказала, что ее зовут Ниной. Опять и это, может, случайно… Да ведь я узнал ее!.. Это ее глаза! В ней могло все измениться, а глаза должны были остаться… И это ее, ее глаза! Тут нет обмана… я их знаю… они всегда передо мною… Это она… она!»
И он искал ее, поспешно проходя из комнаты в комнату, опять возвращаясь в залу, останавливаясь, вглядываясь.
По счастью, все были заняты своим делом и на него мало обращали внимания… Но все же то там, то здесь его провожали недоумевающие взгляды. Его, действительно, можно было принять за помешанного. Никогда еще в жизни не испытывал он такого волнения. Он с утра как бы предчувствовал, что в этот день должно с ним случиться что-то необычайное. Он чувствовал какое-то особенное беспокойство, постепенно возраставшее. Он не мог ничем заняться и почти весь день провел в своих комнатах. Он разбирал и выкладывал из присланных с таможни ящиков вещи и книги, добытые им заграницей. Но ни на чем не мог сосредоточить внимания, не мог ни о чем подумать — мысли тотчас же разбивались, и все вспоминались ему, все светились перед ним эти темные задумчивые глаза, которые грезились ему часто в течение всех лет его юности и которые теперь вдруг он увидел наяву.
«А что если это только призрак, если все это мне только почудилось?! — опять думал он. — И вдруг я увижу эту девушку в белом, эту Нину… и глаза ее будут не те, и она окажется другою, незнакомой мне, ненужной?..»
«Нет, это она… она!» — перебивал он свои сомнения.
Сердце его усиленно билось, дух захватывало. Он опять в напрасных поисках прошел целый ряд ярко освещенных комнат, наполненных нарядной толпой. Здесь были расставлены ломберные столы, шла карточная игра. Он повернул в небольшую гостиную, уютную и полутемную сравнительно с соседними комнатами.
Это была любимая гостиная его матери, с этой комнатой она соединяла лучшие воспоминания своей молодости; в этой комнате когда-то давно-давно она слушала страстные признания своего жениха, разлученного перед тем с нею на многие годы, слушала в то время, как высокий их друг и покровитель, император Павел, устроивший это свидание, поджидал их в смежной библиотеке…
Борис остановился и чуть не вскрикнул. На маленьком диване в глубине этой гостиной он увидел белую фигуру. Чувство восторга, какого-то священного трепета охватило его.
«Это она… она!!»
Она подняла на него глаза. Он не мог уже сомневаться больше. Стремительно кинулся он к ней.
— Нина, я узнал вас… это вы?! — задыхаясь, проговорил он.
Она вздрогнула, поднялась с дивана, вгляделась в Бориса, слабо вскрикнула и схватилась за голову руками. Ее бледное лицо побледнело еще больше. В прекрасных глазах ее изобразилось почти то же самое чувство, какое волновало Бориса.
— Борис! — растерянно произнесла она. — Так вот что должно было сегодня со мною случиться! Вот зачем все это было! Да, я знала, что увижу вас… я ждала вас… в этой комнате…
Она говорила как во сне. Она бессильно склонилась на диван.
— Так вы знали, что меня встретите? Так вы хотели меня видеть?!
— Я ничего не понимаю! — все так же растерянно сказала она. — Я до сих пор не знаю, кто вы… Я только чувствовала, что должна произойти наша встреча именно сегодня, что так суждено… Но зачем… почему нам нужно встретиться снова в жизни — я этого не знаю… Кто же вы?!
— Я?!. Да ведь я вижу вас в моем родном доме… в доме моих родителей… Я только вчера вернулся из двухлетнего путешествия…
Изумление, тревога изобразились на лице Нины. А он продолжал:
— Так, значит, вы не забыли меня? Вы могли меня узнать? Значит, когда-нибудь вы обо мне думали?
— Конечно… и я всегда знала, что мы еще встретимся в жизни. Да, часто… часто я о вас думала… и как же могло быть иначе…
— Сколько мне нужно узнать от вас!.. — перебил ее Борис. — Сколько вопросов!.. С чего начать — не знаю.
— И не начинайте… — слабо улыбнувшись, сказала она, — теперь не время… Ведь мы нашли друг друга — пока довольно этого…
— Мы будем видеться? Ведь да?! — спросил он невольно, будто боясь снова потерять ее, будто боясь, что она, появившись перед ним как видение, как видение и исчезнет.
— Конечно! Пойдемте… вы видите — мы здесь одни… а мы ведь в свете… Я вас провожу к моей тетке и завтра буду ждать вас… Завтра мы поговорим без всяких стеснений.
Она оперлась на его руку, и они пошли через сверкающий ряд комнат, туда, откуда все слышнее и слышнее доносились звуки музыки, где через несколько мгновений весело ликующая толпа окружила их и поглотила.
VI. В МОСКВЕ
Но для того, чтобы понять эту странную встречу и этот таинственный разговор, необходимо вернуться на много лет назад, к знаменательной эпохе двенадцатого года.
Болезнь Владимира заставила Горбатовых в августе двенадцатого года перевезти мальчика, которому нисколько не помогли тамбовские доктора, из Горбатовского в Москву. Сергей Борисович и Татьяна Владимировна, жившие теперь почти исключительно для детей, ни о чем не могли думать, как только о болезни своего сына, тем более что это была какая-то непонятная, странная болезнь. Мальчик несколько раз будто совсем выздоравливал, вставал с постели, у него являлся аппетит, спокойный сон. И вдруг, без всякой видимой причины, без всякой погрешности в диете, за которою следила сама мать, он начинал чувствовать большую слабость, валился с ног. Затем начинался сильный жар, бред — все признаки горячки. Так продолжалось с неделю, потом начиналось видимое выздоровление, за которым следовали еще усиленные припадки болезни.
Необходимо было созвать консилиум известнейших докторов — профессоров Московского университета. Необходимо было дать возможность следить за ходом болезни. Значит, надо ехать в Москву. Времена ужасные! Наполеон со своей разноплеменной армией в пределах России. Он идет к Москве. Ей может грозить опасность неприятельского вторжения. Но разве мыслимо это? Разве это допустят?! Нет, это быть не может. Да и, наконец, о чем же думать, зачем гадать об опасностях, которые с Божьей помощью могут миновать. Дело в том, что надо ехать в Москву ради Владимира.
И Горбатовы поехали всей семьею: с двумя сыновьями, их воспитателем Томсоном, карликом Моисеем Степановичем и неизбежным, всегда сопровождавшим их штатом прислуги. Они остановились в своем прекрасном доме на Басманной улице, в доме, к которому примыкал старинный, несколько запущенный сад. И, таким образом, больному Владимиру и здоровому Борису дана была возможность пользоваться хотя и не деревенским, но все же чистым воздухом.
Московские доктора, немедленно призванные для консилиума, осмотрели больного мальчика и начали подвергать его всякого рода лечению.
В первое время, несмотря на эти, довольно странные иной раз, «научные» эксперименты, здоровье Владимира как будто стало поправляться. Припадки не возобновлялись. Мальчик был только очень слаб.
Между тем положение Москвы становилось опасным. Кутузов, во главе русского войска, стоял перед нею, готовясь дать наступавшему неприятелю большое сражение.
Московский генерал-губернатор, граф Ростопчин, старый приятель Сергея Борисовича, всячески ободрял жителей, расклеивал по городу свои знаменитые афишки. Но, несмотря на это, панический страх начал нападать на жителей. Москва с каждым днем пустела. Все, кто только мог выбраться из нее, выбирался. По Ярославской и другим дорогам, проезд по которым можно было считать безопасным, тянулись нескончаемые обозы. Каждый, уезжая, увозил с собою все, что мог. Старые дома московских бар заколачивались, в иных оставалась только необходимая прислуга для оберегания господского добра.
Сергей Борисович ежедневно виделся с Ростопчиным и просил его не скрывать от него действительного положения.
— Конечно, вам не время теперь жить здесь, любезный друг! — говорил Ростопчин. — Я бы советовал вам уехать — осторожность никогда не мешает. Если же доктора находят, что ваш сын не может обойтись без их постоянного наблюдения, и если его опасно в теперешнем положении перевозить, тогда, конечно, делать нечего!
— Но неужели вы полагаете, что Москва будет взята?! Ведь это что же такое — Москва в руках неприятеля! Это полное поражение! Это несмываемый позор и погибель для России!
— Москва может быть взята, — отвечал Ростопчин, — но и в таком случае позор и погибель будут еще очень далеко. Все дело в том, как она будет взята. Да и вообще, заранее разве в таких обстоятельствах можно что-либо предвидеть. Моя обязанность поддерживать в москвичах бодрость духа и самому не падать духом. Кутузов тоже не намерен отчаиваться. Иначе что же бы это такое было?!
Между тем день проходил за днем, не принося ничего утешительного. Паника в городе увеличивалась, город пустел больше и больше. С замиранием духа москвичи ожидали результатов большого сражения.
И вот сражение дано 27 августа — великая Бородинская битва! Но что же это — поражение или победа?! Каждая сторона приписывает себе победу. Урон с обеих сторон громадный. Напряжение с обеих сторон страшное, геройство небывалое. Кто же победил?
Русские войска выдержали и отбили почти на всех пунктах натиск французской армии, измученной, хорошо понимавшей, что теперь надо или умереть, или победить, хорошо понимавшей, что надо войти в Москву, потому что только в Москве спасение от позора и голодной смерти, только в Москве отдых после непостижимых трудностей баснословного похода. Русские войска отбили неприятельский натиск, устояли; но в то же время, вместо того чтобы накинуться на неприятеля, отступили. Неспешно, в порядке, но все же отступили.
Французские войска, при виде этого отступления, не стали преследовать неприятеля, а, расстроенные, вконец измученные и обессиленные, спокойно заняли Можайск.
Бородинская битва, по-видимому, оказывалась нерешительной битвой. Французская армия обессилела, и ей неоткуда ждать помощи. Русская армия опустошена ожесточенной битвой; но она в порядке, и затем к ней могут примкнуть новые силы.
Кутузов не может отдать Москву без боя. Новая битва должна разразиться под стенами Москвы. А между тем Кутузов со своим войском входит в Москву, проходит через нее. Москва открыта для французских полчищ. Москва отдана неприятелю…
Ростопчин известил Сергея Борисовича об этом, советуя ему немедленно, если есть только какая-нибудь возможность, уезжать из города. По-видимому, ничего другого не оставалось делать, как бежать вслед за остальными, тем более что и знаменитые врачи, лечившие Владимира, удалились, оставив своего пациента. Сергей Борисович уже начал делать распоряжения относительно переезда в одно из подмосковных своих имений. Час, два — и они уедут.
Но вот Татьяна Владимировна, растерянная, бледная как полотно, входит в кабинет мужа. Он взглянул на нее и ужаснулся выражению ее лица.
— Мы не можем ехать, у Владимира сильнейший припадок! Взгляни, он весь в жару… он бредит… Что теперь делать?!
Сергей Борисович отправился в комнату сына и сразу же убедился, что в таком состоянии мальчика перевозить нет никакой возможности.
— Уезжай с Борисом! — шепнула Татьяна Владимировна.
Муж только молча и укоризненно взглянул на нее.
— Ну что же, мы останемся, — проговорил он через несколько мгновений. — Бог милостив! Не съедят же нас живыми!
Мрачный, с опущенной головой вышел он из комнаты. Татьяна Владимировна осталась у кровати сына, опустилась на колени и стала горячо молиться. В углу комнаты тихо всхлипывал карлик.
«Что же теперь будет? — с отчаяньем думал он. — Ведь они звери, эти французы… знаю я их… Вот уж в мыслях не бывало дожить до такого года… Враг, нехристь поганый, в Москве, надругается над святыней…»
Но он сдержал в себе отчаяние и тотчас же решился, никому не доверяя, отправиться на разведку. С этой минуты он часто уходил из дому, уходил на несколько часов и приносил самые верные известия о том, что творится в городе.
Теперь старая русская столица окончательно пуста, имеет вид вымершего города. Почти все дома глухо-наглухо заколочены; магазины и лавки забиты. На улицах только изредка встречаются робко крадущиеся фигуры, по большей части бедного ремесленного люда. Только из иных кабаков слышатся, в особенности к вечеру, дикие крики: это гуляют фабричные. Они разбивают бочки с вином, напиваются до одурения, выволакивают бочки на улицу. Вино течет по камням. Некоторые, уже совсем пьяные, даже припадают к мостовой и лижут камни. А потом эта дикая толпа всю ночь с отвратительным криком бродит, шатаясь, по городу, нарушая пустынную тишину его.
Погода стоит ясная и теплая. Наступает 2 сентября. Наполеон входит в город, окруженный своим измученным войском, которое забывает всякую дисциплину, которое ликует, заранее предвкушая все земные блага, сопряженные с обладанием огромным богатым городом.
Наполеон, уставший и простуженный, сознававший свое крайне затруднительное положение, снова воспрянул духом. Он победитель! Он в сердце России! Здесь ему дана будет возможность собраться с силами, предписать какие ему будет угодно мирные условия русскому царю. Отсюда, из этих вековых, знаменитых стен, он снова покажется Европе в ореоле немеркнущей славы всемирного победителя. Но его мечты, его надежды сразу разбиваются. Победителя никто не встречает. Он вступает в пустой, оставленный жителями город. А через день уже спит в кремлевском дворце, при освещении пожаров, со всех сторон охватывающих город, вспыхивающих то там, то здесь, грозящих, наконец, его безопасности. С проклятиями, в отчаянии, понявший, наконец, свое положение и предвидя свою судьбу, он выезжает из Кремля, пробираясь по пылающим улицам, и поселяется в Петровском дворце.
Москва горит, как свеча. Французские солдаты, которым сначала было приказано не грабить город и не трогать жителей, теперь уже окончательно забыли всякую дисциплину. Да и никто даже не хочет им приказывать, их начальники сами обезумели.
Грабь… жги… неистовствуй!!.
И все, что еще осталось целым, предается разграблению. Великолепные дома русских бар представляют из себя опустошенные, жалкие развалины.
Но невредим еще пока, по счастью, дом Горбатовых на Басманной, хотя вокруг него уже сгорели многие прекрасные здания. Дом Горбатовых находится в глубине большого двора, обнесенного чугунной оградой на высоком каменном фундаменте. Далее за домом и вокруг него идет обширный сад. Такое положение избавляет его от опасности.
Сергей Борисович, помышляя только о своем больном, почти умирающем сыне, о спасении семьи, добился свидания с Мюратом и, выставив свое печальное семейное положение, сумел выговорить себе безопасность. Он предоставил половину своего дома в распоряжение французского генерала и нескольких офицеров. Он не щадит ничего, он по-царски угощает своих гостей, всячески их задаривает, и за это уставшие французы действительно охраняют его от своих соотечественников.
Владимиру то хуже, то лучше. Он на попечении одного только домашнего врача-немца, который, без руководства разбежавшихся знаменитостей, не знает, что и делать, а потому ничего не делает. Но так оно лучше — природа сама выпутается из беды…
Все эти страшные дни Борис находился, естественно, в некотором забросе, на него мало обращали внимания. А между тем для него было очень важное время. Ему было около пятнадцати лет, и он считал себя взрослым человеком.
Он очень любил брата, от всего сердца жалел его. Он не мог равнодушно видеть горе отца и матери. Но все же главный его интерес, главный смысл его теперешней жизни был вне семьи. Вся душа его кипела от совершавшихся грозных событий. Когда они приехали в Москву, когда стали кругом него слышаться разговоры о приближении неприятеля, о приготовляющейся за Можайском битве, он весь дрожал, глаза его горели. Он пришел как-то к отцу и стал умолять его разрешить ему вступить в военную службу и присоединиться к войску Кутузова.
— Меня примут, — умоляющим голосом говорил он, — я знаю наверное, что примут. Я силен, я умею драться, я могу быть солдатом. Ведь вот же Ваню Голицына приняли, а он ниже меня ростом.
— Он на два года тебя старше, — отвечал отец. — И солдатом тебе быть рано. А главное, что тебя не примут — спроси графа Федора Васильевича, он тебе скажет это.
— Но мне невыносимо сидеть, сложа руки, когда враг в пределах России, приближается к нашей древней Москве, когда льется русская кровь! — восторженно, в нервном возбуждении доказывал Борис.
— Я очень хорошо понимаю твои чувства, — сказал Сергей Борисович, — но против невозможности ничего нельзя сделать. Поверь, эта великая война не завтра кончится. Если ты хочешь непременно драться, то в свое время еще очень успеешь.
— Не удерживайте меня! Не удерживайте ради Бога! — со слезами на глазах повторял Борис.
«Чего доброго он убежит, пожалуй!» — подумал Сергей Борисович.
— Послушай! — сказал он. — Есть еще одно обстоятельство, о котором ты, кажется, совсем не думаешь. Ты понимаешь ведь положение твоего брата, в нем нет ничего утешительного, и у нас осталось мало надежды на его выздоровление — не сегодня завтра он может умереть. Подумай же о матери! Если ей суждено лишиться одного сына… что ж… ты, верно, хочешь подвергнуть ее опасности лишиться и другого! Подумай — если ты уйдешь, если с тобой что-нибудь случится, а ведь ты очень и очень легко можешь быть ранен или убит — что с ней будет?! Она не переживет этого… Неужели ты хочешь уморить нас?!
Борис вздрогнул, опустил голову, простоял несколько мгновений неподвижно и потом вдруг с глубоким вздохом и упавшим голосом произнес:
— Да, конечно, вы правы, батюшка, я должен остаться… я понимаю это…
Отец крепко его обнял и поцеловал. Но все-таки в этот же день он поручил гувернеру-англичанину следить за Борисом, чтобы он никак не выходил один из дому.
Борис искренне отказался от своего намерения; но положение было для него крайне мучительно. Он жадно ловил все новости. Когда сделалось очевидным, что Москва предоставлена неприятелю, он забрался в густую аллею сада и горько там плакал. Теперь, когда Москва горела, когда в доме стояли французы, он весь день бродил взволнованный, нервный, с горящими глазами, ко всему прислушивался. В нем кипела ненависть к врагам, в нем поднималась ненасытная жажда мести, какого-нибудь подвига, и он не мог уже владеть собою.
«Если нельзя сражаться, — думал он, — если нельзя грудью защищать свое отечество, так все же из этого не следует, что нужно сидеть сложа руки. Что делается в городе? Здесь, за этими стенами, ничего не знаешь. Ведь не вся же Москва пуста?! Все же довольно осталось народу. Неприятели грабят! Неприятели производят всевозможные жестокости… Наверно, русских убивают, мучают, пытают… Наверное, можно спасти кого-нибудь… Я не могу больше, я должен выйти из дому… Я должен видеть своими глазами все, что делается. Может быть, Бог поможет мне на что-нибудь пригодиться. Вон вчера Степаныч рассказывал, что сам видел, как на улице лежало несколько трупов русских людей. Он рассказывал, что французы унесли куда-то связанную по рукам и по ногам женщину…»
Внезапное решение созрело в голове его. Он проснулся рано утром, убедился, что гувернер спит, тихонько оделся и прокрался к двери, выходившей на балкон. Дверь была заперта на ключ, но ключ не вынут из замка. Он прислушался — все кругом тихо… Замок щелкнул — он на балконе.
Оглядываясь во все стороны, он выбежал в сад, отпер калитку, через которую можно было войти во двор, и знакомыми ему закоулками пустился бежать к воротам. Но ворота заперты, возле них в будке дремлет сторож Иван. Огромная цепная собака сначала глухо заворчала, а потом бешено залаяла. Сторож проснулся.
— Кто тут? Что надо?
— Это я, Иван, я, не узнал?
Но Иван узнал.
— Что прикажете, сударь, Борис Сергеич?
— Отвори мне калитку скорее.
— Куда это вы, батюшка барин, в рань такую?
— Нужно, нужно… Сейчас вернусь… Не задерживай!
Сторож Иван спросонья не мог еще прийти в себя, не мог сообразить, следует ли выпускать барчонка или нет. Но насчет этого никакого приказа дано не было. А Борис торопит:
— Отворяй! Отворяй скорее!
Он отворил калитку и выпустил.
Борис кинулся бежать. Добежал до церкви, повернулся за угол и остановился, переводя дыхание.
Только что взошло солнце, но его еще не было видно. Туман стоял кругом. Сильно пахло гарью. Со всех сторон поднимался дым, со всех сторон вставали потухавшие развалины зданий.
Борис ощупал в своем кармане маленький, взятый им с собою пистолет и спешным шагом направился к Мясницкой.
VII. ГЕРОЙ
Пожар Москвы развивался и увеличивался, между прочим, и погодой. Несколько дней при ясном, почти безоблачном небе и довольно высокой температуре дул сильный ветер. Деревянные здания вспыхивали одно за другим. Ветер разметывал горящие головни, перебрасывая их через несколько домов. Огонь быстро принимался. Таким образом, в какие-нибудь два, три часа времени горела вся улица. Несчастные жители, запрятанные в темных уголках своих квартир и теперь застигнутые врасплох врагом уже нежданным, выбегали, обезумевши, на улицу, унося с собою первое, что попадалось под руку, часто совсем ненужное. При виде со всех сторон несшегося на них пламени они кидались в ближайшую церковь. Но пламя скоро подбиралось и к церкви, грозило ей неминуемой опасностью. Поднимались стоны, вопли. Приходилось бежать и отсюда.
Куда бежать? Дым ел глаза, застилал все окружающие предметы. Кругом рушились здания. Выла и грохотала буря. И толпа несчастного народа бежала вперед, сама не зная куда. Пламя заступало дорогу. На многих загоралась одежда, многие, обессиленные, падали, задыхаясь. Другие, наконец, вырвавшись кое-как из пламенных объятий, собирались на площадях, складывали тут свои скудные пожитки, а сами падали в изнеможении на землю. И, наконец, несколько придя в себя, начинали оглядываться. Тогда начиналось всеобщее смятенье. Многие не досчитывали своих близких. Мужья потеряли жен, матери- детей. Почти каждый вспоминал, что, выбегая из дому, оставил на жертву пламени что-нибудь дорогое. Полное отчаяние охватывало этот несчастный люд. А пламя свирепствовало, а буря не утихала. Густой дым застилал солнце. Мрак наступал над землею.
Но вот, наконец, ветер начал стихать. Со всех сторон горизонта стали показываться облака. Скоро они заволокли все небо, пошел дождь. Дождь увеличивался с каждой минутой, лил, почти не переставая, более суток. Народ, расположившийся на площадях под открытым небом, весь продрог, нитки сухой на нем не осталось. Но пожар стал прекращаться.
И теперь, когда Борис бежал по Мясницкой, город уже представляя иной вид.
Фантазия Бориса работала с детства. Он иногда в часы уединения или бессонницы представлял себе с большой ясностью всевозможные картины, самые страшные, самые фантастические. Но никогда еще его горячая фантазия не рисовала перед ним такого потрясающего зрелищ, какого он теперь был свидетелем. Он уже давно пробежал всю Мясницкую и двигался к Москве-реке, чтобы взглянуть на Замоскворечье. Он шел среди развалин, со всех сторон перед ним возвышающихся. Всюду дымились пожарища, то и дело то здесь, то там нежданно вспыхивали огненные языки. Еще недавно раскаленный удушливый воздух, полный дыма и пепла, теперь освежился. Но Борис чувствовал по временам отвратительный запах, и он скоро понял, откуда происходил этот запах. Он начал все чаще и чаще натыкаться на трупы, обгорелые, ужасные трупы, предающиеся тлению.
Ужас и отвращение охватили Бориса. Он остановился невдалеке от трупа женщины, лежавшего прямо перед ним посреди дороги. Он задрожал всем телом. Он почувствовал, что по голове его как будто что-то пробегает, будто волосы его шевелятся и начинают подниматься сами собой. Едва сдавив в себе крик, он кинулся назад с намерением бежать скорее домой от всех этих ужасов.
Но вдруг остановился.
«Я трус! — мелькнуло в голове его. — Я не могу вынести вида смерти, на что же я годен после этого!»
Нервно вздрагивая, он вернулся обратно и стоял перед обезображенным трупом, заставляя себя спокойно разтлядеть его. И он глядел с искаженным лицом, с широко раскрытыми глазами. Он увидел лицо, очевидно, еще молодое и, вероятно, бывшее красивым; но теперь оно было почти зеленого цвета. Одна сторона его опухла, из-под одного, не совсем закрытого века выглядывал безжизненный стеклянный зрачок… Женщина была полураздета…
Он не в силах был больше глядеть. Стараясь не дышать, чтобы не чувствовать ужасного смрада, он обошел труп и побежал дальше. Все было тихо. Но вот ему послышались невдалеке голоса. Он огляделся и заметил толпу людей, шедшую ему навстречу.
Инстинктивно, в мгновение ока, он кинулся в сторону и спрятался в развалины дома. Он чувствовал под своими ногами еще не совсем остывший пепел и уголья. Он притаился за выступом окна и глядел. Эти, очевидно, спешившие куда-то люди уже почти с ним поравнялись; но они, должно быть, его не заметили, а теперь уже никак не могут его видеть. Кто эти люди? И он сейчас же убедился, что это враги — французы, убедился по их говору.
Боже мой, в каком они виде? Разве это солдаты? Положим, у каждого из них оружие и кой-какие остатки военной формы. Но вот на одном партикулярный сюртук, на другом — цилиндрическая шляпа, на третьем — какая-то женская мантилья. Это враги-грабители! Они, быть может, убили тех, кого ограбили и чье платье на себя надели!.. Бешенство, ненависть закипели в Борисе. Он вынул дрожащей рукой из своего кармана пистолет, взвел курок и направил его из-за переплета окна в проходившую толпу. Он спустил курок: но что это? Выстрела не последовало… Осечка!
Французы прошли мимо. Тут только бедный Борис заметил, что хотя он и хорошо зарядил свой пистолет, но забыл надеть пистон. Ему стало досадно, стыдно. И в то же время он почувствовал бессознательную радость. Тем не менее он поспешно вынул из коробочки пистон, надел его и, выбрав себе более удобное положение, остался неподвижен.
«Эти прошли, пройдут и другие, — думал он, — тогда я уже не промахнусь. Я должен убить врага!»
Но он долго стоял, но никто не показывался на улице. Наконец он издали заметил приближающуюся фигуру.
«Вот он, вот! — с забившимся сердцем чуть громко не крикнул Борис. — Но он один, я не должен убивать его из-за угла…»
Одним прыжком он перескочил через груду обгорелых обломков и углей и с поднятым пистолетом стремительно направился к шедшей навстречу ему одинокой фигуре. Теперь он заметил, что это пожилой человек с бледным, испитым лицом; длинные, почти седые волосы выбивались со всех сторон нечесаными космами из-под суконного картуза с большим козырьком. Щеки и подбородок были, очевидно, давно небриты и поросли серебристой щетиной. Одет этот человек был в длиннополый поношенный кафтан. Он шел нетвердой походкой, бормоча что-то… Во всей его фигуре не было ничего воинственного, да и никакого оружия на нем не замечалось.
Борис остановился в недоумении, но все же не опуская пистолет. Старик только теперь его заметил. Он окинул его взглядом, в котором выражался не страх, а ненависть, и охрипшим голосом крикнул:
— А, француз поганый!.. Нехристь окаянный! Убить меня хочешь… Ну, что же, убивай… Стреляй… Да стреляй же, молокосос!..
И он, широко разводя руками, выставил вперед грудь, наступая на Бориса.
— Я не француз! — растерянно проговорил он.
— Так что же ты на своих кидаешься?!
— Да я… Я думал, что вы француз… Что вы враг… — заикаясь проговорил юноша, весь краснея.
Старик изумленно и с усмешкою оглядел Бориса и покачал головою.
— Ах ты, молокосос, молокосос! Поди ты, вон тоже на своих с пистолетом кидается! Да ты, может, кого и уложил так-то, зря?..
— Нет, я еще не стрелял.
— То-то!
Старик еще раз оглядел Бориса, печально и добродушно усмехнулся и опять покачал головою.
— Да откуда ты, паренек? Кто таков? Барчонок какой, что ли? Бар-то, что-то, не видать… Разъехались…
Старик этот вдруг ужасно понравился Борису, и он с внезапной откровенностью, свойственной его годам, рассказал ему, кто он, откуда и за каким делом попал сюда.
— Ведь правда, — заглядывая ему в глаза, говорил он, — правда ведь, что стыдно сидеть в безопасности, когда в городе такие ужасы, когда кому-нибудь помочь можно, кого-нибудь защитить… Убить хоть одного врага и грабителя?!
— Эх, молодчик, молодчик! — печально повторил старик. — Ну, чему ты, сударь, поможешь? Кого спасешь? Вот меня чуть было не убил. Оно бы и ничего… Туда мне и дорога… Смерти не боюсь… Да тебе плохо бы было, на душу грех большой взял бы… Сидел бы лучше дома. По крайности, как пришел бы час твой, так со своими родителями да домочадцами принял бы кончину…
— Все погибнем! Все погибнем! — вдруг, сверкнув глазами, диким голосом крикнул старик.
— Как все погибнем? — испуганно и изумленно спросил Борис.
Старик становился страшным; глаза его дико блуждали. Он потрясал в воздухе рукою.
— Все погибнем! — повторил он. — Пришел час гнева Божьего и кары! Кончина света приблизилась… Прогневали мы Господа Бога великими нашими злодействами, неправдою; а против Бога кто может? Наслал он на нас этих дьяволов и призвал им на помощь стихии небесные. Камня не останется от сего города! Ни один человек не выйдет из него…
— Ах, зачем вы это говорите? — старался перебить его Борис. — Бог милостив. Враг покинет Москву, наше войско заставит его еще бежать.
Но старик его не слушал. Он кричал теперь, очевидно, уже не обращая на него никакого внимания, не сознавая, есть у него слушатель или нет.
— Всю жизнь сколачивал деньги, — кричал он, — что мук вынес… работал, рук не покладая. Ночи за работой просиживал. Сколотил мастерством своим деньжонки, домик построил… сына вырастил… В солдаты взяли. Где сын? Убит!.. Французы убили… Справлялся… верно узнал… убили… Нет Петруши… Нет и могилки его… так и не увидел. Жена заболела с горя… Лежит, стонет, душу надрывает… Враг пришел, Москву отдали ему… Вышел из дому — сил не хватило… Пожар! Москва горит… домой?.. Нет дома… сгорел… ничего не осталось… Где жена?.. Больна ведь, двигаться не могла… где она? где?..
— Да говори же ты мне, где она?! — накинулся он на Бориса, хватая его за плечи. Он был страшен. Безумие и бешенство изобразились на лице его.
Борис высвободился и стремительно побежал от него. Потом он остановился, оглянулся и увидел, что старик все еще стоит на одном месте, разводя руками и крича что-то такое, что теперь разобрать было невозможно. Борис бежал дальше, среди все той же картины всеобщего разрушения; среди все тех же валявшихся трупов людей и животных.
А солнце поднималось выше и выше. Встречались люди. Несколько раз Борису приходилось прятаться от французов, которые толпами, с криком и гиком, бродили, врываясь в дома, уцелевшие от пожара, с целью грабить все, что еще можно было найти в них.
Когда первая паника, охватившая французов при виде со всех сторон усиливавшихся пожаров, прошла, они решили наверстать свои неудачи и разочарования самым разнузданным грабежом. Теперь уже нечего было стесняться перед этими варварами, встретившими их таким ужасным образом, так насмеявшимися над ними.
Сам Наполеон, решившись возвратиться в Кремлевский дворец, которому теперь уже не угрожала опасность, разрешил этот грабеж, хотя и объявил меры для его ограничения. Он приказал, чтобы каждый корпус, находившийся в Москве или ее окрестностях, один за другим в назначенные дни отряжал от себя по нескольку рот для грабежа. Этот грабеж был назван в приказе Наполеона «приготовлением запасов продовольствия».
Между тем, конечно, никакого ограничения грабежа не было. Напротив, эти отряды, посылаемые по очереди, рассуждали так, что каждому из них, по всем вероятиям, приходится в последний раз выходить на добычу, и потому они с остервенением накидывались на все. Они разбивали двери и окна, врывались на чердаки, в подвалы и кладовые. Несчастные жители, прятавшиеся по углам, не выказывали, конечно, никакого сопротивления. Они предоставляли все свое имущество на разграбление, лишь бы только ужасные грабители ушли поскорее.
Им, кажется, уже ничего не осталось теперь, они уже больше не вернутся. А между тем на следующий день грабеж повторялся. Каждый корпус должен был навестить несчастных обывателей. Каждый приходил по очереди и забирал все, что оставил его предшественник. И по мере того как уже не оказывалось ничего для грабежа, солдаты неприятельские выказывали все больше и больше бешенства. Они воображали, что от них прячут добычу, и угрозами, насилием заставляли ее выдавать себе.
При этом они сами были в несчастном положении: все износилось, без сапог, без белья, в лохмотьях. Врываясь в дом, где уже не оставалось ничего для их поживы, они почти донага раздевали хозяев — мужчин, женщин и детей. Каждая вещь из носильного платья и белья была им нужна. Происходили ужасные возмутительные сцены. Они уже не различали теперь народностей. Французы, в довольно большом количестве жившие в Москве и теперь там оставшиеся, были точно так же, как и русские, ограблены своими соотечественниками. Эти солдаты, самым безобразным образом закутанные во всевозможное награбленное платье, как мужское, так и женское, совсем замаскированные этими фантастическими нарядами, теперь находили возможным, надеясь быть неузнанными, грабить даже своих собственных офицеров.
Борис, бродя из улицы в улицу, не чувствуя ни усталости, ни голода, не замечая времени, то и дело натыкался на какое-нибудь проявление этого безначалия и всяких жестокостей.
Вот раздаются крики, пронзительные женские крики. Двое солдат тащут какую-то молодую женщину. Она от них вырывается.
— Votre bague! Votre bague, — кричат они, — ou nous la prenons avec le doigt!
Молодая женщина становится перед ними на колени, она заливается слезами, она умоляет их прерывающимся голосом:
— Ayez pitié de moi, messieurs, prenez tout, prenez tout, laissez moi la bague. Voyez… tlelle est si simple, mais elle m'est si chère. Ayez pitié de moi, je suis votre compatriote!
Но французы не обращают никакого внимания на слова ее. Уже один схватил ее за палец, миг — и он действительно ей его отрубит.
Борис не мог вынести этого. Он кинулся к ней на помощь. Он был очень силен для своих лет; но скоро убедился, что ему не сладить с этими двумя рослыми мужчинами.
— Il n'y a rien a faire, — задыхаясь крикнул он молодой женщине, — rendes votre bague a ces infames!
Та, видя, что не остается никакого спасения, с громкими рыданиями сняла кольцо. Видно было, что оно ей бесконечно дорого. Это было гладкое обручальное кольцо.
Один из французов жадно схватил его, а другой со всего размаха ударил Бориса в спину, так что тот пошатнулся.
— Et toi coquin, — крикнул он ему, — tu feras cadeau de ton bonnet a tes compatriotes!
И с этими словами он сорвал с Бориса его шляпу.
Очевидно, французы эти надеялись еще хорошо поживиться в другом месте. Они поспешно удалились.
Борис обратился к плачущей женщине, спрашивая ее, где она живет и предлагая ей проводить ее. Но оказалось, что она живет тут же рядом в доме. Она с плачем вошла в дверь, приглашая Бориса за собою. После борьбы с французами, помятый ими и изрядно поколоченный, Борис чувствовал большую усталость, а потому без всяких рассуждений последовал за своей новой знакомой.
Она ввела его в небольшую, но, вероятно, недавно еще очень мило убранную квартиру. Теперь же по комнатам царствовал полнейший беспорядок. Все было перерыто, комоды стояли с выдвинутыми ящиками, платяной шкаф тоже.
Француженка, очень недурная женщина лет двадцати восьми, вдруг как-то чересчур даже быстро успокоилась. Отчаянное выражение в ее лице исчезло, слезы высохли. Она уже улыбалась Борису и говорила скоро, скоро, приятно картавя и рассказывая ему о том, как она вышла было из дому, желая разузнать, не находится ли где-нибудь поблизости квартира одного из французских генералов, к которому она хотела обратиться с просьбой о заступничестве. И вот, только что она вышла из ворот, как проходившие два французских солдата заметили на ее руке это кольцо.
Вспомнив о кольце, она опять было всплакнула, но тут же и успокоилась.
— Я не могла надеть перчаток, — говорила она, — потому что у меня нет перчаток… Все разграбили!.. И я одна… Меня покинули все друзья и знакомые… Все скрылись из Москвы.
Она усадила Бориса в мягкое кресло и продолжала рассказывать. Она уже шесть лет как в России. Сначала жила в Петербурге, но вот уже четвертый год как перебралась в Москву. Она актриса. Ее друзья предлагали ей уезжать, но она осталась вопреки их желаниям. Разве могла она предвидеть эти ужасы?! Она рассчитывала весело провести время в кругу своих соотечественников… И вот теперь ограблена, лишена всего достояния. Три раза врывались к ней в квартиру, разграбили все, что только было у нее хоть немного ценного — все ее вещи, даже платья, ее шубу. Она не знает, что будет теперь делать. Нужно непременно найти генерала, а всего лучше обратиться к самому императору… Он должен будет помочь ей… Но как теперь это сделать? Она уже боится выйти из дому… Эти звери способны на всякое насилие… Сначала к ней ворвались поляки, потом немцы. Она так перепугалась, что заболела. И ведь она одна — покинутая. Ее кухарка, глупая русская женщина, конечно, ничем не может помочь ей. Да и как же было выбраться, когда кругом горит и нет никакого прохода…
— Я все еще надеялась на моих соотечественников, — говорила она, — грабили поляки, грабили немцы; но французы не могли меня грабить!.. И вот сегодня вы видели… французы, французы отняли у меня то, что было дороже всего!..
— A, monsieur, si vous saviez… cette bague… cette bague! Quel souvenir, — повторила она, — et je vous suis tellement reconnaissante!
— За что же! — печально проговорил Борис. — Если бы я мог помочь вам, а то ведь не помог ничем, только даром лишился шляпы и теперь должен возвращаться с непокрытой головой.
— Благодарите Бога, что так еще отделались, — постаралась она его успокоить. — На вас ваше платье. Они не выворотили вам ваши карманы. По счастью, они приняли вас за француза. Mais vous n'êtes pas franais, n'est ce pas?
Но вместо того чтобы ей ответить, Борис вдруг вскочил, схватился за голову. Стыд, смущение, отчаяние промелькнули на выразительном, нежном лице его.
— Eh bien, mon cher jeune homme, qu'avez vous donc?
— Mon Dieu, mon Dieu, — отчаянно прошептал он, — j'aurais pu vous défendre… Я мог бы отбить вас, и ваше кольцо не попало бы им в руки… Я сошел с ума… Я забыл, что у меня в кармане заряженный пистолет, который я и взял с собою для подобного случая. Я дал этим негодяям ограбить вас, дал им избить себя!.. Ведь они были вооружены, могли защищаться… Я имел право стрелять в них!..
Он упал в кресло, мучимый стыдом и решительно не понимая, каким это в самом деле образом мог забыть о своем пистолете.
Француженка улыбнулась, подсела к нему, положила ему на плечо свои маленькие красивые руки и, ласково заглядывая ему в глаза, стала его успокаивать.
— Не огорчайтесь, — говорила она, — все это было так быстро, что вам легко было забыть. Ну, что делать, пропало мое кольцо! А вы должны благодарить Бога, что забыли о своем пистолете. Помогло ли бы мне это или нет — еще неизвестно. Если бы вы вздумали стрелять, они, наверно, бы вас убили. Ведь их было двое, двое сильных, привычных людей. Ах, как хорошо, что вы забыли! Вы и так меня отчаянно защищали. Вы храбрый молодой человек… Очень храбрый. И вот у меня большая к вам просьба — ведь вы исполните ее? Да, конечно, исполните, у вас доброе сердце!
Она еще ласковее глядела на него, гладила его волосы.
— Останьтесь со мною пока светло! Если бы вы знали, как я боюсь и как нуждаюсь в защите. Я теперь ни за что, ни за что не рискну выйти, а ведь они могут сюда прийти, что я тогда сделаю? Будьте моим защитником!
Она говорила таким милым, умоляющим голосом. Она, действительно, была перепугана.
— Ведь они весь день бродят, а когда начинает смеркаться, — исчезают.
Борис забыл свое положение, забыл все и сказал, что так как она, действительно, нуждается в его присутствии, то он остается.
Живая француженка совсем развеселилась. Она тотчас же сообразила, что ее молодой защитник должен быть голоден, позвала свою кухарку, спросила, что есть съестного. Съестного оказалось немного, но все же достаточно, чтобы насытиться. Был хлеб, были кое-какие овощи, нашелся даже кусок холодной говядины.
Француженка сама, своими маленькими, хорошенькими ручками, смастерила обед для своего защитника, И болтала, болтала, переходя с одного предмета на другой, ужасаясь, доходя до полного отчаяния — и потом сейчас же развеселясь, начиная даже смеяться.
Борис, кажется, никогда еще не ел с таким аппетитом. Время проходило незаметно. Вот стало и смеркаться. Он пришел, наконец, в себя. Он понял, что такое наделал. Ясно представлял он себе, как должны беспокоиться о нем дома. Он уверял француженку, что не может более у нее оставаться. Просил ее после его ухода хорошенько запереться и дал ей слово, что на другой день утром она будет в безопасности. Он попросит о ней французского генерала, который стоит у них в доме. Генерал этот самый любезный человек и, конечно, не оставит в таком положении свою соотечественницу.
— Как же вы пойдете без шляпы? — говорила француженка. — А ведь у меня нет никакой шляпы. Я ничего не могу дать вам.
— Не беда, — отвечал Борис, — теперь темно, меня никто не увидит.
Француженка даже поцеловала его на прощанье.
Он вышел и пустился бежать.
«Ах, что там у нас?! Что они теперь думают? Что будет?!» — мучительно думалось ему.
И он еще прибавил шагу. Он боялся заблудиться посреди этих развалин, в темноте, которая должна была скоро наступить. На улицах почти никого не было. Вечер был ясный, но довольно холодный. Вдруг он услышал отчаянный крик:
«Спасите! Спасите!» — голос был детский, звонкий, пронзительный; в нем выражалось страшное отчаяние. Он остановился. Кричат близко, но где… Ничего не видно.
«Спасите!!» — опять пронеслось в вечернем воздухе.
И тут из-за угла переулка он увидел человека, несшего на руках почти обнаженную девочку. Она барахталась руками и ногами. Она отчаянно кричала. Вся кровь бросилась в голову Борису. Он выхватил из кармана пистолет, взвел курок и, подбежав к несшему девочку человеку, крикнул ему:
— Laissez la ou je vous tue a l'instant!
Тот остановился, разглядел дуло пистолета.
— Qu'y a t'il? — хриплым голосом проговорил он.- Michaud a eu besoin de sa jupe… alors il ne me reste que la gamine… et je la prends — v'ia tout!..
Это был дюжий молодой солдат. От него пахло вином. Он был, очевидно, сильно пьян.
Раздался выстрел. Пуля просвистела почти у самого уха солдата. Он разжал руки, девочка соскользнула на землю. Солдат побежал, покачиваясь, и скоро скрылся в наступивших сумерках.
Борис склонился над девочкой. Она лежала, вздрагивая всем телом, почти без сознания.
— Кто вы? Где вы живете?? — растерянно спрашивал Борис.
Девочка ничего не отвечала.
— Можете вы встать?
Она, наконец, расслышала его вопрос. Она попробовала подняться и тут же опять упала…
Она совсем почти раздета; вечер холодный. Как быть! Он стал оглядываться. Он заметил среди развалин, его окружавших, уцелевшее здание. Он наклонился, попробовал поднять девочку. Потом снял с себя пальто, закутал ее, поднял и понес.
Девочка была довольно большая и тяжелая; но он не чувствовал ее тяжести. Через минуту он уже был у подъезда намеченного им дома.
«Авось есть тут кто-нибудь, — думал он. — Авось отворят!»
Поднявшись на ступеньки крыльца, он стал стучать в дверь. И вот, к его изумлению, дверь распахнулась, но никто ее не отпер — она была не заперта.
Борис вошел со своей тяжелой ношей, разглядел в слабом полусвете переднюю комнату. Прошел дальше, очутился в довольно просторной зале, заметил диван, положил на него девочку и стал ждать: придет же кто-нибудь.
Он отворил другую дверь — крикнул: «Кто тут?»
Звук его голоса пронесся по пустым комнатам. Никто ему не ответил. Все было тихо. Становилось все темнее и темнее.
VIII. НОЧЬ
Между тем девочка пришла в себя. Она приподняла голову, поджала под себя ноги.
— Как холодно! — проговорила она.
Борис плотно закутал ее в свой плащ. Он беспомощно оглядывался, вслушивался в немую тишину, стоявшую вокруг него. Его взгляд случайно упал на окно, сквозь которое вдруг блеснул луч выплывшей из-за облака луны. Комнатка, погруженная почти в полный мрак, теперь озарилась мягким голубоватым светом. Теперь все уже вокруг можно было ясно различить. Борис решился обойти это жилище, в которое он попал, и узнать есть ли тут кто-нибудь.
— Я сейчас вернусь, — сказал он девочке, — я только осмотрю дом.
Она слабо вскрикнула.
— Так вы не француз, не француз? — спрашивала она своим милым детским голоском. — Не уходите, а то они придут опять… Они убьют меня…
— Бедненькая моя, не бойся ничего! Я говорю: сейчас вернусь. Вот прежде всего я постараюсь запереть наружную дверь, тогда никто уж не войдет сюда.
И он прошел в те двери, через которые внес ее. Он оглядел, ощупал; двери запирались изнутри на ключ и, кроме того, еще для крепости припирались болтом. Проходя мимо девочки, он еще раз ее успокоил.
— Теперь крепко, и все тихо… ночью никто не придет сюда.
Он начал обходить дом. Обошел все комнаты и скоро должен был убедиться в отсутствии здесь всякого живого существа, за исключением кошки, которая вдруг спрыгнула откуда-то и, жалобно мяуча, стала вертеться вокруг его ног. Насколько можно было разглядеть при свете луны, падавшем из окон, это было довольно большое и хорошо обставленное помещение, очевидно, покинутое хозяевами, а затем и оставшейся прислугой, уже подвергшееся грабежу французских войск, которые, как и у француженки, забрали здесь все, что только можно было забрать. Даже с окон и дверей были сорваны занавески, на что указывали оставшиеся карнизы и кое-где висевшие обрывки материи.
Положение Бориса оказывалось безнадежным. Он надеялся сдать девочку кому-нибудь в верные руки, какой-нибудь женщине, а самому спешить домой. Но теперь об этом нечего было и думать. Вести ее с собой?! Но когда он поднимал ее и закутывал в свой плащ, то заметил, что на ней всего одна рубашка, чулки и башмаки. Его плащ, короткий и не особенно широкий, не может защитить ее от ночного холода, а сентябрьская ночь, после довольно теплого дня, очень холодна. Вот открытое окно, и из него так и врывается почти даже морозный воздух.
Да и, наконец, будет ли она в состоянии дойти до их дома. Басманная ведь это так далеко отсюда! Он может нести ее на руках… Конечно, он донесет ее, у него хватит силы; но ведь мало ли что может случиться дорогой. Ведь вот же этот негодяй француз тащил ее, очевидно, с целью надругаться над нею, в конце концов, быть может, убить ее. Ведь это теперь звери, а не люди. Говорят, по ночам шляются пьяные ватаги, если не французы, так русские мастеровые, от перепоя потерявшие всякий рассудок.
Он вернулся к девочке, не решив ничего. Она сидела вся съежившись, кутаясь в его плащ, и опять сказала:
— Ах, как мне холодно!
Она поминутно вздрагивала. Он сел рядом с нею на диван и молча глядел на нее. Луч луны падал прямо на них и освещал их лица. Теперь он мог разглядеть ее. Это была девочка лет десяти или одиннадцати, прелестная собою, с большими, темными, теперь несколько дико блуждавшими глазами, с тонкими чертами нежного бледного личика. Ее довольно длинные густые волосы беспорядочно падали вокруг хорошенькой головки.
Борис глядел на нее, не отрываясь. Никогда еще более милого ребенка он не видал в своей жизни. Ему казалось, что она не живое существо, что она сошла с какой-нибудь чудной картины. Такие лица иногда грезились ему в его мечтах; но он не думал даже, что их можно встретить в жизни.
И вдруг эта девочка, которую он спас, даже не рассуждая о том, что делает, которую принес на руках в этот необитаемый дом и от которой за минуту перед тем ему так хотелось избавиться, вдруг она сделалась ему дорогой, близкой, будто он всегда знал ее, будто дороже ее У него никогда никого не было. Теперь он уже сам не хотел расстаться с нею. Он позабыл об отце, матери, о больном брате. Все опасения, все тревоги исчезли. Он только глядел на нее, и она в свою очередь глядела своими большими, немигавшими глазами на его почти детское, нежное и привлекательное лицо.
Потом, высвободив из-под закутывавшего ее плаща холодные, тонкие руки, казавшиеся при свете луны совсем выточенными из мрамора, она крепко обвила ими его шею, припала головой к нему на грудь и горько, горько зарыдала.
— Милая, успокойся, не плачь! Зачем плакать… успокойся, пожалуйста, прошу тебя… да не плачь же! — почти с отчаянием, почти сам готовый разрыдаться, упрашивал он ее.
Но ее судорожные рыдания не прекращались. Она так и билась на груди его, все крепче и крепче обнимая его шею.
— Да отчего же ты плачешь? Ну, скажи мне!.. Ведь все прошло, теперь никто ничего с тобой не сделает… я никому не отдам тебя… я защищу тебя… я буду с тобою… Не плачь, не плачь, пожалуйста!..
— Ах, как страшно, как страшно! — вдруг сквозь рыдания проговорила она.
Но его ласковый, умоляющий голос, очевидно, на нее действовал. Ее судорожные движения мало-помалу начали ослабевать. Она затихла. Она только всхлипывала и все еще сжимала его шею, и все еще прятала голову на его груди. Наконец она совсем успокоилась. Ее руки упали, она откинулась на спинку дивана и, заметив, что вся разметалась в этом порыве отчаяния, инстинктивным, стыдливым движением стала кутаться в плащ, поджимая под себя ноги, прикрывая свои голые колени.
Борис, выросший с братом, привыкший к обществу взрослых мальчиков, всегда даже как-то чуждался тех девочек, которые иногда приезжали со своими родителями к ним в Горбатовское. И в последнее время, когда в его грезы стали вырваться какие-то полунебесные существа в женском образе, он все же наяву не находил им воплощения и даже отдалялся от общества своих сверстниц. Он не умел говорить с ними, не знал, чем занять их. Он почему-то считал всех девочек глупыми, неспособными заинтерсоваться тем, что его интересовало, неспособными даже понять его мысли.
И вдруг теперь эта несчастная, маленькая девочка превратилась для него в самое возвышенное, самое дивное существо. И вдруг он нашел способность говорить с нею таким нежным, ласкающим тоном, какого у него не было даже в самых задушевных разговорах с матерью.
— Ну, вот и хорошо, — говорил он, — ты успокоилась! Зачем плакать, лучше скажи мне, кто ты? Что с тобою случилось, как попала ты в руки этого негодного солдата? Как тебя зовут?
— Меня зовут Ниной, — прошептала она.
— А тебя как? — вдруг спросила она в свою очередь, совсем по-детски, и выражая в этом «тебя» все доверие, которое она теперь почувствовала к своему избавителю. И это «тебя», это милое, доверчивое товарищество, внезапно между ними установившееся, наполняло сердце Бориса никогда еще не изведанным им блаженством.
Он сказал ей свое имя.
— Борис! Какое хорошенькое имя! — заметила она.
И еще раз повторила едва слышно: «Борис» и улыбнулась, будто не было сейчас этих отчаянных слез и рыданий, будто не было того ужаса, через который так недавно прошла она.
Она осторожно высвободила из-под плаща свою руку и крепко сжала руку Бориса.
— Вот так, так! — говорила она. — Теперь мне не страшно. Держи меня за руку, у тебя такие теплые руки, а мне так холодно. Ах, если бы ты знал, какая я бедная, несчастная девочка! Если бы ты знал, что случилось со мной! Я жила почти год с маменькой, здесь вот, неподалеку. Мы приехали из Горок, это наша деревня…
— А твой отец?
— У меня нет отца, он умер давно-давно, когда я была совсем маленькая, я даже его не помню. Маменька моя была добрая… я ее очень, очень любила, только она все больна была. Иной раз неделю и больше лежала. Приехал в Горки дяденька Алексей Иванович и уговорил маменьку в Москву ехать лечиться. Вот мы и приехали с няней, с Матреной, и долго здесь жили, только доктора не помогли маменьке… И вот уже три недели, как она умерла…
Девочка замолкла. Голос ее оборвался, из глаз брызнули слезы. Она старалась подавить их, но не выдержала и снова отчаянно зарыдала. Борис уже не пробовал ее теперь уговаривать. Он склонился к ней. Она все крепче и крепче сжимал ее руку, а другой рукой привлек к себе ее головку и тихонько целовал ее густые, мягкие волосы.
— Ниночка, бедненькая! — бессознательно повторял он.
— Нет, зачем плакать, зачем?! — вдруг произнесла она, сдерживаясь. — Няня правду говорит: слезами горю не поможешь. Я уже давно знала, что маменька не может жить на свете… Уж очень была она больна… бледная такая, прозрачная, и силы уже никакой не было. Протянет руку, хочет взять стакан — и не может. Я все возле нее сидела и пить ей давала… А она все пила воду: жажда у нее была такая. Похоронили маменьку на Ваганьковском кладбище. Привезла меня няня домой… Так пусто… пусто… жутко так… Все я тогда плакала, а няня мне говорит, чтобы я написала скорее дяденьке Алексею Ивановичу, чтобы он приезжал за мною в Москву. Тут у нас знакомых не было почти, а кто приезжал к нам, те уехали из Москвы еще до маменькиной смерти. Совсем мы, совсем как есть одни были с няней. Я написала… и стали мы ждать, когда приедет дяденька. А тут вдруг французы в Москву вошли, пожары начались… уж как мы с няней боялись, что и наш дом сгорит, пожалуй. Только прошел день, другой прошел, мы и выглянуть на улицу боимся… Страсть такая — огонь, дым, со всех сторон кричат… все падает… Я вся дрожу… няня меня успокаивает, молится… и вдруг, и вдруг, это вечером было, три дня прошло с тех пор, сидела я в маменькиной спальне, няня громко читала евангелие… Вдруг как вся комната осветится… к окошку мы кинулись — на нашем дворе горит. Надели мы на себя что попало, выбежали на улицу… дождь шел частый такой, большой дождь. Долго мы стояли, почти ночь целую. Больше половины дома сгорело, две комнатки только остались. А на другой день пожар потух. Мы в двух комнатах поселились, да все боялись, как бы крыша над нами не провалилась. Прожили еще день, другой прожили, и не стало у нас никакой провизии. Сегодня пообедали, а на завтра нет ничего: ни хлеба, ни картофеля, ни мяса. Няня взяла деньги, маменька ей все свои деньги оставила, да говорит мне:
«Я тебя, Ниночка, запру, посиди с часок, а я пойду куплю на завтрашний обед чего-нибудь, а то что же, не помирать же с голоду».
— А мы ведь вдвоем с няней. Матрена да Иван уже четыре дня как пропали… пропали да и только! Где они, Бог их ведает. Мне страшно одной без няни, а с нею идти еще страшнее. Я говорю: «Нянечка, хорошо, я останусь, только запри ты меня хорошенько, чтобы никто войти к нам не мог».
«Кому теперь войти, — это няня мне сказала, — дом сгорел».
Заперла она меня и ушла. Я сижу, страшно мне… страшно… Плакать стала. Только вдруг, слышу, стучат. Думаю, ну слава Богу, няня вернулась. Только зачем же стучать ей, ключ-то она с собой взяла. Стучат все… бьют в дверь… упала дверь, и входят два француза. Кричат, бранятся, верно… я по-французски не понимаю. Стали все шарить, все перерыли… Да у нас уже взять было нечего. Няня только шкатулочку с маменькиными деньгами и вынесла из пожара! Говорят мне что-то французы — я не понимаю, кричу только: няня, няня! Нет няни. Накинулись они на меня, раздели, все сняли, вот в одной рубашке оставили… Я уже не помню как и что было, только слышала — кричат… вдруг схватил он меня и понес, тут я еще пуще кричать стала… Тут выстрел… Это ты выстрелил? А потом я уже ничего не помню. Помню только, как ты меня положил вот тут на диван….
Она замолчала и опять глядела на него своими темными, испуганными глазами. Ее бледное личико, озаренное лунным светом, почти не имело в себе детского выражения. Да и в рассказе ее было видно, что она по развитию старше своего возраста. Она с рождения была окружена взрослыми, жила уединенной жизнью; успела уже много, много увидать; успела пережить тяжелые и горькие впечатления, которые быстро развивают ребенка.
Конечно, Борис не разбирал всего этого и об этом не думал, но он это чувствовал. Она была для него не маленькая девочка. После этого ее признания между ними окончательно установилась полная близость.
— Ты голодна, Нина? — спросил он.
— Нет, — ответила она, — только мне все холодно. Он взял ее руки, стал согревать их своим дыханьем.
Потом он привлек ее к себе, обнял. Она прижалась к нему и тихо шепнула:
— Я согрелась, теперь мне хорошо. Я ничего не боюсь… вот так пусть бы всегда было.
— Что бы всегда было? — спросил он.
— Так, эта комната… Луна чтобы вот светила… и ты, Борис…
Она приподняла головку, взглянула на него, улыбнулась и крепко-крепко, звонко его поцеловала, а потом как-то затихла.
Он сидел не шевелясь. Он слышал, как бьется ее сердце и как ее собственное сердце отвечает этому биению.
Свет луны погас, незнакомая комната потонула во мраке. Борис все не шевелился. Он почти ни о чем теперь не думал. Он погружался в какое-то полузабытье. Он чувствовал только одно, что никогда еще в жизни не было у него таких волшебных мгновений.
— Нина! — шепнул он.
Но Нина ему не ответила. Она заснула на груди его.
Прошло еще несколько минут, и она сам стал засыпать, уставший от этого дня, полного таких разнообразных ощущений.
IX. УТРО
Оба они спали так крепко и безмятежно, как только можно спать в их годы. Но все же проснулись на рассвете, изумленно оглядываясь, с широко раскрытыми глазами.
Волшебный сумрак ночи исчез. Исчез лунный свет. Исчезли грезы. Дневная жизнь, действительность заявили свои права. И оба они сразу спросили друг друга:
— Что же нам теперь делать?
Перед Борисом была эта спасенная им и согретая прелестная девочка, с которой он не хотел бы никогда расстаться, но ясно сознавал теперь, что расстаться надо и как можно скорее.
Ему представлялся один исход, оставить ее здесь, в этом покинутом доме, в каком-нибудь укромном уголке, запереть ее хорошенько и бежать скорее разыскивать по ее указаниям ее старуху-няньку.
— Нина, подробно, хорошенько расскажи мне, где ваш дом.
Оказалось, что это очень близко, в том же переулке. Борис передал девочке свой план. Она испугалась, но должна была сознаться, что в таком виде, в каком была она, то есть в чулках, башмаках, коротенькой рубашке и плаще Бориса, ей будет очень холодно бежать по улице. Кутаясь в плащ, она вслед за Борисом отправилась осматривать помещение, в котором они находились. Они набрели на самую дальнюю маленькую комнату, где было всего одно окошко с двойными невыставленными рамами и с крепкими ставнями, запиравшимися изнутри.
— Вот ты останься здесь, Нина, а я вернусь скоро.
Но девочка вдруг громко и горько заплакала.
— Нет, не могу, не могу! — сквозь слезы повторяла она. — А что если ты не найдешь няню? А что если ты не вернешься… Ведь я умру… Нет, не могу, ни за что не могу!..
— Так как же нам быть?
— Я уж лучше побегу так, здесь близко, право, очень близко… Я не озябну…
— А если кто увидит, будет смеяться?
— Пусть смеются… Разве я виновата. Нет, милый… голубчик Борис, пойдем вместе. Я ни за что здесь не останусь…
Делать нечего, пришлось согласиться с нею.
Они прошли к выходной двери, Борис ее отпер, выглянул на улицу. Все пусто. Солнце еще не встало. Холодное, почти морозное утро.
Он повернулся к Нине, во мгновение закутал ее плащом, как только можно было лучше и, прежде чем она успела очнуться, схватив ее на руки, сбежал со ступенек крыльца.
— Куда? Говори… Показывай.
— Пусти меня, Борис, ведь я тяжелая, я сама добегу. Правда, мне не холодно!..
— Я так боюсь, что ты больна будешь после вчерашнего. Нет, ты легкая, я не чувствую совсем тяжести, или думаешь, что у меня силы мало? Говори!
— Налево… Все прямо теперь… Прямо…
Он побежал. Он, действительно, не чувствовал тяжести. Менее чем через пять минут они были уже у цели. Следуя указаниям Нины, он вбежал во двор, весь загроможденный обуглившимися бревнами, кирпичами, остатками обгорелой мебели.
— Вот тут… Вот это крылечко… — говорила Нина совсем упавшим голосом. — Господи, а что же если нет няни?!
Борис, все не выпуская Нину, изо всей силы стукнул ногой в небольшую дверь. Она была заперта. Он стукнул еще раз.
— Кто там? — послышался испуганный голос.
— Няня… Она! — радостно вскрикнула Нина. — Это я… Я, нянечка, отворяй скорей!
Дверь отворилась. Выглянула растрепанная толстая старушка и, увидя Бориса, державшего на руках Нину, всплеснула руками. Борис прошел в дверь и спустил Нину на пол. Старушка кинулась к ней, себя не помня, плакала, причитала, смеялась.
— Ниночка, барышня моя ненаглядная, золотая! А я-то уже не чаяла тебя видеть, все глаза выплакала. Господи, откуда ты? Что с тобою сталось? Что такое? О, Боже ты мой, моченьки нет! Прибежала я вчера… Дверь отперта… Тебя нету… Так и повалилась. Да, что же это ты, золотая моя, что на тебе?
Она распахнула плащ и, увидевши, что на Нине почти ничего не было, задрожала всем телом.
— Ахти! Что же это?.. Да где же твое платьице?
— Няня, милая, успокойся! А то ведь как же я буду говорить, когда ты слова не даешь сказать.
— Говори, говори, родная… О, Господи!
Старушка крестилась, обнимала девочку. Потом с изумлением и страхом глядела на Бориса, который молча и как-то сконфуженно стоял перед нею.
Но вот наконец Борису и Нине удалось, перебивая друг друга, рассказать старой няне все, как было. Няня призатихла, жадно слушая их, не проронив ни одного слова. Потом вдруг стала она учащенно кланяться Борису.
— Спасибо тебе, сударик! Великое спасибо… Господь наградит тебя за доброе дело, что спас ты мою барышню, сиротиночку бедненькую… Господь наградит тебя…
— Только как же вы теперь будете? — вдруг, бледнея, спросил Борис. — Ведь мне надо домой, не мешкая, сейчас надо.
— Что же, батюшка, ступай — Бог не без милости! Уже я теперь ее, сердечную, ни на минуточку не оставлю, уже не отпущу ее от себя.
— Да ведь опять французы прийти могут. Опять сломают двери…
Старуха развела руками.
— За грехи Бог наказал — что уж тут. Одна надежда — приедет барин, Алексей Иваныч, возьмет нас. Да нет; я вот что сделаю. Мы пойдем отсюда… Вчера, Ниночка, я Матрену Степановну встретила, знаешь, чай, Матрену Степановну. Так она меня звала: приходите, мол, с барышней, господа вас примут с радостью. Дом их, вишь ты, цел остался, и две старые барышни из Москвы не уехали. Собрались было совсем, да что-то замешкались, а тут неприятель — и не довелось уехать. Теперь, говорит Матрена Степановна, у них французы постом стоят да никакого зла им не делают, а даже в защиту им от своих. Вот туда и пойдем. Это уж не так, чтобы очень далече…
— Так я и провожу вас! — быстро воскликнул Борис, радуясь, что есть какой-нибудь исход из этого невозможного положения.
Он чувствовал, что не в силах оставить Нину в этих двух комнатах обгорелого дома с бессильной старухой, за разбитой вчера пьяными солдатами дверью, которая еле запиралась на крючок и вся была расшатана. Но вдруг он смутился.
— Да как же она пойдет так? Я принес ее, конечно, могу опять нести. Только если это не очень близко, так ты поможешь мне, няня.
— Зачем ее нести, сама пойдет, — все еще дрожащая от недавних мучений и нежданной радости, но в то же время лукаво усмехнувшись, сказала няня. — Изверги-то шарили, шарили, да не дошарили — сундучок-то здесь — не нашли его…
Она прошла в соседнюю комнату, за нею Борис и Нина. Тут в углу стояла кровать, на которой уже не было ни подушки, ни одеяла. Няня отодвинула кровать. Оказалось, что под нею открывается половица. Конечно, если бы вчерашние французы не были так пьяны, они были это заметили, потому что половица открывалась посредством ввинченного в пол кольца. Няня открыла половицу и из довольно просторного углубления под полом, с помощью Бориса, вытащила сундучок. Она отперла его бывшим в ее кармане ключом, вытащила оттуда узелок с бельем, потом маленькую юбку, платьице, шелковый платок. Потом появилась небольшая шкатулка, обитая кожей, с медными углами.
— Тут вот все, что после барыни осталось, все ее бумаги да деньги. Слава тебе, Господи, все в сохранности! Ну, сударик, вот и есть во что одеть Ниночку, теплого только ничего нет, так ты уже дозволь ей в твоем плащике добежать.
— Само собой! — сказал Борис. — Только как же? Хотя и рано теперь очень, а все же можем с кем-нибудь из этих негодяев встретиться, увидят шкатулку… Отнимать станут.
— Так, так, батюшка, это точно, — озабоченно говорила няня, — куда же нам девать ее? Здесь оставить боязно!
— Конечно, здесь ее нельзя оставить. А вот что мы сделаем! — решил наконец Борис. — Отвори ты ее, няня, и выберем все, что в ней есть, себе по карманам. Видишь, какие у меня карманы большие, много в них поместить можно. Кое-что ты себе за пазуху сунешь, кое-что Нина под плащом пронести может.
Няня подумала немножко, подозрительно взглянула на Бориса.
— Богом клялась барыне не выпускать из рук шкатулку!.. — прошептала она.
Но делать было нечего, и она как будто сама устыдилась своей недоверчивости к Борису. Она отперла шкатулку маленьким ключиком. В шкатулке были бумаги, банковые билеты и некоторые драгоценные вещи.
В то время как она бережно выкладывала все это, Нина уже быстро надела юбку, платьице, повязала себе голову платочком, а сверху опять накинула плащ Бориса.
— Вот я и готова! — проговорила она, улыбаясь своей милой, грустной улыбкой и не то стыдливо, не то радостно поглядывая на Бориса. Она почти бессознательно радовалась тому, что теперь одета перед ним как следует. Через минуту все они трое, разместив за пазухой и по карманам бумаги и вещи, вышли во двор. Няня несла узелок с бельем.
— Брось, няня, брось, — сказала, заметив узелок, Нина, — накинутся, отнимут…
Но няня покачала головой.
— Нет, барышня, коли встретим какого недоброго с виду человека, тогда ему в рожу и брошу узелок — пусть он им подавится. А может, с Божьей помощью и пронесем благополучно. А то как же тебе быть без чулок и сорочек?!
Нина замолчала. Они быстро пошли по переулку. Все по-прежнему было тихо, и они благополучно совершили свое небольшое путешествие, встретив всего несколько человек русских, которые даже не обратили на них никакого внимания. Наконец в одной из улиц няня остановилась перед довольно большим домом. Они прошли в калитку, добрались до заднего входа в дом. В доме все еще, очевидно, спали. Няня подобралась к знакомому ей окошку, постучалась, прислушалась, приложившись ухом к стеклу. Потом еще раз постучалась. Ее окликнул кто-то изнутри.
— Матрена Степановна, я это, я… Отвори, сделай Божескую милость!
Скоро дверь отворилась. Пожилая, почтенного вида женщина, по всем признакам экономика из хорошего дома, вышла на крылечко.
Няня сказала ей, в чем дело. Матрена Степановна пригласила их войти. Они прошли сенцы, потом коридорчик и очутились в светлой и веселенькой комнатке, чисто, хотя и незатейливо прибранной.
— Хорошо сделала, матушка, что привела барышню, — говорила Матрена Степановна, — давно бы догадалась! Ведь времена нынче какие?! Ну как так можно тебе, такой старушонке, вдвоем с дитей…
— Матушка ты моя, — отвечала няня, — да ведь уж и не знаешь, как быть-то! Ведь почему я осталась — со дня на день ждала, что Алексей Иваныч приедет… Приедет он, а дом-то погорелый, нас нету… Ну где он барышню искать будет?! Вот и теперь, привела я ее. Приютите, добрые люди! А сама опять туда… Буду ждать Алексея Ивановича…
— Это мы уладим! — сказала Матрена Степановна. — Вот господа встанут, проведу я к ним барышню, что-то они скажут — может, все и уладится. А вы, сударь? — обратилась она к Борису, только теперь обратив на него внимание. — Позвольте вас спросить — кто вы такой будете?
Борис смутился. Но няня его выручила. Она сказала, что он спас барышню, что, мол, не будь этого молодого барина, так Ниночки и в живых не было бы теперь.
— Ах, страсти! — говорила Матрена Степановна. — Вот времена! Вот Божеское наказанье!.. Дети малые — и те чего-чего ни навидаются, как ни намучаются!
Она глубоко вздохнула и перекрестилась.
— Вы, сударь, обождите тоже, повидайтесь с господами… Они рады будут.
— Нет, я не могу больше! — сказал Борис. — Я должен домой идти.
Он выложил из своих карманов все, что было им взято из шкатулки, и передал няне. С каким бы наслаждением он остался еще с Ниной! Но грезы прошли. Он сознавал действительность.
— Прощай, Нина! — проговорил он. — А вы мне позволите наведаться? — спросил он, обращаясь к Матрене Степановне.
— Сделайте милость, всегда рады будем!.. Как же можно, большое одолжение… Прошу покорно… И господа рады будут.
— Прощай, Нина! — протягивая руки к девочке, повторил он.
Нина взглянула на него и вдруг бросилась к нему на шею крепко, крепко его целуя.
— Прощай, — говорила она, — только ты возвращайся непременно! Слышишь, Борис, — ведь вернешься, не обманешь?!
— Не обману, — сказал он ей.
— Возьми свой плащ! — вдруг, вспомнив, крикнула девочка.
Он не слышал ее и не понимал. Он поклонился Матрене Степановне, поклонился няне и скоро, скоро, ни на кого не глядя, вышел в коридорчик, в сени. Прошел через двор и выбежал на улицу.
Он остановился на мгновение, сообразил дорогу и помчался к Басманной, без шляпы, без плаща, полный тревоги, опасений, но в то же время с каким-то широким, новым, еще неведомым ему чувством.
X. ВИНОВАТЫЙ
В доме у Горбатовых Бориса хватились очень скоро.
Англичанин вышел к утреннему чаю несколько смущенный и объявил Сергею Борисовичу на его вопрос о сыне, что Борис, верно, гуляет в саду, хотя он сейчас обошел сад и нигде его не встретил.
— Когда же он вышел?
— Должно быть, очень рано! — ответил англичанин. — Я проснулся в восемь часов и увидел, что его уже нет в спальне.
Прошло с полчаса. Отец послал его разыскивать в саду. Но посланный вернулся, объявив, что его решительно нигде нет. Тогда началась тревога.
Быть может, он, несмотря на все запрещения, вышел на улицу. Спросили сторожа. Сторож сознался, что молодой барин еще почитай на заре приказал отворить себе калитку и приказал так властно, что он, сторож, не смел ослушаться.
Татьяна Владимировна, по обыкновению, не отходила от сына, и Сергей Борисович почти до самого обеда скрывал от нее отсутствие Бориса. Карлик немедленно же отправился разыскивать по городу своего любимца. Были разосланы люди. Одни возвращались, другие отправлялись на поиски. Но как же возможно было его отыскать в таком городе, как Москва! Сергей Борисович был в полном отчаянии. Он предчувствовал это. Он ежедневно боялся какой-нибудь выходки со стороны Бориса. С детства фантастический, своевольный мальчик, бродяга, искатель приключений!.. Он и негодовал, сердился на него, и в то же время понимал его, а пуще всего чувствовал теперь одно — что несчастнее его нет никого на свете… Как он скажет жене? Что с нею будет? Когда он воротится? Воротится ли? Ему представлялись всякие ужасы. Он не вытерпел и сам отправился на поиски. Бродил до обеда по улицам и вернулся, не найдя сына. К обеду вышла Татьяна Владимировна. Муж взглянул на нее и поразился выражением ее лица, оно все так и сияло счастьем.
— Володе лучше! Лучше! — восторженно объявила она. — Теперь нет никакого сомнения. Я долго думала, что Франц Карлович меня утешает, говоря, что произошел кризис и что начинается выздоровление. Теперь я сама вижу, что он прав. Пойдем, милый, пойдем… Взгляни на него… Он уже может сидеть… Жару никакого. Он с аппетитом выпил бульон… Да где же Борис? Володя зовет его…
— Борис! — крикнула она, думая, что он в соседней комнате; но никто не отозвался.
Муж молча стоял перед нею. Она взглянула на него и с изумлением отшатнулась.
— Что это?! Я принесла тебе такую радость, а ты такими глазами на меня смотришь?! Что случилось?!.
И вдруг материнское сердце угадало истину.
— Борис! С ним что-нибудь?!. Да говори… Говори, ради Бога… Не томи, не скрывай… Где Борис?!. Что с ним?!.
— Не пугайся, пожалуйста!! — через силу выговорил Сергей Борисович. — Поверь мне, страшного ничего нет.
— Да что с ним? Что случилось?!
— Бог милостив. Он здоров… только его нет… нигде найти не могут… с утра ушел из дому…
Она так и всплеснула руками.
— Господи! Да ведь он обещал не уходить… Ведь ты же распорядился, чтобы его не выпускали… как же это?! Ищут ли его?! Пошли скорее во все стороны.
— Это давно уже сделано, и я сам только что вернулся… Не тревожься только… конечно, он к вечеру вернется, и за такое непослушание надо будет строго взыскать с него. Пойдем к Володе и успокойся.
Они пошли к больному сыну. И это было большое счастье и для них, и для Бориса, что Владимир, действительно, оказался в лучшем состоянии. Эта радость, которую они так ждали и на которую уже совсем перестали надеяться, уменьшила томительность ожиданий и беспокойства. Между тем время шло. Давно наступили сумерки. Некоторые из посланных и карлик вернулись ни с чем. Нет Бориса — да и только! Горбатовы, карлик и почти вся прислуга, которая была искренно предана семейству, провели почти бессонную, тревожную ночь. Но вот пришло утро — беглец возвратился. Он вошел бледный, дрожащий, с опущенными глазами. Он уже понимал, сколько мук причинил отцу с матерью. Он едва сдерживался от рыданий.
Татьяна Владимировна кинулась к нему, охватила его крепко руками, прижала его к груди своей.
— Жив! Здоров! Ничего с тобой не случилось?!.
Она, крепкая, сдержанная и хорошо владевшая собою женщина, вдруг почувствовала полную слабость и громко зарыдала. Сергей Борисович хотел встретить сына строгими упреками, гневом и не сумел этого. Он чувствовал себя возрожденным, счастливым, помолодевшим. Глаза его светились и выдавали его душевное состояние.
— Где же ты был, разбойник?! — крикнул он. — Говори всю правду! Посмотрим, есть ли у тебя хоть какое-нибудь оправдание…
Борис рассказал. Оправданий было много. Он спасал женщин и детей — этот новый рыцарь без страха и упрека.
— Ах ты, Дон-Кихот! — проговорил Сергей Борисович.
Мальчик взглянул на отца совсем обиженный, губы его дрогнули; но он не сказал ни слова. Сцена с безумным стариком, в которого он хотел стрелять как во француза, действительно, давала отцу право назвать его Дон-Кихотом. Но в то же время он чувствовал, что не виноват, что действовал не дурно. Не виноват с одной стороны и очень виноват с другой! Как же примирить это? И в первый раз в жизни ему ясно стало, что трудно, трудно совсем даже невозможно так жить и поступать, чтобы со всех сторон быть правым…
— А о брате и не спросишь?! — проговорил отец.
— Что он?! Что?! — испуганно шепнул Борис.
— Что! Иди скорей к нему… Он уже давно тебя ждет… давно тебя ждет и не понимает, отчего ты не идешь… Лучше ему, слава Богу! Только ты не вздумай, пожалуйста, рассказывать о твоих приключениях — это его взволнует…
— Не буду, конечно!
— А потом — слушай еще одно! — найдя вдруг в себе строгий тон, договорил Сергей Борисович. — Слушай! Ты доказал, что твоим обещаниям опасно верить, а потому уж не взыщи — теперь ты пленник!
Борис повесил было голову, но известие о том, что брату лучше, так его обрадовало, что он забыл пока все остальное и поспешил в комнату больного. Все обошлось. Несмотря на ужасную обстановку, среди занятого неприятелем, сожженного города, несмотря на все печальные обстоятельства в доме Горбатовых, в этот день был словно большой и радостный праздник. Что же касается хозяев, то они чувствовали себя такими счастливыми, будто вернулись самые светлые, самые лучшие дни их молодости. Один сын благополучно вернулся домой, другой выздоравливает — чего же больше!
С этого дня за Борисом, действительно, был назначен самый строгий надзор. Прислуге было дано строгое приказание не выпускать его из виду. Карлик прочел ему большую нотацию и даже довел его до слез, по своему обычаю, картинно изображая отчаяние Сергея Борисовича и Татьяны Владимировны.
Англичанин, внутренне очень даже одобрявший поступок своего любимого воспитанника, не показывал ему, однако, и вида, что доволен им; напротив, он корчил самую строгую, почти свирепую физиономию и ни на шаг не отходил от него. Борис скоро убедился, что он настоящий пленник, что теперь ему нечего и думать выйти из дому. А между тем ведь он дал обещание Нине известить ее, а между тем ведь он уже тосковал по ней и ему безумно хотелось ее увидеть. Конечно, если бы он захотел только, то мог бы, по крайней мере, иметь о ней сведения; он упросил бы кого-нибудь из прислуги, которая всегда была рада исполнить его желание, сходить по адресу и узнать, здорова ли Нина и вообще, что с нею. Но тут-то с ним и происходило что-то странное.
Борис никогда не был лгуном. Он просто не умел даже лгать, до сих пор ему никогда еще ничего не приходалось скрывать от родителей. Он и теперь, рассказывая им о своих приключениях, ничуть не лгал. Он подробно и обстоятельно передал им все свои впечатления, все встречи. Но все же в его рассказе был большой перерыв, а именно: объяснив, как он заперся со спасенной им девочкой в покинутом доме, он сказал, что провел там ночь, так как иного ничего не мог придумать. И затем продолжал: «Когда стало светать, я снес девочку к ее няне» и так далее. Перерыв был незаметен. Он не скрыл ничего. Действительно, расспросив Нину и успокоив ее, он заснул. Но тут был целый мир новых ощущений, о которых он не проговорился ни словом в своем отчете. Его слушателям представлялась Нина маленькой девочкой: ведь он ее носил, снес к няне. И никому, конечно, в голову не могло прийти, что Нина была для него не ребенком, а каким-то особенным существом. И теперь он думал почти ежеминутно об этой спасенной им девочке.
Он ни за что, ни за что бы в мире не решился никому признаться в этом. Никто не должен знать, что она для него и как он желает ее видеть…
Он надеялся, что ему удастся ускользнуть незаметно из сада. Он знал одно место, где, взобравшись на дерево, можно перелезть через высокий забор. Ведь он отлично умеет лазить. Да, он решительно готов был на вторичное бегство; он забыл все нравственные вопросы и соображения в виду той мучительной, томящей потребности хоть раз еще увидеть Нину, которая его охватила. Но за ним следили. Англичанин не покидал его. И так продолжалось несколько дней.
Наконец Борис не выдержал. Оставаться далее без известий о Нине он был не в состоянии. Быть может, она заболела, простудившись в ту ночь. Быть может, ее уже нет на свете! И вдруг он решился на то, что до сих пор казалось ему невозможным. Он сознал, что наделал ужасных, непоправимых глупостей, что ему давным-давно следовало решиться, и тогда бы не было этих мучений… Он пошел к отцу и, хотя краснея и бледнея, но все же твердо попросил у него позволения в сопровождении гувернера и кого-нибудь из прислуги пройтись по городу.
— Я должен навестить француженку и узнать, что сталось с девочкой…
— Пустяки! — сказал Сергей Борисович. — Если хочешь, расскажи, где это, — и я пошлю кого-нибудь.
— Нет, нет, я сам должен их видеть!
Он начал убеждать, начал доказывать, что ведь ничего не может с ним случиться, если он пойдет с прислугой.
— Ну, пусть трое, четверо идут со мной — только пустите! Я чувствую, что мне нужно освежиться. Папа, милый, пожалуйста, не откажите мне!..
Сергей Борисович задумался.
Когда сын говорил с ним таким тоном, когда он его так упрашивал и глядел на него такими глазами, как в эту минуту, он никогда не мог долго выдержать.
— Послушай, — сказал он, — если тебе уж так этого хочется — хорошо — я исполню твое желание, только с тем уговором, чтобы ты беспрекословно меня послушался… Хорошо, сделай прогулку, зайди в тот дом, где эта девочка, и узнай, что с нею… Но к француженке не заглядывай — это совсем лишнее. Я могу тебя на ее счет успокоить. Ты знаешь, что я исполнил то, о чем ты просил меня относительно нее, и генерал Брошар сказал мне, что она вне всякой возможности нового нападения, весела и довольна. Если ты даешь мне слово, что не будешь порываться к ней, — то хорошо, ступай.
Борис едва мог скрыть охватившую его радость. Он, конечно, дал слово отцу не заходить к француженке. Он вовсе позабыл о ней и тут себя упрекнул в этом. Но вот она устроена, и Бог с нею… Не она, не она нужна ему!
— Позови ко мне мистера Томсона, — сказал Сергей Борисович…
Не далее как через четверть часа Борис, в сопровождении гувернера и трех рослых, сильных лакеев, вышел из дома. Его свита едва за ним поспевала. Он почти бежал по знакомой, хорошо намеченной им заранее дороге. Вот он у цели. Дом невредим, стоит на том же месте. Все как было в то памятное утро. Сердце Бориса шибко забилось.
— Подождите меня здесь, — сказал он гувернеру. — Ведь нельзя же нам всем войти.
— Хорошо, — отвечал англичанин, — только не задержите нас.
— Нет, нет!..
Он был уже во дворе, он стремительно подбежал к крылечку, а на крылечке том, будто поджидая его, стоит Матрена Степановна.
— Здравствуйте, Матрена Степановна! — радостно и в то же время тревожно крикнул он.
Она всмотрелась.
— Ах, это вы, сударь! Милости прошу, войдите! Только вы опоздали, маленькая-то барышня вчера уехала.
— Как уехала?! Куда уехала? — растерянно говорил Борис.
У него и руки опустились, сердце почти перестало биться.
— Да, уехала маленькая барышня. Все вас поджидала, хотела проститься с вами.
— Куда же уехала? Разве теперь можно уехать?! Кто же теперь уезжает? Где она?
— А видите: ее дядя за нею приехал, братец ее маменьки покойной. На другой же день по приезде выхлопотал пропуск и увез ее с няней в деревню.
— Что же это такое, — прошептал Борис в отчаянии, — значит, я ее не увижу?!.
— Да уж теперь трудно увидать. Только, батюшка, как знать, гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойтись может… А Ниночка как вас тоже желала видеть, даже плакала… добрая она, хорошая барышня. Так в эти дни мы ее полюбили и господа… Да, что же это я запамятовала совсем, ведь она вам записочку оставила. Маленькая такая барышня, а и читать и писать как хорошо умеет, — разумная. Да войдите, сударь! Я вам записочку дам, а то вот к господам пройдите. Может, они вам еще что-нибудь скажут.
— Нет, Матрена Степановна, мне некогда, меня ждут, — проговорил Борис, едва владея собою. — Я ведь только узнать, что с нею, боялся, не заболела ли… А записочку вы мне дайте.
— Сейчас, батюшка, сейчас!
Она ушла в свою комнатку и через минуту вернулась с записочкой.
Борис положил записочку в карман, распростился со старухой и вышел на улицу…
— Вот это хорошо, — сказал англичанин, — что вы так скоро. Что же, теперь обратно домой?
— Да, домой, конечно! — ответил Борис.
— Отчего у вас такой печальный вид, разве что-нибудь нехорошее с этим ребенком?
— Нет, ничего, все благополучно!
И Борис опять спешил, спешил, почти бежал. Он должен был скорее в уединении прочесть эту маленькую записку, которую сжимал в своем кармане, будто боясь, чтобы кто-нибудь ее не отнял. Вернувшись домой, он заперся в своей комнате, развернул бумажку. Карандашом, крупным детским почерком и с ошибками было написано:
«Ты не пришел, Борис, а я должна ехать. Дядя меня увозит. Я очень, очень хочу проститься с тобою, только ждать нельзя. Я буду всегда о тебе думать. Когда я тебя увижу? Я беру твой плащ на память о тебе. Няня говорит, чтобы я непременно оставила, но я не хочу, ни за что не оставлю. Я его буду беречь и отдам тебе, когда ты сам придешь за ним. Приходи, я буду всегда, всегда ждать тебя. Нина».
Борис раз десять прочел эти строки. Потом спрятал записочку в свою заветную шкатулку, вместе с самыми дорогими ему вещами. Потом горько задумался, и вдруг он теперь понял, что любит Нину той особенной, странной, мучительной и сладкой любовью, о которой уже думал.
«Она зовет меня. Она будет всегда, всегда меня ждать. И я ее всегда ждать буду, и я искать буду, пока ее найду, и никогда я не разлюблю ее. Да, Нина, я найду тебя и приду к тебе!..»
Он долго сидел, погруженный в свои неясные грезы. И весь этот день он был такой странный, молчаливый, грустный и рассеянный, что мать не раз его спрашивала:
— Да здоров ли ты? Что с тобой?
— Здоров, здоров! Со мною ничего!..
А сам чуть не плакал.
Между тем Владимир быстро поправился. С ним, действительно, произошел спасительный кризис. Замечательно крепкая натура мальчика поборола странную, мучительную болезнь. Татьяна Владимировна надеялась, что припадок не повторится больше, потому что на этот раз мальчик был совсем иным, чем бывал в период мнимого выздоровления. Он ел с большим аппетитом, лицо его начинало видимо округляться, показался румянец. Он много спал и просыпался утром свежий и бодрый.
Вскоре обстоятельства позволили Горбатовым выехать из Москвы. Они переселились в Горбатовское, где прожили всю зиму.
Наполеон был побежден. Москва очищена, жители стали в нее возвращаться. Мало-помалу сглаживались ужасные следы неприятельского нашествия и пожара. Честь России была спасена, русский дух воспрянул, наступили годы славы.
Борис и Владимир вырастали. Они уже студенты. Жизнь кипит, сменяются впечатления. Быстро и разнообразно проносится лучшее время человеческой жизни. Но Борис, несмотря на перемены, происшедшие вокруг него и в нем, не забывает Нину. Он не знает даже ее фамилию, никогда он о ней ничего не слышит…
Через год, вернувшись в Москву, он отправился к Матрене Степановне, но ее не оказалось. Не оказалось и господ ее. Они выехали из Москвы, их дом отдавался в наем. Всякий след, по которому можно было отыскать Нину, исчез…
Борис уже превратился в совсем взрослого человека. Соблазны женской красоты действовали и на него, и он поддавался им. Он отдал дань юности. Но ни одна женщина, с которой он сходился, ни одна девушка, с которой он встречался, не успели овладеть всецело его сердцем и изгнать из него образ странного, маленького существа, которое Борис обставлял какими-то волшебными чарами.
Вот брат Владимир уже женился, и Борису представлялось немало партий. Даже родители его не раз указывали ему на девушек, которые могли бы подойти ему; но он не думал о женитьбе. Он продолжал упорно ждать Нину. Это ожидание не мучило его, оно вошло в привычку. Он твердо был уверен, что непременно ее встретит и должен был ее встретить свободным от всяких сердечных и иных обязательств человеком…
Теперь, вернувшись в Россию после долгого своего путешествия и сразу почти окунувшись в светскую петербургскую жизнь, он не мог, конечно, вообразить, что встретит Нину в этой обстановке. Ему казалось, что она принадлежит к совсем иному миру, куда он попадет когда-нибудь случайно, так же случайно, как и в первый раз встретился с нею.
А между тем весь день перед балом он испытывал странное ощущение. Он был в каком-то необычном нервном состоянии, будто ждал чего-то. Когда он вошел в залу, наполненную блестящим обществом, это странное, томившее его ощущение еще усилилось. Он был рассеян, у него дух захватывало. Он не мог ни на чем сосредоточиться.
И вдруг перед ним мелькнул образ бледной девушки — и он узнал в нем Нину.
Он давно знал и встречал много раз у своей матери княгиню Маратову, но никогда не слыхал, что у нее есть племянница. Да если бы и услышал, то что же бы ему сказало имя mademoisselle Lamzine?! A главное, Нина менее двух лет как живет у тетки. Она приехала в Петербург уже в то время, как он был заграницей.
Княгиня Маратова, к которой Нина подвела Бориса, очень изумилась, что племянница давно с ним знакома, и еще больше изумилась, когда та ей сказала, что это тот самый мальчик, который спас ее во время французского нашествия. Маратова, пожилая вдова, была известна в петербургском обществе своей толщиною и неизменным присутствием всюду, где только собирались люди. Круглое, несколько обвисшее лицо, чуть ли не с тройным подбородком, маленький вздернутый нос, черные усики в углах губ, круглые живые и умные глаза и толстые локоны, болтавшиеся с обеих сторон вдоль щек, делали ее необыкновенно похожей на откормленного, породистого кинг-чарлза. Она наговорила Борису кучу всякого милого вздору и кончила тем, что надеется его у себя видеть в самом скором времени, чтобы из уст его услышать интересный рассказ о старинных его приключениях с Ниной.
— Ma mère sera charmée de vous revoir! — добавила она. — Она так любит нашу Нину и всегда заставляет ее рассказывать об ее детстве и о московском пожаре.
— Я завтра же буду у вас, если позволите! — сказал Борис.
— Пожалуйста, мы будем ждать вас.
Он раскланялся, отошел и глядел, как Нина, приглашенная в это время на танец, легко и грациозно носилась среди грома музыки, среди блеска и света горячей атмосферы бальной залы.
А княгиня Маратова думала:
«Вот приютили сиротку, да кто знает, быть может, она такую еще партию сделает, что все эти барышни с громкими именами себе локти кусать станут… Ce jeune Gorbatoff… qui sait?!»
XI. «ГЕНЕРАЛЬША»
Дом, в котором теперь приходилось жить Нине, помещался недалеко от Таврического сада. Он принадлежал старой генеральше Пронищевой, матери княгини Муратовой. Это было большое одноэтажное с мезонином здание, с широким двором, где помещались флигели для прислуги, конюшни и сараи. За домом шел небольшой густой сад. Ворота стояли всегда на запоре. Шторы почти во всех окнах, выходивших на улицу, были всегда спущены, и вообще дом, хотя и представительной внешности, но уже потемневший, закопченный от времени, имел мрачный вид. Казалось, будто в нем или никто не живет, или что тут кто-нибудь очень болен. Это последнее предположение представлялось тем более вероятным, что время от времени почти во всю ширину улицы перед домом настилался толстый слой соломы, для того чтобы заглушить езду экипажей, хотя в этой части города езды было немного.
Между тем в доме не было больных и жило в нем очень много народу. Хозяйка дома, из старого рода князей Унжицких, когда-то, в начале царствования Екатерины, играла видную роль в петербургском свете. Она была очень красива, имела большое состояние, всегда была окружена толпой поклонников. Она провела веселую, шумную молодость, не спешила замуж, но в конце концов, лет под тридцать, все же вышла за молодого гвардейского офицера Пронищева.
Она могла по своему положению, связям и богатству сделать гораздо более блестящую партию. У нее в течение нескольких лет было много прекрасных женихов, но потом женихи эти как-то вдруг стали отставать. Поговаривали, что княжна Унжицкая слишком веселого характера и слишком легких нравов. Про нее ходило немало рассказов. Но, конечно, в те времена, не отличавшиеся особенной нравственностью, княжна не могла себе много повредить своей веселой жизнью. Рассказы об ее приключениях не могли отвадить от нее женихов, которые, сватаясь к ней, искали в будущей подруге жизни не семейных добродетелей, а связей и хорошего приданого.
Женихи отстали просто потому, что княжна вовсе не хотела выходить замуж, ей было и так весело. Матери своей она не помнила, из отца, старого ничтожного человека, не чаявшего в ней души, она делала все, что ей было угодно. Но вот или годы такие пришли, или каприз на нее нашел, она вдруг оповестила своих друзей и знакомых, что выходит замуж за Пронищева. Все изумлялись, никто не считал его подходящим к ней женихом. Он даже за ней никогда особенно не ухаживал, да и встречались они нечасто. Но, остановив на нем свой выбор, княжна не стала долго задумываться. Она сама, как потом рассказывалось не без основания, сделала ему предложение. Он подумал, сообразил и не стал отказываться.
Через полгода после их свадьбы умер ее отец. Она разделила с единственным своим братом прекрасное состояние и поселилась в доме близ Таврического сада. Муж ее служил и шел в гору. У нее родилась дочь и затем детей больше не было. Между тем поговаривали, что бывшая веселая княжна несколько ошиблась в выборе мужа. Она рассчитывала найти в нем полное снисхождение к своему прошлому, настоящему и будущему. О прошлом он, действительно, не вспоминал, но что касается настоящего своей супруги, оно его интересовало в значительной степени. Бывшая веселая княжна хотя и показывалась по-прежнему в обществе, и хотя по старой памяти и позволяла себе легкомысленные выходки, но уже, очевидно, с опаской. Затем случилось так, что вдруг она исчезнет, сказывается больной, никого не принимает — и продолжается это месяца два, иногда более.
Рассказывали, что за каждый легкомысленный поступок Пронищев не только взыскивал с нее, но, будучи человеком горячим, иной раз просто-напросто прибегал к кулачной расправе. Люди, часто бывавшие у них в доме, иногда оказывались свидетелями бурных сцен, во время которых Пронищева всегда притихала, делалась ниже травы, тише воды.
«Блудлива, как кошка, труслива, как заяц», — говорили про нее.
И это было справедливо. Она стала очень бояться мужа и, несмотря на то, что он был ей всем обязан, так как она взяла его за себя нечиновным, почти безродным человеком, без всякого состояния, она вдруг оказалась вынужденной признать его своим главой. Чувствуя себя очень часто виноватой, она всегда была настороже, начинала дрожать от первого резкого звука его голоса. Проводя жизнь в измышлениях как бы провести его, избежать его гнева и иных весьма чувствительных для нее последствий этого гнева, мысль о том, что достигнуть этого не особенно трудно, стоит только вести себя как подобает верной и любящей жене, никогда не приходила ей в голову. Она не могла отстать от своих укоренившихся привычек.
Находясь в постоянном страхе, зная, что за нею учрежден очень деятельный присмотр, она, тем не менее, улучив удобную минуту, посылала то тому, то другому из намеченных ею молодых людей billets doux, назначала со всеми предосторожностями тайные свидания. Избежать ответственности ей почти никогда не удавалось, но, тем не менее, она не была в состоянии измениться. С каждым годом она сильнее и сильнее боялась мужа и в то же время чаще и чаще рассылала свои billets doux и назначала свидания.
Дочь свою она любила, хотя, конечно, по-своему. Мало обращала на нее внимания и всецело доверила наемным воспитательницам, которые то и дело менялись в доме, так как у хозяина был самый неуживчивый характер и он ни с кем не стеснялся. Покажись ему что-нибудь неладным, сейчас — марш, вон, без рассуждений! — и конец делу.
Но время шло. Госпожа Пронищева, теперь уже бывшая генеральшей, несмотря на все притиранья и прочие косметические средства, начала значительно терять свою красоту, приближаться мало-помалу к старости. Дочку свою Машеньку она выдала замуж за князя Маратова, человека уже не молодого, но, во всяком случае, представлявшего из себя очень хорошую партию. Борьба ее с мужем продолжалась. Но теперь к этой борьбе примешалась и другая. Приходилось бороться и с теми, к кому посылались billets doux. Приходилось побеждать их сначала с большим трудом, а потом даже с большими денежными пожертвованиями.
Генерал Пронищев, будучи главой дома и «строго наказывая жену», несмотря на это, оставил в ее руках и распоряжении все денежные средства.
«Это не мое, — говорил он, — я имею только свое жалованье, заслуженное мною, и в употреблении его не даю никому отчета».
Генерал, решительный и храбрый воин, которому, однако, в начале его военной карьеры пришлось воевать не особенно много, принимал участие в итальянском походе Суворова, не раз отличался, снискал расположение знаменитого полководца и по возвращении в Петербург был награжден по заслугам. Он еще был далеко не стар, и для него теперь открывалась самая блестящая карьера. Но, сильно простудившись во время трудного похода и не обратив должного внимания на эту простуду, он вдруг стал хиреть. Проскрипел два года и — умер.
По-видимому, генеральша, освободившись от своего «тирана», должна была почувствовать себя легко и свободно. Полагали, что теперь она, несмотря на свои немолодые годы, снова развернется. Но случилось совсем обратно. Она оказалась неутешной вдовой: прекратила все выезды, заперлась в своем доме, спустила шторы и принялась оплакивать мужа. Раз в неделю, закутанная под густой вуалью, она садилась в карету и отправлялась в Александро-Невскую лавру, где был похоронен генерал; слушала там обедню, служила панихиду, сидела долго на его могиле, возвращалась домой и в течение недели никуда не выезжала и не выходила. Затем опять такая же поездка в лавру.
Так проходил месяц, другой, третий. Прошел целый год. Все были изумлены. А каприз все же не проходил. Никто уже не получал от нее billets doux, никому она не назначала свиданья. Она принимала у себя весь город, но только с визитами. Более десяти минут у нее никто не засиживался.
Стали проходить годы. Образ ее жизни не изменялся. Она дышала воздухом раз в неделю, отправляясь в карете в лавру и жила так и зимой и летом, никуда не выезжая и даже в самые жаркие летние дни не выходя из своей комнаты. Овдовела ее бездетная дочь и переехала к матери. Потом у нее в доме поселился ее холостой брат, князь Унжицкий. И дом этот в течение более двух десятков лет не изменялся ни в чем. Шторы в будуаре генеральши, откуда она не выходила, и во всех парадных комнатах были всегда опущены. Сюда не должно было доноситься никакого шума, поэтому многочисленная прислуга жила во флигелях. Просторный мезонин был занят старым князем. Княгиня Маратова занимала совсем отдельное помещение, соединявшееся с парадными комнатами и будуаром матери посредством длинного коридора…
Генеральша, в каком-то порыве раскаянья, давшая обет на могиле мужа всегда его оплакивать и до конца дней своих вести затворнический образ жизни, начала с того, что стала исполнять этот обет чисто из страха. Она боялась, что если нарушит его, то покойник придет к ней с тем, чтобы наказать ее. А затем она уже привыкла к своей новой жизни, втянулась в нее, разленилась и не хотела ничего другого. Она проводила день за днем без всякого изменения. Вставала ровно в одиннадцать часов. Потом сидела перед зеркалом и с помощью привыкшей к ее причудам компаньонки убирала свои седые волосы в вычурную прическу Екатерининского времени, сурмила себе брови, белилась и румянилась. Затем облекалась в пышную робу, такую же старомодную, как и прическа, и выходила в свой будуар, где не только были спущены шторы, но даже спущены и тяжелые занавеси, так что самый яркий луч солнца не мог сюда проникнуть.
Комната эта была какая-то немного выцветшая, но богатая коробка с скрытыми окнами и дверями, с тяжелым ковром, заглушавшим шаги, уставленная старинной прекрасной мебелью и всевозможными безделушками. Генеральша помещалась в огромном покойном кресле со всевозможными приспособлениями, обкладывалась подушками. Неподалеку от этого кресла на небольшом мозаичном столике горела лампа под темным абажуром. Прямо против кресла генеральши, на темном фоне обитой бархатом стены, висел портрет покойного «тирана» в полном генеральском мундире Павловского времени, со всеми знаками отличия, в тяжелой вычурной раме, наверху которой помещался герб Пронищевых, поддерживаемый с двух сторон какими-то неслыханными зверями.
Генеральша в этой бархатной комнате, освещавшейся бледным светом лампы, казалась видением минувшего времени — со своей напудренной прической, в своей робе. Но она достигла цели. Это освещение делало ее на вид очень моложавой и привлекательной, скрывало густой слой белил и румян, лежавший на увядших щеках ее. В настоящее время генеральше уже было лет семьдесят пять. Она высохла, сморщилась, но все еще в темноте производила впечатление. Глубокие черные глаза ее иногда так и горели из-под разрисованных, насурмленных бровей.
Просидев несколько минут неподвижно, пристально глядя на портрет покойника, генеральша протягивала руку к сонетке, звонила. Через минуту шевелилась портьера, неслышным шагом появлялся благообразный старый лакей, неся серебряный подносик с кофе и печеньем. Вслед за кофе тоже неслышно вбегала в будуар маленькая мохнатая белая собачонка и укладывалась на подушке у генералыниных ног, ожидая обычного кормления сахаром.
Таким образом проходило полчаса времени. Тогда генеральша звонила вторично, и на этот звонок являлась молоденькая девушка, одна из шести воспитанниц генеральши.
Вот уже двадцать лет как Пронищева брала к себе на воспитание одновременно шесть бедных девочек, особенно ей рекомендованных. Они жили в ее доме под надзором пожилой гувернантки, которой генеральша очень доверяла, учились, к ним даже приглашались учителя. Эти девочки, выйдя по большей части из простого звания, превращались в настоящих барышень. Затем, когда они достигали двадцатилетнего возраста, генеральша входила в сношения с известною ей давно свахой, представлявшей ей список женихов. Устраивались смотрины, выбранный жених представлялся генеральше, и в скором времени в доме праздновалась свадьба. Воспитаннице выдавалось приданое и некоторая сумма денег, иногда даже довольно значительная, если девушка оказывалась из генеральшиных любимиц. Таким образом, в женихах никогда не было недостатка, тем более что воспитанницы выбирались почти всегда хорошенькие собою. На место выбывших брались новые, в возрасте от десяти до тринадцати лет.
Относительно генеральши обязанности этих воспитанниц состояли в очередном при ней дежурстве для ухаживания за нею и для чтенья. Таким образом, каждая девочка дежурила раз в неделю. По воскресеньям дежурств не бывало. Генеральша, возвратясь из Александро-Невской лавры, призывала к себе сразу всех шестерых воспитанниц вместе с их гувернанткой и беседовала с ними…
Дежурная девушка, войдя по звонку в будуар, подходила к ручке благодетельницы, осведомлялась о здоровье и затем дожидалась приказаний. Генеральша обыкновенно начинала с того, что приказывала приподнять немного абажур лампы, оглядывала пристально воспитанницу и делала ей свои замечания.
— Что это, матушка, как ты нынче причесана? Нечего эти локоны взбивать… Чтобы в другой раз я тебя такой мохнатой не видела!.. Вот, гляди…
Генеральша протягивала руку к столику, выбирала картинку, изображавшую какую-нибудь молодую девушку в самой невозможной прическе. У нее всегда на столике была целая коллекция таких картинок.
— Гляди… вот, гляди хорошенько и в следующее дежурство изволь точно так быть причесанной!..
— Слушаю-с, ваше превосходительство, — покорно отвечала девушка.
— Картинку ты с собой возьми, только смотри не истрепи, не испачкай. Причешись точно так же и принеси с собой картинку. А это что? Дай-ка, матушка, сюда руку… дай-ка… Никак это ты ногти грызешь — бесстыдница?!
— Я не грызу, ваше превосходительство.
— Не лги, не запирайся… грызешь… Экая скверная привычка! Чтобы впредь этого я не видала. Изволь носить длинные ногти.
Наконец осмотр и замечания оканчивались, генеральша приказывала девушке взять книгу, сесть возле лампы и читать.
Книга обыкновенно была какой-нибудь французский роман. Все воспитанницы должны были хорошо говорить по-французски. Чтение начиналось, но с ежеминутными перерывами. Генеральша останавливала:
— Постой… остановись… je dois me rappeler j'ai oublie l'histoire de ce Gustave… et puis… la jeune comtesse… elle était la fille… la fille non, je ne me rappelle plus… raconte moi le commencement.
Начало романа было читано другими воспитанницами, но каждая из них должна была изучать книгу, которая читалась генеральше.
Девушка начинала рассказывать. Старуха опять прерывала, пускаясь в рассуждения. Критиковала, находила в романе недостатки, несообразности.
— Ну, как же это можно, — говорила она, — они встретились на балу, а я не знаю, в каком же она была платье!
— Тут сказано, ваше превосходительство (воспитанницы должны были в разговоре с генеральшей как можно чаще титуловать ее), — тут сказано, что она была вся в розовом… toute en roze.
— Toute en roze! Что это значит? Этого мало. Он должен подробно описать ее туалет, и материю, и фасон, и все, одним словом. А то как же я могу себе представить! Глупо, глупо теперь пишут… скучно… не читай больше — оставь книгу!
Девушка закрывала книгу и ожидала дальнейших приказаний.
Генеральша начинала расспрашивать обо всем, что делалось за эту неделю в доме. Сама она никогда ничего не могла видеть, так как только раз в неделю проходила по парадным комнатам, для того чтобы сесть в дожидавшуюся ее старинную тяжелую карету и ехать в лавру. Но она у всех все расспрашивала, всем интересовалась.
Она прерывала рассказ воспитанницы.
— Стой, лжешь! Кучер Михайло был третьего дня пьян и его свели в полицию, а ты говоришь, что он возил вас кататься?
— Извините, ваше превосходительство, я ошиблась, возил нас не Михайло, а Петр.
— То-то же, смотри — не ошибайся. Отчего это во вторник Катя (одна из воспитанниц) весь вечер проплакала?
— Не знаю, ваше превосходительство.
— Лжешь, знаешь!
— Да, право же, не знаю!
— Лжешь, знаешь, говори…
— Да мы у обедни были у Всех Скорбящих, — запинаясь, с трудом выговаривала девушка, — и в церкви какой-то офицер вдруг подошел к Кате и что-то шепнул ей. А Надежда Николаевна (это гувернантка) стала потом допытываться: кто да кто? А Катя совсем его не знает. Обидно ей стало — вот она и плакала.
— Лжешь, лжешь! — вдруг накидывалась на нее генеральша. — И чего же вы лжете, противные девчонки! Неужто не знаете, что от меня ничего не скроешь!
— Да я не лгу, ваше превосходительство, — уже со слезами на глазах произносила девушка. — Я ничего больше не знаю…
— Знаешь, знаешь, отлично знаешь, что этот офицер сунул Катьке записочку, а та ее в карман. А когда Надежда Николаевна дома стала ту записочку требовать, она ей ее не отдала, а съела. Еще раз какая-нибудь из вас так поступит, то будете наказаны. Мало того, я выгоню виноватую. Я вас пою, кормлю, воспитываю, обучаю не для того, чтобы вы негодницами делались. Вы должны жить честно, на мужчин не заглядываться, записок от них не принимать. Время придет, замуж выйдете, так ведь я перед вашими мужьями должна быть права.
И она принималась читать целую лекцию о том, как должны вести себя благопристойные девицы. Она требовала от своих воспитанниц именно того, чего никогда в жизни от самой себя не требовала. За нравственностью девушек следили в доме еще гораздо строже, чем когда-то следил «покойник» за нравственностью генеральши.
Наконец генеральша отпускала от себя воспитанницу завтракать.
Потом к ней входил князь — ее брат, которого она называла не иначе как mon frère, в очень важных случаях — братец, и дочь ее, княгиня Маратова. Они приходили позавтракав, и вслед за ними лакей вносил завтрак генеральши.
Княгиня должна была передать матери все городские новости; сказать, где она была накануне, кого видела. Генеральша подробно обо всем расспрашивала, интересовалась всякою мелочью.
Несмотря на то что княгине было уже под пятьдесят лет и что при этом она отличалась, как уже сказано, замечательной толщиною, генеральша до сих пор продолжала считать ее чуть не девочкой и частенько допытывалась:
— Ну, а кто же теперь твой aborateur? Кто за тобой увивается? С кем махаешься, матушка? Нет ли кого на примете?! Я вот все жду, что нового зятька мне представишь. Только будь, chère amie, осторожна, посоветуйся сначала со мною.
— Ах, maman! — смеясь, говорила княгиня. — Что это вы, право… Да я давным-давно всякие мысли о замужестве бросила, в мои ли годы об этом думать… Et avant tout je ne veux pas être ridicule…
— Ну, ну, что уж так! Ты еще молода, зачем не выйти замуж, не все же вдоветь. А увиваются? Увиваются? Признайся?!
Княгиня пожимала плечами.
— Mon oncle, — обращалась она к дяде, — хоть вы скажите, maman, что за мною, за этакой тушей, за старухой, никто увиваться не станет. Темно тут так, что ли, что она меня не видит.
Старый князь, не отличавшийся словоохотливостью, на обращение племянницы вставал со своего места, подходил к ней, целовал у нее ручку.
— Ну, какая же ты туша?! Какая старуха?!
Входил лакей и докладывал: князь такой-то.
— Проси! — поспешно вскрикивала, вся встрепенувшись, генеральша.
Она охорашивалась, просила еще больше спустить абажур лампы, принимала в своем огромном кресле грациозную позу и ожидала гостя.
Несмотря на то что генеральша более двадцати лет не покидала своей комнаты и, по-видимому, сделала все, чтобы порвать связи с обществом, общество ее не забывало.
XII. ЗАКАТ ВЕСЕЛЫХ ДНЕЙ
Прежняя ее жизнь и приключения были хорошо всем памятны и в виде легенды передавались молодому поколению. Теперь над ее странностями, причудами, темной комнатой, туалетом Екатерининских времен потешались. А между тем почти все представители высшего петербургского общества считали почему-то своей обязанностью время от времени навещать ее. С годами визиты эти вошли просто в обычай, заняли место среди параграфов кодекса светской жизни.
Все очень хорошо знали, что генеральша принимает от трех до пяти часов, а в другое время, кто бы ни приехал, — всем отказывает. И в эти часы в ее темном будуаре собиралось почти ежедневно самое блестящее общество. Маменьки привозили ей показать только что вступивших в свет дочек. Молодые люди спешили к ней с известием о каком-нибудь своем служебном повышении. Ей первой объявлялось о светских помолвках. Пожилые люди, сановники являлись к ней в назначенные часы, как в клуб, хорошо зная, что в темном будуаре этой напудренной, нарумяненной и набеленной старухи всегда можно встретить какого-нибудь нужного или интересного человека, узнать какую-нибудь новость, приготовить почву для какого-нибудь дела.
Каким образом все это устроилось, решительно непонятно. Положим, покойный генерал в последние годы своей жизни был на виду, отличался в походе, пользовался милостью императора Павла, а затем и вступившего на престол Александра Павловича. Но ведь он так давно умер, что времени прошло слишком много для того, чтобы забыть даже и не такие заслуги, и не такое положение человека! У Пронищевой теперь уже не было влиятельной родни. Она даже и при другом образе жизни не могла бы рассчитывать на видную роль в высших сферах. А между тем, нисколько этого не желая, не думая и даже не замечая этого, она, благодаря какому-то непонятному капризу судьбы, играла роль.
Все говорили: «Глупая, выжившая из ума старуха… смешная, нелепая старуха!» И все же все к ней ехали, сплетничали ей, советовались с нею, повергали на ее суд и критику всевозможные вопросы светской жизни.
«Вчера у Пронищевой говорилось о том-то… Пронищева сказала… Пронищева находит то и то…» «Ах, Боже мой, кто же обращает внимание на слова этой полоумной старухи… только Пронищева и может так рассуждать!» А между тем об ее рассуждениях, мнениях, ее приговорах говорилось, с ними приходилось считаться — и считались.
«Ах, какая скука ехать в такую даль, в эту мрачную гробницу… к этой мумии!» И ехали, потому что все к ней ездят, потому что это принято.
Для каждого молодого человека, вступившего в свет и начинавшего так или иначе карьеру, было неизбежно быть представленным Пронищевой, и день этого представления был иногда знаменательным днем в жизни молодого человека, особенно если он был из приезжих, если он не успел еще себе составить солидных связей и полезных знакомств. Он непременно должен был встретить в этой темной комнате, где пахло всегда пылью и какими-то каплями, очень влиятельных людей, которым любезная хозяйка его непременно представляла, иногда, впрочем, очень странным образом.
Она принимала всех, ко всем относилась с одинаковой любезностью; но люди без титула никаким образом не могли быть в ее комнате. Тут все были князья, графы, бароны и генералы. У кого недоставало титула, тому она сама его придавала. Является, например, молодой человек с самой неблагозвучной фамилией. Она его представляет своим гостям: «Сын генерала такого-то» или: «Внучек генеральши такой-то». И ему нет никакой возможности поправить ошибку, заявить, что отец его никогда и не думал быть генералом или бабушка — генеральшей. Это было бы безумие, он сделал бы дерзость любезной хозяйке и навсегда был бы лишен возможности попасть в это святилище, без которого ему нельзя было обойтись, если он желал чего-нибудь достигнуть. За некоторыми молодыми людьми так и осталось прозвище «пронищевских генеральских сыновей и внучат». Но это прозвище ничему не мешало, даже и оно клало на человека особенную печать. Он бывает у Пронищевой — значит, его всюду принять можно.
Генеральша, полулежа в своем кресле, внимательно насторожившись, слушала своих гостей, расспрашивала обо всех подробностях вчерашнего бала, о придворных новостях и слухах. Она приветствовала новых входивших гостей, знакомила незнакомых между собой, прибавляя неизбежный титул.
К пяти часам она начинала чувствовать утомление и голод. Ничего интересного уже не оставалось, все рассказано, разобрано, решено. В соседней комнате раздается густой звук огромных старинных часов — бьет пять. Генеральша хватается за сонетку. Появляется лакей.
— Никого не принимать больше! — говорит она. Все встают, прощаются и уезжают.
Она опять звонит.
— Обедать!..
Тут на сцену появляется новое лицо — Пелагея Петровна, компаньонка генеральши, старая девица невзрачного вида, всегда носящая черное шелковое платье и гладко зачесывающая с височками жидкие, какого-то бурого цвета волосы. Глаза у Пелагеи Петровны всегда полузакрыты. Нос такой маленький, что его как будто совсем нет, рот сложен сердечком. Двадцать лет генеральша неразлучна с Пелагеей Петровной. Двадцать лет, изо дня в день, Пелагея Петровна является в темную комнату ровно в пять часов и начинает в ней хозяйничать. С этого момента генеральша уже ни для кого не существует, что бы ни случилось, какая бы до нее ни была надобность, — самым близким к ней людям, даже дочери ее, нельзя войти. В самом крайнем случае можно вызвать Пелагею Петровну, ей сообщить что следует. Но уже Пелагея Петровна решит, стоит ли дело того, чтобы доложить немедленно генеральше, или можно подождать до утра.
Генеральша обедает на маленьком столике, который придвигается к ее креслу. Пелагея Петровна ей прислуживает, принимая кушанья от лакея, остающегося за портьерой. После обеда скатерть снимается со столика, появляются карты, начинается нескончаемый пасьянс, в промежутках которого Пелагея Петровна сообщает генеральше все домашние сплетни, все мелочи из жизни княгини-дочери, князя-брата, воспитанниц, их гувернантки, приходящих учителей и учительниц, прислуги, начиная со старшей горничной, буфетчика и кончая последней судомойкой и поваренком.
Эти сплетни спален, девичьих, кухни и кучерской точно так же интересуют генеральшу, как и сообщенные ей от двух до пяти часов истории и сплетни из большого света. Очень часто генеральша, в свою очередь, передает Пелагее Петровне о том, что слышала от своих гостей.
— А знаете ли, Пелагея Петровна, — говорит она вдруг, откладывая карты и подпирая высохшей рукой в браслетах и кольцах дряблую, накрашенную щеку, — знаете ли, что графиня Сомонова ставит мужу рога. Третьего дня у нее родился ребенок, Николаем назвали, носить будет графскую фамилию — а чей он?!
Ротик Пелагеи Петровны совсем превращается в сердечко, глазки вдруг раскрываются.
— И скажите, пожалуйста, дела какие! — протягивает она с небольшим присвистом.
— Да, матушка, это верно! А чей он ребенок, я тебе спрашиваю — как ты полагаешь?
— Не знаю я, матушка, ваше превосходительство, откуда же мне знать-то!
— А я знаю чей он — князя Николая Ивановича. Князя-то знаешь, чай, вчера он у меня был?!
— Знаю, матушка благодетельница, знаю, как не знать.
— Ну, так вот это его ребенок.
— О, Господи, вот дела-то!
— Да и Николаем она его в честь князя назвала. А муж радуется — сын и наследник — давно ждал!..
Генеральша улыбается. Хихикает тихонько и Пелагея Петровна.
— А ловкая бабенка эта графиня! — вдруг вся оживляясь и говоря таким тоном, какого, конечно, никто никогда не мог бы и подозревать в ней, замечает генеральша. — Ловкая бабенка! А все же я в мое время была ее ловчее. Знаете ли, матушка Пелагея Петровна, что со мною раз случилось?
И начинается рассказ о каком-нибудь любовном приключении со всевозможными неожиданными и скабрезными подробностями. И передает генеральша этот рассказ с видимым наслаждением. Она оживлена, она поднимается с кресла, глаза ее сверкают. Она смеется своим старым, дребезжащим смехом, и ей в ответ присвистывает и хихикает Пелагея Петровна. Вот тайна этой дружбы, тайна этих вечерних времяпровождений. Генеральша нашла существо, перед которым может не стесняться, перед которым может свободно вспоминать свою греховную молодость, — а эти воспоминания ей бесконечно дороги.
Таким образом, в раскладывании пасьянса и интересных разговорах незаметно проходит вечер. Генеральша смотрит на часы — уже полночь.
— Ну, матушка, спать пора, — говорит она Пелагее Петровне. — Позовите Анну.
Является Анна, старая девушка, изучившая так же хорошо, как и компаньонка, все привычки и привередничанья барыни. Она, вдвоем с Пелагеей Петровной, разоблачает генеральшу и убирает ее на ночь. Они снимают накладные букли, смывают белила и румяна со щек, краску с бровей и так далее. Генеральша отпускает их от себя и остается одна в своей просторной спальне, наполненной затхлым, во все въевшимся запахом косметики. Спальня освещена лампадой, горящей перед огромным, устроенным в виде иконостаса киотом, где размещены, по большей части старинного почерневшего письма иконы в массивных золоченых рамах. Некоторые из этих икон богато усыпаны жемчугом и драгоценными камнями. Этот киот представляет собою очень значительную ценность. Это наследие благочестивых предков.
Генеральша накидывает на себя что-то вроде темного бархатного халата, подбитого пожелтевшим горностаевым мехом. Как ни бледен отблеск лампады, но все же он достаточно озаряет фигуру старухи, жалкую и почти отвратительную фигуру, которую, конечно, не узнал бы никто из дневных посетителей, которую бы не узнали ни «mon frère», ни княгиня-дочь. Жидкие, почти совсем в иных местах вылезшие волосы спрятаны под ночным чепчиком, облегающим маленькую голову. Лицо сморщенное, дряблое, старческое, с провалившимся ртом. Две вставные челюсти вынуты и лежат в чашке с водой на столике у кровати. Из-под накинутого бархатного халата выглядывают очертания иссохшей старческой груди и костлявые локти.
Генеральша подходит к киоту, опускается с легким стоном на мягкую подушку и начинает молиться. Провалившиеся, бледные, дрожащие губы беззвучно шепчут, большие черные глаза, окруженные глубокими морщинами, то совсем закрываются, то широко, с неопределенным выражением глядят на темные лики икон. Генеральша молится горячо. Она позабыла все, что занимало ее в течение дня. Забыла все новости, пересуды, все волновавшие ее мысли и ощущения. Она верит, искренно, всем сердцем верит в милосердие Божье. И она молит Его простить ее грехи, вольные и невольные, все ее окаянства и всю ее душевную мерзость.
Потом от молитвы за себя она переходит к молитве за всех людей, за всех близких и далеких, за всех грешащих, страждущих, заблуждающихся. Она любит людей и никакого зла в ней нет. Она молится за врагов своих. Но тут же у нее мелькает мысль, о том, что ведь врагов у нее нет. Если кто смеется над нею, завидует ей, порицает ее — разве это враги? И какое ей до этого дело!
Она успокаивается на мысли, что Бог непременно ее помилует, потому что зла, по крайней мере, вольного, она никому не сделала в жизни, а добро делала и делает сколько может. И мало-помалу она преображается в этой горячей молитве. Слезы текут по щекам ее, даже вся ее старческая, костлявая фигура уже не поражает своим жалким безобразием; в ней, — что трудно было бы предположить в то время, когда она смывала белила и румяна и вынимала вставные зубы, — является даже какое-то благообразие, что-то почтенное. Молитва приносит ей новое наслаждение, более сильное, чем эти любимые разговоры с Пелагеей Петровной.
Она встает спокойная, ясная, укладывается на высоко взбитые пуховые перины своей широкой старомодной кровати, среди подушек и подушечек, которые размещает вокруг себя в привычном порядке и старается заснуть. Но это ей не скоро удается. Старческие недуги, усиленные вредным образом жизни, который она ведет, дают себя знать. Они будто поджидали этот час, среди дня не поднимали голоса, а теперь, в тишине и спокойствии, которое царит вокруг, вдруг заговорили все разом, вдруг завозились и не дают покоя. То здесь ломит, то там колет, стреляет, томит и жжет. С тихим стоном поворачивается старуха с боку на бок, растирает свои иссохшие ноги.
Но вот, наконец, будто наскучив этой беспокойной вознею, старческие недуги притихают, и в спальне раздается мерное дыханье.
Генеральша заснула. Ее сон крепок и только изредка нарушается каким-нибудь сновидением, переносящим ее в старые счастливые годы, к молодости, к красоте и грехам, так давно и невозвратно улетевшим.
XIII. ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИЦА
Рядом со странною жизнью генеральши протекала не менее странная жизнь ее брата, князя Еспера Аполлоновича Унжинского. Он был гораздо моложе сестры, лет на двенадцать, небольшого роста, сухой, с мелкими чертами лица, всегда гладко выбритого, с изумительно зачесанными коками подкрашенных волос. Он одевался по последней моде и очень молодо. От него за несколько аршин пахло духами. Ходил он вприпрыжку, как воробушек, и то и дело потирал руки, будто их намыливая.
Князь Еспер не знал матери, которая умерла, произведя его на свет. Отец мало обращал на него внимания, сестра тоже не им была занята. Вырос он, таким образом, в большом богатом доме заброшенным ребенком. Потом к нему приставили учителя, приготовили его кое-как в военное училище, но он не кончил курса, уехал за границу, скитался там несколько лет. Потом прямо поехал к себе в деревню. Это было уже после смерти отца. Как он жил, чем занимался — никто о том не знал. Сестра с ним почти не видалась. Наконец, когда она овдовела, он написал ей, что собирается на житье в Петербург, и она предложила ему поселиться у нее в доме. Так он и сделал. И с тех пор двадцать лет проживал здесь, изредка, на летнее время, уезжая в деревню и возвращаясь к осени.
Трудно было себе представить, каким образом прошла жизнь этого человека, какова была его молодость. Он никогда никому о себе не рассказывал. Он сидел дома иногда по целым дням, по-видимому, не искал развлечений, за исключением, впрочем, балета, который посещал довольно часто, хотя почему-то всегда об этом умалчивал. Между тем его никак нельзя было назвать нелюдимым. Очутившись в обществе, он не бежал от него, а даже напротив, казалось, чувствовал себя очень хорошо, интересовался всем, о чем говорилось. И хотя был довольно молчалив, но если что-нибудь скажет, то всегда разумно. Он, видимо, льнул к очень молоденьким девушкам и дамам, подсаживался к ним, сладко улыбался, говорил комплименты; при малейшем знаке внимания с их стороны окончательно таял.
С разрешения генеральши он принял на себя обязанность заниматься с ее воспитанницами арифметикой и географией и самым аккуратным образом исполнял эту обязанность; не было примера, чтобы князь Еспер пропустил урок. Одно, чего он не любил, это присутствия на его уроках гувернантки, которую всегда удалял под каким-нибудь предлогом.
Отношение генеральшиных воспитанниц к князю было довольно странное. Говоря о нем, они всегда как-то особенно перемигивались, да и с ним обращались очень фамильярно. Впрочем, они, очевидно, его любили. Он их баловал, делал им подарки, иногда призывал к себе в мезонин и там показывал им разные интересные вещицы, давно-давно когда-то вывезенные из чужих краев, а также прекрасные художественные издания и гравюры, до которых был большой охотник. Иногда он читал им книги духовного и мистического содержания, в которых они почти ничего не понимали. Но так как эти чтения сопровождались угощениями, разными лакомствами, то девочки охотно на них собирались.
К сестре князь Еспер относился с большим почтением, целовал у нее руки, говорил ей «вы» и даже иногда называл ее «ваше превосходительство». Отношения его к племяннице, княгине Маратовой, были совсем иные. Он был с нею всегда предупредителен, но как-то не по-родственному. Иногда даже казалось, что он просто-напросто ее боится.
Между ними, хотя оба всячески скрывали это, была взаимная антипатия. Их никогда нельзя было застать вдвоем в откровенном родственном разговоре; иногда можно было прямо заметить, что они избегают друг друга, а сойдутся при посторонних — и ничего, никаких споров, пикировок между ними не было. Только княгиня иногда глядела на дядю Еспера с явным пренебрежением, почти даже с гадливостью. А он терялся под ее взглядами, ему становилось неловко. Он как-то съеживался и совсем замолкал. И это было тем более странно, что князь Еспер, очевидно, был очень добродушный человек, не делавший никому зла, а, напротив, старавшийся всем быть приятным.
Кое-кто из близких к этому семейству людей, подмечая нечто странное в отношениях дяди и племянницы, говорили, что между ними есть старые счеты; но какие счеты, что такое — это никому не было известно.
Сама княгиня Маратова, несмотря на свою слабость к чересчур рассеянной светской жизни и чрезмерную толщину, над которой она сама прежде всех смеялась, была добрейшим существом и при этом женщина безупречной репутации.
В свете, где обыкновенно в изумительных подробностях знают не только всю подноготную ближнего, но даже такие обстоятельства, которых никогда и не бывало, ничего двусмысленного не могли рассказать и придумать относительно княгини. Она очень счастливо жила с покойным мужем. А когда овдовела, то не жаловалась, не выставляла напоказ своего горя — пережила его сама с собою. И по окончании траура снова появилась в свете, сделалась неизбежным аксессуаром каждого людного собрания. Роли никакой она не играла, не потому, что не могла играть, а потому, что вовсе этого не хотела. Она никогда не сплетничала, не злословила, никому ни в чем не вредила, умела со всеми ладить. Если в редких случаях к ней обращались за советами или за помощью, — советы ее были благоразумны, в помощи она никогда не отказывала. Такую женщину следовало очень ценить, но ее не ценили. Ее приглашали всюду, все были в изумлении ее не видя — но и только.
В доме она жила совсем особняком, ни во что не вмешивалась. В известный час аккуратно являлась в темный будуар матери, проводила с ней час-другой и затем исчезала. Иногда в ее помещении, по вечерам, собирались гости. Но это случалось не часто. Впрочем, несколько раз в зиму она задавала, с разрешения генеральши, большие обеды. Тогда парадные комнаты дома принимали праздничный вид, а двери в покои генеральши запирались на ключ.
— Я тебе не мешаю, ma chère, — говорила генеральша, — сделай милость, приглашай кого знаешь… Это хорошо, это следует, только чтобы я не слышала, ты знаешь, я не могу выносить шума.
Но запертые двери и спущенные тяжелые портьеры не пропускали никакого шума в темный будуар генеральши, которая в то время как в парадных комнатах шло веселье-пированье, занималась с Пелагеей Петровной обычным пасьянсом и обычными милыми воспоминаниями…
Как-то раз, около двух лет тому назад, княгиня в обычное время вошла к матери и после первых приветствий и неизбежного отчета о вчерашнем бале вдруг проговорила:
— Maman, мне нужно посоветоваться с вами относительно одного серьезного дела.
Генеральша тревожно взглянула на дочь.
— Ma chère, что это, что-нибудь неприятное?
— Не беспокойтесь, неприятного ровно ничего нет.
— Так говори скорее… tu me faus peur… y тебя такой серьезный вид…
— Потому что дело серьезное. Ведь вы помните, maman, что у моего покойного мужа был двоюродный брат Ламзин…
— Ламзин… attends, ma chère… oui… je me rapelle… помню… красивый такой офицер… Но ведь он был не Бог знает что… Ламзин… Ламзин… ce n'est pas un beau nom…
— Но он был двоюродный брат моего мужа… Превосходный человек… и мой бедный Поль был с ним дружен. Этот Ламзин умер очень рано… оставив после себя молодую жену и дочь…
— А жена его… sa femme, comment ce qu'elle est née?
— Ah, je ne sais pas au juste… Петрова… Никитина… что-то в этом роде…
— Mais alors elle n'est pas рее du tout! — воскликнула генеральша с некоторым сожалением.
Княгиня сдержала улыбку.
— Дело не в этом, maman, — продолжала она. — Она была очень милая женщина, страстно любила мужа и, когда он умер, не могла сладить со своим горем, стала чахнуть и в двенадцатом году умерла в Москве, перед самым нашествием французов. Дочка ее осталась в одиннадцать лет круглой сиротой, с небольшими средствами. Приютил ее и воспитал дядя, брат матери. Девушку эту я знаю. Она прелестна собой и хорошо воспитана, я познакомилась с нею в последнюю мою поездку в Москву, где она жила с этим дядей. Я ее не выпускала из виду. Теперь она пишет, что дядя ее умер, что она одна, совсем одна. Я помню любовь моего мужа к ее отцу, я намерена взять ее. Что вы на это скажете, maman?
— Что же я тебе скажу, — отвечала генеральша, — у меня вот постоянно шесть воспитанниц, отчего тебе не взять одну?!
Княгиня покачала головою.
— Нет, maman, это совсем не то; я не хочу ее взять на правах воспитанницы, как вы это понимаете; я, насколько это можно, намерена заменить ей мать. Я ее полюбила, у меня детей нет.
— А, так ты, значит, хочешь ее сделать своей наследницей?
— Хоть бы и так, но я об этом еще не думала… Я ей пишу и зову ее жить со мною, так вот и хотела вас спросить, согласны ли вы на это, то есть согласны ли вы будете принять ее как родственницу?
Генеральша задумалась.
— Я ее приму так, как тебе будет угодно, — наконец сказала она, — ведь если она мне не понравится, тогда ей нечего ко мне и заглядывать — слава Богу, дом не маленький, всем место будет. Делай как знаешь, ma chère!..
— Mersi, maman, — сказала княгиня и нагнулась поцеловать руку у матери, причем тучное лицо ее все побагровело. — Так я ей напишу.
— Пиши, ma chère, только, знаешь, ты бы поосторожнее, сразу не давай никаких обещаний, может, она и не стоит.
— Нет, я вряд ли в ней обманываюсь и я уверена, что она и вам понравится…
Таким образом решен был приезд Нины, и сама она явилась недели через три. Ей ничего не оставалось делать, как принять милое приглашение княгини, которую она хотя и не много знала, но считала хорошей женщиной…
Покойный дядя Нины, тот самый Алексей Иванович, который приезжал за нею в Москву во время французского нашествия, был добрый, но очень безалаберный человек. Он не только не устроил маленькое состояние племянницы, но даже расстроил его, так что теперь у Нины были крайне незначительные средства к жизни. Она явилась в тихий дом у Таврического сада, бледная, смущенная. Но княгиня сумела в самом скором времени привязать ее к себе и доказать ей, что она нашла нежданного и доброго друга.
Прошло полтора года. Нина, по-видимому, совсем привыкла к своей новой жизни. В доме ее все любят, по крайней мере выказывают ей это. Даже генеральша и та к ней особенно благосклонна, нередко призывает ее к себе и обращается с нею совсем иначе, чем со своими воспитанницами. Что же касается князя Еспера, то он просто благоговеет перед Ниной, и, к изумлению княгини, между ними мало-помалу начинает замечаться какая-то близость. Княгиня иной раз застает их в оживленной беседе. При ее входе князь Еспер замолкает, съеживается, избегает ее взгляда и вообще начинает держать себя так странно, что Нина смотрит на него с большим изумлением.
— Я, право, не понимаю, Нина, — как-то сказала княгиня, — о чем вы беседуете так часто с моим дядей?
— О многом, ma tante! Князь очень хороший человек и умен, и мне сердечно жаль, что вы как будто что против него имеете, как будто его не любите. Он замечает тоже, и его сильно огорчает. А он вас любит, ma tante, право, любит!
Княгиня нахмурилась.
— Видишь что, Нина, — серьезно говорила она, — если бы я тебя меньше знала, если бы ты была другая девушка, я бы с тобой стала иначе говорить, я бы должна была тебя предупредить не очень доверяться людям; но я тебя знаю и не скажу больше ни слова. Ты умна, ты благоразумна — я ни в чем не намерена стеснять тебя.
— Ma tante, да что такое, будьте откровенны со мною, скажите, что вы имеете против князя? Ведь это, наверное, какое-нибудь недоразумение, а недоразумение всегда следует разъяснить, в особенности между близкими людьми.
— Никакого недоразумения нет. И не будем больше говорить об этом.
Княгиня, даже несколько мрачно произнося эти слова, вышла из комнаты. Нина осталась в недоумении. Она сидела задумавшись, сдвинув свои тонкие брови.
А между тем сближение ее с князем Еспером и их оживленные разговоры tete-a-tete продолжались.
XIV. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
На следующий же день после бала, еще не сделав в Петербурге никому визитов, Борис подъезжал к мрачному дому генеральши, перед окнами которого был настлан густой слой соломы. Но ни мрачный вид дома со спущенными шторами, ни даже эта солома его не смутили. Он уже знал генеральшу и образ ее жизни. Во время редких приездов Горбатовых в Петербург Татьяна Владимировна исполняла установившийся обычай, посещала генеральшу и возила ей напоказ своих детей.
Дворник, неизменно сидевший в будке, заметя подъезжавший экипаж, быстро выбежал и распахнул ворота. На просторном дворе стояло несколько экипажей, присутствие которых доказывало, что генеральша принимает. Но, поднявшись на широкие ступени подъезда, Борис должен был очень долго ждать, пока его звонок был услышан и двери растворились. Борис спросил отворившего ему швейцара, поражавшего своей старостью и в то же время внушительным видом, дома ли княгиня.
— Пожалуйте, сударь! — радушным, привычным тоном ответил швейцар. — Изволите пройти к их превосходительству, княгиня у маменьки… пожалуйте…
Делать нечего, пришлось отправиться по указанию. Сняв верхнее платье в просторной, но несколько закопченной и пропитанной каким-то особенно спертым воздухом передней, Борис вступил в ряд знакомых ему парадных комнат генеральши. Здесь все оставалось неизменным со времени его последнего посещения лет пять тому назад. Тот же полумрак от двойных спущенных штор, то же старинное симметрическое убранство, та же тишина, те же стоявшие в каждой комнате лакеи в вылинявшем одеянии.
Борис назвал себя, и лакеи стали передавать друг другу его фамилию, так что, когда он подошел к темному будуару, о нем уже было доложено хозяйке. Дверь перед ним бесшумно открылась, лакей придерживал над ним тяжелую портьеру. Борис очутился во мраке, который, несмотря даже на подготовительный полусвет остальных комнат, заставил его на мгновение остановиться, чтобы разглядеть хозяйку и на кого-нибудь не наткнуться.
— Est-ce bien vous, cher Борис Сергееич? — расслышал он ласковый голос генеральши. — Вернулись к нам… нагулялись. Очень, очень благодарю, что навестили.
И она это говорила таким тоном, как будто он еще недавно был у нее, как будто он в течение трех лет своей жизни в Петербурге, перед отъездом за границу, не поступал крайне неприлично, не посещая ее, тогда как брат его, Владимир, являлся к ней аккуратно и даже в этой темной комнате встретился с графиней Черновой и задумал на ней жениться.
Борис наконец разглядел генеральшу на ее кресле, наклонился, поцеловал у нее руку и затем стал оглядываться, ища глазами княгиню, а главное — Нину. Княгиня была здесь. Она ему улыбалась всем своим милым, толстым лицом и протягивала ему руку. Но Нины не было.
Затем из мрака стали выступать мужские и женские фигуры гостей. Генеральша уже начала было высчитывать все титулы и чины предков Бориса, но оказалось, что представлять его присутствовавшим не было необходимости. Все это были знакомые лица с которыми он уже встречался вчера на балу у брата. Он очутился среди хорошо знакомого ему общества, покинутого им два года тому назад. Начались неизбежные вопросы о том, где он путешествовал, каково теперь настроение умов в Европе…
Он отвечал терпеливо, и терпение его было награждено. Его путешествие, в сущности, никого не интересовало, все были заняты иным, а именно вчерашним балом его брата. Появление Бориса прервало этот разговор, и теперь он скоро возобновился.
Генеральше отдавался самый подробный отчет о том, кто в чем был одет, что говорили великий князь и великая княгиня. Не забыта была, конечно, и Нина. Со всех сторон раздавались похвалы ей. Ведь с нею великий князь танцевал первую кадриль.
— Где же она, в самом деле, ma chère?! — обратилась генеральша к дочери. — Что она не идет?
— Она утомилась после вчерашнего бала… голова болит, — отвечала княгиня.
Извинение нашли достаточным. Оживленные толки и пересуды начались снова, и под шумок их княгиня шепнула Борису:
— А вы ко мне зайдете? Я ухожу.
— Непременно! — не без волнения проговорил он.
Княгиня вышла из темного будуара. Борис посидел еще несколько минут и стал прощаться.
— Не забывайте же меня, Борис Сергеевич! — ласково говорила ему генеральша. — Я так люблю ваших родителей и вашего брата, et vorte charmante belle-soueur…
Он отвечал, что будет возвращаться к ней часто. И на этот раз это была не одна любезная фраза. Он, действительно, надеялся часто возвращаться, если не в эту темную комнату, то в этот дом.
Он прошел на половину княгини. Здесь все совсем было иное. Большие окна, выходившие в сад, не были занавешены. В комнатах убрано кокетливо и со вкусом. Было светло и уютно. Много зелени, цветов. Одним словом — самая приятная и веселая обстановка. В небольшой гостиной, куда его провели, он увидел рядом с княгиней Нину, которая пошла ему навстречу с протянутой рукой и с очень смущенной, хотя и радостной улыбкой. Теперь, при дневном свете, она была несколько иная, чем вчера: все так же хороша, но его поразила ее матовая бледность и темные круги вокруг прекрасных глаз.
Тут же был и князь Еспер. Борис знал его давно, но никогда не обращал на него внимания. Князь Еспер, по своему обычаю, весьма любезно поздоровался с Борисом, но казался несколько смущенным и, проговорив две-три любезные фразы, своей воробьиной походкой, вприпрыжку, удалился из комнаты. Все чувствовали некоторую неловкость. Борис пристально вглядывался в Нину, и к его радости примешивалось какое-то грустное чувство, какое-то почти даже разочарование. Он совсем не так представлял себе эту встречу. Княгиня заговорила, стараясь вывести молодых людей из смущения.
— Ну, старые друзья, — сказала она, — извольте передавать друг другу события вашей жизни, а я вот присяду к этому столику и напишу письмо. Совсем забыла, что мне написать надо.
Она подошла к окну, у которого стоял стол, и принялась писать. Мало-помалу разговор завязался. Минут через десять и Борис и Нина знали уже всю внешнюю историю друг друга. Но оказалось, что для них эта внешняя история их жизни не представляла особенного интереса. Борису нужно было знать вовсе не то, где и с кем проводила Нина время. Ему хотелось, чтобы она ввела его в свой внутренний мир, чтобы она сказала ему, играл ли он такую же роль в этом мире, какую она играла в его внутренней жизни. Вчерашняя странная встреча, странные слова, которые они говорили друг другу, должны были показать ему, что ему беспокоиться не о чем, что он многое для нее значит, что она не забывала его. Но ему казалось, что вчера было совсем другое. Вчера был сон, а сегодня явь, так же как и тогда, много лет тому назад, утром после волшебной ночи в пустом доме. Беспокойное и грустное чувство, охватившее его, не проходило. Его смущало в Нине многое. Он чуял, что перед ним какое-то особенное существо и что У этого существа есть какая-то тайна, непонятная для него и мучительная.
От генеральши пришли звать княгиню.
Она оторвалась от своего письма и, уходя, сказала Борису:
— Я скоро вернусь, вы меня подождите!
Молодые люди остались одни. Борис еще раз пристально вгляделся в Нину. Она сидела перед ним бледная, с опущенными глазами, с выражением почти страдания на прелестном лице.
— Нина, — вдруг сказал он, — неужели мы будем вести с вами пустые разговоры — они не могут занимать ни меня, ни вас.
— Нет, конечно! — ответила она.
— Знаете ли вы, зачем я здесь?.. Знаете ли, что нужно мне спросить у вас?
Она вздрогнула и прошептала:
— Знаю…
— Да, вы должны знать. Я всю жизнь ждал нашей встречи. Ждал вас и ждал с полной уверенностью в том, что и вы меня ждете.
— Ведь я вчера сказала… — тихо, едва слышно прошептала Нина.
Его глаза заблестели. Он приподнялся в волнении.
— Так, значит, вы меня понимаете! — горячо проговорил он. — Вы знаете, что если мы встретились, то это недаром… мы дождались… И я вас спрашиваю, ошибался ли я или нет, надеясь… зная… да, зная наверно, что мы встретимся для того, чтобы никогда уже не расставаться, что мы с того самого дня существуем друг для друга… назначены друг другу… Да, да, Нина, я люблю вас, я никогда не переставал любить вас и никого не любил. Мне кажется, что этой огромной разлуки совсем не было и что нет в нас никакой перемены… Вы для меня все та же. Этого не поймет никто, меня сочтут безумным… Но вы должны понять… вы должны знать, что это так и иначе быть не может… Нина, отвечайте, отвечайте скорее, прав я или обманулся? Понимаете, что я должен знать это сейчас?!.
Она побледнела еще больше, но не опускала глаза, а смотрела прямо в глаза Борису своим странным, загадочным взглядом.
— Я знала, всегда знала, что вы так говорить будете! — наконец произнесла она. — И если бы мы встретились раньше, четыре года тому назад, мне нетрудно было бы вам ответить… а теперь… теперь…
Она взялась руками за голову и сжимала ее.
— Теперь… — еще раз повторила она и замолчала… Борис с ужасом взглянула на нее.
— Что теперь, Нина?! — почти крикнул он. — Неужели… вы кого-нибудь любите?!
— Нет! — сказала она. — Совсем не то… совсем не то… как и вы, я всегда вас одного любила и ждала…
— Так что же? Я ничего не понимаю?
На лице ее вдруг выразилось страданье.
— Ах, Боже мой! — проговорила она. — Я могу с ума сойти… Я всю ночь глаз не сомкнула, все думала… старалась решить и ничего не решила. Я не знаю, могу ли я теперь, смею ли… должна ли теперь любить вас… не знаю для чего мы встретились…
— Ради Бога объясните, — говорил Борис, — вы меня пугаете, что такое с вами… Ведь это ужасно… Не томите…
— Что я могу объяснить… как я могу объяснить?.. Теперь вам трудно будет понять… вы почтете меня сумасшедшей… Послушайте, Борис, ради Бога, будьте терпеливы. Я ничего от вас не скрою… я не вправе ничего скрывать от вас — да и не хочу этого. Только дайте мне собраться с мыслями, дайте время, тогда я вам все скажу… Когда вы будете все знать, тогда вы сами решите… Почем знать, ведь, может, вы увидите, что ошибались вы сами, может быть, не захотите меня и убежите от меня… А теперь не спрашивайте больше… дайте время… Ведь мы будем часто видаться? Сегодня я не в силах, мне нужно хоть немного успокоиться… я вам дам знать… Оставьте меня… уезжайте!
— Как же я так уеду! — растерянно проговорил Борис. — Нина, ведь это бред какой-то! Это Бог знает что такое!
Она постаралась ему улыбнуться. Она крепко сжала его руку.
— Уходите, не тревожьтесь… скоро все объяснится… Уходите, милый!!!
И она вложила в это последнее слово столько нежности, что его сердце так и затрепетало. Он покрыл поцелуями ее маленькие, холодные, дрожащие руки и, сам не помня как, вышел из комнаты. А она осталась неподвижной, с широко раскрытыми глазами. Выражение тоски мало-помало сбегало с лица ее. На нее находило какое-то вдохновение.
В дверях показалась фигура князя Еспера. Он огляделся и, как-то крадучись, подошел к Нине.
— Что, он уехал? — спросил он, заглядывая ей в глаза.
Она вздрогнула и, не глядя на князя, отвечала:
— Да, уехал!
— Вы не должны видеться! — вдруг проговорил князь резким голосом и становясь в театральную позу. — Он враг!.. Сестра, ты должна быть тверда, не поддавайся искушению… помни свое призвание… Помни, к чему ты предназначена!!.
Но Нина ничего не слышала. Она вдруг зарыдала и выбежала из комнаты.
XV. СТРАННЫЙ ДРУГ
Княгиня очень изумилась, когда, возвратясь от матери, не застала в своей гостиной ни Бориса, ни Нины. На кресле у окна сидел князь Еспер. Лицо его было взволновано. Когда княгиня вошла, он сделал вид, что ее не замечает, и отвернулся к окошку. Она остановилась перед ним, глаза ее блеснули. Толстое, еще сейчас добродушное и веселое лицо вдруг все побагровело и выражение его сделалось почти даже свирепым…
— Дядюшка! — произнесла она раздраженным голосом.
Он повернулся к ней, но, по своей всегдашней привычке, не взглянул на нее, а забегал глазами по сторонам.
— Что прикажешь, ma chère?
— Где Горбатов и Нина.
— Горбатов уехал, а Нина ушла к себе.
Княгиня покраснела еще больше. Хотела что-то сказать, но удержалась и своим тяжелым шагом быстро вышла. Она подошла к Нининой комнате, повернула ручку двери… Дверь была заперта.
— Нина, — позвала она, — отопри, пожалуйста!
— Сейчас, ma tante.
Дверь отворилась. Нина стояла перед нею бледная, с красными от недавних слез глазами. Княгиня пристально взглянула на нее.
— Ты плакала? Отчего ты плакала? — проговорила она, беря ее за холодную руку и вглядываясь в ее глаза.
Нина выдержала ее взгляд, но потом опустила глаза.
— Зачем ты плакала? — повторила княгиня.
— Ах, ma tante, я сама не знаю, с чего я иногда бывает плачу.
— Пустое, без причины плакать не станешь. И отчего это Горбатов так скоро уехал, меня не дождавшись?
— Он очень извинялся перед вами, ma tante. Ему непременно надо быть где-то. Он обещал на днях опять навестить нас.
— Не то, не то, совсем не то!.. — раздраженно перебила княгиня. — Неужели ты меня считаешь уж такой дурой? Ты думаешь, я ничего не замечаю, что так в глаза и бросается?! Он уехал, ты, запершись, плачешь… Дядюшка сидит там с таким лицом — уж его-то лицо я очень хорошо знаю!.. Наверное, он что-нибудь… Нина, ты прежде была более откровенна со мною, ты столько раз говорила, что меня любишь!
В ее словах звучали упрек и тоскливое чувство. Нина обняла ее и припала головой к ее высокой, огромной груди, которая так и ходила под толстым, скрипящим шелком ее платья.
— Ma tante, неужели вы сомневаетесь в любви моей?! — прошептала она.
— Поневоле должна сомневаться! — все тем же грустным тоном говорила княгиня, прижимая к себе девушку. — Ведь я ни в чем тебя не стесняю, я предоставляю тебе полную свободу. Я не слежу за тобой, когда ты без меня выезжаешь из дому, я во всем тебе доверяю и прошу только одного — откровенности, а ты мне в ней отказываешь. Ах, Нина, ведь для тебя же! Ведь потому, что ты мне дорога, я и боюсь за тебя. Ты какая-то странная… Ты фантазерка, Нина! Ну что же, это ничего в твои годы… Ведь я очень хорошо понимала тебя, когда ты рассказывала мне о каком-то спасшем тебя в двенадцатом году Борисе. Вот ты встретила этого Бориса, и он, кажется, такой же фантазер, как и ты… Что же, я очень рада этой вашей встрече. Она мне нравится, и знаешь ли ты, я совсем откровенна с тобою, я уже и мечтала по поводу этой вашей встречи. Это прекрасный молодой человек, из отличной семьи, и во всех отношениях лучшего мужа я бы не могла никогда тебе и придумать. Конечно, встретится немало препятствий, но нет таких препятствий, которых нельзя было бы преодолеть. К тому же я хорошо знаю его родителей — это люди, чуждые многих светских предрассудков, и они боготворят своего сына. Видишь, видишь, я тебе говорю все, что мне со вчерашнего вечера, приходило в голову. Его приезд, вид, который он имел, меня могли только ободрить… И вдруг — он уехал, ты плачешь… дядюшка… Нина, нет, пора же, наконец, прекратить это… Скажи ты мне, умоляю я тебя, что у вас такое с князем, что это за таинственные отношения?.. Неужели?.. Что он на старости лет в тебя влюбился, я это очень понимаю. Он всю жизнь только и делал, что влюблялся… Но ты… нет, ведь не может же быть этого… ведь это бессмыслица… это Бог знает что такое?!.
Нина отстранилась от княгини, взглянула на нее и, несмотря даже на все свое волнение, улыбнулась.
— Ах, ma tante, так неужели вы хоть на минуту могли подумать, что я… что я люблю князя!
И она невольно опять улыбнулась. У княгини как гора свалилась с плеч. Она даже глубоко вздохнула всей грудью. Но недоумение все же оставалось.
— Так что же… я совсем ничего не понимаю! Что он влюблен в тебя — это мне ясно. Неужели тебя может занимать глупые и смешное ухаживание старого волокиты — это на тебя не похоже.
— Вы очень ошибаетесь, ma tante, думая, что князь влюблен в меня и ухаживает за мною… Поверьте, что я бы никогда этого не допустила…
— Господи! Ты просто с ума меня сведешь! Так что же может быть общего между вами?
— Я уже не раз говорила вам, что вы несправедливы к вашему дяде. Может быть, что он прежде был легкомысленный и, как вы говорите, во всех влюблялся, теперь это не идет к его годам и, наверно, он ни о чем таком не думает. Право же, он почтенный человек. Он много знает, много читал, о многом думал. Беседа с ним может быть поучительна.
Княгиня даже всплеснула руками.
— И это ты про него говоришь! Нет, воля твоя, я таким его не знаю… А ведь я знаю его всю жизнь, с детства.
— Если вы его не знаете таким, ma tante, то это потому, что он очень редко высказывается, а перед вами и никогда не высказывается, потому что ясно видит ваше недружелюбное к нему отношение.
Княгиня в волнении несколько раз прошлась по комнате.
— Ну так слушай же, Нина! — наконец заговорила она решительным тоном. — Я должна раз и навсегда серьезно сказать тебе то, о чем до сих пор только намекала, не желая никому зла… Но теперь я вижу, что это моя прямая обязанность. Слушай, мой дядюшка очень дурной человек, он со своей юности отличается развратом. Конечно, мне о многом неприлично даже говорить тебе, но ведь ты не маленькая девочка, ты должна кое-что понимать в жизни. Князь очень развратный человек, это известно всем его соседям по имению. Он там у себя в деревне развратил и сгубил чуть ли не всех крепостных девушек. Он никогда никого не оставлял в покое. Наконец, слушай, Нина, я никогда никому этого не говорила, но тебе я должна это сказать. Представь себе, много лет тому назад он искал и моей погибели, но как я ни была тогда молода и неопытна, а все же не поддалась его сладким речам. Да и теперь, наконец, неужели ты в самом деле не замечаешь, как он смотрит иногда на маменькиных воспитанниц, да и на тебя тоже?! Я-то, по крайней мере, очень хорошо это замечаю. Фу, противный!! — кончила княгиня, изобразив на своем лице омерзение, и стала наблюдать, какое впечатление произвели ее слова на Нину. Она была уверена, что теперь-то, наконец, Нина вознегодует и готова будет разделять ее чувство относительно Еспера.
А между тем ни негодования, ни омерзения не выражалось на лице Нине. Это лицо было по-прежнему грустно.
— Ma tante! — проговорила Нина. — Теперь я должна вам сказать, что я ничего нового от вас не узнала. Мне все это хорошо известно, все эти прежние отвратительные грехи князя и даже его история с вами…
— Что… что ты говоришь? — не будучи в силах прийти в себя от изумления крикнула княгиня.
— Да, ma tante, он сам мне во всем признался, он не стыдится теперь этого ужасного прошлого, так как искупил его истинным христианским раскаянием… Он перерожденный и обновленный человек…
— Негодный, фальшивый человек! — в негодовании опять крикнула княгиня. — Так вот какими уловками он вздумал забрать тебя в руки! И ты веришь?!
— Я не имею никакого основания ему не верить. Теперешняя его жизнь, почти вдали от света, среди религиозных размышлений и занятий, внушает к нему только доверие. Конечно, если вы так уже давно и сильно предубеждены против него, то ему очень трудно вас уверить в своем раскаянии. Вы в каждом шаге непременно будете искать что-нибудь дурное, говорящее во вред ему, вы так и делаете, ma tante. Исполненный любовью к блаженству, он старается, между прочим, о нравственном усовершенствовании наших девиц. Он читает им религиозные книги, объясняет, занимается с ними. А вы в этом добром деле видите только дурное…
— А ты, матушка, так ровно ничего не видишь, что перед твоими глазами! — даже рассердившись на Нину, перебила ее княгиня. — Скажите, пожалуйста, хорошо нравственное усовершенствование! И отчего же это наши девчонки, как увидят его, перемигиваются и фыркают? Даже они его понимают — а ты вот не понимаешь. Да и, наконец, ну хорошо, пускай он раскаявшийся грешник, пускай он теперь представляет из себя вместилище всех совершенств человеческих, так я все же ничего не понимаю. Какое же это имеет отношение к внезапному отъезду Горбатова и твоим слезам? Он-то тут при чем?!
— Он тут ни при чем, ma tante!
Княгиня окончательно из себя вышла.
— Нет, матушка, с тобой, видно, говорить нечего, только слова даром теряешь. А вот ты обдумай все хорошенько да будь осторожна и благоразумна. Разные фантазии о нравственных усовершенствованиях забудь, да и книг мистических и масонских там, что ли — не читай, все равно, не разберешь в них ничего, а только ум за разум зайдет. Да и уж зашел кажется! Нечего так смотреть на меня: что правда, то правда. И я тебя теперь иначе не почитаю как очень безрассудной девушкой, ищущей своей погибели.
Нина ничего не отвечала и только глубоко вздохнула. А княгиня, хлопнув дверью, вышла из комнаты и вернулась в гостиную.
Князь сидел все на том же месте, у окна. Заметив раздражение, выражавшееся во всей фигуре княгини, он даже изменился в лице и побледнел.
— Дядюшка, ведь это из рук вон, что вы делаете!
— Что я делаю? Что я делаю, ma chère?! — испуганно прошептал он, вставая с кресла и переминаясь с ноги на ногу.
Глаза его так и прыгали, но никак не могли встретиться с глазами княгини.
— Во-первых, с какой это стати вы рассказываете Нине о всяких ваших грязных похождениях?! Кто вам дал право говорить ей об этом — вы ее развращаете.
— Она вам сказала?! Я не развращаю…
Губы его тряслись. Он вынул из кармана золотую табакерку и, то открывая, то закрывая ее, судорожно перебирал пальцами.
— Так что же это как не развращение? — между тем горячилась княгиня.
— Да, я скажу вам, ma chère, откровенно, я ей признался в грехах моей молодости…
— Точно у вас только в молодости грехи были…
— Во всем ей признался, потому что это мой долг. Она возвышенная, избранная натура, почтила меня своим доверием, и я, естественно, ma chère, я должен был ей ответить тем же. Я изобразил ей мою греховную жизнь и мое раскаяние. Вы вот, ma chère, никогда не хотели и не хотите быть ко мне справедливой, вы меня считаете прежним человеком. Я, ma chère, я другой теперь, прежнего человека не осталось… прежний человек умер…
Княгиня раздражительно рассмеялась.
— Да уж мне-то, пожалуйста, не пойте этого. Ведь если она чего по молодости и неопытности не видит или не понимает, то я уж хорошо все понимаю и вижу. Вы знаете, я не люблю никаких ссор, интриг. Я до сих пор ни в чем вам не мешала, желая только одного, чтобы вы меня оставили в покое. Но вы должны помнить, что на эту девушку я гляжу, как на дочь, что я люблю ее…
— Это делает честь вашему сердцу, ma chère, и Господь наградит вас за это! — с чувством сказал князь, изо всех сил постаравшись взглянуть на нее, что ему, наконец, удалось.
Но каждое его слово только еще больше раздражало княгиню.
— Ах, да не говорите мне о Боге, пожалуйста, не говорите! И не думайте, что меня легко обмануть и разжалобить. Я повторяю вам, что Нина мне дорога, и я не допущу ее погибели. Я советую вам оставить ее в покое, иначе я должна будут действовать так, как до сих пор никогда не действовала. Пленить вы ее, конечно, не можете собою, но мало ли какие могут быть у вас грязные цели, которых я сразу не могу себе даже представить. Мне кажется — если я ошибаюсь, да простит меня Бог — но мне кажется, что вам не нравится появление молодого Горбатова и что вы намерены вооружить ее против него. Если я еще что-нибудь замечу в этом роде, то даю вам слово, почтеннейший дядюшка, вы найдете во мне решительного врага и я докажу вам, что бороться со мною вам невыгодно. Да и, наконец, я просто уеду с Ниной из Петербурга.
Говоря это, она подумала, что хватит ли у нее силы на подобную жертву, как она будет жить без Петербурга, без общества, без этих ежедневных выездов. Но, тем не менее, она энергично повторила:
— Да, уеду и уж ручаюсь, что вы за нами не поедете!
Князь Еспер совсем растерялся. Его франтоватая фигурка как-то вдруг съежилась, лицо приняло плаксивое выражение, на глазах даже показались слезы. И он проговорил патетическим голосом:
— Ах, племянница, как вы несправедливы ко мне, как вы жестоко наказываете меня за мое увлечение, о котором пора бы вам давно позабыть… Но да простит вам Бог, как и я прощаю… Я не стану оправдываться перед вами, думайте обо мне что хотите… Но в последний раз скажу вам — вы на меня клевещете. Нину я почитаю и желаю ей самую светлую будущность.
— Это мы увидим! — проворчала княгиня и, отдуваясь, едва переводя дух, тяжело опустилась в кресло.
Князь вынул батистовый раздушенный платок, приложил его к глазам, потом понюхал его и не без достоинства вышел из гостиной.
XVI. О ХРИСТЕ СЕСТРИЦА
К обеду, который подавался в доме генеральши в пять часов, собрались, по обыкновению, все, за исключением, конечно, самой генеральши и Пелагеи Петровны. В большой столовой накрыт был длинный стол, вокруг которого все размещались в раз навсегда заведенном порядке.
На хозяйском месте — княгиня, по правую руку от нее князь Еспер, по левую — Нина. На другом конце стола гувернантка, шесть воспитанниц и две почтенного вида старушки, которые издавна проживали у генеральши на ее полном иждивении.
Гувернантка, пожилая, высохшая в щепку и необыкновенно напудренная смолянка, ежеминутно бросала быстрые взгляды на воспитанниц. Привычным и скучающим голосом делала им неизбежные замечания и затем погружалась в никому не известные и никому не интересные свои думы. Воспитанницы генеральши, очень миленькие, вымуштрованные девочки, были одеты все одинаково в хорошенькие серые шерстяные платьица, ловко обрисовывающие их молодые, стройные фигуры.
Княгиня, вся красная, сидела, ни на кого не обращая внимания, не произнося ни слова, и только кушала с большим аппетитом, который никогда не покидал ее. Князь Еспер то и дело подпрыгивал на своем стуле, исподтишка, как-то трусливо поглядывая то на свою vis-a-vis Нину, то на княгиню. Даже самая младшая из воспитанниц, тринадцатилетняя Машенька, девочка очень шаловливая, легкомысленная, заметила что-то неладное. Она нагнулась к своей соседке, улучив минуту, когда гувернантка на нее не глядела, и шепнула:
— Видишь, у Нины Александровны глаза какие! Она плакала, наверно, плакала. А князенька, ведь это удержаться невозможно — смотри, какие рожи строит… Княгиня… у… какая сердитая… Что такое было- ужасно интересно?!
— Молчи, заметят! — едва слышно ответила ей соседка и постаралась сделать самую скромную физиономию.
Но Машенька не унималась. Она то и дело подталкивала ее и показывала глазами на князя Еспера, которого, действительно, начинало как-то всего дергать. Наконец она не выдержала и фыркнула, закрывая лицо платком.
— Marie, mais gu'avez vous donc? Ты хочешь, чтобы тебя из-за стола вывели! — строго заметила гувернантка.
Но ни княгиня, ни князь Еспер, ни Нина не обратили никакого внимания. Машенька покраснела; закрыла даже глаза и изо всех сил старалась о другом думать, но никак не могла этого. Ей ужасно хотелось еще разок взглянуть на князя Еспера. И она знала, что если взглянет, то уж никак не удержится, еще больше рассмеется, а тогда непременно из-за стола выведут, — с ней это не раз случалось.
«Ах, кабы только дотянуть до пирожного», — думала она.
Но до пирожного все же не дотянула. Ее будто что-то подталкивало; она вдруг, неожиданно для самой себя, во всю ширину открыла свои веселые карие глазки, взглянула на князя Еспера. А тот сидел будто совсем погруженный в тарелку и ужасно смешно одним прищуренным глазом глядел на Нину. Машенька фыркнула еще неудержимее и громче первого раза. Гувернантка молча встала, крепко взяла ее за руку и вывела из столовой.
— Пирожного ты не получишь, — сказала она ей, — иди к себе, сиди смирно — ты неисправима. Я на тебя пожалуюсь генеральше.
Машенька заплакала, но оправдываться и защищаться не смела — она хорошо знала, что это не поможет. Правда, оставалась еще одна надежда — Машенька была любимицей Нины, и Нина очень часто заступалась за нее, а когда ее оставляли без сладкого, то иной раз после обеда приносила ей что-нибудь в утешение. Но на этот раз Нина за нее не заступилась, да вряд ли она и обратила какое-нибудь внимание на происшедшую сцену, вряд ли ее заметила.
Обед продолжался в глубоком молчании, и после его окончания все так же молча разошлись. Нина ушла к себе. Княгиня приказала заложить экипаж и стала собираться куда-то в гости. Князь Еспер, даже не решившись поцеловать у нее руку, как обыкновенно это делал после обеда, прямо направился в переднюю, оделся и вышел за ворота.
Хотя в большой конюшне на дворе дома генеральши у князя Еспера стояло три лошади, а в сарае несколько лично ему принадлежавших экипажей, но он очень часто выходил пешком, делал моцион для здоровья, по его объяснению. Делал он такой моцион нередко и по вечерам. Но в подобное время, сейчас после обеда, никогда не выходил. После обеда он любил отдохнуть у себя в мезонине, поваляться на турецком диване за душистой трубкой и кофе, а потом заснуть на часок.
Теперь же он забыл и трубку, и кофе, и послеобеденный сон. Быстрым шагом, вприпрыжку, пустился он по улице, свернул вправо, потом налево и остановился у небольшого домика, имевшего такой же угрюмый вид, как и дом генеральши. К тому же, так как давно уже совсем стемнело, ставни окон были заперты.
Князь Еспер постучался у ворот. Ему тотчас же отворил выглянувший сторож, при тусклом свете фонаря разглядел его, очевидно, узнал и почтительно снял шапку. Князь вошел во двор. С громким лаем кинулась было на него огромная цепная собака, так что он отскочил в сторону; но собака была на привязи. Он, осторожно приглядываясь в темноте, добрался к небольшому крыльцу и дернул за звонок. Ему пришлось ждать долго. Наконец дверь отворилась. Старый, почтенного вида лакей, с заплывшей сальной свечкой в руках, пропустил его, несколько раз повторяя:
— Пожалуйте, сударь, ваше сиятельство, пожалуйте!
Князь Еспер торопливо сбросил шубу в небольшой передней.
— Да, может, Катерина Филипповна почивает? — спросил он. — Ты бы, Михайло, пошел узнать.
— Никак нет-с, ваше сиятельство, они только что изволили по зале прохаживаться… пожалуйте… Надо быть, в гостиной оне теперь… там светло.
Князь Еспер прошел через темную комнату и очутился в гостиной. Но это была гостиная только по названию. Мрачная, неуютная комната с жесткой, покрытой коричневым сукном мебелью. По стенам висели большие образа — картины. На круглом, красного дерева столе, перед диваном с высочайшею деревянною спинкою горели две свечи.
На диване сидела женщина небольшого роста, худощавая, уже немолодая, с очень бледным, безжизненным лицом и полузакрытыми глазами. Увидев входившего гостя, она сделала легкое движение, но не встала, а только еще издали протянула руку. Князь Еспер осторожно подошел к ней, пожал ей руку и поместился на кресле возле дивана.
— Я не помешал, Катерина Филипповна? — спросил он вкрадчивым голосом.
— Нет… — несколько глухо ответила хозяйка. — Разве приход любезного брата может помешать сестре? А я именно только что думала о вас, только не ждала вас так рано. Я была уверена, что вы придете, потому что есть указание.
Князь Еспер закрыл глаза, потом открыл их, закатил и склонил голову на бок.
— Указание?! Матушка Катерина Филипповна. Какое?!
— А помнишь, брат, наш последний разговор (она уже начала ему говорить «ты»). Мы заметили некое смущение в уме нашей любезной сестры Нины. Я вчера на ночь и положила бумажку на киот с мыслью о ней.
— Ну что же, матушка? Что же?! — нетерпеливо перебил ее князь Еспер.
— А вот постой, сейчас принесу, сам прочтешь.
Катерина Филипповна поднялась с дивана и медленной походкой скрылась за дверью. Князь Еспер стал дожидаться, постукивая пальцами по столу и то открывая, то закрывая глаза.
Через минуту хозяйка вернулась и подала ему записку. На клочке бумажки, карандашом, крупным, неправильным почерком было написано: «Соберитесь и молитесь, Господь просветит ее и отгонит лукавого».
— Вот, как я утром встала, сейчас к киоту, взяла бумажку, а на ней это написано! — торжественно проговорила Екатерина Филипповна. — Что скажете? Ну не прямое ли это указание?
— Да, матушка, конечно, чего же яснее! Уж вы позвольте мне эту бумажку взять с собою, я ее покажу ей. Когда же собрание?
— Уж иных оповестила, иных оповещу — завтра или послезавтра и соберемся.
— Очень хорошо! В полном составе?
— Да, нужно бы!
— Конечно, конечно! Только знаете ли что, Катерина Филипповна, поосторожнее бы надо. Я начинаю бояться… Тут один человек меня очень смущает… Да и племянница… Сестра Нина неосторожна, того и жди проговорится.
— Ах, как можно! — воскликнула Катерина Филипповна. — А ее клятва? Нет, она неспособна на то, и стыдно так о ней думать.
— Да молода больно! — жалобно произнес князь Еспер. — Что ни день, то страннее! Племянница к ней пристает… может быть, кое-что уже подозревает… И еще тут один человек приехал сбивать ее с толку. Ох, боюсь — земной, злой любви предастся — к тому все идет.
— Не может того быть! Покажите ей записку. Скажите, чтобы непременно была послезавтра, тогда увидим. Конечно, враг силен, но Господь не без милости. Нельзя нам отдать ее.
— Нельзя, никак нельзя! — повторил и князь Еспер, оживляясь.
Глаза его так и заблестели.
— Но, говорю, — продолжал он, — теперь нам надо быть очень осторожными. Мало ли что может случиться — времена не те, того и жди преследование окажется.
— Нет, князь, вы напрасно трусите! — своим глухим голосом перебила его Катерина Филипповна. — За что нас преследовать — не за что! Разве мы что дурное творим? Ведь вот тогда, в семнадцатом году, донесли на меня и на наших сестер и братьев, уж в каком виде представили, что мы хуже еретиков всяких — а все же ничего не добились. Государь приказал оставить нас в покое. Ведь сердце царево в руке Господней: это ему, государю, свыше было откровение, чтобы нас не трогать. Добился враг только того, что меня попросили выехать из Михайловского замка, из квартиры моей матери. И никому из нас с тех пор не было никаких неприятностей.
— Так-то так, Катерина Филипповна, да времена изменились, и государь, говорят, не тот, что прежде был; князь Александр Николаевич уже не в прежней силе. Этот Фотий всем голову вскружил. И я так полагаю, что если, не дай Бог, донесет кто-нибудь, так большие могут быть беды.
Катерина Филипповна задумалась.
— Пожалуй, вы и правы, осторожность никогда не мешает, только ведь нас накрыть трудно, так сразу не ворвутся, да и псы мои дадут знать вовремя… А на своих людей я полагаюсь.
Князь Еспер ничего не возразил.
— А про какого это человека вы говорите? — вдруг спросила Катерина Филипповна. — Кто это приехал?
Он подробно ей рассказал о Борисе Горбатове. Из его слов оказалось, что Нина с ним очень откровенна: ему хорошо известно было, какую роль в ее жизни играет Борис. После этого рассказа Катерина Филипповна решила, что это, действительно, для них человек опасный. Но она была гораздо более князя уверена в Нине.
— Устоит, устоит! — повторяла она. — А искушение… Что же, искушение хорошее дело… без искушений нельзя — после них крепнет вера.
Ее уверенный тон успокоил, наконец, князя Еспера. И он, взяв и тщательно спрятав таинственную записку, простился с Катериной Филипповной.
Вернувшись домой и узнав, что княгиня уехала, он постучался в дверь Нины. Та отперла.
— Я нездорова, князь! — сказала она.
— На минуточку, на одну минуточку, не буду вас задерживать… Если нездоровы, отдохните… полежите… это хорошо. Вот только прочтите это… я от Катерины Филипповны. Она откровение имеет…
Нина встрепенулась.
— Что такое?! Что? — в волнении шепнула она, беря записку и поднося ее к свече.
Она прочла и с недоумением взглянула на князя Еспера:
— Что же это значит? Я не совсем понимаю…
— Катерина Филипповна относительно вас задумала и вот что получила. Послезавтра собираемся… Вы должны быть непременно… Будете?
Нина задумалась. Внезапный трепет пробежал по всему ее телу.
— Буду! — проговорила она. — А теперь оставьте меня… пожалуйста, оставьте…
— Хорошо, я сейчас… сейчас.
Он хотел было еще сказать что-то, но остановился, взглянул на Нину. Лицо его вдруг сделалось таким сладким, нежным.
— Ухожу… да хранит вас Бог!
Он протянул ей руку. Она дала свою.
Он нагнулся и вдруг так и впился долгим поцелуем в руку Нины. Но она не заметила даже этого, ее мысли были далеко.
Князь Еспер, наконец, вышел из комнаты. А она почти упала на маленький диван, возле которого стояла и долго сидела неподвижно, с широко раскрытыми, ничего не видящими глазами.
XVII. ПЕРВЫЕ ШАГИ
Борис выехал из дома генеральши очень смущенный и взволнованный, но скоро сумел себя успокоить. Он в мельчайших подробностях вспомнил вчерашнюю свою встречу с Ниной, затем сегодняшнее странное объяснение и не мог не прийти к убеждению, что отчаиваться ему нечего и нечего ждать для себя дурного. Он с детства искал в жизни и видел многое такое, чего не искали и не видели окружавшие его люди. Он давно уверял себя в том, что в судьбе человека действуют какие-то особенные, высшие, мистические законы, перед которыми ничто человеческая воля, человеческая логика и все хитрости разума. Ему казалось, что он уже не раз имел неопровержимые доказательства существования высшего предопределения. Он давно уже решил, что Нина суждена ему, и до сих пор терпеливо ждал встречи с нею. И ведь вот он был прав. Свидание наступило и оказалось именно таким, каким он ожидал его. С первых же слов Нины он убедился, что над ними обоими действуют эти высшие законы и что Нина понимает это точно так же, как и он.
Если бы эта встреча была случайная, не неизбежная, не предопределенная, разве Нина так бы отнеслась к нему. Ведь столько прошло времени! Ведь она тогда была еще ребенком и давно могла бы позабыть его, встретить как постороннего человека. Но она этого не сделала. Прошли годы, и какие годы — самые важные в жизни человека, во время которых в человеке изменяется все, так что он является иногда совсем неузнаваемым, совсем новым существом — и, несмотря на это, они встретились, как будто их разлука была кратковременной разлукой, как будто с последнего свидания они не превратились из детей в взрослых. Как будто не пережили, каждый со своей стороны, целого длинного ряда самых разнообразных впечатлений, которые не могли не оставить в них от себя следов. Что бы ни говорила Нина, но даже самые эти непонятные слова, ее волнение, ее ужас показывают, что Борис ей близок, что между ними, даже помимо их воли, существует самая тесная и неизбежная, главное — неизбежная связь.
«Если бы даже она когда-нибудь без меня любила, — думал Борис, — то и это не может стать между нами преградой, потому что это любовь, это ошибка, та самая ошибка, которую и я столько раз делал. Но что скрывает она от меня? Какую тайну?!»
Он не мог побороть в себе чего-то тоскливого и мучительного, какой-то ревности, поднимавшейся в его сердце. Но он все же продолжал думать:
«Да если бы и была ошибка, она должна же понять, что это ошибка, — и только. Ведь человек в слепоте своей часто борется против высшей силы, направляющей и устраивающей жизнь. Что-то злобное, враждебное ему заставляет его бороться, отклоняться от назначенного ему пути. Но приходит минута, когда все становится ясным, и тогда человек должен поскорее отказаться от бесплодных усилий, которые к тому же могут быть для него и гибельными. Пусть же она немного успокоится. Мне нечего бояться теперь, когда произошла наша встреча. Она уже не уйдет от меня, я ее не выпущу. Но, быть может, то, что для меня ясно, для нее еще не выяснилось. Быть может, эти великие истины жизни чувствуются ею только инстинктивно и не ясны еще для ее разума?!.»
Он решил, что в том случае, если она не сразу будет с ним откровенна, если она не решится сама признаться ему во всем, что ее смущает, — действовать благоразумно, самому постараться все понять и объяснить себе. Понять ее жизнь, отношения к окружающим ее людям. Одним словом, приготовиться к тому, чтобы доказать ей неопровержимо, на основании знакомства с обстоятельствами, неосновательность ее страхов. Он окончательно успокоился, дойдя до успокоения своим собственным путем, который, конечно, показался бы очень странным людям, не знакомым с его мистическим миросозерцанием.
Но у него была способность относиться к жизни разносторонне и из мечтательных сфер быстро возвращаться к действительности, интересоваться ею, погружаться в нее. Так, вернувшись домой и хотя полный ощущений, вызванных в нем свиданием с девушкой, о которой он мечтал целые годы, он все же не стал уходить в себя. Он перешел к новым интересам. Интересы эти были — семья брата. Каждый новый час, проводимый им в родном доме, доказывал ему, что со времени отъезда заграницу здесь многое изменилось и изменилось самым неожиданным для него и печальным образом. Чувство тоскливой неловкости еще более усилилось, когда он вскоре после обеда, за которым присутствовали совсем не интересные ему лица, ушел в свои комнаты под предлогом усталости. Совсем не того он ждал, возвращаясь в Петербург.
В течение двух лет его заграничной поездки многие впечатления стушевались, почти даже забылись. Он только чувствовал сильнее, чем когда-либо, свою связь с семьей, чувствовал страстное желание скорее все увидеть. И вот он дома. Но отца с матерью нет — они еще не приезжали. Карлик умер. А брат и невестка, с первой же почти минуты, заставили его вспомнить то, что им было забыто. Теперь, после двухлетней разлуки, ему стало яснее, чем когда-либо, что между ним и братом очень мало общего, что им и впредь вряд ли когда-либо сойтись. Да, как ни странно это — они совсем разные люди. Они погодки, других братьев и сестер у них никогда не было. Они вместе росли и воспитывались, — очевидно, должны были переживать общие впечатления. Они провели годы своего детства и отрочества почти безвыездно в Горбатовском, среди широкой жизни огромного барского дома, окруженные роскошью, баловством наезжавших соседей.
Они могли бы быть испорчены этой жизнью. Но у них была мать, разумная и страстно любившая их женщина, которая положила в них всю свою душу. Она следила почти за каждым их шагом. Принимала непосредственное участие в их воспитании и даже образовании, так как в течение нескольких лет была единственным их наставником. Она своим примером, своими беседами неизменно внушала им серьезные понятия о значении и обязанностях человека. Учила их не обращать особенного внимания на положение, даваемое им их богатством, не считать себя, вследствие этих случайных, данных им судьбою преимуществ, выше других людей, которым таких преимуществ не дано. Она учила их христианскому смирению, строгому отношению к их обязанностям. Она сама была для них лучшим примером — всегда простая, спокойная, справедливая, с равной снисходительностью и лаской относившаяся ко всем: к знатным и богатым, и бедным.
Отец их, хотя по своему характеру и меньше обращал на них внимания, но как человек благородный и добрый, с широкими взглядами, во многом опередившими эпоху, в которой он жил, не только не мешал этому доброму воспитанию, но нередко и помогал им. Да уж одно то было важно, что его взгляды и решения никогда не расходились со взглядами и решениями жены — и этого не могли не заметить дети.
Затем и старый карлик приносил немало пользы делу воспитания той атмосферой глубокой веры в Бога и любви, которая его окружала, которая дышала от каждого его слова.
При таком воспитании все дурное, приходящее извне, должно было парализоваться этим близким, неустанно действующим влиянием. И так оно было относительно Бориса. Казалось, так оно должно быть и относительно Владимира, а между тем выходило совсем не то. Мальчики сначала были очень дружны, очень похожи друг на друга, сходились во вкусах, привычках, желаниях. Но вот, по мере того как они начали вырастать, с каждым годом выступала все более и более разница в их характерах, и они мало-помалу, сначала не замечая этого сами, стали жить совсем разною жизнью. Борис, впечатлительный, мечтательный человек, учился хуже своего брата. Выписанный к ним англичанин-гувернер, человек мало смыслящий в деле воспитания, но образованный и явившийся необходимым помощником Татьяны Владимировны, очень часто жаловался на рассеянность и невнимательность Бориса.
— Борис — это ветер! — говорил он. — Владимир другое дело: он добросовестно относится к занятиям, он аккуратно приготовляет свои уроки. А все же надо признаться: ведь способности Бориса лучше, ему все так легко дается, когда он только захочет.
И это была правда. Борис ленился, Владимир работал больше. Борис очень часто не мог ответить на какой-нибудь вопрос из пройденного предмета, тогда как Владимир очень бойко всегда отвечал на подобные вопросы, с некоторым пренебрежением посматривая на брата. Но в то же время Борис сам задавал такие вопросы, до которых никогда не мог додуматься Владимир. Очень часто, когда Владимир, приготовив уроки, отправлялся играть или бегал по парку в сопровождении огромной сен-бернарской собаки, Борис, еще и не думавший приготовлять уроки, сидел, притаившись, в уголке огромной отцовской библиотеки с какой-нибудь интересной для него книгой и, весь красный, с блестящими глазами, пожирал страницу за страницей. Он любил также забираться в комнату карлика, где вечно перед образами горела неугасимая лампада, где пахло мятным квасом и деревянным маслом, где была расставлена крошечная, почти игрушечная мебель и все было так своеобразно, все напоминало миниатюрную келью.
Он подсаживался к карлику и упрашивал его рассказать ему о чужих краях, о Париже, о тамошней революции, о Лондоне, о покойном императоре Павле Петровиче, обо всем, что видел на своем долгом веку интересный карлик. Карлик сдавался на просьбы своего любимца — Борис был его любимец — и приступал к самым разнообразным рассказам; он передавал их пискливым детским голоском очень горячо, очень образно и интересно. Борис слушал, не отрываясь, жадно ловя каждое слово. И события, передаваемые карликом, в ярких, живых картинах рисовались перед ним, заслоняя собою знакомые предметы карликовой кельи. Если же Владимир случайно забредал на эту беседу, он сначала начинал тоже внимательно слушать. Но скоро ему это надоедало, он зевал и часто на самом интересном месте рассказа убегал в свою детскую и принимался там строить крепость или выставлять целую армию деревянных солдатиков.
Шалости обоих братьев были тоже совершенно различны. С Борисом всегда случались разные приключения. Несмотря на постянный надзор, он нередко как-то ухитрялся пропасть в глубине огромного парка, заблудиться, опоздать к завтраку или обеду. Раз даже целую ночь провел в лесу, напугав до болезни отца с матерью. Он очень любил уединение, далекие прогулки — и во время их всегда фантазировал. То он представлял себя путешественником, очутившимся на необитаемой земле, то рыцарем, которому предстоит победить разных чудовищ, войти в заколдованный замок и освободить в нем спящую царевну. Прочтя приключения Гулливера, он ежедневно ожидал встречи с великанами и лилипутами.
Однажды, будучи уже десятилетним мальчиком и возвратясь из долгой уединенной прогулки, он рассеянно выслушал строгие замечания матери, объявившей ему, что он будет наказан за непослушание, так как ему раз навсегда было приказано не убегать от гувернера. Он ни на минуту не смутился наказанием, которое его ожидало, и стал самым восторженным, самым убежденным образом уверять мать, что в дальней липовой аллее парка видел своими глазами «лесную фею». Сергей Борисович, пришедший на этот рассказ, вдруг вышел из себя и назвал сына лгуном. Борис горько расплакался и начал даже божиться, что действительно видел фею. Сергей Борисович рассердился еще более и приказал сыну выйти.
— Ты его обидел, — сказала Татьяна Владимировна, — ведь он никогда не лжет.
— Но, очевидно же, он солгал теперь! Какую там фею мог он видеть и еще окруженную сиянием и поднимавшуюся на воздух?!.
— Я уверена, что он не солгал и сам глубоко верит в то, что рассказал.
— В таком случае, у него галлюцинации. Он болен, его надо показать врачу.
Врач был призван, расспросил и осмотрел Бориса и решил, что он здоров.
— Значит, солгал, и на это надо обратить внимание, — сказал жене Сергей Борисович.
Но Борис продолжал уверять, что видел фею и остался в этом убеждении и во всю свою жизнь. Владимир никогда никаких фей не видал, никогда не воображал себя рыцарем, отправляющимся разрушать чары волшебного замка; никогда не ждал великанов и лилипутов и, вообще, мечтать и фантазировать не любил. Когда же приходила минута мечтания, он грезил о том, что будет генералом, перед которым все преклоняются. Он никогда не опаздывал к завтраку или обеду; но очень часто являлся к старшим с жалобой на какого-нибудь дворового мальчика, одного из тех, с которыми им иногда разрешалось играть.
— Он осмелился нагрубить мне! — говорил Владимир, важно выставляя вперед свои пухлые губы и закрывая глаза. — Его наказать надо, он дурной мальчик!
И всегда оказывалось, что сам он этого мальчика изрядно исколотил, так что, во всяком случае, наказывать приходилось никого другого как Владимира.
Братья оставались, по-видимому, в самых дружеских отношениях, очень редко ссорились. Но, тем не менее, посторонний наблюдатель мог бы заметить, как они все больше и больше отдаляются друг от друга, быть может, сами того не замечая. С каждым годом у них становилось все меньше и меньше общих интересов, они ни на чем не могли сойтись.
Борису трудно было понимать Владимира, а Владимир про себя считал брата если не совсем глупым, то, во всяком случае, стоящим ниже его в умственном отношении. Вместе с этим в его сердце начало прокрадываться очень мучительное чувство. Вырастая, он начал мало-помалу завидовать брату в том, что тот старше, что он еще к тому же и всеобщий любимец не только родителей, но и всех домашних, всей прислуги. Почему это старшинство, не дававшее Борису ровно никаких прав и привилегий, явилось предметом зависти Владимира? Это и сам он не мог бы объяснить — просто ему досадно было, зачем не он старший, — и только.
Что же касается всеобщей любви к Борису, то и эта любовь не имела ровно никаких обязательных, материальных последствий. Исключительных причин любви к нему отца и матери было много. Начать с того, что он в детстве был очень болезненным ребенком. Родители ежедневно страшились потерять его и, как всегда это бывает, вследствие этих мук и опасений он им стал еще дороже. Потом он, действительно, горячо любил их и умел выказать им свою любовь и нежность.
Мать, зорко следившая за детьми, подмечала в нем, в своем вымоленном у Бога первенце, прекрасные порывы сердца, иногда высокий полет мысли. Она ясно замечала, что ее труды, уроки и наставления не пропали даром, что он, Бог даст, выйдет именно таким человеком, каким она хотела его сделать.
Домашняя прислуга любила Бориса вся без исключения за его простоту и ласковость. Все хорошо знали, что он если и рассердится, если и вспылит, то это и пройдет скоро. Он всегда справедлив, всех любит, никого не обидит, всегда готов помочь, готов заступиться перед родителями, всегда рад устроить чье-либо дело.
Владимир рос крепким и здоровым ребенком. Раз только, как уже известно, он был серьезно, даже отчаянно болен. Но он выздоровел, и с тех пор здоровье его оказалось еще лучше прежнего.
Родители никогда не показывали ничем разницы в отношении к детям. Владимир не имел никакого права обвинять их даже в самой мелочи; но тем не менее, он, придя в возраст, хорошо почувствовал, что Борис теснее его связан с родителями. Конечно, от него самого зависело попытаться, по крайней мере, встать с ними в такие же отношения, но он никогда не делал этой попытки. Он и на них начинал иногда глядеть немного свысока. Он критиковал в них то то, то другое, чего Борис никогда не делал.
Относительно же домашних и прислуги, несмотря на все наставления матери, отца, карлика и гувернера, несмотря на пример, который он видел перед глазами, он каждым словом показывал всем, что он господин, барин и стоит неизмеримо выше окружающих.
И у него, конечно, бывали добрые минуты, и он, может быть, иной раз отнесся бы к кому-нибудь милостиво, помог бы кому-нибудь. Но уже к нему редко кто с чем обращался — слишком у него был надменный вид в отношениях с прислугой, в словах его слишком ясно сквозили презрение и гордость.
XVIII. СТУДЕНТЫ
Когда юноши, прекрасно сдав экзамены, поступили в Московский университет, рознь между братьями начала сказываться еще яснее. Борис поступил на словесное отделение и, несмотря на то, что в детстве и отрочестве бывал рассеян за уроками и получал немало выговоров, теперь начал прекрасно заниматься. Избранные им науки его увлекали. Он считался чуть ли не первым студентом. Профессора ставили его в пример другим. Владимир оказался математиком. Имея хорошие способности к математическим наукам, он тоже шел успешно, но именно прежнего прилежания в нем уже не было.
Горбатовы оставались в деревне и приезжали в Москву не более как на три зимних месяца, так что молодые люди жили почти самостоятельной жизнью в своем прекрасном московском доме. При них состоял большой штат прислуги. Кроме того, с юношами до сих пор жил и прежний их гувернер, англичанин, мистер Томсон, человек уже очень пожилых лет. Они к нему привыкли и любили его; но он не мог иметь на них особенного влияния. Он держал себя в стороне, не вмешиваясь в их дела, но в то же время был, так сказать, их историографом: он ежедневно посылал в Горбатовское Татьяне Владимировне подробный отчет о времяпровождении ее сыновей. Он дал обещание ничего от нее не скрывать, и в случае надобности она всегда готова была приехать в Москву.
Она и Сергей Борисович скучали в разлуке с детьми. Но, во-первых, они слишком глубокие корни пустили в Горбатовском, а во-вторых, на семейном совете, в котором принимал участие и престарелый карлик, было решено, что молодые люди должны приучаться к самостоятельной жизни, что несколько месяцев в году их следует оставлять на свободе: оба они благоразумны и не станут злоупотреблять ею. Если чего Боже, сохрани, что и случится — Москва не за горами. А честный англичанин добросовестно станет исполнять свои обязанности.
И Борис, действительно, не злоупотреблял своей свободой. Он много работал, так что его однолеток и неизменный служитель, Степушка, крестник карлика, нередко уговаривал бросить книжки да развлечься. Молодой барин иной раз и сдавался на убеждения Степушки, откладывал книги, но брался за другое — научал Степушку уму-разуму; так что, в конце концов этот Степушка сказался не только что грамотным, но и достаточно начитанным, знающим такие вещи, о которых и во сне не снилось его родственникам и сверстникам и горбатовской дворне.
В свободное от занятий время Борис посещал театры; посещал некоторые родственные дома, принадлежавшие к высшему московскому кругу; не отказывался и от танцев. Ухаживал за хорошенькими девушками, а они очень заглядывались на красивого юношу с мечтательной физиономией. Эти девушки находили, что Борис очень похож на Шиллера, только, конечно, en beau. Писал молодой студент и стихи, и писал очень недурно, но никому не показывал своих творений, держал их в самом дальнем ящике бюро, всегда на запоре. Были у Бориса и любимые товарищи — три-четыре человека. Они иной раз собирались вместе, спорили, декламировали Ломоносова, Державина, толковали о Шекспире, о Гете, о Шиллере. Этот маленький кружок назывался в университете «трезвой компанией».
Владимир не принадлежал к трезвой компании. Он теперь даже редко видался с братом. В университете они были на разных отделениях. Положим, приходилось танцевать на одних и тех же вечерах, но Владимир иногда манкировал своими обязанностями светского юноши. Его увлекали другие забавы. Он принадлежал, хотя и весьма осторожно, к кружку разгульной богатой московской молодежи. Если бы мистер Томсон вздумал учредить тайный надзор за своим младшим воспитанником, он должен был бы сообщить Татьяне Владимировне печальные вещи. Он должен был бы сообщить ей, что Владимир частенько к цыганам заглядывает, что его можно встретить иногда на лихой тройке в хмельной компании, с дамами очень сомнительной репутации. Но мистер Томсон не учреждал тайного надзора, а Владимир вел себя осторожно: никогда не проговаривался, никогда не доводил своего поведения до какого-нибудь открытого скандала. В нем с этих уже юных лет сказалась одна черта, и он усердно развивал ее в себе — он ничего не доводил до крайности, во всем соблюдал меру и осторожность. Он любил выпить с веселыми товарищами, но никогда нигде не видали его совсем пьяным. Он ни разу не являлся домой в «безобразном виде». У него было одно затруднение — деньги.
Горбатовы ни в чем не стесняли детей своих и давали молодым студентам более чем достаточно для того, чтобы иметь возможность веселиться и помочь ближнему. Татьяна Владимировна знала, что ее Борис немалую сумму употребляет ежегодно на добрые дела, на поддержание бедных товарищей и делает все это с присущей ему деликатностью. Такая же сумма была и в распоряжении Владимира, но он употреблял ее исключительно для своих удовольствий, которые должны были оставаться тайной для родителей. Эта сумма, конечно, оказывалась недостаточной. Приходилось обращаться к брату. Брат всегда был готов служить, но мог уделять немногое. Оставалось занимать, и Владимир занимал, но опять-таки, осторожно, за проценты достаточные, но не чересчур большие, с уверенностью в том, что его долги не огласятся и что ему дана будет возможность выплатить так, что даже родители об этом не узнают. Положим, этого сделать ему не удалось, но и здесь ему удалось выпутаться! По окончании курса, когда пришлось расплачиваться с долгами, достигшими очень большой суммы, он пришел к отцу и матери и спокойно, хотя и грустным тоном, объявил, что с ним случилось несчастье.
— Что такое?
— Вы знаете, что я не игрок, не мот и не пьяница, — сказал Владимир, — но с кем не случается ошибка. Я увлекся в первый раз и, надеюсь, в последний раз в жизни и очень сильно проигрался.
Сергей Борисович нахмурил брови; Татьяна Владимировна побледнела. Но спокойный и самоуверенный вид Владимира, его уверения в том, что он не чувствует никакой страсти к картам, их скоро успокоили. Он назвал цифру своего мнимого проигрыша. Они не ожидали ничего подобного — проигрыш его далеко превышал сто тысяч.
— Да где же это? Кому ты проиграл такую сумму?
— Я убедительно прошу вас меня не расспрашивать, я не имею права сказать — я связан честным словом. Я не хочу подвергать никакой неприятности тех, кому проиграл. Но ведь вы понимаете, дорогой батюшка, что я должен заплатить и заплатить немедленно.
— Да, я это понимаю, — грустно сказал Сергей Борисович. — Приходи завтра, я приготовлю тебе эти деньги, но надеюсь, что это, действительно, в последний раз. Хотя наши средства и велики, но мы с твоей матерью не для того их сохраняли и увеличивали, чтобы ты бросал их за окно. У нас в роду еще не было картежников.
— Надеюсь, и не будет, — с достоинством возразил Владимир. — Я чистосердечно повинился перед вами в беде, ошибке, грехе — если хотите, и, надеюсь, вы мне простите!
Он крепко целовал руки родителей, ласково глядел на них своими полузакрытыми глазами. Они ему поверили. На следующий же день он получил возможность расплатиться с долгами. Таким образом, его студенческие проказы остались только в воспоминаниях некоторых товарищей да московских цыган и цыганок.
По окончании университетского курса молодые люди, проведя лето, по обычаю, в деревне, приехали осенью в Петербург, с тем чтобы начать новую жизнь. Владимир ясно определил себе свои цели. Он поступил на военную службу. Он должен был непременно достигнуть того, о чем мечтал еще в детстве, то есть сделаться генералом, увешанным звездами.
Борис не чувствовал влечения к военной службе, он зачислился по ведомству духовных дел, к князю Голицыну, знавшему отца его. Но служба его как-то не увлекала, он был занят иным. Ему казалось, что он приближается к заветному порогу, к открытию великих тайн, которые чуть не с детства мучили его душу — он был принят в масонскую ложу. Он иногда посещал общество, производил на всех хорошее впечатление, но был скромен, молчалив. Он только старался наблюдать и был недоволен своими наблюдениями. Он встречался с красивыми женщинами и девушками, умными и интересными, которые готовы были, при желании с его стороны, обратить на него внимания. Но он не заинтересовался ими. Он любил какую-то мечту, тосковал по какому-то идеалу. Он искал смысла жизни, откровения великой истины.
Но петербургское масонство его разочаровало. Он решился ехать за границу на два, на три года. Хотелось объездить всю Европу, присмотреться к тамошнему умственному и нравственному движению, заглянуть в тамошние мистические общества. Быть может, где-нибудь он и найдет то, без чего не может быть счастлив. Когда он сообщил о своем намерении родителям, оказалось, что они ничего против этого не имеют. Его отец в молодости прожил долгие годы за границей, прожил в качестве изгнанника. Он передал ему целый ряд своих наблюдений. Он заинтересовался сам его поездкой, просил чаще и обстоятельнее писать ему, рассказывать ему, какова-то стала теперь Европа. Мать нашла, что молодому человеку следует набраться побольше впечатлений, что большое, продолжительное путешествие с той подготовкой, с тем запасом научных сведений, которые были у Бориса, послужит только к дальнейшему его развитию. Сообщил он о своем решении ехать брату. Тот изумился, пожал плечами, закрыл глаза и не сказал ни слова.
— Что это ты? — изумленно спросил Борис. — Ты как будто меня не одобряешь?
— Да, я тебя не одобряю, — ответил Владимир. — Да и посуди сам, как я могу одобрить — ты только что начал свою службу, тебя очень ласково принимает князь Голицын, у тебя, насколько я знаю, завязываются связи, не сегодня, так завтра подвернется благоприятный случай, ты можешь быстро пойти в гору — а ты уезжаешь на два, на три года — шутка ли это! Ты себе страшно вредишь и тебе придется впоследствии очень раскаиваться.
— Да, с этой точки зрения ты, конечно, прав, — проговорил Борис. — Но дело в том, что это не моя точка зрения, и во всяком случае я никогда не буду раскаиваться.
Владимир опять пожал плечами. У него мелькнула мысль о том, что брат просто глуп, несмотря на то, что начитался книг и по целым часам может философствовать на такие темы, о которых он, Владимир, не имеет понятия.
Ну, а сам Владимир был далеко не глуп. В это время, то есть перед отъездом брата, он уже был счастливым супругом графини Черновой. Он хорошо обдумал эту женитьбу. Катрин ему нравилась как хорошенькая девушка, но ведь и другие были не хуже ее и даже больше ему по вкусу. Он мог бы найти себе невесту и побогаче. Но у Катрин было то, чего не было у других — были самые надежные и прочные связи: ее близкие родные стояли у дел в то время и должны были доставить Владимиру то, чего не мог доставить непрактичный отец — солидную репутацию. Благодаря женитьбе на графине Черновой, Владимир рассчитывал сделать быструю и блестящую карьеру. Его расчеты стали тотчас же оправдываться…
Теперь, после двух лет разлуки с братом, перед Борисом яснее, чем когда-либо, явилась эта жизнь близкого ему по крови существа, в котором бы он хотел видеть друга, достойного, безупречного человека…
«А он доволен собою, — думал Борис, — он, очевидно, считает себя счастливым человеком! И все так, все! Он не хуже, а лучше многих».
XIX. ДРУГ ДОМА
Думая о брате, Борис всегда усиленно старался не анализировать его. Он инстинктивно чувствовал, что из этого анализа не выйдет ничего утешительного. А ему слишком бы тяжело было порвать кровную связь, выросшую вместе с ним. Он продолжал любить брата, и эта любовь, главным образом, выражалась в нем в те минуты, когда с Владимиром случалась какая-нибудь крупная неприятность. Он принимал братнюю неприятность горячо к сердцу, и ему самому делалось так больно, как будто эта неприятность случилась с ним самим. Если он видел какой-нибудь предосудительный поступок Владимира, он страдал. Если случайно замечал, что кто-нибудь относится к брату без уважения, с порицанием и недружелюбием, ему становилось тяжело и больно. Он радовался каждой его хорошей удаче.
Когда была решена его женитьба на графине Черновой, он пристально, пристально вглядывался в эту хорошенькую, блестящую девушку и по целым часам раздумывал, будет ли брат счастлив с нею. Он постарался с нею сблизиться. Но это было очень трудно. В первое время молодые супруги были поглощены друг другом и третьему тут не было места.
Впрочем, Катрин, веселая, ласковая, игривая, с ухватками хорошенького котенка, могла в то время возбудить к себе только симпатию. Она была слишком молода и хотя сама никогда не задавала себе вопроса о том, любить ли и как любить мужа, но все же Владимир, молодой, красивый, окружавший ее предупредительной нежностью, на первое время казался ей лучшим из мужчин. Хотя она и привыкла в родительском доме к роскоши, но все же уже достаточно наслышалась о том, что состояние их расстроено. Денежные затруднения, из которых должен был иногда с большим трудом выпутываться ее отец, отражались, конечно, и на ней. Она испытывала кое-какие стеснения. Далеко не все ее причуды, а их у нее всегда было много, могли исполняться. Ее мать, женщина недалекая и не имевшая никакого понятия о воспитании, успела с детства внушить ей мысль, что она должна выйти замуж за человека очень богатого, что в богатстве заключается высшее человеческое счастье. И вот она получила это богатство. Положим, Владимир не разделен, все состояние в руках Сергея Борисовича. Но Горбатовы ни в чем не стесняют сына. В распоряжение у Катрин сразу оказались такие средства, о каких она и не мечтала.
Это богатство, эта царственная роскошь старого дома, возможность наверстать потерянное, исполнять все прежние и новые причуды, на несколько месяцев отуманили счастьем ее голову. Она принялась играть в маленькую королеву, и так как эта игра, при ее юности и миловидности, всем нравилась, то Катрин не имела никакой возможности выказать свои недостатки. Она легко обманула и Бориса. Он уехал за границу, уверенный, что его belle-soeur — прелесть, что она добра и будет, наверно, хорошей женой и матерью, когда пройдет ее детское легкомыслие, а ведь оно пройдет скоро. Под могучим дыханием жизни, супружества и материнства наивная девочка быстро превращается в женщину.
Но, вернувшись через два года, Борис сразу должен был убедиться, что жестоко ошибся, что его belle-soeur вовсе не прелесть. Даже ее красота хорошенькой птички, поражавшая сразу, в один день успела ему приглядеться и уже не производила на него впечатления, не защищала ее, не заставляла быть к ней пристрастным. Борис понял, что брат и Катрин вовсе не счастливые супруги. Он убедился также и в том, что Катрин вовсе не примерная, нежная и заботливая мать для маленького Сережи. Теперь эта идеальная воздушная птичка, маленькая королева, становилась ему просто антипатичной, будто она переродилась. Куда девалась ее прежняя изящность. Оказалось, что она только напускает на себя эту изящность, а что, в сущности, она очень грубая женщина. Мелкость ее интересов, ее пустота так и били в глаза при каждом ее слове. Борис, во время долгой разлуки считавший ее близкой, родной, теперь чувствовал, что она ему совсем чужая. И ему просто становилось досадно и обидно видеть ее в своем родном доме, да еще и в роли хозяйки. Он даже сам изумился своим внезапно развивающимся чувствам, готов был себя за них укорять. Быть может, он преувеличивает, быть может, он, слишком много от нее ожидавший и убедившийся, что она не может исполнить этих ожиданий, стал просто несправедлив к ней?!
Услышав, что обедавшие гости уже разъехались, и чувствуя, после всех своих размышлений, потребность еще раз вглядеться в Катрин, чтобы проверить себя, Борис прошел в детскую маленького Сережи. Он рассчитывал застать там Катрин, так как она за обедом сказала, что останется весь вечер дома. Но ее не было в детской. Он повозился с племянником, который был совсем в его вкусе и к которому он уже начинал чувствовать большую нежность. Толстенький, хорошенький мальчик сразу привык к нему, тянулся к нему, радостно захлебывался и пускал пузыри своими пухленькими губами.
— А где же барыня? — спросил Борис няню.
— Не могу сказать вам, сударь, — отвечала она, — сегодня барышня не изволила в детскую заглядывать…
Он пошел отыскивать Катрин. Но в парадных комнатах ее не было. Он решился пройти в ту заветную, издавна милую ему комнату, где вчера увидел Нину. Теперь эта комната получала для него совсем особенное, новое значение. Он тихо шел по мягким коврам и на него наплывали сладкие, любимые грезы, теперь превращавшиеся в действительность. Прелестный, бледный образ Нины с ее загадочными темными глазами, которые всю жизнь его преследовали, так и стоял перед ним…
Вот он уже у заветной комнаты. Он остановился, тихо приподнял спущенную портьеру… вошел и остановился в изумлении… На маленьком диване, на том самом диване — Катрин, а рядом с нею какая-то мужская фигура. Но это не брат… Что это такое было?! Произошло что-то мгновенное, чего он в своей рассеянности не мог и уловить. Но он хорошо, ясно заметил, как яркая краска вдруг залила все лицо Катрин и как на этом лице изобразились испуг и смущение. Он ясно заметил, как она вскочила с дивана, а потом вдруг опять упала на него и проговорила своим певучим голосом:
— А, Борис, это ты?! Я думала — Владимир вернулся!.. Вы знакомы, господа?
Борис взглянул — перед ним стоял молодой человек лет тридцати, с огненными глазами, красивым лицом и презрительной, даже несколько нахальной усмешкой. Катрин уже совсем оправилась от своего смущения.
— Граф Щапский… mon beau-frere!..
Они пожали друг другу руки.
Граф Щапский взглянул прямо в глаза Борису пристальным, спокойным взглядом. А губы его, быть может, против воли, все так же нахально усмехались. Борису вдруг сделалось неловко. Он почувствовал внезапный прилив злобы, чего с ним никогда не бывало. Он не знал этого графа Щапского и вчера не заметил его на балу, но он уже о нем слышал. Это был богатый польский граф, недавно приехавший в Петербург, поступивший на службу и имевший большой успех в петербургском обществе. Его имя произносилось сегодня и у генеральши.
Начался обычный, неизбежный разговор, какой всегда бывает между двумя людьми, которые только что познакомились. Щапский сделал несколько очень грубых ошибок по-русски и потому перевел разговор на французский язык, на котором говорил как прирожденный парижанин. При этом оказалось, что он и воспитывался во Франции, в иезуитской школе. Борис припомнил, что его так и называют — иезуитом. С каждой минутой он становился ему все неприятнее, несмотря на то, что держал себя с большим достоинством и был очень любезен. Он, очевидно, был высокого о себе мнения и сознавал в себе какую-то силу. Это выражалось в каждом его движении, в каждом слове. Смутить его было трудно. Наконец он стал прощаться.
— А разве вы не останетесь с нами ужинать? — спросила Катрин.
— Простите, никак не могу.
— Очень жаль, муж был бы так доволен вас видеть; он, наверное, скоро вернется…
Щапский еще раз выразил свое сожаление и откланялся. Теперь Борис уже внимательно наблюдал, и ему показалось, что гость и Катрин, прощаясь, обменялись каким-то особенным, быстрым взглядом. По уходе графа Катрин рассыпалась в похвалах ему. Он такой образованный, такой умный и приятный собеседник; его все очень ценят.
— Он ведь иезуит?! — проговорил Борис.
— Иезуит, я знаю… Но ты говоришь таким тоном, как будто быть иезуитом — что-то позорное.
— Почти что так.
— Спорить я с тобой не буду, потому что мало думала об этом. Если же граф иезуит, то, значит, ничего в этом дурного нет. Et puis, je te dis, il est reèu partout. Им все дорожат. Его даже при дворе любят.
— Он давно у вас бывает?
— Около года, со своего приезда.
— И брат с ним дружен?
— Да, кажется, они приятели…
В это время вошел Владимир.
— А! Как ты мил, что не опоздал! — радостно крикнула Катрин, поднимаясь к нему навстречу и, очень грациозно встав на цыпочки, поцеловала его.
Владимир изумленно взглянул на нее.
— Я сейчас встретил Щапского, — сказал он, — просил его вернуться, но он говорит, что не может.
— И я его тоже просила, — проговорила Катрин, огляделась перед зеркалом и тихо вышла из комнаты.
— Это твой приятель — Щапский? — тихо спросил Борис.
— Я ничего не имею против того, что он мне приятель! — отвечал Владимир.
— То есть я хочу спросить тебя, считаешь ли ты его вполне хорошим человеком?
— А он, верно, тебе не понравился? Видишь ли, я не знаю, какой он там человек, ведь узнать это очень трудно, а главное, незачем! Одно знаю, что нам с тобой можно у него поучиться многому… Я, право, не встречал более ловкого человека! В какой-нибудь год — и если бы ты знал, как он устроил свои дела! Я уверен, что ему предстоит будущность — всего добьется. И при этом он может быть полезен, право, уверяю тебя… он уже оказал мне кое-какие услуги… Нужный человек, очень нужный!..
«И он о ней не заботится, ему все равно! — с тоской подумал Борис. — А ведь он мог бы еще исправить многое! Она так молода! Каково матушке — ведь она, наверное, поняла ее и страдает. Да, она поняла, наверно. Но я могу ошибаться, может быть, многое мне только кажется. Может быть, я себе все представляю мрачнее, чем есть — дай-то Бог!..»
Он постарался хоть на этом успокоиться и поспешил к себе.
XX. «TUBALCAIN»
Печальные размышления Бориса были прерваны Степушкой, который, заглянув в комнату, объявил:
— Князь Вельский приехал и спрашивает, не можете ли вы принять их?
— Конечно, проси. Проведи скорей сюда! — встрепенулся Борис.
Князь Вельский был молодой человек, одних лет с Борисом, небольшого роста, сухощавый, очень белокурый, с мелкими неправильными чертами лица и великолепными темно-голубыми глазами, блеск и живость которых скрашивали его невзрачную внешность. В прежние годы, в Москве, он тоже принадлежал к университетской «трезвой компании», был большим другом Бориса, а теперь несколько лет проживал в Петербурге, почти без определенных занятий, числясь в каком-то ведомстве. Посещал высшее общество, к которому принадлежал и по связям, и по рождению. Считался выгодным женихом, но женихом безнадежным, так как всему городу было известно, что он уже несколько лет в связи с одной дамой, из-за которой у него четыре года тому назад была даже дуэль, наделавшая ему много хлопот и неприятностей.
Войдя в комнату Бориса, князь Вельский каким-то особенным образом протянул ему руку и очень серьезно проговорил:
— «Tu».
Борис таким же образом ответил на пожатие и в свою очередь произнес: «bal».
— «cain», — докончил Вельский.
Из этих трех слов образовалось слово «Tubalcain», священное слово масонов, которым они в особенных случаях приветствовали друг друга и установляли связь между собою.
Затем приятели троекратно и горячо поцеловались.
— Наконец-то ты вернулся! — быстро, немного пришептывая, заговорил Вельский. — Мне только что сейчас сказали об этом у Гагариных. Кто-то из них слышал от твоего брата. Я и приехал, не зная, верить или нет. Как же я рад тебя видеть, хотя ты, право, этого не стоишь — на несколько моих писем не ответил ни слова!
— Прости, любезный друг, — сказал Борис, — сам очень хорошо знаю, что виноват перед тобою. Но я в последнее время переезжал из города в город, приближаясь к родине. Особенного ничего не имел сообщить тебе, то есть сообщить-то у меня много, пожалуй, только не для писем. И, вообще, ты должен знать, как я ленив на письма.
— Хорошо, принимаю твои извинения и не желаю с тобой пикироваться. Скажи, ну что, как доволен этими двумя годами? Нашел ли за границей то, что искал?
— Нет, не нашел. Хотя не могу сказать, что этими годами не доволен. Они не прошли для меня даром — я уяснил себе многое…
— А знаешь ли, — вдруг перебил его Вельский, — некрторые из наших братьев недовольны тобою, считают тебя отщепенцем.
— Я это знаю! — спокойно сказал Борис. — Я ведь, кажется, ни перед тобою, ни перед кем не скрывал своих разочарований. Теперь посмотрим, прав ли я был. Скажи мне, любезный друг, вот мы с тобою не видались целых два года, скажи — удовлетворен ли ты сам действиями и занятиями нашего общества? Далеко ли ты подвинулся вперед? Нашел ли в чем-нибудь разрешение?
— Отвечая утвердительно, я бы солгал тебе.
— Вот видишь — так в чем же обвинять меня? Теперь для меня совершенно уже выяснилось многое! Да, я вижу прямо. И то, что скажу тебе, то готов повторить перед всеми братьями нашей ложи, если она еще собирается.
— Где уж собираться! — махнул рукой Вельский. — Ведь мы под большим запретом. Но, конечно, все же бывают некоторые собрания то здесь, то там…
— Это все равно, — горячо заговорил Борис. — Я не жалею о том, что разогнали наши театральные зрелища.
— Театральные зрелища? — изумленно повторил Вельский.
— Да, именно. Как же я иначе могу назвать все эти обряды, всю эту внешнюю сторону масонства! Вспомни, ведь мы вместе с тобой готовились к великому, как нам казалось, таинству посвящения. Помнишь, мы постом и молитвой готовились. Тогда у меня не было в мыслях считать эти таинственные обряды пустыми. Такой взгляд на них я почел бы святотатством. Я помню, с каким трепетом вступил я в ложу и начал проходить ряд испытаний. Все, что я видел, все, что со мной делали, мне искренно казалось полным величайшего смысла. Эта черная комната, мертвая голова и кости с надписью: «memento mori», это хождение с завязанными глазами по какому-то лабиринту, снимание повязки, устремление на мою обнаженную грудь со всех сторон острия шпаг — все это приводило меня в священный трепет. На вопросы проводника о том, с каким намерением вступаю я в братство вольных каменщиков, я из глубины сердца отвечал, что единственное намерение мое — открыть вернейший путь к познанию истины!.. И ты знаешь, что таково было мое действительное намерение, мое страстное желание, так же, как и твое, так же, как и некоторых других наших братьев. Нам обещали, что мы достигнем цели с помощью братства. Нас заставляли подниматься по ступеням Соломонова храма, и мы искренно верили, что не маленькая жалкая модель этого храма, а сам он перед нами, и что нам, действительно, откроется возможность войти по его ступеням к алтарю вечной истины, к алтарю вечной Софии. Мы люди, мы слабы, но ведь все же мы честно боролись с дурными инстинктами нашей природы. Мы были добрыми работниками. Братство сочло нас достойными перейти в высшую степень. Для нас должны были открыться те таинства, которые мы в качестве учеников могли только благоговейно созерцать в вещественных аллегориях. Что же нам открылось? Ничего! Нам сообщили только то, что нам и так было давно известно в те дни, когда мы еще и не думали о масонстве!..
Вельский внимательно и грустно слушал, не перебивая своего друга.
Борис продолжал:
— Впрочем, нет, я ошибся. Мы, действительно, узнали многое. Мы узнали, я узнал, по крайней мере, что все эти обряды, или аллегории, вся эта внешняя сторона масонства есть в то же время и его сущность, ибо за ней вместо откровений великих истин — пустота. Я узнал, что многие наши руководители, перед мудростью которых мы преклонялись, слепо верили в эту неведомую нами мудрость, — почти круглые невежды. Исполнять Христовы заповеди, идти по пути самоусовершенствования, чтить Бога, любить ближнего, воздавать должное каждому из братьев — ведь все это и так требуется от каждого христианина! Масонство же обещает общую плодотворную работу, откровение величайшей науки всех наук. Но наше масонство ничего этого дать не может, потому что оно играет словами. Наши братья, я не говорю о всех, конечно, так как между масонами всегда можно встретить высоких и разумных людей, — но большинство наших братьев, огромное большинство — жалкие люди, не только не способные разрабатывать науку всех наук, но не способные даже поработать над собою; они погибают в слабостях человечества. Для таких людей, конечно, масонство важно. Им нужны театральные зрелища, и, пожалуй, они были бы недовольны, если бы за этими зрелищами скрывалось что-нибудь другое. Ведь не станешь же ты спорить со мною, если я утверждаю, что есть много масонов, которые поступают в братство только для того, чтобы завести связи с влиятельными братьями, влиятельными не в масонском, а в житейском смысле слова?! Через масонство достигают знакомств, связей, протекции, добиваются личных целей!..
— Все это правда! — перебил Вельский.
— Но ведь на это можно ответить, что тут нет еще ничего предосудительного. Всякий масон, кто бы он ни был, достигая посредством братьев более или менее высокого положения в обществе, тем самым служит цели масонства, способствует его распространению, влиянию на жизнь общества. Конечно, этим и оправдываются, и это было бы достаточное оправдание, если бы такими средствами выдвигались люди, действительно способные развивать истины масонские, то есть высокие и благородные задачи. Но ведь за примерами ходить недалеко — возьмем эти примеры из нашей ложи за последние пять-шесть лет. Разве мы не знаем несколько случаев, когда к нам пробрались никому неведомые люди, воспользовались значением и связями братьев, достигли того, к чему стремились, получили значительные места на службе и оказались взяточниками и грабителями!
— Да, к несчастью, то, что ты говоришь — правда! — сказал Вельский. — И не далее как на этих днях я узнал очень печальный случай. Ты, может быть, помнишь офицера Синяева, он был посвящен после нас?
— Как же не помнить! Очень хорошо помню.
— Он мне никогда не нравился, хотя я и старался победить в себе это предубеждение относительно «брата», ибо оно ведь должно считаться греховным в масоне. Синяев на всех производил впечатление человека очень деятельного, энергичного. Его всегда можно было найти у кого-нибудь из старших братьев. Он угождал всем, вслушивался в каждое слово, толковал о своих добродетелях.
— Что же с ним случилось?
— Очень печальная история. Дело в том, что его добродетелям поверили, на него понадеялись, ему была поручена очень большая сумма денег, назначенная на дела благотворительности. Он присвоил эту сумму и вместе с этим явился к Аракчееву с доносом на «братьев».
— И это осталось безнаказанным?
— Конечно, теперь не такие времена, чтобы мы могли чего-нибудь добиваться и что-нибудь разоблачать; напротив, Синяев, кажется, попал к Аракчееву в милость. Я еще недавно слышал, что о нем с похвалой отзывался один из наших ярых врагов — архимандрит Фотий.
— Вот человек, который меня интересует, хоть я и никогда не видел его, — перебил Борис. — Это человек, обладающий, по-видимому, очень значительной силой…
— А я его видел и убежден, что ты не найдешь в нем ничего интересного. Но перейдем к Синяеву. Я рассказал тебе этот случай вовсе не для того, чтобы признать себя побежденным. Да, мы видели несколько печальных примеров, но зачем же на них останавливаться — ведь это только частные случаи. Я сам почти разочарован в нашем масонстве, но вообще за масонством признаю большое значение. Я уверен, что если дело у нас идет плохо, то где-нибудь оно идет хорошо. Ведь братство раскинуло свои сети по всему миру. Ты был во многих местах, ты должен был столкнуться со многим важным и интересным. Я поспешил к тебе, чтобы узнать от тебя как от очевидца о том, что делают наши далекие братья. Неужели ты станешь меня разочаровывать?
— К несчастью — почти так! — грустно проговорил Борис.
XXI. МИСТИК
Борис поднялся и начал в волнении ходить по комнате.
— Истинное масонство, — заговорил он, — может существовать, должно существовать и, я надеюсь, когда-нибудь и будет существовать. Когда-нибудь люди отыщут потерянный ключ к разгадке великих и вечных тайн природы… То, о чем мы толковали и о чем мечтали в студенческие годы, не было заблуждением, не было праздной мечтой… Теперь я знаю, на основании тех сведений, которые получил, работая больше года в Британском музее, что мы не обманывались… да, ключ был — и человечество его потеряло, а между тем в глубокой древности этим ключом мудрецы отпирали все тайны. Истинное учение существовало у древних, первобытные мистерии — вот настоящие масонские собрания, ложи, вот где скрывалась наука всех наук!..
— Что же осталось нам, какие указания на эти потерянные тайны? Все это очень любопытно! — перебил Вельский.
— Остались указания на то, что древние обладали следующими истинами: они знали о существовании вечной, всемирной, всемогущей, всеобъемлющей жизни, созданной единым сверхъестественным Logos'ом. Эту бесконечную жизнь он создал из самого себя. Вещество этой жизни вечно, и вещество это — свет. То, что проявляется внешним образом, существует и отвлеченно, изначала, в своем первообразе, который отражается в зеркале чудес и зеркало это — София, вечно рождающая и вечно девственная… Весь видимый мир как явление вечной жизни управляется вечными законами, действующими и в невидимых для нас мирах. Эти законы суть свойства природы, и их семь: притяжение, противодействие, кругообращение, огонь, свет, звук, и наконец, тело. Будучи совмещением всего, первые шесть свойств природы делятся на две троицы, или на два полюса. Полюсы эти представляют из себя двойственность природы; первые три свойства: мрак, зима, страдание — ад; другие три — свет, наслаждение, лето — рай. Огонь — вечный очиститель природы…
— Какой же это огонь? — вдруг спросил Вельский, внимательно следивший за словами приятеля, но, очевидно, с большим трудом в них разбиравшийся.
— Какой огонь! Конечно, не тот, который горит перед тобою в этой лампе, хотя и в этом есть частица небесного огня. Древние знали иной огонь, небесный, обладающий разнообразнейшими и непостижимыми для нас свойствами; впрочем, эти свойства его уже начинают и теперь подмечать европейские ученые, и я уверен, что в скором времени относительно этого огня предстоит немало открытий. Но нескоро мы будем знать его так, как знали мудрецы древности, называвшие его огненным эфиром, духом, началом жизни… Но слушай — ты перебил меня, — вот последнее положение: всякий свет — порождение мрака, и для того, чтобы сделаться светом, неизбежно должен пройти через огонь. Как материя в своих разнообразных видах проходит этим путем, так и дух, достигая знания и света, должен выйти из мрака, который составляет его первоначальную темницу, должен очиститься в огненном горниле.
Борис остановился.
— Да, — сказал Вельский, — все это крайне интересно, но, признаюсь, сразу мне кажется очень неясным.
— Я понимаю это, — отвечал Борис. — Я объясню тебе все неясности, познакомив тебя со сделанными мною выписками из самых редких изданий, находящихся в книгохранилищах Европы. Ты сам увидишь, что я вовсе не увлекаюсь и что великая мудрость была достоянием древних истинных масонов, этих магов, перед которыми самые ученые мудрецы — жалкие невежды. Но все эти знания, вся эта мудрость великой науки о духе и материи исчезли вместе с древним миром. Впрочем, есть указания на то, что если и не вполне, то все же в значительной степени она и теперь сохранилась в недостижимых для нас глубинах Индии, среди тамошних браминов. Но что же делаем мы — масоны, искатели истины? Вместо того, чтобы ревностно подбирать крупинки этих великих растерянных знаний, мы ограничиваемся хорошими словами. Я посещал много масонских собраний в Англии, Франции, Германии и Италии, я надеялся, что хоть где-нибудь сойдусь с мужами знания, и, представь себе, — везде видел то же самое, что и у нас, даже хуже нашего! Масоны на западе лицемерят еще больше. Ложи не имеют в себе ровно ничего масонского. Это просто тайные политические общества. А между тем ты сам знаешь, что политика не должна входить в круг действий масонства…
— Да, не должна входить в круг действий масонства, — повторил Вельский, — но скажи мне, обязан ли человек, будучи масоном, быть равнодушным к политике, быть равнодушным к жизни своего отечества?
— Я не говорю этого!
— Вот то-то и есть! — внезапно оживляясь, воскликнул Вельский. — Если ты заметил или вскоре заметишь, быть может, некоторое охлаждение с моей стороны к отвлеченным вопросам, то это потому, что жизнь выставляет другие вопросы, насущные, от которых, по-моему, и позорно бегать. Ты два года провел вне России, ты отдохнул, освежился. Но ведь мы здесь задыхаемся! И в такой атмосфере жить невозможно, и с каждым днем становится все хуже и хуже!..
Борис нахмурился и не перебивал. А тот продолжал все с возрастающим жаром:
— Помнишь, после войны, как жилось хорошо! Мы тогда были очень юны, были почти дети; но ведь уже и тогда мы понимали многое. Да, наконец, спроси людей зрелых — все скажут одно и то же. Да, жилось хорошо! Впереди было светло, сколько надежд!.. Государь, просвещенный, покрытый славой, любящий свой народ, думавший только об его благе, надеявшийся повести этот народ впереди других наций к счастью, к свободе!.. Лучшие русские люди, светлые умы начинали получать влияние. Казалось, не было сомнений в том, что умственная жизнь получит у нас самое широкое развитие… Какая дивная перспектива! Вождь России, освободивший западные европейские народы от ига деспота, своим собственным примером, примером своего обширного государства укажет путь к благу всего человечества! Страна юная, которую еще недавно западные европейцы считали варварской, опередит все другие страны!..
И что же?! Года шли. Прошло десять лет — и какая печальная перемена! Какое страшное несчастье обрушилось на бедную Россию! Человек, столь разумный, столь благородный и возвышенный, питавший в себе такие великие планы, уже клавший первые, твердые камни благих начинаний, вдруг опустил руки… Совершилось нечто ужасное, непостижимое! Он оказался во власти изверга, грубого злодея, зверя и невежды, которого сам же когда-то — это не выдумка, я знаю наверное — сам же считал таковым!.. Аракчеев околдовал его. О, если бы он только мог видеть настоящее положение! Но он не в силах ничего видеть среди чар этого чудовища!..
Да, мы задыхаемся… У кого есть уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, ежедневно видят и слышат ужасы. Знаешь ли ты, что делается? Знаешь ли, до каких пределов дошла жестокость с крепостными? Ведь их пытают! Пытают, выбивают из этих несчастных подушные сборы кнутом и палкой! Я прошлое лето ездил к себе в деревню и сам убедился во всех этих ужасах. Два моих ближайших соседа, дворяне старого рода, принятые в обществе, порядочные люди, устроили у себя, конечно, насильственным образом, гарем, завели «jus primae noctis», — еще хуже того, так что противно об этом и рассказывать. И это ведь не исключение, и все это делается не втихомолку, не под страхом кары, а открыто, с полным сознанием своей безнаказанности, своего права!
Потом послушай, что рассказывают наши старые товарищи, которые теперь офицерами в различных частях войска… Вдумайся только, что значит двадцатилетний срок службы для солдата… и какой службы?! Ведь каждый начальник — это тот же помещик, распоряжающийся со своим подчиненным как с вещью!.. Суд наш — это позор! Справедливых решений нет. Всюду взятки, всюду кривда! Что тут поделает усилие отдельных людей! Да и где эти люди?! Аракчеевщина все придушила. Всюду шпионы! Слова сказать невозможно! Иметь у себя рукопись комедии «Горе от ума» Грибоедова — уже преступление. Можно пропасть, прочтя в дружеском, по-видимому, кружке стихотворение Пушкина «На свободу» или поэму Рылеева «Войнаровский».
— Ты сказал мне мало нового, — проговорил Борис. — Все это я знаю, все это томительно! И ты напрасно думаешь, что я за границей отдохнул и оживился. В течение этих двух лет я был занят не одними духовными вопросами. Я присматривался к жизни. Все государства Европы в печальном положении, хотя оно, быть может, и не так безотрадно, как наше. Я восстаю только против смешения разнородных вещей, мне противны всякая фальшь и лицемерие. Я хотел бы видеть в масонстве одно масонство; но вместе с этим нисколько не нападаю на то, если человек принимает к сердцу общественные недуги и ищет средства к их исцелению. Все дело только в том, какое средство…
— Средство найдено — Европа уже его употребляет в дело и достигает цели… — перебил Вельский. — Существует зло — и начинается борьба с этим злом. Там заметны попытки, серьезные попытки высвободиться из-под гнета; решительно и смело действуют карбонарии, в Испании силою добывают себе конституцию… Ну, а у нас — задыхаются и трепещут, у нас понимают ужас своего положения — и не ищут из него выхода. Мы рабы, бессильные рабы, мечтающие только о свободе!
Борис грустно качал головою.
— Да, — заговорил он, — борьба со злом… карбонарии… испанская конституция, и всюду кровь и кровь! Воля твоя, мне не верится, чтобы насилиями и тайными убийствами можно было достигнуть святой цели!.. Надо идти прямо, открыто, чтобы дойти с чистой совестью и утвердить алтарь чистыми руками. Надо поискать других средств, чем те, какие нам рекомендует Европа… но, послушай, я хотел спросить тебя… я слышал еще недавно кое-что о существовании будто бы и у нас какого-то движения, какого-то действующего общества; но я плохо этому верю.
Вельский так и насторожился.
— Ты слышал? Что ты слышал? Что?
— Да так, просто смутный слух — ничего больше…
Вельский подошел к Борису, положил ему руку на плечо и, пристально глядя ему в глаза своими блестящими, вдруг загоревшимися глазами, почти задыхаясь, проговорил:
— Борис, я тебя знаю, я в тебе уверен, как в самом себе… Слух верен, движение существует… есть общество… я — один из его членов.
Борис вздрогнул.
— Да? Правда? Какое общество?
— Оно организовано не со вчерашнего дня, оно действует, действует серьезно — и на юге России, и здесь, в Петербурге. Если ты хочешь — можешь примкнуть к нам. Ты должен примкнуть!..
Борис в волнении прошелся по комнате.
— Если ты можешь довериться мне — будь со мной откровенен, — сказал он, — если это честное, серьезное общество, если оно намерено действовать прямым, честным путем, без всяких насилий, без всяких несправедливостей, если действия, требуемые этим обществом от его членов, согласны с теми правилами жизни, которые мы, как христиане и масоны, обязаны соблюдать, я, конечно, присоединюсь…
— Да разве иначе может быть? — горячо перебил его Вельский. — Или ты считаешь меня способным быть членом общества безнравственного, преступного?!
— Нет, не считаю; но прости меня, друг мой, ты иногда в состоянии увлекаться, ты можешь быть обманут.
По лицу Вельского скользнуло выражение большого неудовольствия. Он, очевидно, был оскорблен искренними словами Бориса.
— Хорошо, — произнес он, — допустим и это; но в таком случае я не скажу тебе ни слова больше сегодня. Дня через три-четыре я попрошу тебя приехать ко мне. Будут говорить другие и ты увидишь, увлекаюсь я или нет, и обманывают ли меня. К тому же ты, я вижу, утомлен — разговор занял бы слишком много времени. Да и мне пора.
Борис пробовал было удержать его, заставить его дать хоть некоторые разъяснения относительно общества; но Вельский остался непреклонен и уехал. Долго после его отъезда сидел Борис в глубокой задумчивости.
«Неужели что-нибудь действительно серьезное, честное и достижимое?! — думал он. — Может ли быть честным общество тайное? И в чем его тайна? Если оно желает действительного блага России, если набрались тысячи истинно честных людей и патриотов — они должны подписаться все под обстоятельной, всесторонне обдуманной запиской о том, что в настоящих обстоятельствах требуется для России. Эта записка должна быть представлена государю… Он разумен и благороден… он узнает взгляды лучшей части русского общества, он будет знать, на какие силы может опереться, на кого может рассчитывать… Вот цель!..»
Прекрасные картины начинали рисоваться в горячем воображении Бориса.
XXII. У ВЕЛЬСКОГО
Князь Вельский не заставил себя ждать: через два дня, под вечер, он влетел в кабинет Бориса, совсем запыхавшись.
— Ну, слава Богу, захватил тебя! — сказал он, здороваясь. — Я так боялся, что не застану, что ты уже куда-нибудь уехал…
— Да я и то собираюсь, — ответил Борис. — Я обещал брату ехать с ними сегодня в театр.
— Пустое, мой друг, театр не уйдет, откажись, найди предлог и едем со мною. Через час у меня соберутся наши. Я уже говорил, что ты будешь, и все очень довольны… на тебя рассчитывают!
— Кто же эти все? Кто на меня рассчитывает?
— Через час увидишь, не расспрашивай.
Борис стоял, задумавшись.
— О чем ты? — с видимым неудовольствием спросил Вельский. — Ах, как мне не нравится твое лицо! Я никак не думал, что ты так отнесешься к этому делу!
— Да я еще никак не отношусь к нему… Я еще ничего не знаю! Хорошо, едем; я предупрежу своих, что не могу с ними. Но скажи мне — ведь и ты, так же как и я, склонен к этим ощущениям — неужели у тебя нет никаких дурных предчувствий?
— Никаких, ровно никаких! — бодро сказал Вельский.
— А у меня есть. Мне что-то сжимает сердце. И хотя я еще ничего не знаю, но как-то не предвижу ничего хорошего и для дела, и для тех, кто его задумал.
— Пугать не следует, — перебил Вельский, — да, впрочем, ты меня не испугаешь: я хорошо знаю, что в каждом серьезном деле есть большой риск, а в таком деле этот риск может быть огромным. Конечно, в случае неудачи, мы жертвуем всем, начиная с наших голов. Но разве иначе может быть и разве мы смеем об этом думать?!
— Прекрасно, — сказал Борис, — только мне кажется, если риск так велик, если успех крайне сомнителен, то следует ли приносить такие жертвы… Ведь очень легко ровно ничему не помочь и даром погубить себя. Или вы думаете, что ваша жизнь, ваша деятельность и без всяких рискованных предприятий, в той сфере, какая открыта и доступна для вас, — бесполезны?
Вельский грустно улыбнулся.
— Бесполезны, мой друг, совершенно! При теперешнем положении вещей мы ничего не можем, и, если оно не изменится, наша жизнь пройдет бесследно!.. Так мы все думаем…
Борис послал сказать брату, чтобы они его не ждали, что у него есть дело и, если он успеет, приедет прямо в театр, в середине представления… Он уехал с приятелем в самом мрачном настроении. Ему было неловко, тяжело, даже почти стыдно — одним словом, он испытывал, только в сильнейшей степени, то самое ощущение, которое в детстве сопровождало каждый его проступок, каждую дурную шалость. Впрочем, сам он был далек он подобного сравнения — он не разбирал своих ощущений.
В уютной холостой квартире Вельского скоро стали собираться гости. При появлении каждого из них Борису приходилось изумляться: все это были его знакомые, молодые люди, по преимуществу офицеры, принадлежавшие к хорошему обществу и более или менее известные своим умом, образованностью и талантами. Здесь были, между прочими, и братья Муравьевы, и Бестужевы, и молоденький гвардейский корнет князь Одоевский, которого Борис знал еще совсем мальчиком. Все они приветствовали Бориса очень радушно. Говорили, что давно поджидали его возвращения из-за границы и были уверены, что он кажется их единомышленником.
Все эти горячие молодые люди были очень искренни. Но, вслушиваясь в их рассуждения, Борис все же не мог подметить в них ничего серьезного. Все это были, по большей части, общие места, пламенные молодые фразы — и только. Он заметил также, что все, очевидно, кого-то поджидают. Вот раздался, наконец, звонок. Одоевский выбежал в переднюю и сейчас же возвратился с сияющим лицом, крикнув:
— Он! Он!
Вслед за ним у двери показался молодой человек, с наружностью хотя и не особенно красивой, но выразительной и привлекательной, с задумчивыми глазами и несколько утомленным видом. Выражение его лица менялось очень быстро и отражало все его ощущение. Большая нервность в каждом движении. Лета его определить было трудно. Сейчас вот ему кажется лет около тридцати, и тут же, через минуту какую-нибудь, он превращается совсем в юношу. Но всякий, кто хоть раз его видел, уже не забывал этого лица, этой фигуры. В нем было что-то особенное, своеобразное. И почему-то, глядя на него, почти у каждого являлось какое-то смутное ощущение как бы жалости к этому человеку, хотя он вовсе не казался жалким. Он гордо нес свою оригинальную голову.
Борис встрепенулся, его увидя. «Так вот кого недоставало, так вот кого ждали!» Он сразу ощутил в себе прилив симпатии, уважения и странной жалости к этому человеку и быстро пошел ему навстречу.
— Рылеев — вы! — проговорил он. — Как я рад встрече с вами!
Рылеев всмотрелся в него, улыбнулся, блеснул глазами и крепко сжал его руки.
— И я тоже; я знал, что увижу вас здесь сегодня.
Начались со всех сторон шумные приветствия. И Борис видел, что в этом молодом кружке Рылеев играет видную роль, что он всеобщий любимец, быть может, запевала. Борис невольно вздохнул и подумал:
«И он тоже ставит на карту свою жизнь!.. Но ведь он так умен, так благороден — дело, которому он отдается, не может быть дурным делом!..»
Он подошел к Рылееву, напомнил ему кое-что из старого, спросил о его жизни за это время.
— Много перемен со мною! — отвечал Рылеев. — Начать с того, что я недавно женился.
— Вот как! Я не слыхал… Поздравляю!
— С благодарностью принимаю поздравление.
Глаза его улыбнулись, все лицо расцвело, от него так и дохнуло счастливой юностью.
— Загляните ко мне, в мое гнездо… Моя женушка всегда рада хорошим людям.
— Спасибо, еще бы не заглянуть! А поэзия что поделывает?
— Ну, что поэзия, теперь мало времени о ней думать…
— Как так? Это что-то нехорошо и напрасно вы так говорите! Да вы и прав не имеете так говорить. От вашего таланта я жду очень, очень многого.
Вдруг лицо Рылеева потускнело, даже за минуту блестевшие глаза подернулись туманом.
— Что такое мой талант? Да и есть ли он у меня, я, право, не знаю! — глухо проговорил он. — Стихи, стихи! И они доставляют отраду, и они могли бы принести даже пользу, большую пользу, только, к несчастию, это уже поняли, а потому нас заставляют молчать, у нас вырывают языки, чтобы мы не пели!
Его голос вдруг зазвенел и поднялся.
— Да, это так! Но в таком случае мы должны бросить лиру, должны взяться за меч и доказать, что он в наших руках не пустая игрушка. Стыдно, позорно спать, когда начинает гибнуть все честное, все благородное… когда наступает торжество всякой неправды, всякой низости!
Присутствовавшие уже жадно слушали, со всех сторон обступая Рылеева и Бориса.
Но Борис вдруг перебил поэта.
— Прежде всего мы не должны увлекаться, — сказал он. — Мы не должны допускать в себе раздражения. Если наше положение так серьезно, что необходимо искать способ из него выйти, то нам следует вооружиться прежде всего благоразумием.
Рылеев взглянул на него даже почти со злобой.
— Благоразумие! — сказал он. — Как понимать его? Если противопоставить его безумию, то, надеюсь, оно у нас есть, мы и докажем это в серьезные минуты. Но, толкуя о благоразумии и хладнокровии, легко заморить в себе живую мысль и живую силу, легко дойти до апатии, до бездействия!.. И такого благоразумия нам не надо!.. Прежде всего мы, именно, должны питать в себе это возмущение души нашей против всего безобразного, несправедливого, против оков, налагаемых на законнейшие проявления свободного человеческого духа. Мы должны ненавидеть зло и его представителей. Мы должны поклясться друг другу страшной, великой клятвой ни на минуту не забывать этой ненависти, ни на минуту не помнить о себе и о тех опасностях, которым мы можем подвергнуться… Если мы хотим действительно блага нашей родине и человечеству, то, прежде всего, должны быть готовы принести себя в жертву. Если понадобится наша кровь, мы должны бестрепетно отдать ее… Из этой крови вырастет прекрасный цвет свободы!..
На поэта сошло вдохновение. Он весь пылал, глаза его сверкали. Все так и впились в него взглядами. Все, очевидно, находились под влиянием его энергии, все словно наэлектризовались ею.
Он передал всем свое настроение. Только Борис еще боролся внутри себя с влиянием этого страстного человека.
Когда горячий поток его речи замер и он вдруг побледнел, утомленный, взволнованный, с померкшими, мечтательно и неопределенно глядящими глазами, Борис попробовал перейти к практической стороне дела и заставить собравшихся объяснить ему их планы. Теперь каждый, с большим или меньшим одушевлением, принялся говорить, все перебивали друг друга.
Выработанного плана у них еще не было. Но Борису стало ясно, что все они увлечены, что понятия их иногда противоречат одно другому.
— Господа! — крикнул он. — Да ведь вы допускаете насилие!
— Насилие! — отозвался Бестужев. — Что такое насилие? Ведь это есть то, против чего мы должны бороться!
— Но какими средствами?
— Теми, какие будут в нашем распоряжении. Мы должны противопоставить силе силу. Если против нас выставлены ружья и пушки, то мы будем глупыми детьми, когда выйдем на борьбу с ними, вооруженные деревянными палочками! Против ружей и пушек и мы, конечно, должны действовать ружьями и пушками!..
— А если, начав с таких рассуждений, вы дойдете до преступления, самого гнусного преступления, которое не в силах оправдать никакая цель, никакие обстоятельства…
— Бог даст, нам никогда не придется доходить до этого! — заметил Вельский. — Мы бойцы, солдаты, а не преступники.
Рылеев вдруг поднялся с места.
— А прежде всего, — сказал он, гордо откинув голову, — нам нечего даже и задавать себе подобных вопросов. Что такое преступление?.. Это все понятия относительные. Мы подготовимся к борьбе, а когда она начнется — там будет видно, как нам действовать…
Но Борис был уже вне себя.
— Как! — крикнул он. — Преступление — понятие относительное?! Значит, и убийство из-за угла, в каких бы обстоятельствах оно ни было совершено, может быть не преступлением?!
— Да! — бешено отозвался Рылеев.
— Вы ли это?! Вы ли это говорите?! — с изумлением и грустно произнес Борис.
В это время все заговорили, перебивая друг друга.
— Да не слушайте вы его, Горбатов, он на себя клеплет!
— Конечно, клеплет — это его привычка.
— Ни из-за угла, ни прямо, он никого убивать не станет!
Рылеев откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и вдруг рассмеялся самым звонким, молодым смехом.
— Да, в самом деле, я, кажется чересчур погорячился… Но разве возможно не горячиться, когда столько накипело!
— Надо иметь то спокойное благоразумие, о котором я говорил! — произнес Борис. — Теперь, когда я вас выслушал, позвольте мне, господа, высказать вам и мои взгляды.
Он в общих чертах изложил свой план, единственный, как говорил он, в котором не может быть ничего предосудительного и который может достигнуть благой цели. Его выслушали с глубочайшим вниманием. Многие, в том числе Вельский, сразу встали на его сторону и находили, что во всяком случае, это мысль, о которой стоит хорошенько подумать, которую стоит хорошенько развить. Но вот начались возражения:
— А если это ни к чему не приведет? Ведь тогда мы все, сколько нас ни есть, будем подвергнуты строжайшему надзору и преследованию! Тогда у нас уже навсегда будут связаны руки!..
— Нет, этот план не будет принят, хотя, конечно, о нем следует известить не только здесь всех, но и южан…
Рылеев качал головою.
— Адрес… Петиция!.. Это хорошо на словах, а на деле выйдет чистейший вздор… Этот адрес окажется в руках того же Аракчеева, и о последствиях догадаться нетрудно…
Таким образом, как, впрочем, Борис уже понял, он не мог сговориться с этими людьми. И чем больше они ему нравились сами по себе, чем яснее становилась ему их искренность, тем делалось ему грустнее и грустнее. Они не сумели передать ему свою веру.
Затем офицеры стали рассказывать о настроении, господствовавшем в полках, между солдатами. О том, что несправедливости, истекающие из режима, введенного Аракчеевым, делаются с каждым днем нестерпимее, о том, что почва подготовлена…
Но Борис становился все рассеяннее, как-то охладевал. Решительно к нему не прививалась эта пламенная вера, которою дышали его собеседники.
Он предложил Рылееву ехать вместе.
— Я довезу вас к вашему дому и таким образом узнаю ваш адрес.
— Хорошо! — сказал тот.
Они уселись в карету, и несколько минут оба молчали. Но вдруг Рылеев заговорил, и заговорил совсем о другом — о поэзии, о Пушкине, который в это время находился в деревенской ссылке.
— Вот поэт! — горячо говорил он. — Боже, до какой высоты может дойти он и уже доходит! Ведь каждый его стих — это чистое золото! Какой полет мысли, какая сила вдохновения! Так чего уж говорить о моей поэзии, что я перед ним?.. Мне просто стыдно! Жаль, что он не в Петербурге, его нам недостает! Вот мы не успели вас ни в чем убедить, а он бы убедил.
— И вы уверены в том, что он стал бы убеждать?
— Безо всякого сомнения! Я знаю его образ мыслей.
Но вдруг он произнес задумавшись и гораздо тише:
— А впрочем, хорошо, что его здесь нет, что он вдали от всего этого… Там, среди тишины деревенской, зреет его поэтическое вдохновение. Он много создаст там высокого и прекрасного, а здесь ему бы все мешало…
— Вот это верно! И я был бы очень доволен, если бы и вас обстоятельства удалили в какую-нибудь деревню, в какое-нибудь уединение.
— Не сравнивайте! — перебил Рылеев. — Я повторяю вам: плохой я поэт! Умолкну — и никакой беды от этого не случится, никто ничего не потеряет. Я боец, я, может быть, нужен в бою и к нему готовлюсь. И я знаю, что погибну в бою… Я это предчувствую!..
Его голос вдруг оборвался. И Борис видел среди темноты, озаренной только неровным мерцанием каретных фонарей, как его глаза блеснули и померкли.
— У вас есть предчувствие… И вы ему верите?
— Да, верю!
— Но в таком случае, простите меня, я скажу вам откровенно — напрасно вы женились!
— Я сам знаю, что напрасно! Но когда я решил это, когда я женился — я не думал ни о чем… Я забыл все предчувствия. А теперь, теперь это часто возвращается, иногда просто преследует. Иногда мне невыносимо бывает глядеть на мою жену…
— Так остановитесь… Остановитесь вовремя!
Рылеев печально усмехнулся.
— А вы полагаете, что от судьбы можно уйти?
— Нет, от судьбы нельзя уйти! — прошептал Борис. — Но предчувствия иногда обманывают и не следует им поддаваться! — добавил он, но в то же время сознавал что предчувствия Рылеева действуют и на него, что он сам их испытывает.
В этом человеке было, действительно, что-то фатальное, и этим объяснялась странная жалость, ощущаемая в себе почти каждым, кто глядел на него.
— Вот мы и приехали! Спасибо вам… Смотрите же, навестите, — говорил Рылеев.
Он крикнул кучеру, чтобы тот остановился и, выходя из кареты, крепко стиснул руку Бориса.
XXIII. ИЩУЩИЕ ХРИСТА
Княгиня продолжала все быть не в духе. При встрече с князем Еспером она обдавала его такими презрительными взглядами, что он не знал, куда деваться, и всеми мерами старался избегать ее. С этой целью он даже два дня не обедал дома и только в темном будуаре генеральши сталкивался с племянницей. Но долго сердиться на Нину княгиня не могла. На следующий день она уже с ней говорила ласково, заставила ее перед обедом прокатиться вместе с нею по Невскому, вечером повезла ее на спектакль, хотя Нина пробовала было отговориться нездоровьем.
— Однако не так ведь уж ты больна, чтобы нельзя было в театр выехать! — сказала княгиня. — Напротив, я уверена, ты развлечешься, и это принесет тебе пользу. У тебя ужасное лицо! Мне просто обидно глядеть на тебя — как ты себя распускаешь… И какие это у тебя печали… фантазии… пустяки! Будь же умницей, не фантазируй, живи… в твои годы только и жить!.. И знай, Нина, я тебе это неспроста говорю, в твоих руках твое счастье, смотри — сама не испорть его!
Она притянула ее к себе и поцеловала. Нина улыбнулась, постаралась казаться веселой и ушла переодеваться для театра. А княгиня думала:
«Ах, следовало бы с ней построже, следовало бы хорошенько-хорошенько побранить ее, показать, что она еще слишком молода, чтобы забирать себе такую волю… Следовало бы заставить ее во всем признаться, во всех этих таинственностях… Да как тут быть?! Как станешь с ней строгой — с дочерью родной другое бы дело, — а она сиротка… как еще примет — не поймет, пожалуй, что от любви. Нет, нет — Боже избави! Нужно иначе… Ну, да постой, матушка!..»
Княгиня даже погрозила в ту сторону, куда ушла Нина.
«Постой, дядюшку мы все же отвадим! Найдется у меня союзник настоящий, хороший. И если ты дуришь, так мы хоть против твоей воли, да сделаем тебя счастливой!»
Несмотря на свои тревоги, княгиня все же считала невозможным не только подвергать Нину каким-нибудь стеснениям, но даже и следить за нею. А если бы она следила, то узнала бы, что на следующий день князь Еспер, не обедавший дома, вдруг появился, прошмыгнул в комнату Нины и шепнул ей:
— Будете? Ведь сегодня!
— Буду, — ответила она. — Я приеду с Аннет Ручинской.
— Только вы не опоздайте, пожалуйста, в девять часов ровно все будут в сборе!..
И князь Еспер исчез.
Княгиня по обычаю собиралась на какой-то вечер и звала Нину с собою, но та на этот раз решительно отказалась.
— Нет, ma tante, увольте! Я получила записку от Аннет Ручинской — она нездорова и просит меня провести с нею вечер.
— В таком случае поезжай, конечно, поезжай! — сказала княгиня.
Аннет Ручинская была приятельница Нины, годами двумя ее старше. Она принадлежала к почтенному семейству, и Нина знала ее еще прежде, в Москве. Против такого знакомства княгиня не могла ничего иметь и никогда не отговаривала Нину, когда она туда ездила, а ездила она довольно часто.
— Когда же ты собираешься? Сейчас, что ли?
— Да, ma tante!
— Так вот что: прикажи заложить карету и отправляйся; когда кучер вернется, тогда и я поеду. А за собой вели, уж делать нечего, саням приехать. Погода хорошая… Только, пожалуйста, не запаздывай… в особенности — в санях ведь будешь… Хотя и недалеко, а все же, знаешь, я всегда как-то неспокойна.
Все эти распоряжения были как раз на руку Нине. Она приехала к Ручинским, отпустила карету и затем через полчаса с приятельницей своей Аннет отправилась туда, где ее ждали, то есть к Катерине Филипповне Татариновой. Аннет Ручинская, не особенно красивая, но бойкая и умеющая постоять за себя девица, пользовалась дома неограниченной свободой. Старик отец жил всю эту зиму в деревне, а мать была олицетворением бесхарактерности, и дети ее, то есть Аннет вместе с братом своим, семеновским офицером, делали все, что им было угодно…
Домик Катерины Филипповны, с запертыми ставнями и воротами, казался, как и всегда, необитаемым. А между тем девушки, проскользнув в калитку мимо дворника, которого они назвали по имени и который придержал и успокоил собак, поднявших было лай, позвонили у крылечка. Старый лакей, отпирая им дверь, шепнул:
— Пожалуйте, пожалуйте! Все уже в сборе, вас только и дожидаются!
Нина и Аннет поспешно сняли шубки и затем повернули не в залу, которая была теперь освещена, а в коридор. Они прошли этот коридор и отперли дверь в маленькую комнату, нечто вроде спальни, так как здесь стояли кровать и туалет с зеркалом. Комната освещалась маленькой висячей лампой. На диване лежали два длинных белых балахона, очень похожих на саваны. Девушки торопливо, с серьезными и несколько взволнованными лицами, в глубоком молчании сняли с себя платья, надели эти саваны, а затем вышли из спальни и тут же, в коридоре, постучались у запертой двери. Им отворили, и они очутились в обширной комнате, оклеенной белыми обоями, освещенной стоявшими по углам на мраморных колоннах канделябрами. Окна этой комнаты были наглухо завешаны. По стенам, как и в гостиной Катерины Филипповны, висели превосходные картины духовного содержания.
Во всей комнате не было другой мебели, кроме стульев, стоявших у самых стен, и на этих стульях теперь разместилось около тридцати мужчин и женщин. Все были в таких же белых саванах, как Нина и Аннет. Войдя в комнату, девушки низко поклонились. Все встали и отвечали им таким же поклоном. Катерина Филипповна поманила новоприбывших к себе и усадила их рядом с собою. Нина огляделась — все знакомые лица. Она всех узнала; но постороннему трудно было бы узнать многих в этих саванах.
Здесь были, между прочими, молодые гвардейские офицеры, принадлежавшие к лучшему обществу и еще три дня тому назад танцевавшие на балу у Горбатовых. Здесь было несколько почтенных семейств — отцы, матери и дети: взрослые сыновья и дочери. И вперемежку с этим обществом, в таких же саванах и на тех же стульях, восседали лакеи и горничные как самой Татариновой, так и иных членов этого странного общества.
— Теперь мы в сборе, — сказала Катерина Филипповна, — можем начинать молитву!
Все встали. Человек высокого роста, средних лет, с очень приятным лицом начал читать «Отче наш». Читал он с большим чувством. Все набожно крестились, тихонько повторяя слова молитвы. Затем тот же человек, который был никто иной как Пилецкий, один из самых верных и старинных друзей Татариновой, развернул Евангелие и прочел тринадцатую главу Евангелия от Иоанна. Окончив чтение, он набожно сложил книгу и стал говорить самым тихим, мелодическим голосом:
«Возлюбленные братья и сестры о Христе! Сейчас вы выслушали свидетельство очевидцев великой вечери Господа нашего Иисуса Христа. Любимый ученик Божественного учителя поведал нам о том, как дух зла вселился в сердце Иуды Искариота и как тот предал своего Господа… „Да сбудется писание: едущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою“. Так сказал Спаситель, и Иуда Искариот, приняв от Него хлеб, пошел, чтобы предать Его. Иуда предал Христа. Петр троекратно от него отрекся! Каким уроком должно служить нам это прискорбное событие! Мы здесь собраны во имя Христа, мы Ему служим, Его ищем. Мы творим ту же древнюю вечерю. Вокруг нас бушует море нечестия, и корабль наш носится по волнам, готовым поглотить его. Но он крепок, этот корабль, пока мы храним нашу великую клятву и держим втайне союз наш. Да не будет же между нами не только Искариота, но и Петра…»
Он продолжал в этом же духе. Слова его с каждой минутой начинали все сильней действовать на слушателей: женщины плакали, даже некоторые мужчины утирали глаза. Только князь Еспер с довольным видом выглядывал из своего савана на Нину, стараясь разобрать выражение ее лица. Она была бледна по обыкновению, ее широко раскрытые глаза, в которых стояли слезы, были обращены к проповеднику. Никакого смущения, никакого признака нечистой совести нельзя было прочесть в этом лице. И князь Еспер успокоился.
Когда проповедь была окончена, все встали на колени, каждый перед своим стулом, и тихо и протяжно, в один голос начали петь. Во время этого пения Татаринова наклонилась к Нине и шепнула ей:
— Сестра, есть откровение… тебе сегодня пророчествовать…
Нина вздрогнула. По всему телу пробежала как будто электрическая искра, в ушах у нее зашумело, перед глазами запрыгали какие-то тени. Она вздрогнула еще раз и вдруг поднялась с колен, вышла на середину комнаты и под заунывные звуки песни стала кружиться. С каждой минутой ее движения становились быстрее. Белый саван ее развевался во все стороны. Она кружилась так быстро, что даже трудно было уловить ее очертания. Ее прекрасные длинные волосы распустились и извивались во все стороны.
Мало-помалу все присутствующие начинали приходить в какое-то исступление. Женщины уже громко рыдали; рыдали и мужчины. Песня смолкла. Со всех сторон раздавались только отрывочные слова: «Дух! Дух!.. Иисус Спаситель, приди к нам!.. Вселися в нас!..» Вдруг Нина, все продолжая неистово кружиться, произнесла какое-то слово. Татаринова кинулась к ней, крикнув:
— Начинается пророчество!
Нина приостановилась в своем неистовом верчении. Глаза ее неестественно и дико горели, грудь порывисто дышала, на губах показалась даже пена. Она, очевидно, с большим трудом ворочала сухой язык, что-то говорила, но что — разобрать было трудно. Наконец все расслышали:
— Придет и осенит!.. Ждите! Три недели!..
И она опять закружилась, завертелась на месте, пока наконец не упала без чувств на пол. Князь Еспер кинулся к ней, схватил ее и с помощью подбежавшего старика, лакея Татариновой, вынес из комнаты и уложил на постель в той самой маленькой спальне, где она сняла свое платье и надела белый саван.
— Ступай, Никита! — весь дрожа и захлебываясь, говорил князь Еспер. — Ступай, не пропусти, теперь Катерина Филипповна, верно, пророчествует!.. И я сейчас буду… прочту только над нею молитву… Ступай!
Старик поспешно скрылся.
Князь Еспер склонился над Ниной, прислушался к ее сердцу, отер платком холодный пот, покрывавший ее лоб, и вдруг так и впился поцелуем в ее полуоткрытые губы. Потом он упал на колени, схватил ее руку…
Но вдруг Нина сделала слабое движение, вздрогнула, открыла глаза, еще ничего не видя и его не узнавая. Он тихо приподнялся, на цыпочках вышел из комнаты и вернулся в молельню, где уже снова раздавалось то же заунывное пение и где вместо Нины, действительно, вертелась и пророчествовала Катерина Филипповна…
Нине казалось, что она проснулась после долгого сна, во время которого ей грезились самые причудливые, самые волшебные видения. Она не могла дать себе в них отчета, но ощущение, вызванное ими, наполняло ее еще всецело. Она чувствовала во всех членах большую, но приятную слабость. По временам ее охватывала нервная дрожь, что-то как будто подступало к груди, слегка сдавливало дыхание, заставляло замирать сердце. Но опять-таки и в этом ощущении не было ничего мучительного, а напротив — что-то даже блаженное… Нина снова склонилась на подушку и несколько минут лежала, не шевелясь, отдаваясь своим ощущениям. Ей казалось, так ясно, поразительно ясно показалось, что она не в комнате, не на постели, а в маленькой, маленькой лодке, в которой только и есть место, что для нее одной. И эта лодка тихо скользит с нею по гладкой, блестящей водяной поверхности, и тихо колышется, убаюкивая ее этим колыханием. Ей казалось, что в лицо ее веет теплая ароматическая струя воздуха, что до слуха ее доносятся какие-то далекие отзвуки неземной мелодии… Вот перед нею что-то голубое, какое-то сверкающее пространство… Но миг — и душистое дуновение, и колыхание маленькой лодки — все исчезает…
Она открыла глаза. Она сообразила действительность; но не могла вспомнить, как очутилась здесь, на кровати. Она помнила все до той самой минуты, как, после слов Татариновой, побеждаемая непреодолимым, уже давно знакомым ей влечением, стала кружиться. Что потом было с нею — она ничего не помнила. Она встала с кровати, ее ноги дрожали. Она почувствовала, что все тело ее болит. Голова немного кружилась и, держась за мебель, за стену, она вышла и отворила дверь в молельню.
Теперь и Катерина Филипповна, со всех сторон поддерживаемая, полулежала на стуле, с опрокинутою головою, и что-то шептала. Период исступления, очевидно, у всех окончился, все приходили в себя. Некоторые сидели по стульям, другие лежали на полу, третьи тихо прохаживались по большой молельне. Лица у всех были какие-то странные, с тусклыми глазами, с почти бессмысленным выражением. К Нине стали подходить. Ей передавали ее пророчество, требовали объяснений. Но она ничего не помнила и не понимала.
Катерина Филипповна теперь уже совсем очнулась. Оказалось, что и она во время кружения, в исступленном состоянии, повторяла слова Нины и предрекала какое-то великое событие, которое должно совершиться через три недели. И все вдруг стали говорить о том, что через три недели они обряшут Христа, что Он будет с ними. Только как это совершится — никто не знал.
— Нам надо неустанно молиться все это время, — сказал Пилецкий. — Нам следует очистить свою душу от всего земного, приготовиться достойно встретить Христа!
— Да, да! — вдруг подхватил князь Еспер, пристально глядя на Нину. — Нужно молиться, нужно приготовиться… Забыть все земное, отогнать от себя все земные помыслы и чувства!..
Но с Ниной происходило что-то странное. Вместо того чтобы проникнуться восхищением и священным трепетом, она почувствовала в себе внезапное, никогда еще не испытанное ею недоверие. Ей вдруг стало как-то неловко, как-то совестно и тяжело. Ей захотелось скорее отсюда… Все эти люди, вся эта обстановка, эти белые саваны — все это представлялось ей кощунством… Да, кощунством!
«Враг смущает! — подумала она. — Боже мой, да что же это такое… Враг смущает!..»
Но в то же время она не была в силах бороться с «врагом» и, подойдя к Аннет, шепнула ей:
— Если хочешь ехать со мною — едем скорее, а то я одна уеду… Я не могу больше… Я задыхаюсь…
Аннет сама была почти неузнаваема: лицо ее горело, глаза блестели, она то и дело вздрагивала всем телом. Расслышав слова Нины, она ответила ей:
— Хорошо, поедем, я тоже не могу больше!..
Они скрылись из молельни, сбросили в спальне балахоны, надели свои платья.
В коридоре их поджидал князь Еспер.
— Как, вы уезжаете? — испуганно сказал он глядя на Нину. — И не простились… Зайдите в молельню!
— Пусть сестры и братья простят нас, — прошептала Нина. — Я не могу, мне дурно… Я должна скорее на воздух!..
У нее так кружилась голова, что она должна была опереться на руку Аннет. Она окончательно пришла в себя только тогда, когда очутилась в санях, среди морозной зимней ночи.
— Знаешь что, — говорила Нина, входя с Аннет в ее комнату. — Знаешь — я не верю в пророчества!
— Что ты?!
Аннет даже испугалась и всплеснула руками.
— Как не веришь? Да ведь ты сама пророчествовала?!
— Я не знаю, не помню, что я говорила!.. Но что же делать — не верю… Не верю!.. Разве мы достойны, разве мы можем принять Христа?! Нет, нет, это ложь!.. Это заблуждение. Мы сами себя обманываем!
— Нина, очнись, подумай, что ты говоришь! Какой грех такое неверие… Нина, что с тобою? Я не узнаю тебя!..
Но Нина только повторяла:
— Не верю… Не верю!..
И вдруг истерически зарыдала. Аннет не знала, что ей и делать с нею. Более получаса продолжался этот припадок. Наконец Нина мало-помалу успокоилась и, узнав, что за нею приехали, поспешно стала собираться домой.
— Ты успокойся, милая, помолись хорошенько. Молитвой отгони от себя искушение… Ведь это искушение и с ним нужно бороться, нужно его победить… И у меня являлись сомнения, но теперь их нет… Я верю, я ни в чем не сомневаюсь. Да и скажи, разве Катерина Филипповна может обманываться и нас обманывать? Ведь она святая, безгрешная!..
XXIV. ОТКУДА ЭТО?
Иной раз, столкнувшись с каким-нибудь поражающим явлением, с каким-нибудь исключительным обстоятельством человеческой жизни, люди негодуют и пожимают плечами: «Каким образом человек мог дойти до этого?! Ведь тут явное противоречие: человек казался умным, порядочным, благородным — и вдруг поступает нелепо, поступает вразрез с общепринятой моралью! Значит, в этом человеке ошиблись, значит, он не умен, не порядочен и не благороден!..» Но подобные рассуждения часто бывают чересчур поспешными и неосновательными. Постановить быстрый и решительный приговор — очень легко. Гораздо труднее всмотреться в явление, разобрать шаг за шагом тот путь, по которому человек дошел до чего-нибудь такого, что считается общественной моралью достойным порицания.
Трудно понять жизнь и чужие обстоятельства уж потому даже, что людям это неинтересно, что они думают только о себе и глядят на все со своей точки зрения, установившейся опять-таки обстоятельствами их жизни. Сытый не поймет голодного, спокойный — неспокойного. Довольный своей жизнью и очертивший вокруг себя маленький кругозор, за черту которого будто бы не следует и неинтересно никогда выглядывать, не поймет того, кто, по требованиям данной ему от рождения организации, не может ограничиться таким кругозором и томится в нем, стремится заглядывать дальше, выше и глубже. Но в этом стремлении хоть он часто, быть может, ошибается и падает, а все же поднимается снова, а все же достигает порою такой глубины, такой высоты и такого, сопряженного с ними духовного блаженства, о которых даже и понятия не могут иметь его строгие судья.
Бедная Нина! Она и так уже была бельмом на глазу у того общества, в которое попала помимо своей воли, по известным образом сложившимся обстоятельствам. Она, безродная девушка, «qui n'était pas nee du tout» по выражению генеральши, возмущала всех своей красотой, своими успехами, «незаслуженными» — как это казалось многим из «рожденных» ее знакомых. Но если бы эти знакомые, которым она не делала никакого зла и не могла сделать уж потому даже, что способна была причинить зло только себе самой, если бы они узнали, какую жизнь она ведет, если бы они могли себе ее представить вертящейся в белом саване и пророчествующей — о, как бы они возрадовались! Значит, они правы были в своих предчувствиях; значит, ничего путного не может быть в этих выскочках — одна грязь, один разврат… Да, разврат! А если бы им сказать, что вертится и прорицает не одна она, а вертятся и прорицают вместе с нею и равные им по положению в обществе, по рождению девушки и женщины — они бы не смутились. Они бы решили: «О, тут большая разница!» Они бы, наконец, просто не стали слушать, пожали бы только плечами, оставили бы «своих» в покое и продолжали бы «признавать» их. Только бы ее одну смешали с грязью, побили камнями, торжественно изгнали бы из среды своей, несмотря ни на каких княгинь Маратовых.
Но мы не вправе так относиться к Нине, мы должны разобрать, каким образом она могла дойти до подобных странностей. Как мы знаем, жизнь Нины с самого детства сложилась совсем особенно. Она росла, окруженная только взрослыми, в деревенском уединении, с больной матерью. Она рано развилась, приучилась думать о таких вещах, которые обыкновенно недоступны детскому мышлению, стала понимать многое, чего, обыкновенно, не понимают в ее годы. Затем мать умерла на ее глазах, оставив ее одну со старой няней, которая, в сущности, была большим ребенком, чем сама Нина, и никак уже не могла руководить ею.
Потом весь ужас неприятельского нашествия, московского пожара, сцены грабежа, ужасные минуты, когда пьяный солдат схватил ее и понес… Куда? Зачем? Она не знала; но все же предчувствовала, что ее несут на смерть и не на простую, не на обыкновенную, а на какую-то особенную, ужасную, отвратительную, что ее ожидает что-то невообразимое…
И вдруг спасенье! Юноша, храбрый, добрый и прелестный, такой прелестный, что он показался ей ангелом, вырывает ее у этой отвратительной, невообразимой смерти. Какой-то сон, волшебный, лучезарный… Эта странная ночь, проведенная в тихой, озаренной луною комнате… Это новое чувство, могучее и блаженное, охватившее ее!.. Потом внезапная разлука с избавителем, с дорогим, любимым ангелом…
Как сквозь туман, новые впечатления… Выезд из Москвы… Приезд в тихую, заброшенную деревню… Только тут Нина мало-помалу очнулась от всех этих могучих впечатлений.
Конечно, если бы кто-нибудь стал наблюдать ее, то увидел бы, что она превратилась в исключительное, особенное существо, что в двенадцать лет она не имеет уже в себе ровно ничего детского, что она взрослая женщина, способная на неестественное возбуждение нервной системы и жившая в каком-то своем собственном, фантастическом мире. Если бы при ней была любящая, разумная мать, которая бы поняла все, то эта мать, конечно, приняла бы сильные меры, для того чтобы поправить содеянное жизнью зло, для того чтобы излечить бедную девочку и, если не уничтожить (что было уже невозможно), то, по крайней мере, значительно ослабить силу пережитых впечатлений. За девочкой нужно было следить ежеминутно, удалять ее от мечтаний, занимать ее воображение совсем иными предметами, заставлять ее принимать участие в живой, здоровой жизни. Но у Нины не было матери. Дядя ее, человек хороший и добрый, полюбил ее тем более, что она была всегда к нему внимательна. Она была тиха, послушна, не мешала ему ни в чем, не нарушала издавна укоренившихся привычек старого холостяка. Но разглядеть ее и понять то, что ей надо, он не был в состоянии. Он был очень образованным человеком и решился передать ей, насколько возможно, свои знания. Он начал заниматься ею и учить ее. Эти уроки доставляли ему большое удовольствие, так как Нина была очень прилежна, понятлива и иногда поражала своим способностями. Но и в занятиях даже случались иногда странные периоды. Девочка, еще накануне прекрасно знавшая уроки, всем интересовавшаяся, любознательная, вдруг становилась рассеянной, не понимала или не слышала того, что ей говорили. Она скучала, томилась за уроком, не в состоянии была выучить заданного. Делалась вдруг бледной, глаза ее обводились темными кругами и принимали какое-то необычное выражение, глядели и не видели окружающего. В ней выражалось, очевидно, сильное беспокойство. Она нигде не могла найти себе места, бродила по дому, ежеминутно вскакивала, принималась то за одно, то за другое занятие и тотчас же бросала их. Часто она начинала читать (она всегда очень любила чтение), но через несколько минут книга упадала ей на колени, она откидывала голову, глядела, не мигая, своим неопределенным взглядом куда-то в пространство. Ее губы шептали временами, по ее телу пробегала дрожь.
Если была хорошая погода, она, в таком настроении, любила убегать в сад. И ее видели там, по целым часам носящуюся всюду, иногда кружащуюся на одном месте и затем падавшую в траву в изнеможении. И долго так лежала она, глядя вверх, следя за движением облаков и отдаваясь самым странным и причудливым ощущениям. В таком положении она часто засыпала и возвращалась домой уже иной. Ее «одурение», как дядя называл эти странные припадки, проходили. Она снова превращалась в послушную, внимательную и любознательную девочку. Ее рассеянность пропадала, она жадно принималась за уроки и удивляла своими успехами. Дядя не раз решался строго внушать ей, выговаривать за лень, за это «одурение», но строгости хватало ненадолго. Она начинала глядеть на него такими жалкими, молящими глазами, что он не выдерживал.
— Да, скажи же мне, ради Бога, Нина, что это такое делается с тобою? Больна ты, что ли? Где у тебя болит? Что болит?
Нина качала головою.
— Ах, дядюшка, я не больна! Я не знаю, что со мною… Право, не знаю. Это никак нельзя рассказать, слов таких нет… Вы не поймете.
Она опускала голову, задумывалась. А он, боясь, что «одурение» снова, пожалуй, найдет на нее, переменял разговор, стараясь занять ее чем-нибудь, развеселить. Еще разве старуха няня могла бы помочь Нине; она знала все обстоятельства ее жизни, все пережитое и перечувствованное ею. Но эта няня, хоть и преданная и честная старуха, но совсем глупая, приносила ей только вред и не раз даже способствовала своими разговорами проявлению ее припадка. Старуха любила вспоминать прошлое, жалобным тоном напоминала Нине про маменьку, про нашествие французов, про доброго маленького барина, плащ которого до сих пор тщательно хранился Ниной.
— Вот, Ниночка, вот, милая ты моя, вырастешь ты скоро большая, встретишься с этим барином, а он тоже такой важный, большой, красавец будет — вот тебе и жених! Жених настоящий! Помяни мое слово — суженый он тебе! А суженого, добрые люди говорят, и конем не объедешь!..
Глаза Нины загорались от таких речей, и на нее нападало «одурение». Она отправлялась в свою комнату, доставала плащ Бориса, надевала его на себя, куталась в него, целовала его и мечтала. Иногда она доходила до того, что чувствовала присутствие Бориса, говорила с ним, даже почти его видела. И эти грезы не пропадали, и они оставались такими же яркими, неизменными, несмотря на то, что время шло, и Нина вырастала, развивалась.
Няня умерла. Дядя по зимам стал жить с Ниной в Москве. Прежнего уединения уже не было. В доме появлялись не родные (родных у них почти не было), а знакомые. У Нины явились подруги, устраивались вечеринки. Дядя старался веселить ее, заводил знакомства с хорошими молодыми людьми, которые могли к ней присвататься. Она была, несмотря на свою бледность, так хороша. Она держала себя всегда с таким достоинством, рассуждала обо всем скромно и благоразумно, была хорошо воспитана стараниями дяди и даже, что считалось одной из главных основ воспитания, выучилась хорошо говорить по-французски с помощью француженки, которую дядя пригласил к ней. Наконец, полагали, что у Нины очень порядочное приданое. И скоро стали появляться женихи. Но Нина всем отказывала.
Дядя иногда очень возмущался.
— Неужели и этот тебе не по нраву? — говорил он, когда узнавал, что она отклонила предложение какого-нибудь намеченного им человека. — Кого ты ждешь, матушка? Какого принца?! Я стар, я болен… с каждым годом чувствую, как слабость все более и более одолевает. Умру вот… на кого ты останешься?! Что будешь делать?! Сокрушаешь ты меня, Ниночка, своим привередничеством… Подумай, друг мой, жизнь ведь не шутка… То ли дело устроиться вовремя за хорошего человека…
Нина видела, что дядя огорчен, и, стараясь всячески его успокоить, старалась обезоружить его своими ласками.
— Потерпите, дядюшка, — говорила она. — Ведь вот сами сказали — жизнь не шутка! Выйдешь замуж, ошибешься, а тогда уж не вернешь, тогда-то пропала жизнь!
— Да ведь если таким манером рассуждать, друг мой, — перебивал ее дядя, — так и останешься старой девкой.
— Так что, и останусь — может, оно и лучше!..
— Эх! Да я вижу — и говорить-то с тобою не стоит, ничего не понимаешь…
— Может быть, и не понимаю, ведь я в этом не виновата.
Дядя волновался, сердился даже, но настаивать и неволить племянницу не хотел — сиротке Нине было в жизни счастье: она попадала всегда на хороших людей. Между тем Нина просто не могла и подумать о замужестве. Она продолжала ждать своего Бориса, оставалась верна своим грезам, которые нисколько не проходили. Вместе с этим она продолжала быть все такой же странной, не отдавалась веселостям, не наслаждалась жизнью. Иногда ей все надоедало, окружающие люди казались чужими, не имеющими с нею ничего общего. Она по целым дням не выходила из дома, читала или просто сидела, погруженная в мечтания. Иногда дядя замечал на ее глазах слезы.
— Господи, да о чем ты еще?! Чего тебе недостает? Сокрушаешь ты меня, право!
Он решал, что она, верно, нездорова, звал докторов. Нина подчинялась его настояниям, отвечала на все докторские вопросы. Доктора выслушивали ее легкие, сердце — и объявляли, что у нее нет ровно никакой болезни.
— Так отчего же она такая? Отчего она так бледна, задумывается, плачет, тревожится?
Доктора пожимали плечами.
— Отчего?! Ведь вот вы сами говорили, что она навидалась всяких ужасов в детстве — это даром не проходит. Иной раз с человеком на всю жизнь припадки делаются, падучая, истерика, а то и еще хуже… И против этого нет никаких средств… А так, вообще, она здорова, вам нечего тревожиться. Сложение у нее правильное, прекрасное. Вот выйдет замуж, дети будут, тогда, Бог даст, совсем поправится…
Вглядевшись в Нину, можно было сказать, что она находится в постоянном томительном ожидании. И она, действительно, ждала — но чего? Не одного Бориса, а еще и много другого. Она ждала разгадки жизни. Ей казалось, что до сих пор она не живет. Разве это жизнь — то, что ее окружает, эти ежедневные времяпрепровождения, эти люди, разговоры, удовольствия? Она не понимала, как это другие люди могут ограничиться этим и находить, что это и есть настоящая жизнь и что никакой другой жизни не надо.
Нет, это не жизнь. Она знала наверное, что есть другая. И эта другая жизнь иногда открывалась ей в ее мечтаниях, в тех странных ощущениях, которые она иногда испытывала. Ее манило к себе что-то большое, прекрасное, полное глубочайшего смысла. А в том, что ее окружало, не было никакого смысла. Она с детства любила молиться и теперь молилась еще больше, еще горячее. И среди молитвы на нее иной раз находило какое-то вдохновение, блаженный экстаз, во время которого та — другая — жизнь, которую она ждала, открывалась ей ясно.
В это время Нина познакомилась с Аннет Ручинской, и девушки сблизились очень скоро, найдя между собою много общего. Аннет была тоже нервная мечтательница, тоже все искала каких-то откровений, чего-то особенного. Она рассказывала Нине всякие чудесные истории из сфер предчувствий, видений и тому подобного. Она один раз даже стала уверять Нину, что сама, своими глазами, видела духов и что в детстве, она очень хорошо это помнила, умела летать.
— Летать?! — вдруг краснея, воскликнула Нина. — Аннет! Я никогда никому этого не говорила, но, знаешь, ведь я не только в детстве, но и теперь иногда могу летать!.. У нас в деревне в саду, я летаю!.. Право, летаю!.. Начинаю кружиться — и вдруг чувствую, как поднимаюсь с земли, несусь в воздухе, будто меня поддерживает что-то… все меняется, все уплывает… Мне кажется — я поднимаюсь на небо… Я вижу такой свет… свет!.. А в душе так сладко, так блаженно!..
— Ах, как я счастлива, что ты понимаешь это, что с тобою это бывает! — сказала Аннет. — Это великое счастье — иметь способность… возноситься!.. Ты знаешь, я прошлой зимой была в Петербурге… я познакомилась там с одной святой женщиной… У нее в доме собираются благочестивые люди и там они «возносятся»! Они вступают в общение со Христом… О, Нина! Я дала клятву никому не говорить этого, но ведь ты не выдашь, ты должна знать… ты должна сама быть с нами… присоединиться к нам…
Нина вся дрожала.
— Возможно ли это?! — прерывающимся голосом, с горящей головою говорила она. — Возможно ли?! Аннет, есть такие люди?!
— Есть, Нина, есть!!!
— Ах, если бы мне узнать их!
— Это очень легко. Это святая женщина, о которой я тебе сказала, будет скоро здесь, в Москве. Я тебя познакомлю с нею…
— Аннет, друг мой, как я тебе благодарна! Кто же эта святая женщина?..
— Катерина Филипповна Татаринова…
XXV. ПОСВЯЩЕНИЕ
Аннет сдержала свое обещание. С небольшим через месяц она приехала к Нине и сказала ей, что Катерина Филипповна в Москве и с нетерпением желает скорее с ней познакомиться.
— Ты знаешь, я ей все про тебя рассказала — и она находит, что ты «сосуд избранный», она так и выразилась. «С нею Бог», говорит, «Сам Христос наставил ее к познанию истины, указал ей путь к спасению. Никто не учил ее — она сама дошла до того пути, на котором можно вознестись выше всех миров и обрести Господа». Это она про то, Нина, что ты кружилась и ощущала поднятие с земли. Ведь и они все это делают, а ты дошла сама, без указаний — не правда ли, как это чудесно! Как ты должна быть счастлива, Нина!..
Теперь Аннет смотрела на приятельницу с особенным уважением, почти даже с благоговением. В назначенный Катериной Филипповной день и час она повезла к ней Нину. Татаринова остановилась в доме у каких-то своих родственников, которых не было в городе и которые предоставили ее в распоряжение всю свою квартиру. Она приехала из Петербурга не одна, а со своим младшим братом, Буксгевденом, красивым и еще довольно молодым офицером, наружность которого сразу располагала в его пользу. Вместе с ним был и Пилецкий, серьезный, меланхолический человек, очень начитанный, очевидно, добрый и мягкий. Он имел вид и манеры немецкого пастора, и его спокойное, благообразное лицо, быстро оживлявшееся, как только заходила речь о каком-нибудь религиозном вопросе, говорило об его искренности. Кроме этих двух людей, Нина застала у Татариновой еще несколько почтенных дам и мужчин зрелого возраста. Такое общество не могло не произвести самого приятного впечатления.
Нина вошла сконфуженная, трепещущая; но милый, ласковый прием, ей сделанный хозяйкой, окружавшими ее, очень быстро прогнал это смущение. Все очевидно, уже знали о ней, все ее ждали, интересовались ею. Татаринова имела приемы светской женщины. Она очень легко добилась того, что Нина стала смотреть на нее как на давнишнюю знакомую, как на друга.
Познакомив Нину со всеми, успокоив ее окончательно, Катерина Филипповна обратилась ко всему обществу и сказала:
— Теперь я покину вас на короткое время, я хочу поговорить с нашей юной сестрой. Я передам ей основы нашего союза и приготовлю ее к посвящению, которое может состояться сегодня же.
Она увела Нину в свою спальню и остановилась с нею перед образами.
— Помолимся, дитя мое! — сказала она ей тихим, ласкающим голосом.
Нина опустилась на колени рядом с Катериной Филипповной и стала молиться. Они обе молились горячо со слезами умиления. Когда молитва их была окончена, Катерина Филипповна достала апостольские послания, раскрыла книгу и, указывая Нине на четырнадцатую главу первого послания к Коринфянам, сказала ей:
— Дражайшая о Христе сестрица, прочти громко и со вниманием пять первых стихов.
Нина повиновалась. Она взяла книгу и медленно прочла:
— Теперь прочти это еще раз про себя! — сказала Катерина Филипповна.
Нина исполнила и это.
— Вот в этих пяти стихах, — продолжала Катерина Филипповна, — и заключается вся суть нашего учения. Люди находятся во тьме, люди забыли чудеса Господа и наставления свидетелей этих чудес — Святых Апостолов. Церковь, хотя и именует себя православной, но далеко отошла от истины, забыла ее. И хотя часто в церквах читаются эти святые слова, но на смысл их никто не обращает внимания, не держатся любви, не ревнуют духовным, не глаголят языки, не пророчествуют…
Нина, пораженная, слушала со вниманием и трепетом. У нее дух захватывало от явившегося ей откровения. Ведь и она не раз читала это послание и никогда не задумывалась над этими словами, не углублялась в смысл их — а он так ясен, так прост!.. Катерина Филипповна продолжала:
— В первые времена христианства верные сыны и дщери Христовой церкви собирались очень часто и, послушные словам Апостола, рвением духовным искали соединения со Христом. И Дух Святой нисходил на них. Они начинали говорить на неизвестных им языках. А дойдя до высшего состояния благодати — пророчествовали… глаголали человеком созидание, и утешение, и утверждение. И этой их ревностью и неустанным радением созидалась, по слову апостольскому, церковь. Но враг человеческого спасения селил уже зло великое в человеческие души… Началось забвение истины. И теперь оно царит всюду, и люди ходят во мраке… Ясно ли я говорю, дитя мое, понятны ли вам слова мои? — спросила вдруг Катерина Филипповна, кладя свою руку на плечо Нины и глядя на нее тихими, добрыми глазами.
— Ясно, ясно! — проговорила Нина.
— Я слушаю всем сердцем, всей душою… говорите!..
Катерина Филипповна продолжала:
— Но Господь милостив. Он не хочет погибели человеческой. Он ищет спасти наши души. И мне, грешной, однажды, давно, очень давно уже, на молитве явилось откровение. Какая-то великая и чудная сила вдруг потрясла меня, я поднялась, закружилась на месте — вдруг передо мною разверзлось небо! Я узрела славу Божию, я уразумела непонятное!.. И вся душа моя наполнилась неизъяснимым блаженством… Когда я вернулась на землю, то есть когда дух мой снова вернулся в мою телесную земную оболочку и все снова стала видеть телесными очами, я увидела перед собой разверзтую книгу посланий, незримая рука перебирала эти первые пять стихов четырнадцатой главы — и все поняла… Я открылась близким мне людям, нашла в них веру и уразумение, с тех пор мы собираемся, и число наших сестер и братьев растет с каждым годом… Нам приходится бороться против людского неверия, против вражеских козней. Мы свято храним тайну нашу и исполняем апостольское наставление — ревнуем духовным, пророчествуем, ищем соединения со Христом, возносимся духом в небо. Мы ищем избранных и находим их всюду; но больше среди простых, среди бедняков, землепашцев, рабов. И много на нашей родине, да и в иных землях, я полагаю, сестер и братьев единоверных нам, которых мы не знаем, которые нас не знают. Но если, по милости Божией, мы встречаемся с кем-нибудь из них, то велика наша радость… И эту радость я испытываю теперь, найдя тебя, возлюбленная о Христе сестрица! Ты избрана Христом, Он пожелал тебе открыть истину, но ты одна не могла ее достигнуть, и вот Он привел тебя к нам. Будь же нашей, соединись с нами! Скажи, моя дорогая, согласна ли ты принять посвящение и дать великую клятву хранить в тайне союз наш?
Нина плакала. Восторженное состояние охватило ее.
— Согласна! Согласна! — дрожащим голосом говорила она. — Клянусь Богом держать все в тайне! Я понимаю, что тайна необходима, потому что люди не могут понять этого… Я знаю, сама испытала! Они бы стали только смеяться!..
— Не только смеяться! — перебила ее Катерина Филипповна. — А подвергли бы нас преследованию… Так уже и было и может быть еще, если враг рода человеческого смутит кого-нибудь из нас, сделав его предателем. Поклянись же, сестра Нина, в том, что ты будешь молчать о наших собраниях перед своими родными и друзьями… Но в то же время тебе разрешается и даже поставляется в долг, косвенными путями разузнавать душевное состояние встречающихся на твоем пути людей. Если ты убедишься, что кто-либо способен воспринять истину, то поведай мне о том немедленно… Мы должны спасать людей, только необходима большая осторожность… Но об этом мы еще успеем поговорить не раз…
Она подала Нине крест и Евангелие, пред которыми та и поклялась, исполненная трепета и восторга. Затем они еще раз помолились, и Катерина Филипповна торжественно ввела Нину за руку к ожидавшему их обществу. Тогда было совершено общее моление, чтение молитв, пение духовных стихов… Все это так действовало на Нину, вся эта обстановка, ее нервы были потрясены до такой степени, что она лишилась чувств. Она очнулась лежащей на кровати Катерины Филипповны; но не могла открыть глаз, — ей казалось, будто какая-то тяжесть лежала на них. Потом она услышала голос, говоривший ей:
«Не думай о земных благах, не бери земного мужа… будь невестой Христа!.. Твори благостыню!»
Наконец Нина, собравшись с силами, открыла глаза. В комнате было темно, она была одна. Но этот голос будто все еще продолжал звучать над нею. И эти слова неизгладимо врезались в ее память. Скоро к ней пришла Катерина Филипповна, и, когда она передала ей то, что говорил голос, Катерина Филипповна торжественно объявила:
— Это откровение! Никогда не забывай этих слов и исполняй то, что свыше тебе заповедано!..
Нина вернулась со своею руководительницею опять в ту комнату, где все были собраны. Она увидела несколько кружащихся фигур и вдруг, будто помимо своей воли, стала сама кружиться. Через несколько мгновений она испытала уже знакомое ей ощущение — поднятие на воздух, экстаз, видения, блаженное состояние…
Когда она снова пришла в себя, ей передали, что она говорила на каком-то непонятном языке. Но она ничего не помнила… С этого дня она очень часто, вместе с Аннет, стала посещать Татаринову. Дядя и некоторые знакомые замечали в ней перемену. Но эта перемена, казалось, не была к худшему — напротив. Нина оживилась, и хотя по-прежнему иногда целые дни сидела, запершись, за чтением, теперь уже исключительно книг духовного содержания, но все же иной раз не прочь была принять участие в общем веселье. Катерина Филипповна запретила ей совсем удаляться от света и даже советовала ей сходиться с людьми, так как, кто знает, быть может, ей удастся кого-нибудь и обратить на путь истины… Но Нина еще никого не обращала. Она была очень осторожна. Она боялась как-нибудь выдать свою тайну…
Катерина Филипповна уехала в Петербург. Уехала и Аннет со своими родными. Но дело было уже сделано, загадка жизни решена. Нина была поставлена на ноги, и к тому же Катерина Филипповна и Аннет нередко поддерживали ее своими письмами. Нина рвалась в Петербург, к Татариновой. И вдруг обстоятельства так сложились, что это желание исполнилось. Дядя умер. Она была очень огорчена, очень страдала, потому что от всего сердца любила старика. Но она нашла успокоение в различных рассуждениях, в молитве. Она уже приучилась смотреть на смерть как на избавление. Она знала, что дядя был человек добрый, что он хорошо приготовился к смерти. Явилось предложение княгини Маратовой, и легко понять, с каким восторгом Нина приняла ее приглашение. Сам Бог ей посылал добрую княгиню, высший промысел помогал ее спасению и направлял ее туда, где именно она и могла получить его.
Конечно, первым ее делом по приезде в Петербург было посетить, вместе с Аннет, Катерину Филипповну. Здесь круг сектантов, собиравшихся у Татариновой, был значительнее. Иной раз для молитв и кружений соединялось человек до пятидесяти. Собрания происходили от двух до четырех раз в месяц. При этом Катерина Филипповна имела обыкновение рассылать братьям и сестрам свои послания, рассказывая в них о бывших ее видениях, откровениях и тому подобном. Нина очень изумилась и обрадовалась, когда в одном из первых собраний у Татаринова увидела князя Еспера. Его же изумлению не было предела. Если бы только не глубоко сосредоточенное настроение присутствовавших, то вряд ли бы кто мог удержаться от смеха при виде тех удивительных жестов, гримас, которые корчил князь.
— Вы… вы наша сестра?! — говорил он, схватывая руку Нины. — О, как я счастлив! А я не мог и подозревать, и как странно, я ни от кого из наших ни разу о вас не слыхал… О, это недаром, недаром, что мы соединены в одном слове. Это высшая благодать, нам посланная.
Нина была с ним согласна, а он долго не мог ни о чем другом думать. Он готов был действительно поверить в благодать. С самого приезда Нина произвела на него необыкновенно сильное впечатление. Он даже охладел к воспитанницам генеральши, перестал с ними шутить, даже стал небрежно относиться к своим занятиям с ними. Красота Нины его ошеломила — он в нее влюбился. Но любовь князя теперь была какая-то особенная, противная. Он давно уже успел истратить весь запас здоровой страсти. Он глядел на женщину и на отношение к ней не прежними глазами. Он ждал от женщины, которая пленила его, совсем не того, чего ждал прежде. Очаровавшись Ниной, он стал в тупик: как сблизиться с нею, как внушить к себе доверие? То, что легко было относительно наивных, простеньких и послушных воспитанниц генеральши, то было немыслимо относительно Нины… И вдруг все сложилось таким неожиданным для его образом!..
Он уже несколько лет как оказался приверженцем секты Татариновой. Конечно, если бы Катерина Филипповна, Пилецкий и другие могли проникнуть в его сердце и понять, как он относится ко всем этим обрядам и чего он в них ищет, они, быть может, прогнали его с проклятием. Но, впрочем, могли ли бы прогнать? Он владел их тайной, мог оказаться доносчиком и наделать им большой вред. Пилецкий и так подозревал некоторых братьев — но делать было нечего…
Теперь один вопрос тревожил Нину — ее отношения к княгине, которая ее так полюбила и которую она сама полюбила всем сердцем. Притворяться перед нею, вывертываться, скрываться — это было тяжело. Она подумала, нельзя ли княгиню обратить на путь истины. Говорила об этом с князем Еспером, но тот испугался, стал уговаривать ее даже не касаться никогда больше этого предмета.
— О, она добрая, хорошая женщина! — говорил он. — Но она неспособна вместить откровение, как она ни добра, а может превратиться в отъявленного нашего врага. Она смеется над всем этим. Неужели вы думаете, что я не пытался обратить ее? Но я действовал осторожно и убедился, что никакими силами ничего нельзя с нею сделать, и я умоляю вас, будьте осторожны, не проговоритесь как-нибудь. Боже избави! Вы нарушите этим вашу клятву. А попробуйте как-нибудь потолковать с нею о подобных вещах — вы сами увидите.
И Нина, действительно, вскоре убедилась, что он прав. Княгиня терпеть не могла всякой мечтательности, не верила никаким предчувствиям, видениям, презирала мистическое направление, еще со времен знаменитой Крюднер замечавшееся в высшем петербургском обществе.
— Это все глупости, все вздор, — говорила она. — Крюднер была интриганка и ничего больше. Масоны — люди вредные, это теперь доказано. Под хорошими, глубокомысленными словами скрывается часто многое дурное.
Когда Нина пробовала говорить ей о своем детстве, о голосах, иногда вокруг нее раздававшихся, о том, что она поднималась на воздух, когда кружилась, княгиня принималась смеяться.
— Ах, матушка, да полно же вздор болтать! — говорила она. — Что тебе за охота, ведь это ты, пожалуй, и теперь скажешь, что полетишь, когда закружишься?!
Нина так вся и насторожилась.
— Да, ma tante, я уверена, что полечу.
— Прекрасно! Этак, по-твоему, и я могу полететь?
— Можете!
— Хороша была бы картина! Представь себе этакого слона в воздухе!
Действительно, представить себе шарообразную, массивную фигуру княгини кружащеюся и поднимающеюся с земли было очень комично, и Нина, несмотря на свое настроение, невольно улыбнулась.
— Да о чем мы говорим, матушка? — вдруг возмутилась княгиня. — Ты, право, точно сумасшедшая… тебя лечить надо. Пойди лучше переоденься, сделаем несколько визитов. Меня о тебе уже спрашивали. Нечего все сидеть дома да читать книжки. Ты должна бывать везде, ты обязана мало-помалу устроить себе хорошее положение в обществе.
В конце концов Нина должна была убедиться, что спасти душу княгини и направить ее на истинный путь ей никак не может удаться. Следовательно, храня священную тайну, исполняя данную клятву, она неизбежно должна была скрывать от княгини главное содержание своей жизни, свои посещения Татариновой, сущность своих бесед с князем Еспером и причину их сближения. Невольно, неизбежно она, существо правдивое и искреннее, вносила в свою жизнь ложь, обман. Ненавидя кривые пути, она должна была идти именно этими путями — хитрить, вывертываться, подвергаться страху, что вот-вот ее хитрость и ложь всплывут наружу и она потеряет доверие княгини, потеряет, быть может, ее любовь. А ведь она дорожила этой доброй женщиной. Она дорожила ею более, чем кем-либо, хорошо понимая и зная, чем она ей обязана.
Все это ее мучило, томило, являлось какое-то противоречие. Она и стремилась к Татариновой, и в то же время что-то уже начинало ее оттуда отталкивать. Нередко она не появлялась в собрании, а иногда решалась поехать и обмануть княгиню только благодаря очень долгим и красноречивым настояниям князя Еспера. Князя Еспера она еще не подозревала ни в чем дурном, несмотря на отношение к нему княгини, несмотря на ее слова, ее предупреждения. Погруженная в свой фантастический мир, занятая своими мечтаниями, она не была наблюдательна и не подмечала в нем того, что подмечали иной раз даже воспитанницы генеральши, которые были и моложе ее, и менее опытны. Она считала до сих пор князя Еспера именно за очень искреннего человека, раскаявшегося грешника, который теперь каждой минутой своей жизни искупает свои заблуждения молитвой, внутренним очищением и делами благостыни. Она вручала ему все свои маленькие средства для раздачи бедным.
Но в самое последнее время, несмотря на то, что она горячо защищала его перед княгиней, в ней, еще бессознательно, но уже стало пробуждаться какое-то новое к нему чувство. Иногда ей было неприятно его присутствие — он как будто мешал ей, чем-то смущал ее, а чем — она не знала и старалась об этом не думать.
XXVI. ВРАГ СМУЩАЕТ
Нина никогда еще не чувствовала себя такой нервной, как в это последнее время. Тоска жизни, неудовлетворенность, которые ее так долго преследовали, но затихли в ней со времени ее знакомства с Татариновой и поступления в секту, теперь начали снова пробуждаться в душе ее. Она долго была горячо и искренно уверена, что завеса, скрывавшая перед нею «истинную» жизнь, по которой она томилась с детства, теперь разверзлась, свет истины осенил ее. Она твердо решилась следовать наставлению, преподанному ей неведомым голосом во время ее посвящения в секту. Это решение укрепили в ней своими мистическими беседами с одной стороны Татаринова и Пилецкий, а с другой стороны князь Еспер, которому пуще всего необходимо было, чтобы Нина всецело ушла в мистицизм, чтобы она жила исключительно фантастической жизнью, не допускала себя до увлечения земными мыслями и чувствами. Он неустанно следовал за нею, со страхом следил за ее выездами в свет, допытывался об ее впечатлениях в этом свете. Пока все шло хорошо. Нина уверяла его, что она чувствует себя в свете чужой, что никто ее не прельщает…
— Весь этот блеск, о котором так заботятся светские люди, — говорила она, — ведь это мишура — и больше ничего… Неужели же человек, узнавший свое истинное назначение, может им плениться!..
И она говорила такие выспренные фразы, так горячо и искренно, что князь Еспер в удовольствии потирал руки, и гримасы его, хотя плохо, но все же выражали душевное умиление. Однако одна неотвязная мысль не давала ему покою.
— А если появится какой-нибудь человек, ходящий во мраке, — пытливо спрашивал он, — если он заговорит вам о земной любви — что тогда?!
Нина тихо усмехалась.
— Я уже слышала не раз эти речи, и они не соблазняли меня даже тогда, когда я была далеко от познания истины, когда я еще не знала Катерину Филипповну и не была посвящена в тайну. А теперь, когда мне все стало ясно, неужели кто-нибудь может смутить меня?!
Князь Еспер подпрыгивал на кресле и впивался в Нину таким взглядом, который, наверное, смутил бы ее, если бы она его заметила. Но она была очень рассеянна и за взглядами своего мистического друга не следила. Вдруг однажды во время подобного разговора она задумалась и вздохнула. Князь Еспер насторожился.
— О чем вы вздыхаете? — испуганно спросил он.
— Я разве вздыхаю?! Я только подумала о том, что искушение все же может быть — большое, сильное искушение!.. Есть один человек, и если бы он явился, если бы заговорил со мною о земной любви… не знаю… не знаю, что бы я тогда стала делать…
Князь Еспер даже побледнел и начал уже совсем особенно гримасничать, что обыкновенно с ним случалось в минуты сильного волнения.
— Нина, — заикаясь, проговорил он, — возлюбленная сестра, вы меня смущаете! Что это такое вы говорите? И о ком говорите? Поведайте мне, кто этот человек, признайтесь мне как другу и брату… Ведь я брат ваш о Христе!.. Ведь мы идем одним путем, мы должны поддерживать друг друга… Я всю душу открыл перед вами…
Его голос принял сладкие, ласкающие ноты. Он схватил руку Нины и прижал ее к груди своей.
— Ведь я старик, — говорил он, — я мог бы вашим отцом быть… будьте же откровенны со мною!..
Он в первый раз признался перед нею в своей старости. До сих пор он, напротив, употреблял все меры для того, чтобы казаться ей очень не старым, бодрым и проворным. Со времени ее появления в доме он еще больше стал молодиться и франтить. Он несколько раз в день поднимался к себе в мезонин, чтобы опрыскивать духами усы и батистовые платочки, которыми имел обычай беспрестанно обмахиваться.
— Ведь я старик, — повторял он. — И я не побоялся признаться вам во всех прежних грехах моих. Не скрывайте же ничего и вы от меня, я, может быть, и помогу, а помочь вам способствовать вашему успокоению, достижению вами всяких духовных целей — это было бы моим счастьем!.. Нина, дорогая сестра и дочь!..
Он крепко, в несколько приемов и боязливо оглядываясь, стал целовать ее руку.
— Кто этот человек, которого вы страшитесь, который может быть опасен для вашего спасения?
— Мне нечего скрываться от вас, — вдруг доверчиво сказала Нина, — и я очень-очень благодарна вам за ваше ко мне отношение. Я скажу вам, кто этот человек…
И она рассказала ему свою детскую встречу с Борисом, свои до сих пор непозабытые и иногда возвращавшиеся мечтания. Он жадно, внимательно слушал; глаза его блестели и так и прыгали во все стороны, все лицо опять кривилось. Он представлял себя на месте этого неизвестного юноши, завидовал ему… Нина кончила свой рассказ и печально улыбнулась.
— Вот и все! — проговорила она. — Но ведь вы видите теперь, что мне опасаться нечего. Я даже не знаю его, кто он, не знаю даже его фамилию… Быть может, его давно уже нет на свете, и я свижусь с ним не здесь, а в ином мире…
— А между тем, — перебил князь Еспер, — ведь вы все же ждете с ним встречи… Все же вы почти уверены, что с ним встретитесь…
Нина покачала головою.
— Да, прежде ждала… прежде была уверена… а теперь… теперь я уже не жду этой встречи… ее не будет!..
— Почем знать! — задумчиво сказал князь Еспер.
Рассказ Нины его сильно встревожил. Несмотря на то что он вовсе не был таким мистиком, каким хотел казаться, все же он верил во многое, над чем смеялась его племянница — княгиня. А уж Нину он положительно считал существом особенным; ему казалось, что к ней нельзя применять общую мерку, с ней все может быть, чего никогда не бывает с другими… Он начал подробно ее расспрашивать о Борисе, об его наружности, о том, не говорил ли он, где живет в Москве, есть ли у него отец, мать, братья, сестры… Нина ничего этого не знала. Она не могла даже сказать, сколько ему было тогда лет.
— Послушайте, — говорила она, — да чего же мне, наконец, бояться, если бы даже он был жив и нам бы случилось встретиться? Ведь он бы и не узнал меня! Если жив, очень может быть, уже он женат, любит какую-нибудь женщину, а обо мне, наверное, давно и позабыл. Ведь я тогда была маленькая, несчастная девочка — и только…
— Ах, не думайте вы о нем, не думайте, Нина! — испуганно шептал князь Еспер. — Помните — вы должны быть свободны от всех земных уз… Вы невеста Христа! Не думайте же об этом Борисе, не унижайте себя…
— Я стараюсь не думать!
— И послушайте, дайте мне слово, дайте мне честное слово, если бы случилось вам с ним встретиться, дайте мне слово сейчас же сказать мне об этом…
— С удовольствием! Но не будет этой встречи… Теперь ее не нужно, я даже не хочу ее…
Но по выражению ее лица князь Еспер ясно видел, что она сама себя хочет обмануть, что она все еще мечтает об этой встрече. Нина была искренна. Она, действительно, гнала от себя прежние мысли. Она решила теперь, что не должна думать о человеке, что эти думы, мечты — греховны… Она мало-помалу начинала уходить в живую деятельность. С помощью князя Еспера она разыскивала бедные семьи, нередко сама навещала больных и несчастных, помогала им чем могла. Княгиня, конечно, ничего не имела против этого и даже прибавляла к незначительным средствам Нины немало и своих денег. А между тем тоска и недовольство возвращались и доводили ее подчас до полного отчаяния.
«Что же я за несчастная такая, — думала она, — что я за отверженная, если и теперь мне тяжело?! Катерина Филипповна говорит, что с тех пор как познала истину, находится в состоянии блаженства, что уже ничто не смущает ее душу, не томит, как бывало прежде… Она забыла, что такое тоска, скука, недовольство. А я томлюсь, тоскую, скучаю! Значит, я недостойна благодати, не в силах принять ее, проникнуться ею!..»
«А вдруг!.. — Она даже вздрагивала и замирала от этой мысли. — А вдруг, это не откровение, не истина? Вдруг все мы заблуждаемся?!»
Она начинала плакать и молиться, отгоняя от себя дьявольское наваждение. Но борьба с ним становилась с каждым днем все труднее, «враг» все чаще и чаще смущал ее и нашептывал ей дурные речи. Иногда она даже и на собраниях, во время всеобщего экстаза, «кружения» и «пророчествования» вдруг слышала внутри себя эти вражеские речи. Тогда она мгновенно остывала, не хотела кружиться, не верила в пророчества. Братья и сестры в белых саванах казались ей не то смешными, не то отвратительными — и она кончала истерическим припадком. Недавно она призналась Катерине Филипповне во всем этом «ужасе», как она называла свое душевное состояние. Татаринова смутилась, долго ее увещевала, положила на нее эпитимью, заставила ее усиленно молиться. У Катерины Филипповны было одно объяснение: «Да, это смущает враг рода человеческого!..»
Она рассказывала о том, что и сама подвергалась испытаниям в прежнее время, но поборола их. Следовательно, и Нина должна побороть их. И Нина боролась всеми своими силами, но в этой борьбе она, очевидно, слабела, а враг, напротив, делался сильнее. Снова возвращались прежние грезы о земном счастье, о встрече с Борисом. Опять она чувствовала его возле себя, беседовала с ним. Случалось, она проснется среди глубокой ночи, вся в огне, с затуманенной головою, с больно бьющимся сердцем. Кругом тишина, мрак. Но вдруг чудится ей среди этого мрака, этой тишины, какой-то таинственный шорох… Это он! Она простирает к нему руки… Вот будто лунный свет, и в этом свете она различает его милое лицо, склонившееся над нею, она чувствует его руки, крепко охватившие ее в страстном объятии… «Милый, милый!» — шепчет она, сливаясь с ним в поцелуе, и кажется, что вся душа ее расплывается, тает в этом поцелуе… Блаженство и мука охватывают ее… и вдруг все исчезает… Она одна, в слезах, в лихорадке…
Иногда она доходила до того, что начинала презирать себя. Теперь она уже ни в чем не признавалась Катерине Филипповне, не признавалась и князю Есперу… И вдруг, сама не зная как и почему, она решила, что настало время ее встречи с Борисом и что непременно теперь, скоро-скоро совершится эта встреча… В день бала у Горбатовых ее нервы были напряжены в высшей степени. Княгиня просто изумлялась, на нее глядя, так она была оживлена, порывиста с самого утра. Когда она очутилась в бальной зале, когда она сделалась предметом зависти и негодования многих за то, что великий князь пригласил ее на танец, она уже была совсем в том особенном состоянии, которое в прежние годы ее покойный дядя называл «одурением»…
Она еще не заметила Бориса в толпе, не узнала его, но в то же время была готова к чему-то особенному, к чему-то неизбежному. И если бы в этот вечер ничего не случилось с нею, она просто сошла бы с ума, так как разбился бы целый мир, в котором с детства она жила и в который верила. Но она знала, что непременно что-то случится — и случилось действительно: она встретилась с Борисом. На следующее же утро она сдержала слово, данное ею князю Есперу, — объявила ему о своей встрече и поразила его, перепугала чрезвычайно. Она задала ему задачу, которая теперь его поглощала, а сама переживала борьбу, в которой все было против нее. Она поняла сразу, что любит Бориса, и при этом увидела, что мечты и ожидания всей жизни ее не обманули. Да, это была судьба, он должен был явиться и явился… и он знает это! Он говорил с ней именно так, как должен был говорить!..
Он пришел за нею, она его собственность, он требует свою собственность и имеет на это право… Но что же это? Как ей быть?! А этот голос, действительно звучавший над нею, звавший ее к спасению и требовавший для этого спасения, чтобы она оттолкнула Бориса?! А ее собственная решимость?! У нее путались мысли…
Вернувшись с последнего собрания у Татариновой, она не спала всю ночь, молилась; но молитва не успокаивала. Она плакала, рыдала и при этом слышала вражеский голос, который ясно и соблазнительно шептал ей: «Брось их всех, уйди от них! Они далеки от истины, они только себя и других обманывают!»
А этот экстаз, это высокое блаженство, охватывающее ее всю во время «кружений», это сверкающее небесное пространство, открывающееся ей, эти тончайшие ощущения, поднимающие ее душу, — разве это обман, разве это не откровение?! Но кто же сказал, что и Борис вместе с нею не может быть причастным этому блаженству? Зачем она должна отогнать его от себя, когда она его любит, когда он достоин этой любви?.. А она знала, что он достоин, знала, потому что любила его. Но ведь они все, начиная с Катерины Филипповны, уверяли ее, что земная любовь ее погубит, что она не должна принадлежать человеку, иначе потеряет блаженство…
Так что же — если так, значит, все равно она уже погибла, потому что она чувствовала с каждой минутой все яснее и яснее, что уже и теперь принадлежит ему. Если есть в ней любовь к нему, если была в ней эта любовь в течение всей жизни — куда же она денется, куда уйдет, как она вырвет ее из себя? Это невозможно!
«Да и разве мы не можем любить друг друга, как любят ангелы, любить душою, а не телом?..» — вдруг мелькнула ей новая мысль — и она за нее ухватилась как за последнюю нить спасения. Конечно, можем! Зачем же они хотят, чтобы я не видалась с ним, чтобы я гнала его, чтобы я с ним рассталась? Они не имеют на это права, никакого права!.. Она пока успокоилась на этой мысли. Теперь она знала, что сказать Борису и им…
А между тем на следующее утро ее встретила самая неожиданная неприятность. Княгиня, вернувшаяся очень поздно с вечера и не видевшая Нину, спросила утром у горничной, в котором часу вернулась барышня? Горничная ответила, что уже после полуночи. Кучер говорил ей, что долго дожидался барышню у Ручинских, так как она с тамошней барышней куда-то ездила на извозчике. Потом, вернувшись, Нина Александровна больше часу времени еще пробыла у Ручинских и затем приехала домой. Княгиня не подала горничной никакого вида, что заинтересовалась этим известием. Она только оделась торопливее обыкновенного, прошла к Нине, поцеловала ее и, вглядываясь в ее бледное и утомленное лицо, спросила:
— Аннет Ручинская больна серьезно?
— Нет, ma tante, пустое нездоровье!
— Куда же это вы с нею ездили на извозчике поздно вечером?
Нина даже слабо вскрикнула от неожиданности. Княгиня печально покачала головою.
— Вот видишь, Нина, — сказала она, — вот до чего ты доходишь! Что же, наконец, ты от меня скрываешь? Что ты делаешь? С какими людьми ты сошлась? Я не хочу подозревать ничего дурного, но я прошу тебя, убедительно прошу — скажи мне, куда это ты вчера ездила с твоей приятельницей. Я не следила за тобой, я случайно узнала это… Кучер приехал за тобой раньше, чем ты назначила, и видел, как ты возвращалась… Я уверена, что тут нет ничего предосудительного, хотя очень дурно, что две девушки разъезжают ночью на извозчике. Хочешь, я помогу тебе — вы поехали навестить какое-нибудь бедное семейство? Вы сделали доброе дело? Скажи мне, что я отгадала, и я, конечно, тебе поверю…
Она еще пристальнее, еще внимательнее глядела на Нину. А Нина нервно перебирала дрожащими пальцами оборку своего платья. Ее бледные щеки вдруг вспыхнули ярким румянцем. Она с усилием подняла на княгиню свои глаза и прерывающимся голосом прошептала:
— Нет, ma tante, вы ошиблись!
— Куда же вы ездили?
Нина схватилась руками за голову. Она решительно была не в силах солгать и не имела права сказать истину.
— Ma tante, не спрашивайте меня! — шептала она. — Я не могу, не должна… Верьте мне только, что я не делаю ничего дурного, что эта поездка не предосудительна!..
— Так ты мне решительно не скажешь, не ответишь на мой простой и самый естественный вопрос?..
Нина заплакала и схватила руку княгини.
— Ma tante… Господи! Что же мне делать? Я не могу, право, не могу!..
Она была в отчаянии. Княгиня рассердилась и оскорбилась не на шутку.
— В таком случае, матушка, я должна сказать тебе, что я в тебе очень, очень ошиблась… Ты даже не понимаешь того, что, уже не говоря о другом, ты прежде всего меня оскорбляешь. И слышишь, я теперь… я сама уже не хочу знать твоих тайных дел, твоих секретов! Но знай, что я считаю своим долгом положить этому предел!.. Есть вещи, которых я не должна допускать и не допущу. Я считала тебя благоразумной, а ты ребенок, и, значит, я должна следить за тобой… Я не хочу, чтобы ты себя позорила и чтобы меня обвиняли в том, что я за тобой недосмотрела!..
Она все еще ждала, все еще надеялась, что Нина не выдержит и, наконец, скажет ей, куда ездила. Но Нина молчала и тихонько плакала. Княгиня побагровела.
— Конечно, ты можешь быть мною недовольна, — сказала она. — Ну, что же, обвиняй меня в притеснении, в тиранстве… Уйди от меня… от тебя и это станется! Я жду всего… всего… и уж теперь не стану ничему удивляться…
И она вышла, не взглянув на Нину. Та хотела было вернуть ее, сказать ей что-то, но остановилась и безнадежно зарыдала. Она чувствовала себя виноватой. Она понимала, что запуталась, очутилась в безвыходном положении, которое инстинктивно унижало ее в собственных глазах и из которого она не видела никакого выхода.
XXVII. ДОМАШНИЙ СЫЩИК
Княгиня прошла в свою гостиную и долго измеряла ее взад и вперед тяжеловесными шагами, так что половицы так и трещали под ковром, устилавшим комнату. Даже вдруг ветер стал ходить, и от этого ветра разметались листки почтовой бумаги, лежавшей на столике, и разлетелись во все стороны по ковру. Но княгиня этого не замечала в своем волнении.
«Так вот уже до чего дошло! — думала она. — Тут не одни шушуканья с дядюшкой, тут начались всякие таинственности. Сумасшедшая… Да ведь она себя погубит! Ведь она ничего не понимает — долго ли ей испортить себе репутацию, ведь рады будут — из мухи слона сделают… И секретничает, обманывает… передо мною… передо мною скрывается… неблагодарная!..»
«Ах, Боже мой! Да стоит ли и думать о ней, коли так! Коли она такая… Ну, и Бог с ней, пусть пропадает. Мне-то какое дело!.. Не дочь ведь, в самом деле… добра ей хотела — и вот благодарность!.. Ну и пусть там и остается, куда по ночам на извозчиках таскается… дрянная девчонка! Знать ее не хочу!.. Не надо… не надо мне ее совсем!.. Слова ей не скажу… Теперь видеть не могу… противная!..»
Но княгиня тут же и почувствовала, что обманывает себя, что не в силах она так оставить Нину, что она ее полюбила, может быть, так, как еще никого не любила в жизни. У нее даже слезы навернулись на глаза, и она, чего с ней давно-давно не бывало, вдруг почувствовала себя глубоко обиженной, почти несчастной. В это время из-за двери выглянула чья-то русая головка с косичкой. Это была девочка, прислуживавшая в комнатах генеральши.
— Ваше сиятельство! — пропищала она.
Княгиня грозно взглянула на нее и вдруг бессознательно крикнула:
— Брысь!..
И притопнула ногой.
Девочка изумленно раскрыла глаза и мгновенно скрылась. Княгиня, сейчас же и позабыв об ее появлении, продолжала шагать по комнате, потрясая половицы и производя вокруг себя целый вихрь.
«Нет, тут опять он! — уже начиная задыхаться, думала она. — Все он же — дядюшка! Недаром шушукаются!.. Тут есть связь, между этими шушуканьями и этими ночными поездками… наверное! Делать нечего, надо проследить, надо узнать… Не давать же ей, в самом деле, топиться!.. Да и я хороша!..»
Она вдруг остановилась и стукнула себя по лбу кулаком.
«Бить меня мало! О чем я думала все время, из-за чего я ей волю такую дала?! Ведь давно замечаю, что неладно, ну давно бы и следить… Времени вот нет у вас, матушка княгиня, (она сделала себе даже книксен перед зеркалом) — с балами, со спектаклями и с визитами нет времени!.. А девочка погибнет — что тогда?!»
Дверь опять приотворилась, и опять в нее высунулась голова. Но это была уже не маленькая русая девочка с косичкой, а сморщенное существо с бегающими глазками, с ротиком, сложенным сердечком, — одним словом, Пелагея Петровна.
— Чего вам? — очень нелюбезно обратилась к ней княгиня.
Пелагея Петровна вошла, поджимаясь, помаргивая и совсем всасывая свои бледные, тонкие губы.
— Маменька-с вас очень спрашивают-с! Матрешку посылать изволили, да та прибежала: говорит, вы ее прогнали, сердиться изволили…
— Какая Матрешка, что такое?!
Княгиня взглянула на часы.
— Да ведь еще всего первый час в начале — разве что случилось?
— Ничего не случилось, ваше сиятельство…
— Маменька здорова?
— Слава Богу-с, здоровы, как всегда… А только очень вас спрашивают! — вбирая в себя воздух, тянула Пелагея Петровна.
— Иду сейчас!
И она отправилась к матери.
— Ах, ma chère, — говорила генеральша, протягивая ей для поцелуя руку. — Что это ты, право, — зову, зову, не дозовусь! Кажется, я тебя, мой ангел, не часто тревожу…
— Извините, maman…
Она хотела объяснить, что если бы Матрешка толком сказала, в чем дело, то она бы давно пришла. Но, несмотря на свое волнение, она сообразила, что может подвести девчонку под наказание, а потому только еще раз повторила:
— Извините, maman!
И опять поцеловала руку у генеральши.
— Что вам угодно?
— А вот что, мой ангел… Видишь, моя родная, пока никого нет, я хотела поговорить с тобою…
— Я слушаю, maman!
— Скажи мне… Ты довольна своей Ниной?
— Ниной?!
Если бы в комнате было хоть немного посветлее, генеральша могла бы заметить, как изменилось лицо княгини, но вследствие окружавшей их полутьмы она ничего не заметила.
— Да… Ни-ной! — протянула она.
— Какой странный вопрос, maman! Нина не ребенок, и я не со вчерашнего дня знаю ее… Конечно, я довольна ею. Чем же я могу быть недовольна?
— А то, что ведет себя нехорошо дочка твоя названая…
— Как нехорошо?.. Что вы знаете? Кто вам сказал?
— Да вот ты-то, видно, ничего не знаешь, а я хотя и сижу здесь, в четырех стенах, а знаю больше твоего. Скажи на милость, ma chère, куда это она по ночам разъезжает?
«Боже мой, — с тоскою подумала княгиня, — уже донесли, уже протрубили!.. Какая неосторожность, что она с собою делает!..»
— По ночам, maman, я думаю, она никуда не ездит. По ночам, если мы с нею не на балу где-нибудь, так она спит.
— А вот ты ее одну без себя пускаешь.
— Так что же, она не маленькая…
— Где она вчера была?
— У Ручинских… Это почтенное семейство, там у нее подруга — хорошая девушка!
— Полно, хорошая ли? Я тебе, ma chère, должна сказать, что есть вещи, которых я ни для кого на свете не потерплю в своем доме.
— Да что же такое, maman? Кто вам насплетничал?.. Все это пустое!..
Но старуха не унималась. Она даже возвысила голос…
— Если я говорю, значит, не пустое! Будь покойна, даром говорить не стала бы. Ты, я вижу, ничего не знаешь, а вот спроси ты Пелагею Петровну — она тебе и скажет, где твоя Ниночка бывает…
— Пелагею Петровну?
— Да, ma chère, Пелагею Петровну.
В это время из-за драпировки выглянула Пелагея Петровна.
— Да-с, это точно-с, ваше сиятельство, это бы Нине Александровне никак уже не следовало… Я для их же пользы обо всем узнала, чтобы вовремя упредить вас. Давно уже я, сударыня, замечаю, до поры только вот не хотела вас тревожить…
— Ах, да не тяните, Пелагея Петровна, ради Бога! Если знаете что, так говорите! — не утерпев, крикнула княгиня.
Пелагея Петровна совсем поджалась, передернула плечами и вздохнула.
— Да что же так… Я не тяну-с… А то, что они, сговорившись с князем с нашим, в одном месте бывают… И теперь это место мне известно-с через кучера Ивана, который вчера возил их… Он говорит, хоть сами его спросите, приехал, говорит, к Ручинским рано — барышня не выходит. Он и стоит. А затем видит: подъехали извозчичьи сани, вышли две барышни — Нина Александровна и Ручинская… Вошли в дом… Он и спросил извозчика, откуда привез, а тот ему и сказал, из какого дома они вышли… А в том доме, мне известно, князь частенько бывают…
— Да какой же дом, у кого они бывают?
— А у госпожи Татариновой!
Княгиня вскочила с кресла…
— Татариновой? — переспросила она. — Какой Татариновой?
— А такой, ma chère, — сказала генеральша. — Татаринова, полковница, nee Буксгевден… Tu te rappelles… celle histoire… помнишь, как ее, по приказу государя, из Михайловского замка выгнали? Секту она там какую-то богопротивную устроила… Как же, много об этом рассказывали, думали тогда, в Сибирь ее сошлют, со всеми безбожниками, которые там у нее собирались… Так князь Александр Николаевич, в полной он своей силе тогда был и, известно, за всяких еретиков заступался, по его только настоянию и оставили ее на свободе!..
— Пелагея Петровна, теперь вы можете идти — вы мне не нужны больше! — прибавила генеральша.
— Ну что, ma chère, скажешь? — обратилась она к дочери, когда они остались одни. — Хорошо себя ведет твоя Нина? В хорошую компанию попала?!
В это время за портьерой послышался слащавый голос князя Еспера:
— Ma soeur, можно к вам?
— Войдите, mon frère!
Князь Еспер вошел и уже направился к креслу генеральши, когда вдруг, почти над самым его ухом, раздался грозный голос княгини…
— Вот вы у него, maman, потребуйте отчета, он во всем виноват… Он развращает и смущает девушек!..
— Ma chère, ma chère, Бог с тобой… полно! — укоризненно проговорила генеральша.
Князь Еспер даже присел от неожиданности и испуга.
— Я?.. За что же так!.. Что такое?.. — лепетал он. — Я-то что?!
— Я давно прошу вас оставить в покое Нину! — пылала и задыхалась княгиня. — Вам никто не может запретить бывать где вам угодно, но грешно и стыдно сманивать неопытную девочку Бог знает в какие трущобы…
— Ma soeur, за что она меня оскорбляет?! — плаксивым тоном проговорил князь, ударяя себя кулаком в грудь. — Куда я сманиваю ее Нину?
— К вашей приятельнице Татариновой, к женщине, которой давно бы следовало быть в Сибири! — прокричала княгиня.
Князь Еспер ожидал чего угодно, только не этого.
— А!.. А!.. — почти простонал он и окаменел на месте.
Княгиня между тем не унималась.
— Ну, что же вы молчите? Говорите, что я лгу, что никакой Татариновой вы не знаете, что вы не бываете у нее. И Нина не бывает!..
Наконец князь Еспер пришел в себя. Даже в полутьме занавешенного будуара были видны его отчаянные гримасы.
— Вам нужно успокоиться, ma nièce, — начал он, изо всех сил стараясь придать себе вид оскорбленного достоинства. — С вами говорить трудно… Я давно знаю госпожу Татаринову, но только вы изволите очень ошибаться, полагая, что ее место в Сибири… Это почтенная, уважаемая женщина…
— Ах, Боже! Всему Петербургу известна ее почтенность! Кого же выгнали из Михайловского замка?
Но князь уже значительно успокоился и владел собою.
— Разве кто-нибудь из нас избавлен от врагов и ложных доносов? Если бы госпожа Татаринова была в чем-нибудь виновата, то и получила бы за это должное наказание. Между тем, если вы указываете на ту историю, бывшую в семнадцатом году, то должны же, ma nièce, знать, что государь император почел донос, сделанный на госпожу Татаринову, ложным и приказал оставить в покое как ее, так и всех ее друзей…
— Очень жаль… Это все князь Голицын, известный еретик и покровитель всяких вредных людей…
— Напрасно вы так отзываетесь о почтенном государственном муже, который пользуется доверием государя.
— Ошибаетесь, государь теперь ему не очень-то доверяет!
— Так ведь это по проискам архимандрита Фотия.
— Происки! Вот архимандрит Фотий так точно, говорят, святой человек!.. И если бы вы к нему повезли Нину, то я была бы вам только благодарна, от него она ничему дурному не научилась бы. Но к Татариновой ее сманивать — это… это низко!..
— Ma chère, успокойся, ты забываешься… Ведь он твой дядя! — воскликнула генеральша.
— Ах, maman, да ведь есть же предел!
— А главное — это клевета! — обращаясь к сестре, довольный ее поддержкой, сказал князь Еспер. — Я, повторяю, никуда Нину Александровну не сманивал. И если она давно, еще до приезда сюда, была знакома с госпожой Татариновой и если даже я ее там встречаю, так я-то тут при чем? Я мог только порадоваться, что у молодой девушки хорошие знакомства, что она бывает у почтенных людей, которые могут принести ей много нравственной пользы…
Но княгиня не могла уже более выносить этого лицемерного тона, а главное, ее возмущало то, что ее мать, очевидно, очень хорошо понимавшая весь вред и все неприличие для молодой девушки знакомства с Татариновой и сама первая поднявшая эту историю, теперь вдруг, когда главный виновник был налицо, от всего отстранялась.
Вместо того, чтобы поддержать дочь и вместе с нею напасть на князя, она перешла на его сторону и даже не спорила с ним, как будто разделяла его взгляды на Татаринову. Княгиня не могла сообразить, что ее матери, в сущности, очень мало дела и до Татариновой, и до Нины, и до чего угодно.
Эта история была для нее просто развлечением. Она была рада маленькому скандалу, подстроенному ее компаньонкой, рада была от скуки следить за перебранкой между братом и дочерью.
— Мне с вами говорить нечего! — вдруг крикнула княгиня, обращаясь к дяде. — Я только очень довольна, что все это, наконец, открылось…
Она вышла из будуара генеральши и, к изумлению и соблазну всех, попадавшихся ей навстречу домашних, задыхаясь и отдуваясь, себя не помня, почти бегом побежала в комнату Нины.
— Добились! — крикнула она ей. — Осрамились! Теперь уже о вас Бог знает что говорят в целом доме, скоро по городу трубить станут!..
— Господи! Да какое же преступление, наконец, я сделала? — проговорила утомленная всеми этими объяснениями Нина.
— Преступление, почти что так, матушка! Разве след вам бывать тайком от меня у этой ужасной Татариновой?! И не говорите, не оправдывайтесь, не вывертывайтесь!..
Но Нина была так поражена, что не могла произнести и слова. А княгиня продолжала:
— Я знаю, что вы станете, так же как и мой дядюшка, друг ваш, уверять, что эта Татаринова прекрасная, чуть не святая женщина. Но если она и прекрасная и святая — зачем же вы все время два года, шутка ли, скрывали знакомство с нею? Вот этим скрыванием вы себя и выдаете! Если бы совесть ваша была чиста, если бы не было ничего дурного — скрывать не стали бы. Мне стыдно за вас, сударыня, стыдно…
Княгиня совсем захлебнулась, порывисто отперла дверь и вышла.
«Что же теперь делать? — думала Нина. — Она меня считает преступницей, и я не в силах оправдываться перед нею; я должна казаться ей виноватой — все против меня… Мне уже нет здесь места, я здесь чужая!.. Теперь я не имею права принимать ее благодеяния. Я недостойна в ее глазах. Да ведь она и права, я дурно ее отблагодарила. Но виновата ли я?.. Что мне делать?..»
Несколько мгновений она простояла, собираясь с мыслями. Потом вдруг, очевидно, приняла какое-то решение, подошла к своему письменному столику, написала что-то дрожащей рукой, запечатала в конверт, а потом долго сидела, опустив голову. Временами из ее глаз капали слезы. Наконец она глубоко вздохнула, встала, перекрестилась, взяла только что запечатанный ею конверт и пошла в комнаты княгини. От встретившейся горничной она узнала, что княгиня только что выехала. Она прошла в гостиную и положила на стол, на самом видном месте, свой конверт. Потом вернулась к себе, быстро оделась и вышла из дому.
XXVIII. КНЯГИНЯ ДЕЙСТВУЕТ
Княгиня выехала в такое необычайно раннее для нее время потому, что в том состоянии духа, в котором она находилась, ей было решительно невозможно сдерживаться. Но все же она понимала, что это не приведет ни к чему, а потому приказала как можно скорее заложить сани и отправилась по магазинам. Чистый морозный воздух несколько освежил ее. Но волнение все же не утихало — все ее раздражало. Она, чего с нею никогда не случалось, перебранилась во всех магазинах, где на этот раз ей ничем не могли угодить. Все вещи, которые она хотела купить, казались ей никуда не годными и при этом за них спрашивали невозможные цены. Наконец, проездив часа два, она придумала сделать несколько визитов; но дорогою вдруг раздумала и приказала везти домой. Войдя в гостиную, она заметила на столе письмо и узнала почерк Нины.
— Это еще что такое?
Она быстро распечатала конверт и прочла: «Простите меня, дорогая княгиня (даже не ma tante, a княгиня — это еще новая обида), я сознаю всю мою вину перед вами. За вашу доброту, за ваше обо мне попечение — я принесла вам только неприятности. Бог видит, как я люблю вас и как мне тяжело и горько. Но мне делать нечего — я не имею права более у вас оставаться. Обстоятельства, в которых я, может быть, и не виновата (но доказать вам я этого не могу), лишают меня вашего доверия и делают меня недостойной вашей доброты. Я ухожу, забудьте обо мне и простите меня».
Вся кровь бросилась в голову княгине, так что она даже пошатнулась и комната заходила пред ее глазами. «Этого еще недоставало! Да ведь она совсем с ума сошла, как есть дура!.. Куда же это она убежала? Конечно, туда, к этой Татариновой… Скорее, скорее, а то ведь несколько часов — и все это разнесется по городу… И тогда что делать?!» Княгиня послала сказать кучеру, чтобы он не откладывал. А сама отправилась разыскивать Пелагею Петровну.
Она нашла ее в ее комнате, куда компаньонка уже удалилась, исполнив свои утренние обязанности при генеральше. Пелагея Петровна очень изумилась, увидя входившую к ней княгиню, так как подобных визитов до сих пор еще никогда не случалось. Она засуетилась, но в то же время приняла блаженный вид.
— Что приказать изволите-с, ваше сиятельство? — проговорила она, поджимая губы.
— Вы знаете адрес Татариновой?
— Как же-с, знаю! Она всегда все знала.
— Где же это?
Пелагея Петровна объяснила во всех подробностях и прибавила:
— А вам, если смею спросить, по какой причине он понадобился?
Но княгиня ничего не ответила, повернулась и вышла. Пелагея Петровна с удовольствием потерла руки и усмехнулась: «Сама едет! Сама едет! Ну, заварилась каша! А очень бы любопытно знать, что там будет… Да как узнать про то?.. Никаким манером невозможно… Старуха что скажет?.. Потому что очень уж любопытно!..»
Княгиня уехала и дорогою чувствовала себя совсем несчастной. И откуда только все это взялось, как так оно вышло? Жизнь была такая ровная, спокойная, ничто не тревожило, не смущало… С самой смерти мужа княгиня даже забыла, что на свете есть горе, волнение, а теперь волновалась как никогда, просто себя не узнавала.
Найдя указанный ей дом, она приказала сторожу без всяких объяснений отворить ей ворота, слезла у крылечка, позвонила. И в то время как отворивший ей лакей с изумлением и даже не без некоторой робости смотрел на нее, порывисто спросила:
— Барыня дома?
Лакей замялся, не зная как ему быть. Все дамы, посещавшие Катерину Филипповну, были хорошо ему известны, а новых, незнакомых лиц почти никогда не появлялось. Если же они и появлялись, то обыкновенно в сопровождении кого-нибудь из обычных посетителей. Но княгиня не стала дожидаться его ответа. Она величественно вошла в сени, оттуда в переднюю и проговорила:
— Пойди и доложи барыне, что княгиня Маратова желает ее видеть по важному делу. Княгиня Маратова — слышишь… Смотри, не переври!..
Совсем растерявшийся старик снял с княгини салоп и пошел исполнять ее приказание. Княгиня вошла в залу и стала ждать. Все тихо, никто не показывается. Наконец минуты через две старик вернулся и, указывая на дверь, сказал:
— Пожалуйста, сюда вот-с, в гостиную! Пожалуйте, барыня сейчас выйдут…
Княгиня вошла в гостиную и огляделась: мрачная комната с темносуконной мебелью; со стен глядят прекрасные лики картин-икон; в углу, перед большим висящим образом, в сияющей золоченой ризе, горит лампадка. Эта гостиная производит какое-то странное впечатление, почти такое же, как если входишь в келью; даже воздух какой-то келейный.
Небольшая дверь тихо отворилась, и перед княгиней появилась сухощавая, бледная женщина. Княгиня встрепенулась. Она совсем не того ожидала. Она не рассчитывала увидеть женщину, внушающую к себе доверие уже одною внешностью. Она заранее ненавидела и презирала эту женщину. А между тем перед нею было замечательно симпатичное и доброе лицо с прекрасными грустными глазами.
— Вы желали меня видеть, княгиня? — проговорила Катерина Филипповна, поклонившись с достоинством и даже с грацией, и, указывая на кресло, прибавила:
— Прошу покорно, присядьте!
Княгиня окончательно смутилась. Она видела, что начать объяснение так, как она предполагала, невозможно. Она поместилась против хозяйки, по ее приглашению.
— Извините меня, — сказала она, — если я вас потревожила, и скажите мне, пожалуйста, не у вас ли моя родственница Нина Ламзина? Мне очень нужно ее видеть… Я подумала, что застану ее у вас…
И в то же время она с тоскою думала: «А что если она отопрется? Ну, тогда я заговорю иначе!..»
Катерина Филипповна не стала отпираться.
— Вы не ошиблись, княгиня, — спокойно произнесла она, прямо и ласково глядя на гостью своими тихими глазами. — Нина Александровна у меня. Я сейчас скажу ей.
Она медленно поднялась и вышла из гостиной. Прошла минута, другая. Княгиня ждала с возрастающим нетерпением и тревогой. Наконец у двери появилась Нина. Она была одна. Княгиня так и рванулась к ней навстречу.
— Нина, сумасшедшая, как тебе не стыдно! Что ты со мною делаешь?
Вдруг ее голос оборвался, и на глазах показались слезы. Нина растерянно взглянула на нее. Взглянула еще раз и, зарыдав, упала ей на грудь. Княгиня, себя не помня, обнимала ее, целовала и шептала ей:
— Дурочка, ты ни себя, ни меня не жалеешь! Разве так можно? Едем скорее, а то ведь Бог знает что сплетут и потом ничего не исправишь…
В это время вошла Катерина Филипповна, такая же спокойная, с таким же добрым лицом и кроткими глазами.
— Если бы вы знали, княгиня, — сказала она, — как я рада, что вы здесь, у меня. Будьте так добры, выслушайте то, что я имею вам сказать.
— Я вас слушаю!
И в то же время княгиня крепко держала руку Нины, будто боясь, что вот-вот сейчас эта кроткая женщина ее у нее отнимет.
— Я должна оправдаться немного перед вами, а, главное, оправдать Нину Александровну, — начала Татаринова, снова улыбнувшись. — Вы недовольны Ниной Александровной через меня за то, что она до сих пор скрывала перед вами свое знакомство со мною. И, конечно, вы имеете основание, и я вас понимаю. Но рассудите хладнокровно, княгиня: мои враги давно уже испортили мне репутацию, выставили меня не то сумасшедшей, не то изуверкой какой-то, и в обществе обо мне очень дурно думают. Я это давно знаю, примирилась с этой мыслью и порвала все сношения с обществом. Но все же у меня, по милости Божьей, есть друзья, которые не отказывают мне в сочувствии своем, хорошо зная, что во мне нет того, что мне приписывают. К числу этих друзей принадлежит и Нина Александровна. Мы познакомились три года тому назад в Москве, и я от всей души ее полюбила. Я очень обрадовалась, узнав, что она в Петербурге, и увидя ее у себя. Ее посещения, очень нечастые, доставляют мне большое удовольствие…
— Прекрасно, — вдруг перебила княгиня, — но зачем же она от меня скрывала, что знакома с вами?
— Потому что была уверена, что вы будете против этого знакомства.
— А прекратить его, — прошептала Нина, — мне было очень тяжело… я и люблю и уважаю Катерину Филипповну.
— И ведь она была права, — сказала Татаринова, еще ласковее, еще с большей кротостью глядя на княгиню. — Ведь вы бы восстали против ее знакомства со мною, если бы она в нем призналась?
Княгиня ничего не отвечала. Ей становилось очень неловко. Кротость и симпатичный вид Татариновой на нее действовали против ее воли. А Катерина Филипповна между тем продолжала:
— Я допускаю и, как уже сказала, нахожу естественным, что вы, вслед за другими, осудили меня и почитаете дурной и вредной женщиной. Но я обращаюсь к вашему сердцу, княгиня, и к рассудку — ведь вы осудили меня, не имея обо мне никакого понятия, никогда меня не видав… А представьте же себе, если все эти обвинения против меня ложны. Ведь вы знаете жизнь, знаете, как часто обвиняют людей без всяких оснований. Представьте себе, что я ничего дурного не делала и не делаю, что я только ищу в религии успокоения и забвения всех тягостей жизни, что я люблю беседовать с серьезными, благочестивыми людьми. Люблю беседовать вот с такими, хорошо направленными девушками, как ваша племянница. Представьте, что в свиданиях и беседах наших нет ничего предосудительного… А вы обвиняете не только меня, но и Нину Александровну… Я не стану судиться с вами, не стану оправдываться. Когда она пришла ко мне очень взволнованная и все рассказала — спросите ее, что я ей говорила? Я ее убеждала вернуться к вам. Вот она — я сдаю ее вам с рук на руки. Если вы находите предосудительным, что она у меня бывает, убедите ее прекратить эти посещения. Я ее против вашей воли принимать не стану.
Княгиня окончательно смутилась, ей даже становилось стыдно. Она думала, что едет Бог знает в какую трущобу спасать Нину от погибели. Она даже уже помышляла обратить внимание сильных людей на эту Татаринову, эту развратительницу юношества. Поступок Нины казался ей возмутительным, а вот они объясняют все это очень естественно. Вместо ужасной женщины перед нею это доброе лицо, эти ласковые, тихие глаза, разумные речи, в которых даже какая-то притягательная, чарующая сила. И ведь это правда — если бы Нина сказала ей, что знакома с Татариновой, она всеми мерами воспротивилась бы этому знакомству. А если Татаринова, действительно, страдает от врагов, если она оклеветана, если за ней нет ничего дурного, зачем же поднимать эту историю? «А дядюшка?!» — вдруг вспомнила она и снова в ней закипело сердце.
— Вы мне позволите, в свою очередь, быть откровенной? — сказала она, обращаясь к Татариновой.
— Только этого и желаю, княгиня.
— Вы давно знаете моего дядю, князя Унжицкого?
— Очень давно, лет двадцать.
— Мне тяжело так говорить, но я вынуждена обстоятельствами и должна спросить у вас, считаете вы его за хорошего, искреннего человека?
— Да, конечно; я не имею никаких оснований думать иначе. Я никогда ничего дурного о нем не слышала и от него не видела.
— Даже не слышали? Это странно!
— Я живу вне общества, княгиня, и отстраняюсь от всяких сплетен.
— В таком случае, делать нечего, я должна предупредить вас, что он дурной и очень неискренний человек. И если что особенно меня огорчает, так это то, что Нина с ним у вас встречается.
— Но ведь я полагаю, что прежде всего она с ним ежедневно встречается и помимо меня, так как он живет в одном доме с вами? — очень просто и тихо сказала Катерина Филипповна.
Княгиня вспыхнула. Она почувствовала, что побеждена и что при этом еще вдобавок выставилась дурой. Но она не стала останавливаться на этой мысли и только проговорила про себя: «Дура, так дура! Ну, так что же такое — дура и есть!»
— Поедем, Нина! — сказала она, обращаясь к молодой девушке. — И, пожалуйста, не волнуйся! Придется хорошенько обдумать, как нам поступать теперь и как поладить с злыми языками, которые, по твоей неосторожности, уже начали поход против тебя.
Затем она ласково обратилась к Татариновой:
— Еще раз прошу извинить меня, Катерина Филипповна, но я рада, что побывала у вас и что мы объяснились. Я знаю, что такое клевета и сплетня — навидалась их немало. И если позволите — это не последнее наше свидание.
— Всегда буду очень рада вас видеть у себя, княгиня, — протягивая ей руку, сказала Татаринова. — Сама же я никуда не выезжаю и этого своего обычая изменить не в состоянии. Да, надеюсь, вы и поймете, что я не могу иначе, с той репутацией, какую мне сделали.
Они любезно простились. Княгиня всю дорогу молчала. Но по лицу ее было видно, что она быстро успокаивается и веселеет. Наконец, уже подъезжая к самому дому, она сказала Нине:
— Вот видишь, зачем же было скрываться и ходить кривыми путями? Прямой путь всегда лучше.
— Но разве я могла подумать, что так кончится! Разве вы сами могли это думать?
— Да, пожалуй, ты права! Ну и довольно об этом. И так еще немало хлопот будет. Не знаю, как удастся тебя выгородить…
XXIX. «АНГЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ»
По возвращении домой княгиня отправилась к матери, а Нина прошла в гостиную. Она чувствовала большую слабость после всех этих треволнений; но на сердце у нее стало все же гораздо покойнее. Она даже, в сущности, была довольна, что между нею и княгиней не стоит прежняя ложь, так ее тяготившая. Положим, полной откровенности и теперь не было, главное она все же должна была скрывать от нее. Но что же делать, ведь она не имеет никакого права признаться ей, наверное зная, что та не в состоянии ее понять. Теперь она вернулась к мыслям о Борисе. Вот уже несколько дней она его не видит, но ведь иначе быть не может. Ему неловко было бы раньше явиться. И вот, когда она думала об этом, она начала испытывать уже известное ей ощущение, ощущение его близости. Когда через несколько минут он вошел в гостиную, она нисколько не изумилась… Она ждала его и при этом уже узнала, чем его встретить, она приняла большие решения.
— Вы больны? — сказал, тревожно вглядываясь в ее лицо, Борис.
Она ему улыбнулась и крепко сжала его руку.
— Нет, не больна, утомлена только, но теперь вот и утомление прошло. Я ждала вас. Вы приехали вовремя, мы можем говорить. А мне так много, так много нужно сказать вам!
— Значит, вы уже не будете меня томить, Нина?
— Не буду.
Она опять ему улыбнулась, бессознательно вложив в эту улыбку всю нежность, которая поднялась в ней при его появлении.
— Послушайте, Борис, — начала Нина, — сядьте вот здесь, поближе, я буду говорить тихо, чтобы как-нибудь кто не услышал… Послушайте… вот ведь это четвертое свидание в жизни, а я называю вас Борисом…
— Да разве иначе может быть!.. — перебил он ее.
— То-то и есть, что не может. И вот я четвертый раз вас вижу, а верю вам как никому на свете.
Он радостно взглянул на нее.
— Да, я так вам верю, что не стану брать от вас ни клятв, ни обещаний, что все, что я вам скажу и открою, останется между нами. Я открою вам большую тайну, которую не решаюсь и никогда не решусь открыть княгине, а ближе ее у меня никого нет, и я ее очень люблю и уважаю. Слушайте меня, Борис, слушайте внимательно.
Но его не нужно было приглашать к этому — он так и впился в нее. Он не проронил ни одного звука. Она, несколько беспорядочно, но быстро, живо и ярко стала говорить ему о себе, о своем внутреннем мире. Она раскрывала перед ним всю свою душу. Он иногда ее останавливал для того, чтобы сказать ей, что понимает ее, что ему самому очень хорошо знакомы все эти ощущения, грезы, это недовольство жизнью, это искание чего-то высшего, лучшего. Она оживлялась более и более.
— Я знала, что вы меня поймете, — радостно говорила она. — Иначе и быть не могло! Значит, я вас знала, значит, все это был не бред, не мечты пустые. Боже мой, как много странного, как много непонятного и чудесного в жизни! А люди не хотят видеть этого, не верят, смеются.
— В чем же ваша тайна, Нина? Я все жду, а тайны пока нет никакой.
— Постойте, сейчас, теперь мне легче решиться. Я знаю — вы и это поймете. А если поймете, тогда, значит, я имею право открыть вам все, не нарушая своей клятвы.
— Клятвы? — изумленно переспросил Борис.
— Да, сейчас…
И она передала ему о своем знакомстве с Татариновой, о собраниях их, кружениях, пророчествах. Одним словом, ничего не скрыла. Не скрыла и последних обстоятельств — происшествий этого дня. Она так была увлечена, она спешила, она боялась, что вот-вот войдет княгиня или другой кто-нибудь, прервет ее и помешает ей докончить. А ей безумно хотелось докончить в этот раз все, чтобы не оставалось никаких сомнений, чтобы вздохнуть, наконец, свободно. В своем волнении она не замечала, что выражение лица Бориса изменилось, что он уже не поддакивает ей, не говорит, что понимает ее. Он слушал с таким же напряженным вниманием, но его лицо по временам принимало мрачное выражение, брови сдвигались. Наконец он остановил ее.
— Мне кажется, вы далеки от истины, — сказал он. — Все это так странно… Я слышал уже давно о Татариновой и хотя никогда не верил тем толкам, какие о ней ходят, но, признаюсь, считал ее немного помешанной.
— Ах, как вы заблуждаетесь! И как мне грустно слышать это от вас — я не того ожидала…
Нина тревожно взглянула на него.
— Погодите, я ведь не знаю, — сказал он, — очень может быть, что я и ошибаюсь, что я изменю свое мнение. Может быть, вы меня во всем убедите. Но скажите мне прямо, прошу вас. У вас… у вас никогда, ни разу не являлось сомнение?
Нина опустила глаза и глубоко вздохнула.
— К несчастью, являлось и даже не раз, и даже часто… И все чаще в последнее время.
— Вот видите!.. И это очень важно.
— Но эти мои сомнения, — горячо перебила она, — это искушение, это действие нечистой силы.
Борис даже вздрогнул. Несмотря на свое мистическое настроение, он ясно видел всю опасность, которой подвержена Нина. Он не ожидал этих откровений. Но он решился все разглядеть хорошенько и действовать осмотрительно. Между тем Нина говорила:
— Катерина Филипповна — святая женщина и ошибаться не может. Я вас познакомлю с нею и хочу, чтобы вы приняли участие в наших собраниях. Я поручусь за вас перед всеми. Вы должны все видеть, все испытать, тогда и убедитесь, что тут не заблуждение. Согласны?
— Хорошо, конечно, я пойду туда уже потому, что вы там бываете.
— Так видите ли вы теперь, Борис, что я имела основание испугаться нашей встречи и говорить так, как говорила в последний раз.
Борис с изумлением взглянул на нее.
— Нет, я этого совсем не вижу и не понимаю…
— Я испугалась, услыша от вас то, что вы мне говорили. Мне… мне показалось, что вы говорили о такой любви, которая не может и не должна быть между нами…
— То, что я сказался повторяю! Я всю жизнь ждал вас, любил, все надеялся, что мы предназначены друг для друга… Мы встретились, и я хочу надеяться, что нам уже не придется разлучаться, что вы будете моей, моей женой, спутницей всей моей жизни…
Нина вздрогнула и подняла на него свои прекрасные глаза, в которых светилась теперь грусть.
— Вот видите, вы говорите о земной любви, вы хотите, чтобы я была вашей женой, а я не могу быть ничьей женой. Я вам не все сказала — слушайте!
Она передала ему о пророческом голосе, о своем обете, который должна исполнить.
— Нина, да ведь это безумие! — горячо остановил он ее.
— Нет, не безумие, и иначе быть не может. Зачем мне скрываться перед вами? Я не должна, я не хочу этого, у меня никогда не будет от вас ничего скрытого. Я люблю вас и знаю, чувствую, что буду любить еще больше, если только это возможно. Любите и вы меня, мы будем счастливы друг с другом, и Христос благословит эту любовь нашу. Мы будем любить друг друга, как ангелы на небесах. Мы соединим наши души, будем духовными супругами. И эта любовь переживет нас и снова соединит нас за гробом. Но никогда не говорите мне, Борис, о земной любви, ее не должно быть между нами. Мы обязаны стоять выше ее и, так мы будем гораздо счастливее…
Борис глядел на нее изумленный, он сразу даже не мог понять, что это такое она ему говорила, но, наконец, понял. На его лице выразилось почти негодование, но он сдержался, он ничего не возражал ей, он только проговорил:
— Я не буду теперь ни о чем спорить с вами. Любите меня, как знаете, только любите.
Блаженная улыбка мелькнула на лице ее, и она протянула ему руки и прошептала:
— Теперь я счастлива, теперь я спокойна… брат… милый!..
Он наклонился и целовал ее руки. Она их не отнимала. Глаза ее светились, на нежных, всегда бледных щеках теперь вспыхивал и разгорался румянец. Но в соседней комнате послышались шаги. Он опустил ее руки.
Вошла княгиня.
— А вот это кто! Очень рада вас видеть, Борис Сергеевич, — ласково сказала она.
— Я приехал просить у вас прощения за невежливость, которую в прошлый раз должен был себе позволить!..
— Я простила. Садитесь и потолкуем.
Княгиня была теперь, очевидно, в хорошем настроении, а присутствие Бориса ей очень нравилось. Она стала болтать без умолку, и Борис ее поддерживал. Он так же, как и она, был оживлен. Беседа с Ниной, несмотря на многое, что было в ней смущающего, все же его окрылила. Одна только Нина не могла с собою справиться. Она то бледнела, то краснела, видимо не принимала участия в разговоре, не слышала того, что говорилось.
Он уехал и стал разбираться в этих нежданных откровениях. Он решил непременно быть у Татариновой, разглядеть эту странную секту и вырвать из нее Нину.
«Неужели я кому-нибудь уступлю ее! О, я докажу ей, что и земная любовь может идти рука об руку с небесной, что мы духи, но духи во плоти — и не имеем права забывать об этом… Если же ей удастся убедить меня, что мы должны быть только духовными супругами… ну что же!.. Да только ведь не удастся ей этого! Она меня любит, любит!..»
Широкое, радостное чувство охватило его. Весело и бодро взбежал он по широким ступеням своего дома. Он прошел во второй этаж и в одной из гостиных столкнулся с Катрин. Рядом с нею был опять граф Щапский.
Но блаженное настроение Бориса так было велико, что он даже и к нему отнесся без неприятного чувства. Он любезно с ним поздоровался, нежно поцеловал руку Катрин…
Он всех любил, все ему нравились. Жизнь казалась такой хорошей и никаким дурным и грустным мыслям теперь не было места.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I. КРИЗИС
Конечно, главным интересом Бориса Горбатова, при котором все остальные уходили на второй план, была Нина. Несмотря на все его старания, дела с этой стороны шли вовсе не так быстро и успешно, как бы ему хотелось. Он не мог обойти затруднений, которые выставляла известная форма общежития, принятая в том кругу, среди которого он вращался. Хотя не только что княгиня, но даже и генеральша были с ним очень предупредительны и любезны и всегда выказывали радость при его появлении, хотя он сам изощрял все способы находить предлоги для частных посещений, а все же эти посещения были не особенно часты.
Нередко случалось также, что когда он являлся к княгине, то не заставал Нину дома, а если и заставал, то в обстановке, не допускавшей продолжительных бесед с нею с глазу на глаз. Он ясно видел, что Нина более чем рада его приезду. Он продолжал быть уверенным в ее к нему чувстве; но все же это его мало подвигало вперед. Когда ему удавалось поговорить с нею, она то и дело заводила отвлеченные, мистические разговоры и упорно стояла на том, что их любовь должна быть «ангельской». Первое время он продолжал мало обращать внимания на это определение, но затем стал волноваться, и, наконец, эта платоническая любовь представлялась ему просто оскорбительною. Он просил Нину, во время одного из их разговоров, положить предел этому томительному состоянию — принять его предложение и обвенчаться с ним. Нина вспыхнула и испуганно посмотрела на него.
— Ведь я говорила… Говорила, что этого не должно быть, что это невозможно! — прошептала она.
— Да отчего же, если мы любим друг друга?.. Иначе и быть не может, Нина. Ведь и обвенчавшись, мы можем любить друг друга так, как вы это находите нужным. Я ни в чем не пойду против вас, я не стану насильно изменять ваши взгляды… Но если мы будем мужем и женою перед светом, то рушатся все эти преграды, от которых я страдаю и от которых и вы должны страдать, если не обманываете себя и меня и, действительно, меня любите!.. Очень часто мне так недостает вас, мне так вы необходимы, я хочу столько передать вам, открыть вам все тайники, все извивы моей души!.. Я нуждаюсь в вашем совете, участии — а вас нет со мною… Я один… между нами каменная стена, которую уничтожить невозможно! Неужели вам непонятно все это, неужели вы сами не испытываете того же? Если нет, так не говорите, что вы меня любите… Я не понимаю такой любви!..
Но Нина взяла его руку, крепко сжала ее и взглянула на него любящими глазами.
— Ах, Борис, Борис! Неужели вы ничего не видите?! Я, я не люблю вас!!! Неужели вы думаете, что я не испытываю того же самого, что и вы… Мне тоже вас недостает… Но жениться мы не можем теперь.
— Боже мой, да почему же?
— Потому, Борис, что мы очень слабы и, кажется, вы еще гораздо слабее моего. А главное — вы еще многого не понимаете, вы не посвящены… Я знаю, вы искренно теперь обещаете, что наши отношения не изменятся, даже если бы мы и женились. Но подумайте хорошенько, спросите себя и ответьте правду — вы не можете сдержать этих обещаний. Вы теперь часто говорите, что я вас оскорбляю, вас не люблю, а тогда вам будет казаться еще больше, что я вас оскорбляю. Вы будете мучиться и меня мучить, и заставите меня совершить грех, ошибку непоправимую… Вот видите, я права, вы молчите, вам нечего мне возражать…
Борису, действительно, было нечего возражать, и он чувствовал, что она права.
— Но разве возможно все это? Разве такая жизнь — счастье, и вы счастливы теперь, и вам ничего иного не надо? — спросил он Нину.
— Нет, я несчастлива, потому что вижу, что вы ходите во мраке. Я буду счастлива тогда, когда вы из него выйдете, когда вы все поймете; тогда между нами не будет этих споров, этих упреков… Ведь я вас просила убедиться… Катерина Филипповна готова принять вас, братья и сестры мне доверяют. Вы будете допущены на собрание.
— Так скажите, когда мне быть?
— Хоть сегодня, хоть сейчас!
— Но если я не уверую в то, во что вы там верите, а, напротив, если мне станет ясно, что вы заблуждаетесь?
— Тогда увидим, поговорим… Так вы согласны?
— Я не отказывался, я только не настаивал, я ждал вашего зова.
— Собрание у нас завтра, — сказала Нина, — приезжайте с князем Еспером.
Борис уже знал, что князь Еспер принадлежал к татариновскому союзу, и, узнав это, он постарался даже, насколько возможно, сблизиться с князем, хоть тот никогда не производил на него очень приятного впечатления. И теперь ему вовсе не понравилась близость Нины с этим человеком. «Ведь это просто шут какой-то! — думал он, — развинченный, на шалнерах, кривляка… Что может быть серьезного и хорошего в таком человеке?» Но он вспомнил при этом, что уже не раз в жизни ему приходилось убеждаться, что под самой комичной и странной наружностью скрывается иногда совсем неожиданное содержание…
Борис уже несколько раз посетил князя Еспера в его мезонине, но поладить ему со старым франтом оказывалось нелегко. Князь Еспер, несмотря на всю свою предупредительность и любезность, как-то странно держал себя с ним, смущался в его присутствии, бегал глазами во все стороны и начинал его занимать самым пошлым разговором. Но Борис, во время второго своего визита, заметил у князя на столе богословские и мистические сочинения и заставил хозяина разговориться по поводу этих книг. Князь Еспер, чего Борис никак не ожидал, оказался весьма начитанным. Только не было особенной ясности ни в его изложении, ни в его мыслях. Он часто путался, сбивался. Он совсем не умел вести отвлеченный спор и к тому же это, по-видимому, было ему противно. Наконец он стал отделываться общими фразами и вдруг совсем замолчал. А Нина уверяла, что князь Еспер так красноречив, так увлекательно доказывает!.. Борис недоумевал и кончил тем, что решил так: «Этот человек скрытный, подозрительный: он мне не доверяет и не хочет высказываться передо мною. Нужно его приучить к себе».
Он принялся за это, но князь Еспер не поддавался. Он смотрел на Бориса, как на лютого врага, и просто его ненавидел. Его посещения, его любезность только раздражали князя. Его молодость, красивая внешность, милые манеры, очевидная искренность доводили его до бешенства. Князь Еспер вовсе не был таким жалким и глупым человеком, каким казался с первого раза, благодаря своей наружности и смешным ужимками. Он иной раз умел очень ясно наблюдать, да, впрочем, и особенно ума не требовалось для того, чтобы понять, зная то, что он знал из прежних откровенных слов Нины, — до какой степени Борис для него опасен.
Теперь он побаивался княгиню, а потому редко беседовал с Ниной; но действовал на нее через Катерину Филипповну. Теперь и у него являлись письменные откровения; он носил их Татариновой и убеждал ее, что этот человек, т. е. Борис, погубит душу Нины и совратит ее на путь неправды. Он один из всех братьев и сестер союза, несмотря на торжественное поручительство Нины, всеми мерами старался отклонить допущение Бориса в собрания. Он очень хорошо понимал, что Борис вряд ли может повредить им и не станет на них доносить, уж хоть бы потому, что не захочет скомпрометировать Нину. Но он боялся, не без основания, того, что как только Борис увидит их тайнодействия, он непременно отнимет у него Нину. Он так и выражался в своих мыслях: «отнимет у меня» — он считал Нину свою собственностью. Но тут князь Еспер оказался побежденным. Его письменные откровения вдруг стали в противоречие с такими же откровениями Катерины Филипповны, так как в ее откровениях говорилось, и все настоятельнее, что Бориса следует спасти, что он будет спасен через Нину и Катерину Филипповну и удостоится в их среде просветления и просвещения…
Когда Борис, после разговора с Ниной, прошел к нему в мезонин и объявил ему о своем решении ехать с ним к Татариновой, князь Еспер даже позеленел весь от злости и несколько мгновений не мог собраться с силами и произнести слово.
— Я, кажется, поразил и испугал вас? — сказал Борис. — Мне очень тяжело это видеть, князь. Я очень благодарен Нине Александровне и госпоже Татариновой за оказанное мне доверие и, поверьте, я буду его достоин. Вам нечего меня бояться. Я не могу ручаться, что присоединюсь к вашим убеждениями, — это я сказал и Нине Александровне; но, во всяком случае, что бы ни случилось — я не выдам вашей тайны. Я ничего не отрицаю; я ищу истину, не знаю — где найти ее… Может быть я найду ее у вас. Дай Бог, чтобы это было так!.. Вам, право, нечего меня бояться…
И он, ласково улыбаясь своей хорошей, молодой улыбкой, крепко сжал князю руку.
Но тот сделал гримасу, замигал глазами и даже не ответил на его пожатие.
— Мне нечего бояться, Борис Сергеевич, — сказал он, — мы не преступники, мы не делаем ничего противозаконного и дурного. А если они желают — я к вашим услугам… Я буду ждать вас завтра, и мы вместе поедем…
Так они и сделали. Катерина Филипповна, Пилецкий и некоторые из членов союза произвели на Бориса очень хорошее впечатление, что Нина тотчас же и заметила. У нее даже все лицо засветилось от радости. Но хорошее впечатление не было продолжительным. Когда все собрались в белом зале, облаченные в саваны, Борису стало неловко. Как масон он ничего не имел против обрядности, против известных приемов и потому не мог объяснить своего чувства, но оно усиливалось с каждой минутой. Он пристально наблюдал за всеми- все лица выражали благоговение, все были серьезны, сосредоточены…
Были прочитаны молитвы, Евангелие, сказана была одним из братьев хорошая проповедь. Затем началось довольно нестройное пение духовных стихов — и вдруг Катерина Филипповна закружилась и запророчествовала. Вслед за нею закружились и другие. Вся зала наполнилась вертящимися фигурами, экстатическое настроение стало охватывать мало-помалу всех присутствовавших. Но Борис ему не поддавался. А когда закружилась Нина — негодование и жалость наполнили его сердце.
Она, высшее, особенное существо, каким он до сих пор, в глубине души своей, продолжал считать ее, — она вдруг показалась ему почти смешною. Ему стало за нее стыдно. Он был в положении трезвого человека, окруженного пьяными, и для того, чтобы избавиться от впечатления такого человека, для того, чтобы подавить в себе омерзение, жалость и смех, ему оставалось одно — самому опьянеть. Он попробовал это сделать. Он стал кружиться. Но он не был подготовлен к этому кружению предварительным экстазом. Он не мог забыться, а потому у него закружилась только голова — и ничего больше. Он остановился, шатаясь, подошел к стулу и сел. Но голова кружилась до тошноты, и эти вертящиеся белые фигуры только усиливали головокружение. Он закрыл глаза и просидел так несколько мгновений. Голова все кружилась и тошнило. Кругом поднялись теперь тихие стоны, глубокие вздохи, произносились то там, то здесь непонятные, отрывистые слова.
Борис открыл глаза. Он заметил, что в большой комнате почти совсем темно: кто-то затушил канделябры, оставалась горящей лишь одна свеча. Многие из кружившихся уже попадали на пол и извивались в судорогах, метались, делали резкие движения, поднимались на ноги и опять падали в полубеспамятстве, обхватывая друг друга руками и катаясь по полу.
Все это производило отвратительное, отталкивающее впечатление. Борис искал глазами Нину. И вот он ее заметил. Она тоже лежит на полу, запрокинув голову, разметав руки. Он бросился к ней, склонился над нею. Лицо ее бледно, совсем без кровинки, на лбу выступили крупные капли, глаза закрыты, на губах пена…
Не помня себя, Борис обхватил ее стан, приподнял ей голову и начал поднимать ее с полу. Она полуоткрыла глаза, шептала что-то, сама сделала слабое усилие подняться, но сейчас же ее руки опять опустились, голова склонилась на плечо. Она находилась в полном изнеможении, не могла прийти в себя. Но Борису все же удалось поставить ее на ноги. Он огляделся, ища поблизости стул, и тут заметил лежащего тут же, у самых ног своих, князя Еспера. Но глаза князя не были закрыты, а по обыкновению бегали по сторонам. Он лежал смирно, свернувшись, и вдруг вскочил на ноги.
— Она упадет, дайте я помогу вам, — сказал он. — Поднимите ее, вынесемте отсюда, ее надо уложить, чтобы она успокоилась…
Несмотря на все свое волнение и растерянность, Борис все же не мог не заметить, что князь Еспер совсем не находится в экстазе и даже очень благоразумно рассуждает. Он согласился с ним, что лучше вынести Нину из залы. Они бережно ее подняли и снесли в маленькую комнату, выходившую в коридор, в которой, как и всегда, горела лампочка под абажуром.
— Вот сюда… сюда… на кровать! — говорил суетливо князь.
Они уложили Нину. Борис заметил на столике графин с водой, помочил платок, приложил его ко лбу Нины. Она скоро очнулась; но еще долго вздрагивала, тяжело дышала и молча сидела на кровати, в своем белом саване, время от времени поднимая на Бориса утомленные, как будто померкшие глаза. Борис молчал. Он был возмущен до глубины души, он был исполнен негодования. «Мы вовремя встретились, — думал он. — Скорей, скорей ее вырвать отсюда, от этих безумных людей, а то она погибнет, она умрет… Боже мой, до чего доходят люди!..» Он забыл совсем о присутствии князя Еспера и тут только заметил его рядом с собою.
— Что же это за безумие, князь? — сказал он. — Что это за варварство? Разве можно допускать ее до такого состояния? Ведь она с ума сойдет, умрет…
— Напрасно вы так думаете, — тихо отвечал князь Еспер. — Отчего же Катерина Филипповна, подвергаясь очень часто и давно, многие годы, этому вдохновенному состоянию, не сходит с ума и не умирает? Напротив, она стала теперь гораздо здоровее, чем была лет десять тому назад… Отчего мы все не сходим с ума и не умираем?
Борис сверкнул глазами.
— Я говорю не о вас, — едва сдерживая бешенство, произнес он. — Я не знаю, кому это может быть полезно… Вот вы спокойны — так и делайте что хотите, но для нее все это не может быть полезно. Посмотрите… видите… Что же это такое?!.
Князь Еспер ничего не отвечал. Он выскочил из комнатки, вернулся в залу и, пробираясь между лежащими и корчащимися братьями и сестрами, отыскал Катерину Филипповну. Она сидела у стены на стуле, с опущенной головой, со скрещенными на груди руками. Она только что пришла в себя.
— Нечего сказать, хорошо вы поступили! — шепнул он ей, весь трясясь от злости. — Вы предали себя и всех нас в руки врага.
— Что такое? Что вы говорите? — стараясь отогнать набегавший на ее мысли туман и понять его слова, спросила она.
— Я говорю — вы нас предали, допустили неверующего человека.
— Он поверит…
— Так пойдите, поговорите с ним, тогда и увидите, как он поверит!.. Идите… идите!..
Он схватил ее за руку и почти силой притащил в маленькую комнату.
— Этот человек находит, что мы губим сестру Нину, что ей вредно состояние благодати! — громко сказал он.
Татаринова теперь уже совсем владела собой.
— Вы так думаете? — произнесла она, обращаясь к Борису.
— Как же иначе я могу думать! — мрачно ответил он.
— Постараюсь изменить ваше мнение и доказать вам, что вы ошибаетесь. Пожалуйста, приезжайте ко мне завтра днем или вечером, — когда хотите, — я всегда дома… Я на свободе поговорю с вами, мне многое нужно сказать и объяснить вам… Обещаете ли вы мне приехать?
— Хорошо, я завтра у вас буду! А теперь, ради Бога, успокойте как-нибудь Нину Александровну… Не пускайте ее туда… не пускайте!
Затем он обратился к князю Есперу:
— Вы были так добры, что привезли меня сюда, и я очень попрошу вас и увезти меня отсюда, мне очень бы хотелось поговорить с вами.
— Я к вашим услугам, — сухо ответил князь Еспер.
Борис сделал глубокий поклон Татариновой, пожал холодную руку Нины. Потом они с князем прошли в комнату, где братья обыкновенно надевали на себя саваны, и сняли с себя эту «ангельскую» одежду. Когда дверцы дожидавшейся их кареты захлопнулись и лошади тронулись, Борис начал раздраженным, взволнованным голосом:
— Я был ко многому приготовлен, но ничего такого не ожидал! И я теперь понимаю, отчего вам так неприятно было везти меня на собрание…
— Может быть, вы хотите этим сказать, — прошипел князь Еспер, — что мы уже не можем рассчитывать на вашу скромность?
Он сам был в таком бешенстве, что позабыл всю свою осторожность. Он уже не трусил, как по обыкновению, или, вернее, трусил до такой степени, что уже не рассуждал и казался храбрым.
— Нет, я этого не хочу сказать, — стискивая зубы, ответил Борис, — вы можете рассчитывать на мою скромность. Но я потребую от вас одного условия.
— А, вы ставите условия!.. Это надо было оговорить заранее…
— Вы меня ничем не смутите, князь, я знаю, что говорю и что делаю, я отвечаю перед своей совестью. Да, я ставлю одно условие: я не желаю вмешиваться в ваши дела, в дела госпожи Татариновой, всех, кого я сегодня у нее видел. Нина Александровна не должна больше принадлежать к вашему союзу, вы должны ее освободить, хотя бы в виду того, что она слишком слаба здоровьем, а рисковать жизнью человека никто не имеет права…
— Она не ребенок, она совершеннолетняя, ни от кого не зависит и сама отвечать может за себя! — прошептал князь Еспер. — И я, право, не понимаю, по какому праву вы вмешиваетесь в ее жизнь… Вы ей не брат, не родственник… Этим вмешательством вы компрометируете Нину Александровну…
Он с замиранием сердца ждал, что ответит ему Борис на это.
«Неужели у них уже решено?.. Неужели она решилась… Нет, не может быть этого!..»
— Я знаю Нину Александровну давно, — сказал Борис, — но если бы я только сегодня ее в первый раз увидел и увидел то состояние, в каком мы ее оставили, я имел бы право говорить так, как я говорю.
И он повторил свое требование таким решительным тоном, что князя Еспера даже всего так и скрючило.
— Я вам советую все это сказать завтра Катерине Филипповне, все зависит от нее, а я тут ни при чем, — наконец выговорил он, а сам думал:
«Увертывается… но все же, кажется, еще ничего нет, а то бы он не так ответил!..»
Борис еще не понимал ясно, при чем тут князь Еспер, но чувствовал что-то противное, и этот человек вдруг стал ему отвратителен…
На следующий день Катерина Филипповна должна была убедиться, что ее откровения ее обманули. Борис имел с нею очень неприятное для нее объяснение. Она ни в чем не могла убедить его. Но зато он красноречиво и доказательно убедил ее в необходимости оставить Нину в покое и не приглашать ее больше на собрания. Катерина Филипповна скоро отказалась от борьбы с ним и, оставаясь такой же любезной, кроткой и тихой, продолжая ласкать его своим мягким взором, сказала ему:
— Да, пожалуй, вы и правы, она очень болезненна, и сильные ощущения могут быть для нее вредны… Я обещаю вам, что пока она находится в таком состоянии, я не буду звать ее на собрания…
В конце концов Борис уехал, так же как и княгиня, довольный Татариновой.
Теперь ему предстояло объясниться с Ниной. Подкараулив удобную минуту, он со всею горячностью, на какую был способен, стал доказывать ей, что она себя губит, что она далека от истины, что в этих диких и странных собраниях она не только не найдет Христа, но Его потеряет и, кроме того, умрет. Он ждал борьбы, спора; а между тем Нина без возражений, внимательно его слушала. Его слова согласовались с тем, что так часто нашептывал ей тайный голос, во что она не раз сама почти готова была верить. Но вдруг с нею произошло что-то странное: она уже совсем готова была сказать Борису, что он прав, она поняла, что нашла в его словах для себя крепкую опору, что теперь может вырваться из-под чар, которые ее до сих пор окутывали, — а между тем будто против воли, будто под давлением какой-то непреодолимой силы, в нее внедрившейся, упорно стала защищать свои заблуждения. Она была, действительно, больна, раздражение ее нервов было доведено до высшей степени…
Борис начал опять настаивать на том, чтобы она приняла его предложение. Он не сомневался в согласии своих родителей; чтобы получить это согласие ему стоило только съездить в Горбатовское, куда он все равно и так собирался, потому что они не приехали в Петербург и звали его. Нина упрямо отказывалась, доводила его до отчаяния.
— Не могу, не могу!.. Это невозможно! — твердила она, почти бессмысленно на него глядя.
И ничего больше он не мог от нее добиться. Он уехал, наконец поняв, что нужно обождать, дать ей возможность успокоиться.
А через несколько дней он узнал, что она больна, что у нее горячка…
Для него началось мучительное время. Он должен был соблюдать приличия, скрывать от всех свое горе. Он по целым дням оставался без известий, не находил себе места. Наконец он не выдержал, отправился к княгине и имел с нею объяснение. Он признался ей во всем, но не открыл ей тайну Нины, не открыл ей того, что видел на сборище у Татариновой. Он говорил ей только о дурных влияниях — и княгиня поняла его. Она, конечно, оказалась на его стороне, благодарила за откровенность, успокоила его относительно здоровья Нины.
— Доктора уверяют, что нет опасности, ей лучше, наступил кризис, она начинает выздоравливать…
— Знаете что, — сказала княгиня, — раньше как через две недели она все же не может выйти из комнаты, а ведь у нас уже весна. К тому времени станет совсем тепло. Я увезу ее в свою подмосковную — так и доктора советуют. Я хотела ехать позднее, но все равно. Мы приедем в самое лучшее время. Вы, делать нечего, потерпите, а я обещаю вам, что она за лето успокоится… я уж постараюсь об этом…
И она так ему улыбнулась своей широкой улыбкой, что он в невольном порыве поцеловал ее руку.
— Я успокою ее, — повторяла княгиня. — Она откажется от своих бредней. Если хотите, я буду даже вашим корреспондентом. В конце августа мы вернемся сюда и тогда — милости просим! Бог даст, все обойдется, все хорошо устроится. Эта болезнь спасет ее.
Так она решила, так оно и сделалось. Как ни тяжело было Борису, но он видел, что приходится потерпеть. После разговора с княгиней он убедился, что вверял свое счастье в добрые руки.
Он виделся с Ниной перед ее отъездом. Она была еще очень слаба, но выражение ее лица ему понравилось. В нем было меньше прежней загадочности, странности. Несмотря на слабость и бледность, Нина казалась все же более здоровой, чем была до болезни. Они говорили немного, Борис ни на чем не настаивал и ничего не требовал.
Когда он прощался, Нина долго не выпускала из своей еще более похудевшей руки его руку и заплакала.
— До свиданья! — сказала она. — Вы будете мне писать?
— Конечно, буду…
II. В РОДНОМ ГНЕЗДЕ
Владимир Горбатов очень изумлялся, глядя на своего брата. Он не раз начинал с ним разговор о том, что же Борис намерен, наконец, делать, скоро ли примется за службу, скоро ли подумает об устройстве своей карьеры. Но Борис каждый раз отвечал ему, как и в первый день своего приезда, что дорожит больше всего свободой, что хочет сначала ко всему приглядеться.
— Как же я буду служить, когда еще не решил вопроса — на каком поприще, в каком деле могу принести пользу?
Владимир усмехнулся, и в его всегда полузакрытых глазах выражалось даже некоторое презрение.
— Да ты, кажется, и вправду не приготовлен к жизни! — говорил он. — У тебя все те же студенческие взгляды… С какой стати заранее толковать о пользе?.. Я думаю, что пользу всегда и везде можно принести… Необходимо сделать карьеру, забрать в руки силу. Чем больше у тебя будет силы в руках, тем и больше пользы принесешь…
— С этим я согласен. Но все же, не выяснив того, что необходимо выяснить, я считаю недобросовестным браться за какое бы то ни было дело.
— Знаешь что, мой друг, — перебил его Владимир, — ты бы хоть женился. Конечно, это надо хорошо обдумать… Хочешь, я тебе назову теперешних наших выгодных и хороших невест?..
— Выгодных — в каком смысле?
— В смысле положения, связей, наконец, и состояния.
— Не трудись и называть! Мои понятия о выгодности невесты совсем не сходятся с твоими.
— Прекрасно, я спорить с тобой не стану, наши споры, ведь это уж известное дело, ни к чему не приведут… Но позволь тебе сделать еще одно замечание.
— Пожалуйста…
— Ты вот говоришь, что присматриваешься. К чему же ты присматриваешься? Ты совсем не бываешь в обществе, иногда по целым дням не выходишь из своих комнат, читаешь, мечтаешь. Кто тебя знает что делаешь… а если и выезжаешь куда, так ведь я даже не знаю, в каком кругу ты вращаешься, — во всяком случае, не в нашем… Да, pardon, ошибся: ты частенько бываешь у «генеральши» или, вернее, у княгини Маратовой. Ты знаешь, я уже несколько раз слышал о том, что ты ухаживаешь за этой ее воспитанницей, mademoiselle Nina?
Борис вспыхнул. Но Владимир сделал вид, что не замечает впечатления, произведенного его словами, хотя оно от него не ускользнуло.
— Очень красивая девушка, — продолжал он, — только не в моем вкусе. Она так бледна… такие глаза странные… Знаешь, иногда она совсем точно выходец из гроба! Это не я, это Катрин так про нее сказала. Катрин хоть и не умна, но у нее бывают иногда меткие определения… Впрочем, о вкусах не спорят. Я даже понимаю, что она именно в твоем вкусе, да и на меня, пожалуй, в известном настроении, может произвести впечатление… такие минуты бывают… Но, Борис, прости мне мою откровенность, я, собственно говоря, все же не понимаю, что ты с нею делаешь? Зачем она тебе? С нею можно потанцевать, в мрачном настроении духа можно и поговорить с нею, так как она всегда мрачна… Но ухаживать за нею — с какой целью?.. Соблазнять ты ее, наверное, не захочешь.
— Владимир! — крикнул Борис.
— Чего же ты сердишься, ведь я и говорю: не захочешь…
— Ты мог бы вообще не касаться этого.
— Но мне кажется, — я имею некоторое право интересоваться тобою?! Думаю, что имею право и быть с тобою откровенным, что ты мне этого не запретишь…
— Я ничего не запрещаю!
— А в таком случае я опять повторю: с какой же целью это ухаживание? Ведь жениться на ней ты не можешь…
— Владимир, я с тобою не заговаривал о племяннице княгине Маратовой. Я не могу отвечать на всякий вздор, который болтают в обществе; но вообще мне было бы интересно узнать — на каком это основании ты находишь, что на ней нельзя жениться? Катрин может назвать ее привидением, но ведь все-таки она живая девушка — почему же на ней нельзя жениться?
— Вообще жениться на ней очень можно, — сказал Владимир. — Говорят, княгиня даст за нею даже хорошее приданое и чуть ли не сделает ее своей единственной наследницей… Так что у этой барышни найдется немало претендентов… Но я говорю именно про тебя одного, или вообще про людей нашего круга… подобный mésalliance был бы нелепостью.
Вся кровь кинулась в голову Бориса. И это говорит его брат, и говорит именно про нее. Чего же ожидать от других в таком случае! Борис был уверен, что его отец и мать взглянут не так. Но уже обрисовалась тягостная картина будущих семейных отношений, уже ясно стало ему, что семья распадется совершенно, что между его семьею и семьею брата в будущем останется очень мало общего. Негодование охватило Бориса, но он, конечно, воздержался. Он не хотел ссоры и не должен был выдавать себя до времени. Он только сказал голосом, которому постарался придать самый спокойный тон:
— Перестанем говорить об этом, мы и тут не поймем друг друга. Я под неравным браком подразумеваю совсем не то — старый муж и молодая жена и наоборот, муж и жена ни в чем не сходящиеся друг с другом — вот это, по-моему, действительно, mésalliance!..
Братья расстались с тем тяжелым чувством, которое оба они испытывали почти после каждого объяснения друг с другом. Владимир долго еще презрительно улыбался. Брат падал в его глазах с каждым днем более и более. И хотя он почти не сознавал этого, но все же, в сущности, он был даже рад такому падению. Он не мог победить в себе чувства зависти; но оно успокаивалось, когда он помышлял о том, что такому человеку, как Борис, не стоит завидовать, что, несмотря на все свое образование, он никогда ничего не достигнет, будет делать только глупости, будет вредить себе, как уже и теперь вредит.
«Три месяца в Петербурге — и ничего не устроил! Не бывает именно у нужных людей, не съездил даже представиться великому князю — это Бог знает что такое!.. Но что же у него в самом деле с этим привидением?! Неужели он думает на ней жениться?.. Нет, это было бы чересчур уж нелепо… Но ведь от него всего ожидать можно, и именно в таком духе! Однако этого нельзя допустить, это унизительно было бы для семьи, могло бы мне повредить…»
Таковы были его мысли. Встретив Катрин, он сказал ей:
— Можем поздравить друг друга с новой родственницей — Борис женится.
Катрин внезапно оживилась.
— Как? На ком? В самом деле? Да ведь он ни у кого не бывает, ото всех бегает!.. Разве за границей? На ком же?
— На воспитаннице княгини Маратовой!
— Что тебе за охота говорить такой вздор! А я думала — ты серьезно…
— Я и так очень серьезно, Катрин. Видишь ли, он мне ни в чем не признался, но я имею основание думать, что к тому клонится.
— Послушай, если это не шутка, так ведь надо серьезно и хорошенько подумать… Он с ума сошел! Этого нельзя же допустить, ведь ты понимаешь!.. Это было бы позорно для всех нас…
— Поэтому-то я и сказал тебе, я тебя предупреждаю…
— Пусть она только покажется ко мне! Я ей и так уже в последний раз дала понять… Но ведь эти люди ничего не понимают! Теперь же церемониться больше не стану, нет! Пусть покажется, уверяю — в следующий раз уже не вернется! Нет, скажите пожалуйста, до чего доходят!
— Только ты ему ничего не говори! — заметил Владимир.
— Не беспокойся.
Но Катрин не удалось оскорбить Нину. Нина заболела, а потом уехала с теткой в деревню. Таким образом, и Владимир, и Катрин мало-помалу о ней забыли… Лето все они провели в Горбатовском…
По приезде в родное Горбатовское Борис почувствовал себя совсем обновленным. Стояли чудесные весенние дни. Сад благоухал первыми цветами. В огромном парке, одевшимся яркой листвою, усыпанном белым цветом черемухи и еще не распустившимися, темными, но уже пахучими кистями сирени, немолчно перекликались птицы… Огромный, с детства знакомый во всех мельчайших подробностях дом казался таким веселым. Свидание с отцом и с матерью было самое трогательное. Борис радостно в них всматривался и не находил перемены.
Отец был еще очень бодр, несмотря на свои пятьдесят восемь лет, несмотря на совсем седые волосы и мелкие морщины, избороздившие тонкую кожу его прекрасно очерченного лица. А у матери даже и седины почти не показывалось. Правда, она была слишком полна, но высокий рост и не покинувшая ее грация телодвижений скрадывали эту ее полноту. Она до сих пор еще напоминала прежнюю знаменитую красавицу. Глаза ее были так же ясны и чисты, как в молодости, и, улыбаясь доброй улыбкой, которая освещала все ее лицо, она показывала ряд белых, крепких зубов, вполне сохранившихся.
Борис даже находил, что она становится все лучше и лучше, все как-то яснее, чище и спокойнее. И это ее спокойствие передавалось почти всякому, кто к ней приближался, а на Бориса она действовало совсем особенным образом, и теперь более, чем когда-либо. Он испытывал счастье человека, который может гордиться своей матерью. Он очень был привязан к отцу, он уважал его как доброго и честного человека, хорошо понимал его уже потому, что сам во многом походил на него. Но матерью своей он положительно гордился. Он боготворил ее. Он признавал ее чуть ли не соединением всех человеческих совершенств.
Как-то ему приснилось — у него бывали иногда яркие, живые сны, — приснилось ему, будто он убедился, что его мать поступила дурно, что он в ней ошибся, что она нехорошая женщина. Он проснулся весь облитый холодным потом, дрожа в лихорадке, с тоскою, которая разрывала его сердце. Он чуть не закричал от восторга, убедившись, что это был только сон. Но ощущение ужаса и тоски, испытанное им, было до такой степени сильно, что он несколько дней не мог от него отделаться и им томился. Если бы этот сон повторился наяву, он бы, наверное, сошел с ума.
В первые дни по своем приезде он почти не отходил от матери, следя за ее неутомимой разнообразной деятельностью. Она продолжала, как и всегда, сама всем руководить в огромном хозяйстве. Она была поистине благодетельницей тысяч крестьянских душ, которые принадлежали ей и ее мужу. Она была истинной царицей своего маленького государства, но царицей доступной всем и каждому, не возбуждавшей к себе никакого страха. К ней безбоязненно шли все со своими нуждами, болезнями и горем, давно твердо зная, что барыня Татьяна Владимировна во все войдет, каждому поможет.
О барине также никто не обмолвился дурным словом, все говорили: «Вестимо, добрый, хороший барин мухи не обидит!.. Что про то говорить — важный барин как есть!» Но все же, встречаясь с Сергеем Борисовичем, его как-то робели, переминались, умолкали. Ему нельзя было признаваться в беде, нужде и болезни стыдно было его беспокоить, совестно было обращать его барское внимание на свою бедноту мужицкую… Вот он и улыбается, и ласково кивает головой, и говорит таким добрым голосом… Но он все же такой далекий так высоко стоит — одно слово: «Он барин, господин наш прирожденный, а мы — его рабы!»
И не знали эти рабы, что их господин прирожденный в свои молодые годы горячо толковал о том, что рабство позорно, что рабов освободить надо, что они такие же люди… Не знали они этого, но каждый инстинктивно чувствовал, что добрый господин не понимает их и понять не может. Да, он их не понимал, они были для него чужими. Он всю жизнь искренно желал им добра, никогда не позволял себе с ними никакой жестокости, и теперь, как в прежние годы, готов был признать несправедливость рабства. Но войти в их жизнь, не умом, а сердцем, не умел, этого было не дано ему, не так его воспитал ученый француз-энциклопедист…
Сергей Борисович и пробовал прежде сблизиться со своими рабами, даже много мечтал о таком сближении, даже строил разные планы. Но все это как-то забывалось понемногу и уже давно не вспоминалось. Из года в год он жил однообразной жизнью, жил почти в уединении, наполнив свой внутренний мир женою, детьми да чтением, которое уносило его далеко и высоко. Жил он также иногда воспоминаниями своей разнообразно проведенной юности, о которой в тихие вечера составлял не лишенные интереса записки. Люди, когда-то знавшие его блестящим царедворцем, царедворцем не по инстинктам, а по положению, теперь его едва узнавали. Он совсем отстал от света, и когда появлялся изредка в высшем петербургском обществе, то поражал своими странностями, своей старомодностью. Бодрый и, по-видимому, здоровый вследствие правильной деревенской жизни и душевного спокойствия, он был чересчур стар в своих манерах. От него так и дышало восемнадцатым веком. Даже и одевался он по моде последних лет Екатерининского царствования. Он упорно продолжал носить красные каблуки, так что над ним подсмеивались. Подсмеивались, но добродушно. Он на всех производил хорошее впечатление. Владимир и Катрин не раз пытались заставить его сшить себе платье по моде и снять красные каблуки. Но он, вовсе не отличавшейся упрямством и легко поддававшийся настояниям близких ему людей, в этом вопросе показывал непобедимое упорство.
— Я знаю, что я человек не вашего века, — говорили он. — Я случайно пережил прошлое столетие, но я не могу изменить ему.
Он не любил теперешнюю жизнь, и все новое было ему не по вкусу. Ему казалось, что человечество, конечно, движется, но не вперед, а куда-то в сторону, и ничего путного из такого движения не может выйти. Насмотревшись на новых людей, наслушавшись всяких толков и споров, он скоро начинал чувствовать, что с него довольно, что этот чуждый ему век, в котором он случайно очутился, чересчур уже утомил его. И он спешил скорее, до предположенного срока, в Горбатовское. Очутившись в своем большом, спокойном и светлом кабинете, где со стен глядели на него прекрасные изображения Екатерины, Павла, Людовика XIV, Марии-Антуанетты и многих знаменитостей минувшего времени, он чувствовал себя успокоенным, возвращенным в тихое пристанище. Он погружался в любимый мир, заводил беседу со старыми друзьями-философами, которые приветливо шептали ему из-под красивых старинных переплетов, с полок его обширной библиотеки.
— Чудак отец! — с снисходительной улыбкой говорил о нем Владимир и Катрин.
Но Татьяна Владимировна и Борис не называли его чудаком и не улыбались снисходительно, когда о нем говорили. Они любили его именно таким, каким он был, и понимали его, и им было бы очень странно и даже неприятно, если бы он вдруг появился перед ними в новомодном платье, без красных каблуков и горячо стал бы спорить о совместных вопросах, интересоваться злобою дня…
После первой радости и приветствий, вдоволь насмотревшись на любимого сына, Сергей Борисович расспросил его подробно о Западной Европе и, выслушав его рассказ, заметил;
— Ну да, так и есть!.. Все в сторону, в сторону… одни бесплодные метания… а истинного прогресса нет!.. В наше время было лучше…
— Батюшка, да ведь то было ужасное время — революция?!
— Да! — горячо перебил Сергей Борисович. — Ужасное время… революция… Я все это испытал, был среди всего этого. Ужасное время! Но дело в том, что жизнь-то была тогда настоящая, а теперь — жизни нет! Что же, мой друг, подожди — и опять будет революция… да уж не такая… Мелко как-то все стало… измельчали люди, нет прежней силы и прежних умов, нет талантов…
Борис знал, что спорить и доказывать противное бесполезно. Ему не хотелось огорчать отца, раздражать его. Он был так счастлив, так рад родному воздуху, его окружавшему, — чего же тут было спорить!..
Одно только, что омрачало его радость в родном гнезде, — это отсутствие старого друга-карлика, без которого даже трудно было представить себе этот дом. А между тем его не было. В первый же день Борис сходил к нему на могилу и горячо помолился, а потом, вернувшись в дом, вошел в его комнатку. Комнатка Моисея Степаныча, с самого дня его смерти, оставалась в таком же виде, как и при нем. Дверь стояла на запоре; но каждое утро комнатку убирали и нередко в нее заглядывали то Сергей Борисович, то Татьяна Владимировна.
Борис вошел и долго стоял, понурив голову. Вот маленькая кроватка карлика, на которой он и умер, как рассказывал Степан, умер, сожалея, что нет возле него Бориса, и посылая ему свое благословение. Вот маленький детский диванчик, кресельца, столик, образа в углу с неугасимой лампадой, по стенам старые, во многих местах прорванные, все засиженные мухами лубочные картинки, изображающие мучения грешников в аду, — любимые картинки карлика, с которыми он не расставался всю жизнь… На маленькой этажерке расставлены книги, старое французское евангелие, которое когда-то в Париже тщательно изучал и переводил карлик, уверенный, что вот-вот нападет он на искажения и уличит «этих нехристей» в ереси. Тут же и тетрадки Моисея Степаныча, исписанные его твердым, старинным почерком, с удивительными хвостиками, вывертами и завитками букв… Что в этих тетрадках? Борис раскрыл одну: «Ныне, февраля в пятый день, Борис пошел. Прошел через всю комнату от Татьяны Владимировны до меня, ни за что не держась, и, только подойдя уже ко мне, споткнулся. Дите, по милости Божьей, крепкое и здоровое, с лица будет похож на Сергея Борисыча, но есть что-то и от Татьяны Владимировны. Дай ему Господь возрасти на утешение родительское…»
Борис читал дальше. Карлик записал рождение Владимира, подробно его крестины. Отмечал все события домашней жизни. А то вдруг переносился в прошедшее и записывал случаи и анекдоты стародавней жизни. Потом прерывал их и опять возвращался к домашним событиям. И опять Борис видел свое имя на каждой странице и убеждался, с какой любовью, с какой заботливостью следил за ним, за своим любимцем, старый карлик. Борис жадно читал и, сам не замечая того, кропил толстые, синие листки тетради невольными, то и дело капавшими слезами.
Вдруг дверь скрипнула. Борис оглянулся. Ему показалось, что вот сейчас войдет в своем бархатном кафтанчике, в напудренном парике карлик. Ему казалось это так естественно. Он бы не изумился, не испугался, а как бы обрадовался!..
Но вошел не карлик. Влетела, как птичка, легкая и грациозная, сияющая свежестью и парижским туалетом Катрин.
— Maman тебя ищет, а ты вот где, я так и знала!.. Фу! Да никак он плачет! — защебетала она. — Покажись, покажись, не отвертывайся… Ну да, так и есть. Mon cher, c'est même ridicule!.. Ты как есть институтка-смолянка!..
Бориса будто облили холодной водой. Его грусть, мешавшаяся с тихой отрадой, которой он отдавался в этой милой комнате за чтением этой старой синей тетради, была сразу как-то опошлена, опозорена. Появление здесь этой хорошенькой женщины показалось ему святотатством. Он с невольным презрением взглянул на нее, осторожно положил тетради на место и, не говоря ни слова, пропустив Катрин вперед, вышел, тщательно заперев дверь на ключ.
III. МАТЬ
Есть очень даже хорошие, разумные и справедливые женщины, и в особенности любящие матери, которые, тем не менее, никак не могут беспристрастно отнестись к жене сына. Когда приходит время, они сами помышляют о сыновней женитьбе, сами приискивают ему невесту, убеждают его остановить свой выбор на такой-то девушке, радостно празднуют свадьбу, искренно и сердечно принимают участие в устройстве молодой семьи. Но проходит первая горячка — и кончено? Является тревога, сомнение…
«Да достойна ли она его? Будет ли он с нею счастлив? Такая ли жена ему нужна?! Если сын выкажет как-нибудь случайно хоть тень неудовольствия? Ну да, я так и знала — он несчастлив». Если же он совсем доволен женою, живет с нею дружно и счастливо, тогда дело усложняется еще больше. Нет причин выказывать свое неудовольствие, нельзя ни в чем обвинять!
«Он ослеплен, он слишком подчинился ее влиянию!» — Но эти фразы недостаточны. А между тем недовольство не проходит, оно упорно продолжает копошиться в сердце, не сдается ни перед какими средствами. Причина такого недовольства — материнская любовь, материнская ревность. И невозможность бороться с этим чувством лежит в женской природе.
Отец, напротив, в большинстве случаев, склонен любить жену сына и, когда у нее родится ребенок, продолжатель рода, эта любовь еще усиливается. Бабушка тоже радуется рождению внука, очень часто начинает боготворить его, переносить на него всю свою нежность, даже в ущерб любви к сыну, но никогда ей и в голову не придет, что она обязана этим дорогим маленьким существом невестке; ей даже кажется, что невестка преувеличивает свои права на него, что эти права почти незаконны, что права бабушки гораздо важнее прав матери.
Так бывает очень часто, так случилось и с Сергеем Борисовичем, который горячо любил Катрин, полюбил тем горячее, чем у него самого никогда не было дочери. Но Татьяна Владимировна относилась к жене сына вовсе не так, как многие матери. Не она ему выбрала Катрин — она ее почти совсем не знала до того времени. Она находила даже, что Владимиру еще рано жениться; она так и сказала: «Не рано ли? Подождал бы еще, попригляделся бы к ней хорошенько — она слишком молода, почти ребенок…»
Но он ответил, стараясь придать словам своим, по возможности, ласковый тон: «Нет, maman, право, мне нечего ждать и разглядывать — я все очень хорошо обдумал, и, надеюсь, вы ничего не имеете против моего выбора?»
«Что же я могу иметь кроме того, о чем я уже сказала? Если ты уверен, что она составит твое счастье, если ты, как говоришь, все обдумал… что же! Я очень рада, мой друг, и надеюсь полюбить ее, как дочь родную…»
Татьяна Владимировна никогда не говорила наобум, не обещала того, чего не надеялась исполнить. Она приняла Катрин искренно и радушно и, так как та в первое время была очень мила, то полюбила ее от души. Она даже не смущалась ее легкомыслием, приписывая его ее молодости.
Рождение первого внука она приветствовала всем сердцем, почувствовала, что этот ребенок с первого дня своего появления на свет ей очень дорог, дорог, как были дороги в былые годы Борис и Владимир, когда она с сердечным замиранием прислушивалась к их первому младенческому лепету. Но она не заявляла никаких своих исключительных прав на этого дорогого ей ребенка, не позволяла себе вмешиваться в распоряжения Катрин относительно него. Затем они разлучались на несколько месяцев.
Татьяна Владимировна писала Катрин добрые, искренние письма, на которые та отвечала ей довольно аккуратно вылощенными французскими посланиями, где было много милых, хорошеньких фраз, где передавались петербургские сплетни. Эти письма неизменно начинались с «chère maman» и оканчивались «votre fille dévouée». Они были похожи одно на другое, как две капли воды.
Но уже прошлым летом, во время своего пребывания в Горбатовском, Катрин, как только могла, повредила себе в глазах Татьяны Владимировны. Теперь Катрин чувствовала себя уже окончательно дома; она не намерена была больше стесняться и следить за собою. Она обращала очень мало внимания на стариков, убедившись, что старики просты, что за ними не стоит ухаживать, потому что и без ухаживания они ни в чем стеснять не в состоянии.
Катрин не раз высказывалась в присутствии Татьяны Владимировны и ужасала ее своими взглядами, своим отношением к жизни, легкомыслием, мелочностью и бессердечием. Татьяна Владимировна должна была убедиться, что ошиблась в этом прелестном ребенке, в этой «птичке», что «птичка» совсем испорчена. «Испорченная или уж у нее натура такая?» — задавала себе тревожный вопрос Татьяна Владимировна. Она стала наблюдать внимательно, неотступно — и каждый день утверждал ее в том печальном решении, что испорченность, происходящая от дурного воспитания, — сама собой, да и «натура такая».
Раз полюбив Катрин, признав ее своей дочерью, членом своей семьи, Татьяна Владимировна с трудом освобождалась от этого чувства, но все же освобождалась. Теперь присутствие этой хорошенькой женщины становилось для нее иногда тягостным, она возмущала все ее природные инстинкты. «Это несчастье! — решила она. — Владимир сделал дурной выбор… но понимает ли он это? Страдает ли он от этого?!» И ей пришлось себе ответить, что если и понимает, то вряд ли страдает сильно. Он будто многого не замечает или нарочно не обращает внимания. Он весел, доволен, в лучшем настроении духа, чем когда-либо. Ему как будто нет даже дела до жены…
Материнское сердце начинало мучительно сжиматься. Но ведь она была мать, она считала своего сына лучше, чем он был, всегда заставляла замолкать свой рассудок, когда этот ясный, здравый рассудок принуждал ее критически, беспристрастно относиться к сыну. И рассудок замолкал, и она чутко прислушивалась к своему сердцу, которое шептало: «Мой сын, мой Володя!» Задумывалась она, конечно, и относительно маленького, дорогого существа, которое с каждым днем становилось все милее и тянулось к ней своими пухленькими ручонками, и пронзительно повторяло беззубым ротиком: «Ба!..» «Что-то с ним будет при такой матери, какое воспитание она может дать ему?»
Но пока еще рано было думать о воспитании, а «питание» ребенка производилось правильным образом. Конечно, Катрин отказалась сама кормить его, да никто ей этого и не предлагал ввиду ее молодости. У ребенка была добрая, здоровая кормилица и целый штат нянюшек. И Татьяна Владимировна на этот счет успокаивалась. «А потом… да, быть может, она сама мне отдаст его, откажется… ведь она уже и теперь говорит, что не любит детей, не может выносить их крика. Он и теперь раздражает… и это мать!..» Татьяна Владимировна отказывалась понимать «птичку». Но ей стало крайне тяжело и даже инстинктивно противно видеть семейную жизнь сына и поэтому она всю зиму не приезжала в Петербург. А к весне в деревне оказалось много дел, решено было, что в Горбатовское все соберутся рано…
И вот они здесь. Первое время Татьяне Владимировне и некогда было отдаваться мрачным мыслям. Сердце ее было полно: Борис вернулся, прежний, неизменный, любимый Борис, такой же нежный, такой же все понимающий, отгадывающий каждую ее мысль, ловящий на лету эту мысль…
Он поймал ее взгляд, тревожный и печальный, устремленный на Катрин, — и все понял. Он даже заговорил с нею об этом.
— Maman, — сказал он, — мы, кажется, обманулись в Катрин…
— Да! — с глубоким вздохом ответила она. — Одно утешает — Владимир, по-видимому, доволен ею.
— Так разве это утешительно?
— Он не страдает — вот в чем утешение.
— Да, конечно…
— Но если я чем-нибудь себя утешаю, то единственно такою мыслью: мы слишком многого от нее ждали, слишком многого ждали, а потому теперь, может быть, чересчур уж к ней строги. Она еще лучше многих; ведь я знаю, видела, каковы теперешние молодые женщины!.. Да и не теперешние, и в мое время много таких было… Катрин легкомысленна, пуста, мне кажется, — прости меня Бог, если я ошибаюсь, — что у нее не много сердца… но я надеюсь, я уверена, что все же она неспособна осрамить мужа, не может опозорить честь нашего имени… А ты ведь знаешь, что происходит в обществе, в самых лучших семьях?
И она пристально-пристально взглянула в глаза Бориса. Перед ним она не скрывалась, для него в ней не было ничего тайного. Борис опустил глаза под ее взглядом. Она так и застыла.
«Боже мой, неужели он что-нибудь заметил в этом роде… там, в Петербурге?!»
Она хотела говорить и не могла, у нее вдруг пересохло во рту, язык не слушался. Наконец она прошептала:
— Борис, ты ничего не отвечаешь, говори, не томи, не пугай меня!.. Неужели ты что-нибудь заметил? Ты не смеешь скрывать от меня, я должна знать все, все… ведь ты знаешь, что я должна знать!.. Я не слаба, и неизвестность хуже всего… тогда против воли приходят такие скверные мысли. Я для этого с тобой и заговорила, чтобы ты или успокоил меня, чтобы я могла замолить свой грех перед Катрин, или чтобы я знала, что не согрешила. Ты не смеешь скрываться, я тебе запрещаю это… слышишь, запрещаю!..
— Maman, успокойтесь ради Бога! — бледнея, проговорил Борис и крепко пожал ее руки. — Так тревожиться еще рано и, Бог даст, не придется. Но есть вещи, которые мне не нравятся, очень не нравятся. Она так страшно легкомысленна, она ведь даже многого совсем не понимает, что делает. Я не имею права ни в чем обвинять ее, я только знаю, что в доме слишком часто бывает человек, которому не следовало бы бывать и который, во всяком случае, имеет на нее дурное влияние… Я уже не раз слышал от нее такие рассуждения, которые прямо повторяются с его слов.
— Кто это? Кто?
— Граф Щапский…
Татьяна Владимировна побледнела.
— Щапский! — повторила она. — Постой, я его видела… Да, ты прав, он может иметь дурное влияние… говорят, он иезуит?
— Да, иезуит! И, как уверяют, не знаю, насколько справедливо это, будто он уже обратил в католицизм нескольких женщин из коренных русских семей. Он хитрый, ловкий человек, всюду втирается, везде бывает, как видно, имеет большие связи, большие средства, но никто не знает, откуда все это. Вообще в нем что-то загадочное и нехорошее, но следить за ним трудно, да я и не умею следить… Брат с ним в большой дружбе.
— Давно ли?
— Не знаю.
— Я что-то не слыхала. Что же тут делать, Борис?
— Не знаю! Что же можно делать в таких обстоятельствах? Какое же влияние можно иметь на Катрин? Она не поддается ни моему, ни вашему влиянию. И мне даже кажется, если она что-нибудь заметит, то выйдет еще хуже. Она такая… нарочно может что-нибудь сделать из одной досады и злости…
Татьяна Владимировна сидела, грустно задумавшись. Борис продолжал:
— Одно разве: попробуйте поговорить с Владимиром; если на чьи слова он может еще обратить внимание — так только на ваши…
Татьяна Владимировна не стала откладывать и в тот же день, встретив в цветнике Владимира, взяла его под руку.
— Посмотри, как хорошо! — сказала она. — Какой вечер, погуляем немного…
— С удовольствием, милая maman, вы только обопритесь на мою руку хорошенько, хорошенько, чтобы я чувствовал, а то вы совсем не умеете ходить под руку.
— Я умею ходить с твоим отцом, с другими никогда не ходила или, по крайней мере, очень редко… и давно… давно…
— Вот так, maman, теперь хорошо, пойдемте в ногу…
Они пошли по длинной душистой аллее. Владимир с удовольствием вдыхал в себя воздух.
— А хорошо здесь! — сказал он. — Я теперь вижу, что все же утомился в городе. Но как это ни скучно, а скоро надо будет опять в него вернуться.
— То есть как скоро?
— Да, через месяц; мне только на месяц дана свобода… служба, maman, служба! Ну, да что говорить об этом — не хочу и думать… теперь мне хорошо, и я так рад, что в Горбатовском, так рад, что вас вижу…
Он говорил это искренно, в нем иногда, хотя очень редко, просыпалось что-то, хотя с большим трудом, но все же неизгладимо навеянное с детства этим парком, этим домом, этой шедшей с ним теперь под руку женщиной. Он взглянул на ее доброе, свежее и прекрасное лицо и, наклонившись, поцеловал маленькую, белую, совсем еще почти молодую руку, лежавшую на рукаве его.
Мать прижалась к нему плечом и улыбнулась ему непередаваемой материнской улыбкой. Но улыбка сейчас же и померкла, тень грусти скользнула по этому спокойному лицу, так медленно увядшему. Она завела разговор стороною, стала расспрашивать о Петербурге, о своих знакомых и вдруг спросила:
— Скажи пожалуйста, Владимир, продолжает бывать у тебя граф Щапский?
— Да как же, и очень часто, мы с ним большие приятели.
— Жаль! Я откровенно скажу тебе… Он мне очень не понравился…
— Напрасно, maman, я даже не понимаю почему. Он такой интересный, все дамы от него без ума.
— Может быть! Но я подметила в нем что-то фальшивое. Ты знаешь, мой друг, я не люблю осуждать, я боюсь этого, но иногда верю своим впечатлениям, они меня не обманывают.
Владимир пожал плечами.
— Я, maman, поставил себе за правило никогда в жизни не доверяться впечатлениям и предчувствиям. Если бы я стал им доверять — это бы просто отравило мне жизнь и заставило бы меня сделать много глупостей.
— А Катрин как к нему относится?
— Катрин? Не знаю, спросите ее. Впрочем, кажется, она следует общей моде — то есть восхищается Щапским.
— Если бы в прежнее время твой отец заметил, что я кем-нибудь восхищаюсь, это было бы ему очень неприятно.
— А мне все равно, maman, значит, я на отца не похож…
Она подавила в себе вздох.
— Но если этот человек может иметь дурное влияние на Катрин? Если его частые посещения заставят говорить, дадут пищу для сплетен, — а ты знаешь, как у вас там ухватываются за всякую соломинку, чтобы испортить репутацию ближнего, — неужели и это тебе не будет неприятно?
— Ах, maman, нужно смотреть на вещи спокойнее. Сплетен не избежишь! Я надеюсь, Катрин умеет держать себя. Щапский бывает у нее не чаще, может быть, чем у других. А стеснять ее, самому наводить ее на разные мысли, заставлять ее думать, что я ревную, — нет, я на это не способен! Я считаю, что это было бы глупо и мучительно… С какой стати я буду отравлять свое спокойствие, иметь неприятные объяснения с женою.
— Отчего же неприятные? Она так молода, неопытна…
— Ну нет, я должен взять ее под свою защиту… Несмотря на молодость, она, может быть, еще поопытнее нас с вами… По крайней мере, во многих отношениях… А главное, нужно уметь сделать семейную жизнь сносною и достигнуть этого всегда возможно — я и достигаю…
Он вдруг круто повернул разговор на совсем посторонний предмет.
Татьяна Владимировна не настаивала, она сказала все, что могла, больше говорить она не считала себя вправе. Она сделалась молчаливой и попросила вернуться домой.
— Я что-то устала сегодня! — сказала она.
IV. НА ТЕРРАСЕ
Сергей Борисович с сыновьями уже третий день как находился на охоте в одной из своих дач. Никого из посторонних, из гостей не было. Некоторые соседи, приезжавшие, чтобы повидать молодых Горбатовых, и в особенности Бориса, которого любили все бывавшие в доме, уже разъехались. Теперь в Горбатовское ожидался большой съезд к пятому июля, то есть ко дню именин Сергея Борисовича. Этот день всегда справлялся в Горбатовском с особенной торжественностью и весельем. Гости съезжались за сотни верст, устраивались всевозможные пиршества, народные гулянья и так далее.
Срок отпуска Владимира истекал через неделю, и хотя, конечно, ему не представлялось никаких затруднений получить какую угодно отсрочку, но он, несмотря на убеждения отца и матери, и слышать об этом не хотел. Его, очевидно, тянул к себе Петербург. Он и так уже начал тревожиться, что вот, того и гляди, в это кратковременное свое отсутствие он что-нибудь упустит по службе, о нем забудут, кто-нибудь из врагов (он говорил, что у него их много) «удружит».
— Les absents ont toujours tort! — повторял он.
У него были, очевидно, какие-то широкие планы относительно своей дальнейшей карьеры. Но он никому не поверял их. Ввиду скорого своего отъезда он уговорил отца и брата отправиться на охоту. Впрочем, их и не надо было особенно уговаривать. Оба они, так же как и он, были страстными охотниками. Дни стояли превосходные, ясные, первые дни начавшегося лета, когда еще нет томительной жары, нет душных ночей, когда солнце долго-долго стоит в небе, будто совсем не хочет уйти, и весело и нежно улыбается своими всюду проникающими лучами и вызывает к жизни каждую былинку, выбирает из согретой земли все ее силы.
В послеобеденное время, когда уже на широкой террасе, выходившей в пестреющий всеми оттенками и благоухающий цветник, легли тени, Татьяна Владимировна и Катрин уютно поместились перед маленьким столиком среди разнообразной и яркой зелени тропических растений, со вкусом расставленных по всей террасе. Обе они принялись за вышивание и время от времени выглядывали в цветник, где между клумбами мелькал маленький Сережа, гулявший в сопровождении двух нянюшек. Теперь он уже научился ходить, хотя все еще был несколько слаб на ногах и очень часто падал. Но он был еще так мал, что не мог сделать себе вреда этими падениями, — они только каждый раз почему-то его изумляли. Хлопнувшись на песок и расставив ручонки, он вдруг строил самую смешную минку, потом сморщивал личико, собирался, очевидно, заплакать, но вместо этого неожиданно разражался смехом, во время которого пронзительно визжал и захлебывался…
Кругом было так хорошо, так торжественно спокойно. И эти две женские фигуры на террасе так гармонировали с роскошной обстановкой — величественная, ясная красота свежей, бодрой старухи и кокетливое, капризное изящество молодой женщины…
Татьяна Владимировна, до сих пор очень живо воспринимавшая всякую красоту и в особенности красоту природы, находилась под обаянием этого теплого, но не душного, ласкающего вечера. Она позабыла все, что ее тревожило и смущало. Лицо ее было кротко и спокойно. Она чутким ухом прислушивалась к смеху Сережи, раздававшемуся так явственно, так звонко в чистоте вечернего воздуха. Она по временам взглядывала на Катрин с доброй улыбкой. Она все же никак до сих пор не умела совсем разлюбить ее. Взглядывала и невольно думала: «Какая она, право, хорошенькая!»
И Катрин, по-видимому, была весела и довольна. Глаза ее блестели, на щеках горел румянец. В этот день ей привезли из города много писем, и она была довольна полученной корреспонденцией; в особенности одно письмо она несколько раз перечитала, и, тихонько оглянувшись — не смотрит ли на нее кто-нибудь, спрятала это письмо за корсаж своего платья. И тем более бросалось в глаза ее оживление и довольство, что в последнее время она все была не в духе, скучала, не находила себе места и даже не далее как накануне еще сказала мужу:
— Владимир, я поеду с тобой… Я не могу здесь оставаться — такая скука!
Он с изумлением пожал плечами.
— Ты знаешь, я неволить тебя не стану, — отвечал он, — но если уедешь в Петербург, то сделаешь большую глупость… Разобидишь стариков… Ведь ты приехала до осени, под каким же предлогом уедешь? Да и потом: куда? В Петербурге, ma chère, теперь еще скучнее, чем в Горбатовском.
— На дачу! — пролепетала она.
— Куда же это, на какую? Ведь у нас под Петербургом нет дачи. Если нанять — все лучше теперь заняты. Об этом нужно было раньше подумать.
— Мне везде будут рады…
— Ах, так это переезжать от одних знакомых к другим в виде бездомной приживалки? Прекрасно!
— Владимир, ты говоришь глупости. Какое сравнение! Как тебе не стыдно! Разве я могу быть приживалкой?
— На то будет похоже! А главное — я не понимаю, что за удовольствие? Погоди, тут собираться станут… Наедут гости…
— Нечего сказать, интересны здешние гости!
— Из Петербурга кто-нибудь приедет.
— Однако же никто не едет. Ну да пойми… Я не могу… Не могу… я умираю со скуки!.. Я готова утопиться!..
— Так я тебе вот что посоветую, Катерина Михайловна! — сказал совершенно спокойно и почти совсем закрывая глаза Владимир. — Уложи свои вещи и завтра же одна отправляйся в Петербург. Право, это будет самое лучшее.
Она надулась, топнула ножкой, потом упала в кресло и вдруг зарыдала, как маленький ребенок. Владимир открыл глаза, презрительно взглянул на нее и вышел.
Но теперь, сидя с Татьяной Владимировной на террасе, Катрин вовсе уже не думала об отъезде. По ее хорошенькому личику то и дело скользила и пропадала улыбочка. Она думала о чем-то приятном. Однако вдруг ее тонкие бровки сдвинулись, на губах промелькнуло что-то злое и, не отрываясь от своего вышивания, она проговорила:
— Maman, ведь вы знаете эту несносную толстую Маратову?
Татьяна Владимировна с некоторым изумлением на нее взглянула.
— Не только знаю, но даже очень люблю! — отвечала она. — Отчего же она несносная? Я нахожу ее доброй и прекрасной женщиной.
— Я не спорю, maman, может быть, она добрая, я ее сердцем не интересовалась, а что она несносная — это всякий скажет. Ни одного дня нельзя прожить, чтобы ее не встретить, куда ни отправишься — она всюду! Катится, как бомба, сопит, нос кверху, усы… Препротивная!
Татьяна Владимировна улыбнулась.
— Душа моя, да ведь и княгиня Маратова может называть несносными тех, с кем она всюду встречается!
Катрин немножко надулась. Но она была в таком настроении духа, что долго сердиться никак не могла, а потому ограничилась только замечанием:
— Но у других, по крайней мере, нет такого носа, таких усов и такой толщины, другие не сопят… И в этом, кажется, небольшая разница.
— Да к чему ты меня о ней спросила?
— Она взяла к себе на воспитание какую-то там бедную родственницу…
— Ну да, свою племянницу… Я знаю… девушка удивительной красоты.
Катрин всплеснула руками.
— И вы тоже!.. Нет, это, наконец, невыносимо! Что в ней находят хорошего? Бесцветное, увядшее создание! И вдобавок, никто еще не слыхал от нее умного, живого слова. Никаких манер, никакого воспитания не получила. А теперь уже поздно ее воспитывать, не первой молодости…
— Что ты, Катрин! Я в прошлом году ее видела, она совсем молодая девушка и, насколько помню, очень хорошо себя держит. Она именно поразила меня своей красотой и изяществом… Да, вот я теперь ее совсем ясно себе представляю… — продолжала Татьяна Владимировна. — Прелестная… Я думаю, она многим голову кружит в Петербурге?
Катрин не могла больше выдерживать. Вся ее веселость, довольство пропали. Она получила снова способность сердиться и рассердилась не на шутку. Лицо ее покраснело, даже лоб, даже тонкая, нежная шея.
— Какой же это порядочный человек может обратить внимание на подобное ничтожество, на такую parvenue!..
— Что же она тебе сделала, Катрин? — кротко и грустно спросила Татьяна Владимировна. — За что ты ее так не любишь? За что бранишь, скажи — за что?.. Может быть, ты права, я не знаю…
Но Катрин не слушала, она продолжала с все возрастающим раздражением:
— И эта Маратова не только что теперь сама всюду торчит, но таскает за собою и воспитанницу… Это, наконец, оскорбительно!.. Во что это, наконец, превратится наше общество, если в него станет проникать Бог знает кто?
— Отчего же — Бог знает кто? Отчего племяннице или хоть просто воспитаннице княгини Маратовой не бывать в обществе — я, право, не понимаю!
— И вы тоже, maman, вы считаете ее равной с нами?
— Ты должна давно знать, что я не считаю себя принадлежащей к какой-нибудь касте, в которую уже нет никому доступа. И потом, посмотри же на наше общество, — где это в нем уж такая чистая кровь…
Татьяна Владимировна невольно подумала о том, что и сама Катрин не Бог знает какого происхождения, что знаменитость и значение графов Черновых очень недавни. Но, конечно, она не захотела сделать ей какой-нибудь намек.
«Ну так вот, я же ее поймаю!» — сказала себе Катрин и почти крикнула:
— А что бы вы сказали, если бы, например, Борис вздумал жениться на этой воспитаннице Маратовой?
— Что бы я сказала? Если бы я убедилась, что они любят друг друга, — я бы их благословила.
Катрин несколько мгновений не могла произнести ни слова. Она сидела с широко раскрытыми и бессмысленными глазами: даже разинула ротик и показала все свои белые зубки.
— Maman, вы шутите! — наконец проговорила она.
— Нисколько! Я бы, конечно, только постаралась сначала поближе разглядеть эту девушку и хорошенько поговорила бы с Маратовой, которой доверяю…
— Так, значит… значит, Борис вам уже сказал?
— Что такое? — изумленно спросила Татьяна Владимировна. — Что такое, Борис? Он ничего не говорил мне… Разве?..
— Да, и я и Владимир… мы имеем основание думать, что он заинтересован этой особой, которую так многие протежируют…
— Многие протежируют? — переспросила Татьяна Владимировна.
Но Катрин сделала вид, что не слышит.
— Теперь и я спрошу тебя, — серьезно и внимательно глядя в глаза Катрин, сказала Татьяна Владимировна. — Я спрошу: шутишь ты или нет?
— Нисколько! Он как приехал из-за границы — нигде не бывал, так что даже неприлично было, а там — чуть не каждый день. Не для старой же, выжившей из ума «генеральши» он ездил, не для интересной же княгини?..
Татьяна Владимировна слушала очень внимательно.
— Правда, в последнее время он не бывал там, — продолжала Катрин. — С этой особой что-то случилось, какая-то история…
— Какая история?
— Не знаю, верно, что-нибудь да случилось… Говорили, что она больна, умирает… Потом выздоровела, и незадолго до нашего отъезда Маратова увезла ее в деревню…
У Татьяны Владимировны тревожно забилось сердце.
«Что такое все это значит? — думала она. — Лжет она, что ли, да с какой же стати? Нет, верно, что-нибудь да есть… И он ни слова! А между тем я замечала, замечала в нем что-то странное, чувствовала, что он мне недоговаривает. Ждала… он никогда не скрывал… как же это?»
Катрин видела, что смутила Татьяну Владимировну, но объяснила по-своему это смущение.
«Это она так, Бог знает что говорит — благословила бы! А вот ведь когда увидала, что дело может быть не шуткой — испугалась… еще бы!..»
— Вы, кажется, встревожились, maman, — сказала она. — Что Борис был заинтересован ею — это верно, но я так думаю, что он сам убедился, как это глупо, и что ничего из этого не может выйти. Я почти уверена, что это привидение, — иначе я не могу назвать ее, — особенно если бы вы видели, какою она стала эту зиму… Она, верно, надеялась, что он сделает ей предложение, что она вдруг станет madam Gorbatoff. А когда он очнулся и ушел — она со злости и заболела… Я так объясняю, я худшего не хочу предполагать…
— Еще бы ты смела предполагать худшее! — вдруг вспыхнув, сказала Татьяна Владимировна таким тоном, какого Катрин никогда еще не слыхала от нее и на какой даже не считала ее способной.
Катрин притихла и просто испугалась. Но испуг прошел, поднялась злоба. Она побледнела и закусила губы…
— Вы на меня кричите, maman! За что же? Я не привыкла, чтобы на меня кричали…
— Я не кричу… Если я сказала резко — прости… но в другой раз не позволяй себе, передо мною, по крайней мере, намекнуть на что-нибудь дурное и нечестное относительно Бориса. Он этого не заслуживает… Если ты хочешь, чтобы я тебя любила… никогда, слышишь, никогда…
Она поднялась, губы ее дрожали. Катрин вдруг сделала несчастное лицо и заплакала. Татьяна Владимировна пришла в себя.
— Ну полно, перестань — это ребячество… Нужно же, наконец, понимать некоторые вещи… Я не хочу тебя обижать — не обижай и ты меня. Ну, перестань!..
Она положила ей на плечо руку.
— Я не обижала ни вас, ни Бориса… Я из желания добра… чтобы предупредить… Я не знаю, что вам показалось…
— А коли так — прости!.. Что же еще — говорю… прости… поцелуй меня!..
Катрин поцеловал и утихла. И, странное дело, эта belle mère, на которую до сих пор она смотрела свысока, которую она внутри себя и в грош не ставила, вдруг нежданно-негаданно выросла перед нею. В ней шевельнулось, несмотря на озлобление к этой belle mère, что-то похожее на уважение. Катрин была из тех женщин, на которых иногда следует хорошенько прикрикнуть. И тем более это теперь подействовало, что никогда еще в жизни никто хорошенько на нее не прикрикнул.
Но гармоническая картина прелестного вечера была, во всяком случае, расстроена. Разговор оборвался. Сережа вдруг горько закатился — заплакал в цветнике. Татьяна Владимировна сошла узнать, что с ним такое.
Катрин тоже встала, уложила вышиванье в рабочий баульчик и отправилась в свои комнаты. Дорогой она вынула из корсажа письмо и, придя к себе, еще раз принялась его перечитывать.
V. ПРИЗНАНИЕ
Татьяна Владимировна с большим нетерпением дожидалась возвращения Бориса. Она уже не раз, со времени свадьбы Владимира, имела с ним объяснение относительно того, как смотрит он на женитьбу, какую бы жену хотел себе. Но он всегда отвечал ей, что о женитьбе никогда еще не думал, да что вряд ли и женится.
— Это пустое, душа моя, — улыбаясь, останавливала она его. — Конечно, ты должен жениться и женишься. Но я буду даже очень рада, если еще подождешь, если не женишься скоро.
Она замечала, что он как-то всегда отстранялся от таких разговоров, старался их замять и вообще казался даже несколько смущенным.
«Что бы это значило?»
Но она, в конце концов, объяснила это его смущение тем тонким чувством какой-то стыдливости, которое присуще было ему в разговорах с матерью вообще относительно женщин. И она была права, но все же не вполне, так как к этому чувству у Бориса присоединялось еще и другое. Он привык с детства быть во всем откровенным с матерью, но в то же время имел от нее большую тайну. Тайна эта была — Нина. Он не раз уже порывался открыть матери все подробности своей волшебной встречи с чудной девочкой, впечатление, на всю жизнь оставленное в нем этой встречей, свои мечты, свою мистическую веру в то, что рано или поздно он встретится с Ниной и что она и есть его будущая подруга жизни. Но, несмотря на все желание, даже потребность, открыть это матери — он каждый раз воздерживался. Что-то заставляло его молчать и перед нею, как перед всеми. Он как-то бессознательно пришел к тому убеждению, что от сохранения этой тайны зависит осуществление его мечтаний.
Теперь, казалось, пришло наконец время во всем признаться матери, но он все же еще ждал известий от княгини и от самой Нины. Эти известия должны были показать ему, действительно ли пришло время, пора ли говорить с матерью… Вот он вернулся с охоты. Татьяна Владимировна не была в состоянии ждать дольше. Она имела обычай, когда все расходились после ужина по своим комнатам, заходить в спальню Бориса. Она любила, вспоминая прежние годы, подойти к его кровати, оправить его подушки, потом крепко поцеловать своего любимого мальчика, как она до сих пор его мысленно называла, и благословить его на сон грядущий. И если ему не хотелось еще спать, она оставалась поговорить с ним и всегда находился предмет для разговора. Они были такими друзьями и так понимали друг друга.
Так она сделала и теперь. Пришла после ужина в его спальню.
— Тебе не хочется еще спать? — спросила она.
— Нет, maman!
— Ну, так я посижу…
— Очень рад!
Он придвинул ей большое кресло.
— Здесь только душно, — сказал он. — Верно, без меня окна не открывали.
— Нет, я и вчера и сегодня сама приходила, окна были открыты. Да ведь комната весь день на солнце… Вечер такой теплый, сухой, открой окошко.
Он приподнял штору, распахнул окно, и в комнату вместе с душистой прохладой заснувшего сада ворвался поток лунного света.
— Борис! — сказала Татьяна Владимировна. — Я не привыкла и не умею хитрить с тобою, а потому без всяких околичностей скажу тебе, что у меня на душе: мне кажется, ты от меня что-то скрываешь!
Он изумленно взглянул на нее, потом подумал несколько и ответил:
— Да, maman, вы правы, скрываю… Но все же у меня нет ничего такого, чего бы вы не могли знать.
— В таком случае, зачем скрываешь?
— До времени, maman, до времени…
— Нехорошо это, Борис! Мне было бы гораздо приятнее знать все прямо от тебя, чем от других…
— А вы от других узнали… от брата?
— Нет, от Катрин!
— Катрин!
Борис поморщился.
— Что же она могла вам сказать?
— Что ты заинтересован одной девушкой.
— Я не знаю, что и как она могла говорить вам, да и не хочу этого знать. Но если уже начали другие, я сам расскажу вам все, тогда вы увидите, так ли вам передано…
И он рассказал ей свою фантастическую повесть, которую берег даже от нее в глубине сердца. Слушая его, она тихо улыбалась, качая головою. Но в конце концов была растрогана, даже поражена.
— И никогда, ни одним словом не проговорился! — укоризненно прошептала она, когда он замолчал, так как ему говорить уже ничего не оставалось.
— Есть вещи, — отвечал он, — которых трудно, иногда почти совсем нельзя касаться… Знаете ли, если бы я увидал, что вы меня не так поняли, если бы вы стали говорить мне то, что обыкновенно говорится в таких случаях, то есть что эта фантазия, вздор, я был бы очень несчастлив!
— Но дело в том, Борис, что я, пожалуй бы, тебе этого не сказала. Ты знаешь историю моей жизни, а если чего в ней не знаешь, так я на досуге как-нибудь расскажу тебе и ты увидишь, что я была такой же мечтательницей, такой же фантазеркой, как ты, и также верила в осуществление моих мечтаний. Целые годы, лучшие годы моей жизни, я прожила этой верой и меня поддерживал в ней такой же мечтатель, как мы с тобою…
Ее голос дрогнул.
— Да, такой же мечтатель — покойный император. И он доказал мне, что часто мечты и сказки, придуманные нашим сердцем, сбываются. Сбылась и наша сказка с твоим отцом. Да и мудрость народная — а я ей очень верю — говорит: суженого конем не объедешь. Вот теперь и ты мне еще раз доказываешь, что я была права — и твоя сказка приходит к окончанию, и твоя суженая ждала тебя, и ты ждал ее… Что же, Борис, это судьба…
Она обняла его, крепко прижала к груди. Он почувствовал на своем лице ее слезы.
— Только будь счастлив, только будь счастлив, мой мальчик!
— Maman, милая, так ты благословляешь нас (в иные минуты он, сам того не замечая, начинал говорить ей «ты»), ты благословляешь?.. Ее полюбишь?..
— Мне кажется, я уже и теперь люблю ее.
— Да, конечно! Ведь я и знал это… А батюшка, как ты думаешь, он что?..
— С ним мне нужно будет хорошенько поговорить, но препятствий с его стороны я никаких не вижу. Ты должен знать отца — он выше глупых предрассудков, а ведь тут весь вопрос мог бы быть в предрассудках… Она незнатна, говорят, бедна. Но тебе не нужно богатства, с тебя и твоего будет довольно. А что касается до незнатности ее — ты дашь ей свое имя. И смешно даже говорить об этом. Но говорить будут, даже очень много, только ты не обращай внимания… Поговорят — и перестанут.
— Maman, но ведь вот мы толкуем так, как будто все решено, а решенного еще ничего нет. Положим, когда она уезжала, было много хороших признаков, и я довольно спокоен, но все же я жду оттуда письма.
— И придут письма…
— А все же остается много тревожного… Ты не думаешь о том вредном влиянии, которое до сих пор на нее действует. Я сказал тебе все, нарушил данное мною Нине обещание. Я знаю, что ты никому, даже отцу не скажешь об этой секте. Разве… разве это тебя не тревожит?
— Конечно, тревожит, и я много буду об этом думать. Это очень нехорошо, да, нехорошо и всего хуже то, что, наверное, эти сумасбродства отразились на ее здоровье… Как бы они ее навсегда не испортили? Я знаю, я понимаю это… я сама кое-что в таком роде испытала…
— Как испытала?
— Да, мечтала очень много, дожидаясь твоего отца, до видений даже доходила!.. — с тихой улыбкой сказала Татьяна Владимировна и вдруг как будто немного смутилась.
— Но, видишь ли, мне кажется, что это последнее препятствие: перед благополучным окончанием сказки всегда вдруг со всех сторон приходят разные препятствия… Опять-таки, так ведь и с нами было… Только послушай, ты вот все же немного тревожен — и поделом тебе: зачем не сказал мне раньше, я бы тебя успокоила… И теперь скажу: успокойся, у меня хорошее предчувствие. А я, как и ты, верю предчувствиям…
— Однако, значит, о вас уже говорят в Петербурге? — прибавила она, немного помолчав. — Уж этот Петербург, всю жизнь не любила и не люблю его! А что Владимир, он не заговаривал с тобой?
— К сожалению, заговаривал!
— Отчего к сожалению?
— Оттого, что он на многое смотрит совсем не так, как мы с вами. Он даже не хотел допустить и мысли о том, что я могу хоть на минутку подумать жениться на Нине. Он считает ее для меня невозможной невестой. Он говорит о mesalliance'e…
Татьяна Владимировна вздохнула.
— Как это грустно! — сказала она. — Боже мой, и откуда у него взялись такие понятия — от нас он не мог им научиться… росли вы вместе… И тут — судьба!
Она не стала передавать ему своего разговора с Катрин, не хотела его вооружать против нее. Она стала расспрашивать о Нине во всех подробностях. Они не заметили, как просидели далеко за полночь. Луна зашла. Сад глядел в окно такой темный, такой таинственный. Временами врывался в комнату довольно свежий ветерок. Привлеченная светом, влетела и билась ночная бабочка. То там, то здесь, то у самого уха, то где-то далеко гудели комары…
Наконец Татьяна Владимировна простилась с сыном. Она в эту ночь особенно долго крестила его и особенно нежно сказала ему на прощанье:
— Успокойся… верь хорошему, спи крепко, мой мальчик!..
VI. ПОБЕДИТЕЛЬ
Катрин была неузнаваема. От ее размолвки с Татьяной Владимировной не осталось и следа. Вообще злопамятная и имеющая способность изо всякой малости дуться по нескольку дней, она на этот раз сделалась внимательной к Татьяне Владимировне более чем когда-либо. Она окружала Сергея Борисовича самой предупредительной заботливостью, то и дело ласкалась к нему, ухаживала за ним. После обеда пела ему своим маленьким, но довольно приятным голоском его любимые французские романсы. Даже вызвалась прочесть ему привезенные с почты газеты, так как он жаловался, что у него болит глаз. От Сергея Борисовича Катрин переходила к Борису. Просила его пройтись с нею по саду. Брала его под руку и, кокетливо склонившись к нему, болтала разный милый вздор, заливалась детским смехом, с кошачьими ужимками заглядывала ему в глаза.
Даже Владимир не мог не заметить происшедшей в ней перемены. Их отношения уже установились, и в этих отношениях не было и тени нежности, на что ни он, ни она никогда друг другу не жаловались. Теперь же вдруг Катрин вздумала и к нему относиться с заботливостью жены, следящей за всеми мелочами, за всеми удобствами мужа. Владимир только пожимал плечами и закрывал глаза.
— Что же ты не едешь в Петербург? — наконец спросил он. — Я думал, что когда мы вернемся с охоты, так я тебя уже и не застану.
У него иногда, не очень часто, но все же являлось желание подразнить ее.
— Ах, Боже мой, — ответила она, — мало ли что бывает. Иногда найдет минута тоски, скуки… не знаешь куда деваться. Но ведь ты очень хорошо должен знать, что незачем и некуда мне ехать, что я должна пробыть здесь до осени.
— Ведь я тебе так и говорил… Хорошо, что образумилась… Только, скажи на милость, к чему эта суетливость? Откуда эта странная обо мне заботливость?.. Я от нее отвык, да, впрочем, ты и сначала не особенно меня ко всему этому приучала… Пожалуйста, не стесняйся…
Она надула губки и вспыхнула. Презрительная усмешка мужа, загадочный, как ей показалось, взгляд его полузакрытых глаз привели ее в смущение. «Он хитрый, он все замечает!» — подумала она и мгновенно охладела. Она стала следить за собою, старалась сдерживать в себе напавшие на нее веселье и довольство. Но веселье и довольство были так велики, что ей удавалось это с большим трудом. Она притихала в присутствии мужа, а без него опять развертывалась. Теперь она стала обращать исключительно все свое внимание на Сергея Борисовича и хорошо видела, что с этой стороны расчет ее верен. Сергей Борисович просто расцветал от ее улыбок и ее дочерней нежности.
— Ну, милая дочка, не поиграем ли мы в шахматы? — говорил он добродушно и ласково на нее глядя.
— С удовольствием, папа, с удовольствием.
Она вспрыгивала и неслышными, легкими шагами бежала к шахматному столику, вынимала шахматы, пододвигала два кресла и кокетливо манила к себе маленькой, тонкой ручкой Сергея Борисовича.
— Вы знаете, — говорила она, усаживаясь и расставляя игру, — я прежде терпеть не могла шахматы, не понимала, как это люди могут ими увлекаться. Думала тоже, что это ужасно трудно и что никогда не научусь. Но вы так легко меня научили, папа, и с вами я так люблю играть… Постойте, вот я вас обыграю… вот увидите.
— Обыграй, милочка, попробуй… только нет, нет… вот тебе… вот!
Он делал ход и ставил ее в тупик. Она морщила бровки, выпячивала губки с самой милой и смешной детской минкой.
— А вы помогите, научите… а то как же в самом деле? Я не знаю, как тут быть?
— Да ну, помогите же! — говорила она своим серебристым голоском, делала неверный ход, но сейчас же с маленьким визгом возвращалась на прежнее место и отказывалась от своего хода.
Он принимался объяснять ей. Он чувствовал себя очень счастливым, был так рад, что у него такая прелестная, милая и ласковая дочка и что она так любит играть с ним в шахматы…
Прошло три дня — и вдруг настроение духа Катрин изменилось. Она вышла из своих комнат утром как-будто какая-то завядшая, с опущенными углами рта, с бледными туманными глазами. Она была молчалива, ее все раздражало, все ей не нравилось. Она не знала, за что взяться. Собралась было на прогулку, да сейчас же и вернулась, уверяя, что, верно, будет гроза, что в воздухе душно и она чувствует присутствие электричества, а это на нее раздражительно действует. Но воздух был чист, небо безоблачно.
Катрин поместилась на террасе, обложила себя подушками, вытянула ножки, раскрыла книгу, но не прочла и двух страниц. Книга соскользнула из ее рук на коврик, и она лежала, устремив бессмысленно вперед бледные глаза и по временам, видимо, в раздражении кусая губы.
Она часто взглядывала на часы, вынимала флакончик с английской солью, нюхала его, жаловалась на головную боль. Потом вдруг вышла в цветник, обошла кругом дома, несколько минут глядела на дорогу, извивавшуюся у опушки парка. Потом опять вернулась на террасу, опять легла, закрыла глаза и открывала их только для того, чтобы взглянуть на часы. Сергей Борисович подошел к ней, с участием спросил ее, что с нею, приложил руку к ее лбу.
— Голова болит?
— Да, папа!
— Жару нет… впрочем, хочешь я пошлю сказать доктору, чтобы он пришел скорее… до обеда, может, он тебе что-нибудь пропишет и успокоит.
— Ах нет, пожалуйста… нет! — встрепенулась Катрин. — Ваш доктор… да я скорее умру, чем приму его лекарства!..
— Напрасно, мой друг, он опытный и хороший доктор.
— Нет… нет! Да и не больна я вовсе — это пустое — пройдет… Жарко очень…
— Где же жарко?
Но она вдруг закрыла глаза и стала притворяться, что дремлет. Сергей Борисович отошел от нее. Владимир гулял в цветнике перед террасой, наклоняясь к какому-нибудь растению, разглядывая цветы. Он любил в полдень попечься на солнце и находил это очень здоровым.
Вдруг издалека едва слышно донесся звон бубенчиков. Катрин, по-видимому, совсем уже засыпавшая, быстро подняла голову, прислушалась, широко раскрыла глаза… Глаза вдруг блеснули радостью, щеки вспыхнули. Она оглянулась, увидела Сергея Борисовича:
— Папа, что это?.. Как будто бубенчики — вы слышите?
Он прислушался.
— Да, слышу!
— Владимир, — крикнул он сыну, — обойди-ка, пожалуйста, взгляни, кажется, кто-то к нам едет!.. Вот… вот… все слышнее…
Владимир в свою очередь прислушался и быстрым шагом пошел из цветника в ту сторону, откуда была видна дорога. Между тем звон бубенчиков с каждой секундой становился явственнее, приближался. Катрин опять лежала с закрытыми глазами, но уже с совсем новым выражением в лице. Ее тонкие пальчики нервно перебирали кружевные оборки платья.
— Кто бы это мог быть? — говорила она. — Папа, вы кого-нибудь ждете?
— Никого, мой друг… не знаю.
Прошло несколько минут, и на террасе появился Владимир, ведя под руку Щапского.
Сергей Борисович с некоторым изумлением, но очень любезно пошел ему навстречу.
— Очень приятно вас видеть, граф, — сказал он. — Но каким это образом вы в наших странах? Владимир говорил мне, что звал вас погостить, но что вам это было невозможно.
— Невозможное оказалось возможным, и я так доволен, что вырвался из Петербурга. Je connais si peu la Russie, monsieur, et je compte faire un long voyage… У вас так хорошо, такие прекрасные места… я, право, не ожидал…
Он заметил Катрин и поспешил к ней. Она, не вставая, только спустивши ножки, протянула ему руку.
— C'est bien aimable de votre part, comte, bien aimable! — улыбаясь, пролепетала она.
Ее рука несколько дольше, чем бы следовало, осталась в его руке, и даже голубоватые жилки напрягались от сильного пожатия.
— Vous êtes indisposée, madame? — участливо спросил граф, обдавал ее огнем своего жгучего взгляда.
— Нет, так, пустяки… Голова заболела… Но я вот тут вздремнула немного и, кажется, теперь все прошло.
Она встала и остановилась перед ним, улыбаясь, свежая, воздушная, в этом белом, прозрачном, зашитом кружевами платье. Он с видимым удовольствием, но спокойно глядел на нее.
— Однако пойдем, ты в пыли, — сказал ему Владимир, беря его под руку. — Я тебя сейчас устрою.
Они вышли.
— Вот кого не ждала! — воскликнула Катрин, обращаясь к Сергею Борисычу. — И очень рада, что он приехал, — это такой интересный человек, умный, образованный… Из всех друзей Владимира, кажется, самый интересный.
— Да, это правда, — заметил Сергей Борисович. — Я с ним, как был в последний раз в Петербурге, довольно много беседовал. Он умен, он все очень хорошо и тонко понимает и прекрасно знает Европу. Я тоже очень рад, что он приехал… И потом, я заметил в нем большой такт — он не будет стеснять, а это главное в деревне…
— Одно только нехорошо… — вдруг, как будто сообразив что-то, проговорила Катрин.
— Что такое?
— Щапский не по вкусу Бориса, я это не раз замечала в последнее время.
— Может быть, тебе это показалось только… Борис, ведь он… il n'est pas difficile… что же может быть между ними? Да они, верно, и не знают почти друг друга — Борис недавно вернулся…
— Да, да… но все же это неприятно!
— А вот увидим… Город и деревня — две вещи разные, в деревне люди сходятся легче и скорее.
К завтраку Щапский появился сияющий свежестью летнего костюма и своей резкой, но, действительно, значительной красотой. Он держал себя свободно, без малейших признаков стеснения, и в то же время внимательно наблюдал за всем и за всеми. Он сразу увидел, что его появление неприятно для хозяйки дома и для Бориса. Заметив это, он подсел к Татьяне Владимировне и добился-таки того, что заинтересовал ее своей беседой. Она стала слушать его и охотно с ним говорила. Но все же, несмотря на его искусство, на ее деликатность, он подмечал в ней нечто такое, что ему не нравилось. Потом он занялся с Борисом и обращался к нему с такой, по-видимому, искренней любезностью и простотою, что это решительно делало честь его уму и такту. Борис чувствовал себя как на иголках, тем более что видел, как трудно будет отделаться от этого смелого, находчивого и ничем не смущающегося человека. После завтрака Катрин подошла к Щапскому, засыпала его вопросами о Петербурге и потом предложила:
— Пойдемте, граф, в цветник, там есть цветы, названия которых не знает наш ученый садовник и никто не может мне сказать, что это за цветы… Папа тоже не знает, и maman, a Владимир с Борисом совсем понятия никакого не имеют о ботанике. Садовник говорит, что семена этого растения привезены из Франции… Может быть, вы знаете, что это такое…
— Очень может быть, я люблю цветы… Покажите, пожалуйста, — это любопытно.
Катрин спорхнула с террасы. Вслед за нею с любезной и немножко снисходительной улыбкой сошел и Щапский.
Борис видел, как они стали обходить цветник, останавливались, наклонялись. Но он уже не мог разглядеть их лица. Между тем Катрин, поглядывая на террасу, шептала Щапскому, сорвав какой-то пышный красный цветок с резким запахом и держа его в руке:
— Возможно ли это, ведь я чуть с ума не сошла! Все было решено и вдруг пишет: «Не приеду»… Я хотела возвращаться в Петербург.
— Слава Богу, что не сделали этого неблагоразумия! — сказал он.
— Но я бы это сделала, ни на что бы не посмотрела… Я не могла больше… Я бы непременно уехала, если бы не последнее письмо.
— Тогда бы мы только разъехались — и ничего больше… Что же бы из этого вышло? — заметил он.
— Ах, Боже мой, и опять ведь… вчера еще должен был приехать!.. Я до позднего вечера ждала. Не спала всю ночь… Совсем разболелась… Я думала, какое-нибудь несчастье в дороге… Не стоите вы этого, Казимир…
— Конечно, не стою! — спокойно сказал он.
— Какой же это цветок? — вдруг раздражительно спросила она. — Не знаете?
Он взял цветок из ее рук, понюхал его, посмотрел.
— Не знаю, никогда не видал такого цветка… Однако вернемся, мы должны быть очень-очень осторожны, больше чем когда-либо… Тут, кажется, уже вооружены против меня.
— А ты заметил?
— Да, конечно, заметил. Ваш beau-frere почему-то терпеть меня не может. А мать, как и вы говорили, смотрит на все его глазами. Мой приезд не нравится и, может быть, придется скоро уехать.
— Ни за что, Казимир, ни за что! — вдруг испуганно, даже бледнея, прошептала Катрин. — Я не пущу вас… Не обращайте внимания, отцу вы очень нравитесь, он рад, что вы приехали… Все обойдется.
— О, желал бы этого! А теперь пойдем же, Катрин!
— Нет, вот сейчас… Тут я покажу беседку… Новая беседка… Прелестная… Вот…
Она вдруг махнула платком по направлению к террасе, сделала знак рукой, поманила кого-то.
— В беседку! — крикнула она. — Владимир! — и почти побежала в аллею.
Щапский нагнал ее.
— Катрин, ты, право, неосторожна…
— Нет, нет, милый, скорее…
Она завернула направо. Дом и терраса скрылись из виду. Она схватила его за руку, увлекла за собою. Они вбежали по мраморным ступенькам открытой, в коринфском стиле, беседки. Перед ними развернулась прелестнейшая панорама зелени. Вдали блеснуло серебристою полосою озеро. Узенькая дорожка, извиваясь, спускалась под гору. Там и сям, из-за зелени, мелькали белые очертания статуй, поставленных на высокие пьедесталы.
Катрин, быстро оглядевшись, сделала шаг к Щапскому, охватила его шею своими тонкими детскими руками, прильнула к нему. Страстный, долгий поцелуй прозвучал среди этой густой, свежей листвы, кое-где пронизанной горячими желтыми пятнами солнца.
— Казимир… Казимир! — лепетала Катрин.
— Ах, как ты неблагоразумна… — тихо повторял он, отвечая на ее поцелуи, тревожно оглядываясь, то привлекая ее к себе, то отстраняя…
VII. БУДНИ
Катрин уже не говорила, что собирается гроза и что в воздухе много электричества. И хотя у нее был, очевидно, жар, потому что лицо и глаза горели, но она не жаловалась на головную боль. Она чувствовала себя такой здоровой и счастливой. Ей только приходилось очень следить за собою, играть ловкую комедию. Но и это ей было не в тягость, потому что такая игра была в ее натуре и только еще усиливала ее счастье.
Владимир не представлял для нее никаких затруднений. Во-первых, он через четыре дня уезжает, а во-вторых, если бы даже он и заметил что-нибудь, так все же, наверное, сделал бы вид, что ничего не замечает. Она ему больше не нужна, точно так же как и он ей. Он требует соблюдения приличий, и она совершенно согласна с этим его требованием — так чего же ей смущаться. Сергей Борисович, безгранично ей доверяющий, — в ее руках. А Борис и Татьяна Владимировна!.. Конечно, они могут быть опасны, конечно, их нужно остерегаться, очень остерегаться, но все же вряд ли они способны на что-нибудь решительное. Они не пойдут прямо, если бы что и заметили, не пойдут уже хотя бы ради Владимира.
Несмотря на все свое легкомыслие, Катрин умела иногда кое-что подмечать и понимать в людях. Но все-таки же она и ошибалась и доказала это тем, что в конце концов себя окончательно успокоила таким рассуждением: «Что же они могли заметить? Конечно, ничего. Положим, тогда, при первой встрече Казимира с Борисом, вышло не совсем ловко… Но Борис всегда такой рассеянный, он ничего не видит… И наконец, если бы заметил, так, наверное, потом как-нибудь проговорился бы. Ведь в нем никакой хитрости нет, ничего удержать не умеет — что на уме, то и на языке… И потом, с его понятиями он бы просто поднял целую бурю!.. Нет, конечно, конечно, он ничего не заметил… Казимир ему не понравился — и все тут… Не понравился ему, значит, не понравился и матери. Но Казимир так умен, разве может он не суметь победить их антипатию, если только этого захочет. Дня два, три — и они все будут от него в восторге… Только бы он подольше остался. Отъезд Владимира не может быть ему помехой. Нужно настроить папа, и это нетрудно…»
Она, действительно, очень легко настроила Сергея Борисовича. Ловкий и умный Щапский хорошо понял, с кем имеет дело. Несколько раз побеседовав с Сергеем Борисовичем, он привел его от себя в совершенный восторг. Между ними произошло такое объяснение:
— Как я рад, что имел случай познакомиться с вами и как благодарю вас за то, что вы к нам заехали, — сказал Сергей Борисович, гуляя с гостем в цветнике. — Знаете, ведь я медведь, не выхожу из своей берлоги. Я иногда совсем от людей отвыкаю. Но я люблю людей и всегда любил… Только теперешние люди, признаться, мне не совсем иногда по вкусу. Вот если бы я в Петербурге встречал побольше таких, как вы, я бы туда частенько приезжал.
— Сергей Борисович, мне, право, совестно, мне кажется, я не стою такого хорошего мнения, хотя оно и доставляет мне много радости! — скромно опуская свои черные глаза, заметил Щапский. — Да и чем же я отличаюсь от теперешних, как вы говорите, людей? Мне кажется, я человек своего времени.
— Не совсем, любезный граф, не совсем! — добродушно улыбаясь, повторял Сергей Борисович. — Вы ясно и глубоко видите… Вот вы сказали очень верные слова, которые я давно, давно повторяю, хотя мне и не верят и спорят со мною… Вы сказали: «Человечество идет не вперед, а в сторону»… Я говорю то же самое!
Бедный Сергей Борисович, конечно, не мог знать, что родной его сын, Владимир, его выдал. Как-то, говоря с Щапским об отце, он сказал: «Чтобы победить отца и сделаться его оракулом, нужно только согласиться с ним относительно того, что человечество идет не вперед, а в сторону — это его любимая формула, его конек, на котором он всегда выезжает». Щапский хорошо запомнил это и убедился, что Владимир был прав.
— Скажите, пожалуйста, — продолжал Сергей Борисович, — какое путешествие предполагаете вы сделать?
— Хочу побывать в Киеве, в Одессе, а оттуда попасть и взглянуть на мою несчастную родину. Я, знаете, не из тех людей, которые всю жизнь будут плакать о потерянном или добиваться невозможного. Я не понимаю многих моих соплеменников… Я хорошо знаю, что прошлого не вернешь и из истории не вырвешь написанную страницу. Но я не могу иногда все же не помышлять с тоскою о славном прошлом моего народа, а главное — я не могу не любить родины… Я давно там не был…
Лицо его сделалось грустным, губы дрогнули. Сергею Борисовичу было его жаль.
— Я понимаю это, — сказал он. — Но, граф, ведь вы не спешите?
— О, нет, у меня время свободное до осени…
— В таком случае, надеюсь, вы не скоро нас покинете!.. Погостите, если вам у нас нравится, как вы говорите, недели три, четыре… Да вот что, знаете, — я вас не отпущу до дня моих именин! Это у нас праздник. Соберутся со всех сторон соседи, вы увидите все здешнее общество. Может быть, это будет для вас и интересно, и полезно — ведь вы, должно быть, очень мало знаете русское провинциальное общество…
— О, конечно, меня очень интересуют здешние люди! Но дело не в этом, я скажу прямо, mon très cher et vénérable monsieur, мне здесь так хорошо у вас и с вами — уезжать не хочется… Верьте, як пана кохам — не хочется!
Он так расчувствовался, что даже бессознательно в свою французскую речь, — так как он говорил по-французски, — два раза ввернул это «як пана кохам», то есть поклялся в истине своих слов, по польской привычке, своею любовью к собеседнику.
— Я ловлю вас на слове… Вы у нас останетесь?
— Остаюсь… И благодарю вас от всего сердца! — растроганным голосом, крепко сжимая руку Сергея Борисовича и обдавая его ласкающим блеском своих глаз, сказал Щапский.
Сергей Борисович был очень доволен. Перед ним мелькали в мечтах приятные разговоры в библиотеке, прерываемые заглядыванием в любимые книги, а также сражения за шахматной доской, так как Щапский был опытный игрок и мог с ним поспорить в искусстве.
Поэтому он был крайне изумлен, когда на другой день после отъезда Владимира в Петербург Татьяна Владимировна спросила его:
— Что же то, разве Щапский остается? До каких это пор?
Он видел, что она недовольна, в ее голосе прозвучала даже резкая нота, которую очень хорошо знал Сергей Борисович, хотя ему и редко приходилось ее слышать.
— А тебе разве неприятно его присутствие, Таня?
— Неприятно, — проговорила она.
— Отчего? Ты меня изумляешь! Чем он тебе мешает?
— Я считаю, что он здесь вреден, — сказала Татьяна Владимировна, все еще довольно спокойно, но очень решительно.
— Вреден — для кого?
— Для Катрин.
— Как? Что ты говоришь?
Сергей Борисович совсем растерялся. Он раскрыл на жену изумленные глаза, он решительно не понимал, что она хочет сказать, что говорит. А она продолжала:
— Я не хотела вмешиваться, я думала, была уверена, что он уедет с Владимиром. Мне тяжело тебя тревожить, Сережа, — ты знаешь, но если я решилась, так ты тоже должен знать, что, значит, это не шутка.
— Ты просто пугаешь меня, и я все же ничего не понимаю.
— Обрати же, наконец, внимание на Катрин, погляди на нее пристальнее — и ты увидишь, увидишь, что она слишком заинтересована Щапским…
Сергей Борисович вспыхнул.
— Я тоже им очень заинтересован, потому что он интересный человек — и это ровно ничего не доказывает. Мне больно, зачем ты обижаешь Катрин — это на тебя не похоже! Я не узнаю тебя… Выкинь из головы такие мысли… Нехорошо… Обидно…
— Не я обижаю ее, а боюсь, как бы она всех нас не обидела…
И говоря это, Татьяна Владимировна сделала такое печальное и страдающее лицо, что Сергей Борисович в волнении поднялся со своего стула и остановился перед нею, то бледнея, то краснея.
— Таня, успокойся, пожалуйста!.. Ты что-нибудь знаешь? Ты могла ошибиться, иногда ошибиться так легко и так ужасно!.. Катрин не способна ни на что такое… Я уверен в ней, я ручаюсь… Да, она, может быть, легкомысленна немного, она так еще молода — у нее детские манеры, иногда совсем ребенок… Но она честная женщина, она любит мужа… Подумай, ведь они так недавно женаты, так молоды оба!.. За что же?.. Нет, нет, Таня, брось это, не мучься и не мучь меня!.. Это было бы так ужасно… Нет, нет, я не хочу этому верить… Я не верю… Слышишь, не верю!..
Он горячился, он почти кричал. Он как будто отталкивал от себя страшную мысль. И он успел оттолкнуть ее.
— Да и наконец, — сказал он более спокойным голосом, — Щапский порядочный человек, он не способен на такую низкую комедию.
— Защищай ее, это я пойму, — перебила его Татьяна Владимировна, — но его защищать!.. Ты будто позабыл все, что испытал в жизни, ты будто совсем не знаешь людей… Как можешь ты за него ручаться — давно ли ты с ним знаком?.. Что он тебе — старый друг, что ли? Да, правда, он ловок и хитер; но разве можно верить хоть одному его слову…
— Отчего же нет?
— Да хоть бы потому, что он иезуит.
— Иезуит, иезуит! — сердито повторял Сергей Борисович. — Пусть иезуит — какое мне дело до его религиозных убеждений!..
— Тебе никогда до этого нет дела — и это-то плохо…
— Да и наконец, — перебил он жену, как всегда перебивал, когда разговор касался этого предмета, — если бы даже твои опасения были основательны, чего я не допускаю, слышишь, не допускаю… не имею права допустить, — так что же мне делать, не могу же я его выгнать из дома без всякой видимой причины, без чего-нибудь предосудительного с его стороны, когда я сам пригласил его остаться.
— Зачем приглашал? Зачем так близорук, что ничего не замечаешь?
— Таня, а вот мне кажется, что ты замечаешь слишком много, и я уверен, что скоро ты сама будешь раскаиваться в своей несправедливости… И знай одно, не заговаривай со мной больше об этом. Я без ясных доказательств никогда ничему дурному о Катрин не поверю. Что же это, в самом деле, такое, так нельзя, нельзя!..
Совсем смущенный и рассерженный, он вышел из комнаты. Но дело было сделано — сомнение закралось. Если бы кто-нибудь иной говорил с ним так, он не обратил бы никакого внимания, он прогнал бы с глаз своих такого клеветника и сплетника, — но ведь говорила жена. Конечно, она не Бог, может ошибаться — и он надеялся, что она ошибается… Но ведь он знал свою Татьяну Владимировну всю жизнь… Он знал, как она осмотрительна, справедлива, как она боится напрасно обвинить людей… Ему казалось, что просто не она это с ним говорила — так это на нее непохоже. Почему же она так говорила? Или материнское чувство увлекло ее? Да, конечно! Самая лучшая мать — и чем она лучше, тем скорее может быть очень пристрастна, очень несправедлива, единственно потому, что она мать…
А все же недавнего довольства, спокойствия уже не было в помине. Сергей Борисович поминутно ловил себя на наблюдениях за Щапским и невесткой. Ему казалось, что он подмечает иной раз быстрые взгляды, чуть ли даже не таинственные знаки, которыми они обменивались… Он сердился на себя. «Да ведь стоит только поддаваться подозрительности — и будет Бог знает что чудиться!» — думал он и покидал свои наблюдения.
Но через несколько часов невольно возвращался к ним снова. Его начинало тревожить, когда он видел, как Щапский и Катрин гуляют вдвоем по цветнику и иногда скрываются вместе в глубину аллей. Он даже несколько раз отправлялся следом за ними и блуждал по парку, останавливаясь, прислушиваясь, подозрительно поглядывая во все стороны. Но они куда-то исчезали, и он долго не мог найти их. А когда находил — они появлялись перед ним веселые и болтали в почтительном друг от друга расстоянии.
— Ах, папа, вот и вы? Неправда ли — как здесь хорошо? — радостно щебетала Катрин, подбегая к нему и беря его под руку.
И, глядя на нее, на ее детские, наивные минки — он успокаивался. Успокаивался — а все ж таки не прекращал своих наблюдений.
И не один Сергей Борисович, но и Татьяна Владимировна, и Борис наблюдали за Щапским и Катрин. Им было противно и мучительно это делать; а между тем они делали это невольно, охраняя честь сына и брата, хотя он и не просил их об этом.
Еще по счастью эти тяжелые дни значительно осветились хорошими известиями, полученными Борисом от княгини Маратовой и Нины. Княгиня писала ему, что деревенский воздух, спокойствие, молоко очень хорошо повлияли на Нину. Она здоровеет с каждым днем, она давно уже не имела такого хорошего вида, как теперь.
Нина писала в том же духе. И из некоторых намеков, заключавшихся в письме ее, Борис мог заключить, что она мало-помалу начинает выходить из-под вредного влияния. Она начинает допускать возможность ошибки в том, что казалось ей небесным откровением. Иначе как же можно было объяснить в письме ее такую фразу: «Мне начинает иногда казаться, — писала она, — что вы, может быть, и правы. Я хотела бы получить возможность не обвинять вас больше в святотатстве. Мне очень часто приходится бороться уже не только с вами, а и с собою… Это было уже, потом прошло, а теперь опять вернулось. Какой-то внутренний голос говорит мне, что мы все ошибались, но такая ошибка… ведь это ужасно! И я все же еще боюсь ей поверить — поверю и погублю свою душу… Этого ли вы хотите?» Борис, конечно, показал эти письма матери. Она прочла их внимательно, в особенности письмо Нины, и долго потом думала.
— Что же вы скажите мне, maman? — спросил Борис.
— А ты сам что себе говоришь?
— Я доволен!
— Еще бы! Мне кажется, она, действительно, тебя любит. И я думаю это не потому, что она так откровенно и просто тебе пишет… А знаешь, в тоне этого письма есть что-то неуловимое… это нельзя объяснить, это чувствуется… Пускай поправляется. Она в хороших руках, и это большое счастье… Но, однако, какая мечтательница! И я мечтала много в молодости, но такою не была никогда и не способна была дойти до этого… Да, Борис, тебе предстоят не одни розы — я верю в твое счастье, но оно достанется тебе с трудом. Ты должен быть очень, очень с нею осторожным. Как бы я хотела ее скорее увидать, разглядеть… до тех пор я все же буду неспокойна…
Была у Бориса и другая переписка. Ему очень часто писал Вельский, писал и Рылеев, и иные из членов «союза благоденствия». Конечно, они не могли доверить много этим письмам; все они, посылая письмо, должны были рассчитывать, что оно, очень вероятно, будет вскрыто и прочтено, прежде чем дойти по назначению. Но все же они умели кое-что дать понять, и Борис догадывался из их хитро замаскированных намеков, что дело их не останавливается, а напротив, идет вперед. Он немало тревожился этим; но что же ему было делать! И мать не раз видела его задумчивым и хмурым.
— О чем ты? Или опять что-нибудь от меня скрываешь?
— Нет, у меня уж ничего нет от вас скрытого… своего! — отвечал он.
Если бы он чувствовал себя заодно с этими горячими головами, если бы он, действительно, примкнул к их делу, — он теперь, не задумываясь, открылся бы матери. Но он считал себя вне их дела и чужою тайной располагать не мог…
Между тем Катрин мало-помалу опять стала выходить из своего радостного состояния. Ее Казимир требовал от нее все больше и больше осторожности и, наконец, объявил ей, что за ними следят все, все без исключения, даже и Сергей Борисович.
— Это тебе так кажется! — уверяла она.
Но он стоял на своем.
— Если говорю — значит, не кажется. И самое лучшее — мне уехать.
— Уехать? Ни за что на свете!
— Я уеду, — повторил он. — Я скажу, что получил неожиданное известие — и уеду; но с тем, чтобы вернуться к пятому июля…
— Зачем? Ну что ж такое, ну пусть следят, если желают. Я никого и ничего не боюсь, когда ты со мною. Для меня тогда ничего другого совсем не существует. Слышишь! Разве тебе этого мало? Забудем о них о всех!..
Он, конечно, забыл бы, ему, в сущности, до всех этих людей было мало дела; он не чувствовал в себе такой Щепетильности, которая бы мешала ему наслаждаться жизнью, видя, что его присутствие неприятно хозяевам Дома, в котором он живет. С ним любезны, ему ни разу не сделали никакого намека, самолюбие его ничуть не страдает… Но дело в том, что ему уже становилось скучно с Катрин. Она ему сначала очень понравилась. Он еще прошлого осенью ее наметил и скоро убедился, что произвел на нее неотразимое впечатление. Это было ему не в диковинку. Он привык, что все женщины, на которых он обращал внимание, перед ним таяли. Весь вопрос был во времени. Но, во всяком случае, вся эта борьба была только игрою, и чем меньше оказывалось в женщине лицемерия — тем скорее игра прекращалась.
Катрин не хотела лицемерить… Но она была слишком мелочна, слишком пуста. Одного кокетства, и, вдобавок, очень однообразного, ему недостаточно. Все эти сентиментальности (а Катрин, за отсутствием чувства, была порою очень сентиментальна в этом первом своем любовном похождении) становились для него слишком пресными.
Он подумал, что можно разнообразить свое свободное летнее время, и решился уехать. Ни мольбы, ни слезы в глубине парка его не остановили. Он обещал непременно вернуться к пятому июля, дал слово. Пришлось согласиться. Но, впрочем, Катрин видела, что с ним нелегко сладить. Она даже на него рассердилась и простилась довольно холодно. После его отъезда она весь день обдумывала, как бы отомстить ему, как бы заставить его вымаливать прощение.
«Нужно будет возбудить его ревность!»
Она решила непременно сделать это, когда он вернется.
VIII. В ТИХОЙ ОБИТЕЛИ
Август приближался к концу. Княгиня Маратова собралась уезжать из деревни в Петербург. Она уже чувствовала потребность вернуться к своей привычной жизни. Она уже давно скучала без общества, то есть без постоянной смены лиц, любовь и привычка к которой составляли у нее почти болезнь, непреоборимую потребность.
Уезжая из Петербурга в деревню, она чувствовала себя утомленной и в первое время была так рада очутиться в уединении, на свежем воздухе. Она замечала, как с каждым днем в нее вливается новый поток здоровья, как голова ее освежается. Но теперь она достаточно запаслась этим здоровьем, стряхнула с себя все городское утомление и начала сильно томиться однообразием деревенской жизни.
«Пора, давно пора, а главное, не для одной себя, а для Нины». Борис пишет, что он тоже скоро приедет в Петербург. Нужно же благополучно окончить это дело.
Княгиня знала, что впереди предстоит немало затруднений, что найдется немало людей, которые задумают помешать ее планам так или иначе. И хотя она была довольна Ниной, то есть ее относительным спокойствием и здоровьем, видимо поправившимся, но все же она не была еще в ней уверена. Все идет хорошо и гладко. Нина, по-видимому, смотрит на вещи благоразумно, а вот нет-нет да и прорвется прежнее какое-нибудь слово, которое так и бросит княгиню в краску.
— Ну, матушка, опять то же! Да брось ты все эти бредни… помни только одно, что тебя ждет прекрасный человек, которого ты любишь и которого ты непременно должна, обязана сделать счастливым.
Княгиня понимала, что если и возможно будет все благополучно кончить при отсутствии препятствий, то стоит только появиться первому препятствию — и Нина ослабеет, она увидит в нем какое-нибудь указание свыше — и опять занесется. Она решила, что самое лучшее, ввиду неисправимости Нины и слишком укоренившегося в ней мистически религиозного настроения, подвергнуть ее новым впечатлениям, тоже мистически религиозным, но в несколько ином роде, — таким впечатлениям, которые заставили бы ее отвернуться от странного сектантства Татариновой. В чем состояла эта секта — княгиня так и не могла подробно добиться от Нины, но она поняла, что тут есть что-то и что это «что-то», наверно, противно православию.
Она давно освободилась от смутившего ее приятного впечатления, которое произвела на нее Татаринова. Теперь она снова относилась к этой женщине недружелюбно, она считала ее, по ее выражению, «влезающей в душу, хитрой лицемеркой». Но она была настолько осторожна, что не говорила этого Нине. У нее мелькнула такая, как ей казалось, счастливая мысль: «Нужно побить Нину ее же оружием! Да, конечно, это будет самое лучшее!.. Возвращаясь в Петербург, мы заедем в Юрьевский монастырь к графине…»
Графиню Анну Алексеевну Орлову-Чесменскую княгиня знала давно. Она еще в первой юности своей бывала в Москве у графа Алексея Григорьевича, в его великолепном доме у Донского поля. Теперь уже много лет как графиня стала почти невидимой, вела отшельническую жизнь; но все же, в качестве камер-фрейлины, очень любимой царской семьею, изредка приезжала в Петербург. Княгиня с нею встречалась и встречалась почти дружески. Про графиню Анну Орлову, в особенности со времени ее сближения с монахом Фотием, в настоящее время архимандритом Юрьевского монастыря, ходило очень много неблагоприятных, двусмысленных толков. Но княгиня была уверена, что эти толки — плод досужей и злой фантазии общества. Она считала графиню Анну высоконравственной, умной и благородной женщиной, почти святою. Да и на архимандрита Фотия, хоть и видела его всего раз мельком, глядела как на подвижника, благодаря некоторым сердечным беседам с графиней.
«Фотий — глубоко верующий и истинный христианин; графиня Анна — тоже, — подумала она, — оба они обладают удивительным красноречием… Чего я не могу сделать с Ниной, то легко могут, пожалуй, сделать они… Если захотят — легко докажут Нине ее заблуждения, отвлекут от еретических мыслей…»
Она написала к графине Орловой письмо, в котором кое-что сообщала относительно Нины и постаралась заинтересовать ею. Графиня отвечала, что с удовольствием примет их у себя на несколько дней и всегда рада помочь делу спасения души человеческой. Нина очень удивилась, когда княгиня сказала ей, что они отправятся не прямо в Петербург, а заедут сначала в Юрьевский монастырь; но нашла, что это очень хорошо.
— Говорят, монастырь теперь узнать нельзя, — сказала княгиня, — я, помню, бывала там не раз; это был совсем бедный, заброшенный монастырь, а теперь, благодаря щедрости графини Орловой и радению архимандрита Фотия, он стал так красив, богат… Туда приходят со всех сторон богомольцы, там устроены приют и богадельня для больных и бедных. Графиня ничего не жалеет… скольких людей она избавляет от нищеты, спасает от смерти!.. Знаешь ли что, Нина… может и ты слышала… про нее говорят много дурного… ты ее узнаешь и сейчас же поймешь, что только злоба, зависть и клевета могут чернить такую женщину. Я помню еще девочкой это удивительное создание: она мне всегда казалась ангелом. Ты знаешь — ведь у отца ее немало грехов на душе было, и она это знала. Она любила его, она была его единственным ребенком, он умер, оставив ее молодой девушкой с громадным состоянием. В женихах, конечно, не было недостатка — да и в каких! Императрица Мария Федоровна, я знаю это наверно, хотела устроить ее брак с кем-нибудь из своих родственников — иностранных принцев. Она могла бы быть принцессой — и никого бы это не удивило. Но она еще в самые молодые годы, еще почти ребенком, решила не выходить замуж и отдать всю свою жизнь бедным, несчастным и молитве о грехах отца. И она исполнила свое решение… Да, это удивительная женщина…
Нина слушала с возраставшим вниманием и была под конец так заинтересована, так восхищена графиней Орловой-Чесменской, что с большим волнением и сердечным трепетом подъезжала к Юрьевскому монастырю.
Графиня Анна Алексеевна уже несколько лет как купила для себя близ монастыря небольшую усадьбу и большую часть года теперь жила здесь, отказавшись от пышности и блеска, довольствуясь самой скромной обстановкой, имея необходимость только в одном — в постоянном общении со своим духовником и наставником отцом Фотием…
Вечерело. Весь день был хотя свежий, но ясный. Солнце только что зашло, когда громадный дормез княгини повернул по пыльной дороге из-за леса, и Нина, выглянувшая в каретное окошко, увидела блестящие главы живописно расположенной обители, по верхам которых еще скользили последние лучи солнца.
Усадьба графини стояла из небольшого двухэтажного дома незатейливой архитектуры, расположенного среди густого сада. Никаких следов привычной в богатых барских усадьбах роскоши здесь не замечалось. По довольно узкой, обставленной деревьями дороге дормез подъехал к воротам. Княгиня и Нина вышли из экипажа в сопровождении своего лакея. Они прошли через небольшой, чисто выметенный двор. С подъезда к ним навстречу шла какая-то бледная женщина почти в монашеской одежде и, узнав, кто они такие, пригласила их в дом, говоря, что графиня еще со вчерашнего дня их ожидает.
— Только их теперь нету, вам обождать придется, ко всенощной отправились, — прибавила она.
Приезжие вошли в дом. Тут все было очень просто, и хотя комнаты и большие и светлые, с блестящими паркетными полами, но каждая из них казалась такой неуютной, холодной. Мебели немного, никаких драпировок и портьер на тяжеловесных дубовых дверях и широких окнах. Полное отсутствие ковров, картин и предметов роскоши.
— Вот как она живет! — шепнула княгиня Нине. — Но это, мне кажется, даже слишком, такая унылая обстановка, такая пустота в комнатах…
— Нет, я очень понимаю это, — ответила Нина, — так и следует, так и должно быть… Здесь мне очень, очень нравится…
Тихая, молчаливая женщина провела их теперь в предназначенные им комнаты. Это были две небольшие комнаты нижнего этажа, выходившие окнами в сад и имевшие вид келий. В каждой комнате были поставлены кровать, большой комод, жесткий диван, перед диваном овальный тяжелый стол, несколько кресел и стульев. В углу образ с зажженной лампадой — и больше ничего.
Княгине очень это не понравилось. Она с детства привыкла к совсем иной обстановке. Она любила, чтобы кругом нее все было уютно, красиво. Любила понежиться в широких мягких креслах. Любила спать на мягких перинах. Тут же, взглянув на кресло с кожаным сидением и узенькими деревянными ручками, она подумала, что со своей толщиной даже, пожалуй, и не усядется в такое кресло. Взглянула на кровать — и почувствовала некоторое уныние. Кровать была узкая, матрац оказался довольно жестким. Но она не стала жаловаться Нине, она боялась откровенно передавать ей теперь свои впечатления. Умывшись и переодевшись с дороги, они прошли наверх и стали дожидаться хозяйку.
Им обеим, а в особенности княгине, очень хотелось есть. Но об их угощении с дороги, по-видимому, никто и не думал. Наконец, когда уже совсем стемнело и в комнате зажгли свечи, появилась графиня со всенощной.
Нина видела ее в первый раз. Это была женщина далеко еще не старая, лет под сорок, очень приятной наружности, хотя и не особенно красивая. На ее спокойном лице видны были и доброта, и благородство. Но, несмотря на это, Нина все же несколько изумилась. Она представляла себе графиню Орлову совсем иной. Она думала, что встретится с каким-нибудь особенным сущеетвом, у котором мало даже земного. А между тем перед нею стояла совсем обыкновенная женщина.
Она очень радушно поздоровалась с княгиней, благодарила ее за приезд и затем, любезно улыбаясь, сжала руку Нины. Затем она усадила гостей на жесткую мебель комнаты, где их встретила, и велела давать чай. Подали чай. Княгиня даже невольно покраснела. Она любила покушать и чувствовала, что голод ее усиливается с каждой минутой. А это что же такое? Подали всего три чашки и две просфоры, даже сливок не было к чаю. Княгиня вспомнила, что день постный. Но хозяйка, очевидно, была очень далеко от забот о хлебе насущном. Сама она выпила свою чашку маленькими глотками, не прикоснулась к просфоре, не спросила гостей не хотят ли они чего-нибудь и тотчас же начала рассказывать о всех усовершенствованиях, сделанных в монастыре.
Она оживилась, вдавалась в подробности. Княгиня делала вид, что слушает внимательно, что интеревуется, но в то же время скучала ужасно, едва удерживалась от зевоты, а главное — сердилась. Она чувствовала себя утомленной с дороги, да и час был уже довольно поздний, скоро пора будет спать и ей придется лечь на тощий желудок. Это ее решительно раздражало.
«Нет, это ни на что не похоже! — думала она. — Можно быть святой, можно презирать земную суету, но зачем же людей морить голодом!..»
Нина была очень далека от подобных мыслей. Выпив чашку чая и съев кусок мягкой и очень вкусной просфоры, она уже насытилась и с большим удовольствием слушала графиню. Ей нравилось, как та говорила — так спокойно, не спеша. Все лицо ее оживилось, когда она стала высчитывать, сколько бедных ежедневно приходит кормиться в обитель. Потом, обращаясь к Нине, она стала рассказывать о том, с какими людьми ей приходится здесь встречаться, как многому можно научиться от этих простых, темных людей, какая в простом русском человеке живет глубокая, истинная вера в Бога…
Нина просто не замечала, как идет время в этих интересных рассказах. Пробило девять часов, и графиня сказала:
— Мы рано ложимся, чтобы поспеть к заутрене, да и вы, я полагаю, устали с дороги.
— Да, Нина, это правда, посмотри, какая ты бледная, ступай, мой друг, и я приду сейчас.
Нина простилась. А княгиня обратилась к хозяйке:
— Милая графиня, что вы мне скажете? Как вам показалась моя девочка?
— Она мне понравилась!
Тогда княгиня подробно рассказала то, о чем не могла написать в письме, и попросила у Анны Алексеевны совета.
Та подумала.
— Вы очень хорошо сделали, — наконец сказала она, — что привезли ее сюда, ее нужно утвердить в православной вере и убедить ее в том, какая вечная погибель для души — отступление от истинной веры… Но я для этого слаба… Где же мне браться за такое дело!.. Я поговорю с отцом архимандритом и, думаю, что он возьмется. Вы пробудете здесь несколько дней. Пусть он побеседует с нею. О, конечно, он ее наставит… он ей поможет!..
— Только одно, дорогая моя, — перебила ее княгиня. — Вы уж не говорите ей о том, что ей не следует выходить замуж, — докажите ей, что можно и в замужестве вести жизнь истинно христианскую и делать добро.
Графиня изумленно на нее взглянула.
— Зачем же это? — сказала она. — Я всю жизнь была того мнения, что не следует выходить замуж.
— Ах, Боже мой, вы — совсем другое дело! Я уверена, твердо уверена, что ее спасение именно в выходе замуж за человека, которого она любит. А лучше совсем не говорите с нею, если не можете обещать мне, что не станете отдалять ее от мысли о замужестве…
Княгине долго пришлось убеждать «Христову невесту» и доказывать, почему Нина должна выйти за Горбатова. Наконец они столковались: графиня дала обещание не только за себя, но и за Фотия. Тогда княгиня, успокоившись и простившись с хозяйкой, сошла в свою келью. Она была очень приятно удивлена, увидя у себя на столе хотя и постный, но очень вкусно приготовленный ужин. Вошедшая вслед за нею бледная женщина в монашеском платье сказала ей:
— Графинюшка наша строгий пост соблюдает, а вы, сударыни, чай, с дороги-то проголодались — так я и распорядилась… Покушайте, вот и барышня тоже… как это можно так, с дороги-то!
— Спасибо, матушка, большое вам спасибо! — довольным тоном отозвалась княгиня.
Она с удовольствием присела к столу, позвала Нину. Но оказалось, что Нина уже разделась и ужинать не хочет.
IX. ФОТИЙ
Несмотря на то, что кровать была узка и матрац не отличался особенной мягкостью, княгиня заснула скоро, и в то время как благовестили к заутрене, она спала самым крепким и здоровым сном. Спала и Нина. Ставни были закрыты, тишина в доме стояла полная. И обе они, наконец проснувшись и наскоро одевшись, едва-едва поспели к обедне.
Нина была в спокойном и бодром настроении. Войдя в монастырь, она поразилась огромным стечением народа. Весь путь от ворот до самой церкви, в которой уже началась служба, им пришлось сделать среди густой толпы богомольцев, нищих, калек. На самых видных местах стояли и сидели мужчины, женщины и дети ужасного и отвратительного вида, олицетворения всевозможных человеческих недугов. Кто был покрыт весь ранами, кто выставлял напоказ красный, бесформенный обрубок ноги, кто совал вперед что-то невозможное, обернутое в грязное тряпье — руку, доходившую только до локтя и затем оканчивавшуюся каким-то наростом. И все эти несчастные калеки, на все лады жалобным голосом произносившие свое «Христа ради», протягивали к проходившим маленькие деревянные чашечки, предназначенные для сбора милостыни. Княгиня и Нина роздали уже всю мелочь, какая была с ними, а чашечки все протягивались и все жалобнее, и все ужаснее слышалось «Христа ради».
Влеремежку с нищими расположились богомольцы, которые уже отстояли ранние службы и теперь отдыхали здесь, тем более что в церкви не было места. Некоторые, очевидно, пришли издалека, из южных и юго-восточных губерний, на что указывал покрой их одежды и черты загорелых лиц. Несмотря на впечатление нищеты, бедности немощи человеческой, какое-то благоговейное чувство сходило на Нину и возрастало в ней. Наконец, поднявшись на церковную паперть, запруженную народом, они добрались до дверей. Княгиня обратилась к Нине и почти испуганным голосом сказала:
— Как же мы проберемся вперед — ведь задавят!..
Крепкий запах всех этих сермяг сразу показался им просто невыносимым. Но, сдерживая дыхание, они стали пробираться вперед. Огромная, толстая княгиня, видя, что иначе невозможно, стала работать руками. Мужики и бабы старались почтительно сторониться и давать ей дорогу; но это оказалось очень трудно — такое множество людей набралось в небольшой церкви. Однако все же, несмотря на все затруднения, княгиня, краснея, с лоснящимся лицом, пробралась вперед к правому клиросу.
— Нам бы туда, к графине… вон ее место… там просторнее! — шепнула она Нине.
— Нет, лучше останемся здесь, ma tante, — ответила Нина, — ведь не пройдем, а здесь хорошо.
Княгиня кивнула головою, быстрым взглядом окинула новый иконостас, покрытый прекрасной живописью, богатыми ризами, сияющий огнями, и начала креститься. Потом она осмотрелась. Весь клирос, у которого они стояли, был занят монахами, да и за ними тоже разместились несколько монахов. А дальше шла сплошная масса народу, — негде было упасть и яблоку. Несмотря на дуновение, временами проносившееся от открытых окон, духота была страшная, мешалась с запахом ладана и народа и туманила голову. Служба шла медленно и торжественно. Хор монахов был хорошо составлен.
— Что же это, никак не архимандрит служит? — шепнула княгиня.
Но Нина ее не слушала, она усердно молилась.
Когда боковая дверь в алтарь, перед которой они стояли, отворилась, княгиня с невольным любопытством туда заглядывала, желая увидеть Фотия — но его не было видно. Не имея возможность удовлетворить свое любопытство, она принялась тоже молиться, но скоро почувствовала, что в ней на этот раз совсем нет молитвенного настроения. Теснота и духота на нее слишком действовали при ее тучности. Вся кровь бросилась ей в лицо. Она почувствовала слабость в ногах, безнадежно обернулась и убедилась, что выйти из церкви теперь не представлялось никакой возможности. Ей казалось, что время тянется особенно медленно, что конца не будет этой обедне.
Служба шла своим чередом. И вот хор запел «Отче наш». Мгновенно по церкви пронесся как бы некоторый гул, все, кто мог, опустились на колени. И неожиданно для княгини, монахи, вплотную стоявшие за нею, тоже упали на колени и поклонились до земли, ударив ее по ногам своими клобуками. Это было так неожиданно, она чувствовала такую слабость в ногах, что не удержалась, у нее подкосились ноги — и она так и села. Села на головы несчастных монахов.
Нина, сосредоточенно молившаяся, не сразу даже заметила это. Но вот княгиня барахтается, хочет встать и никак не может. Несчастные монахи, стиснутые со всех сторон, почти задыхающиеся под навалившейся на них тяжестью, тоже барахтаются. Нина изо всех сил поднимает тетку, но силы у нее маленькие. У княгини кружится голова, она почти теряет сознание. Наконец, кое-как с помощью подоспевшего монаха, ее удалось поднять и освободить несчастных, которые встали с раздавленными клобуками. Княгиня стояла смущенная, взволнованная и рассерженная. У Нины тоже прошло все молитвенное настроение. Она заботливо поглядывала на княгиню; но в то же время вся эта трагикомическая сцена вызывала в ней непреодолимое желание смеяться. Она не удержалась от улыбки.
— Пойдем, ради Бога! — шепнула княгиня. — Я не могу, я задохнусь, со мной удар будет.
— Да как же мы пройдем?
Нина умоляюще взглянула на стоявшего рядом с нею монаха. Он понял серьезность положения и вызвался проводить их. По счастью, недалеко от клироса была маленькая дверца; через эту дверцу они и вышли. Княгиня тяжело оперлась на руку Нины и всею грудью вдыхала в себя свежий воздух, обмахиваясь надушенным платком. Они очутились среди палисадника, разбитого у церкви, и заметили скамью под большой уже совсем пожелтевшей липой. Княгиня едва дошла до скамьи и тяжело опустилась на нее, так что скамья затрещала. Наконец княгиня пришла в себя и вдруг, взглянув на Нину, сделала самое смешное лицо и рассмеялась своим. густым, Добродушным смехом.
— Фу! — проговорила она. — Ведь это со мной только и может случиться! Монахи-то… бедные монахи!.. Я не могла взглянуть на них. Ты не заметила, Нина, ведь я, должно быть, носы расплюснула им по меньшей мере.
Нина тоже забыла совсем о грехе и смеялась от всей души.
— Нет, ma tante… ничего… носы целы… только клобуки… как блины стали…
— Нет, матушка, ты подумай только — каково им было… ты подумай, погребены под развалинами!.. Прости, Господи, грех какой!.. — вдруг докончила она, переменяя тон. — И к мощам не приложились, и отца архимандрита не видели. А уж теперь куда! Посидим здесь, подождем графиню…
Ждать им пришлось недолго. Народ скоро стал выходить из церкви. Затем вышла и графиня, с бледным, спокойным лицом, полуопущенными глазами. У нее в руках был мешочек, наполненный деньгами, которые она стала раздавать окружавшим ее и пробиравшимся к ней нищим. Увидя княгиню и Нину, она подошла к ним.
— Ах, матушка, — сказала княгиня, — вот я обедню достоять не могла — дурно мне сделалось, совсем дурно… на монахов села… чуть не раздавила.
Но как ни комично произнесла она эти слова — графиня не только не улыбнулась, но ее лицо сделалось еще спокойнее и серьезнее.
— Пойдемте к отцу архимандриту, — сказала она, — он теперь может вас принять.
— Ах, как я рада, вот это прекрасно!
И княгиня тяжело поднялась со скамейки.
Через несколько минут они входили в помещение Фотия. Служка отпер перед ними двери, и они очутились в небольшой комнате, все убранство которой состояло из дивана, стола и нескольких стульев. На диване сидел небольшого роста, сухой человек, с молодым еще, но болезненным, желтым, будто восковым лицом, с редкой бородкой. На самые брови была надвинута скуфья, и глубоко впавшие, с красноватыми веками неопределенного цвета глаза глядели твердым, строгим взглядом. Он немного приподнялся при появлении гостей, но сейчас же и опять сел.
Графиня назвала своих спутниц. Он приподнял руку. Они подошли под благословение. Когда Нина поцеловала эту небольшую сухую, с желтоватой сморщенной кожей руку, она почувствовала неприятный запах, исходивший от этого человека. Потом, в продолжение свидания она убедилась, что ей это не показалось. Запах объяснялся глубокой раной на груди Фотия, которой он страдал много лет. После минуты довольно неловкого молчания, архимандрит обратился к княгине.
— Она говорила мне, — начал он, указывая на графиню, — что вы возымели благое желание посетить сию обитель. Радуюсь за вас…
Княгиня сделала постное лицо и с благословением отвечала:
— Давно уже желала я этого, отче, а главное — хотелось мне, чтобы племянница моя удостоилась вашего благословения и послушала ваших святых поучений, которые могут ей принести много пользы, открыть путь к истинному спасению души.
Фотий поднял на Нину строгий взгляд, равнодушно оглядел ее и сказал тихим, не особенно приятным, несколько шипящим голосом:
— Я сам не достиг спасения души, как же могу учить других достигнуть этого! А путь один: пусть читает Святое Писание, Жития Святых, соблюдает Заповеди Господни и молится.
— Но без должного руководства, отче, — заметила графиня, — неопытный ум может вдаться в ложные толкования Священного Писания.
Фотий посмотрел на Нину еще строже.
— Как же это слабый человеческий разум осмеливается в слепоте своей толковать слова Господа?.. Что толковать? В сих словах все ясно.
Нина решилась и заговорила.
— Конечно, в них все ясно, — сказала она, — но только для тех, чей разум окреп в учении веры… Мне кажется, отче, что если человек не смеет сам толковать того, что ясно не понимает, то он может и должен просить толкования у других, у людей, понимающих истинный смысл священных слов… Позвольте же мне, отче, просить у вас истолкования того, что мне неясно.
— Что же такое вам неясно? Говорите! — резко перебил Фотий.
— Я бы вас просила, — не без волнения сказала Нина, — растолковать мне первые пять стихов главы четырнадцатой первого послания к коринфянам.
— Анна, пойди принеси мне книгу, — обратился Фотий к графине, — она вот тут, рядом на столе.
Графиня быстро встала и прошла в соседнюю комнату. Нина очень изумилась этому «Анна» и «ты» и вообще довольно грубому тону, которым Фотий говорил с графиней. Фотий раскрыл книгу, громко прочел пять стихов, указанных Ниной, и поднял на нее свои пристальные, холодные глаза.
— Что же вам здесь непонятно? Что требует исполнения?
Нина просила его объяснить ей, что такое «пророчествование» и «глаголание языки», о которых говорит апостол.
— Пророчествование и глаголание языки, — сказал Фотий, — это благодать Святого Духа, дар, ниспосланный по милости Господа ученикам Христовым.
— Я это хорошо понимаю, — заметила Нина, — мне хотелось знать — если в первые времена христианства были люди, получившие от Господа этот дар, то неужели и в последующие времена, и теперь не может быть людей, которые бы удостоились такого дара? Есть теперь такие люди или нет? Можно ли теперь пророчествовать и говорить на неизвестных языках?
— Чтобы достигнуть этого, нужна великая святость, а где же в наши дни святые люди? — сказал Фотий.
Они несколько минут беседовали на эту тему. Но Фотий, этот Фотий, пленявший своим красноречием императора Александра и доводивший его до слез, не мог произвести никакого впечатления на Нину. Он, видимо, был утомлен и страдал от своих недугов, говорил вяло и не решил ни одного из этих вопросов, решения которых жаждала Нина. Он оживился только тогда, когда графиня, очевидно, умевшая его настраивать, подвела так разговор, что заставила его коснуться вопроса о видениях, посылаемых Богом.
— Вы, может быть, слышали, княгиня, — сказала она, обращаясь к Маратовой, — что отец Фотий удостоился видений…
— Не слыхала! Какие же видения были у вас, отче? Удостойте сообщить нам, пожалуйста, расскажите!
— Да, расскажите сами, чтобы они слышали этот рассказ из уст ваших! — просила графиня.
Фотий взглянул на княгиню и Нину с некоторым недоверием. Но вдруг глаза его блеснули, он заговорил:
— Да, я удостоился видений. Напал на меня сон… И сон этот был сладок зело и глубок. И узрел я: ночи тьма, а перед лицом моим было ясно и прозрачно от земли и до небеси. Вдруг поднялась буря, и твердь небесная заколебалась, и стало смятение. На востоке появилась луна и засветилась, но мгла затмила ее, и луна поколебалась. И восхотел я знать, что значит сие видение, и услышал голос, глаголющий: «Знамение!» — и скрылась луна. А далее было: близ луны появился круг прозрачный, больший луны в несколько крат, и внутри от круга бысть аки бы часть создания земного подобием языка, по ней бысть другая часть и третья и вкупе сие три языка, в небесном том кругу, то вращались, то двигались; и страх и ужас от движения их был на вся; пребывали же движаси три части, не сдвигаясь с места своих, и когда, недоумевая, аз спросил: к чему знамения суть сия? Бысть свыше глас, вопия: «К брани!..»
Фотий остановился, переводя дух.
Графиня слушала его с благоговением. На лице княгини выражалось некоторое недоумение. И она искоса посматривала на Нину. Нина сидела с застывшим лицом и почти потухшими глазами. Ей было тяжело и неловко, она чувствовала даже какое-то раздражение. Фотий произвел на нее впечатление, но вовсе не такое, какого она ожидала, впечатление очень неблагоприятное, даже отталкивающее. Этот хилый и грубый человек, с окружавшей его атмосферой болезни, казался ей просто противным. Она не чувствовала его святости, не видела его ума и красноречия, о котором так много говорилось в петербургском обществе. Она не верила в эти его видения и не понимала их смысла.
— Отче, поведайте и другие, бывшие вам видения! — просительным голосом и робко заглядывая в глаза Фотия, проговорила графиня.
Но он сделал также вид, будто не слыхал ее слов и упорно молчал.
— Какой же совет вы преподадите нам, отче? — спросила княгиня. — Чем напутствуете мою племянницу?
Фотий опустил глаза и заговорил, ни на кого не глядя:
— Блюди себя, девица, от соблазнов, от нечистых помыслов, от угождения плоти. Не украшайся нарядами, не измывай лица своего благовонными водами и не помазывай мастями. Подвизайся в духе милосердия, пребывай в молитве… а пуще всего блюди свое девство!..
Княгиня не выдержала и даже завозилась в своем жестком кресле. Она укоризненно взглянула на графиню. Но та, не мигая, смотрела на Фотия.
«Что же это! — думала княгиня. — Что же это? Комплот!.. Она меня обманула!..»
— Отче! — сказала она, перебивая его. — Какой же грех девушке выйти замуж за благочестивого христианина, если она намерена честно исполнять обязанности жены и матери?
Фотий поднял на нее глаза, а потом с некоторым пренебрежением снова опустил их.
— Нет спасения в миру, — продолжал он, — ежели хочет спасти душу, пусть бежит от мира, пусть сохранит свое девство нетленным и обрящет жениха небесного…
Он даже поднял руки и погрозил по направлению Нины. Княгиня встала, вся багровая.
— Однако мы утруждаем отца архимандрита.
Она подошла под его благословение. Нина последовала ее примеру и никак не могла победить в себе чувства брезгливости, когда целовала руку.
Они вышли, оставив графиню с Фотием. Княгиня опять обмахивалась платком и вдыхала в себя воздух.
— Фу! — повторяла она. — Как у него душно, как душно!
А сама думала:
«Дура я! Дура! Ну, чего это сюда ее притащила, — какая польза? Вред только! Да он еще хуже Татариновой!..»
— Как тебе показался отец Фотий? — обратилась она к Нине.
— Ma tante, скажу прямо — он мне очень не понравился…
— И мне тоже! — отрезала княгиня.
На следующее утро они уехали от Орловой.
X. В ПЕТЕРБУРГЕ
Наступила осень 1825 года. Осень эта в Петербурге была сырая, туманная; часто бушевали сильные ветры. Петербургские жители с тяжелым чувством вспоминали о страшной беде прошедшего года — о наводнении, и тревожно, даже с ужасом, толковали: «Кто же может поручиться, что беда ушла навсегда, — а вдруг она вернется? Положим, приняты меры, но с бушующей стихией как сладишь?» У многих обитателей нижних этажей даже были сделаны все приготовления на случай несчастья, уложены все вещи. Многие ежедневно спешили к Неве, смотрели на воду, измеряли высоту ее. Но и помимо этих страхов Петербург был как-то мрачен. Общество уныло, государыня все больна, больна серьезно. Государь уехал в Таганрог. Поговаривали, что уехал он таким мрачным, будто с какими-то печальными предчувствиями. Положение вещей тоже представлялось крайне запутанным; неудовольствие охватывало умы. Имя Аракчеева произносилось все с большим и большим негодованием. В самых разнообразных кружках и слоях столичного населения ходили толки о каком-то заговоре. Многим было известно, что государь уже не раз получал доносы, разоблачения, только оставлял их без внимания…
Действующие лица этого рассказа снова все были в Петербурге и не замечали, поглощенные интересами своей жизни, как много прошло времени, как многое изменилось. Даже старики Горбатовы приехали вместе с Борисом, Катрин и маленьким Сережей. Катрин все лето была в мрачном настроении духа — Щапский обманул ее, не приехал к пятому июля, и она до сих пор его не видала. Этого мало, она до последнего времени даже не знала, где он. Он ей не писал. Таким образом, все ее планы хорошенько его помучить не могли быть приведены в исполнение.
«Неужели он, действительно, разлюбил меня, неужели все кончено? — с отчаянием думала она, когда ей пришлось убедиться, что уже нечего ей ждать его в Горбатовском. — Нет, быть может, и в самом деле ему никак нельзя было приехать. А не пишет он: боится, верно, что письма могут быть перехвачены. Да и как знать, от этих людей всего ожидать надо… Может быть, он и писал мне, а письма перехватывали, и я их не получала…»
Она стала подозревать и Татьяну Владимировну, и Бориса, и даже Сергея Борисовича. Она начала следить за ними, подслушивать. Очень часто заводила разговор о том, что письма пропадают, что, наверное, пропало много писем, ей адресованных. И при этом она внимательно всматривалась в лица родных. Но и Татьяна Владимировна, и старик Горбатов, и Борис спокойно выдерживали ее взгляды. Она ничего не могла заметить. Она волновалась, скучала, капризничала, иногда по целым дням не выходила из своих комнат. Потом начинала выдумывать какие-нибудь особенные parties de plaisir, рассылала приглашения соседям, сама разъезжала то туда, то сюда. Потом, когда в доме были ею же приглашенные гости, она вдруг сказывалась больной, уходила к себе и запиралась.
Было еще одно обстоятельство, немало способствовавшее ее странностям, — она почувствовала, что снова готовится стать матерью. Когда она сообщила об этом Татьяне Владимировне, та невольно вздрогнула и вдруг так побледнела, что если бы это не было уже в сумерки и если бы Катрин вздумала попристальнее в нее вглядываться то испугалась бы. Однако Татьяна Владимировна очень быстро справилась со своим волнением и сказала:
— Что же, Катрин, это в порядке вещей, и я очень рада.
Но Катрин вдруг всплеснула руками и заплакала.
— Есть чему радоваться! — сквозь слезы пролепетала она. — Это просто несчастье!..
— Что ты, что ты! Что с тобой, какое несчастье?!.
Голос Татьяны Владимировны дрогнул. А Катрин продолжала:
— Да я никак не ждала этого, я думала веселиться всю эту зиму… — вот и веселье!.. Господи, что я за несчастная такая?
— Катрин, опомнись, как тебе не стыдно… другая радовалась бы на твоем месте… Если ты не хотела иметь детей, зачем же выходила замуж?
— Да разве я знала?!.
— Мне очень больно это слышать, — сказала Татьяна Владимировна, — очень больно и за тебя, и за Владимира.
— Ему все равно, — перебила Катрин, — ему это ни в чем не помешает… а я…
Она опять заплакала.
— Я без ужаса и подумать не могу… А я строила планы…
Татьяна Владимировна постаралась ее успокоить. Но все-таки должна была уйти, оставив ее в слезах. Встретясь с Борисом, она сообщила ему эту новость.
— Она сама вам сказала, maman?!. Значит — это верно?
— Конечно.
Они взглянули друг на друга и тотчас же опустили глаза и разошлись, не произнеся больше ни слова. Несколько дней все были очень мрачны, за исключением Сергея Борисовича, который радовался полученному известию и только удвоил нежность к невестке. Щапского не было. Татьяна Владимировна не заводила больше прежнего разговора. Он забыл свои страхи, свою мнительность. Он ухаживал теперь за Катрин, как нянька за ребенком, относилась к ней так бережно, как будто она была фарфоровая куколка, которая вот-вот упадет и разобьется. Когда они возвратились в Петербург и Катрин объявила Владимиру о своем положении, он презрительно взглянул на нее из-под полуопущенных век, а потом равнодушным тоном прибавил:
— Ну, и что же… будьте теперь только осторожны относительно вашего здоровья, чтобы не повторились безрассудства, какие вы делали перед рождением Сережи… у вас есть опыт.
Но, оставшись один, он вдруг задумался. Он, видимо, что-то соображал. Вдруг краска залила его щеки, глаза блеснули, он ударил кулаком по столу.
«Да нет же, этого быть не может! — прошептал он. — Она до этого не дойдет… кокетка… глупа… но все же… Нет, вздор!..»
А между тем с этого времени Катрин не раз замечала на себе его взгляд, какой-то новый взгляд — пытливый, подозрительный, будто желающий что-то отгадать в ней. Она даже несколько смущалась под этим взглядом, хотя очень быстро ободряла себя и принимала вид чистоты и невинности. Она ждала — вот-вот он что-нибудь ее спросит, начнет какое-нибудь объяснение. Она приготовилась ко всяким вопросам, ко всяким объяснениям… Но он ничего не спрашивал…
Едва приехав в Петербург, она навела справки относительно Щапского, но не у мужа. Она теперь совсем перестала с ним говорить об его приятеле. Она узнала, что Щапский еще не возвращался. Тогда она принялась за визиты, за приемы гостей. Объездила все магазины, посылала заказы в Париж к зимнему сезону. По утрам у нее происходили совещания с модистками. Войдя в эту обычную колею, она значительно успокоилась и иногда казалась даже очень веселой и беззаботной…
Тем временам Борис уже успел повидаться с Ниной. Войдя в гостиную княгини и застав их обеих, он сразу должен был убедиться, что все обстоит благополучно.
— Вот, смотрите, Борис Сергеевич, — говорила княгиня, крепко сжимая его руку, — смотрите, кажется, она поправилась!..
Да, она поправилась: в ней не было уже прежней чрезмерной бледности, она немного пополнела. Прекрасные глаза ее уже не светились лихорадочным, беспокойным блеском. Она улыбалась, она вся сияла, идя навстречу Борису, и все сказала ему этой улыбкой. Он огляделся. В гостиной никого не было. Он взял руку Нины и, не выпуская ее, обратился к княгине:
— Я явился к вам, как враг за добычей! Я не отдам вам теперь ее! Я возьму ее хоть силой…
Княгиня улыбалась самой добродушной улыбкой. Ее быстрые черные глаза перебегали с Бориса на Нину и обратно.
— Зачем же силой?!.- прерывающимся голосом прошептала Нина.
Борис целовал ее руки. Княгиня стояла улыбаясь и вдруг ее черные усики как-то передернулись. Она опустилась в кресло и заплакала.
— Давно бы так, Нина, давно бы!.. Но, Борис Сергеевич, скажите мне, приготовлены ли ваши родители? — тревожно спросила она.
— Разве я мог до этой минуты сообщить им что-нибудь решительное? Отец еще не знает, а матери известно все, что до сих пор и мне было известно.
— Что же она?
— Она уже любит Нину и ждет встречи с нею.
— Я была в ней уверена, в вашей матери… — сказала княгиня. — Да, Нина, ты счастлива, ты найдешь прекрасную мать!..
— Значит, у меня будет две матери! — сквозь радостные слезы проговорила Нина, наклоняясь к княгине и целуя ее руки.
— И вы уверены, мой милый Борис Сергеевич, что и отец ваш ничего не будет иметь против нее?
— Конечно.
Княгиня вздохнула всей грудью, поднялась с кресла и быстрым, тяжелым шагом вышла из гостиной.
Они остались одни. Они взялись за руки, блаженно взглянули друг на друга и в общем порыве обнялись крепко, горячо. В тихой гостиной прозвучал поцелуй любви, и то был первый поцелуй их после той далекой, далекой ночи, когда несчастная маленькая сиротка куталась в мужской плащ и всячески старалась скрыть им свою детскую нежную наготу, в то же время доверчиво прижимаясь к юноше, спасшему ее от смерти и позора.
Эта волшебная ночь припоминалась им теперь во всех мельчайших подробностях. Им показалось, что они вернулись к тому времени, что их окружает тишина пустой, покинутой хозяевами квартиры, что луна светит в окошко, озаряет их лица наполняет им сердце новым, могучим, блаженным чувством. То же самое чувство и теперь наполняло их, и они долго не могли оторваться друг от друга. И много было новых поцелуев, только поцелуи эти были беззвучны. Наконец Нина тихонько отстранилась.
— Борис, — сказала она, — пойдем, пойдем ко мне… ведь ты еще у меня не был!.. Теперь можно…
Она взяла его за руку и повела в свои комнаты. Они вошли в ее маленький будуар, и блаженное ощущение, наполнявшее Бориса, еще усилилось. Какой милой, какой дорогой показалась ему эта комната, ее комната. Здесь все дышало ею, все было ею проникнуто, и каждая малейшая вещица представлялась ему какою-то особенной, такой, какой никогда и ни у кого нет и быть не может…
— Постой, посмотри! — говорила Нина с новым, совсем расцветшим лицом, какого он у нее не видал еще ни разу. — Посмотри!
Она выдвинула ящик комода, вынула оттуда что-то довольно большое, развернула какой-то узел — и он увидел у нее в руках свой плащ, тот плащ, который она оставила у себя залогом его возвращения.
— Ты вернулся за ним, — говорила она, и на глазах ее светились слезы. — Возьми его! Видишь… Я сохранила его много лет и часто, часто вынимала его, разглядывала, сдувала с него пылинки… Нет на нем места, где бы я его не целовала… Ты за ним вернулся, милый!.. Как хорошо, как чудно! Ведь я знала это, что ты вернешься…
— Нина, но ведь я вернулся не сейчас, я вернулся уже давно… Зачем же были эти долгие месяцы?
— Не упрекай, — сказала она, — и не вспоминай… Верно, так нужно было; но теперь, теперь, уже не будет сомнений…
— Ты не станешь говорить мне, что я твой брат — и только?
Она опустила глаза, но сейчас же и подняла их на него со счастьем, любовью и мольбой.
— Теперь ты для меня — все!.. Если и грех это — пусть! Ты — все для меня, и не говори больше о том, что было… Потом я сама тебе скажу все, а теперь не надо… не надо!..
Она припала к нему головой на грудь и крепко обвила его шею своими тонкими руками, — опять как тогда, в ту далекую, волшебную ночь.
— Господи, — шептала она, — какое счастье бывает на свете, как хорошо жить!
— Да, хорошо жить! — проговорил и он ей из всей глубины своего сердца.
XI. В ПЫЛИ
Генеральша собралась умирать. С ней это случалось аккуратно каждый год, только в различное время.
Она съездила по обычаю в Александро-Невскую лавру. Вернувшись домой и проходя по парадным комнатам, поддерживаемая Пелагеей Петровной, сделала воскресный смотр воспитанницам и прошла к себе в темный будуар. Там она сняла старомодную изумительной формы шляпу с целой башней из перьев и густую вуаль, под которой скрывала от дневного света, при воскресных выездах, свое набеленное и нарумяненное лицо.
Пелагея Петровна принесла ей кофе. Генеральша поместилась на обложенное подушками кресло, где проводила все свои дни в течение более двадцати лет, выпила кофе и потом долго, с каким-то особенным любопытством и страхом вглядывалась в портрет покойного мужа.
Пелагея Петровна, до тонкости изучившая свою благодетельницу, тревожно стала следить за нею и не смела нарушить ее размышлений ни одним словом. Она только время от времени слабо и сдержанно покашливала. Но вот генеральша вздрогнула, отвела глаза от портрета и обратилась к компаньонке.
— Чтобы девочки не приходили сегодня — не надо! — произнесла она глухим голосом.
Пелагея Петровна съежилась, втянула в себя губки, заморгала глазами и с неизбежным своим присвистом шепнула:
— Сейчас пойду, скажу им…
— Ступайте!
— А мне, ваше превосходительство, прикажете вернуться?
— Возвращайтесь!
Пелагея Петровна скрылась за спущенной портьерой. Генеральша встала было со своего кресла, но тотчас же с легким стоном опять в него опустилась. Глаза ее опять невольно будто какою-то силою потянуло к портрету. Но она сделала над собою усилие, закрыла их и стала креститься. В таком положении застала ее Пелагея Петровна, неслышно пробравшись в будуар.
— Гм… гм… фью!.. — дала знать о своем присутствии Пелагея Петровна, втягивая шею и изображая на лице что-то до такой степени умильное и постное, что даже генеральша, испуганно открывшая глаза, воскликнула:
— Чего это вы, матушка, гримасничаете?
— Я не гримасничаю, ваше превосходительство, — вертя головою, сжимаясь и расплываясь в сладкую улыбку, ответила компаньонка.
— Пойдите опять туда и скажите, чтобы никто не входил и чтобы гостям отказывали. Да распорядитесь — соломы побольше… у окон… сколько раз говорила… набросали кое-где и думают — дело сделали. Слышно все, слышно!.. Всю ночь не спала… у самого уха такой грохот… Они воруют солому, больше ничего!.. Или растаскивают ее там, что ли, на улице… На что же сторожа? На что же полиция? Соломы побольше!.. Ступайте и возвращайтесь…
Пелагея Петровна поспешила исполнить приказание. А когда вернулась, то застала генеральшу сидящею на кресле с трясущеюся головою, со страшным лицом и блуждающими глазами.
— Ваше превосходительство! Ваше превосходительство, благодетельница, что с вами?
Компаньонка засуетилась, семеня на месте ногами и заглядывая в лицо генеральши.
Та упала на подушки и хриплым голосом произнесла:
— Умираю!..
— Ах, Господи, да что же такое? Болит у вас что-нибудь — скажите, благодетельница, я разотру… За доктором послать прикажите?
Генеральша рассердилась.
— Не надо! — крикнула она. — Разве я когда-нибудь за доктором посылаю? Разве этим шарлатанам верю? Они и здорового человека, не то что больного уморить могут!..
— Да что у вас болит-то?
— Ничего не болит! Умираю… поманил!..
Она глазами указала на портрет.
— Поман-и-ил!.. — протянула она.
— Да, может быть, это вам только так почудилось, ваше превосходительство? Это иногда так бывает… в глазах зарябит… ну и почудится… со мною тоже давеча было…
— Не сердите вы меня, Пелагея Петровна! — со стоном произнесла генеральша. — Мне никогда не чудится… никогда!.. Говорю: поманил… Сама, своими глазами видела… Сижу я и тянет мои глаза к портрету, так и тянет… Не могу удержаться… вы вот ушли… я взглянула… и вижу… прищурил глаза, качнул головою… рука шевельнулась, поднялась и… манит…
— Да вы не тревожьтесь, благодетельница, право, почудилось… уж поверьте мне… Как это можно… когда же такое бывает!.. И зачем вам умирать? Слава Богу, и личико у вас совсем как есть здоровое…
— Нет, не утешайте!.. — слабо стонала генеральша. — Уже ночью такие мысли приходить стали… во всю обедню о смерти думалось… а как пошла на кладбище, помолилась на его могиле… потом взглянула на свою приготовленную… и так это мне живо, живо вдруг представилось, что скоро в ней лежать буду… да, буду!.. А тут и он поманил… умираю!
Генеральша закрыла глаза и лежала неподвижно.
Пелагея Петровна не знала, на что теперь решиться, что делать.
Умирала генеральша часто и каждый раз были новые проявления этого умиранья. Но теперь Пелагее Петровне показалось что-то действительно не совсем ладное — такого лица она никогда еще не видела у благодетельницы, да и «покойник» еще ни разу не манил ее.
«Чего мудреного, — думала Пелагея Петровна, — может, и взаправду… час пришел… человек старый, хворый, шутка сказать — сколько-то лет лежит на одном месте, света Божьего не видит… да, куда ведь стара и слаба! В чем душа держится… как разденется — глядеть страшно… чего доброго?!.»
Она склонилась над генеральшей.
— Матушка, — прошептала она, — чего бы, коли уж так вам, ваше превосходительство, плохо… успокоились бы… батюшку призвать… Святых Тайн… авось, Бог даст, полегчает… я…
Но вдруг она как будто прикусила язык и замолчала. Она поняла, что сделала большую глупость. Генеральша при ее словах вскочила, откуда силы явились, с кресла и вся так и затряслась.
— Потом… потом, успею!.. — зашептала она, махая руками и будто отстраняя от себя что-то. — Я не хочу умирать… не хочу!..
Она упала на подушки и закрыла лицо руками.
— Пелагея Петровна! — произнесла она через несколько мгновений, но уже совсем иным тоном, более спокойным и в то же время робким.
— Асиньки? — нежным голосом отозвалась Пелагея Петровна.
— Да пойдите сюда, положите мне на голову руку, посмотрите — не горяча голова?
Компаньонка, осторожно подобравшись, приложила руку и потом, отняв ее, вдруг быстро-быстро закрестилась.
— Вот вам Христос, благодетельница… ей-Богу же… вот, вот… ни чуточки не горяча! То есть ни-ни… Да, полноте, бриллиантовая вы моя, успокойтесь… бросьте вы эти мысли… так это… притомились… ночку плохо поспали… а вы здоровы… Ну вот ей-ей здоровы…
— А что, Пелагея Петровна, только вы по душе, напрямик мне скажите, — может это… может это мне показалось, что он кивнул и поманил?
— Да я же говорю, что показалось!..
— Побожитесь!
— Ну вот… ей-Богу!..
И Пелагея Петровна опять закрестилась.
Генеральша глубоко вздохнула с облегченным сердцем. Тоска и ужас, выражавшиеся на ее лице, исчезли. Однако, видно, какая-то новая черная мысль стукнула ей в голову. Она простонала и опять несколько раз повторила:
— Умираю… нет, умираю… умираю!..
Пелагея Петровна сделала едва заметный нетерпеливый жест; потом глазки ее хитро засветились. Она, видимо, чему-то обрадовалась, присела на краешек кресла и самым спокойным голосом сказала:
— А я, благодетельница, хотела доложить вам — чудные дела у нас в доме творятся…
— Что такое — говорите! — внезапно оживляясь и приподнимаясь с подушек, воскликнула генеральша.
— Да что уж вас теперь беспокоить, коли вы так нездоровы…
Но генеральша совсем оживилась.
— Говорите, говорите! Видно, опять пакости какие? Ну, что такое? Что такое?
— Да уж как вам сказать, благодетельница, оно не то что… а уж и подумать не знаю как… Видите ли, Нина Александровна…
— Нина! Опять!.. Мало прошлогоднего!.. Упросила дочка… Видно, я ей не показала… Но говорила ведь: еще что-нибудь узнаю — не будет спуску, не стану держать в доме такую… А коли она ей дороже матери… Ну что ж — пусть вместе и уезжают… Что она еще наделала?
— Да уж такое… уж такое!..
Пелагея Петровна только разводила руками.
— Такое… кабы не своими глазами видела — не поверила бы, никому не поверила… потому — ведь… барышня… к важным господам в гости ездят… вон с ними и царская фамилия танцует… и вдруг…
Генеральша вся так и насторожилась… Она забыла о всех своих недугах, о смерти не было и помину, глаза ее горели. Она так и впилась в лицо Пелагеи Петровны.
— Ну… ну?
— Своими глазами, своими — с глазами!.. С господином Горбатовым молодым… вчера под вечер… за руку держат их и бегут к себе… и заперлись с ним у себя… Я к щелке — там у них щелка есть такая…
— Ну знаю… Ну?!.
— Целовались…
— Что вы?
— Ей-Богу… лопнуть на сем месте! Целовались, сама видела… говорю… да и как целовались-то!..
— Как? Как?
— В засос-с! — с азартом и вдохновением отрезала Пелагея Петровна.
— Пойдите, позовите княгиню, чтобы сейчас, сейчас шла… Дома она? Неужто уехала?.. Не доживу… за ней сейчас, чтобы…
— Дома-с княгиня… бегу…
Княгиня появилась в будуаре встревоженная.
— Maman, голубушка, что с вами?
— Что со мною, ma chère, что со мною… едва жива вот… больна совсем… плохо мне, а вы меня до времени уморить хотите…
— Да что вы… что вы? Кто вас огорчает?
— Вы, вы… с вашей Нинкой! Мерзкая она девчонка и ничего больше… разврат в доме… стыд… скоро весь Петербург говорить будет… ездить перестанут…
Княгиня вспыхнула.
— Maman, не обижайте Нину… не обижайте!.. Это низкая сплетня, вот эта ехидна…
— Ехи-идна-с?! — протянула Пелагея Петровна. — Ваше превосходительство, что же? За что так обижают… я вам служу всей душой… О себе забыла…
Она стала всхлипывать, а потом, приняв вид оскорбленного достоинства, вышла из комнаты, но остановилась за портьерой так, чтобы не проронить ни одного слова. Княгиня разгоралась все больше и больше и теперь уже почти кричала:
— Да, ехидна… ехидна, которую вам не следует слушать… Ну, говорите, что она еще насплетничала? И я докажу вам, что она бессовестная лгунья — и ничего больше…
— Как же, докажешь!.. Да чего же это ты кричишь-то, сударыня?.. Как ты смеешь кричать на мать… уморить хочешь… надоела я вам, видно! Так я вот тебе скажу мое последнее слово… чтобы Нинки в моем доме сегодня же не было!.. Не хочу держать беспутницу, которая таскает к себе молодых людей и с ними целуется…
— А… так вот что!.. — перебила княгиня генеральшу. — Вот что!.. Успокойтесь, maman, и послушайте… Я виновата, ваша компаньонка не солгала…
Пелагея Петровна не выдержала и выскочила из-за портьеры.
— Вот видите-с… а обижаете… бранитесь словами нехорошими, ваше сиятельство!..
— Да вы не торжествуйте! — презрительно заметила ей княгиня. — У нас с вами еще разговор будет… и если я вас поймаю в своих комнатах или коридорах за подглядыванием и подслушиванием — вы жизни своей не рады будете…
Пелагея Петровна мгновенно скрылась за портьерой. Генеральша изумленно и нетерпеливо глядела на дочь. Она была заинтересована в высшей степени.
— Ну, ma cher?
— Нина действительно вчера затащила к себе одного молодого человека и, вероятно, целовалась с ним… Этого молодого человека вы хорошо знаете — это Борис Сергеевич Горбатов…
— Ma chère, ты меня с ума сведешь… Как? Ты знаешь… Ты покрываешь разврат?!.
— Я ничего не покрываю. Я сама хотела сегодня сказать вам, что Нина — невеста… Горбатов сделал ей предложение, и она приняла его…
Пелагея Петровна взвизгнула за портьерой. Генеральша развела руками, да так и осталась…
— Что ты сказала? Повтори, я, кажется, не дослышала… Он ей предложение?..
— Да, что же это вас так удивляет?
— Ma chère, ты с ума сходишь… ведь это невозможно…
— Почему же, maman? Почему? И как же это невозможно, когда это уже случилось…
Но генеральша все продолжала разводить руками…
— Горбатов! Да ведь ты знаешь, какая это древняя, знаменитая фамилия!.. Ты знаешь, что его дед был другом императора Петра III, а отец его, Сергей Борисович, хотя и прожил всю жизнь в деревне, а в молодости, чай помнишь, ma chère, его роль… Какое родство!.. Вот и младший теперь на графине Черновой женился… связи большие… связи… А богатство — куры не клюют…
— Я знаю все это, maman, тем более радуюсь за Нину, но еще больше радуюсь тому что он хороший человек и что они, действительно любят друг друга…
— Но ведь Нина… Ну, она… недурна, конечно… Да как же она может быть madam Gorbatoff?.. Madame Gorbatoff — mais c'est impossible puisqu'elle n'est pas née du tout! Нет, матушка, нет, никогда не бывать этому!.. Если вы сошли с ума… родители… родня… родня не допустит… не допустит!..
— Я думаю, maman, что допустит… Но теперь я ничего говорить не буду, я только что собралась ехать к его матери. Я поеду, поговорю с нею и как вернусь — тотчас же передам вам все, тогда и увидим…
— Поезжай, ma chère, поезжай, что же, поезжай, коли себя не жалеешь… А я бы на твоем месте в такие дела не впутывалась… Сраму себе наживешь только и ничего больше.
— А вот мы это увидим! До свидания, maman!
— До свиданья! Только ты бы поскорее и оттуда прямо ко мне, слышишь — прямо ко мне!
— Непременно!
Княгиня вышла. Пелагея Петровна показалась из-за портьеры.
— Ну, матушка, что скажете? — обратилась к ней генеральша.
— Да уж что тут говорить! — обиженным присвистом отвечала Пелагея Петровна. — Ведь малый ребенок — и тот такой сказке не поверит, а княгиня, вон, верит… А вы, ваше превосходительство, хоть убей меня тут при вас — за меня не заступитесь… что же ведь это — терплю я, терплю от княгинюшки… силушки моей нету!.. Ведь для вас стараюсь, а то для кого же… Слежу, чтобы в доме разных каверз и пакостей не было — а за это что вижу?.. Коли уж на то пошло, видно, мне не жить у вас…
Она горестно всхлипнула.
— Уж отпустите вы меня… не ко двору я здесь пришлась, честных-то людей отовсюду, видно, гонят… Ну и что же, Бог даст — проживу как-нибудь…
И она горестно всхлипнула… Генеральша нахмурилась.
— Пелагея Петровна, принесите мою шкатулку, что у кровати! — проговорила она.
Пелагея Петровна быстро шмыгнула и через несколько секунд явилась, неся большую, тяжелую шкатулку. Генеральша вынула из кармана связку ключей, перебрала их, нашла маленький ключик, отперла шкатулку. Шкатулка была наполнена всякими драгоценными вещами старинной работы. Тут были и браслеты, и кольца, и броши, серьги, фермуары. Генеральша разложила все вещи перед собою, выбрала красивое колечко с довольно крупным, кровяного цвета, рубином и подала его Пелагее Петровне.
— Вот вам! — сказала она. — Не брюзжите вы только да не говорите глупостей, ведь сами знаете, что вздор… Ну куда вы от меня пойдете? Где вам такое житье будет?..
Пелагея Петровна быстрым взглядом впилась в колечко, чмокнула руку благодетельнице и миткалевым платочком отерла себе глаза. Генеральша снова уложила все вещи в шкатулку, заперла ее и сказала:
— Снесите ее на место да позовите ко мне князя.
Князь Еспер тотчас же появился на зов сестры. Он был все такой же расфранченный, надушенный, но как-то немного осунулся за последнее время. Он убедился, что дела его совсем плохи. Нина упорно его избегает с самого их возвращения. Несмотря на все его старания, он не мог добиться с нею tete-a-tete.
— Mon frère, — встретила его генеральша, — вы слышали, что у нас делается?
— Ничего не слыхал, ma soeur, — тревожно ответил он.
— В доме невеста.
— Как? Кто?
— Нина Александровна замуж выходит, да за кого бы вы думали? За Горбатова! А, как вам это покажется?
Князь упал в кресло и не мог произнести ни слова. А генеральша повторяла.
— А, как вам это покажется? Ну, скажите, скажите?
— Что я скажу… ничего не скажу… — через силу, почти как в бреду, шептал он.
— Да мыслимое ли это дело, сударь? — волновалась генеральша. — Я полагаю, что дочка моя просто с ума сошла, коли этому верит. Если бы и хотел он, кто же ему позволит? У Горбатовых в роду еще не бывало таких mésalliance, и они горды и знают себе цену.
— Вы думаете, ma soeur, не допустят? — наконец, несколько приходя в себя и ухватываясь за новую мысль, не приходившую ему еще в голову, пробормотал князь Еспер.
— Не только думаю — уверена в этом, быть того не может…
— Ma soeur, я нездоров, с утра голова болит… я пойду к себе, прилягу.
— Я не держу вас…
Князь Еспер вышел из темного будуара, остановился, схватил себя за голову и потом кинулся через все комнаты на половину княгини. Он, как безумный, ворвался в гостиную, огляделся, не нашел там Нину. Кинулся в ее комнаты, застучал в дверь и отчаянным голосом крикнул:
— Впустите! Впустите!
Дверь была не заперта. Она распахнулась. Нина, заслыша его отчаянный голос, выбежала к нему навстречу.
— Что случилось? Пожар? Что? Где горит? У нас? Или несчастье какое-нибудь? Ma tante?!.
Она не знала, что и подумать.
— Вы замуж выходите?.. Говорите — правда это?.. Правда или нет? — наступал он на нее с искаженным лицом.
Она отстранилась. Она наконец поняла, в чем дело и успокоилась.
— Да, правда! — произнесла она твердым голосом.
Он отшатнулся. Он пристально несколько мгновений глядел на нее бессмысленными глазами, потом вдруг его охватило бешенство, зубы его скрипнули, он поднял руку и погрозил ей:
— Клятвопреступница! — прошипел он. — Ты получишь должное возмездие!
Нина вздрогнула невольно. Но это было только мгновение. Она холодно взглянула на него, повернулась и прошла в свою спальню.
Он слышал, как она заперла за собою дверь, как щелкнул замок. Он бросился назад. Поднялся к себе, упал на диван и долго лежал неподвижно.
В нем все кипело.
«Нет, нужно ей отомстить, нужно ее наказать хорошенько!»
«Отняли-таки! Отняли!..» — вдруг громко крикнул он и заплакал.
XII. ЧУДЕСА
— Пелагея Петровна! Пелагея Петровна! Да подите же поскорее, узнайте — вернулась княгиня или нет? — почти поминутно говорила генеральша, сгорая нетерпением.
Наконец Пелагея Петровна вернулась и объявила, что княгиня приехала, прошла прямо к себе, но сказала ей, что сейчас приедет сюда.
— Какова она? Каков у нее вид — вы заметили?..
— Ничего, ваше превосходительство, не могла я заметить — на меня не смотрят, ровно я отверженная какая… Скажите, мол, маменьке, что приду сейчас — я ни словечка больше…
— Да вы бы, матушка, как-нибудь выведали, спросили бы ее хоть что-нибудь…
— Нет-с, благодетельница, я с ними разговаривать теперь никак-с не могу… Сами знаете — одна только обида мне за всю мою верность, и ничего больше…
— Ах, Бог мой — что же она нейдет? Сбегайте…
Но княгиня в это время вошла. Генеральша так и уставилась на нее в полумраке.
— Ну что, ma chère, что? Кто прав?..
— Я права, конечно, ведь я знала!..
— Кого же ты видела? Саму Горбатову? С ней говорила?
— Да, с ней говорила. Она очень рада… Она ведь Ниночку уже видала и та ей, оказывается, с первого раза понравилась. Чудная женщина Татьяна Владимировна Горбатова, до слез она меня тронула. Вот мать!..
— Хорошая женщина… да — я ничего против нее не скажу, — проговорила генеральша, все еще не будучи в силах прийти в себя от изумления, — хорошая женщина; только ты, мать моя, все-таки не производи ее в святые… Чай, знаешь, помнишь, кто без греха!..
— О чем вы это, maman? — с неудовольствием перебила княгиня.
— О чем? Сама знаешь… Всему свету известно, с кем она была близка в молодости…
Княгиня вспыхнула.
— Ах! Зачем вы это, maman? Да и кто может… Может, все это клевета и сплетни… Даже, наверное, так… Я уверена, уверена, что все клевета и сплетни и ничего между ними не было такого…
Генеральша всполошилась, даже вскочила со своего кресла, совсем уже позабыв все свои недавние недуги и ожидание смерти. Глаза ее загорелись. Она просто чувствовала себя оскорбленной.
— Что еще, что ты? Бога побойся — как клевета, как сплетни? Ну, уж это, ma chère, нельзя же так, это ни на что не похоже! Всему свету известно, а ты вдруг — клевета!
— Господи, будто это обида и вам и «всему свету», что я сомневаюсь… Что я не хочу верить в существование пятна на этой прекрасной женщине?
— Да тут никакого пятна нет; только что было — то было… И не моги ты, не моги… Весь свет знает!
Княгиня пожала плечами и замолчала. Она поняла, что спорить с матерью бесполезно.
— Так она согласна? — возвращаясь к своему изумлению, спросила генеральша.
— Согласна, конечно… Насколько я поняла — Борис Сергеевич ее любимый сын… Впрочем, об этом уже и прежде говорили…
— Как же это она? Неужто лучшей партии сыскать ему не могла?
— Мы с Татьяной Владимировной находим Нину очень хорошей партией… И, пожалуйста, больше не будем говорить об этом. Я знаю доброту вашего сердца и, надеюсь, что и вы от души порадуетесь Ниночкиному счастью. Видно, Бог милосердный сжалился над ее сиротской долей…
— Что же я… Я очень рада! — проговорила генеральша. — Только чудеса, чудеса! Право, весь свет перевернулся! Ну, а Горбатов?
— Я его не видела. Его дома не было; но Татьяна Владимировна сказала, что он уже знает и дал свое согласие; он, может быть, сегодня же будет у меня с тем, чтобы официально просить руки Нины.
— Чудеса, чудеса! — повторила генеральша.
— Где же невеста? Дай ты мне взглянуть на нее! — наконец докончила она.
— Да ведь она, maman, еще после обедни хотела к вам идти, только вы распоряжение сделали, чтобы никто вас не беспокоил.
— Да, да… Ну ничего, теперь мне лучше… Позови ее, пусть придет… Я ее поздравлю.
Княгиня несколько смутилась. Она знала, что мать ее не особенно любит стесняться и боялась как бы она теперь не наговорила Нине, хотя и ласковым тоном, чего-нибудь обидного. Но выказать свои опасения и попросить мать не обижать Нину — она не могла решиться. Старуха рассердится, и, пожалуй, еще хуже выйдет.
— Хорошо, maman, сейчас позову Нину, только она так потрясена… Вы знаете ее плохое здоровье…
— Как, чай, не быть потрясенной! — сказала генеральша. — Этакое счастье привалило! Да ты что же, ты никак боишься, что я ее еще больше расстраивать буду? Не бойся, матушка, не бойся… Говорю тебе, ведь я рада… Что же мне? Только все же следовало бы, кажется, со мною заранее потолковать да посоветоваться.
— Когда же это было, maman? Это и для меня самой неожиданность, — решилась согласиться княгиня для того, чтобы только успокоить старуху.
Затем она ушла звать Нину. Сообщив ей желание генеральши ее видеть, княгиня прибавила:
— Ты только, Ниночка, не обращай особенного внимания, если что тебе в ее словах не понравится… Она стара, у нее на многое неверные взгляды…
— Ее взгляды мне давно известны, — ответила Нина, — и обидеть она меня ничем не может. Конечно, она находит, что я не стою такого жениха?.. Да ведь и я нахожу это, я об этом много думала и намерена сказать это и его матери.
Княгиня пожала плечами.
— Это еще к чему, что за мысли? Право, если бы я не знала тебя, то могла бы подумать, что ты напускаешь на себя лицемерную скромность! А Татьяна Владимировна тебя не знает… Ведь она так, может быть, и подумает! Зачем же это, ты только повредишь себя…
— Я буду искренна с его матерью, иначе с нею я не должна быть…
Так говорили они, подходя к темному будуару. Генеральша встретила Нину крайне ласково:
— Поздравляю, матушка, поздравляю, от души поздравляю… — начала она, когда Нина, по заведенному в доме обычаю, целовала ее руку. — Дай тебе Бог, Ниночка, всего хорошего… Дай тебе Бог!.. Только ты меня, старуху, прости за откровенность, я знаю жизнь и добра тебе желаю — уж как надо теперь тебе быть осторожной! Ежели бедной девушке такое счастье приходит, его надо бережно поднять — не то разобьется… Счастье-то людское хрупко… Ты вот молода очень, думаешь, чай, — всего теперь достигла, все пришло — ан нет, тут-то, матушка, только и начинается!.. Много трудностей…
— Я это понимаю.
— Понимаешь, душа моя, ну и прекрасно!.. Умница… Это честь тебе делает!.. — сказала генеральша. — Теперь не ко времени, да я и нездорова, а вот как-нибудь я призову тебя на досуге и потолкуем… Многому могу научить тебя… Пелагея Петровна!..
Распоряжение относительно гостей, сделанное во время умирания генеральши, не было отменено, а потому Пелагея Петровна находилась бессменно в будуаре или за занавеской. Она появилась тотчас же на зов.
— Поздравьте невесту! — сказала генеральша. Пелагея Петровна бочком пододвинулась к Нине, стала приседать, подбирать губки и присвистнула:
— Поздравляю, Нина Александровна, поздравляю, милая барышня, дай вам Господь…
Нина пожала ее холодную, скользкую руку. Княгиня не удержалась.
— Да вы, почтеннейшая, вместе с поздравлением уж заодно пообещались бы ей не шпионить за нею, не подсматривать и не подслушивать…
Пелагея Петровна отскочила будто ужаленная.
— Х-ах-с! — что-то такое прошипела она. — Обижайте, ваше сиятельство, унижайте!.. Бедного, беспомощного человека легко обидеть… Ничего не стоит-с!.. Бедный человек все терпеть должен… Да и Господь приказывает прощать обиды… А ежели что видела, да ее превосходительству передала — так это моя прямая обязанность. Разве можно было такое вот думать — никак-с невозможно!
— То-то и есть, что вы только одно дурное думаете, а хорошее вам и в голову никогда не придет! — презрительно заметила княгиня.
Но генеральша ее перебила:
— Ну, полно, перестаньте! Чего тут браниться… В особенности на радостях… Пелагея Петровна, принесите шкатулку…
Пелагея Петровна даже позеленела, и, несмотря на сумрак, царствовавший в комнате, все могли ясно видеть, как исказилось лицо ее. Тем не менее, она поспешно исполнила приказание «благодетельницы». Генеральша опять нашла ключик из своей связки, отперла шкатулку, опять выложила себе на колени все заключавшиеся в ней драгоценности. Она на этот раз выбрала превосходный браслет с солитером чистейшей воды, окруженным отборными, одна как другая, жемчужинами. Затем, уложив вещи и заперев шкатулку, она протянула браслет Нине.
— Вот тебе, Ниночка, от меня на память… Дай руку, я тебе сама надену.
Нина переконфузилась, покраснела, неловко поблагодарила. Зачем это? Ей бы хотелось, чтобы не было такого подарка. Но она все же была тронута. У генеральши теперь сделалось такое доброе, ласковое лицо. Она застегнула браслет на руке Нины и в то же время рассматривала и гладила эту руку.
— Хорошенькая у тебя рука, Нина, только худа больно… Мужья-то худых жен не любят… Ты так и знай это… Поправляйся, смотри!
Нина не знала что и говорить, ей становилось очень неловко. А генеральша продолжала:
— Да ты разгляди-ка браслет… Ma chère, ты, чай, его знаешь? — обратилась она к княгине. — Это еще у меня от бабушки, от княгини досталось… Ну, Ниночка, Господь с тобою… Ступай себе, что тебе здесь делать со мной… Ступай, помечтай… Жениха пожди…
Нина с чувством поцеловала ее руку и вышла. По ее уходе генеральша сказала княгине:
— Ты, ma chère, не в претензии, что я этот браслет Нине подарила?
— Что вы, maman, Бог с вами! Я только за вашу доброту могу благодарить вас. Ведь кому же бы вы могли дать его, если не Нине — мне!.. Так я давно вам сказала: все мое, все как есть, — все рано или поздно, а ей же достанется. Merci, maman, вы меня очень порадовали!..
Вдруг генеральша протянула руки дочери.
— Пойди ко мне, — тихо-тихо проговорила она, — дай я тебя поцелую!.. Вот… Ты у меня добрая… Толстушка моя!..
И она гладила своей костлявой, старческой рукой ее толстые, уже кое-где морщинистые щеки. Она гладила и ласкала ее, как маленькую девочку. А княгиня в душевном порыве прижалась к матери и крепко ее целовала, не замечая, что вымазала себе все губы белилами и румянами.
Давно, много лет между матерью и дочерью не было ничего подобного. А тут вдруг они обе почувствовали и поняли свою тесную и кровную связь, почувствовали и поняли, что обе любят друг друга и что обе они — добрые.
Пелагея Петровна выглянула из-за занавески, потом опять спряталась и от злости до крови почти искусала себе губы.
«Вот дуры-то! Вот дуры!.. Ну уж и дуры же петые!.. — про себя твердила она. — И таким-то дурындам и богатство и почет… И все на свете… А умному человеку — шиш масляный!..»
XIII. СВАТ
В это время княгиню вызвали — приехал Сергей Борисович Горбатов. Генеральша засуетилась.
— Прими его, матушка, в большой гостиной… Слышишь — непременно в большой гостиной! — сказала она дочери. — А потом и ко мне попроси… Скажи — я больна, никого не принимаю, а его приму и очень рада его видеть…
Княгиня вышла и приказала просить гостя в парадную гостиную. Каждая вещица этой обширной комнаты оставалась неприкосновенной в течение долгих, долгих лет. По стенам развешены были фамильные портреты, представлявшие кавалеров в париках и пудре, в кружевных жабо, расшитых золотом кафтанах, и дам с самыми хитрыми прическами, с целыми башнями и кораблями на головах, в удивительных шнуровках и фижмах. Сергей Борисович вошел, огляделся — никого не было. Он несколько раз нервным шагом прошелся по мягкому ковру, останавливаясь перед портретами, но, в сущности, почти их не замечая… Его еще бодрая, худощавая фигура, не утратившая грации прежних лет, тонкое и красивое, гладко выбритое лицо, густые, седые, будто обсыпанные пудрой волосы, старинного покроя сюртук, ноги в черных чулках и башмаках с красными каблуками — все в нем, одним словом, гармонировало с этой обстановкой конца восемнадцатого века. Казалось, что время вдруг ушло назад и реставрировало одну из жанровых картин прошедшей эпохи…
Но среди этой так подходящей к нему обстановки Сергей Борисович теперь чувствовал себя очень неловко. Когда он узнал о намерении сына жениться на родственнице и воспитаннице княгини Маратовой, он, к изумлению и жены и Бориса, был поражен и долго не мог найти слов для ответа. Борис даже встревожился и с тяжелым чувством спросил его:
— Что же вы молчите, батюшка? Неужели это значит, что вам трудно дать согласие, что вы не желаете этого?
Сергей Борисович нервно передернул плечами.
— Ах, совсем не то, — проговорил он. — Ты изумил меня… я никак этого не ожидал… что же… что же я могу иметь против твоего выбора?! Только ведь я совсем ее не знаю…
— Мы с тобой, мой друг, так засиделись в деревне, что Борису и невозможно было найти себе такую невесту, которую бы мы хорошо знали… Кого мы знаем? — перебила Татьяна Владимировна…
— Конечно, конечно… что ж… поздравляю тебя, мой милый…
Он обнял сына, поцеловал его, а затем вдруг, не прибавив ни одного слова, вышел из комнаты.
— Что это значит? — тревожно спросил Борис у матери…
— Не знаю… не понимаю! Я поговорю с ним…
Но Татьяна Владимировна так ничего и не добилась от мужа. Он повторил ей, что ничего не имеет и не может иметь против выбора сына, если она согласна и если ей нравится избранная им девушка. А между тем в его тоне, помимо его воли, сквозило, очевидно, какое-то тайное неудовольствие. Дело в том, что он почувствовал в себе некоторый разлад. Он всю жизнь толковал о равноправности и братстве человечества, он много раз в семейном кругу, перед тем же Борисом, подсмеивался над «кастовыми предрассудками» — а между тем теперь чувствовал досаду, большую, невольную досаду, что сын его берет девушку без роду, без племени. Он вдруг вспомнил, во всех мельчайших подробностях разветвления своего родословного древа…
«Горбатовы всегда роднились только с самыми лучшими семьями»… — мысленно повторял он.
Ему совестно становилось за эти мысли, но он никак не мог побороть их. Не мог он побороть их и теперь, явившись сватом в дом генеральши и ощущая в себе что-то противное, как будто чувство унижения.
«Какое малодушие, какое малодушие!» — думал он.
У двери показалась княгиня, и впечатление жанровой картины восемнадцатого века совершенно разрушилось при появлении ее тучной фигуры, одетой по самой последней моде и с черными, скакавшими по обеим сторонам ее щек, тирбушонами. Сергей Борисович со всеми приемами екатерининского царедворца отвесил почтительный поклон и подошел к руке княгини.
— Я решил вас побеспокоить, княгиня, по семейному делу, которое вам уже известно, — начал он официальным тоном, но она его перебила.
— Сергей Борисыч, — сказала она, приглашая его садиться, — к сожалению, мы мало знаем друг друга, но, что касается меня, я говорю вам это от сердца (и по ее лицу, по ее умным, добрым и круглым глазам Сергей Борисович увидел ясно, что ей можно верить), — я вас уважаю и обращаюсь к вам как к человеку прямому, искреннему. Светских тонкостей не должно быть между нами… Скажите мне прямо — имеете ли вы что-нибудь и, если имеете, то что именно, против этого брака?
Сергей Борисович робко взглянул на нее и даже немного покраснел.
— Я думал, что жена моя уже сказала вам, что я дал свое согласие…
— Да, Татьяна Владимировна мне передала об этом… Но ведь согласие согласию — рознь, Сергей Борисыч!
— Мое согласие искренно, — перебил он. — Я доверяю моему сыну и сожалею только о том, что не имел случая до сих пор близко познакомиться с его невестой. Но ведь такой случай у отцов бывает не часто. Я постараюсь наверстать потерянное время — вот и все.
Княгиня изо всех сил старалась прочесть в его лице, в звуках его голоса какой-нибудь признак неудовольствия. Но он уже успел совладать с собою — и она ничего не могла заметить.
— Моя родственница, — продолжала она, — Нина Ламзина, которую я люблю как дочь, будет почти единственной после меня наследницей… Я даже постараюсь о том, чтобы иметь право передать ей мое родовое имение… Она добрая и хорошая девушка; ее, слава Богу, хорошо воспитали и она искренно любит вашего сына. Но все же… я понимаю это, она… по принятому в свете мнению… не может… не может почесться хорошей для него партией… И вот это смущает меня… И я хотела бы слышать от вас, как вы на это смотрите? Я принимала вашего сына и всегда была рада его видеть у себя… Я уверена, знаю заранее, в свете будут говорить, что мы его ловили… Но я не хочу, чтобы вы так думали, потому что это неправда… спросите его…
Она смутилась и замолчала. Сергей Борисович вспыхнул.
— Княгиня, — проговорил он, — я во многом не разделяю общих взглядов, и я не дал и не дам вам повода так думать про меня, как вы, судя по словам вашим, думаете. Я не искал для моего сына блестящей партии… Я никогда не судил о семейном счастье со стороны богатства, происхождения и тому подобного. Если они любят друг друга, если Нина Александровна достойная девушка, в чем я ни на минуту не усомнился, — чего же больше! Я постараюсь сделать все, чтобы она признала меня отцом не по имени только. А теперь одно, что я могу, — это благодарить вас за вашу любовь к ней, за ваши о ней попечения…
Слезы так и брызнули из глаз княгини. Она протянула обе руки Сергею Борисовичу.
— Что же я после этого могу сказать вам? — прерывающимся голосом произнесла она. — Мне-то как благодарить вас?
— Меня вам благодарить еще не за что, княгиня, — ласково улыбнувшись, со своей обычной простотой, сказал Сергей Борисович…
В это время в гостиную вошла Нина. Она знала, что здесь отец Бориса, она долго не решалась войти; но, наконец, пересилила себя. Этот красивый старомодный человек, которого она видела всего раза три, производил на нее очень приятное впечатление. Но она не только прежде, конечно, а даже и теперь, в это последнее время, уже после решительного объяснения с Борисом, как-то о нем совсем не думала. Не думала, что он станет ей близким человеком. Она робко, почти с мольбою взглянула на него, но робеть перед ним не было возможности. Не прошло минуты, как она забыла свое смущение и говорила с ним просто и искренно, глядела на него прямо своими глубокими, прекрасными глазами.
Он, видимо, в нее всматривался и, видимо, был доволен своими наблюдениями. Он сумел, наконец, отделаться от того мучительного и противного чувства, в котором ему было так стыдно даже перед самим собою признаться. Он позабыл все надоедливые веточки своего родословного древа. Он только повторял про себя:
«Что за прелесть! Что за прелесть!.. Я никак и представить себе не мог, что она так хороша… и что вообще она такая»…
Наконец ему стало совсем легко и свободно.
Княгиня попросила его зайти к генеральше. Он встал и сказал, пожимая руку Нине:
— Я очень счастлив сегодня, и вы причиной этого счастья.
Она покраснела и благодарно взглянула на него. Этими немногими словами он ответил ей на все поднимавшиеся в ней и смущавшие ее вопросы.
Генеральша приняла Сергея Борисовича как давнишнего знакомого, почти как друга. Другом он ей никогда не был, но знакомство их действительно было старинное. Они встречались в свете еще в последнюю четверть прошлого века, при дворе императрицы Екатерины, когда генеральша была еще, если не молода уже, то, во всяком случае, очень красива. А он был цветущим, розовым юношей, которому все прочили самую блестящую будущность, о котором говорили как о новом восходящем светиле.
Генеральша в то время, подобно многим женщинам и девушкам высшего петербургского общества, была пленена его красотою и свежестью. Встречаясь с ним в гостиных и на балах, она выказывала ему немало знаков своего «особенного» внимания. Тогда ему стоило захотеть, стоило хоть на минуту остановиться на мысли о ней — и к нему полетели бы ее нежные записочки. Но он ни на ее, да и ни на кого не обращал тогда внимания. Ни на кого — только поэтому генеральша и простила ему впоследствии его равнодушие и потом, в течение всей жизни, изредка встречаясь с ним, неизменно выказывала ему уважение.
Вообще, нужно сказать, она, хотя никогда и не задумывалась над этим, но бессознательно уважала всех тех мужчин, которые не обращали на нее никакого внимания и которым она не писала, дрожа от страха перед своим законным супругом, раздушенных записок.
Из первых же слов Сергея Борисовича она теперь убедилась в том, что дочь ее не увлекалась и была права.
«Эта Нина, видно, и впрямь в сорочке родилась!» — подумала она. — А впрочем, ведь она выходит из моего дома — это все же много значит!
Она почти совсем успокоилась на такой мысли.
XIV. КРОВНАЯ ОБИДА
Владимир сидел перед своим письменным столом и, что с ним случалось не особенно часто, был погружен в чтение каких-то разложенных перед ним бумаг. Дверь кабинета была заперта на ключ. Владимир иногда отрывался от чтения, откидывался на спинку кресла, морщил лоб, очевидно, обдумывая что-то крайне для себя важное. Потом снова принимался перелистывать бумаги, останавливаясь на некоторых страницах, перечитывая их по несколько раз, отмечал их карандашом.
Вот он поднялся с места и торопливо прошелся по комнате. Ему, действительно, приходилось о многом подумать. Он недавно потерпел неудачу по службе, его обошли, ему предпочли другого. И случилось это совсем неожиданно, случилось в то время, когда он был уверен в успехе. Он выдержал себя прекрасно, никому и виду не подал, не проговорился ни одним словом, но глубоко затаил в себе обиду и стал изыскивать способы, как бы поправиться и подняться, и сразить этим врагов своих.
Между тем некоторые старые приятели, поймав два-три его слова, в которых сказывалось недовольство, задумали и его, как человека энергического и довольно влиятельного, а потому способного быть полезным делу, притянуть к своему обществу. Открытия, им сделанные, его очень изумили; но он, по своему обычаю, не выказал этого изумления, обстоятельно все выслушал, разузнал и не стал спорить с молодыми мечтателями, как это сделал его брат. Он вовсе не отказался примкнуть к ним; но начал двойную игру. Он попросил дать ему время все хорошенько обдумать и обстоятельно ознакомиться с делом. Доверчивые и искренние молодые люди не могли в нем сомневаться — в таком человеке, из такой семьи и с такими благородными традициями. Достаточно оказалось его слова — и в руках у него очутилось немало очень важных и сильно компрометирующих документов…
«Да, — думал он теперь, — иногда следует рисковать, без риску в большом деле невозможно… Только осторожнее, как можно осторожнее! Дело развивается, удача их возможна… и тогда я много выиграю; их обойти нетрудно — такие люди!.. А на случай неудачи, кажется, все обдумано — мне же будут благодарны… А заподозрить меня — кто же заподозрит? Нужно только следить, следить хорошенько… Я еще многих не знаю, списки неполны…»
Он снова вернулся к своим бумагам и стал разбирать их. В это время он услышал, что кто-то старается отворить дверь.
— Кто там? — раздраженным голосом крикнул он.
— Это я, пусти, пожалуйста, мне непременно надо тебя видеть! — раздался голос Катрин.
Владимир сделал нетерпеливое движение, быстро уложил все бумаги в портфель, портфель запер в столе и подошел к двери. Катрин не вошла, а просто ворвалась в кабинет. Движения ее были так порывисты, что он даже заметил ей:
— Ты бы поосторожнее… в твоем положении! Что с тобою случилось?
— Да разве вы не знаете, что у нас происходит?
— Знаю! Борис женится на этом «привидении», как ты ее называешь…
— И вы так хладнокровно к этому относитесь?
— Что же мне — повеситься что ли?
— Да ты говорил с ними?
— Говорил.
— Что же ты им сказал?
— Сказал, что несколько удивляюсь его выбору; потом напомнил, что до сих пор в нашем роду не бывало такого примера… Так отец даже сердиться вздумал. Ты знаешь его фанаберии, его недаром «вольтерьянцем» называли. Он очень доволен; эта особа, видишь ли, ему понравилась, у него один вкус с Борисом…
Катрин была совсем поражена.
— Да нет, что же это такое? Ведь этого нельзя допустить… никак нельзя…
— Полно, перестань говорить пустое! — остановил ее Владимир. — Не допустить этого ни ты, ни я не сможем… et, apres tout, il faut faire bonne mine au manvais jeu — il ne nous reste que ca…
Но Катрин все же не унималась. Она комкала, чуть не рвала свой кружевной платок, даже побледнела вся от досады. Ее глаза стали такие злые. Она уже не была похожа на маленькую, хорошенькую птичку, а напоминала собою взбесившуюся кошку.
— Что же это такое будет? — говорила она. — Хороша belle soner! И это вместе жить… всегда вместе!..
Владимир взглянул на нее, прищурил глаза и ему, как это очень часто с ним бывало, захотелось подразнить ее.
— Да, и жить вместе! — медленно и, по-видимому, спокойно сказал он. — И этого мало, жить очень дружно, угождать ей…
— Merci bien! Угождать? Я ей угождать? Нет, слуга покорная! Я ей никогда не прощу, никогда… и пусть она лучше и не ждет от меня ничего хорошего… Бог знает кто вотрется в семью — и это выносить!.. Нет… Я каждый день, каждый час буду напоминать ей, что есть маленькая разница между нею и мною.
— Напрасно; я тебе говорю: ты должна будешь угождать ей. А не станешь угождать — так кончится тем, что нас с тобою попросят вон из дома.
Катрин всплеснула руками.
— Что вы — с ума сходите?
— Нисколько! Это на тебя нашло бешенство, а я спокоен и потому все ясно вижу. Рассуди сама и ты увидишь, что я прав. Ты очень хорошо знаешь, что этот дом принадлежит отцу и что затем, как уже давно, давно решено и как я не раз говорил тебе, он перейдет к Борису.
Катрин закусила губы.
— Этого мало, — продолжал он. — Я уверен, что отец подарит ему дом к свадьбе. Так что тебе останется одно из двух: или подружиться с нею и уступить ей все хозяйские права как старшей — или выбираться…
Катрин несколько мгновений не могла выговорить ни слова.
Наконец она поднялась и устремила на мужа самый презрительный взгляд, на какой только была способна.
— Знаете что, Владимир Сергеевич, — проговорила она, — я считала вас гораздо умнее и… — plus pratique, чем вы теперь оказываетесь.
Владимир слегка поклонился ей.
— Благодарю за откровенность! Но к вашему мнению я, как вы знаете, довольно равнодушен.
— Помилуйте, о чем же вы думали? Почему этот дом ему, а не вам, когда вы первый женились, когда у вас уже есть сын, прямой продолжатель вашего рода? А у них еще увидим — будут ли дети… По всем правам, по всем, дом этот должен принадлежать вам, и если бы вы были умны, так давно бы уж все устроили…
— А вы полагаете, что я уже об этом не думал?.. Я намекал отцу… Я, наконец, не далее как этим летом ему высказался…
— Что же он?
— Молчит, будто не слышит! Что же я могу с ним сделать?!.
— И зачем я не взялась за это дело, я бы уговорила старика, он так со мною нежен, он бы не мог мне отказать! — отчаянно проговорила Катрин.
— Так, значит, напрасно вы меня обвинили в глупости.
— Но, быть может, и теперь еще не поздно? — говорила она, не обратив внимания на его слова. — Я сегодня же попробую… и если нет, если он откажет — извольте искать новый дом! Я ни дня, ни дня, слышите, не хочу здесь больше оставаться! Да и где же тут… как устроиться… места нет.
В их старом доме можно было с полным удобством поместить несколько больших семейств. Но Катрин, действительно, представлялось, что места нет. Она занимала самые лучшие апартаменты, и для жены Бориса подобных не оказывалось. Ведь не могут же они поселиться там, внизу, где он живет теперь, в этих серых комнатах за биллиардом? Что же — ее выгонять, что ли, будут?! Это невыносимо! Но она так привыкла уже к этому великолепному дому… Она хорошо знала, что купить такой вряд ли и возможно в Петербурге, а строить — когда еще будет готов, да и все выйдет не то. Наконец, в течение последних двух лет она так заботилась об украшении дома, столько выписано из-за границы и накуплено в Петербурге дорогих вещей. Она накупала, выписывала, Сергей Борисович все это разрешал ей. Деньги выдавались из его конторы и зачислялись под рубрикой «ремонта петербургского дома». Она теперь очень волновалась, что ей не удастся присвоить все эти вещи, что выйдут, пожалуй, неприятности!
Она почему-то, выйдя замуж, всегда думала, что она главное лицо в доме Горбатовых, что в будущем все принадлежит ей. И этот дом, и Горбатовское — она уже считала своей собственностью. Почему, на каком основании? Она не задумывалась над этим. Она считала Бориса довольно ничтожным — благодаря его деликатности и уступчивости. А мысль о том, что он может жениться, не приходила ей в голову… Нет, надо устроить это дело! Зачем переезжать? Она не хочет. Она не отдаст этого дома, одного из самых роскошных и лучших домов в Петербурге; она так его любит, так давно восхищалась им, еще даже не зная, что будет жить в нем.
Она вышла от мужа и направилась к Татьяне Владимировне. Там она застала и Сергея Борисовича, и Бориса.
При ее входе Сергей Борисович говорил:
— Да, и это серьезно, мне очень грустно стало, когда я подумал о таком с вашей стороны недоверии. Зачем ты от меня скрывал так долго? — обратился он к Борису. — Разве ты имел право хоть минуту во мне сомневаться?
Но Татьяна Владимировна встала на защиту своего любимца.
— Если кто виноват — так это я, — перебила она мужа. — Он и от меня скрывал. Я сама с ним заговорила об этом, сама выпытала.
— Откуда же ты узнала? Как догадалась?
— А вот это она мне подала мысль, — указала Татьяна Владимировна на Катрин.
Сергей Борисович покачал головою.
— Нет, нехорошо, нехорошо! — повторил он. — Теперь чего же мне ждать, я скоро совсем чужой буду между вами… Но довольно об этом! Ради твоей прелестной невесты я не могу больше сердиться.
Катрин едва выдержала; но все же постаралась улыбнуться и обратилась к Борису.
— Когда же свадьба, если это не секрет?
— Как ты спешишь! — отвечал Борис. — Об этом еще никто не думал.
— Я спрашиваю не из пустого любопытства — мне, видишь ли, как можно скорее надо знать, когда твоя свадьба… Нам нужно вовремя приготовиться для того, чтобы переехать куда-нибудь и очистить вам место.
Все изумленно на нее взглянули.
— Разве в нашем доме не хватит для всех места? — сказал Сергей Борисович.
— Рассудите хорошенько и увидите, что не хватит, — протянула Катрин.
— Я, во всяком случае, вас стеснять не стану, — заметил Борис. — Мне, я признаюсь, хотелось бы ввести мою будущую жену хоть на первое время в этот дом. Но ведь нам нужны комнаты три, четыре — не больше. Мои привычки вы знаете, а она тоже не избалована.
— Избаловаться нетрудно! — не утерпела Катрин, но тотчас же и замолчала, заметив строгий, блеснувший взгляд Татьяны Владимировны.
Борис продолжал:
— Но раз ты уж заговорила об этом, Катрин, я скажу вот что: мы все хорошенько обдумаем, и если встретятся какие-нибудь затруднения, нам можно будет нанять другой дом и уж, конечно, нам, а не вам — об этом не может быть и речи, это самое собою разумеется…
— Вы говорите пустое! — вдруг сказал Сергей Борисович. — Пока я жив, вы должны оба, и ты, и Владимир, жить в этом доме. Места довольно, слава Богу, тем более что мы с матерью случайные гости. И мне странно, Катрин, что ты поднимаешь такие вопросы…
Он вышел, очевидно, несколько раздраженный. Ему стало как-то тяжело и неловко. Хотя он еще и не знал, чего можно ожидать от Катрин, но уже понял, что встают вопросы, которых он до сих пор как-то не предвидел, которые никогда еще не вставали перед ним в его жизни.
Татьяна Владимировна сделалась совсем мрачной. Она-то все хорошо понимала. Она знала, что в семье есть враг, что этот враг уже принес много горя, а впереди грозит еще большим горем…
XV. ТРУДНЫЕ МИНУТЫ
Женщина, более или менее одаренная от природы, каковы бы ни были ее направления и характер, почти всегда в числе своих свойств имеет ясное понимание данного положения, умеет в нем разобраться. Так и Нина, несмотря даже на всю исключительность своей натуры, на жизнь, проводимую в мечтаниях, в сознательном и настойчивом удалении себя от действительности, уже в разговоре с генеральшей доказала, что понимает свое положение. Она в эти дни передумала и предчувствовала многое и в том числе несколько раз возвращалась к мысли о том, что ее ожидает в семье Горбатовых и как она теперь должна вести себя.
Заговорившие в ней теперь с никогда еще неведанной ею силой требования жизни, а также всю ее наполнившее и в течение лета утвердившееся страстное чувство к Борису, сделали свое дело. Они заставили ее наконец поверить тому внутреннему голосу, который уже давно и настойчиво твердил ей, что татариновские откровения, экстазы и восторги — не есть истинное служение Богу и достижение состояния благодати.
Теперь она уже не считала этот голос вражеским наваждением. Все это прошло. Эти воспоминания вечерних собраний сестер и братьев ее смущали и ей даже становилось за себя стыдно. Пока она еще находилась под влиянием горячих слов и убеждений Татариновой и получала в них оправдания и объяснения, даже возведение в нравственную обязанность этих экстазов, ее совесть была спокойна и молчала. Теперь же, когда нервы несколько укрепились, когда она вышла из-под влияния Татариновой и очутилась под новым влиянием, ей вдруг все эти экстазы представились в ином свете. Она, хотя и бессознательно, не мыслью, а чем-то новым в ней заговорившим, стала проникать в их настоящий смысл, стала догадываться, что все это было не что иное, как страсть, чувственность, что это-то и был настоящий «грех», которого «братья» и «сестры» на словах так боялись.
Она, конечно, не могла переделать своей нервной, страстной природы, не могла подавить в себе исканий тонких и сильных ощущений. Но она опять-таки теперь предчувствовала и постигла, что найдет их в наполнившей ее любви к Борису, что эта любовь, естественная и законная, даст ей все, чего ей нужно, и будет для нее именно той новой, прекрасной жизнью, которую до сих пор она так томительно и напрасно искала. И все это будет уже не сон, не бред, среди которых она жила еще недавно, а будет явь.
Пока она жила среди сна и бреда, ей незачем было думать о всем том, что представлялось ей второстепенным, ей не нужно был смотреть себе под ноги, ощупывать почву под собою. Во сне люди летают, во сне действуют иные, неземные законы. Но теперь настала явь — и она поняла, что непременно нужно смотреть себе под ноги, рассчитывать каждый шаг свой, чтобы не упасть, не нанести вреда себе, а главное, тому, кто ей стал теперь так дорог. В этом сказалась женщина; впрочем, женщина сказалась еще и в другом.
Нина уже давно, еще прошлой весной, до своей болезни и отъезда в деревню, в разговорах с Борисом, опять-таки инстинктивно (а в тогдашнем ее состоянии без всяких расчетов), выведала от него все его отношения к домашним и близким ему людям. Он говорил с нею, конечно, очень откровенно, и теперь она была более или менее знакома со всем, что ей нужно было знать. Она вспомнила все его слова, все оттенки, заключавшиеся в словах этих. Она присоединила к ним и свои собственные, хотя и незначительные наблюдения, сделанные ею во время ее редких встреч в обществе с родными Бориса.
Его отца она уже теперь знала, об его матери она помышляла с восторгом, она чувствовала, что не может обмануться в сделанном уже ею себе представлении об этой женщине. Но ее смущали его брат и Катрин. Ей было ясно, что они не могут к ней хорошо отнестись. С ними, наверное, предстоит борьба, их нужно обезоружить, если это возможно. Если же нельзя, то следует хорошенько и спокойно разглядеть их и не дать себя в обиду.
Дойдя до такого решения, она вдруг почувствовала и даже не пришла от этого в ужас, как, вероятно, сделала бы еще недавно, что в ней вовсе нет особенной кротости и смирения. Она почувствовала в себе какие-то новые, воинственные наклонности, она приготавливалась к борьбе и вооружилась на первое время. Она решилась прежде всего выдвинуть перед собою как средство защиты спокойствие и хладнокровие. Она становилась неузнаваема. В жизни женщины бывают такие минуты, когда она неожиданно появляется совсем в новом виде и находит в себе такие ресурсы, которых ни сама она, ни окружающие никогда в ней не подозревали.
Нужно было видеть, какою великолепною, именно великолепною, входила Нина, сопровождаемая княгиней, в дом Горбатовых. Княгиня очень тревожилась об этом первом посещении, зная странности Нины, ее дикость, очень часто находившую на нее в обществе. Она все больше и больше за нее боялась, так как Нина всю дорогу не сказала ни слова и была какая-то загадочная…
Теперь княгиня боязливо на нее взглянула — и поразилась. Она не прочла на ее лице ни знакомой ей дикости, ни понятного в таких обстоятельствах смущения. Нина была только опять бледна, но вся ее фигура дышала достоинством и грацией. Она была до такой степени изящна и красива, что княгиня почувствовала в себе даже гордость ею. И чем дальше, тем больше приходилось ей радоваться и изумляться.
Татьяна Владимировна встретила их в своей любимой, уже давно нам известной маленькой гостиной. Нина вошла первая, Татьяна Владимировна протянула к ней обе руки, обняла ее, крепко поцеловала. Они несколько мгновений молча глядели друг на друга. На глазах их навернулись слезы. Они много, все, что им надо было, сказали глазами друг другу и все поняли. Это первое взаимное впечатление не могло их обманывать.
Татьяна Владимировна почувствовала, что на этот раз ошибки не будет, не может быть, что ее любимец, Борис, сделал совсем не такой выбор, как Владимир. Она до сих пор в это верила — теперь же совсем убедилась. Нина, в свою очередь, ясно и отчетливо читала во взгляде этой красавицы-старухи все, что он говорил ей. Он говорил:
«Скажи, любишь ли ты его той истинной, Богом благословляемой любовью, которая, как редкое благополучие, нисходит в человеческое сердце с тем, чтобы никогда из него не выйти, которая живет в нем, несмотря на все препятствия и невзгоды, все побеждает, преодолевает и является, наконец, торжествующей, неся за собою возможное на земле счастье? Любишь ли ты его такой любовью, чтобы забыть себя, все, что до сих пор было твоим и тебя наполняло, и навеки уйти в его жизнь, слиться с нею так, чтобы его жизнь сделалась твоей жизнью? Можешь ли ты пойти за ним, куда бы он ни повел тебя, пойти без оглядки, без сомнений, без страха?»
И глаза Нины ответили ей:
«Да, я именно так люблю его! Я колебалась, я заблуждалась, я себя не понимала. Но я любила его всегда, и ждала его, и искала его всюду. И теперь уже не уйду от него…»
Долго шел этот безмолвный разговор, быть может, даже чересчур долго, так что со стороны такая встреча показалась бы странной и непонятной. Но свидетелем ее была только княгиня и оказалось, что она поняла эту встречу и не изумилась ей. Раскрасневшаяся, с влажными и светящимися глазами, она стояла, затаив дыхание в своей могучей, высоко поднимавшейся груди, боясь шевельнуться, чтобы не помешать этому важному, немому разговору. Она была растрогана до глубины души; но в то же время в ней внезапно поднялось и заговорило тоскливое чувство.
Ей становилось все и яснее, до какой степени она полюбила Нину. В ее рассеянной и пустой жизни явился серьезный интерес. Эта жизнь, от которой она никак не могла освободиться, в которую она незаметно втянулась, все же порою ее тяготила, и она рада была найти новый смысл своего существования. Ей дорого было сознать, что есть существо, которому она нужна. И вот Нина от нее уходит теперь, она больше уже не нужна Нине. Она сдает ее в надежные руки, хорошие руки, она счастлива ее счастьем… Но с чем она теперь останется? В последнее время, выехавши куда-нибудь одна, она не раз неожиданно и невольно поднималась ранее обыкновенного и спешила домой. Она знала, что ее там встретит приветливый взгляд Нины, что будет с кем потолковать по душе, поговорит так, как она, конечно, почти никогда не говорила ни с кем…
А теперь Нина уходит и не к кому уже ей будет возвращаться. Вся обстановка ее жизни показалась ей вдруг такой томительной, скучной — ни души живой!.. А ведь приходит старость!.. Вот временами чувствуется утомление, тяжесть, чего прежде не бывало. Да, придет старость, и она — одна, одна, у нее не будет даже, как у ее матери, какой-нибудь Пелагеи Петровны… Но она, насколько это было в ее силах, сдавила в себе горькое чувство.
Татьяна Владимировна пришла, наконец, в себя и только тут увидела княгиню. Она крепко сжала ей руку и шепнула:
— Простите, дорогая!
Начался обычный, естественный в таких обстоятельствах разговор.
Татьяна Владимировна расспрашивала Нину об ее прошлом, об ее детстве, то есть о том, чего она еще не знала про ее прошлое и детство. Но Нина увидела, что она знает уже очень многое. Оказалось, что через Бориса они уже хорошо знакомы друг с другом… И княгине опять приходилось восхищаться Ниной и она ловила в глазах Татьяны Владимировны такое же восхищение.
Наконец в маленькую гостиную уже несколько изменившейся, но все еще довольно легкой походкой вошла Катрин. Что она сделала со своим лицом — неизвестно, но это лицо теперь было совсем иным, чем прежнее, всегдашнее, знакомое и княгине и Нине. Все это лицо, такое юное и с такими еще детскими чертами, дышало гордостью и чванством. Алые пухлые губки были сложены в самую презрительную мину. Татьяна Владимировна взглянула на нее, вспыхнула и отвернулась.
Между тем Катрин, не изменяя выражения своего лица, обратилась к Нине с самыми любезными фразами. Она заговорила с никогда не покидавшим ее апломбом. Но чем изысканнее, чем любезнее были ее фразы, тем большим презрением от нее веяло. Она давала понять, как только умеет это женщина, свое сознаваемое ею превосходство. Она, видимо, хотела совсем раздавить Нину этим превосходством и указать ей ее настоящее место. И ей действительно удалось, опять-таки без слов или, вернее, прикрываясь самыми любезными словами, очень вразумительно объяснить Нине:
«Ты втираешься в этот дом, но не воображай, что, нося имя, носимое также и мною, ты станешь мне равной! Знай, что ты останешься такими же ничтожным существом, какое ты есть…»
Но тут случилось нечто странное.
Вдруг Катрин стала как-то путаться, вдруг она стала понимать, что победа, казавшаяся ей такой легкой и неизбежной, ускользает из ее рук, что этот, хотя дерзкий, но бессильный враг не поддается. Эта бледная, нищая девчонка, это «привидение» не опускает перед нею глаз, не чувствует, видимо, себя приниженной, уничтоженной. Ее изумление росло с каждой минутой. На ее фразы Нина отвечала таким же отборными фразами и в то же время глядела на нее с большим достоинством и спокойствием, с некоторым любопытством, дерзким, возмутительно дерзким любопытством. Наконец Катрин прочла даже на губах Нины не то снисходительную, не то насмешливую улыбку.
«Да что же это — она ничего не понимает, что ли?!» — подумала она.
Но досада, бешенство, смущение, поднявшиеся в ней, ясно ей сказали, что — нет, что «привидение» все понимает, но не сдается, не боится ее, не смущается и даже, пожалуй, смеется над нею.
«А, так она еще и интриганка, низкая интриганка!» — бешено подумала Катрин и вдруг перестала владеть собою и, даже без извинений и объяснений, порывисто вышла из комнаты. Ее душила злоба, ей хотелось плакать, царапаться и она не знала, на кого накинуться. Она встретила Владимира, очевидно, идущего в маленькую гостиную.
— Ступайте, ступайте! — прошипела она ему. — Спешите рекомендоваться вашей belle soeur, попросите ее благосклонности!.. Я не могу… не могу выносить ее! — вдруг закричала она. — Она отвратительна, невозможна… Это позор!.. Ca n'a pas de nom!.. За что меня унижают? В какую семью я попала!
Владимир стиснул кулаки.
— Однако, — прошептал он, — вы не забывайтесь, не то ведь и моему терпению может быть конец…
Он поспешил от нее прочь. Ведь она способна сделать сцену на весь дом, эта грубая женщина, — а он пуще всего ненавидел всякие сцены и боялся их. Войдя в гостиную, он уже успел подавить в себе раздражение. Он казался веселым и милым. Его любезность не имела в себе ничего неестественного. Он подсел к Нине в свободной позе и стал обращаться к ней с тем милым оттенком фамильярности, который можно допустить относительно будущей близкой родственницы. Он с видимым любопытством в нее вглядывался.
«А ведь она с прошлой зимы поправилась и похорошела! — думал он. — Она уже не совсем „привидение“. И хороша, очень хороша! Какие глаза! Как сложена! Какие прекрасные руки!»
Он даже успел заметить на мгновение показавшуюся и скрывшуюся в шелковых оборках маленькую ножку Нины. Под конец в нем заговорило хорошо ему знакомое чувство зависти. Ему стало досадно, что вот у него жена хотя и хорошенькая, но не представляющая для него уже никакого интереса. А вот эта красивая девушка любит Бориса и будет принадлежать ему…
Он стал еще бесцеремоннее в нее вглядываться и оценивать ее физические достоинства. Нина это чувствовала и ей было неловко и обидно.
«Он разглядывает меня как какую-нибудь лошадь!» — подумала она.
Но в это время вошел только что вернувшийся домой Борис. Она вспыхнула и забыла все — и Катрин, и Владимира. Тоска и обида, начинавшие было невольно закрадываться в ее сердце, замерли. Она почувствовала себя сильной и к тому же имеющей надежную опору. Она благодарно взглянула на Татьяну Владимировну, на Бориса — и все лицо ее засветилось счастьем.
XVI. ЖРИЦА
Князь Еспер беседовал с Татариновой в ее мрачной гостиной, и, конечно, предметом их беседы была Нина. Князь Еспер своевременно известил Катерину Филипповну обо всем происшедшем и выходил из себя от того спокойствия, которое замечал в ней.
— Катерина Филипповна, воля ваша, вы все время, как есть все время поступали не так, как бы следовало!.. Что вы мне говорили перед моим отъездом в деревню? Вы говорили, что будете часто и много писать сестре Нине…
— Я так и начала! — своим тихим голосом ответила Татаринова. — Я написала ей очень большое и обстоятельное письмо… оно должно было на нее подействовать, открыть ей глаза, утвердить ее в вере, заставить ее начать борьбу с врагом, который овладел ею… Я ждала — она нескоро мне ответила. Наконец получаю письмо, ведь я вам его читала, вы сами увидели, что это письмо написано было только из приличия… Я писала ей опять и не получила ответа… Я не оскорбляюсь, вы знаете, что я никогда не оскорбляюсь, я не имею на это права… обидчивость — грех…
— Так зачем же вы не продолжали переписку? — перебил князь Еспер. — Не подействовало один раз — могло бы подействовать в другой.
— Не продолжала, потому что соображаю, как вы должны знать, свои действия с получаемыми мною откровениями.
Князь Еспер не удержался от нетерпеливого жеста.
— Откровения! — раздраженно воскликнул он. — Опять откровения!.. Что же, неужели вам приказано оставить ее в покое?
— Именно.
— Как? Оставить в покое, то есть не пытаться спасти погибающую душу? Подумайте, Катерина Филипповна, разве может быть такое откровение, разве Господь Бог, повелевающий положить душу свою за други своя, может требовать от нас таких действий? Ведь это человек утопает, а вы отвертываетесь и говорите: «так велит Христос»… Подумайте!
Но Катерина Филипповна нисколько не смутилась этими словами.
— Совсем не то, — спокойно сказала она. — Христос не может повелевать жестокости и равнодушия к судьбе ближнего, но он ведет человека к спасению различными путями, которые иногда для нас и непонятны, которые мы слабым нашим разумом постичь не в силах. Мне было откровение, что сестра наша, хотя и уходит от нас, но временно. Она сама откажется от заблуждений и вернется к нам с большею еще и уже непоколебимой верою.
Князь Еспер все более и более раздражался.
— Однако вы этого до сих пор мне не говорили. Вы говорили просто, что вам приказано было оставить ее.
— Так оно и было сначала, а откровение, о котором я говорю теперь, получила я на этих днях, когда скорбела духом о том, что Нина уже несколько дней в Петербурге, а ко мне не заглядывает.
— Что же, это было вам в видении сказано?
— Нет, письменно.
— Покажите мне.
— Хорошо, сейчас покажу.
Она вышла и вернулась с запиской в руках. Князь Еспер прочел и швырнул бумажку на стол.
— Что вы делаете? — в ужасе воскликнула Татаринова. — Что вы делаете, безумный?
— Я не верю этому откровению! — почти задыхаясь и дрожа говорил он. — Оно подложное!
— Как подложное? — не веря своим ушам, прошептала Татаринова.
— Да так, я не знаю, вам подкинули эту бумажку… я не верю… это подложное… это не может быть!..
Катерина Филипповна встала совсем бледная, глаза ее загорелись негодованием.
— Князь, прошу вас, — сказала она глухим голосом, — прошу вас оставить меня. Вы кощунствуете… вы находитесь под властью дьявола… уйдите… уйдите скорее… Придите в себя… молитесь… просите у Христа прощения… Уйдите… уйдите!..
Она замахала руками и скрылась из гостиной. Он постоял, продолжая трястись от злости, наконец плюнул и тоже выбежал, почти громко повторяя:
«Вот дура, вот дура! Совсем рехнулась, совсем!»
А между тем сам он был как полоумный. Выбежав за ворота, он крикнул своему кучеру, который стал было подавать экипаж: «Убирайся к черту!» — и замахал руками. Кучер остановился в недоумении и глядел, как барин, семеня ногами, подпрыгивая и кривляясь, пустился по улице, обращая на себя всеобщее внимание. Долго бежал князь Еспер, мысленно ругая всех и себя в том числе. Наконец мало-помалу он стал успокаиваться.
«А кто ее знает, — думал он, — может, эта сумасшедшая и права!.. Как знать, Нина, пожалуй, и впрямь очнется и затоскует по нашим кружениям и экстазам… Ведь это втягивает, как запой!..»
Ему вспоминалось, как однажды и он, сам того не замечая, поддался во время собрания у Татариновой общему экстатическому настроению и завертелся до одурения, которое перешло в нечто действительно особенное, потрясшее всю его нервную систему и вызвавшее удивительные ощущения. Потом он много раз хотел дойти до такого состояния, но уже не мог и только притворялся ради ему одному известных целей.
«Как знать, как знать» — повторял он и, видимо, утешался. — Может, еще и на нашей улице будет праздник… вернется она… и тогда…
Что будет «тогда» — об этом ему нечего было задумываться. Он уже так часто мечтал о том времени, когда Нина окажется совсем без воли, совсем под его влиянием, — и очень хорошо знал, что тогда будет…
Он взял извозчика, приехал домой, посмотрел на часы, потом прошел к генеральшиным воспитанницам и пригласил их к себе, говоря, что покажет им удивительную книгу с картинками. В книге для них ничего удивительного не оказалось. Но князь книгой не ограничился. Он расставил всевозможные сласти, которых у него всегда много было в запасе. Он принялся за свои ужимки, шутил с девочками, ласкал их…
Они хихикали и поедали сласти…
А Катерина Филипповна, прогнав от себя князя Еспера, долго еще находилась в большом волнении. Ей и в голову не пришла мысль оскорбляться за себя словами князя. Она даже совсем не поняла, что он подозревает или может подозревать ее. Она пришла в действительный ужас и негодование, видя его кощунство. Как! Усомниться в откровении? Не доверять откровению, судить и осуждать смысл его!.. Тяжелое, видимо, приходит время — враг не дремлет. Ясное дело, что враг вселился в этого «брата» и торжествует над ним, изгоняет из него истинный разум… Что же делать теперь, чтобы помочь «брату»?.. Одно осталось: нужно молиться за «брата».
Катерина Филипповна прошла в свою молельню, опустилась на колени перед иконой и стала молиться, бия себя в грудь, глубоко вздыхая и плача. Приходили минуты, а Катерина Филипповна не вставала с колен и молилась. Лицо ее начало преображаться, глаза были широко раскрыты и горели, ноздри раздувались, кровь то приливала к щекам, то отливала, губы нервно дрожали, из груди вырывалось временами тяжелое дыхание…
Она стала класть частые земные поклоны, широко раскачиваясь, потом вскочила на ноги и с безумным лицом, ничего не видя и не понимая, схватила карандаш, лежавший на столике, и пододвинула к себе чистую бумагу. Рука, державшая карандаш, напряглась и стала как деревянная.
Прошло несколько мгновений. Катерина Филипповна тяжело дышала, голова ее то опускалась на грудь, то пригибалась к затылку, по временам судороги пробегали по всем ее членам…
Вдруг рука вздрогнула, карандаш забегал по бумаге… еще миг… и Катерина Филипповна как подкошенная упала на пол почти без признаков жизни…
Когда она пришла в себя, первым ее движением было жадно схватить лист бумаги и прочесть то, что на нем было написано. На листе твердым, крупным почерком, совсем не похожим на обычный почерк Катерины Филипповны, было выведено:
«Этот брат обманщик, изгони его от себя».
Катерина Филипповна вскрикнула, схватилась за голову и несколько минут стояла неподвижно. На ее лице выражалось негодование.
«Могла ли я это вообразить?!. Надо оповестить всех… Надо придумать, как от него избавиться… и как сделать его безвредным…» — прошептала она.
Она была одна и, следовательно, была искренна. Она была всегда такою. И в этой ее искренности заключалась именно та сила, которая так часто действовала на ее слушателей и привлекала свежих людей в ее секту. Это была сила глубокого фанатического убеждения, всецело ее наполнявшего. Она была женщина с давно уже и безнадежно потрясенной и испорченной нервной системой, что, однако, не мешало ей жить и легко выносить многое такое, чего не вытерпел бы и самый крепкий организм…
Катерина Филипповна была очень огорчена потерей Нины, хотя и верила искренно, что та, рано или поздно, а вернется. Ей хотелось увидеться с Ниной; но поехать к ней она все же не решилась. Она написала ей доброе и ласковое письмо. По получении его Нина сильно смутилась. Она ничего не имела против Татариновой, и хотя перестала считать ее «святою», но жалела ее как искренно заблуждающуюся женщину. Ей тяжело было ее обидеть, а между тем она теперь ни за что на свете не хотела к ней ехать. Попасть опять в эту обстановку, в эту среду — нет, нет — ни за что! Нина чувствовала и страх и отвращение. Она рада была, что Ручинской нет в Петербурге, что не придется объясняться, выслушивать проповедь, убеждения…
Она решилась проститься письмом с Татариновой. Пусть ее обвиняют, считают грешницей — теперь ей это было все равно. Она писала: «Я знаю, что вы имеете право обвинять меня, и я не стану защищаться. Я думаю, что теперь нам лучше не видаться. Но хоть я и отказываюсь посетить вас, будьте уверены, что я остаюсь с прежним к вам уважением. Надеюсь, что, как вы, так и все братья и сестры не сочтут меня способной на нескромность; я молчать буду до конца жизни… Желаю вам… но нет, лучше не скажу, чего желаю, потому что вы только рассердитесь на мои искренние желания…»
Катерина Филипповна не рассердилась, а грустно вздохнула.
«Погубила свою душу… а сколько было ей дано! — думала она. — Но Бог милостив, поймет она свои заблуждения и вернется… мы еще увидимся!»
Однако ей не пришлось увидеться с Ниной в земной жизни.
Дальнейшая судьба Катерины Филипповны Татариновой нам более или менее известна из дел, «секретных» дел, производившихся о ее секте. Через двенадцать лет, в 1837 году, был сделан донос на нее и собиравшихся у нее братьев и сестер — все сектанты были выселены из Петербурга по разным местам, большею частью по монастырям. Катерина Филипповна была тоже отправлена в Кашинский монастырь. И она сама, и ее родственники, пользовавшиеся некоторым влиянием, неоднократно просили освободить ее из заключения. Император Николай Петрович готов был уже снизойти на эту просьбу в 1843 году, но тогдашний обер-прокурор Святейшего Синода, граф Протасов, доложил ему, что «Татаринова в религиозных понятиях своих никакой перемены не оказывает, отзываясь, что она оскорбит Духа Святого, если плоды, какие видит от своих религиозных занятий, признает заблуждением». На этом докладе государь написал: «Нельзя после такого отзыва».
Через три года опять поступило ходатайство об ее помиловании, и опять ей сделан был запрос — согласна ли она дать письменное обязательство оказывать неизменное повиновение православной Церкви, не входить ни в какие неблагословенные оною общества, не распространять ни тайно, ни явно прежних своих заблуждений и не исполнять никаких особенных обрядов, под опасением строжайшего по законам взыскания? И опять она отказалась, но, очевидно, ей было слишком тяжело в монастырском заключении, в одиночестве, без возможности не только видеться, но даже письменно сноситься с людьми ей близкими, со своими старыми испытанными друзьями и единомышленниками. Она глубоко мучилась, не имея возможности служить Христу и искать его посредством радений.
Вероятно, наконец, ей на помощь пришло новое откровение, и в 1848 году она дала требуемую для нее подписку и ей было разрешено жить в Москве. Но не прошло и года, как о ней началось снова дело. Она не исполнила обещания, данного в подписке.
У нее стали собираться, как и в прежние годы, многие члены ее секты, которые успели выйти на свободу. Никто из них не отстал от прежних заблуждений и до самой своей смерти, несмотря на преследования и постоянный страх, в котором они должны были находиться. Они пользовались малейшей возможностью, чтобы собираться для верчений и пророчествований.
Их вера была непоколебима. И эту веру разделяли с ними и разделяют до сих пор многие тысячи из русского народа. Эта вера представляет собой явление, к которому до сих пор относятся почти исключительно с официальной точки зрения.
А между тем в этом явлении заключается глубокий психический интерес. Оно имеет в своей основе нечто весьма серьезное, истекающее из мало ведомых еще нам свойств человеческой природы…
Вера «искателей Христа», достигающих блаженного состояния посредством «кружений» и прочих странных действий, — неслучайна и ее существование легко найти в самой глубокой древности, на различных пунктах земного шара…
Молчаливые брамины Индии, среди своих изумительных, переживающих тысячелетия храмов и пещер, быть может, знают, откуда взялась эта странная вера и что она значит. Но они молчат, — эти последние хранители великих тайн древности, тайн, перед которыми все наши современные знания представляются очень жалкими…
XVII. НЕСЧАСТНАЯ
Катрин чувствовала себя очень несчастной. Ей казалось, что она окружена врагами, которые все согласились между собою отравлять ей жизнь. А себя она считала невинной жертвой.
И как все это случилось? Жизнь шла так хорошо и гладко, впереди ничего не грозило, да и что могло грозить? Она молода, хороша, богата, может удовлетворять всем своим желаниям, всем капризам…
Надоел муж, но явился человек, который понравился ей больше всех людей, каких только она знала, который сумел заставить заговорить ее воображение. Она ни на минуту не задумывалась о своих обязанностях. Ее совесть была спокойна — так ей по крайней мере казалось.
Но вот со всех сторон неожиданно на нее стали наступать несчастья. Он уехал, оскорбил ее своим почти пренебрежительным к ней отношением. В семье она давно уже стала замечать недружелюбные взгляды… Затем это оскорбление, нанесенное ей теперь уже окончательно и бесповоротно решенной женитьбой Бориса, против которой никто не протестует, которую все допускают!
«Это они нарочно, назло мне, для того, чтобы унизить меня!» — думала она.
На нее напала странная, болезненная мнительность. Она продолжала посещать общество, но ей теперь постоянно казалось, что при встрече с нею косятся, что ее принимают совсем не так, как прежде. Ничего этого не было в действительности, она сама фантазировала и себе вредила, так как ее светские знакомые стали подмечать в ней многие непонятные странности. Об этих ее странностях уже кое-где даже говорили:
— Qu'arrive t'il donc a la petite madame Corbatoff? — Elle devient si étrange!.. Просто удивительно! Как-то испуганно на всех смотрит, смущается — и ведь это совсем на нее не похоже… Верно, она больна!..
— Ее болезнь очень понятна и в такое время мало ли какие странности являются у молодых женщин… — объясняли другие.
Но третьи очень язвительно усмехались.
— Совсем не то — она скучает…
— Как скучает? По ком?
— Известно по ком — по графе Щапском!
— Разве?
— А вы и не знали! Помилуйте, это всю прошлую зиму в глаза бросалось…
Слово было пущено и облетело весь круг, где вращалась Катрин, унеслось далеко за пределы этого круга и повторялось даже людьми совсем иных слоев общества, людьми никогда и не видавшими Катрин и только слышавшими о ней как об одной из самых блестящих женщин петербургского света. На этот раз, как нам известно, догадка была верна и доказывала необыкновенную тонкость светской наблюдательности, потому что Щапский и Катрин держали себя крайне осторожно в Петербурге, решительно ничем не нарушали светских приличий. Выдать их кому-нибудь было очень трудно, да и никто не выдавал.
Но в свете очень скоро замолчали об этой только что выпущенной новости, благодаря тому, что явилась новая пища для разговоров, новый скандал в семье Горбатовых. Борис Горбатов женится на воспитаннице княгини Маратовой! Свет оказался одного мнения с Катрин. Он возмутился выбором Бориса.
— И как это родные допустили?
— Да ведь иногда бывают такие обстоятельства, что поневоле допустить приходится. Молодой человек был очень неосторожен…
— Да, вот что!
— Что же иное и может быть…
— А княгиня-то, княгиня! Она какую тут роль сыграла?
— Что ж, добилась своего, пристроила бедную родственницу… да и как еще пристроила!..
Посмеялись, посудили и кончили тем, что признали совершившийся факт и успокоились.
Наконец Катрин узнала, что граф Щапский неизвестно откуда явился в Петербург. Она оживилась, стала считать часы, ждать его появления. Прошло несколько дней — его нет. Много раз писала она ему, но тут же и разрывала свои записки.
Нет, она не должна унижаться! Ведь приедет же он наконец, ведь хоть ради приличия — да приедет… Только бы до того не встретиться где-нибудь в чужом доме… Она боялась, что в таком случае не выдержит. Она вдруг почувствовала в себе новый прилив страсти к этому человеку. Она забыла его коварство, его равнодушие, забыла все планы мщения, строенные ею. Она не могла теперь ни о чем думать, как только о том, когда его увидит, чтобы скорее обнять его, чтобы снова почувствовать его присутствие.
А его все нет! Какая жестокость, какое бессердечие! Или тут опять вмешались враги, оклеветали ее перед ним?.. Кто знает? Когда же, наконец, явится он?
Она просто изнывала. Наконец настал давно жданный день — ей доложили о его приезде. Она изменилась в лице и, задыхаясь, проговорила:
— Просите!
— Куда прикажете?
— В маленькую гостиную…
Дрожа от волнения и почти задыхаясь, она поспешно прошла туда.
Какое счастье — никого нет дома! Старики уехали, обедают у этой Маратовой, Борис, конечно, там же. Владимир не вернется раньше обеда… Она одна во всем доме… Кто-нибудь может приехать — отказать будет неловко… Но ведь, может быть, никто и не приедет, и во всяком случае есть хоть несколько свободных минут, можно говорить… и тут… здесь, в этой милой комнате, которая соединяла в себе так много прошлогодних воспоминаний!
Но как она его встретит?
Она почти упала в кресло, почувствовав себя такой слабой…
Нужно встретить его с достоинством, нужно, чтобы он понял хорошенько, что порядочный человек не может так поступать, как поступил он. И пуще всего не нужно ему показать радости, почти восторга, охвативших ее при одной мысли, что вот она сейчас его увидит…
Он вошел. Она взглянула на него. Он совсем не изменился — так же хорош, от него дышит все такой же гордой силой… Та же самоуверенная и презрительная улыбка… Но в глазах как будто радость, радость свиданья! Кажется это ей только или она не ошиблась?
Он быстро, привычно оглянулся. Они одни. Он поспешно склонился, схватил ее руки и стал целовать их. Руки были холодны и заметно дрожали. Она старалась отстраниться и не могла.
— Что вы со мной сделали? — прошептала она, и невольные слезы брызнули из ее глаз.
Он поморщился. Что он с ней сделал? Ничего. Он только не думал о ней все это время, у него было так много других вопросов. Он все время почти провел в своей «отчизне», среди представителей старой Польши. Он всматривался в положение дел, выслушал мнения всех горячих голов, дышавших вечной и неизменной ненавистью к России. Он был посвящен в различные планы. Ему удалось, как и везде, обратить на себя внимание, получить влияние, начать играть новую роль… Из Польши он проехал в Италию. В Риме был принят папою на продолжительной аудиенции. Затем потолковал со всеми влиятельными кардиналами и вернулся в Петербург очень довольный собою… Где же ему тут было думать о Катрин?
— Что я с вами сделал? — сказал он ей в ответ. — Вы можете обвинять меня только в том случае, если не захотите слышать никаких объяснений. Ах, Боже мой, Боже мой, если бы ты только знала, моя дорогая, как тяжела была для меня разлука с тобой!..
Она покачала головою и печально усмехнулась.
— Разве я могу тому поверить — дал слово и не приехал, и ни разу не написал даже. Жив ли, нет ли…
— Иначе было невозможно; ведь я говорил, что у меня серьезные и важные дела… Я путешествовал не для удовольствия… Дела… Дела!..
— Какие могут быть дела, чтобы заставить человека пренебрегать той, кого он любит?
— Есть такие дела, дорогая Катрин! Я был далеко, за границей…
— Боже мой… И не написал!
— Как не написал, я три письма послал: два твоему мужу и одно тебе…
Она побледнела.
— Я не получала этого письма и муж мне не говорил про твои письма… Что же это? Письмо это перехвачено, оно у него в руках, у него или у кого-нибудь из семьи. Они все против меня… Что ты писал?
— Успокойся, — поспешно сказал он, — ты знаешь — я осторожен. Но меня все же очень удивляет, как это письмо мое к тебе не попало. Впрочем, оно могло пропасть на почте… Теперь мы это узнаем… — проговорил он. — Вот видишь сама, что я должен быть осторожен…
— Но, наконец, теперь-то, теперь вы давно уже здесь и до сих пор не нашли свободной минуты, чтобы побывать у меня!
— Да, я здесь целую неделю, но дорогой так простудился, у меня распухло горло, доктора запретили выходить.
— На все — оправдания, и я должна всему верить, — проговорила Катрин.
— Как же иначе?
— И можешь поклясться, что говоришь правду? Что думал обо мне, что не изменял мне в это время?.. Поклянись, поклянись, если хочешь, чтобы я тебе поверила…
— Разве вы когда-нибудь видели, чтобы я клялся в таких вещах? — спокойно сказал он. — Это было бы унизительно, и вы должны мне верить и так. А если не верите, так что же может быть общего между нами…
От этих слов на нее повеяло таким холодом, что она испугалась и вдруг замолкла, вдруг присмирела. А он между тем ее очень внимательно разглядывал. Он нашел в ней большую перемену, ему показалось, что она подурнела. Она встала и прошлась по комнате. Он следил за нею и вдруг опять поморщился.
— Вы совсем здоровы? — спросил он.
— Вы видите… — прошептала она.
— А!..
У нее опять на глазах блестели слезы.
— Казимир! — воскликнула она. — Вот что случилось!
Он опустил глаза и не говорил ничего.
— Казимир, — воскликнула она, — да ведь это… Пойми… Ты не хочешь понять меня… Ведь мой будущий ребенок… Твой ребенок!..
В соседней с маленькой гостиной библиотеке, куда была спущена толстая дверная драпировка, в эту самую минуту послышалось какое-то движение, будто кто сильно двинул креслом или какой-нибудь другой мебелью. Потом какой-то предмет, верно, книга, упал там на ковер. Но оба они не заметили этого, оба они были чересчур взволнованы.
Щапский даже покраснел. Он не ожидал ничего подобного, никогда не думал о возможности такого случая. Пуще всего на свете он желал быть свободным и свободным вполне. И вдруг его хотят связать! Он рассердился. Эта женщина, к которой он давно уже почувствовал охлаждение и к которой теперь вернулся только благодаря минутному капризу, присоединившемуся к неизбежности посетить ее — вдруг она стала ему почти противной, какой становились ему все женщины, когда он видел, что у него являются относительно них хоть какие-нибудь обязанности.
«Что же это? Ведь она намерена теперь забрать власть надо мною!.. Ведь она будет меня преследовать сценами, будет разыгрывать драму… Вот она уже и так подурнела… Будет ныть, плакать… И вдобавок, почем я знаю!»
— Вы уверены в этом? — наконец проговорил он.
— В чем, Казимир, в чем?
— В том, что вы сейчас сказали…
— Конечно!..
— Я не о том совсем спрашиваю… Она вздрогнула.
— Господи, так о чем же? Вы сомневаетесь, вы думаете… Я понимаю…
Яркая краска залила ее щеки.
— Вы хотите отстранить от себя ответственность… Вы хотите отказаться от своего ребенка!..
— Я не хочу этого, но вместе с тем очень не желаю такой ошибки. Как же я могу узнать, когда, вероятно, и вы сами не знаете…
Она едва сдерживала рыдания.
— Казимир, вы вернулись для того, чтобы оскорблять меня…
— Успокойтесь, я вас не оскорбляю нисколько… Я просто боюсь ошибки…
— Разве женщина может обмануться? — отчаянно произнесла она и уже не могла сдерживаться и громко зарыдала.
Он почувствовал себя в крайне неловком, несносном положении. Внутреннее чувство подсказывало ему, что она его не обманывает. Но что же ему делать? Начать клятвы и уверения, разыграть роль нежного супруга? Ему казалось это чересчур затруднительным, а он не любил затруднять себя. Однако он поспешил к ней и усадил ее в кресло.
— Catherine, au nom du ciel, calmez vous!.. Ведь нельзя же… Могут войти, застать вас в таком виде… Как мы объясним? Это невозможно, успокойтесь, успокойтесь!..
Но она в первый раз в жизни чувствовала что-то особенное. Она не могла бороться со своим нервным припадком, в ней заговорило страстное чувство к этому человеку, и вместе с тем она почувствовала себя несчастной, обиженной, оскорбленной всеми, всеми покинутой. Ей безумно захотелось удержать его возле себя, скрыться под его защиту. От чего, от кого скрыться — она уже не разбирала — может быть, от самой себя.
— Казимир! — говорила она сквозь рыдания. — Казимир, скажи же, скажи мне, что ты меня любишь, что не разлюбил меня… Скажи… Слышишь, скажи!.. Я должна знать это… Говори правду… Не обманывай… Ну, разлюбил… Ну, хочешь бросить, — так скажи разом, не томи… Я не могу больше!..
— Люблю… Люблю! — через силу проговорил он.
От этих слов веяло холодом, и они прозвучали каким-то отвратительным диссонансом. Но она уже не разбирала, она была как в бреду.
— Казимир, — говорила она, — не покидай меня, возьми меня… Я все для тебя брошу… Я уйду для тебя хоть на край света, я все отдам тебе, что у меня есть… Твоя вера будет моей верою… Приказывай… Помнишь, я иногда спорила с тобою, ты бранил меня за то, что я не отношусь серьезно к твоим словам о религии… Говори теперь… Приказывай… Хочешь, я хоть сейчас перейду в католичество…
Он сидел задумавшись, пощипывая усы. Вдруг по лицу его мелькнуло какое-то новое выражение, какая-то новая мысль завертелась в его глазах. Он сделал над собою усилие и заговорил уже новым, более ласковым голосом:
— Катрин, дорогая, ведь еще есть время, обо всем потолкуем… А теперь прошу — успокойся… Ну, успокойся же, если меня любишь!.. Я вернусь, скоро вернусь… Когда?.. Назначь сама… Дай мне знать…
— Не уходи! — простонала она и снова громко зарыдала.
Он просто испугался. Каждую секунду мог войти кто-нибудь… Скандал неизбежен. Безумная женщина! Он видел, что успокоить ее он не в силах и что самое лучшее — ее теперь оставить. Одна она скорее придет в себя.
— Я ухожу, — сказал он, — мне нельзя ни минуты оставаться… Но я вернусь скоро… Завтра… Скажи мужу, что я жалею, что не застал его…
Он взял ее руку, поцеловал и быстро, прежде чем она могла опомниться, вышел из комнаты.
Она подняла свое склоненное, заплаканное лицо, взглянула — его нет. Она побежала было за ним, но остановилась, вернулась и с новым, отчаянным, истерическим рыданием упала в кресло.
Драпировка, скрывавшая дверь в библиотеку, зашевелилась — ее приподняла чья-то рука.
Катрин заметила это и задрожала.
На пороге показался Борис, бледный, с широко раскрытыми глазами. Он сделал несколько шагов и остановился перед Катрин. Она с ужасом взглянула на него — его взгляд был страшен.
Она вскрикнула и лишилась сознания.
XVIII. СВИДЕТЕЛЬ
Борис утром был уже в доме генеральши и должен был опять возвратиться туда к обеду. Но до обеда оставалось еще много времени. Он заехал к Вельскому, не застал его, вернулся домой и прошел в библиотеку.
Несмотря на то, что он, обыкновенно, мало обращал внимания на окружающую обстановку и не придавал ей особенного значения, ему не по душе были его мрачные комнаты в нижнем этаже, со сводчатыми потолками, с наполовину закрашенными окнами, во избежание нескромных взглядов проходивших по тротуару и проезжавших по набережной Мойки. Поэтому, когда он бывал дома, он обыкновенно отправлялся в библиотеку. Это было его любимое местопребывание.
Обширная и светлая комната, вся заставленная массивными шкапами с книгами; на шкапах бюсты писателей, ученых, художников всех времен и народов. Посреди комнаты огромный стол и на нем всегда были разложены как иностранные, так и русские новые издания и газеты. В амбразуре широкого окна, вблизи от двери в маленькую гостиную, помещалось большое сафьяновое кресло со всевозможными приспособлениями для чтения. В этом кресле можно было сидеть, лежать в каком угодно положении. Двигавшийся во все стороны пюпитр поддерживал книгу; можно было приспособиться как угодно, давая себе только один труд: перевертывать страницы.
На этом-то кресле Борис, любивший иногда понежиться, обыкновенно устраивался с книгой. А выбор для чтения был громадный.
Сергей Борисович, большой любитель книг, в юности выписывал все мало-мальски интересное. Затем, вернувшись из своего долговременного пребывания за границей, он привез огромное количество книг. И с этого времени аккуратно следил за тем, чтобы обе его библиотеки, в Горбатовском и в Петербурге, постоянно пополнялись. Эти библиотеки составляли чуть ли не лучшее частное книгохранилище в России. Каталоги составлялись тщательно, библиотеки были в полном порядке.
И Борис каждый раз, забравшись сюда, находил какую-нибудь новую, любопытную и редкую книгу, которая сразу поглощала его внимание. Он просиживал целые часы, время от времени меняя свое положение в кресле и то спуская, то поднимая пюпитр.
Так с ним случилось и теперь. Он нашел интересную книгу и погрузился в чтение. Он уже читал около часу, когда услышал в маленькой соседней гостиной, дверь в которую была отперта и от которой его разделяло только тяжелая, спущенная драпировка, шуршанье женского платья. Кто-то кашлянул, и Борис узнал в этом кашле Катрин. Он не обратил внимания и продолжал чтение. Но не прошло и двух минут, как снова раздались шаги, на этот раз мужские, и упавший голос Катрин произнес:
«Что вы со мною сделали?»
У Бориса сильно забилось сердце. Он еще не понимал, не знал, кто это, но уже предчувствовал что-то недоброе.
«Что вы со мной сделали?» Мало ли кому и по какому поводу могла она сказать это. Но в звуках ее голоса послышались Борису такие ноты, на какие он даже не считал ее способной.
Он хотел встать, войти в гостиную, но вдруг почувствовал себя как бы парализованным. Его сердце шибко стучало, он невольно затаивал в себе дыхание. Он ничего уже не соображал, он только слушал…
Он слышал все и, по мере того как они говорили, у него все больше и больше начинала туманиться голова. Тоска его охватила. И в то же время он оставался неподвижен. Он уже не мог себе задавать вопроса: что он делает, хорошо ли делает, что не дает знать о своем присутствии, что подслушивает…
А разговор их продолжался, и каждое новое, произнесенное Катрин или Щапским слово, так и ударяло Борису прямо в сердце…
Вот она говорит: «Мой будущий ребенок — твой ребенок».
Последняя надежда, остававшаяся Борису, исчезла. Ужас охватил его. Он не мог больше вынести. Не помня себя, он вскочил с кресла, книга упала с пюпитра на ковер. Он схватился за голову, у него будто подкосились ноги, и он снова опустился в кресло, пряча лицо в холодных сафьянных подушках, будто желая скрыться от этого позора, который поразил его так, как будто это был его собственный позор.
Теперь уже он ничего не слышал и не видел. Такое мучительное полузабытье продолжалось несколько минут. Наконец он пришел в себя и поднялся. Что делать? Уйти, уйти скорее от этой грязи, чтобы только ничего не видеть!..
Пока его сомнения были только сомнениями, он еще мог рассуждать хладнокровно. Он видел опасность, но надеялся, что это не более как опасность, что она еще может быть и будет отстранена. Щапский уехал, не возвращался и до сих пор о нем не было никакого слуха. Потом, наконец, он вернулся, но, как видно, не спешил с первым визитом. Бог даст, все обойдется, и увлечение Катрин пройдет…
Он не смел подозревать ее в большем. Но теперь эти неожиданные откровения оглушили его как громом. Не только падение, но и последствия этого падения, — самое худшее, что только могло случиться, чего никто, ни он, ни мать, не имели никогда в мыслях!..
И что же теперь делать, как быть? Он не мог ничего понять, ничего придумать. Он чувствовал только с каждой секундой возраставшую потребность уйти, вздохнуть свежим воздухом. Он задыхался. Он уже направился было через библиотеку в противоположные двери; но тут услышал громкие истерические рыдания Катрин. Эти рыдания были так страшны и отчаянны, что в нем мелькнуло естественное, простое чувство жалости к живому, физически страдающему существу. Он вернулся и вошел в гостиную.
Возбуждение, испуг и ужас Катрин завершились обмороком. Он невольно растерялся. Его отвращение, негодование, страдание — все вдруг утихло. Он только сознавал, что нужно привести ее в чувство и по возможности теперь, хоть на это первое время, первые минуты, избегнуть огласки, скрыть эту сцену от домашних и прислуги. Он поспешил к двери, запер ее на ключ, потом вернулся к неподвижно лежавшей Катрин, заметил на столике флакон с английской солью, приложил его к ее ноздрям, стал дуть ей в лицо. Мало-помалу она очнулась, приподнялась, села, взглянула на него своими блуждающими глазами.
Она была страшно бледна, ее губы тряслись. Она опустила глаза и не была в силах поднять их снова. Во всей ее фигуре, в выражении ее лица теперь виден был страх, почти панический страх. Борис молча стоял перед нею, не находя слов. Да и что бы мог он сказать ей?
Она уже не плакала. Она сделала над собою усилие и опять на него взглянула. Но теперь в ее глазах было кроме страха еще что-то новое. Она собиралась с мыслями, искала выхода. У нее вдруг мелькнула надежда:
«Чего же я так испугалась? Может быть, он ничего не слышал… да и, конечно, это так!.. Он вошел в библиотеку с той стороны, услышал, что я плачу — и прибежал… Что у него лицо такое — это понятно: я его испугала…»
— Ах, Борис, — прошептала она, — я не знаю, что со мною, я, верно, очень больна!.. Мне вдруг стало так дурно!.. Как хорошо, что ты услышал… теперь проходит… это ничего, это пройдет…
Она старалась проговорить все это самым спокойным, естественным тоном, как будто не придавая им значения. Вся кровь бросилась ему в голову. Он побагровел. Стиснув зубы, он ответил ей:
— Я все время был в библиотеке, я все слышал от первого до последнего слова…
Она вскрикнула, стала хватать себя за лицо, за голову, вскочила с кресла, стала метаться по комнате, как пойманный зверь, и в то же время говорила, сама не зная что:
— Что ты слышал? Ничего не мог слышать!.. Все это пустяки… ничего ты не понимаешь, я могу объяснить тебе… ты увидишь… ты Бог знает что думаешь… это неправда!.. И как благородно следить, ловить, подслушивать!..
Он даже совсем растерялся от этих слов.
— Я не хотел подслушивать, — сказал он, — и был бы очень счастлив, если бы меня там не было. Вы могли бы слышать, что я там. Но о чем же теперь говорить нам с вами — говорить не о чем!.. Очнитесь, успокойтесь и уходите скорее в свои комнаты, чтобы, по крайней мере, посторонние не видели этого позора…
Но с нею произошла внезапная перемена. Она победила свой первый невольный страх, затем она увидела, что выйти из этого положения не может. В ней поднялась злоба. Она остановилась перед Борисом, так сжимая себе руки, что даже пальцы хрустели. Она в упор глядела на него своими злыми, холодными глазами.
— А, так вот как! — почти прошипела она. — Ну что же — вражда так вражда! Я женщина, я больна… я вот как больна!.. Но вы хотите бороться со мною!.. Что ж… будем бороться! И еще увидите — я не поддамся… Вы лгун, вы клеветник! Вы все выдумали из злобы, из ненависти ко мне… вы хотите очернить меня перед родными, перед мужем, опозорить меня… для чего — я это понимаю! Для того, чтобы выжить меня из дому… я мешаю вашей невесте… этой низкой интриганке, этой дряни… нищей!..
Она пришла в такое состояние, в котором не рассуждают.
— Молчите! — крикнул Борис отчаянным голосом, невольно кидаясь к ней, готовый зажать ей рот рукою.
Она отступила.
— А! Вы бить меня хотите!.. Что же — прибейте больную женщину!.. Что же… бейте!
Но в то же время она побежала к двери, толкнула ее, увидела, что она на ключе, отперла и выбежала с криком.
— Бьет, бьет!..
Борису показалось, что он сходит с ума. По счастью, в соседних комнатах никого не было, никто ничего не слышал.
Катрин вдруг остановилась перед зеркалом, отерла платком себе лицо и быстрым шагом направилась к себе в комнаты.
Борис стоял как в оцепенении. Но эта чересчур уж невозможная сцена все же как будто ему что-то выяснила. Он быстрыми шагами стал ходить по комнате, заставляя себя успокоиться. Он мало-помалу получал способность думать. Последние остатки невольной жалости, которые еще были в нем до сих пор относительно Катерин, теперь уничтожились. В этой женщине не оставалось для него ничего неясного…
«Что же делать, — решил он, — придется войти с нею в соглашение!»
У него не хватало сил открыть глаза отцу и матери — это убьет их. Но как быть с братом?..
И едва он остановился на этом вопросе, как брат уже был перед ним.
Владимир, по своему обыкновению, аккуратно возвращался к обеденному часу. Эта была его особенность. Он вообще не любил сидеть дома, его можно было встретить всюду, но он всегда упорно отказывался от приглашений на обед. И обеденное время, иногда в течение целых недель, было единственное время, когда он бывал дома. Он вошел, как и всегда, с самодовольным видом, с полузакрытыми глазами, красивый, молодцеватый, уверенный в себе.
— Каким образом ты здесь, Борис? — входя сказал он. — Разве ты дома обедаешь сегодня, а не с ними?.. Я думал здесь найти жену. Без меня был Щапский… наверно, есть что-нибудь интересное…
Но он не договорил и остановился, заметив на расстроенном лице Бориса что-то особенное, совсем не обычное. Он хорошо знал лицо брата и потому ясно увидел, что случилось что-нибудь очень серьезное. Он даже совсем раскрыл глаза и взглянул еще раз на Бориса.
— Борис, что такое? — спросил он, еще не желая заранее тревожиться, но уже, во всяком случае, сильно заинтересовавшись.
Борис ничего не отвечал. Тень подозрения мелькнула в уме Владимира, он кое-что сообразил и даже покраснел немного.
— Борис, ведь я тебя знаю, ты от меня не скроешься, случилось что-нибудь важное — наверное… Говори же мне прямо, если это так или иначе касается меня… Слышишь, говори прямо, ты не имеешь права ничего скрывать… Я тебя прошу, слышишь!
Борис наконец собрался с духом.
— Да, я все должен сказать тебе, — произнес он, — как мне это ни тяжело…
Он обнял его и глядел на него со всею братскою нежностью прежних дней, к которой теперь примешивалось чувство глубокой жалости и горя.
— Владимир, милый… я надеюсь… ты будешь тверд… Владимир совсем почти закрыл глаза; ему стало неловко, досадно и обидно…
— Щапский — негодяй, и жена твоя тебя обманывает… — едва нашел в себе силы докончить Борис.
Владимир вспыхнул.
«Так вот что, — пронеслось в голове его, — и это еще!.. Я был почти уверен, но я думал, что она сумеет все скрыть, избавить меня от позора и неприятностей… Она мне не нужна… мне все равно… только не это, нет, не это!..»
А Борис в него вглядывался, старался понять силу произведенного на него впечатления, ища способов как бы поддержать его.
— Ты уверен в этом? — наконец произнес Владимир.
— К несчастью — да!
И он, вдруг решив, что необходимо сказать все, передал подробно только что происшедшее. Владимир позеленел и сжал кулаки.
— Что же мне теперь сделать с этой негодяйкой? — прошептал он.
— Я думал, думал, — говорил Борис, — ведь это убьет их! А скрыть — разве можно скрыть? Если бы не было самого ужасного обстоятельства… Но оно есть. Я не имею права просить тебя, ты не должен, ты не можешь прикрывать это и признать ребенка…
— Что же, дуэль?.. Скандал?.. Так, что ли?.. — отрывисто говорил Владимир, шагая по комнате. — Я ошибся, не разглядел… связался с негодной женщиной… Она меня оскорбляет, позорит, и за все это наказан буду я же!.. Почем я знаю… это такой человек… он убьет меня, как собаку…
Борис с изумлением взглянул на него.
— Разве ты можешь теперь об этом думать?
Владимир понял, что стал говорить вслух свои мысли и спохватился.
— Я вовсе не боюсь смерти. Да, так, это единственный прямой исход!.. Но старики? Что с ними будет?
Он знал, что эта фраза победит брата, и, действительно, она победила его.
— Ты прав, — сказал Борис, — прежде всего нужно подумать о них, нужно хоть немного успокоиться и хорошенько все обдумать. Послушай, я не могу теперь туда ехать… не могу никого видеть. Поедем куда-нибудь, все равно куда и потолкуем.
Владимир принял это предложение.
Через несколько минут они сели в карету и уехали. На вопрос кучера: «Куда прикажете?» — Борис ответил: «На Петербургскую сторону». Им нужно было просто ехать как можно дальше.
XIX. ЛОВКИЕ ЛЮДИ
В то время как несколько изумленный кучер возил господ неизвестно зачем на Петербургскую сторону и обратно, они успели, по-видимому, решить все вопросы. По крайней мере, на обратном пути они оба молчали. Если бы кто взглянул на них со стороны, то непременно должен был бы подумать, что все дело в Борисе, а не в Владимире — так как Владимир был гораздо спокойнее.
Он оставался верен себе, оставался верен своей философии, которую, несмотря на молодые годы, применял в жизни уже давно и очень успешно. Он находил, что умный человек должен поставить целью всей жизни — личное счастье, такое, каким он для себя его понимает, и неуклонно стремиться к этой цели. Что касается его собственного счастья, — оно заключалось прежде всего в разработке честолюбивых планов, а затем в удовлетворении скрываемой им от всех страсти к игре и разгулу самых чудовищных размеров.
Он не только признавал в себе эти страсти и не желал с ними бороться, но даже, напротив, положил удовлетворить их всеми способами. Тем не менее, он должен был убедиться, что эти страсти могут стать иной раз источником не только наслаждений, но и волнений, которые легко переходят в страдания. Поэтому он должен был застраховать себя от страданий, достигать душевного спокойствия.
И надо ему отдать справедливость — он научился этому. Это был, действительно, очень хладнокровный человек во всем, что касалось не прямо его, или в том, что он мог так или иначе отстранить от себя.
Как бы отнесся он к поступку Катрин и всем открытым сегодня обстоятельствам, если б он любил ее — неизвестно. Но он любил ее ни больше, ни меньше как и всякую женщину, с которой встречался, которая ему приглянулась и чью благосклонность, пока эта благосклонность ему не надоела, можно было купить за деньги.
Из своего брака с Катрин он уже извлек всю пользу, на какую рассчитывал, и, как это всегда бывает, ему показалось, что польза была невелика, что он, пожалуй, и без помощи связей Катрин мог бы добиться того, чего добился. У него осталась только капризная и даже злая жена, успевшая очень скоро надоесть ему. Но он находил безумным сожалеть о прошлом и плакаться на сделанную ошибку. К тому же разве не все равно: для его положения нужна семейная обстановка, нужна именно такая жена, совсем светская, умеющая принять, блеснуть, заставить говорить о своем великолепии.
Само собою разумеется, что со времени своей женитьбы он многократно изменял жене, даже ни разу не задав себе вопроса — имеет ли право поступать так. Он просто не считал нужным, ради своего нового семейного положения, изменять привычный образ жизни, в котором большую роль играли разнообразные любовные приключения.
Между прочим, еще будучи женихом Катрин, он случайно встретился с одной скромной молоденькой девушкой, приглянувшейся ему гораздо более невесты. Он нашел очень заманчивым одновременно вести два дела, обманул доверчивую девушку, соблазнил ее, оторвал от семьи и поселил в укромном домике на Васильевском острове.
Девушка эта любила его до безумия и, странное дело, она и ему, в свою очередь, не надоела так быстро, как другие. Он до сих пор, хотя и не так часто, как прежде, посещал домик на Васильевском острове, и в этом домике был теперь маленький ребенок, его сын. Но на ребенка он обращал мало внимания. Ему нужен был не «такой» ребенок, а «настоящий», законный сын.
Катрин дала ему сына — и это было хорошо, и так следовало.
Он пока еще не чувствовал ровно никакой нежности к маленькому Сереже, но в то же время был рад его существованию, относился к нему как к очень ценной вещи. Этот крошечный мальчик был продолжателем их старого рода и это, в его глазах, все же имело большое значение.
Когда Сереже случалось хворать, отец не мучился, не страдал нисколько, но немедленно же призывал самых лучших докторов, расспрашивал их, следил за ходом болезни ребенка. Мальчик был в сущности очень крепкий и здоровый, и вид его доставлял Владимиру приятное сознание, что продолжение рода Горбатовых обеспечено. Он не желал больше детей, но все же примирился с этой мыслью. Ему только хотелось, чтобы на этот раз это была дочь.
Он хорошо видел признаки некоторой интимности между женою и графом Щапским и не обращал на это особенного внимания, даже, пожалуй, протежировал такой интимности. Щапский был ему нужен, а Катрин, думал он, с ее холодностью, конечно, не увлечется; ведь это у нее только тщеславие, кокетство — и больше ничего. Он был почему-то уверен, что она, несмотря на полное отсутствие в ней каких бы то ни было нравственных понятий, неспособна на падение из гордости.
И вдруг ему приходится в ней так ошибиться! Он бы ей простил все, но тут оказываются последствия, а главное — скандал. Положим, скандал еще не распространился, его можно предупредить. Но нужно же было случиться такому несчастью, что все это стало известно Борису, то есть именно тому человеку, который не должен был знать этого… А все же нужно затушить это дело и по возможности все сгладить!..
Он убедил брата в том, что так нужно ради «стариков», и объявил ему, что сейчас же, не откладывая, поедет к Щапскому.
Борис только изумился его хладнокровию.
— Я не могу понять, — сказал он, — зачем тебе отправляться к этому человеку? Если мы так решили, то как же можешь ты с ним объясняться… и вдобавок у него в доме? Это унизительно!
— Унизительно? — проговорил Владимир. — Не думаю… смотря по тому, как я буду объясняться… и, мне кажется, унижен будет он, а не я…
— Владимир, я за тебя боюсь.
— Не бойся! Да вот что, я сначала поговорю с нею, а там будет видно…
Они подъехали к своему дому и расстались.
Владимир отправился к жене, а Борис поехал к Нине, чтобы хоть несколько отдохнуть от всех этих волнений и успокоить тех, кто, конечно, тревожился его отсутствием.
Владимир появился перед Катрин, ожидавшей уже этого объяснения с ним и хорошо к нему приготовившейся. Ей пришлось обедать одной и на вопросы, сделанные ею прислуге, она узнала, что Владимир Сергеевич и Борис Сергеевич куда-то вместе выехали. Она поняла, что это значит…
Муж застал ее очень тихой и печальной. Он не успел еще открыть рта, как она уже заговорила:
— Я не знаю, что мне делать, — говорила она. — Сегодня произошло у нас без тебя совсем для меня неожиданное… Я вижу, как я жестоко обманулась в твоем брате.
Затем она сплела ему целую историю, из которой Борис выходил извергом, или, по меньшей мере, сумасшедшим. Она, по ее словам, давно заметила, что он ее ненавидит, и эта ненависть только еще усилилась с тех пор, как он стал женихом. Может быть, он догадался о том, до какой степени ей противна его невеста… Он влетел как безумный после визита Щапского, наделал ей самых ужасных дерзостей, обвинил ее в разврате, в измене мужу, в том, что ее будущий ребенок — смешно даже сказать — ребенок Щапского.
— Наконец, если бы я не убежала, он стал бы меня бить!.. Я была в таком ужасном состоянии!.. — так закончила она и принялась горько, но тихо плакать.
Потом опять заговорила:
— Никого нет… я думала, что я умру… и, во всяком случае, я теперь уверена, что это плохо кончится… Если бы ты знал, что я чувствовала! Но, видно, Бог все же сжалился надо мною… я жива, хотя и не знаю, что будет дальше… Я вот не могу подняться… я все так разбита… такая тяжесть!.. И одна… одна… некому помочь мне! Я бы поехала к матери, но она еще не вернулась из деревни… А ты… разве ты мой защитник? Я ждала тебя… и я уверена, что он уже Бог знает что рассказал тебе.
Она замолчала и продолжала горько и тихо плакать. Владимир подавил в себе злобу, подступившую к его сердцу, и только с изумлением глядел на нее.
— Да, конечно, он все сказал мне! Скрывать от меня такие вещи он не имел права…
— И ты, конечно, уже поверил? — сквозь слезы оскорбленного достоинства спросила она.
— Он никогда не лжет.
— Так, значит, — я… я лгу?
— Если бы вы даже и вообще не лгали, то все же в таком случае солгали бы непременно.
Катрин всплеснула руками и закатила глаза.
— О, Боже, за что же я так наказана? Да неужели я, действительно, до такой степени несчастна!..
Она совсем превратилась теперь в невинную страдалицу. Ее лицо приняло такое выражение, которое могло бы кого угодно растрогать.
— Владимир, — сказала она без тени раздражения, — я хорошо знаю свои недостатки, я взбалмошная и капризная… Между нами часто происходили неудовольствия…
— Я, кажется, никогда не вызывал их… — произнес он.
— Не вызывал! Но как же ты ко мне относился? Когда я выходила за тебя замуж, я так была уверена в любви твоей, я так тебя любила…
— Любила! — с презрительной улыбкой сказал он.
— Да, любила! Но ты скоро оттолкнул меня своей холодностью… Я убедилась, что ты меня не любишь… Я была возмущена… но жизнь учит со всеми примиряться… я примирилась и с этой ужасной для меня мыслью… Я никому никогда не жаловалась… Я думала: ну что же, я буду жить и без любви! — и о новом чувстве я никогда не думала. И я была уверена, что ты меня знаешь настолько, чтобы не подозревать меня…
— К сожалению, я, действительно, не подозревал до сегодня, но оказывается, что я плохо знал вас.
Она закусила губы, и ее лицо вдруг стало злым. Но это было только одно мгновение. Она продолжала все тем же трогательным тоном:
— Ревность — между нами — еще этого недоставало!.. Подозрение… и относительно кого же!.. Ведь ты сам не раз говорил мне, что я должна быть как можно любезнее с Щапским. Ты сам всегда звал его. Мне приятно его общество, он такой интересный, такой умный, так умеет рассказывать… Ведь ты все это знаешь… Да подумай же: ну хорошо, ты можешь не любить меня, презирать меня; но ты должен же мне верить… я тебе не изменяла, я не могу этого, я, наконец, слишком дорожу собой!..
— Прекратим эту комедию! — сказал Владимир. — Нельзя так тянуть, потому что даже и моему терпению, моему спокойствию есть предел! Все ясно… объясняться нам нечего! Нам нужно решить серьезные вопросы. Я пришел для того, чтобы сказать вам, что ради моих родителей хотел бы избежать скандала и огласки…
Он не заметил, по обыкновению совсем почти закрыв свои глаза, как она вдруг при этих словах его хитро и презрительно усмехнулась.
— Я не хочу огласки, — продолжал он, — но я заранее должен объявить вам, что ни под каким видом, ни за что в мире не дам своего имени этому ребенку. Устраивайте это как знаете, вам есть время подумать… Вы можете уехать за границу и ребенка отдать кому-нибудь на воспитание, объявив здесь, что он умер. Все это можно устроить, все можно скрыть… Ответьте мне скорее и раз и навсегда, потому что я не хочу больше говорить с вами, — согласны вы или нет?
Теперь он поднял глаза и устремил на нее свой холодный взгляд. Она опять была олицетворением несчастья. Он никогда не видел у нее такого лица. Он ожидал самой бурной сцены от этой необузданной женщины и заранее позаботился хорошенько запереть двери, чтобы никто не слышал их объяснений. И вдруг она такая! Он решительно не понимал ее, она поставила его в тупик.
— Какое испытание! Что я должна выносить!.. Чего вы от меня требуете? — шептала она, ломая себе руки. — Если бы я так низко пала, если бы я стала матерью не вашего ребенка, я бы должна была вынести на себе всю за это ответственность и расстаться с ним, чего бы мне это ни стоило… Но требовать, чтобы я рассталась с моим ребенком… с вашим ребенком, — что же это такое? Вы говорите, что ваш брат не в состоянии солгать… ведь и я до сегодняшнего дня сама так думала!.. Что же, это, может быть, правда, может быть, он думает, что не лжет… Но он такой странный… я ничего не понимаю… Я приняла Щапского в маленькой гостиной… Я очень ему обрадовалась… мне кажется, он искренно расположен ко мне… Мы давно не видались… Да что же такое было?
Она взялась за голову, будто припоминая.
— Он поцеловал у меня руку, когда вошел… потом, когда уходил… и еще раз во время разговора… Я побранила его за то, что он не писал нам и оставлял нас в неизвестности — где он, жив ли… Он отвечал, что послал и вам и мне письмо… я не получила этого письма… может быть, оно у вас…
— Никаких от него писем ни на ваше, ни на мое имя не приходило! — сказал Владимир.
— Значит, они не дошли, пропали… Потом что же было? Он заметил мое положение… и вот тут-то, поздравляя меня, поцеловал мою руку… Потом… я не хотела перед ним играть комедию… на его поздравления я сказала, что ничего в этом нет веселого, что я вовсе не желаю детей, что мне страшно даже и подумать о близком будущем, что у меня дурные предчувствия… Потом… я не знаю… на меня напала грусть, тоска ужасная, я расплакалась. Он, верно, думал, что я одна скорее успокоюсь и поспешил меня оставить… Но мне становилось все хуже, со мною сделалось что-то такое мучительное… мне сдавило грудь… я задыхалась… Потом… я хорошенько уже и не помню… вошел Борис, и мне сделалось совсем дурно…
Она все припоминала… Она делала вид, что соображает…
— Когда я пришла в себя, — опять говорила она, — он чуть не убил меня… Что мне пришлось выслушать! Боже мой! И он даже ничего не объяснял, он повторял: «Я все знаю, все слышал»… Да что же он мог слышать?.. Как мог?..
— Он был в библиотеке, — сказал Владимир.
— Боже мой, да мы говорили вовсе не громко. Конечно, он многое мог слышать, но не все — это невозможно… Он, верно, давно уже меня подозревает и ему стало чудиться… Он не так понимал слова… Он в таком возбужденном состоянии все это время, такой фантазер… Ведь ты его знаешь… Так неужели вся моя жизнь, все… все пропало из-за его фантазий? Из-за того, что он недослышал, перепутал? Боже мой… Боже мой!..
Она уронила голову на руки и горько, отчаянно зарыдала. Потом, несколько сдержав свои рыдания, она прерывающимся голосом проговорила:
— Уйдите… Уйдите… оставьте меня… Делайте со мной, что хотите… Но знайте, что вы безбожно несправедливы!.. Знайте, что я не заслужила этого! Какая бы я ни была, какие бы ни были мои недостатки — все же я не заслужила… И если меня погубите… Если я умру… Грех будет на вашей душе!.. Уйдите… Уйдите!.. Оставьте меня…
Она опять зарыдала. Владимир уже окончательно пришел в недоумение.
«Как бы это хорошо было, если бы можно было ей поверить! — думал он. — Она дрянная женщина, конечно. Она способна всячески лгать… Но ведь он до сегодня все же был в ней уверен в этом отношении, он был покоен… Он не в силах усомниться в искренности Бориса… А только разве это неправда, что Борис фантазер, что он экзальтирован, что вечно в каком-то экстазе… Где-то витает. Ведь могло случиться именно так, как она говорит… Трудно из соседней комнаты расслышать каждое слово…»
«Он сказал, что дверь была отперта, но толстая драпировка спущена… — продолжал Владимир свои мысли. — Если они говорили не громко. Конечно — все может быть: он мог слышать, что Щапский несколько раз поцеловал ее руку… Она его бранила за то, что он не писал. Потом они говорили о ребенке… Она жаловалась, плакала… Борис схватил некоторые фразы, его фантазия дополнила остальное… Конечно, теперь ему кажется, что все ясно, что он не пропустил ничего… Иначе он не стал бы говорить мне… Но, может быть, ему только кажется — все это на него так похоже!.. Ведь он же клялся всю жизнь, да и теперь клянется, что в детстве видел фею! Он совсем полоумный… А что если это так, как она говорит, тогда только я в глупом и смешном положении!.. И все эти тревоги…»
Он пристально глядел на нее — пораженную, несчастную и тихую, главное — тихую.
«Да ведь она глупа! — решил он. — Разве она способна так притворяться, так ловко играть… Так придумать?!.»
Он даже позабыл, что не раз сам говорил и доказывал, что самая глупая женщина может быть способна на такую хитрость, какая никогда и в голову не придет умному мужчине.
Он с каждой секундой все больше и больше начинал верить Катрин. Она его победила — к тому же он так рад был этой ее победе. Он вдруг встал и, подойдя к ней, положил ей руку на плечо.
— Успокойся, — сказал он, — я не хочу тебя убивать… Может быть… Может быть, наши обвинения и несправедливы… Успокойся… Дай прийти в себя… Подумать… Ведь и мне не легче твоего!..
С этими словами он вышел из комнаты. Она несколько мгновений просидела еще в своей безнадежной позе… Потом чутко прислушалась, подняла голову — и улыбнулась.
Если бы он мог только увидеть эту улыбку! Но он был далеко. Он чувствовал, что большая тяжесть свалилась с его плеч.
Он вспомнил, что еще не обедал, приказал скорее накрыть себе стол и ел с завидным аппетитом, не покидавшим его даже в самые трудные минуты жизни.
XX. ДОБРАЯ ФЕЯ…
Много было забот и волнений у Бориса — и вот ко всему этому, совсем нежданно, присоединилась еще одна забота. На следующий день после сделанных тяжелых открытий и объяснений с Владимиром рано утром, когда Борис лежал в кровати, Степан, пришедший будить его, подал ему маленький конверт.
— От кого это? — спросил Борис.
— Не знаю, сударь, — отвечал Степан, — приходил с полчаса тому времени человек, подал мне письмо; говорит: ответа не нужно, только чтобы непременно отдать в собственные руки, как только вы изволите проснуться.
Борис посмотрел — почерк совсем незнакомый. Распечатал конверт — на него пахнуло от золотообрезной бумажки тонким запахом духов. Он прочел:
«Если вы, в чем я не сомневаюсь нисколько, истинный друг Б., то ради его спасения, не теряя ни минуты, приезжайте ко мне, София».
Борису нечего было много раздумывать. Хотя почерк и был незнакомый, но он очень хорошо понял, кто такой Б., кто «София» и куда ему следует ехать…
Софья Иванова Баклашева была молодая вдова, ради которой уже несколько лет князь Вельский отказывался от всех прекрасных и выгодных невест, ему предназначавшихся. Борис знал Софью Ивановну, был у нее несколько раз с Вельским, она ему не нравилась. Он находил ее чересчур резкой, мало женственной и не одобрял ее отношение к его другу.
Он знал про нее, что она была сирота, имела хорошие средства, очень рано вышла замуж и года через два после свадьбы разъехалась с мужем, который жил где-то не то в деревне, не то в одном из южных провинциальных городов.
Софья Ивановна, разойдясь с мужем, приехала в Петербург, где и поселилась. У нее были родные, были связи, но она не сумела поладить с родными, не сумела поддержать связей в обществе. От нее отвернулись, и скоро она очутилась окруженной почти исключительно мужским обществом. Молодые люди, конечно, ухаживали за нею, она охотно смеялась с ними, кокетничала; но никто из них не мог похвастаться особенной близостью к ней.
Наконец, она познакомилась с Вельским. И не прошло месяца, как все, их знавшие, стали говорить об их отношениях. Софья Ивановна нисколько не скрывалась, ее часто встречали вдвоем с Вельским. Она, очевидно, бравировала общественным мнением. Дамы окончательно перестали с нею кланяться и записали ее в разряд «погибших» женщин. Полтора года тому назад умер ее муж. Приятели Вельского, зная его постоянство, были уверены, что он на ней женится, не побоясь скандала. Но время проходило — а он не женился. Еще недавно, серьезно беседуя с Вельским, Борис решился спросить его — почему он не женится до сих пор на Софье Ивановне.
— Мне кажется, что как масон и честный человек, ты непременно должен на ней жениться! — сказал Борис со свойственной ему относительно близких людей резкой откровенностью.
Вельский не смутился этими словами.
— Конечно, должен, — ответил он, — и мало того, что должен, я хочу этого пуще всего на свете…
— Так что же мешает?
— Она не хочет!
— Почему так? Ты должен убедить ее, должен объяснить ей…
— Попробуй — это не так легко, как кажется… Ты ее совсем не знаешь!.. — со вздохом проговорил Вельский.
Борис замолчал и с тех пор не поднимал этого разговора. Он в сущности даже был доволен, что «она не хочет», — не такую жену желал бы он для своего друга.
«Вряд ли она его серьезно любит, и в таком случае с ее стороны это очень честно, что она его не связывает. Но долго ли будет тянуться эта история?» — думал он.
Теперь, получив раздушенную и таинственную записочку Софьи Ивановны, он встревожился не на шутку. Что грозит Вельскому? Ему может грозить только одно — может быть, все раскрыто, он арестован… Нужно спешить скорее и решить, что можно для него теперь сделать.
Борис поспешно оделся и поехал к Софье Ивановне. Она уже давно ждала его. Она приняла его в своей маленькой, кокетливой гостиной, устроенной с причудливым и смелым вкусом женщины, у которой слишком много свободного времени и много воображения.
Софье Ивановне было теперь лет двадцать семь; высокая, несколько полная, с развязными манерами, она никак не могла назваться не только красавицей, но даже и просто хорошенькой женщиной, — к ней совсем не шло это слово «хорошенькая». У нее были крупные, неправильные черты, большие темно-серые глаза, густые, почти сросшиеся брови и великолепные темные волосы, непослушно вьющиеся от природы, с большим трудом укладывавшиеся в модную прическу и то и дело ее расстраивавшие.
Софья Ивановна своими белыми, большими руками крепко сжала руку Бориса.
— Спасибо, что не опоздали, каждая минута дорога! — сказала она таким голосом, какого прежде Борис от нее никогда не слышал.
Вообще он с трудом узнавал ее. Она была совсем не та, в ней появилось что-то неуловимое, но совсем ее преобразившее.
— Что случилось?.. Он…
Борис хотел сказать: «он арестован», — но остановился.
«Ведь, может быть, и нет, и в таком случае она ничего не знает, конечно, и не должна знать».
Но Софья Ивановна сама договорила.
— Вы думаете — арестован?.. Нет еще, слава Богу, но это может случиться и надо вовремя спасти его. Вы видите — я все знаю…
— Что вы знаете?
— Все, почти все… Но он этого никак не воображает.
— Если не он — кто же вам рассказал?
— Никто, или, вернее, все понемногу. Но прежде всего послушайте: я полагаю, я почти уверена, — но все же я этого не знаю наверно — вы, Борис Сергеевич, заодно с ними? Я думаю, что нет!.. Вы все знаете, знаете больше моего, пожалуй, но вы не с ними — ведь правда? Я угадала?
— Да, вы угадали.
Она так и впилась в него глазами. Она увидела, что он говорил правду.
— Ну, слава Богу, — сказала она, — значит, вы меня поймете, значит, вы мне поможете… Когда вы его видели?
— Давно, недели две тому назад.
— Но в это время вы с кем-нибудь из них встречались?
— Нет, ни с кем. И скажу вам правду, я даже почти избегал встреч с ними… Это тяжело. Мы ни в чем не можем убедить друг друга. Я замечаю — на меня сердятся, даже негодуют; многие из них почему-то были уверены, что я непременно к ним присоединюсь, и, убедясь в своей относительно меня ошибке, они делают меня в ней ответственным…
Она его перебила.
— Так, значит, вы не знаете, что у них дело подвинулось, что все готово, ждут только первого удобного случая, хотят придраться только к чему-нибудь… Это может разразиться сегодня, завтра, на днях… Если бы вы знали, как я изумилась! Я не верю в их удачу…
— И я тоже! — проговорил Борис.
— Вот видите! Нужно вырвать его, пока есть время… Если он сам ищет себе погибели, нужно спасти его насильно…
— Да не доказывайте мне этого, — воскликнул Борис, — я с вами во всем согласен! Или вы думаете — я его не уговаривал? Он упрям, он убежден, и, наконец, теперь он смотрит на это как на дело своей чести, он не отступится, он не может этого.
Софья Ивановна побледнела.
— А между тем спасти его надо, надо — и мы спасем его!
— У вас есть план?
— Конечно, если бы не было плана, я бы не позвала вас.
— Что же вы придумали? — в волнении спрашивал Борис.
Она опустила глаза и грустно задумалась.
— План есть, — прошептала она, — только он может рухнуть, может быть, я слишком на себя надеюсь и в нем обманываюсь. Это было бы для меня ужасно. Мой план очень прост: представьте себе — я больна, я сильно больна, я давно уже перемогаюсь, скрываю от него свою болезнь…
— Что же с вами? — участливо спросил Борис. Она пожала плечами и улыбнулась.
— Да ничего, конечно! Я совсем здорова, я больна только для него. Мой доктор — преданный мне человек, и с этой стороны все приготовлено. Моя болезнь, которую я запустила, теперь так сильна, что мне ни дня, понимаете, ни дня дольше нельзя остаться в Петербурге, я должна ехать за границу…
— Я понимаю ваш план, — сказал Борис, — но…
— Что — но? Вы сомневаетесь, чтобы он удался, вы думаете, что он отпустит меня одну, чуть ли не умирающую, за границу?
— В другое время, конечно, не отпустил бы, но теперь, в таких обстоятельствах… вы страшно его измучаете, но он все же, пожалуй, сочтет своим долгом остаться… Что тогда? Ведь может быть еще только хуже!
Она нетерпеливо встала с кресла и прошлась по комнате.
— А, так вы его не знаете!.. Нет, он меня не оставит…
— Простите, — проговорил Борис, — но мне кажется… вы не рассердитесь, вы мне позволите говорить совсем откровенно с вами?..
— А вы можете говорить не откровенно? — с полунасмешливой улыбкой произнесла она. — В таком случае нам лучше совсем не говорить. Что же вам кажется, Борис Сергеевич?
— Мне кажется, что вы сделали ошибку — зачем вы до сих пор отказывали ему с ним обвенчаться? Вот именно теперь это могло бы помочь, хотя, конечно, помогло бы немного, но все же у него было бы какое-нибудь оправдание перед ними: жена серьезно больна, ее нужно везти за границу. А теперь, что он им скажет?
Она даже рассердилась.
— Ах, как вы не понимаете! — крикнула она. — Если я отказываюсь, так уж, конечно, не для себя, а для него. Если бы я была теперь его законной женой — он отпустил бы меня одну за границу, а теперь не отпустит, не отпустит именно потому, что я не законная жена его…
Борис задумался.
Может быть, она и права, пожалуй, оно и верно, что теперь у него еще больше обязанностей относительно нее. Но все же ее план казался ему трудно исполнимым. Она проговорила:
— Я вижу — вы сомневаетесь, но это все равно, мне вовсе не надо убеждать вас. Я позвала вас для того, чтобы вы мне обещали помочь уговорить его. Он сегодня у вас будет, конечно, вы ничего не скажете ему о нашем свидании. Он будет говорить вам про мою болезнь, про решение ехать за границу, про мое желание, чтобы он ехал со мною. Убеждайте его, сколько можете, что он должен ехать. Вот в чем моя просьба. Поможете… обещаете?
— Конечно… и от всего сердца.
— Вот и спасибо, мне больше ничего не нужно. Сегодня же мы увидим, кто из на прав, — вы или я…
Борис не стал у нее засиживаться. Она боялась, что вот, того и гляди, приедет Вельский, а они ни под каким видом не должны были встретиться…
Как сказала Софья Ивановна, так и случилось. Когда Борис вечером возвратился от своей невесты — оказалось, что уже часа два его дожидается Вельский.
— Что с тобой? — спрашивал Борис, здороваясь с приятелем, на которого просто жалко было глядеть, — так он был бледен и такое отчаяние изображалось на лице его.
— Что со мною? Большое горе, такое горе, что уж я не знаю, как быть! Голова идет кругом. Она больна, очень больна! — глухо договорил он.
— Послушай, мой друг, ты, может быть, преувеличиваешь? — сказал Борис.
Вельский покачал головой.
— Ах, если бы я преувеличивал! Да нет… нет, и вот уж не ждал! И где были мои глаза, о чем я думал? Вот уже два месяца, пожалуй, и еще того больше, как я стал замечать в ней перемену. Но она от меня все скрывала… Спрашиваю, что с нею, не больна ли? Она отвечает: нет, здорова… Я успокаивался. Вдруг сегодня застаю в самом ужасном припадке. Боже, я думал, что она тут же умрет… и только теперь я узнал правду. Она больна давно…
— Какая же у нее болезнь?
— Ах, разве когда-нибудь поймешь этих докторов! Почем я знаю, что такое. Он мне говорил, да я был в таком состоянии, что ничего и не понял.
— Кто ее лечит?
— Петерс. Ведь это опытный, известный врач; он, говорят, никогда не ошибается.
— Да, конечно, если он говорит «серьезно», значит, серьезно! — сказал Борис.
— Вот видишь! — отчаянно воскликнул Вельский. — И он говорит, что для нее единственное спасение — немедленная, слышишь, немедленная перемена климата, горный воздух, непременно горный воздух, что если здесь она пробудет недели две-три — тогда он не ручается за ее жизнь! Подумай — каково мне было это слышать! Что же теперь делать?
— Что? Конечно, немедленно ей уезжать туда, куда посоветует Петерс. Он говорил — горный воздух, ну, значит — в Швейцарию…
— Да, он так и назначил Швейцарию. Он прибавляет, что она должна быть спокойна, что только при душевном спокойствии ее может спасти горный воздух…
— Это само собой! — убежденным тоном проговорил Борис.
Вельский схватился за голову.
— Она без меня не хочет ехать! — простонал он. — Она без меня не двинется с места.
— Значит, ты должен с нею ехать.
— Да пойми же, я не могу, именно теперь не могу ни под каким видом уехать отсюда!
— Петерс хороший доктор, но он может ошибаться, как всякий человек, может быть, она и выздоровеет! — с видимой простотой заметил Борис и в то же время пристально глядел на своего друга.
Вельский как сумасшедший заметался по комнате.
— А если нет? — наконец выговорил он. — Петерс уверяет, что болезнь так запущена, что нельзя медлить ни минуты…
— В таком случае ты должен решить то или другое.
Вельский остановился с потухшим взглядом, с помертвелым лицом. Он, видимо, так страдал, что Борису стало его жаль, и в то же время он видел, что план Софьи Ивановны удачен и что она победит и спасет его.
— Это хуже смерти! — повторил Вельский. — Пусть Петерс ошибается, но он говорит… довольно этого — я не могу ее оставить здесь… я не могу допустить, чтобы она ехала одна, не могу, если бы даже она сама этого хотела… и я уеду теперь… теперь, когда…
— Да разве твое отсутствие может что-нибудь изменить, может принести какой-нибудь существенный вред? Разве без тебя никак уже не могут обойтись?
— Конечно, могут, что же я один, я… — шептал Вельский. — Но они обвинят меня в малодушии, в трусости, в измене делу…
— Никто не обвинит тебя, а если бы даже и обвинили, но если ты чувствуешь сам, что обвинение это несправедливо, какое тебе дело?.. Если ты серьезно любишь эту женщину, ты должен спасти ее, ты должен теперь забыть все остальное…
Вельский крепко сжал руку Бориса.
— Это твой взгляд? Ты думаешь, что я имею право?
— Как же я могу думать иначе!
Вельский молчал несколько мгновений и, наконец, глухо прошептал:
— Я еду…
Выходя от Бориса, он шатался, но по лицу его видно было, что решимость его не поколеблется.
При связях и средствах Вельского ему нетрудно было немедленно устроить сию поездку и получить заграничный паспорт.
Через три дня Борис провожал уже его и Софью Ивановну за границу. Она имела очень страдающий вид и безукоризненно играла свою роль. При прощании она крепко стиснула руку Бориса и он столько прочел в ее взгляде, что сразу понял, какая сила заключается в этой женщине и почему Вельский так ее любит.
XXI. ЧТО ВЫЙДЕТ?
По Петербургу прошел тревожный слух о том, что государь серьезно болен. Получено известие из Таганрога. Но что и как, какая это болезнь — никто не знает. Одно несомненно — болезнь нешуточная. Все чувствовали это, почему, по каким признакам, — неизвестно, но чувствовали.
Горе стояло в воздухе, всем становилось душно как перед грозой… А между тем, еще несколько дней тому назад ожидали совсем не этого: больною и безнадежно больною уезжала государыня. Государь был здоров. Еще недавно приходили известия об его интересном путешествии по югу России и Крыму… И вдруг…
Начинали вспоминать люди близкие ко двору, а от них узнавали и остальные, о странном состоянии духа, в котором находился государь перед отъездом. У него было предчувствие…
Но неужели оно, действительно, не обмануло? Нет, это невозможно… не дай Бог… не дай Бог! И тут становилось ясно, как любим государь, даже теми, кто в последние годы выказывал большое недовольство. Он был, действительно, любим, этот человек, соединявший в себе обаятельную, почти женственную прелесть и царственное величие.
Уже несколько дней доброго государя не было на свете, но Петербург еще не знал этого. 26 ноября приехал курьер из Таганрога и привез известие, что больному лучше и что есть надежда на выздоровление. Народ толпами стекался в церкви, где служились заздравные молебны. Встречали друг друга доброй вестью. Говорили:
«Ну, слава Богу, слава Богу!.. Авось Господь не попустит такого несчастья!..»
Но прошли сутки — и печальный звон колоколов своими унылыми, за душу хватающими звуками стал призывать к иной молитве. Надежда обманула.
Весть о жончине государя, особенно после утешительного известия, полученного накануне, поразила всех и долго никто не мог прийти в себя и сообразить — как же теперь будет и что будет?
Всюду толковали только о болезни государя, о его последних днях, минутах… Стало известно письмо больной государыни Елизаветы императрице Марии Феодоровне, начинавшееся безнадежной, полной душевной муки и невольного изумления фразой: «Наш Ангел на небесах, а я еще влачу жизнь на земле…»
У всех ювелиров появились траурные кольца с надписью: «Наш Ангел на небесах» — и покупались нарасхват. Едва успевали исполнять заказы. И на этот раз это не была мода — всеобщее горе было чересчур искренно…
В один из этих мрачных, печальных дней в тихом кабинете Бориса шел горячий разговор между братьями. Но предметом их разговора было не общественное горе и не семейные обстоятельства, не ужасная история Катрин. Об этой измучившей его истории Борис ни словом не намекал Владимиру. Он не знал, чем кончилось его объяснение с женой, на чем они порешили, что будет. Он решил, что не имеет больше права сам заговаривать обо всем этом с Владимиром. Он исполнил свою тяжелую обязанность — открыл ему глаза, а затем должен отстраниться. Если брат призовет его на помощь, тогда дело другое. Теперь неожиданно по поводу брата у него оказалась еще новая тревога: он узнал от некоторых членов «общества», которые испробовали последнее средство, чтобы привлечь его, что его брат Владимир находится в числе членов «общества» и даже, как его уверяли, в числе деятельных членов. Ему сказали об этом именно с целью заставить его решиться, а может быть, кто знает, и с целью гарантировать себе окончательно его молчание. Ему доверяли, в него верили, но ведь тут такое дело! Надо быть более чем осторожными.
Сначала Борис не хотел даже верить в участие брата. «Он, Владимир — член тайного общества! Он — заговорщик! С его взглядами на жизнь, на обязанности гражданина, на службу — да ведь этого быть не может!..» — думал Борис. Несмотря на то, что он никак не мог одобрить деятельности общества, но все же ему, пожалуй, и приятно было бы узнать, что Владимир принадлежит к нему; пусть это заблуждение, опасное и вредное заблуждение, но все же оно гораздо лучше многого того, что ему приходилось слушать от брата. Да, он был бы рад, если бы ошибся в брате. Но он чувствовал, что ошибаться в нем не может, и потому ему так трудно было поверить…
А между тем как же и не верить?!. Нужно поговорить с ним, нужно узнать истину, что все это значит!.. Томительное предчувствие, совсем еще неопределенное, неясное, уже начинало закрадываться в душу Бориса. И вот теперь он говорил с братом, он сразу увидел, что поразил его своим вопросом:
— Тебе сказали? — растерянно прошептал Владимир, даже меняясь в лице.
Но он сейчас же и справился с волнением.
— Что же, — продолжал он, — если тебе известно — я отпираться не стану. Да, я бываю на их собраниях, я знаю их планы…
— Ты, значит, заодно с ними, Владимир? И вот этому-то мне трудно поверить, — сказал Борис.
— Да тебе и не следует верить этому. Если я у них бываю, если я посвящен в их дело — одно это еще ничего не доказывает…
— Мне кажется, это доказывает все! — нетвердо проговорил Борис.
— Но ведь вот и тебе многое известно?
— Да, к сожалению; и я скажу тебе, что это крайне меня мучает. Сначала я предполагал совсем другое, но, увидя, как у них поставлено дело, прямо объявил всем, что не сочувствую их образу действий и не могу иметь ничего общего с ними. У меня остались только личные отношения к некоторым из этих людей. Спроси их — все они тебе это скажут. А ведь на тебя указывают как на деятельного члена общества, ты бываешь на заседаниях. Ты с ними не споришь — значит, вы заодно!
Владимир поморщился.
— Ничего это еще не значит, — проговорил он, очевидно, не зная, как выпутаться из этого нежданного для него разговора, к которому он совсем не был приготовлен.
Вообще, в эти последние дни Владимир был очень собою недоволен — он понял, что поторопился с «обществом» и начинал не на шутку бояться быть скомпрометированным. Дело в том, что, ближе познакомившись с деятельностью «общества», он разочаровался в его силах, перестал верить в успех. Всех искренних «членов» возбуждала и поддерживала именно их искренность, фанатический экстаз, в каком они находились. Во Владимире ничего подобного не было, а потому он мог рассуждать хладнокровнее и видеть яснее. С другой стороны, недовольство и злое чувство от служебной неудачи, заставившие его ухватиться за «общество», прошли: обстоятельства неожиданно изменились, и он не сегодня завтра должен был получить назначение еще даже лучшее, чем то, которым «обошли» его.
Он раздумывал: доносить или нет, и как бы вообще выйти сухим из воды… А тут вдруг Борис со своими дикими взглядами!.. Ведь может повредить!.. И как это было не разузнать заранее, причем тут Борис, как было не догадаться, что такой «фантазер» так или иначе, а должен был иметь соприкосновение к «обществу»?!.
Борис между тем ждал объяснений и изумленно глядел на него. Неловкое молчание продолжалось. Наконец Борис проговорил:
— Я ничего не понимаю! Если ты не с ними — какая же цель?
— А у тебя какая?
— У меня? Да ведь я там не бываю, я всего раз, тотчас после моего возвращения из-за границы, был на их собрании и, убедясь, что не могу примкнуть к ним, ни разу с тех пор не бывал там… Я говорил с тех пор только с отдельными лицами и то потому только, что они сами говорить начинали… и еще — я даже и не говорил, а спорил, доказывал, что им остается единственное — отказаться от всех этих опасных и неисполнимых планов.
— Ты считаешь их неисполнимыми?
— Да! — твердо ответил Борис. — Да, и если бы они чего-нибудь добились, какого-нибудь успеха, я думаю, что во всяком случае зла выйдет больше, чем добра. Но нам нечего и говорить об этом! — раздраженно докончил он.
— Зачем же ты начал? — спросил Владимир.
— Зачем? Да неужели ты не понимаешь, что так я не могу оставить. Если я не могу быть равнодушным к судьбе этих людей, из которых многих даже очень мало знаю, то к твоей судьбе, кажется, тем более уж не могу быть равнодушным!.. И я требую, да, требую от тебя, как от брата, прямого и окончательного ответа — с ними ты или нет?
Владимир несколько раз прошелся по комнате. Он решительно не был приготовлен к этому объяснению и между тем чувствовал, что брат имеет право так говорить, как говорит, и что он ему должен ответить.
— Борис, — сказал он наконец, — ты требуешь от меня откровенности, — хорошо, я буду откровенен с тобою… Но прежде всего дай мне честное слово, что все это останется между нами.
— Я полагаю, что ты мог бы обойтись без этой оговорки! — с невольным укором сказал Борис.
— Ну, хорошо, конечно, я тебя знаю, — поспешно перебил Владимир, чувствуя все большую и большую неловкость. — Ты спрашиваешь: с ними ли я? Нет, не с ними!.. Я… я так же, как и ты, убедился, что они заблуждаются… я не могу одобрить их планов!..
— Так пойди и скажи им это, и скажи скорее, чтобы они знали, чтобы не считали тебя в числе своих, как теперь считают. Скажи скорее, чтобы иметь возможность уйти… Ты, верно, даже не подумал о том чем рискуешь!.. Ты можешь погубить себя… Боюсь, что и теперь поздно, что ты уже скомпрометирован.
Владимир качал головою и в то же время думал: «А ведь он глядит на дело, кажется, как следует!.. Он сейчас захочет выручать… что ж, пусть… может быть, и выручит!..»
— Если я не разделяю их взглядов, то всегда имею способ оправдать себя, — сказал он.
— Как же это ты оправдаешься, если у них против тебя доказательства, и эти доказательства окажутся в руках власти? Что ты ответишь, когда у тебя спросят: зачем же ты, обо всем зная и принимая участие во всех совещаниях, не донес своевременно о том кому следует?
— Время еще не ушло! — вдруг вырвалось у Владимира.
— Как?.. Что?.. Что ты сказал?.. — с ужасом прошептал Борис, ясно, наконец, понимая теперь, какое это предчувствие у него было, и видя, что это предчувствие оправдывается. — Ты хочешь их выдать, донести на них?
— Я ничего не хочу, — мрачно проговорил Владимир. — Но послушай, однако, что такое значит — выдавать, доносить?.. Если действия известных людей я признаю вредными, тогда я обязан довести о них до сведения правительства, которому служу…
Борис, в свою очередь, почувствовал себя смущенным.
— Да тут опять противоречие, — грустно проговорил он, — одно из тех противоречий, каких много бывает в жизни! Но все же выход есть, да, есть прямой выход! — оживился он. — Ты не так поставил вопрос!.. Если я искренно служу какому-нибудь делу — я обязан оберегать его интересы, я обязан защищать это дело от его врагов, воевать с этими врагами. Но тут не то… и ты сам это знаешь… Ты мог им сказать: не говорите мне ничего, потому что если я что-нибудь узнаю, то стану вашим врагом. А ты разве так поступил? Ты пошел к ним как друг, да, ведь и многие из них старые наши друзья и товарищи, они нас любят и верят нам. Ты пошел к ним, ты заставил их признать в тебе соучастника, они были беззащитны перед тобою — и ты… ты станешь убивать их сонными!.. Нет, Владимир, нет, ты не сделаешь этого, ты не опозоришь нашего имени!
Владимир совсем закрыл глаза и кусал губы от злости. «Вот привязался! — думал он. — И я тоже какого дурака разыграл!»
— Ах, да успокойся, ничего я не сделаю! — наконец громко сказал он и хотел выйти.
Но Борис остановил его.
— Брат, брат! — повторял он дрожащим от волнения голосом. — Посмотри на меня, не уходи так, я должен быть уверенным… ты не знаешь, как это мне нужно!..
— Так ты мне все же не веришь? — сказал Владимир, пожимая плечами. — И ты сам не знаешь, чего хочешь и чего от меня требуешь…
Но вдруг он остановился. Очевидно, новая мысль мелькнула у него.
— Хорошо, — прибавил он, — для того, чтобы тебя успокоить, я принесу тебе и отдам на хранение все документы, какие у меня есть, одним словом, все то, что могло бы погубить их… да и меня, как ты полагаешь…
Он быстро вышел, пошел к себе в кабинет, вынул из стола портфель с бумагами, проглядел эти бумаги и вернулся с портфелем к Борису. Но Бориса не было в комнате. Вместо него Владимир увидел Степана, что-то прибиравшего.
— Где Борис Сергеевич? — по своему обыкновению резко спросил Владимир.
— Сейчас здесь были — в спальне они, надо полагать…
Владимир прошел с портфелем, и Степан расслышал, как он говорил в соседней комнате:
— Вот, бери и успокойся, тут все — у меня больше ничего нет. Пусть какой угодно обыск сделают — ничего не найдут… Рассмотри эти бумаги и посоветуй, как мне быть…
Степан очень изумился, услыша слова эти. Он видел, в каком волнении был за минуту перед тем Борис Сергеевич, видел, что и Владимир Сергеевич какой-то особенный.
«Неладное что-то творится, — думал он, — а что такое — и понять невозможно. Давно в доме неладно… И все хуже, да хуже… Господи, чего ждать-то?» Он горько задумался. Он понимал и видел одно, что Владимир Сергеевич и Катерина Михайловна что-то мудрят и чем-то досаждают его барину. Он ненавидел их за это от всего сердца и даже не считал такое чувство греховным.
XXII. НЕДОРАЗУМЕНИЕ
Борис ничего не успел посоветовать Владимиру. В течение нескольких дней они совсем даже не видались, да и не видали никого из «членов общества».
Между тем события шли быстро. Происходила известная борьба великодушия между великими князьями Константином и Николаем. Великий князь Николай, а за ним и Петербург, присягали новому императору — Константину. Цесаревич Константин в Варшаве отказывался от престола и присягал императору Николаю.
Начиналось смущение. Весьма многим было хорошо известно, что между покойным государем и цесаревичем было заранее решено, что царствовать должен Николай. Но молодой великий князь все же признавал права старшего брата, да и к тому же, несмотря на все свои нравственные силы, он остановился в невольном трепете перед великим бременем царской власти и царских обязанностей. Он думал прежде всего об этих обязанностях и испытывал благородное смирение, недоверие к себе, указывавшие на всю глубину его натуры…
Он решился прибегнуть к последнему средству — просил младшего брата, великого князя Михаила, съездить к цесаревичу за окончательным решением. Великий князь Михаил поспешно уехал. Все хорошо сознавали, что с таким делом невозможно медлить и минуты…
Хорошо сознавали это и заговорщики и решили воспользоваться междуцарствием для своих целей. Когда было получено окончательное отречение от престола цесаревича Константина и войска приводились к присяге императору Николаю, некоторые из офицеров, бывшие членами «общества», стали убеждать солдат, чтобы они не изменяли священной присяге, уже данной ими «императору Константину».
Решились на возмутительный обман и вели честных русских солдат на бунт — во имя законности и верности долгу присяги. Таков ловкий и легкий по обстоятельствам обман должен был удасться. Некоторые полки поддались ему, произошло грустное и ужасное недоразумение. Обманутые бутовщики стояли перед своими необманутыми собратьями — искренно считая себя исполнителями долга, а тех — бунтовщиками, готовые пролить кровь свою…
Заговорщики бегали между ними, возбуждая их горячими речами и в своей фанатической экзальтации даже не понимая, какую позорную роль они играют, не задумываясь о том, что вся кровь обманутых, неповинных людей ляжет на их совесть и будет смыта только их собственной кровью… Да и будет ли еще смыта?..
Темный народ был в изумлении и ужасе, не понимал, что такое происходит, на чьей стороне правда…
Мало-помалу вся эта многотысячная толпа начала проявлять инстинкты бессмысленного стада и, как всегда бывает в таких случаях, свирепела с каждой минутой. Эти люди, в большинстве своем кроткие и послушные, теперь не были способны поддаться никаким увещеваниям. По-видимому, для них не существовало никакой сдерживающей силы.
Старец митрополит, пробовавший говорить, должен был удалиться, не добившись ничего. Любимец солдат и народа, всеми чтимый герой, Милорадович, один мог иметь успех. Его горячие простые слова начали уже производить действие… Заговорщики поняли, до какой степени этот старик им теперь опасен… Один из них пробрался к нему и, не задумываясь, спустил курок. Герой упал, смертельно раненный, обливаясь кровью… Послышались выстрелы… Площадь дрогнула… Все смешалось… Все слилось в адском гуле… Теперь это были уже настоящие дикие звери, почуявшие кровь…
И вдруг нашлась высшая сила. Молодой царь, не помышляя об опасности, полный вдохновения, появился среди толпы, обвел ее своим властным, орлиным взглядом… Могучий голос возвысился надо всеми беспорядочными звуками…
Миг — и толпа стихла… Народ расходился… Мысли прояснились — все поняли, в чем дело, недоразумение окончилось…
Еще рано утром Борис Горбатов узнал, что перед дворцом и на Сенатской площади происходят беспорядки. Он понял, в чем дело, и, не задумываясь, движимый невольным чувством, поспешил из дому и пробрался на площадь. Убедиться, что его предположения безошибочны, ему было легко: он заметил между солдатами «членов общества». Ему даже шепнули:
«Хорошо, что хоть в последнюю минуту вы с нами!»
Но он начал горячо уговаривать их «хоть в последнюю минуту» одуматься и исправить то, что еще можно.
Конечно, на слова его не обратили никакого внимания, и он скоро убедился в своем бессилии. Он остался, с тоскою в сердце, зрителем происходящего, надеясь, что по крайней мере ему удастся хоть в чем-нибудь и кому-нибудь помочь. Ему это удалось, действительно, когда появились раненые…
Однако его присутствие в толпе заговорщиков было заметно…
Борис возвратился домой, шатаясь от усталости, измученный и отуманенный всеми впечатлениями этого страшного дня. Он испытывал большую тяжесть, давящий гнет на сердце, вся душа его тоскливо ныла. Он не мог себя считать ни в чем виновным. Ведь не в его власти было предупредить хоть что-нибудь, хоть что-нибудь остановить. И потом — все это совершилось до такой степени неожиданно, что он был захвачен совсем врасплох. Но все же, несмотря на это сознание, в нем поднималось что-то томительное и давящее, как будто упрек совести, — и он никак этого не мог победить в себе.
Он прошел в свой кабинет, не спрашивая, дома ли кто-нибудь: ему тяжело было теперь встретиться с кем бы то ни было из домашних. Он опустился в кресло совсем обессиленный, велел Степану зажечь лампу и погрузился в полудремоту.
Рядом с ним, на его огромном письменном столе, лежал запертый портфель, оставленный братом. Он взглянул на этот портфель машинально и не остановил на нем своей мысли. Он подумал о брате и изумился, как это не вспомнил о нем до сих пор. Изумился, что весь день не видел его нигде. Где же он был все это время, что с ним, неужели он схвачен?..
Он изо всей силы дернул сонетку. Прибежал Степан.
— Дома Владимир Сергеевич?
— Никак нет, еще не бывали.
Он взглянул на часы — уже поздно — полночь скоро… Прошло еще несколько минут. К нему вошла мать; лицо ее было бледно, встревожено.
— Что с тобою? — кинулась она к нему. — Я только сейчас узнала, что ты вернулся… зачем ты не зашел ко мне? Я так мучилась, не зная, где ты, отец тоже… Говори же, что там такое?!. Ведь мы почти ничего не знаем, весь день не выходили… Кончилось ли, по крайней мере?
— Кончилось, maman, кажется, все кончилось! — глухо прошептал Борис. — Простите — я не зашел… я так устал… Я не в силах просто подняться… Сейчас лягу и постараюсь уснуть… Завтра утром все расскажу, все… а теперь… не могу…
Язык его просто не слушался.
— Ну, Христос с тобою… спи!.. Она перекрестила его, поцеловала.
— А Владимира все нет, — прибавила она, — ты не видел его?
У него так и замерло сердце.
— Не видал, верно, он скоро вернется.
Она вышла. Он опять крикнул Степана и приказал ему, как только вернется Владимир Сергеевич, тотчас же прийти и сказать.
— Если я буду спать, все равно разбуди — слышишь, непременно…
Оставшись один, Борис не стал раздеваться. Он прилег на диван, но сон был далек от него, несмотря на всю усталость. В его голове проносились отрывочно, беспорядочно все только что пережитые впечатления. Одна картина сменялась другою и только две из них возвращались постоянно…
Он закрыл глаза и ясно, во всех мельчайших подробностях, видел преображенное лицо Милорадовича, слышал его проникновенный, громкий голос… И потом вдруг что-то мгновенное, страшное, пробежавшее по этому лицу… его слова замирают… он падает… Потом еще: волнующаяся масса народа, разнообразные лица, на одних выражение страха, ужаса, отчаянья; на других какая-то сосредоточенная злоба… и надо всем этим могучая, грозная фигура молодого государя с гордо поднятой прекрасной головою; с ясными, нестерпимо блестящими глазами… Раздается звучный, будто совсем даже не человеческий голос… И вся эта разнородная масса немеет, опускаются руки, снимаются шапки, почти все падают на колени… вся площадь затихает. А он неподвижен — этот из железа вылитый великан, в нем ничто не дрогнуло… Все так же ясен, все так же нестерпимо блестящ его взгляд… Грудь вперед… в каждой черте выражается сознание своей силы…
«Безумцы! — тоскливо и мучительно думается Борису. — Они не хотели слушать, не хотели видеть — и чего же добились? Что они сделали? Это ли они хотели?..»
«Извлекший меч — мечом погибнет» — невольно несколько раз прошептал он.
В соседней комнате послышались шаги — он прислушался. «Верно, это Степан!.. Значит, брат приехал… слава Богу!..»
Еще несколько мгновений — и явственно раздались звуки шпор.
«Это брат!»
Борис быстро встал с дивана и направился к двери. Но вошел не брат, а незнакомый офицер. Борис изумленно взглянул на него.
— Что вам угодно?
За вошедшим офицером в полумраке обрисовалась другая военная фигура. Офицер вежливо поклонился и мерным, спокойным голосом произнес:
— Я должен произвести обыск и взять ваши бумаги.
Борис невольно вздрогнул. Но это было только мгновение. Он не протестовал. Он почувствовал только еще более усилившуюся слабость, сел на диван и закрыл глаза. Он не мог сообразить, сколько времени этот офицер распоряжался в его комнатах; как ни странно это, но он даже просто задремал.
Когда он очнулся — на письменном столе лежал большой ворох бумаг, и офицер завертывал этот ворох в откуда-то взявшуюся большую салфетку. Сверху всего лежал портфель Владимира. Борис чуть не вскрикнул. Он не успел еще разобрать содержимое портфеля, он не знал, какие именно бумаги в нем заключались; но он хорошо знал, что каждая из них имеет отношение к тайному обществу, что каждая из них может выдать многих, и в том числе, конечно, прежде всего Владимира. У него упало сердце, он весь похолодел. Офицер, завязав бумаги, передал салфетку жандарму и обратился к Борису:
— Теперь я прошу вас одеться и следовать за мною.
— За вами?!
Только теперь Борис все понял. Он собрал все свои последние силы и сказал:
— Позвольте мне проститься с родными и их успокоить.
— Это невозможно!
— Как невозможно? Но ведь они Бог знает что будут думать… Ведь это одна минута… Так пусть они придут сюда… я сейчас распоряжусь…
— И это совершенно невозможно! — все тем же спокойным, ровным тоном сказал офицер…
— Да вы не тревожьтесь, — прибавил он, — часа через два, через три вы вернетесь обратно, если в этих бумагах нет ничего против вас.
Борис безнадежно опустил голову.
Между тем Степан был уже здесь, дрожащий, перепуганный… Ему велели подать барину шинель и шпаку. Борис машинально оделся. Голова у него кружилась, в виски стучало. Он был как в тумане.
Он не слышал, что говорил ему Степан. Он очутился между двумя жандармами, его вывели в коридор. Он расслышал, как отворяется наружная дверь. Ему помогли сесть в карету, большую и тяжелую наемную карету. Офицер поместился рядом с ним.
Дверца захлопнулась, лошади тронулись…
Кругом был мрак. Такой же мрак был и в душе Бориса…
Только что отъехала карета от подъезда, только что успела захлопнуться дверь, и пораженные, ничего не понимающие слуги стояли в недоумении и в ужасе поглядывали друг на друга, как на широких ступенях мраморной лестницы показалась женская фигура. Это была Татьяна Владимировна, почти раздетая, кое-как успевшая только накинуть на себя большой платок…
— Где барин? Где Борис Сергеевич? — глухим, не своим голосом проговорила она, обращаясь к прислуге.
Никто ничего не отвечал. Но вот к ней подбежал Степан. Он продолжал дрожать. По его лицу текли слезы.
— Матушка, барыня! — говорил он, стуча зубами. — Увезли, увезли Бориса Сергеевича.
— Куда? Кто?
— Офицер… жандармы… и проститься с вами не позволили.
Она несколько мгновений простояла неподвижно и пошла наверх, спотыкаясь на ступенях. Навстречу к ней спешил в шлафроке Сергей Борисович.
— Что же это… неужели? — спросил он.
— Да… увезли!
— Как же это так?.. Разве это возможно? Какое ужасное недоразумение!.. Ведь это недоразумение… ведь да? — спрашивал он ее и мучительно ждал ее ответа.
— Конечно! — сказала она. — Разве ты можешь в нем сомневаться…
Они стали успокаивать друг друга. Но это им не удавалось. Они оба хорошо понимали, что в такое тревожное время, среди ужасов, кругом совершавшихся, недоразумение может быть опасно.
В это время внизу раздался сильный звонок. Они вздрогнули, прислушались… По лестнице быстрые шаги… звенят шпоры — это Владимир. Он их увидел, подошел к ним. Лицо его было бледно, и на нем выражалось сильное смущение.
— Брат арестован? — спросил он.
— Да, Владимир, но ведь это ужасное недоразумение! Поезжай скорее, узнай, где он… Объясни — ты имеешь возможность это сделать… Поезжай к великому князю Михаилу Павловичу… — говорила Татьяна Владимировна.
— Да, сейчас… скорей… не теряй минуты… — сказал Сергей Борисович.
— Сейчас, теперь — это бесполезно! — ответил Владимир. — Ведь ночь — второй час… меня никуда не пустят. Завтра утром все узнаем.
— Но ведь это недоразумение, ведь не может же у него быть чего-нибудь общего с заговорщиками и изменниками? — тоскливо спрашивала Татьяна Владимировна.
— Надеюсь, — прошептал он, — только некоторые из виновных его приятели… они, верно, переписывались… Степан! — крикнул он.
Степан был тут.
— Скажи, ты, верно, видел, взяли бумаги Бориса Сергеевича?
— Взяли, взяли! — с ужасом едва выговорил Степан.
Владимир бросился вниз в комнаты брата. Он перерыл все ящики и убедился, что обыск был сделан и что все взято. А главное, взят и портфель…
Он побледнел и, собравшись с мыслями, стал подробно вспоминать, какие в нем были бумаги, какие в них пометки сделаны его рукой. Скоро, видимо, он успокоился. Он окончательно убедился в том, что, впрочем, знал уже и прежде, то есть в том, что эти бумаги могут сильно скомпрометировать только того, у кого они найдены. А небольшие отметки карандашом не могут быть против него уликой, если даже станут разбирать почерк. Его почерк и Бориса так похожи. Он принялся звонить и, когда на этот звонок прибежал Степан, он спросил его:
— Скажи мне подробно, когда вернулся брат и что после того было?
Степан исполнил его приказание.
— Я видел вчера на этом столе большой черный портфель… ты не знаешь — где он? — спросил Владимир.
— Они увезли его вместе с другими бумагами.
— Ты сам видел… наверно?..
— Видел, сударь, своими глазами… Батюшка Владимир Сергеевич, будьте милостивы, скажите — неужто Борису Сергеевичу что-нибудь дурное сделают?
— Ничего не будет! — проговорил Владимир.
— А вот портфель… Вы изволите спрашивать, что ж в нем такое, в этом портфеле, верно, бумаги?
— Что ж другое!
— Да какие бумаги-то?
— Да я, сударь, потому спрашиваю, — вдруг изменяясь в лице и сверкнув глазами, каким-то особенным голосом сказал Степан, — что портфель-то этот ваш и вы изволили третьего дня принести его Борису Сергеевичу…
Владимир взглянул на Степана с изумлением; лицо его вспыхнуло.
— Пошел вон, дурак! — закричал он.
Степан нисколько не смутился. Он был в особенном возбуждении и твердая решимость изобразилась на лице его.
— Иду, сударь, иду… Только ежели, не дай Бог, что с Борисом Сергеевичем случится, — так портфель-то этот ведь ваш он…
— Да что ты, скотина, с ума сошел, что ли? — окончательно выходя из себя, крикнул Владимир, схватив Степана за шиворот и вытолкнув из комнаты.
«Вот еще с этим холопом возиться придется, пожалуй! — бешено подумал он. — Этого еще недоставало!.. Да нет… Вздор какой! Что он может?»
Он пошел к себе в спальню, не зайдя к отцу и матери, разделся и тут только, вытянувшись под одеялом, почувствовал всю свою усталость — весь день на ногах… Во дворце… В тревоге… Он потушил свечу, уткнулся в подушку и через минуту заснул самым крепким сном, как человек уставший, но с чистой совестью.
XXIII. УЗНИК
Всю ночь и весь следующий день прошли для Бориса, как в тумане. Он не знал, куда это его привезли, где он находится.
Офицер ввел его в небольшую чистую комнату. В комнате этой было довольно холодно, так как печка, очевидно, давно уже не топилась и от окон очень дуло. Оглядевшись, Борис увидел кровать, простую железную кровать, с твердым матрацем и плоской, как блин, подушкой. Между двумя окнами, шторы которых были спущены, висело небольшое зеркало; на подзеркальном столике горела лампочка. В комнате стоял затхлый запах.
Вошел солдат, принес грубое, но чистое постельное белье, байковое одеяло.
Офицер спросил Бориса, не нужно ли ему чего-нибудь, не голоден ли он?
Борис отрицательно покачал головою.
— В таком случае, — сказал офицер, — я вас оставлю, спите спокойно и не тревожьтесь, нужно надеяться, что все обойдется благополучно.
Он вежливо раскланялся, позвякал шпорами и скрылся. Борис расслышал щелк замка в двери — и понял, что заперт на ключ. Он потушил лампу и, не раздеваясь, бросился на кровать. Ему сделалось вдруг ужасно холодно, он закутался в одеяло, но озноб не проходил. Тогда он встал, ощупью нашел свою шинель и покрылся ею сверх одеяла. Он ни о чем не был в состоянии думать и, наконец, заснул — утомление взяло свое.
Проснулся он поздно. Все было тихо, не доносилось ни одного звука. Бледный свет глядел в окна. Борис поднялся с кровати, чувствуя разбитость во всех членах. Голова была налита, как свинцом. Он подошел к окну, поднял штору; но ровно ничего не увидел: все окно было замазано белой красной снаружи. Мучительное, тоскливое чувство охватило его. Ему вдруг стало как будто даже дышать нечем, ему показалось, что он замуравлен, отделен от всего света.
Если б хоть малейшая щелка, если б хоть одним глазом можно было увидеть, что там, за этим окном, ему стало бы гораздо легче… Но это невозможно. Оба окна без форточек, только наверху одного из них маленькая жестяная трубка. Он влез в окно, снял с этой трубки крышку. Через нее можно будет хоть что-нибудь увидеть… Приложив глаз, он различил только частую сетку, сквозь которую опять-таки ничего нельзя было разглядеть. Только слабая струя морозного воздуха прорывалась через это отверстие.
Тогда он безнадежно спустился с окна, подошел к двери, попробовал — она на запоре. Но вот дверная ручка зашевелилась, замок щелкнул — вошел солдат. Это был небольшого роста, но крепкий и коренастый солдатик с добродушным, придурковатым лицом, с маленькими ежесекундно мигавшими глазками, с усами, стоящими щетиной. Солдатик вошел с глиняным кувшином и чашкой для умывания. Под мышкой у него было полотенце с завернутым в него куском мыла.
— Ваше с-кородие, дай-ко-с я тебе умыться подам! — добрым голосом сказал он. — Видно, заспался маленько, я прислушивался — тихо. Вот, помойся, ваше с-кородие, а потом я и чайку принесу…
Этот солдатик с мигающими глазами, с глупым лицом и добрым голосом произвел на Бориса неожиданное и сильное впечатление. Он его сразу полюбил, будто старого друга. Он видел, что солдатик к нему относится хотя и с большим недоумением, но как-то жалостливо, как-то осторожно. Этот солдатик вывел его из того ужасного ощущения одиночества и отдаленности от всего мира, которое за минуту перед тем его томило.
— Скажи мне, любезный, где я? Что это за дом? — спросил он, снимая сюртук и засучивая рукава для того, чтобы умыться.
Солдатик еще сильнее замигал глазами и замотал головою.
— Ах, ваше с-кородие, да уж и не спрашивайте: чего нельзя, так нельзя, разговоров таких не полагается… А вот помыться и чайку — это я вам подам, это со всем моим удовольствием!
Борис умылся, почти машинально выпил принесенный чай и съел большую булку. Солдатик ушел; замок щелкнул. Опять на запоре, опять разъединен с целым миром!.. И опять туман стал наплывать на него, ни о чем не думалось, одолевала слабость, почти дурнота…
Замок щелкал, солдатик приходил и уходил. Он затопил печку, в комнате стало несколько теплее. Борис опять лег на постель и лежал в полузабытье, иногда почти засыпал. Ему грезилось то то, то другое, наплывали сновидения, иногда совсем яркие, почти такие же яркие, как действительность. Но они то и дело прерывались, перепутывались без всякой связи между собою… И в этом полусне, в этом забытье проходили часы. Содатик принес обед, и Борис встал и ел, но совсем не замечал, что такое ест.
Вот в комнате начало темнеть, вот и совсем стемнело. У двери зазвенели шпоры, появился вчерашний офицер, пригласил Бориса одеться и за ним следовать. Борис машинально повиновался. И опять, как вчера, в сопровождении офицера и двух солдат он прошел длинным коридором, опустился по лестнице и сел в карету. Карета тронулась. Было очень холодно, каретные стекла совсем заледенели, но Борис изо всех сил стал тереть стекло. Офицер на него покосился.
— Что вы делаете?
— Я хочу хоть что-нибудь увидеть! Неужели это невозможно?
Офицер ничего не ответил. Борис продолжал тереть стекло. Наконец он стал, хоть и неясно, различать внешние предметы. На улицах уже зажжены фонари, езда и движение. Но он долго не мог понять, где они едут. Мало-помалу ему удалось все же сообразить. Карета спустилась к Неве и покатилась по ледяному, засыпанному снегом пространству.
«В крепость!.. Конечно!» — мелькнуло в голове Бориса.
Но эта мысль не наполняла его ужасом, на него напало теперь полное равнодушие. Предположение его оказалось справедливым — они подъезжали к Петропавловской крепости. Карета остановилась. Офицер предложил Борису выйти. Солдаты поместились по обеим его сторонам, его ввели в ворота. Он хорошо знал расположение крепости и увидел, что его ведут к комендантскому дому… Так и есть!.. И опять туман, туман наплывает… Он не замечает окружающего… Он очнулся только тогда, когда почти над самым его ухом раздался довольно резкий голос. Он вздрогнул и огляделся.
Он в большой комнате, освещенной двумя сальными нагоревшими свечками. Перед ним человек в военном мундире с деревянной ногой. Он узнал его, потому что уже с ним встречался: этот безногий ветеран — комендант Петропавловской крепости, Сукин. Когда Борис встречался с этим ветераном, которого потеря ноги заставляла гораздо меньше страдать, чем звук его фамильного прозвища, он всегда невольно казался ему довольно смешным и ничтожным.
Борис вспомнил, как он еще не очень давно приезжал к его отцу с какой-то просьбой и Борису пришлось его принять, так как Сергей Борисович был чем-то занят и не мог тотчас выйти. Тогда комендант Сукин старался во всем своем обращении выказать изысканную любезность и светскость, что ему очень плохо удавалось.
Он был невольно поражен царственным великолепием старого дома Горбатовых, и вся эта обстановка, говорившая об историческом прошлом владельцев и их громадном богатстве, действовала на старого воина, как нечто для него совсем чужое, недостижимое и обаятельное. Он чувствовал себя среди этой обстановки, со своей деревяшкой и грудью, украшенной знаками отличия, довольно ничтожным перед красивым молодым человеком, который занимал его разговором. Он вдруг, сам того не замечая, стал несколько конфузиться и относиться к этому молодому человеку, как низший к высшему, что можно было сейчас же и заметить в каждом его движении, в каждом его слове. И Борис с большим неудовольствием заметил это…
Теперь этот самый Сукин стоит перед ним с лицом строгим и гордым.
— Кажется, встречал вас? — произнес комендант.
— Да, конечно! — выговорил Борис.
— Очень жаль, не полагал в вас такого легкомыслия, молодой человек!
Голос ветерана сделался совсем резким и строгим.
— Жаль родителей, почтенные люди! Стыдно, молодой человек, очень стыдно!..
Борис вспыхнул.
— Вы еще не знаете, насколько и в чем я виновен, — сказал он, — и ваши обвинения, мне кажется, несколько преждевременны.
— Увидим, очень бы желал! Но теперь, по высочайшему повелению, я обязан принять вас и препроводить в каземат.
— Я это вижу и понимаю.
Комендант сказал несколько слов сопровождавшему арестованному офицеру. Тот вышел и вернулся с плац-адъютантом. Затем Бориса вывели из комендантского дома, провели по двору. Отворилась массивная дверь, пахнуло сыростью, и Борис увидел себя в обширном помещении. Оно было довольно низко, над головою шел каменный свод, каменные стены, каменный пол — все это так холодно, так сыро. В углу большая русская печь. Она топится, по-видимому, мало согревает это большое, пронизанное холодом и сыростью помещение.
Маленькая, но тяжелая дверь заперлась, и Борис опять остался один. Довольно светлая и чистенькая комната, с замазанными краской окнами, из которой его привезли и которая казалась ему такой унылой, такой страшной, теперь представлялась прекрасным потерянным раем в сравнении с этой новой обстановкой. На старом, закопченном и изрезанном деревянном столике горела и заплывала свеча в тяжелом медном шандале, разнося слабый, мерцающий свет, не достигавший до противоположной стены помещения. Борис стал ходить взад и вперед под этим гулким каменным сводом. Он взял свечу и начал с нею все подробно разглядывать. Он увидел, что все это обширное пространство днем освещается только одним крошечным квадратным окошком. Увидел старую, очень подозрительного вида кровать. Заметил плесень и сырость на стенах, где ясно обозначалась высоко идущая полоса — след прошлогоднего наводнения.
Он невольно вздрогнул и попятился: по всем стенам что-то шевелится, копошится, ползает. Вгляделся — стены покрыты тараканами и мокрицами. Он никогда еще не видал этих противных насекомых в таком количестве. Один вид их с детства производил в нем нервную дрожь. И он с омерзением сообразил, что избавиться от них теперь для него и не будет никакой возможности. Он отодвинул кровать от стены, стал ее разглядывать — нашел в ней немало насекомых, разбегавшихся и расползавшихся во все стороны от приближения свечки. В довершение всего, его обоняние было поражено отвратительным запахом. Этот запах шел от деревянного ведра, поставленного почти у самой кровати.
Заскрипела дверь, вошел сторож. Но этот сторож уже производил совсем иное впечатление, чем утренний солдатик. Это было какое-то странное, почти нечеловеческое существо с грязным лицом, с сизым носом, косыми глазами. Седоватые нечесаные волосы торчали во все стороны. Сторож, не обратив на Бориса ни малейшего внимания, взял и затушил свечку, поставил на ее место ночник. Потом принес ворох соломы и швырнул его на голые доски кровати.
«Так вот на чем мне придется спать!» — подумал Борис.
— Послушай, — сказал он сторожу, — возьми, ради Бога, это ведро, ведь от этого запаха стошнить может!
Но сторож ничего не ответил, только покосился, вышел и запер за собою дверь. Борис отодвинул кровать еще больше от стены, разложил солому и как был, в шинели и шапке, лег на эту ужасную кровать. Как он ни крепился, на него напала минута полного отчаяния. Он задыхался, он не мог лежать — вскочил, заломил руки… Крупные слезы показались на глазах его. Но он себя пересилил.
«Что это, наконец?!. Да нет, этого быть не может! — думал он. — Что же я такое сделал?!. Все объяснится… День-другой — и меня выпустят отсюда… Выпустят, да, конечно!.. Разве я могу здесь оставаться в тюрьме… И когда же! Теперь… Именно теперь!..»
Туман, до сих пор окутывавший его мысли, вдруг прояснился. Перед ним, среди зловония, сырости и мрака этой темницы, встал милый образ Нины. Мучительный стон вырвался из груди его: «Нина, Нина!» — шептали его губы.
Он все понял, все понял.
«Что они теперь, что с ними? Нина, мать, отец! Боже мой, Боже!..»
Он схватился за голову. Он метался из угла в угол, и гулкий свод повторял его нервные, стремительные шаги по холодным сырым плитам.
«Что с ними? Знают ли они, где я?..»
Он изо всех сил старался себя успокоить, повторял себе: «Конечно, знают. Они помогут… Отец сделает все… Ведь есть же добрые, справедливые люди!.. Они меня вырвут… Но когда же, когда? Доживу ли я?!. Я задохнусь, я не вынесу этого!..».
Он расстегнулся, вынул часы — и безнадежно вскрикнул: часы стояли, и, вдобавок, ключа у него не было с собою завести их. Теперь уже он не будет знать даже времени.
Его охватило ощущение полного бессилия. Ему начали приходить в голову самые ужасные картины, вспоминались рассказы о том, что будто бы происходит в этой крепости, о том, как пропадают люди, как пытают здесь… Он никогда до сих пор не обращал особенного внимания на эти рассказы, не придавал им значения, не верил им; но теперь ему представлялось, что все это правда, что это, наверное, есть и иначе быть не может. А они там, так близко — и нет никакой, никакой возможности дать им знать о себе!..
«А брат — где он? — вдруг вспомнилось Борису. — Верно, и его схватили… Может быть, он тут близко… близко…»
«Нина… Нина!» — стонал он, простирая руки к милому призраку, который все ярче и ярче рисовался перед ним во всем своем обольстительном свете, во всей своей нежности. Он будто слышал ее ласкающий голос, будто ощущал ее прикосновение… И нет ее… нет!..
Ему показалось, что он видит лицо матери, измученное, залитое слезами лицо. Отца видит, глядящего на него с невыносимым укором. Он рванулся вперед, к ним, к этим милым призракам и остановился, то хватаясь за голову, то за грудь, стараясь отогнать мучительные мысли, стараясь остановить невыносимо больно бившееся сердце. Но сердце не умолкало, и наплывали мысли все страшнее и страшнее…
«А что если все кончено… все кончено? Если я их никогда не увижу? Никогда! Даже перед смертью?!.»
Он задрожал, его ноги подкосились, с глухим стоном он упал на сырые плиты и долго не мог шевельнуться. Все кружилось перед ним, все вертелось, и ему самому казалось, что он вертится и скатывается куда-то, в какую-то мрачную, омерзительную, дышащую холодом и зловоньем бездну.
XXIV. ЗА СЫНА
Сергей Борисович Горбатов, проведя почти всю ночь без сна, рано вышел из спальни, прошел в уборную, приказал подавать себе одеваться и закладывать скорее карету. Лицо его было бледно, глаза тусклы. Он даже как будто несколько сгорбился, как будто постарел в течение этой ночи. Одевшись и узнав, что экипаж подан, он, грустно опустив голову, прошел рядом парадных комнат и спустился с лестницы. Засуетившаяся прислуга особенно робко на него поглядывала, всем было неловко, жутко…
Сергей Борисович прежде всего поехал в дом генеральши. Было только девять часов утра. Княгиня не просыпалась еще. Нина тоже едва успела встать и, когда ей доложили о приезде Сергея Борисовича и о том, что он ее желает видеть, она очень изумилась и испугалась. Войдя в гостиную, где он дожидался, и, взглянув на его лицо, она испугалась еще больше. Она ясно увидела, что случилось какое-нибудь большое несчастье.
— Не пугайтесь, — сказал он грустным голосом, — хорошего ничего нет, но, Бог даст, не так уже дурно, как сразу кажется… Борис арестован…
— Арестован!.. Борис? — прошептала она упавшим голосом. — За что же?
— Вы ведь знаете, что вчера происходило?
— Да… я весь день очень тревожилась, почти не могла заснуть и теперь вот… собиралась писать Борису… Но, Боже мой, что вы такое говорите, как арестован? Где же он?
Она вся похолодела.
— Я ничего не знаю, я сейчас поеду узнавать… Я сделаю все, что можно… Надеюсь, тут недоразумение… он не может быть преступным… Но, прежде всего, я приехал к вам. Конечно, в это последнее время он ни с кем не мог быть так откровенен, как с вами… Вы должны вспомнить все — не говорил ли он вам чего-нибудь?.. Ведь что-нибудь да есть… Какая же у него связь с этими заговорщиками? Будьте со мной откровенны, вспомните все, ничего не скрывайте от меня… это необходимо для его спасения!
Нина опустила голову и еще больше побледнела.
— Связи, настоящей связи, с заговорщиками у него и быть не может, — наконец, собравшись с мыслями, сказала она. — Но я боюсь, что он все же близко знаком с ними, что они от него ничего не скрывали… Он никогда не говорил мне ничего такого, но я замечала, несколько раз замечала, что он в последнее время бывал мрачен… озабочен как-то… Это меня тревожило… даже… даже обижало. Я спрашивала о причине такой в нем перемены. Он отговаривался, но все же были намеки…
— Вспомните же все, все! — тревожно перебил ее Сергей Борисович.
— Да, конечно, он знал о многом, он был недоволен некоторыми своими друзьями… Иногда проговаривался, что затевается что-то…
— Но ведь он не сочувствовал этому?
— Нет, нет, не сочувствовал, это я прямо скажу вам, вы должны этому верить, что не сочувствовал… Конечно, он не мог оправдывать многое из того, что у нас теперь делается. Но он говорил мне, я это хорошо помню, что насильственными мерами ничему помочь нельзя. Да ведь вы же сами знаете его взгляды?!.
Она стала вспоминать каждое его слово. Передала Сергею Борисовичу все, все свои замечания. В конце концов оба они должны были сознаться, что нет ничего особенно утешительного. Он не сочувствовал, но, зная, находился в постоянных сношениях с заговорщиками, некоторые из них бывали у него в доме. Сергей Борисович вспомнил, что еще летом в Горбатовском он получал какие-то, видимо, неприятные ему, письма. Его бумаги все захвачены, он неосторожен… наверное, найдется много косвенных улик против него… Они замолчали, и несколько минут Сергей Борисович сидел, опустив голову, в тяжелом раздумье.
— Нужно спешить, — сказал он наконец. — Я еду, и одна надежда на милость государя…
Он простился с Ниной, обещая подробно извещать ее обо всем, что узнает. Он ездил по городу все утро, побывал у всех, кто мог сообщить ему о сыне. Его успокаивали, утешали; но он плохо утешался и настаивал, желая знать всю правду. Однако правду ему или не хотели, или просто не могли сказать, потому что сами ничего не знали. Добраться ему до Бориса не было никакой возможности. Он узнал только, что его еще не перевезли в крепость, но перевезут в этот же день.
«Боже, да ведь он может с ума сойти от отчаянья! — думал несчастный отец. — Он такой впечатлительный!.. Только бы с ним увидеться, только бы увидеться…»
И он, хватаясь за последнюю надежду, поспешил к одному старому другу, который мог помочь ему…
Небольшие светлые комнатки тихого Смольного монастыря. Обстановка, поражающая своей простотой, изяществом и чистотою. Много зелени и цветов, много книг… На стене большой, прекрасный портрет императора Павла I. У окна, в покойном кресле, с книгой в руках, сидит маленькая, седая старушка в траурном платье. Ее миниатюрное, бледное лицо испещрено мелкими морщинами, но светлые глаза сохранили свою чистоту. Общее выражение грустное, задумчивое и необыкновенно привлекательное.
Входит горничная и докладывает ей о Сергее Борисовиче. Лицо старушки несколько оживляется.
— Проси, проси! — быстро говорит она, закрывает книгу и встречает входящего Горбатова ласковой и грустной улыбкой.
Он почтительно целует ее руку, а она уже успела заметить его утомленный и встревоженный вид.
— Катерина Ивановна, — говорит он, садясь рядом с нею, — я к вам за помощью… Мой сын этой ночью арестован…
Она подняла на него свои ясные и кроткие глаза.
— Арестован? Кто? Неужели Борис?
— Да!
Он рассказал ей подробно все, что случилось. Передал все, что узнал от Нины, все, что узнал потом, в течение этого дня. Она слушала его с большим вниманием и участием. Она несколько раз брала и сжимала его руку.
— Что же теперь нам делать, Сергей Борисович? — сказала она. — Прежде всего, мне кажется, вам необходимо его видеть.
— Конечно, но ведь только государь мне и может дать это разрешение… и я прошу вас помочь в этом деле. Я думал прямо ехать к императрице Марии Феодоровне… Но она в таком горе… Она нездорова, никого не принимает. А к великому князю, то есть к государю… Он меня так мало знает!
— Послушайте, — сказала старушка, — мы вот что сделаем. Я сейчас же напишу государю и напишу также императрице… Я надеюсь, она вас примет. Вы посидите у меня… Я сейчас же, скорее пошлю мои письма, и мы вместе подождем ответа.
Она так и сделала. Письма были отосланы. Тогда она употребила все усилия для того, чтобы хоть немного его успокоить и как-нибудь помочь ему перенести это томительное ожидание. Она приступила к исполнению своей задачи со свойственным ей тактом и умом, сумела внушить бодрость, надежду, заинтересовала его посторонним разговором, заставила отойти от настоящего к прошлому; она знала, что он пуще всего любил это прошлое, в котором у них было много общего…
Сергей Борисович сам не заметил, как понемногу отделался от своих мрачных мыслей, как унесся, вслед за умной и милой старушкой, в далекие и лучшие времена. Эта скромная старушка, жившая уже более тридцати лет в этих хорошеньких светлых комнатках, напоминавших келью, никогда их почти не покидавшая, была Нелидова — лучший друг покойного императора Павла. Клевета, зависть и злоба, отравлявшие когда-то ее самоотверженную молодость, теперь уже смолкли, о ней уже мало кто говорил в петербургском обществе, ее знали только бедные люди, которым она помогала. Знала ее, впрочем, и не забывала и царская семья, питавшая к ней большое и заслуженное ею уважение…
Сергей Борисович хорошо сделал, что обратился к ней за помощью. Прошло с небольшим час времени, и Катерине Ивановне принесли ответ от императрицы Марии Феодоровны. Она пробежала его и передала с довольным видом Сергею Борисовичу. Он прочел:
«Милый друг, хотя я и очень нездорова и духом и телом, но передайте Горбатову, что я приму его хоть сейчас».
— Вот видите, — сказала Катерина Ивановна, — ведь вы знаете ее доброту!.. Не теряйте же времени, спешите…
Его не нужно было просить об этом. Через полчаса он был уже во дворце, и его ввели к императрице. Прежняя блестящая красавица, сильная телом и духом женщина, Мария Феодоровна, видимо, приближалась к концу своей жизни. Она до этого последнего времени успешно боролась со старостью и недугами. Да ведь и вся ее жизнь была борьбою. Она с юных лет приучилась выносить всякое горе, не предаваться отчаянию. Она всегда находила в себе силу смиряться перед волею Провидения и черпать в молитве душевное спокойствие. Но года брали свое. Недавнее нежданное семейное горе было для нее роковым ударом, — вчерашний страшный день окончательно сразил ее. И теперь она лежала в большом изнеможении; ее увядшее лицо, еще сохранившее отблеск былой красоты, казалось почти безжизненным.
— Простите меня, ваше величество, — говорил Сергей Борисович, склоняясь перед нею и целуя протянутую ему руку, — простите ради Бога, что я в такой день осмелился тревожить вас…
— Мне не в чем прощать вас… Мы все несчастны и обязаны жалеть друг друга… Катерина Ивановна написала мне о вашем горе… Как же это? Неужели ваш сын…
— Ваше величество, я ручаюсь вам головою, что мой сын не может быть изменником и преступником, — я его слишком хорошо знаю. Он может быть виновен в легкомыслии, но в измене… Нет, нет — он на это не способен!..
Его голос оборвался, он замолчал.
— Чем же я могу быть вам полезна? — сказала императрица.
— Попросите государя разрешить мне свидание с ним; вот все, что мне теперь надо…
— Я жду государя с минуту на минуту; останьтесь, вы сами его попросите. Я надеюсь, он вам не откажет…
Прошло несколько томительных минут ожидания для Сергея Борисовича. Несмотря на все свое горе и волнение, он хорошо понимал, что присутствие постороннего человека тяжело для больной и удрученной государыни. Им совсем не о чем было говорить друг с другом — и они молчали. Государыня начинала дремать…
Наконец в соседней комнате послышались шаги. Вошел молодой император. Он с некоторым изумлением взглянул своими орлиными глазами на Сергея Борисовича, но все же милостиво протянул ему руку.
— Катерина Ивановна писала мне о вас, — сказал он. — Сердечно сожалею… Тяжело, что молодые люди из лучших русских семей так поступают… Но что же мне делать? Я пока не вижу, чем могу вам помочь.
— Он ручается за своего сына, — сказала императрица, несколько оживляясь…
— Ручаюсь! — твердо и решительно повторил Сергей Борисович.
— Мне очень приятно это слышать, и в таком случае вам нечего тревожиться… Я не имею права делать никаких послаблений; но на мою справедливость вы можете рассчитывать…
— Ваше величество, я прошу одного: свидания с сыном. Ради Бога, не откажите мне в этой моей просьбе…
Государь задумался.
— Еще ничего не выяснилось, — сказал он. — Я только знаю, что у вашего сына найдены некоторые бумаги, которые, кажется, ясно указывают на его участие в заговоре… Иначе каким бы образом эти бумаги могли у него очутиться? Во всяком случае, он был в близких отношениях с главными заговорщиками.
— Он не может, не может быть изменником! — в отчаянии повторял Сергей Борисович. — Я знаю образ его мыслей. Он мог с ними встречаться, мог быть с ними близок, но не мог им сочувствовать!..
Что-то мгновенное, какая-то печальная полуусмешка пробежала по лицу государя.
— Тут противоречие, — проговорил он. — Но я хочу вам верить: я знаю — Горбатовы всегда были верными слугами престола и отечества. Я не забыл о ваших близких отношениях с моим покойным родителем и обещаю вам сделать все, что могу… Дайте время… Как только можно будет, вы получите разрешение видеться с сыном. Я дам ему все способы оправдаться… Пусть только он будет откровенен.
Государь кивнул головою.
Сергей Борисович поспешил откланяться и вышел…
XXV. ДОПРОС
Первый порыв отчаяния прошел, и Борис уже получил возможность обсудить более хладнокровно свое положение, отогнать от себя черные мысли. Он понял, что, конечно, его родные сделают для него все, что только в человеческой власти. Он понял также и то, что если станет теперь предаваться отчаянию, то истощит свои силы, наконец, может просто сойти с ума. Он решил терпеливо ждать и надеяться. Не далее как вечером того же дня, ему пришлось убедиться, что есть основание для надежды. К нему вошел плац-адъютант и ласковым голосом сказал ему:
— Я имею приказание перевести вас в другое помещение, где вам будет удобнее… Не отчаивайтесь, — прибавил он, — мне кажется, за вас уже хлопочут…
Но он вдруг замолчал.
— Вы чего-то не договариваете, ради Бога, скажите все, что знаете! — воскликнул Борис.
Плац-адъютант замялся. Но, взглянув на измученное, прекрасное лицо Бориса, не мог удержаться.
— Я не должен объясняться с вами, — сказал он, — но я уверен — вы меня не выдадите… Ваш отец был у коменданта. О чем они говорили — я не знаю, но комендант, провожая его, был такой, каким я его еще никогда не видывал. Он все повторял: «Успокойтесь, успокойтесь, вы можете на меня рассчитывать, ему не будет плохо…» И вот я получил приказание перевести вас.
Борис так и задрожал.
— Вы видели отца моего? Скажите, каков он?
— Мне кажется… он бодр… Я не заметил в нем никакого отчаянья.
Борис с чувством сжал его руку.
Через минуту они уже были во дворе. Бориса долго вели по неизвестным ему переходам и, наконец, он увидел себя в своем новом помещении. Оно не имело вовсе роскошного вида, но после ужасной и смрадной темницы показалось ему райским жилищем, почти таким же, как та комната, в которой он провел первую ночь ареста. Это была маленькая келья, не более как в несколько квадратных аршин, но с большим замазанным до половины известкой окном. На кровати были чистые подушки и байковое одеяло. Наконец — вот и маленький стол и стул… Положим, и здесь замечались кое-какие признаки сырости; но это уже совсем не то: по стенам не было плесени, а главное — не видно было отвратительных тараканов…
Плац-адъютант поклонился и вышел. На его место появился солдат с чаем. И солдат этот не походил на страшного сторожа с косыми глазами. Не походил, однако, и на добродушного солдатика первого дня. Большого роста, тонкий, как жердь, с мотающимися руками и унылым лицом, он имел заспанный и болезненный вид. Борис пробовал было заговорить с ним; но солдат только в него всматривался и ничего не отвечал. Он молча оправил ему постель и ушел.
Так прошло несколько дней. Борис все крепился, все ждал и надеялся. Вот появился знакомый уже плац-адъютант. Борис обрадовался ему как родному.
— С какою вестью? — спросил он его.
— Во всяком случае не с дурной… Видите ли, я должен свести вас в комитет…
— В комитет?!.
— Да, и теперь от вас самих будет много зависеть… пойдемте, мешкать нечего. Только прежде позвольте — я завяжу вам глаза… это необходимо.
Борис, конечно, не стал возражать. Плац-адъютант завязал ему глаза самым добросовестным образом и вывел его под руку. Борис жадно вдыхал в себя зимний воздух. Он чувствовал некоторую слабость в ногах; но голова его освежилась. Его вели довольно долго. Наконец он услышал, как отворяется дверь. Пахнуло теплом. С него сняли шинель, провели куда-то дальше, и сквозь крепко стягивавший его глаза платок он различил свет.
Платок сняли. Он увидел перед собою многочисленное собрание, сидевшее за большим столом. Стол был покрыт зеленым сукном. Множество восковых свечей освещало вороха бумаги, портфели, чернильницы и перья. Он узнал почти всех из сидевших за этим столом. Все это были высшие сановники. Он нередко встречался с ними в обществе, у некоторых из них бывал как хороший знакомый. Но теперь эти, внимательные к нему и любезные люди так глядели на него, как будто видели его первый раз в жизни.
Между ними находился и великий князь Михаил Павлович. Он взглянул на Бориса и тут же опустил глаза. Председатель этого комитета, военный министр Татищев, маленький любезный старичок, с которым еще недели три тому назад Борис провел вечер, обратился к нему и бесстрастным, спокойным голосом спросил:
— Вы были на площади среди мятежников?
— Был, — ответил Борис.
— На вас указывают как на одного из лиц, возмущавших солдат.
— Это неправда, я никого не возмущал…
— Из бумаг, у вас найденных, видно, что вы были в близких отношениях с Рылеевым, вы принадлежали к тайному обществу, которого он был одним из членов.
— Нет, я не принадлежал к этому обществу.
— Но вы ведь знали о его существовании?
— Знал.
— Вы разделяли взгляды Рылеева относительно того, что будто необходим насильственный переворот?..
Борис смутился. Он начинал бояться за каждое свое слово; первою его целью было никого не выдать, а он не знал, в какой мере все известно этому собранию.
— Я смотрел на Рылеева как на умного, образованного человека и уважал его как писателя, — проговорил он, — его политических взглядов я не касался и не знаю, каковы они…
— Каким же образом вы объясните, что у вас найдены бумаги тайного общества?
— Какие бумаги? — спросил Борис.
— Вот эти… заключающиеся в этом портфеле… Ведь этот портфель взят у вас?
— Да, у меня…
Если он не был в состоянии выдать ни одного из этих легкомысленных людей, сделавшихся, хотя и невольной, причиной его несчастья, — то тем более он не мог выдать брата. А все же ему не хотелось губить и себя. Ему было тяжело лгать на себя и он сказал:
— Портфель этот взят у меня, но я клятвенно могу засвидетельствовать, что не открывал его и не знаю содержания этих бумаг.
Все переглянулись с некоторым изумлением.
— От кого же вы получили портфель?
Вопрос был естественный, и Борис знал, что сейчас об этом спросят и что он должен будет ответить.
— Этот портфель был мне дан на сохранение…
— Кем?
— Я не могу сказать.
— Но вы должны сказать! — со своей обычной живостью вскричал великий князь. — Ведь в этом все дело… Будьте чистосердечным… Утаивая главное — вы себя погубите!
— Я не могу сказать и не скажу! — упавшим голосом и с тоскою повторил Борис.
— Это ваше последнее слово? — спросил Татищев.
— Да, последнее…
По знаку председателя, Борису опять завязали глаза, и он вернулся в свою келью.
На другой день к нему пришел священник. Борис обрадовался этому посещению, но когда священник начал его уговаривать ничего не скрывать от судей, он впал в уныние.
— Батюшка, я всю ночь думал, как мне следует поступить, — сказал он, — и решил твердо… Моя совесть покойна — я не был бунтовщиком… не хочу также быть клятвопреступником.
Священник печально покачал головою.
— Вы присягали на верность государю?
— Присягал.
— И вы, конечно, помните слова присяги? Следовательно — по прямому смыслу оной, вы обязаны не покрывать, а напротив того — открыть злоумышленников и врагов государевых… Разве я могу убеждать вас быть клятвопреступником? Я только желал бы одного — чтобы вы им не были.
Борис невольно смутился и опять, как уже не раз в жизни, перед ним встало неразрешимое противоречие. Он изложил священнику это свое состояние.
— В таком случае, — сказал тот, — вы не имели никакого права давать клятвенного обещания этому человеку не выдавать его… вы никоим образом не должны были принимать от него эти бумаги.
— Да, я вижу, что виноват! — с мучением проговорил Борис. — Итак, я должен, значит, понести наказание за вину мою… Я и понесу его… Но выдать я не в силах… меня могут пытать, меня могут казнить; но я не сделаю этого. Его дело, этого человека, сказать, зачем и при каких обстоятельствах он передал мне эти бумаги. Если же он не сделает этого — тем хуже для него; но я его не выдам, и не уговаривайте меня больше, батюшка! Вы можете довести меня до отчаянья и все же ничего не достигнете…
Священник скоро убедился, что это правда. Он вышел, так ничего от него и не добившись.
Опять потянулись дни; прошла целая неделя. И опять, как-то вечером, плац-адъютант завязал Борису глаза и вывел его из тюрьмы. На этот раз его посадили в карету и повезли. Ехали довольно долго. Потом его вели с завязанными глазами по целому ряду комнат. Он чувствовал под своими ногами мягкие ковры. Потом он слышал — отворилась дверь и заперлась за ним.
Звучный и показавшийся ему как будто знакомым голос проговорил:
— Снимите повязку!
Борис с трудом развязал крепкий узел, снял платок: он находился в обширном, прекрасном кабинете. Перед письменным столом сидел великий князь Михаил Павлович. Никого больше не было.
Овладев собою и поклонившись великому князю, Борис должен был ухватиться рукою за кресло — такую он вдруг почувствовал слабость.
Михаил Петрович устремил на него взгляд своих светлых глаз.
Борис выдержал этот взгляд.
— Государь обещал вашему отцу, — сказал великий князь, — сделать все для того, чтобы облегчить вашу участь, если вы этого заслуживаете. Отец ваш уверял, что вы не можете быть виновным, а, между тем, против вас много улик. Государь готов простить ошибки, готов простить многое, — лишь бы вы чистосердечно раскаялись в своих ошибках и были искренни. Ваше оправдание зависит от вас… вам остается одно — отказаться от упорства. Вы не хотели назвать имя человека, от которого получили портфель с бумагами… Вы видите — мы одни, скажите мне его имя!
Тоска сдавила Борису грудь.
— Ваше высочество, я готов вынести заслуженное мною наказание, — сказал он.
— Так вы сознаете, что заслуживаете наказания?
— Да, ваше высочество, я сознаю это… Я не питал в себе никаких преступных замыслов, я, сколько мог, отговаривал от этих замыслов других, я надеялся, что все это останется только словами и что никогда не произойдет того несчастья, которого я был свидетелем… Но выдать людей, которые могли отказаться от своих заблуждений и стать честными гражданами, несмотря на эти временные заблуждения, я не мог, эта мысль даже не приходила мне в голову…
— Честные граждане! — произнес великий князь. — Разве честь может быть рядом с изменой?!. Хорошо, вы считали, что все ограничится словами… вы видите свою ошибку и уж теперь как же вы можете смотреть на этих людей, как прежде?.. Они преступники и, покрывая их, вы сами становитесь преступным…
— Я это знаю, ваше высочество! — прошептал Борис.
Великий князь вспыхнул, глаза его сверкнули, но он сдержался и через несколько мгновений заговорил снова спокойным голосом:
— Подумайте и взвесьте все! Подумайте же о ваших несчастных родителях… Я знаю — вы жених, подумайте о вашей невесте… Откройте имя изменника — я требую от вас этого…
«Изменника! Брат — изменник! — мучительно подумал Борис. — Но ведь он же признается, наконец, что бумаги принадлежат ему! И тогда государь увидит, почему я должен был молчать!..»
— Ваше высочество! — с отчаянием прошептал он. — Быть может, скоро государь убедится и вы сами убедитесь, что требуете от меня невозможного…
Он снова пошатнулся и схватился рукою за кресло. Великий князь сделал нетерпеливое движение и позвонил. Вошел офицер.
— Завяжите ему глаза! — крикнул Михаил Павлович раздраженным голосом.
Офицер увидел повязку Бориса, лежавшую на ковре, и дрожащими от страха руками стал завязывать ему глаза. Он завязал их плохо — Борис мог, поднявши голову, почти все видеть. Потом офицер взял его под руку и вывел.
Офицер нечаянно прикрутил ему волосы так, что стало больно. Он невольно дернул головою и от этого движения повязка вдруг спала. Покуда испугавшийся офицер развязывал узел и снова накладывал на глаза повязку. Борис успел разглядеть некоторых людей, находившихся в этой комнате. Он успел взглянуть прямо перед собою.
«Что это?»
Нет, нет, он не обманулся! Он разглядел ясно, в нескольких шагах от себя, брата. Владимир стоял, по своему обыкновению, выпрямившись, высоко выставив широкую грудь, в своем блестящем мундире. Но его лицо показалось Борису страшно бледным…
Глаза опять завязаны, его ведут. Но вот чья-то холодная рука крепко сжала его руку…
Он сделал еще несколько шагов.
— Мне дурно! — успел он прошептать офицеру, ведшему его под руку, и потерял сознание…
Владимир уже не видел этого, так как это происходило в соседней комнате. Бориса подхватили и унесли.
На Владимира смотрели с сожалением, с участием. То, по-видимому, невольное движение, с которым он подошел к несчастному брату и сжал его руку, было всем понятно и всем также понятна была страшная бледность, покрывавшая его лицо.
Послышался шепот:
— Бедный, как он должен страдать!..
Его жалели еще больше потому, что в этот день заметили несомненные признаки особой к нему милости государя, который, искренно соболезнуя горю старика Горбатова, очевидно, желал, насколько это было возможно, ослабить силу несчастья, постигшего семью преступного молодого человека, милостями, оказываемыми его брату.
Он, действительно, страдал. Он страдал все время, но это страдание был страх.
«А вдруг он выдаст!»
И теперь, когда, войдя в эту комнату, он узнал, что брат беседует с великим князем с глазу на глаз, страх только усилился. Но он все еще умел владеть собою, обдумывал каждый шаг свой. Он сжал брату руку в расчете именно на то впечатление, которое это и произвело…
Теперь его сердце то замирало, то усиленно билось. Если судьи не выпытали у Бориса признания, то великий князь мог выпытать. Он ждал с мучительной тоскою, что будет дальше. Дверь кабинета отворилась, вышел великий князь, оглядел всех собравшихся и прямо направился к нему. Владимир едва устоял на месте.
— Ты видел брата?
— Видел, ваше высочество, — едва слышно прошептал Владимир.
— Он сам желает своей погибели, он упорствует. Передай твоему отцу, что государь исполнил свое обещание, но не имел успеха. Теперь я уже ничего не могу — и отстраняюсь…
Великий князь пошел дальше. Владимир вздохнул свободней, но страх не проходил. Этот страх должен был продолжаться во все долгое время следствия и вместе с этим страхом в душе Владимира, наперекор рассудку, поднималось что-то такое отвратительное, томящее, что не давало покоя, что отравляло немало лучших минут его жизни. Иногда это мучительное чувство усиливалось в нем до такой степени, что он испытывал неизбежную потребность найти себе хоть какое-нибудь оправдание. Ему нужно было чем-нибудь себя успокоить. Тогда он рассуждал так: «Виноваты во всем обстоятельства, и, наконец, виноват сам Борис… Если бы он тогда взглянул иначе — я имел бы еще время донести обо всем и, как знать, ведь можно было бы предупредить многое… Положим — нашлись другие… и они ничего не предупредили… Но ведь в моем портфеле было многое!.. Борис сам виноват… да, конечно!.. А потом объявить, что бумаги — мои… это бы его не спасло, а меня бы только погубило!.. Он меня не выдал, да, и я ему благодарен, на его месте я сам поступил бы так же!..»
Но он себя не мог обмануть этими рассуждениями. Ведь он хорошо знал, что причиной всего была его зависть к брату. Он хорошо знал, какие мечты давно уже приходили ему в голову… Устранить Бориса, этого «любимица», это «старшего» — вот, чего ему было надо…
Брат устранен.
XXVI. ВО ВРЕМЯ «СЛЕДСТВИЯ»
Вернувшись в крепость, Борис предался самым мучительным думам и чувствам. Он теперь ясно видел уже, что ему нечего рассчитывать на благополучное окончание дела. Никакого недоразумения не существует, оправдание немыслимо, потому что он сам отказался оправдать себя.
Еще хуже того — все члены комитета, и сам государь, могут заподозрить его во лжи, да, наверное, уж и заподозрили, потому что в его словах явное противоречие: с одной стороны он считает себя невинным, с другой — у него найдены, очевидно, очень важные и сильно обвиняющие его бумаги, а он отказывается указать тот путь, которым они дошли до него.
Он говорит, что не читал их, не знает, но кто же ему поверит? Невозможно даже этого от них и требовать.
Значит — он сам себя включил в число преступников, заговорщиков, изменников, и, конечно, ему только остается ожидать заслуженной законом кары. Какова будет эта кара? Он рассердил государя, он вооружил против себя членов комитета, ему нечего ждать пощады. Впереди смерть или — самое меньшее — каторга… А то еще, пожалуй, вечное одиночное заключение; но ведь это хуже каторги, даже хуже смерти… Ведь это — медленное, каторжное умирание!.. А ему безумно, отчаянно хотелось жизни и свободы…
Встреча с братом во дворце, где тот, свободный и ни в чем не подозреваемый, исполнял обязанности своей службы, его поразила. Было мгновение, когда злое чувство наполняло его и он готов был уже так решить, что за такого брата пропадать не стоит. Ведь разве бы он, Борис, был способен, зная за собою вину и только скрывши все улики, молчать и представлять из себя невинного? Разве он был бы способен воспользоваться тем, что доказательства его виновности или легкомыслия попали к брату, и оставить этого брата погибать?!.
Он возмущался таким поступком, он чувствовал, что потерял брата навсегда.
«За что же мне погибать! — отчаянно думал он. — Я хочу жить!.. В первый же раз, как вызовут в комитет, признаюсь во всем, пусть каждый отвечает за себя и за свои поступки. Пусть совершается справедливость!»
Но Борис недолго оставался при таком решении.
«Положим, — думал он, — оправдываюсь, мне простят то, в чем теперь меня обвиняют, но ведь я погублю его!.. Да разве я его погублю? — решил он наконец. — Я погублю этим прежде всего себя, — я никогда не выживу с таким сознанием, оно будет преследовать меня, оно отравит мне всю жизнь. А отец и мать, и Нина! Они не простят мне этого. Ведь это позор, позор, который никогда не смоется с нашего имени. Нет, пусть он остается, пусть живет и наслаждается жизнью, если может. Пусть, ему все легко… Не мне выдавать его, не мне!..»
Когда это решение было им принято бесповоротно — новая мысль пришла ему в голову: он не выдаст брата, но, пожалуй, найдется кто-нибудь, кто и выдаст. Ведь кто знает — быть может, среди заговорщиков найдутся и такие, которые станут рассуждать иначе. Если Владимир будет обвинен, тогда все объяснится, тогда поймут — зачем он молчал, поймут, кто владелец портфеля и почему он не мог назвать его по имени…
Борис грустно качал головою. Ему не надо этого оправдания и одобрения. Пусть лучше считают его виновным, когда он не виноват, чем откроют поступок брата…
Он начинал снова тревожиться, но уже иною тревогою. Он боялся теперь пуще всего, чтобы не выдали брата… Никто не должен знать того, что произошло… Пусть лучше это горе отцу с матерью, чем то горе…
«Но что же будет со мною?!.» — почти громко восклицал он, чувствуя порыв тоски.
Он начинал себя успокаивать.
«Значит, так надо! Это судьба! — мелькало в голове его. — Значит, нужно терпеть и спокойно, как подобает человеку-христианину, ждать свою судьбу. Это испытание, страшное испытание, но оно послано свыше!..»
Борис остановился на этой мысли, и в ней оказалось его спасение. Питаясь этою мыслью, развивая ее в себе, он сумел победить отчаяние, тоску и ужас. Он терпеливо ждал какого-нибудь известия оттуда, от них. Но день проходил за днем, а известий никаких не было.
Его опять приводили в комитет, но немного от него добились. Он никого не выдал, он упорно молчал. Ему сказали, что показания его о том, будто он получил портфель с бумагами от кого-то — показание ложное, и доказательство тому прямое: он не мог получить этого портфеля. Этот портфель его собственный, потому что на нем, на что прежде не обратили внимания, вытеснен его герб.
На портфеле Владимира был, действительно, вытиснен герб Горбатовых. Но Борис не знал об этом, он не разглядывал портфеля.
— В таком случае я солгал, — мрачно сказал он, — и больше этого ничего не могли добиться.
Он узнал от плац-адъютанта, что комендант считает его очень преступным, что Сергей Борисович несколько раз бывал в крепости, но до сих пор никак не может получить дозволения видеться с сыном.
Действительно, Борис сильно испортил свое дело, и все, чего могли добиться Горбатовы, — это некоторого, хоть очень незначительного, улучшения в его одиночном заключении. Ему было доставлено белье, теплые вещи, ему приносили порядочную пищу. Наконец плац-адъютант принес ему книгу. Он взглянул и задрожал от радости — это была библия, хорошо знакомая ему библия его матери.
Измученный невыносимым одиночеством, не имея никакого занятия, он иногда буквально чуть с ума не сходил. Теперь эта книга ему представлялась неоцененным сокровищем. Теперь по целым часам он от нее не отрывался, вдумывался в смысл каждой фразы, находя в глубоких словах вечной книги утешение, отраду, ответы на все запросы своей души, почерпал в ней крепость и терпение.
Этого мало. Читая и повторяя прочитанное, он вдруг заметил, что некоторые слова, а иногда просто буквы, подчеркнуты карандашом. Такое подчеркивание, по-видимому, было бесцельно, но эта видимая бесцельность и обратила на себя его внимание.
У него застучало сердце, мелькнула догадка. Он начал разглядывать с начала, с первой страницы, и скоро понял, что догадка его верна. Из подчеркнутых букв и слов составлялись целые фразы:
Он прочел:
«Борис, я не хочу верить в твою виновность. Ты сам повредил себе. Делаю, что могу, не отчаивайся. Отец».
Он складывал и читал дальше…
«Да хранит тебя Бог, мой бедный сын, перенеси мужественно постигшее тебе несчастье. Бог милостив. Знай, что я непрестанно горячо молюсь и надеюсь. Молись и ты и не теряй веры, знай, что мысленно мы всегда с тобою и поэтому не считай себя одиноким. Будь терпелив, заботься о своем здоровье, насколько это возможно… Если тебе будет дурно, дай знать коменданту, и главное, главное — не отчаивайся. Я не отчаиваюсь, я верю в лучшее. Благословляю тебя. Твоя мать».
И еще шли подчеркнутые слова и буквы, и опять Борис складывал:
«Дорогой мой, есть надежда и я твердо верю, что наше свидание будет в скором времени. Если что мучает всех нас, так это единственно мысль о твоем отчаянии. Знай, ты будешь жив, а какая бы ни была судьба твоя, я разделяю ее с тобою, и я верю, что мы будем еще счастливы. Твоя Нина».
Будем счастливы! Но он и теперь был счастлив. Никогда, никогда в самые лучшие минуты жизни не испытывал он такого восторга, как теперь, в этой маленькой сырой келье, разобщенный с целым миром. Если бы его спросили в эту минуту, чего он хочет, он сказал бы: «Ничего». Конечно, эти минуты прошли, и явилось много, много желаний, но он был окончательно спасен, он примирился с судьбою и уже не думал о смерти. Эти подчеркнутые слова и буквы дали ему уверенность, что ему нечего ожидать казни, а каторга, ссылка — все это казалось теперь не страшным. Ведь воздух, свет, тепло, небо и везде с ним будет она.
Он принимал эту жертву, он знал, что иначе быть не может; он всегда знал, что они связаны навеки, и теперь ясно понимал, что это все заранее было предназначено вечной, властной судьбою. Вот зачем так давно они были указаны друг другу, вот на какую судьбу сошлись они!..
Он снова складывал и повторял ее дорогие слова… Но что это? Подчеркнутые буквы идут еще дальше… Еще кто-нибудь говорит с ним… кто? Ведь больше некому.
Он сложил и прочел:
«Я все знаю. Оправдаться тебе легко. Ты не хочешь этого. Я много думала и теперь вижу, что ты прав. За это я бы любила тебя еще больше, если бы только больше любить было возможно. Бог наградит тебя. Никто ничего не знает. Это бы убило отца и мать. Нина».
— Откуда же она знает? — пораженный повторил себе Борис…
А дело было так. Степан не вытерпел; он совсем измучился, думая о Борисе. Объясняться со старыми господами он не решился, а пошел к Нине и рассказал ей все, что видел и слышал.
Она сразу даже ему не поверила; но он скоро сумел убедить ее. Наконец она поняла все. Степану долго пришлось стоять и ждать, что скажет барышня, — она все молчала и думала.
— Я под присягу пойду, сударыня! — дрожащим голосом проговорил Степан. — Сейчас же от вашей милости пойду во дворец, к самому государю…
Нина покачала головой и слабо улыбнулась.
— Да ведь прежде всего тебя не пропустят, — сказала она.
— Добьюсь, добьюсь, сударыня! — блестя глазами, упорно повторял Степан. — Что же это!! Неужто так и пропасть Борису Сергеевичу из-за братца? А коли уж такое будет мне горе, что не пропустят меня, коли что со мною неладное — так ведь затем и к вашей милости наведался, чтобы вы о том деле знать изволили.
— Нет, Степан! — решительным тоном сказала Нина. — Никуда ты не пойдешь и молчать будешь… Я знаю, что Бориса Сергеевича обо всем расспрашивали и если бы он хотел сказать правду, так и сказал бы ее. А он не сказал… Без его позволения, против его воли, и мы не можем говорить… Значит — он так решил… Он знает, что делает…
— Как же это? Так и дать сделаться такому неправому делу?!.- совсем растерявшись и, видимо, пораженный ее словами, прошептал Степан.
Нина из рассказов Бориса хорошо знала Степана и относилась к нему не как к простому слуге.
— Да ты разве не понимаешь, Степан, — сказала она, — отчего Борис Сергеевич скрывает правду? Ведь родителей жалеет.
Степан даже вздрогнул. Эта мысль не приходила ему в голову.
— Хорошо же я сделал, что господам ни слова…
— Очень хорошо сделал! И теперь молчи… Вот, Бог даст, скоро увидимся с Борисом Сергеевичем… Бог даст, все… все… обойдется.
Она сдержала набежавшие слезы.
— Ваша воля! — глухо сказал Степан, вздохнул и вышел, понуря голову…
Время проходило. Борис отмечал дни, они тянулись иной раз невыносимо долго. Хотя надежда не терялась, но ужас одиночного заключения давал себя чувствовать. Здоровье Бориса стало расстраиваться. Он испытывал иногда большую слабость. У него начали делаться приливы к голове. Он сказал об этом плац-адъютанту, и тот привел к нему доктора. С этого дня Борису разрешено было ежедневно, в течение двух часов, прогуливаться по длинному коридору. Эти ежедневные прогулки, разговоры с солдатом-сторожем, который мало-помалу стал доверчиво относиться к Борису, были теперь большим для него развлечением.
Скоро явилось и новое развлечение: пришла весна, Борис взбирался на окно, так как верхняя часть его не была замазана. Окно выходило на Неву, можно было по целым часам следить за ледоходом. Но вот весь лед сошел, по Неве проходили корабли, плавали лодки. На противоположной стороне виднелись знакомые здания, отзвуки и отблески далекой жизни давали пищу воображению.
Однако все же иногда невыносимая тоска охватывала сердце Бориса, но он употреблял все усилия воли, чтобы не поддаться этой тоске. Он придумывал для своей мысли занятие, возвращался в прошлое, переживал снова всю свою жизнь, вспоминая мельчайшие подробности этой жизни. Затем он начинал впоминать все, что когда-либо читал, чему когда-либо учился. Делал экзамен своей памяти, вызывал из нее многое, что лежало в ней где-то так далеко, что казалось уже совсем забытым.
И, к его изумлению и радости, теперь он стал понимать часто такое, чего прежде не понимал. Теперь многое являлось перед ним в новом освещении. Он приучился ясно и всестороннее мыслить…
Плац-адъютант, очевидно, добрый человек, почувствовавший к нему расположение, наконец сообщил ему, что скоро его участь будет решена.
Это оказалось верным. В начале лета Бориса вели в верховный уголовный суд; ему прочли все вины его и объявили приговор, по которому он лишался чинов и дворянства и ссылался в Сибирь на каторжные работы на двенадцать лет. Он встретил этот приговор почти с радостью и вернулся в свою келью таким бодрым, каким давно не был.
На следующее утро, когда он сидел и думал о том, что же теперь будет, скоро ли, наконец, он получит возможность увидеться со своими, его дверь отворилась и, прежде чем он мог опомниться, он был уже в объятьях отца, матери и Нины.
Он не мог этого выдержать, рыдал, как ребенок. Потом, несколько придя в себя, стал в них вглядываться и прежде всего он увидел мать.
Сколько же времени, сколько лет прошло с тех пор, как он не видел ее? Что это сталось с нею? Она так похудела, так углубилась, так врезались еще недавно почти незаметные морщины на лице ее… Но это, это что? Ее волосы стали почти совсем белыми…
Он дико вскрикнул и упал перед нею на колени, прижимался к ней, обливал ее руки слезами. Бесконечная мука и жалость наполняли его душу.
Отец его поднял. И отец тоже изменился и постарел. Одна Нина была неизменна. Правда, она похудела, побледнела, но в ее лице, во всей ее фигуре виднелась какая-то сила, которой прежде в ней не замечалось. Она глядела на Бориса с бесконечным счастьем, она легко выносила то, чего не могла бы, пожалуй, вынести более, чем она, здоровая и крепкая девушка. Ей помогло легко вынести эти ужасные месяцы именно то, что чуть было ее не сгубило незадолго перед тем: ее мистицизм, ее вера в чудесное.
Теперь для нее уже не было никаких томящих, неразрешимых вопросов. Все ей стало ясно, она узнала смысл жизни. Она нашла именно ту жизнь, которую всегда искала. Это страшное испытание было послано им по великой любви Творца и Его милосердию, и грядущий путь был для нее ясен; и он был — осуществлением всех ее прежних, горячих мечтаний…
С этого дня первого свидания с родными для Бориса началась совсем иная жизнь. До отправления в Сибирь оставалось еще много, много времени, но время шло теперь уже иначе. Кончилось невыносимое одиночество, хотя келья оставалась все та же. Впрочем, даже и келья эта все же несколько преобразилась. В ней появились большие, чем прежде, удобства: мягкая кровать, теплый ковер. А главное — Борису дана была возможность получать книги.
Свиданья с родными и Ниной были часты. Он знал от них все, что делается на свете, — впрочем, он мало чем интересовался. Между прочим, он с ужасом узнал, что у Катрин родился ребенок — второй сын. Несколько раз его навестил и брат, но эти свидания были тяжелы как для того, так и для другого. Между ними не было объяснений и только необыкновенное самообладание Владимира заставило его, по-видимому, спокойно вынести эти свидания. Очевидно, его мучения окончились: не только брат, но и никто его не выдал.
Правда, во время следствия имя Горбатова несколько раз выплывало наружу и попадалось судьям, но они ни разу не усомнились в том, какой это Горбатов. Они только убедились в том, что Борис, очевидно, был неискренен и скрывал свою виновность. Таким образом, определенное ему наказание казалось многим слишком даже снисходительным в сравнении с его виною.
Владимир крепко сжимал руку брата и старался благодарно взглянуть на него. Но Борису делалось тяжело и неловко. Он подавлял в себе чувство брезгливости, которое невольно испытывал теперь относительно этого человека, еще недавно так сильно им любимого, связанного с ним такими, по-видимому, неразрывными, вечными узами. Но, видно, эти узы были не вечны, они теперь разорвались навсегда — и оба хорошо понимали это.
В одно из таких свиданий Борис все же не удержался и шепнул брату:
— Есть новый Горбатов… Может быть, это похвально, то, что ты делаешь, но я не понимаю тебя… это ужасно!.. Можно было избежать. Мне кажется, ты должен был бы избегнуть.
Владимир вспыхнул.
— Я уверен, что это мой сын, — ответил он едва слышным шепотом. — Ты не все тогда расслышал, ты обманулся…
Он поспешно простился с братом и вышел.
Но ведь Борис хорошо знал, что не обманулся. Он был очень рад, что не увидит Катрин, которая, едва оправившись после рождения ребенка, уехала с детьми за границу.
XXVII. НАПОСЛЕДОК
В доме генеральши, конечно, ничего не изменилось за все это время. По-прежнему ворота стояли на запоре, по-прежнему створы на всех окнах были спущены, и улица перед домом устилалась соломой. Ни на волос не изменился ход испокон веков заведенной жизни. То же монотонное, обычное времяпровождение в темном будуаре, та же Пелагея Петровна.
Генеральша, как и всегда, полулежала на своем любимом кресле, облаченная в великолепное старинное платье с затканными по нему причудливыми букетами, в изумительной прическе, набеленная и нарумяненная, так что даже в том полумраке, который ее окружал, она производила впечатление почти куклы. Этот наряд особенно был странен в то время, когда весь город, а уж тем более лица, принадлежавшие к высшему обществу, носили глубокий траур.
Генеральша, большая любительница и хранительница всякого этикета, считавшая себя самой горячей патриоткой и верноподданной, принимавшая у себя ежедневно светских посетителей — и вдруг не в трауре, а вдруг в букетах!..
Она, было, сначала и заказала себе траур, но когда ей принесли черное платье, она с ужасом и отвращением от себя его оттолкнула и после долгой борьбы с самой собой, объявила, что вечно, до окончания дней своих будет носить в душе траур по отлетевшим с земли ангелам: государю и государыне, но этого платья ни за что не наденет. Ужаснее всего ей вдруг стала теперь мысль о смерти и в то же время она почувствовала, что стоит ей облечься в траурный наряд — и мысль эта ее не покинет. Она приказала Пелагее Петровне унести и сжечь черное платье. Та, конечно, унесла, но не сожгла.
Скоро всем стало известно, что при генеральше невозможно говорить о смерти и о покойниках, так как с нею чуть дурно не делалось каждый раз, когда заговаривали о подобных вещах. Этот мучительный, болезненный страх смерти усиливался с каждым днем, и что еще страннее, она, по-видимому, не так ужасалась тому, что люди умирают, — ее приводили в трепет и отчаяние, главным образом, именно слова: смерть, покойник, похороны, траур и так далее…
В ее будуаре, где столько лет вращались люди всевозможных возрастов, очень часто не насчитывалось того или другого. Она была так жадна на новости, что от нее нельзя было, конечно, скрыть, что тот или другой умер. Ей и теперь осторожно сообщали об этом, только никогда не говорили, что такой-то «умер», а говорили: его «нет», — и она отлично понимала, что это значит, замолкала на несколько мгновений, задумывалась, сидела неподвижно, совсем превращаясь в куклу… Но вдруг, сделав над собою усилие, она оживлялась и принималась за толки и пересуды о делах житейских. Наконец она дошла до того, чего так добивалась, — потеряла самое представление о смерти. Для нее люди уже не умирали, а просто пропадали, исчезали…
Утром страшного дня 14 декабря звуки отдаленных выстрелов, благодаря тишине, господствовавшей вокруг дома и в самом доме, стали доноситься и до будуара генеральши. Она теперь уже начинала плохо видеть, ей изменяла память, иной раз говорила не те слова, с каждым днем все больше и больше повторялась, но слух ее по-прежнему оставался чутким.
— Что это такое? Стреляют? Зачем стреляют? Что случилось? — встревоженно спросила она Пелагею Петровну.
Та уже обо всем знала и давно сгорала нетерпением сообщить интересные и странные новости благодетельнице. Но до сих пор не решалась, опасаясь последствий. На вопрос генеральши она замялась, кашлянула, зачихала и сделала вид, что не расслышала вопроса. Генеральша еще тревожнее, еще настоятельнее переспросила:
— Стреляют? Что значит? Говорите, если знаете, а если не знаете, — пойдите, узнайте!
— Знаю я, ваше превосходительство, да говорить только вам опасалась… Такие ужасы с утра в городе делаются, что и не приведи Господи! — торопливо начала она. — Просто я дрожью дрожу, матушка благодетельница! Ведь это солдаты на площади у дворца бунтуют — вот оно что!..
— Как бунтуют? Не может того быть, что вы!
— Верно, ваше превосходительство, верно, бунтуют, не хотят присягать государю Николаю Павловичу…
Генеральша перепугалась не на шутку.
— Матушка, да ведь… да ведь это… революция! Что же вы молчите до сих пор, что же вы все молчите? Рехнулись, что ли! Как же мы теперь… куда же мы… ведь собираться надо… бежать… куда бежать?
Она засуетилась, поднялась с кресла, спешным шагом направилась в спальню, стала вытаскивать все свои дорогие вещи.
— Да позовите же вы князя и княгиню! Что же вы! — кричала она.
Ее руки тряслись, голова качалась, она хватала то одну, то другую вещь.
Пелагея Петровна подумала, что «благодетельница» сходит с ума и кинулась со всех ног звать князя Еспера и княгиню.
Но этот припадок страха был непродолжителен у старухи. Она скоро утомилась и снова вернулась на свое кресло. Князь Еспер и княгиня ее успокоили. Тогда она распорядилась, чтобы каждый час посылали человека узнавать о том, что происходит, и ей докладывать. А затем стала делать новые распоряжения, которые всех очень изумили и смешали страх, испытываемый молоденькими воспитанницами и прислугой, с невольной веселостью.
Генеральша начала с того, что, к изумлению всех, пришла в кабинет покойного генерала, куда никогда и ни под каким предлогом не заглядывала с самого дня его смерти. В этом кабинете сохранялось все в том виде, как было при генерале. Все стены были увешаны самым разнородным оружием; тут было и древнее вооружение, карабины, ружья, всевозможные сабли и шашки, пистолеты…
Генеральша приказала созвать мужскую прислугу — лакеев, поваров, кучеров и сторожей (их было человек тридцать) и сама стала раздавать им оружие, наказывая каждому не выпускать его из рук и ни под каким предлогом не выходить из дому за исключением того человека, который, по очереди, должен был отправляться на разведки и возвращаться ежечасно с докладом.
Она решительно взяла на себя роль коменданта крепости. Шесть человек должны были стоять у ворот, вооруженные самым изумительным образом. По три человека у всех входов в доме. Два камердинера, с пистолетами в одной руке и с ятаганом в другой, были помещены у двери ее будуара.
Сделав все эти распоряжения, генеральша вернулась опять в свой будуар. Рядом с флаконами, заключавшими в себе духи, одеколон, английскую соль и прочее, она положила огромный, старинный пистолет, само собою, незаряженный. Впрочем, нужно сказать, что и остальное оружие, распределенное между прислугой, не было заряжено — так как ни пуль, ни пороху в кабинете не нашлось на видном месте. Да генеральша об этом и не думала.
Младшая из воспитанниц Машенька, живая как ртуть, смелая, не только не испугавшаяся, подобно всем ее окружавшим, этих далеких выстрелов и того, что генеральша называла «революцией», но очень заинтересовавшаяся всем этим, наслаждалась от всей души при виде вооруженных людей. Все эти хорошо знакомые ей Егоры, Петры и Федоты, казавшиеся ей и так всегда очень смешными, теперь, в старых ливрейных камзолах и полуфраках, отороченных позументами с гербами генеральши и с ятаганами, кривыми саблями, палашами, пистолетами и ружьями в руках, заставляли ее хохотать до упаду.
Весь дом преобразился. Нарушилось течение всегдашней жизни. Об уроках никто, конечно, не думал. Гувернантка совсем забыла о воспитанницах. Все метались по комнатам. Понимая, что в такой день многое может остаться безнаказанным, Машенька решилась на самый смелый поступок. Она без зова и без спроса влетела в будуар генеральши и выпалила:
— Ваше превосходительство, пожалуйте мне вооружение… Я храбрая и буду защищаться… Я никого не боюсь!
Генеральша в первую минуту даже испугалась ее внезапного и шумного появления. Но потом, несколько мгновений подумав и пожевав губами, она нашла ее просьбу весьма уместной.
— Хорошо, Маша, хорошо, — сказала она, — на вот, возьми…
Оставшееся нераспределенным оружие было сложено в будуаре.
— Вот — выбери, что хочешь…
Машенька, хотя и довольно бойко, но все же не без некоторого трепета подошла к страшным вещам. Употребление некоторых из них она совсем даже и не знала и полагала так, что «кто их знает, может, какая-нибудь штучка сама собою вдруг возьмет да и выпалит!»
Но она очень энергично победила в себе трусость, выбрала хорошенький пистолет и саблю с дорогой рукояткой, а затем, боясь, чтобы генеральша не одумалась и не отняла у нее этих вещей, поспешно скрылась из будуара.
Она навесила на себя саблю, которая так и стучала за нею, взяла пистолет в правую руку, вытянула ее перед собою и побежала в классную и дортуар. Там она принялась пугать подруг и горничных. Поднялся писк, визг. Машенька блаженствовала. Она была очень недовольна, когда к вечеру тревожные известия прекратились и когда в доме узнали, что бунт подавлен, что все утихло и никаких нападений ожидать невозможно…
Известное дело, что как бы осторожно ни поступали люди, как бы ни скрывали своих дел и обстоятельств, как бы осмотрительно и тихо ни беседовали между собою, а все же их дела и обстоятельства не ускользнут от домашних, от прислуги. А уж тем более от такой особы, как Пелагея Петровна, ничего не могло ускользнуть из того, что делалось в доме.
Положим, она не без основания побаивалась, что княгиня, пожалуй, чего доброго, и приведет в исполнение свою угрозу, если застанет ее в своем помещении и за подслушиванием и подглядыванием. Она уже теперь не подкрадывалась к княгининым и к Нининым комнатам. Но все же она ничего не теряла из виду и тотчас же узнала о раннем приезде Сергея Борисовича Горбатова и о его беседе с Ниной на другой день после бунта. Она очень скоро догадалась, что свадьба-то, видно, расстраивается, и совсем утвердилась в своих догадках, когда встретила Нину, заплаканную, с помертвелым лицом.
Появившись перед генеральшей, она с обычными ей ужимками произнесла:
— А у нас, кажется, в доме опять горе.
— Еще что? Что это вы меня пугаете? — прошептала генеральша, начиная тревожиться.
— Да вы не беспокойтесь, ваше превосходительство, может, оно и неверно. Только вот нынче ранехонько господин Горбатов, батюшка жениха нашего, был у Нины Александровны, а она теперь плачет…
— Что же бы это такое, вы не знаете?
— А как вам сказать, благодетельница, надо так полагать — из-за жениха; с ним что-нибудь неладное вышло.
Вслед за этим последовало обычное приказание позвать княгиню. Та появилась, едва переводя дыхание. Лицо ее было красно, глаза опухли.
— Ma chère, что случилось?
— Ах, Боже мой, такое горе!.. Несчастная Нина!.. Я в себя прийти не могу… Борис Сергеевич арестован этой ночью.
— Батюшки, какие страсти! — воскликнула генеральша. — Так что же это… он бунтовщик? Да ведь говорили: солдаты и офицеры бунтуют, а он не военный?!.
— Многих теперь будут арестовывать — и виноватых, и правых…
— Ну, правых-то не арестуют, — важно заметила генеральша.
— Так что же, maman, неужто и он виноват? Этого быть не может, это ошибка… ясно, что ошибка…
Генеральша подумала с минуту и пожевала губами…
— Ma chère, ты меня сразила, — произнесла она. — Вот уж не ожидала! Молодой человек такой благоразумный казался, из такой фамилии… и вдруг- бунтовщик!.. Ты говоришь: ошибка… нет, ma chère, таких ошибок не бывает. Уж коли Горбатова арестовали, так знают, за что… Вот времена!.. На кого теперь понадеяться?
Она начинала волноваться.
— Да, слушай ты, слушай, — ведь это как бы он и нас с тобою не оговорил, чего доброго?!. От бунтовщика, от изменника всего ожидать можно…
— Maman, Бог с вами, что вы говорите?
— Что я говорю… что я говорю! Я, матушка, верноподданная своих государей… твой отец, матушка, кровь свою на поле брани проливал… и вдруг изменник у нас в доме, да еще и женихом… Вот тебе партия? Что же это?.. Нет, уж как знаешь, а я бунтовщиков покрывать не стану!.. Чтобы нога его не была в доме у нас, так и отцу его скажи, со всем моим уважением… пусть уже не взыщет…
Княгиня вспыхнула.
— Если он арестован, так, значит, не может быть у нас, а если его выпустят — значит, он ни в чем не виноват, — сказала она.
— Уж, как там знаешь, как знаешь, а мое слово свято!.. И твое дело, ma chère, теперь заставить Нину отказаться и от мысли о нем. Что же делать — не судьба! То-то у меня и предчувствие было, что добром это не кончится. Слишком уж хорошо выходило, уж очень честь большая для Нины… А вот и чести нет, одно бесчестие!.. Досталось и нам с тобою в чужом пиру похмелье.
— Маменька, совсем вы не так говорите… Вы лучше пожалейте бедную Нину. А о Борисе Сергеевиче дурного не думайте — Бог даст, все разъяснится… Я верю, что это ошибка…
Но с генеральшей, раз она вбила себе что-нибудь в голову, трудно было поладить. Она продолжала все в том же тоне.
Княгиня ушла от нее, окончательно раздраженная и измученная.
Между тем Пелагея Петровна торжествовала — у нее даже вид был праздничный. Она то и дело втягивала свой рот и испускала легкий свист.
«Вот он, жених-то важный! — шептала она. — Как же, большой барыней сделаться вздумала… нос задрала!.. Вот теперь тебе… что получила? Срам только…»
Вместе с Пелагеей Петровной торжествовал и князь Еспер. Он за это время совсем было разлюбил Нину. Его обожание и тот восторг, который она в нем возбуждала, превратились теперь почти в ненависть. Он уже примирился с мыслью о том, что она не обращает на него никакого внимания, и только продолжал себя иногда лелеять мечтаниями о том, что это временно, что она еще вернется. Теперь он очень обрадовался. Ему было приятно, что его соперник так нежданно-негаданно подвергнут несчастью. Ему было приятно, что и Нина страдает.
«И поделом ей, поделом! — думал он. — Урок, наказание, авось спохватится!..»
Скоро странная новость о том, что жених попался, облетела весь дом. Узнали о ней и воспитанницы. Каждая из них по-своему жалела Нину, все старались всячески выказать ей эту жалость и свое участие.
Нине все эти проявления были тяжелы. Она теперь могла выносить дома только присутствие княгини. Они говорили по целым часам, высказывая друг другу свои предположения, свои надежды.
По мере того как проходили дни, или не принося ничего нового, или принося только одни тревожные, неутешительные известия, княгиня ушла в новую для нее жизнь. Она разъезжала по всему городу, всем доказывала невинность Бориса.
Нина между тем стала очень часто навещать Татьяну Владимировну. Она иногда возвращалась домой только ночевать.
Сначала и княгиня, и Татьяна Владимировна думали, что это горе просто убьет слабую девушку. Но вскоре к изумлению и радости своей, они увидели, что ошиблись. Нина была даже гораздо бодрее духом, чем они. Она не только не теряла надежду, но все более и более как-то успокаивалась и светлела.
Горбатовы и княгиня имели возможность узнать о ходе следствия многое такое, чего никто не знал. Когда они узнали, что ждать для Бориса оправдания невозможно, что его ожидает каторга, Татьяна Владимировна, несмотря на все свое самообладание, вдруг ослабела и дошла до отчаяния. Нина стала ее поддерживать, доказывала ей с горячим убеждением, что отчаиваться нечего, что испытание посылается для блага человека…
И кончилось тем, что ей удалось передать почти всецело свои взгляды Татьяне Владимировне.
Они принялись подробно узнавать о Сибири. Их уверяли, что на милость государя можно расчитывать, что виновным не по первой категории будут и в Сибири оказывать снисхождение. Они знали при этом, что все, что только можно сделать с помощью денег, — будет сделано. О том, что Нина не отказывается от Бориса и намерена разделить его участь, не было даже и речи. Все хорошо понимали, что иначе и быть не может.
Одна только генеральша, после того как приговор верховного суда стал известен и выяснилась дальнейшая участь Бориса, пришла в ужас и негодование от решения Нины отправиться в Сибирь и там выйти замуж за каторжного. Генеральша накинулась на дочь.
— Что же это ты, ma chère, о чем думаешь?.. Сколько раз говорила, что любишь Нину как дочь родную… Я вот никогда ничего такого не говорила, а, видно, люблю ее побольше твоего, если ты допускаешь это сумасбродство… За графом, за князем, за важным барином ей быть не приходится, а за каторжником еще того меньше. Да ты подумай только, кто он теперь — ведь его дворянства лишили — отверженник!.. Отговори ты ее, безумную. Ведь я вон и Машутке ни за что не позволила бы за ним бежать…. Да и стыдно это… грешно. Он изменник, государь осудил его, так что же она-то, значит, против государя идет!.. Он, мол, хоть и изменник, а я все же таки за ним. Ведь этак и она изменницей становится!..
Княгиня печально качала головою.
— Ах, маменька, маменька, что вы такое говорите, подумайте… Вспомните о сердце-то!.. Вы забыли, ведь она его любит… Ведь он для нее все тот же… Она не верит его измене… как и я не верю. Он несчастлив, и разве женщина, если она любит человека, может покинуть его в несчастии?!. Вот если бы она шла за него ради его богатства, ради его имени и положения, шла на счастливую жизнь, — а ведь так про нее почти все и думали, — тогда она рада была бы теперь от него отказаться и оправдать себя тем, что он изменник… Но теперь она может доказать всем, кто в ней ошибался, кто клеветал на нее, что она полюбила его не за имя, не за богатство. Не обижайте же ее, ради Бога!.. Не говорите с нею ни о чем таком… И знаете ли, царская фамилия и даже сам государь знают о том, что она едет в Сибирь за женихом и очень интересуются ею… и не только оправдывают ее поступок, а просто им восхищаются!..
Генеральша слушала молча и серьезно.
— Ну, коли так, видно, ее судьба такая… и уж ежели царская фамилия…
Она замолчала.
Княгиня хорошо видела, что Нине не будет новых неприятных разговоров.
И, действительно, с этого дня генеральша толковала собиравшимся у нее в предобеденное время гостям о геройском решении Нины, об ее самоотвержении, а главное, о том, что «царская фамилия одобряет ее поступок и даже ею восхищается…»
Она и сама кончила тем, что стала искренно восхищаться Ниной и как-то особенно бережливо и нежно к ней относиться.
Одна Пелагея Петровна не изменила своих взглядов и только давилась от злости: что бы ни сделала Нина — все обращается ей на пользу.
— Ну да постой, матушка! — шипела она. — Пусть там хоть ты рассвятая, а небось, Сибирь да каторга — не свой брат!.. Хуже последней мужички, может, будешь… наплачешься, изведешься… час рождения проклинать станешь… И поделом тебе… поделом… фря!.. гордячка!..
XXVIII. ТАМ И ЗДЕСЬ
Прошло три года. Многочисленные участники 14-го декабря отбывали свои каторжные работы. Они были помещены в Чите, в новом остроге, при постройке которого участвовали сами трудами рук своих. Вокруг острога, на очень близком к нему расстоянии, выросло немало хорошеньких новых домиков с разбитыми вокруг них садиками, со всеми наружными проявлениями удобной и счастливой жизни. И жизнь в этих домиках была, действительно, счастливая. В этой далекой глуши можно было найти уютную и даже красивую обстановку, изобилие книг, журналов…
Из этих домиков в ясные летние вечера доносились звонкие голоса, веселый смех. Очень часто окрестная тишина нарушалась звуками рояля. Среди векового затишья сибирской пустыни уносились к чистому северному небу пламенные мотивы итальянской музыки.
В этих домиках жили семьи ссыльно-каторжных. Это были по большей части молодые женщины, которым никогда и во сне не снилась судьба, ожидавшая их в жизни. Это были молодые женщины, принадлежавшие и по рождению, и по воспитанию к лучшему столичному обществу, выросшие в неге и холе барской жизни, с детства привыкшие ко всевозможной роскоши и удобствам.
Недавние барышни-белоручки превратились в «жен» и в тяжелую годину испытания сумели отбросить, как ветошь, все случайное, все временное. В них заговорила вечная, живая сила, и они без колебаний последовали за теми, с кем были соединены перед людьми и Богом.
Они не заглядывали в будущее, они не думали о том, что их ожидает там, далеко, за тысячи верст, в глухой, неведомой стране, о которой многие из них имели очень смутные и ужасные представления. В зимнюю стужу, не дожидаясь весны, не желая потерять ни одной дорогой минуты, белоручки простились со всем, к чему они привыкли, со всем, что им было дорого, — и бодрые отправлялись в неведомый путь, перегоняя на пути этом партии ссыльных.
Чтобы не обращать на себя особенного внимания, светские франтихи, выписывавшие туалеты из Парижа, надевали на себя крестьянскую одежду. Но в этой одежде они, по большей части юные и красивые, были только еще красивее.
Не одни «жены» спешили по сибирской дороге в глухую даль. Вместе с ними спешили и «невесты». Первой из таких невест была Нина. Напрасно многие, невольно заинтересовавшиеся теперь ею и даже позабывшие всю свою прежнюю относительно нее язвительность, уговаривали ее быть благоразумной, подождать до весны, получить сначала сведения о том, что там такое, как там можно устроиться.
Она решила не терять ни одного дня. Впрочем, единственные люди, которые могли бы еще, может быть, повлиять на нее, ей не перечили. Татьяна Владимировна, конечно, благословляла ее на этот подвиг, Сергей Борисович тоже. Они отпускали ее не надолго, они ей обещали скорое свидание, самое большее — через год. Они решились, устроив все дела, поехать в Сибирь и пожить там, вблизи от сына, сколько будет можно.
Княгиня тоже не отговаривала Нину. Княгиня молчала, но если бы Нина не была так занята теперь своею жизнью, своими мыслями и приготовлениями — она бы заметила, что с княгиней делается что-то странное: она почти оставила вдруг все свои выезды, часто по целым дням сидела дома, не покидая Нину, а иногда, войдя к ней, Нина заставала ее такой грустной и даже в слезах. Она бросалась к ней тогда на шею, целовала ее руки, не знала, как и выразить ей свою нежность. Но княгиня тосковала все больше и больше — и вдруг, всего недели за две до предположенного отъезда Нины, — она шумно вошла в комнату и крепко ее поцеловала.
Взглянув на нее, Нина сразу увидела в ней большую перемену. Лицо ее было красно и весело.
— Ну, Ниночка, — сказала она, тяжело опускаясь в кресло, — ведь, кажется, твои приготовления идут к концу.
— Да, ma tante.
— Я тебе помогала собираться, помоги и ты мне, а то я одна не управлюсь.
— И вы тоже уезжаете? Куда же, неужели в деревню, теперь зимою?
— Нет, мой друг, не в деревню…
— За границу?
— И не за границу. Куда же я могу теперь уехать? Я еду с тобою.
Нина остановилась в изумлении и растерялась.
— Как, ma tante, как со мною? В Сибирь?
— Ну да, в Сибирь.
— И надолго?
— Надолго, так что нужно хорошенько приготовиться… Но ты не бойся, я не задержу тебя. В две недели все окончу, только ты помоги мне.
— Милая, дорогая, ведь это невозможно!.. Как вы уедете? Ведь неизвестно, что там такое. Неизвестно, как доедем… Ma tante, ангел мой…
Она целовала ее руки.
— Нельзя вам ехать, право, нельзя. Вы уже не так молоды, не так здоровы, чтобы решиться на такое… Как вы будете?
— Пустяки, я здорова, здоровее тебя во всяком случае, и не так уже стара… Не делай ты меня, пожалуйста, старухой, не то я стану обижаться.
И она пыхтела всей своей колоссальной грудью, а круглые черные глаза ее так и смеялись.
— Да как же вы сами признавались, что больше трех месяцев не можете выносить уединенной жизни, — как же вы все это бросите?
— А ты как бросаешь?
— Какое же сравнение, ma tante! У меня нет никаких привычек, я даже и не создана для общества. И что вы такое говорите? Вся моя жизнь там, где он. Ведь вы знаете, что он там, что я люблю его, что я не могу без него жить, что я еду не на горе, а на счастье.
Брови княгини сдвинулись, толстое лицо ее еще больше покраснело и почти сердитым тоном она проговорила:
— Ты любишь его, ты не можешь без него жить, хорошо… А если я люблю тебя и не могу без тебя жить?
Нина кинулась к ней на шею. Огромная, тучная княгиня всю ее покрыла своими объятьями и тихо, нежно, совсем не своим голосом шептала ей:
— Дурочка, дурочка, и ты могла думать, что я отпущу тебя одну, что я здесь останусь? Впрочем, что же я, ведь я и сама старая дура, прежде так думала или, лучше сказать, совсем не думала об этом… Ну, так что же, поможешь мне быть готовой в две недели?
— Помогу, ma tante, помогу.
— Девочка ты моя милая, радость моя, — опять нежным шепотом говорила княгиня и привлекала Нину к себе на колени, и целовала ее горячими материнскими поцелуями, и мочила ее своими слезами.
Но эти слезы были счастливые слезы. Княгиня вдруг почувствовала себя как будто перерожденной; ей казалось, что она начинает жизнь сначала и что эта новая жизнь бесконечно полнее, бесконечно радостнее прежней жизни.
Нужно было объявить генеральше о таком никем не жданном и внезапном решении. Княгиня не стала медлить и, со своей естественной ей во всех важных делах энергией, тотчас же после разговора с Ниной отправилась в темный будуар.
Княгиня ожидала неприятной сцены, выражения негодования старухи, но, к ее величайшему изумлению, когда она сказала, что намерена сопровождать Нину и прожить с нею там первое время пока она устроиться, генеральша ничего не возразила и несколько мгновений сидела, погруженная в свою кукольную неподвижность.
— Что же, ma chère, ты думала, — большую новость мне скажешь? — наконец заговорил она. — И никакой-то новости в этом для меня нету, я так и полагала, что ты уедешь… Где же тебе ее отпустить одну! Я, ты думаешь, уж не судила сама с собою об этом? Много, ma chère, судила и только изумлялась, что ты молчишь, что ты от меня скрываешь… Только подумай, милуша…
Генеральша называла дочь «милушей» очень редко и в минуты большой нежности, так что княгиня сразу увидела, что в словах матери нечего искать иронии или вообще чего-нибудь, кроме их прямого смысла.
— Подумай, милушка, как же это ты? Ведь это Сибирь, ведь ехать-то сколько, а неравно растрясет да разболеешься дорогой, — ведь ты не молоденькая… Просто я представить себе не могу, как это ты поедешь!..
— Чего же тут представлять, maman, милая! Сяду да и поеду. Растрясет — остановлюсь, передохну и опять в дорогу. Да и не растрясет совсем! Может быть, это путешествие мне только на пользу будет. Толста я очень, встряхнуть меня, право, не мешает. А мы вам, maman, подробно, из всех мест описывать будем всю нашу дорогу…
— То-то же, то-то же!.. Ну, поезжай с Богом, добруха, а я тут вот ждать буду…
Генеральша запнулась на минуту; как видно у нее мелькнула какая-то мысль, она хотела сказать что-то, но только вздрогнула и еще раз повторила:
— Ждать буду…
Княгине сделалось грустно. Она припала к сухой, холодной руке матери и долго ее целовала.
Через две недели все было готово. Княгиня сделала все свои распоряжения. Перед отъездом происходило торжественное прощание. Княгиня и Нина отправились к генеральше, и она ту и другую благословила образами, подарила им на память прекрасные вещи, перекрестила их.
— Ну, Господь с вами, дай вам Бог благополучного пути, дай вам Бог, не забывайте меня, пишите… Ступайте, ступайте…
И вдруг замахала руками.
Они вышли из будуара, а генеральша, схватив платок, стала скорее вытирать себе глаза, чтобы слезы не смыли белил и румян.
Отслушав в большой зале напутственный молебен, княгиня и Нина стали прощаться со всеми домашними. Прежде всех подошел к ним князь Еспер. Он имел спокойный и даже гордый вид, церемонно раскланялся с ними, пожелал им доброго пути в самых любезных выражениях, холодно поцеловал руку племянницы, также холодно поцеловал руку Нины.
Нина остановила его и ласково сказала:
— Не поминайте лихом, князь, вы давно, давно на меня сердитесь, но за что, я не знаю. Я всегда была расположена к вам и против вас ничего не имею… Не поминайте лихом!
Он взглянул на нее, все лицо его вдруг запрыгало. Он опять склонился к ее руке и на этот раз целовал долго, едва мог оторваться, а потом вдруг круто повернул, ушел к себе, заперся и не выходил больше в этот день из своих комнат.
Княгиня и Нина ехали не одни — с ними ехал Степан, для того, чтобы охранять лучшее сокровище своего Бориса Сергеевича — это дорогую невесту…
Они все трое в Сибири, в Чите. Много было в дороге разных приключений, но ничего уже такого особенно страшного им не пришлось испытать. Княгиню не растрясло, она чувствовала себя бодрой, свежей и находилась в самом лучшем настроении духа. Она ободряла Нину, даже смешила ее часто. Она теперь открыла все сокровища своего характера и своего сердца, умела найтись при всех обстоятельствах, всякие затруднения отстраняла с большой ловкостью, во всех встречавшихся с нею она вселяла к себе расположение.
Ей пришлось много хлопотать для того, чтобы получить разрешение поселиться с Ниной, но она этого добилась. Быстро вырос хорошенький домик возле острога. С помощью денег, а у княгини их было много, как своих, так и переданных Горбатовыми для Бориса и Нины, она окружила себя такой обстановкой, без которой ей трудно было бы жить, и очень скоро поняла, что от нее и жертвы никакой не требовалось, что в Чите жизнь не хуже петербургской: самое милое, приятное общество, да и люди гораздо добрее.
Нина была обвенчана с Борисом несколько дней после своего приезда. Это была странная свадьба, в убогой острожной церкви. Невеста, с каким-то вдохновенным, почти неземным выражением в лице, была прелестна. Хорош был и жених, несмотря на то, что на ногах его, когда он вел невесту вокруг аналоя, гремели кандалы.
Мало-помалу выяснился и установился общий образ жизни. Жены каторжников должны были видеться с мужьями в остроге, и эти свидания происходили при офицере, но очень скоро, благодаря доброте осторожного начальства, первоначальная строгость прекратилась, и арестанты получили позволение когда им угодно отправляться в домики к своим женам, под тем вечным предлогом, что жены больны и прийти не могут.
Времяпровождение бывало иногда самое веселое. В остроге было соединено не менее сотни человек, большею частью молодых, представлявших собою цвет образованного общества. Это были люди, обладавшие самыми разнообразными и иногда очень крупными дарованиями и, вместе с тем, прекрасными нравственными свойствами. Перенесенные испытания отрезвили их, они глядели теперь на жизнь спокойно, благоразумно, научились дорожить ею, нашли в ней высший смысл и высшие радости.
Многие из этих людей признавались потом открыто и печатно, что время каторги было для них счастливым временем, что за эти годы быстро и далеко подвинулось их нравственное и умственное развитие. Люди соединились в дружную, единомысленную семью, каждый помогал другому, каждый учил другого тому, чего тот не знал, и сам в свою очередь от него учился.
Общество прекрасно образованных женщин доставляло им немало отрады, и эти женщины принесли огромное добро не только своим мужьям, но и их одиноким товарищам, которые потом, всю жизнь, и словесно и письменно, в своих появившихся теперь записках, называют этих самоотверженных женщин не иначе, как своими добрыми гениями.
В Читу то и дело приходили транспорты с большим количеством книг; здесь появлялось все, что выходило в литературе и по всем отраслям знания в целой Европе.
Борис и Нина чувствовали себя очень хорошо; в них уже не было прежнего недовольства и прежних неотвязных, не получивших разрешения вопросов. Перед ними как будто разверзся широкий горизонт, и значение и цель жизни все яснели и яснели в глубине этого горизонта. Внутреннее довольство, деятельная жизнь, чистый северный воздух благодетельно подействовали на Нину, ее нервные припадки прошли, она расцвела и еще похорошела.
Борис также был неузнаваем. Мучительных следов заключения в крепости уже не оставалось. Физический труд, которому он сначала поневоле, а потом и по своей охоте, ежедневно подвергался в течение нескольких часов, укрепил его мускулы и развил в нем силу. Он чувствовал себя так хорошо, как никогда прежде.
Через год, по обещанию, Сергей Борисович и Татьяна Владимировна приехали и прожили около полугода в окрестностях острога. Им разрешено было видеться с сыном, и они широко пользовались этим разрешением. Они убедились, что жить можно везде и что часто то, что считается величайшим несчастьем, вовсе не несчастье. Они радовались, глядя на сына и на его молодую жену.
Они привезли с собою отрадную весть о том, что, наверное, срок каторги будет значительно сокращен и освобождение наступит в скором времени. Но, немного пожив в Чите, они увидели, что эта весть теряет здесь в своем значении, потому что каторжникам живется недурно и многие из них, наверно, будут сердечно сожалеть, когда придется разъединиться, выйти из этой обширной, так дружно, так тесно соединившейся семьи.
Горбатовы привезли с собою также и печальную весть о смерти генеральши. Она ждала возвращения дочери, но не дождалась, и как ни отгоняла от себя мысль о смерти, о похоронах и трауре, но смерть-таки подкралась к ней. Впрочем, она подкралась незаметно и не испугала ее. Генеральша слабела день ото дня, угасала, как свеча; когда она поняла, что умирает, у нее уже не хватило сил испугаться, она очень устала и теперь сознавала эту усталость и ей захотелось покоя.
Она слабым голосом продиктовала свое духовное завещание, исповедалась, приобщилась и умерла тихо, почти без страданий. Все ее состояние и ее дом, как, впрочем, всем уже было известно, переходили к княгине. Она не забыла никого, обеспечила воспитанниц, наградила прислугу, а Пелагея Петровна получила целых тридцать тысяч рублей ассигнациями.
Но Пелагея Петровна, неизвестно чего ожидавшая, оказалась недовольна и, получая деньги, назвала свою благодетельницу «скрягой». Это не помешало ей, однако, купить очень хорошенький домик в Коломне, завести в нем меблированные комнаты для приезжающих и время от времени продавать драгоценности большой стоимости. Конечно, никому и в голову не приходило изумляться тому, каким это образом генеральша подарила компаньонке так много драгоценных вещей из замечательной родовой коллекции…
Не прошло и полгода со смерти генеральши, как все ее старшие воспитанницы нашли себе женихов и вышли замуж. В доме осталась одна Машенька да князь Еспер.
Машенька теперь была уже почти взрослая, ей было около шестнадцати лет. Она вышла хорошенькая, полная, белая, румяная, с живыми глазами. Она все так же смеялась, так же шалила и никак не могла подумать ни о чем серьезном.
Между тем здоровье Сергея Борисовича Горбатова после полугода житья в Чите так вдруг испортилось, что и Татьяна Владимировна и Борис с Ниной встревожились не на шутку и решено было возвращение Горбатовых в Россию. С ними вместе поехала и княгиня, для того, чтобы принять наследство после матери, побывать в своем имении, устроить дела и непременно вернуться опять в Сибирь.
Получив известие о скором приезде княгини, князь Еспер тотчас же стал собираться к себе в деревню, но прежде чем окончательно принять это решение, он позвал к себе Машеньку. Он продолжал давать ей уроки и очень с ней подружился в последнее время.
Машенька не заставила себя ждать, прилетела к нему в мезонин и, сделавши очень грациозный книксен, спросила его, чего ему от нее угодно.
На этот раз князь был как-то особенно наряден, раздушен, и коки его были подвиты самым тщательным образом. Он сладко улыбнулся Машеньке и поманил ее к себе пальцем.
— Мне хотелось поговорить с тобою, душечка, пойди-ка сюда!
Он привлек ее к себе и посадил на колени.
— Что вы, что вы? Маленькая разве я, что у вас на коленях сидеть стану!.. Да я ноги-то вам все отдавлю, князенька!
Но он не отпускал ее.
— Не отдавишь, милочка, не отдавишь…
Тогда она не стала церемониться и преспокойно уселась.
— Ну-с, князенька, я слушаю.
— Скажи мне, плутовочка, думала ли ты о том, как теперь жить будешь? Сестрица вот умерла, подруги твои вышли замуж, у тебя никого родных нет, княгиня приедет да и опять уедет, в Сибирь она тебя не возьмет с собой, этого нельзя…
— Да я бы в Сибирь и сама не поехала, ни за что бы не поехала, — решительно сказала Машенька.
— Ну, так вот то-то… Подумала ли ты, как теперь устроишься?
— Не думала я об этом, князенька, ей-Богу, не думала.
— Так я и знал и за тебя подумал… Хочешь быть моей воспитанницей, моей дочкой? А я буду тебе папашей?..
Машенька взглянула на него и засмеялась. Ей ужасно захотелось дернуть его за ус.
— Что же, я ничего… хочу! — проговорила она и при этом очень мило стала болтать ногами.
Князь так и расцвел.
— Так ты меня немножко любишь?
— Конечно, люблю, вы добрый.
— Ну, поцелуй!
Она громко чмокнула его в гладко выбритую, надушенную щеку.
— Так, значит… так, значит… собирайся! Мы поедем с тобою ко мне в деревню… У меня там хорошо, вот увидишь, а я, добрый папаша, баловать тебя буду.
Он еще раз крепко и нежно ее обнял и поцеловал, а потом, в доказательство искренности своих слов, подарил ей прекрасной розовой материи на платье и очень хорошенькое колечко.
Машенька целовала нового папашу, была весела, довольна, считала себя самой что ни на есть счастливой, и если бы кто-нибудь сказал ей, что она, напротив, очень несчастна — она бы только, по своему обыкновению, фыркнула такому человеку в лицо и сделала бы ему какую-нибудь гримаску.
Но ей некому было сказать это.
До приезда княгини она с папашей уже катила в его деревню.
Горбатовы вернулись в свой старый дом и почувствовали, что и они стары. Путешествие в Сибирь и обратно их очень утомило, но все же они не оставляли мысль об его повторении. Их снова тянуло туда, в эту далекую глушь, в эту новую, странную жизнь, которая издали представлялась такой мрачной, а между тем явилась перед ними, к великому их счастью, совсем не тем, чем они ожидали.
Их тянуло к дорогим двум существам, которых они теперь в своем сердце соединили воедино с сознанием, что эти два соединенные воедино существа для них дороже всего на свете. Здесь, в этом старом, великолепном доме были и другие близкие им существа, но несчастье было не там, а именно здесь…
И Сергею Борисовичу, и Татьяне Владимировне было тяжело в этих роскошных чертогах. Владимир, несмотря на то, что, очевидно, много думал о том, как бы угодить им, все же казался им не прежним, казался каким-то странным.
Он, действительно, изменился, похудел, часто был мрачен. Иногда по целым дням от него нельзя было добиться слова.
А Катрин? Даже Сергей Борисович не находил в себе прежней к ней нежности. Что же касается Татьяны Владимировны, она делала над собою большие усилия, чтобы сохранить с нею хоть для вида родственные отношения…
Дети — два мальчика… бабушка любила их горячо, от всего сердца, она много о них думала с тоскою и мучением и не иначе называла их мысленно, как несчастными детьми… Эти дети только и удерживали ее в Петербурге, и с первыми весенними днями она увезла их в Горбатовское, так как в этом году нечего было и думать о поездке в Сибирь. Сергею Борисовичу, по мнению всех лучших докторов, нужно было хорошенько полечиться летом в деревне, а там дальше — видно будет.
Княгиня возвратилась в Читу одна. Она застала там все по-прежнему. И Борис, и Нина были по-прежнему терпеливы и довольны судьбою. Они показались ей даже еще более спокойными, еще более просветленными.
И так было в действительности. Первый период их жизни кончился, период исканий, мечтаний, период отдаления от земли и порыва к небу, которое все же оказывалось недостижимым.
Начался второй период их жизни: они вернулись на землю и полюбили эту землю, не забывая о небе, и нашли на ней все счастье, какое только она может дать своим детям. Им дорого далось это счастье, но ведь только то счастье прочно и истинно, которое достигается путем испытаний, путем борьбы, которое покупается дорогой ценою.
1883
1
Послушайте, дорогая (фр.).
(обратно)2
Щеголь (фр.).
(обратно)3
У меня нет денег (фр.).
(обратно)4
Примите мои поздравления, мой дорогой, будьте счастливы — я желаю вам это от всего сердца (фр.).
(обратно)5
Увеселительной прогулке (фр.).
(обратно)6
Как вы считаете? (фр.).
(обратно)7
Ах, это вы, мой дорогой Ростопчин! (фр.).
(обратно)8
С какой новостью вы пожаловали ко мне? (фр.).
(обратно)9
Будьте любезны следовать за мной (фр.).
(обратно)10
Ах, какой же это важный момент для вас, ваше высочество (фр.).
(обратно)11
Погодите, дорогой мой, погодите. Я прожил сорок два года. Бог меня поддерживал; быть может, он даст мне силы и разума снести Божье предназначение. Будем надеяться на его доброту… (фр.).
(обратно)12
Пусть погибнет мир, но да свершится правосудие (лат.).
(обратно)13
Прибор (или сервиз) для завтрака (фр.).
(обратно)14
Здесь Державин подразумевал архангела Михаила.
(обратно)




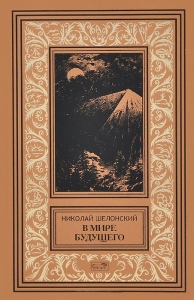


Комментарии к книге «Волтерьянец. Часть вторая. Старый дом», Всеволод Сергеевич Соловьев
Всего 0 комментариев