Андрей Турбин, Игорь Свеженцев АВАНТЮРИСТЫ Романъ
Часть первая РАЗБОЙНИЧИЙ КЛАД
Глава первая ДОБРЫЙ БАРИН
«Честные господа,
Пожалуйте сюда!
Милости просим,
Денег не спросим –
Даром смотри,
Только хорошенько очки протри».
(П. А. Федотов)«Конечно, многим не по вкусу,
Такой безбожный сорванец,
Хоть и не верит он Иисусу,
Но, право, добрый молодец!»
(А. И. Полежаев)— А вот леденчики, конфекты сахарныя, коврижки галантския, жамочки медовыя, зело свежайшия! Как куснешь — враз уснешь, а как вскочишь, опять захочешь!
— Пирожков сведайте, барин! Пирожки с вязигой, с икоркой страханской, не изволите ли?
— А вот сбитень первостатейный! Не угодно ли, баринок?
— Спробуйте, сбитень у нас гламнейший, инбирной — козырной!
Барин смеется, машет рукой, достает лаковую тавлинку, запускает в нее щепоть и с удовольствием заряжает в обе, нюхает ядреный турецкий табак — тюмбеку. Оглушительно чихает, в голубых глазах его дрожат слезы, затем обнажает в улыбке крепкие, белые, словно молодая редька, зубы и вновь выступает вперед слегка косолапой, но уверенной походкой. Весь из себя плотный, вихрастый. На голове картуз, сидящий, однако, несколько набекрень. Крепкая фигура вдета в легкий, немного мешковато сидящий на ней гороховый сюртук с нехитрой, слегка потертой бархатной оторочкой.
Хороший барин, простой, и, по всему видать, нежадный: нищенке убогой копеечку кинул, не побрезговал. У немца-оружейника старый штуцер взял, в руках повертел, приценился.
Покалякал о чем-то с полутрезвым шкипером видавшей виды, изрядно потрепанной шхуны, пока, наконец, не торгуясь, купил у того ржавый увесистый старинный секстант.
Что и говорить, презанятный барин: уже не молодой, но, что называется, в расцвете лет.
Сергею Валериановичу Нарышкину — а именно так зовут доброго барина, отставного поручика — всегда нравилось приходить сюда, в порт на Стрелку Васильевского острова. Ему доставляло удовольствие потолкаться на шумной разноголосой ярмарке, что бурлила, клокотала в тесном пространстве между причалами и зданием биржи.
Над водой мерно колыхались рощи корабельных мачт с причудливо переплетенной паутиной снастей. Бушприты кораблей, наваливаясь на гранитные блоки невской набережной, утыкались в горы тюков, бочек и ящиков с выгруженным товаром.
Не только купцы, но и матросы вели здесь бойкую торговлю разнообразной добычей своих заморских «набегов». Предлагали недорого купить норвежскую сельдь и лобстеров, настоящие парижские духи и вина Шампани, моржовую кость и коралловые бусы, дамасские клинки и последние оружейные новинки германских «кухенрейтеров». Тут можно было прицениться к срамным акварелям из страны восходящего солнца или полакомиться ягодами, собранными по берегам комариных озер трудолюбивыми чухонцами.
Словом, здесь было на что посмотреть.
Свежий ветер гонял по мутно-голубому небу перья облаков и разводил крупную зыбь на Невском рейде, где кивали мачтами десятки лайб. Между ними неспешно скользили прогулочные катера, взад-вперед сновали юркие лодчонки перевозчиков. У причалов степенно швартовались громоздкие плавучие садки с живой рыбой и пузатые баржи с дровами, кирпичом, тесом и белым мрамором. Неспешно, дымя трубой, прошлепал лопастями гребных колес пароход, идущий по расписанию в Кронштадт, стремительно пронеслась по направлению к Адмиралтейству вся в жемчужных брызгах пены красавица-яхта.
Нарышкин сладко зевнул, удовлетворенно оглядывая панораму Невы, Монферанов собор, Дворцовую набережную и сверкающую иглу Петропавловского шпиля, с удовольствием вдохнул сырой запах большой реки, мокрой парусины, просмоленного такелажа, и самого этого белесого Петербургского воздуха.
Он потолкался еще немного среди народа, зачем не зная сам, сторговал у хитрована-купчины в засаленной суконной чуйке отрез материи, но потом передумал. Купил у рябой новгородской бабы поджаристую сайку и, переложив сверток с секстантом под мышку, с аппетитом съел ее. После чего, насвистывая модную арию, взял перевозчика за четыре копейки — через Неву до Дворцовой набережной; перед этим, однако, оглядев судно, на котором предполагал пуститься вплавь.
— Как называется сия чудесная гондола? — осведомился он у перевозчика — нескладного губастого малого в грязноватой валяной шапке и мерлушковой поддевке.
Малый долго напряженно смотрел куда-то в небо, слегка поводя губами, не издавая, однако, ни звука. В прозрачных глазах его пробегали облака. Затем, наконец сообразив смысл вопроса, ковырнул в носу и ответил с легким почтением:
— Известно, барин, как называется…
Надолго теперь уже умолкнув, он принялся считать поданные ему копейки, разглядывая каждую и так, и эдак на ладони.
Барин еще раз с сомнением оглядел утлый челн.
— Должно быть, не один год сооружал ты свой ковчег? Как называется эта лохань — камяга? Долбленка? Ты смотри все же, не вздумай меня выкупать!
С этими словами он влез-таки в лодку, изрядно раскачав ее.
— Нешто мы без понятия? — прошлепал губами перевозчик. — Как же можно, чтоб выкупать?!
Малый положил деньги за щеку и порывистыми гребками направил лодку к Дворцовой набережной. На середине реки, однако, все же выкупал, окатив Нарышкина с ног до головы холодной невской водой. На что благовоспитанный с виду барин немедленно обнаружил недюжинное знакомство с богатым простонародным русским лексиконом, предъявив незадачливому гондольеру такой матерный загиб, что тот, краснея, округлил бесцветные глаза, и опять беззвучно зашлепал губами.
Наконец пристали к Дворцовой. Нарышкин как смог выжал мокрое платье и отвесил хорошего тумака доморощенному Харону, отчего у того зазвенело во рту. Хотел даже отнять четыре копейки, но перевозчик крепко сжимал челюсти, молча свистел носом и хмуро глядел себе под ноги.
Помрачневший разом барин пробурчал что-то о подмоченной репутации, выругал напоследок лодочника и отпустил его наконец восвояси.
На променаде Дворцовой набережной майский ветер, казавшийся дотоле приятным, неожиданно обжег тело под вымокшим сюртуком.
Нарышкин поежился, оглядел свой разом увядший костюм. Настроение его падало с каждым порывом ветра.
— Ну как в таком виде показаться на Невском? Пожалуй, станут еще насмешничать! Черт, да и зябко! Зайти, что ли, выпить рюмку водки?
Эта мысль несколько согрела нашего героя, он бодрее зашагал вдоль набережной и даже скроил физиономию молодой даме, которая волочила за собой коротко стриженного пуделька.
Дама вздернула носик, надула губками презрительное «фи», отворотила личико и потащила упирающегося пуделя далее.
Сергей ускорил шаг… и едва успел увернуться от стремительно несущейся цугом запряженной четверки вороных красавцев. Черная карета промчалась мимо, едва не задев его. Лица кучера Нарышкин разглядеть не успел… На окнах экипажа — темные шторы. Герба на дверце, кажется, нет… Лакеев на запятках тоже не видать… («Ишь ты, а катит, будто важная персона!»)
Нарышкин в очередной уже раз выругался:
— Вот ведь несется окаянный! Чешет по Невскому так, точно он один в целом свете!
«Добрый барин» с ненавистью посмотрел вслед удаляющемуся экипажу… День начинался скверно. Сергей хмуро поежился, прошел немного далее по проспекту, нырнул под Эрмитажную арку и двинулся вдоль Зимней канавки.
Здесь уже не так дуло, и можно было перевести едва ли не закоченевший дух, подумать, куда направить стопы.
…Внезапно озябший герой наш был окликнут неким щеголем, который, поигрывая дорогой тростью, неспешно фланировал по направлению к Неве.
— Сергей, Сережа! Нарышкин, ты ли это?!
— Левушка? Трещинский! Неужто ты? Вот так встреча!
Нарышкин немедля заключил щеголя в дружеские объятия, из которых тот некоторое время пытался высвободиться, выронив из рук трость.
— Экий ты, брат, однако, мокрый! Ты что же это купаться надумал, — отстранившись, проговорил Трещинский, оглядывая облепленную промокшим сукном крепкую фигуру приятеля. — Все такой же ведмедь! Здоровый, чертяка!
Трещинский поднял слетевший на мостовую цилиндр.
— Да тут вышла одна оказия! — оправдывался Нарышкин. — Перевозчик, каналья, едва не потопил… Лева, «товарищ в битвах поседелый», ты-то какими судьбами?
Трещинский выдержал эффектную паузу, во время которой друг его, отступив несколько назад, смог полюбоваться новеньким, что называется «с иголочки» элегантным фраком «От Ворта» и широким открытым плащом с бобровой оторочкой.
— Однако, каким ты, Лева, коварщиком заделался! — с легкой завистью причмокнул Нарышкин, удовлетворившись осмотром статного франта.
— Да уж, не то что ты, гунька кабацкая! — засмеялся Трещинский и покровительственно хлопнул приятеля по плечу.
— Кстати, почему бы нам не отметить встречу и не хлопнуть по рюмашке кларета? Сейчас адмиральский час, а я вчера большой шлем в покер сорвал, так что угощаю. Тем более, что ты, mon ami, выглядишь почти как утопленник! Я тут, Сережа, одну недурную штофную лавку неподалеку знаю… Ну, двинем? — приятель мягко, но настойчиво подхватил Нарышкина под мокрый локоть и устремился вперед.
— Ты знал, чем меня взять, старый негодяй, — только и смог сказать Сергей.
«Недурной штофной лавкой» оказался «Демутов трактир» на Мойке, и хотя заведение действительно находилось недалеко, Нарышкину показалось, что пришлось-таки порядком протащиться до этой, пожалуй, самой известной Петербургской гостиницы. Извозчиков по дороге не попалось ни одного, только ломовые, а разговор со старым приятелем без рюмки как-то не клеился. Кроме того, небо неожиданно, как часто случается в граде Петра, подернулось мутной поволокой. Из нее стал сеяться мелкий, но холодный не по времени и противный дождик, так что и без того продрогший Сергей с плохо скрываемой завистью смотрел на сухой плащ приятеля.
Наконец дотопали до места. Усатый швейцар на входе неодобрительно покосился на утративший формы партикулярный сюртук Нарышкина. Сергей тихо выругался про себя.
— Вот понесла нелегкая, — подумал он. — Сидел бы сейчас дома, в тепле, пил пшеничную…
— Ничего, Сережа, не тушуйся своим видом, поднимемся ко мне. Я ведь тут в четвертом этаже комнаты снимаю.
— Что ж ты сразу не сказал, дурака валял!
— Так ведь ты, пожалуй, не пошел бы?
— Высоко забрался! — неодобрительно посопел Нарышкин, когда они поднимались по широкой каменной лестнице.
— Наводнений боюсь! — коротко усмехнулся Трещинский.
— Я в том смысле, что ты, поди, уж до титулярного дослужился?
— Бери выше! — с удовольствием произнес Левушка, устремив вверх холеный указательный палец с перстнем, на котором тревожно сверкнул кровавого цвета камушек.
— Неужели коллежский асессор? — присвистнул Нарышкин.
— Советник, — поправил Левушка. — А что, не по зубам кус?
Левушка рассмеялся и громко, по-хозяйски постучал тростью в дверь номера.
Открыл дверь пожилой тучный лакей в богатой ливрее, наполовину состоявший, казалось, из лысины и огромных бакенбард, напыщенный и важный, как генерал-губернатор.
— Это мой Алексис! — сообщил Трещинский.
Алексис театрально поклонился, колыхнув развесистыми баками.
— Распорядись, голубчик, насчет обеда. Да, и чтобы эти канальи не вздумали подавать всякую chavogne, ты уж проследи.
— Что, Сережа, будешь пить?
— Водку, — коротко сообщил Нарышкин. По губам Алексиса пробежала едва заметная дрожь ухмылки.
— Конечно, как я мог позабыть! — широко улыбнулся Трещинский.
— Ну, входи, брат, не церемонься!
Номер, который снимал Левушка, оказался хорошо и со вкусом обставленными апартаментами, состоящими из трех не очень больших, однако довольно вместительных комнат. Здесь располагались удобные кресла, камин с экраном, украшенным затейливой китайской резьбой; под потолок вытянулось зеркало в массивной раме, имелась фисгармония, зелень в кадках, ковры, а на стенах картины а-ля Вернет. В книжном шкафу тускло поблескивали позолотой дорогих переплетов массивные фолианты. Стопки книг возвышались на полу у стен…
— Вот, это моя холостяцкая нора! — Левушка, помахивая рукой, указал на гостиную. — Обжиться толком не успел, извини, я ведь только недавно из Лондона. Кое-что даже не распаковал еще. К лету, надеюсь, сниму что-нибудь поприличнее. Пожалуй, что и женюсь, чем черт не шутит. Есть у меня на примете одна статс-дама…
— И почем же?
— Кто почем? — не совсем понял Трещинский.
— Почем хоромы твои, говорю? — Нарышкин кивнул в сторону фисгармонии.
— Радужную бумажку ассигнацией выкладывать приходится, с полуулыбкой вздохнул Левушка.
— Сто рублей? В месяц?
— В неделю!
— Ну да! — Нарышкин, в который раз присвистнул.
— И, кроме того, по три рубли за воду, — с деланным негодованием пожаловался Трещинский.
— Ай-яй-яй! Тогда непременно женись.
В глазах у Нарышкина заплясали злые искорки.
— А ты знаешь, ведь тут в десятом номере литератор Пушкин проживал, — сказал почему-то Левушка.
— Пушкин? — Нарышкин принялся разглядывать фикус. — Пушкин, это хорошо… А вот со мной в одном доме, Лева, на Мещанской улице жил купец Сила Тимофеевич Завынкин. В стихах он, правда, не силен был, зато на Пасху, говорят, мог за один присест съесть четверть пуда икры и выпить полведра пшеничной водки. Да только как-то раз поросенком молодым понатужился — кость в горле и застряла…Так он, раб божий, и помре, царствие ему небесное!
На этом месте разговор был прерван. В дверь осторожно втиснулась физиономия Алексиса:
— Там, сударь, Вас спрашивают. Ну, этот… который немчин. Третий раз на дню заходят. Что прикажете передать?
Левушка поморщился:
— Экий, настырный, однако! Погоди, я к нему выйду. Все одно ведь не отстанет!
Трещинский вышел в переднюю и некоторое время не возвращался. Сергей с тоской оглядывал обстановку «норы». В животе неприятно ворчало.
Левушка вернулся, посмеиваясь. Представь себе, какой дурень этот немец — мой визитер! — Уже неделю ходит за мной по пятам, просит уступить ему одно редкое издание «Илиады». Этот сумасшедший колбасник просто бредит античной Грецией! Мечтает, знаешь ли, разыскать легендарную Трою…Ах, Итака, ах Гектор, ах Телемак! — Трещинский подкатил глаза к потолку и скривил рот ижицей. — Должно быть, он и нужду справляет, не расставаясь с томиком Гомера…Однако, при этом скуп как старый еврей. А за копейку так и вовсе — отца родного продаст… — Левушка усмехнулся. — Какой все-таки болван этот Генрих Шлиман! Черта лысого он найдет, а не свою Трою!
Посмеиваясь и похрустывая костяшками тонких пальцев, он прошелся по комнате.
— Книги, я гляжу, у тебя… Дорогие, поди! — Нарышкин кивнул на стопки с фолиантами. — Почитываешь?
— Скорее, коллекционирую. У меня тут есть Апулей. Можно сказать, уникальное издание… Записки Герберштейна и Олеария… Ну, да тебя, друг мой, все это, пожалуй, не заинтересует…
— Нет, отчего же очень любопытно! — Сергей с трудом подавил зевок.
Трещинский усмехнулся краешками тонких губ. Положение спасло явление Алексиса, который вместе с коридорным внес плотно уставленные всяческой снедью подносы.
— «Ну, вот уж полдень, в светлой зале Весельем круглый стол накрыт, Хлеб-соль на чистом покрывале, Дымятся щи, вино в бокале, И щука в скатерти лежит…»,— с притворным пафосом продекламировал Левушка и хлопнул в ладоши.
— Нуте-с, усаживайся, Сережа, к камельку да сними свой сюртук, пусть просохнет.
— Смотри-ка, действительно щи, — одобрительно крякнул Нарышкин, но потянулся к прозрачному, запотевшему графину. — А это что тут такое? Что это, Алексис?
— Водка на смородиновом листу, извольте-с испробовать, — важно тряхнув баками, ответствовал лакей.
— Прекрасно, — потер ладони Нарышкин. — Ну, что? Запорошим память, как у нас говорят.
— Листовка здесь изумительно хороша. Отведай, Сережа, не побрезгуй.
Лакей с помощью коридорного подвинул стол ближе к огню. В бутылках сразу засверкал лафит, заиграло, заискрилось клико.
— Что у нас тут еще? Чем разговляться будем? — наливая рюмочку Нарышкину, осведомился Левушка.
— Растбиф, — осанисто и с ударением на «а» произнес Алексис, указав на блюдо, — паштет Страсбургский, стюдень свиной, балычок макарьевский, сельдь в сметане, грибки маринованные…
— А что это так… амбре, — Нарышкин, слегка поморщившись, потянул ноздрями воздух.
— Сыр Лимбургский, острый! — чинно объявил Алексис.
— Убери, пожалуй. Резковат, — кивнул на тарелку с сыром Трещинский. Он сунул коридорному монетку и отослал обоих.
— Ты уж меня, Лева, извини… — Нарышкин порывисто взял рюмку и метнул ее содержимое себе в рот. — Ждать нет никакой возможности, — добавил он сдавленным голосом. — Хороша и впрямь. Пожалуй, и повторить можно…
Выпили, теперь уже по всем правилам, за встречу старинных приятелей. Нарышкин — листовую, а Лева — бокал лафиту, после чего приналегли на еду. Собственно, усердствовал один Нарышкин, он уписывал за обе щеки и ростбиф, и паштет, и студень; ел так, как едят проголодавшиеся люди с хорошим аппетитом и явной склонностью к эпикурейству. Трещинский же, напротив, вяло клюнул того, сего и, наконец, придвинув кресло ближе к огню, достал сигару.
— Чем изволишь заниматься? — спросил он, томно вытягиваясь и выпуская ароматное облако дыма.
— Балбесничаю, — жуя, ответил Нарышкин. Он налил себе еще рюмку, благостно жмурясь, ткнул вилкой в сельдь, поднес к носу, понюхал, как нюхал дотоле табак. Выпил, закусил, крякнул от удовольствия и полез за грибками.
— Ведмедь, — засмеялся Левушка. — Никакого изящества! Манеры у тебя все те же, друг мой.
— Так ты, говоришь, жениться надумал? Что ж, хорошее дело. Чай, много приданого дадут? — набивая рот грибами и пропуская шпильку мимо ушей, спросил Нарышкин.
— Ну, я думаю, тысченку-другую душ, дадут… — Трещинский, выпуская облака дыма, казалось, задумчиво смотрел на огонь. — К тому же именье да лес строевой…
— Силен! — констатировал Нарышкин и навалил себе паштету. — А я, Лева, в отставку вышел. Надоело хуже редьки. Теперь, вот, бью баклуши. Ну, за твое здоровье, господин коллежский советник!
— А ты жениться не собираешься, Сережа? — все так же глядя в огонь, спросил Трещинский.
Нарышкин едва не подавился балыком.
— Ну уж нет, добродзею, мне еще в петлю рановато. Я, любезный пан, еще пожить хочу! Сперваначалу, после того, как в отставку вышел, тоска начала одолевать. Покойной жизни захотелось. Сопли распустил… чуть было предложение не сделал одной бельфам. Все обхожденье строил. Бланманже, понимаешь, и все такое. Спасибо, Бог отвел! — Нарышкин размашисто перекрестился. — Видение мне было, Левушка. Как сейчас вижу — будто спустился ко мне ангел о двух крылах, весь из себя, как водится, белый и даже как бы немного светится. Словно ему, Лева, свечу негасимую кто в зад вставил. И вещает он мне это так, знаешь, повелительно. Что, говорит, раб божий Сергей Валерианович, никак ты, дурень этакий, жизнь свою младую, непутевую решил узами брака повязать?
Нарышкин приязненно покосился на графин с водкой:
— Уж, больно листовая хороша… не обманул камердинер твой.
— Ну и что же дальше-то? — смеясь, спросил Трещинский.
— А дальше он мне и говорит, ангел, значит: брось ты эту затею, Сергей Валерианович, не губи себя раньше времени, поживи еще малость как нормальный человек. А коли тебе, друг сердешный, неймется, так поезжай к актрискам или других каких барышень подешевле ангажируй. Авось и перебесишься. А жениться тебе, говорит, никак нельзя, потому как ветры у тебя еще в голове, да и не по карману. Сказал так и упорхнул в окошко. И нашло тут на меня просветление. Нет, думаю, шалишь! Сережа Нарышкин голыми руками взять себя не позволит. И вот хожу я с тех пор, Лева, холостой и благостный. Так-то вот! Ну, давай за тебя, гостеприимный хозяин!
— Ведмедь! Сущий ведмедь! — Трещинский, отсмеявшись, утер шелковым платком выступившие слезы. — Ох, и позабавил, брат, рассмешил до коликов! Плесни и мне, пожалуй.
— В имение давно не заглядывал? — спросил Левушка, внимательно глядя в бокал.
— Года три как не был, — Сергей посерьезнел и нахмурился. — Конечно, надо бы съездить, могилу родителей навестить… Свинья я, свинья!
— Доход-то есть от твоих угодий? — поинтересовался Трещинский.
— Какой там доход! — отмахнулся Нарышкин. — По правде сказать, едва концы с концами свожу. Поди, и дом уже развалился, и хозяйство в упадке. Управляющий, каналья, должно быть, ворует без хозяйского пригляда…
— Так ты продай имение, — усмехнулся Левушка. — Единым махом и дела свои поправишь. Земли у тебя, брат, изрядно. Можно получить хорошую цену!
— Как «продай»? — не понял Сергей и удивленно посмотрел на приятеля. — Кому?
— А хотя бы и мне! — Трещинский был абсолютно серьезен. — Предлагаю тебе продать его мне. А уж я тебя, Серж, не обижу, дам хороших денег!
— Постой, да тебе-то оно к чему? Ты ведь все больше по заграницам обретаешься…
— Ну, как знать, может и сгодится. — Левушка хитровато прищурился. — Лишний клок земли еще никому не мешал. При надлежащей постановке аграрного дела на западный манер, думается мне, можно и из твоих угодий прок извлечь…
— Нет, брат, что-то ты финтишь! — недоверчиво поежился Нарышкин, изучающе глядя на приятеля.
— Ну так продашь? — напирал Левушка.
— Нет, Лева, не выйдет, — серьезно сказал Сергей. — Это ведь не просто клок земли! А как же могила моих стариков? Они ведь в этой самой земле лежат… И потом, там ведь детство мое сопливое прошло, юность… первая влюбленность… в Вареньку Оленину! — Нарышкин улыбнулся и хлопнул себя по лбу. — Как же я по ней страдал! Боже, какой я тогда дурень был, ты даже не представляешь!
— Отчего же, — ухмыльнулся Левушка, — нетрудно представить.
— Я ведь из-за нее даже стреляться хотел с одним заезжим гусаром, — пропустив колкость приятеля мимо ушей, воскликнул Нарышкин. — Хорош был бы я на той дуэли! Мне ведь тогда едва пятнадцать исполнилось, а гусар почти вдвое старше был! Ведь он, пожалуй, нашпиговал бы меня свинцом, как рождественского гуся — черносливом. — Сергей весело рассмеялся.
— Значит, не продашь? — задумчиво пробормотал Трещинский и залпом осушил свой бокал. — Что ж, так я и думал…
Возникла неловкая пауза. Стало слышно, как борется со стеклом упорная весенняя муха.
— Ну ладно, делу время, а потехе час, теперь и ты меня позабавь, — Нарышкин плеснул лафиту в бокал Трещинского и, отстранив опустевший графин, налил себе клико в кофейную чашку. — Ведь мы с тобой, Лева, когда с Кавказа в Петербург возвратились да промотались хорошенько, бедны были оба, как канцелярские крысы… И вдруг, о чудо! Мой приятель, с которым мы вместе всю кампанию за царя и Отечество пулям не кланялись, теперь в таком завидном положении пребывает! — Нарышкин залпом проглотил вино. — Какую все-таки ты дрянь, Лева, потребляешь! Вели за водкой послать. Не могу я этот киндербальзам выносить…
— Будет, Сережа, — усмехнулся Трещинский — Тебе и ведра мало.
— И все-таки, Левушка, поделись секретом, как же ты так быстро до советника допрыгнул, за какие такие заслуги в этаких чинах обретаешься?
Трещинский, уже слегка раскрасневшийся от вина и жара камина, повертел бокал в ладонях.
— Ну что же, Серж, кому бы другому нипочем не сказал, однако тебе расскажу. История эта весьма нетривиальна, однако мне бы не хотелось злоупотреблять твоей… толерантностью…
— Хватит, Лева, trop beo coup, так кажется, говорят французы. Переходи к делу и дай мне хотя бы коньяку, что ли? Есть у тебя коньяк?
Коньяк нашелся, Трещинский отпил из бокала и вполголоса продолжил рассказ:
— Ты, Сережа, разумеется, немного знаком с историей моей бедной Родины, я имею в виду Польшу. Такие фамилии, как Вишневецкие, Конецпольские, Чарторыжские, Калиновские, тебе все-таки о чем-то говорят? Не правда ли?
— Ну, допустим, — Нарышкин отхлебнул коньяку.
— А ты знаешь, что, пожалуй, каждый поляк в душе желал бы видеть Польшу независимой, великой державой, как это некогда и было — «от можа до можа», и есть такие, которые готовы употребить для этого все имеющиеся средства. А средства, я скажу тебе, есть и немалые. Хотя бы у потомков тех знаменитых фамилий, которые я тут тебе только что называл.
— Лева, это же заговор какой-то?! — Нарышкину стало как-то не по себе.
— Не спеши делать выводы, мой друг, я же понимаю, что плетью обуха не перешибешь. Да и, если помнишь, я в прошлом — русский офицер, присягу давал. …Вышло так, что случилось мне быть наездом в Кракове. Были у меня там кой-какие дела… — Левушка многозначительно усмехнулся. — И вот, вообрази себе, совершенно неожиданно меня навестили поверенные одного моего дальнего родственника и сказали, что он желает меня видеть. Для меня это была неожиданность, так как я полагал, что родни у меня уже нет ни по эту, ни по ту сторону границы. Любопытный оказался старикан, этот мой родственник! Из породы книжных червей… Собирал уникальные документы, рукописи… — Левушка слегка кивнул головой на стопки книжных раритетов и продолжал.
— Я постарался приглянуться старику, показал, что наши взгляды на судьбу Польши во многом сходятся, и тот вскоре проникся ко мне доверием. Более того, он предложил использовать часть своих фамильных драгоценностей в деле освобождения нашей Родины, — здесь Трещинский сделал эффектную паузу и залпом выпил коньяку.
— И ты согласился? — Нарышкин даже слегка протрезвел.
— Разумеется, мой друг. А как бы ты поступил на моем месте? Такого богатства, которым мне предложил распоряжаться старик Калиновский, я отродясь в руках не держал. У меня, разумеется, был план употребить эти средства исключительно на политические цели и, конечно же, с пользой для моего бедного отечества, но тут старикан благополучно почил в бозе, будучи, вероятно, уверенным, что дело всей его жизни в надежных руках. Стоит ли говорить, что я тут же бросил всю эту затею с освобождением Польши, — Трещинский зашелся суховатым недобрым смехом. — Не суди меня строго, друг мой. Я очень сильно нуждался в деньгах. Тебе ли не знать. И тут вдруг такой куш! Я думаю, многие на моем месте поступили бы точно так же. Золото и камни я продал отчасти там же, в Кракове, отчасти в Москве. Разумеется, кое-что я потерял на этом, но все же это были деньги, притом деньги для меня весьма приличные. Как оказалось, с этими средствами я могу добиться очень многого. Я расплатился с кредиторами, купил приличный выезд, оплатил несколько банкетов и приобрел влиятельных друзей. Вскоре, друг мой, я был удивлен, видя, как быстро находятся нужные связи и покровители обоего пола, и, веришь ли, я стал стремительно продвигаться по службе. Вот как круто во всех смыслах изменилась моя жизнь.
— Вот, значит, как. Раз — и в дамках! — Нарышкин встал и подошел к окну.
— Разумеется, Серж, я надеюсь на твою порядочность, — с легкой усмешкой проговорил Левушка.
— В моей порядочности, господин Трещинский, Вы можете не сомневаться, — Сергей вгляделся в белесую муть по ту сторону стекла. На душе у него стало муторно — о ли от выпитого коньяка, то ли от услышанного рассказа. Цинизм Левушки неприятно коробил, однако стремительность взлета его вверх по лестнице, ведущей к достатку, вызывала зависть. И хотя вообще-то Сергей считал себя человеком независтливым, теперь он испытывал именно это чувство.
— Значит, вот оно как богатство достается…
— Да какое там богатство! Взлетевши этак вот вверх, мне теперь все новые и новые расходы требуются. Те деньги (Трещинский сделал ударение на «те») уже закончились.
— Ну, так ты же, верно, служишь где-нибудь? Поди, хорошее жалование получаешь?
— Нет, брат ты мой, после того, как я мое неожиданное наследство в руках погрел, мне теперь нелегко сюртуки в кабинетах протирать да бумаги казенные перекладывать. Душа иного простора требует, а выше титулярного мне не подняться. И так не по возрасту чин. Начнут еще чего доброго интересоваться… Я ведь для них — выскочка, полячишка, — Трещинский криво усмехнулся.
Нарышкин отметил про себя, что напускная барственность уже порядком слетела с его приятеля.
«Ну и поделом, я ведь тебя за язык не тянул», — подумал он.
— Разумеется, Сережа, существуют такие понятия, как «честь», «достоинство» и тому подобные вещи, но в этой стране, где все покупается и продается, где общество состоит из рангов, нумеров и классов, человеку в моем положении подняться вверх можно только либо воруя, либо угодничая и давая взятки! — Трещинский разволновался и говорил уже в полный голос.
— Можно еще удачно жениться …
— Да, черт возьми, и жениться! — Трещинский почти кричал. — Я не стал бы говорить с тобою об этом, открывать тебе душу, если бы не знал тебя как человека в целом порядочного!
— Подлить еще коньяку? — осторожно поинтересовался Нарышкин.
— Подлей, пожалуй! — Левушка схватил бокал и нервно заходил по квартире.
— Да, я немного поднялся в этой табели о рангах… и понял, что задыхаюсь среди чинопочитания и раболепства.
— Эк тебя понесло, Лева! Ты уж лучше умерь ажиотацию.
— Нарышкин, как ты не понимаешь, мир — он шире, чем казенный коридор. А мы сидим здесь, в этих болотах, и думаем, что жизнь укладывается в четырнадцать чиновничьих классов! А что мы видим, Сережа? Серость, чуланы, вот эти каморки, (Трещинский пнул ногой кресло), плац-парады, скуку во всем и вот эту морось на улице!
— Тебе и впрямь жениться пора. При такой хандре только хорошее приданое поможет. Хотя, конечно, насчет каморки это ты погорячился. Ты моей конуры не видал…
— К черту все! В Париж… вот место! Folies Dramatigues, бульвары, Люксембургский сад… Ты бывал в саду? А какие актрисы, bon Dyeu! Не чета здешним Петербургским курицам! — Левушка брезгливо поморщился. — А в Лондоне ты бывал? Нет? Напрасно… Это, скажу я тебе, брат Нарышкин, город! Я туда, кстати, ездил не так давно за одним весьма любопытным документом… — Трещинский странно ухмыльнулся и, прищурившись, посмотрел на Сергея. — Документ этот — мемуары одного англичанина. В годы царствования Ивана Грозного ему довелось быть послом в Московию…
— Дела давно минувших дней, — запивая очередной зевок, откликнулся Нарышкин.
— Это верно… С той поры много воды утекло. Однако англичанин этот оставил после себя один очень интересный список.
— И что в нем такого интересного?
Трещинский сходил в соседнюю комнату, пробыл там некоторое время и вернулся, держа в руках стопку пожелтевших исписанных листков. Аккуратно перетасовал их, находя нужную страницу.
— Ты ведь, насколько я помню, не силен в английском?
Нарышкин мрачно кивнул.
— Стало быть, тебе придется верить мне на слово!
Левушка осторожно повел по листкам холеным длинным перстом:
— Это, Сережа, список авторов и книг из библиотеки Ивана Грозного!
Сие сообщение, сделанное Трещинским с весьма многозначительным видом, никакого видимого эффекта на Нарышкина не произвело.
— Ну и что? — хмыкнул он. — Я, положим, ученых книжек прочел не так много, но, помнится мне, слышал, что царская библиотека сгорела дотла. Так что ли? Какой толк в этом списке?
— Это верно. Считается, что книги погибли во время пожара Москвы еще в шестнадцатом столетии… — Трещинский ухмыльнулся. — А что, если все-таки часть книг удалось спрятать и сохранить?
— Все это домыслы, Лева! Если бы да кабы!
— И, тем не менее, что, если библиотека не уничтожена? По крайней мере, не вся! — Трещинский, по-прежнему странно ухмыляясь мутноватыми глазами, смотрел на Сергея. — Ведь там могли бы быть весьма любопытные документы, которым цены нет! Всем этим книгам, рукописям… Любая такая книжица из собрания царя Ивана — то сокровище! Не говоря уже о том, что многие экземпляры были в золотых переплетах изумительной работы! Так-то, mon ami!
«Ишь ты, как разговорился, — глядя на Левушку, думал Нарышкин, — глазища-то вытаращил, что твои ведра!».
Он зевнул и пожал плечами:
— Все это сказки, Лева, золотой призрачный дымок! Соломоновы копи, священный Грааль, пропавшая Атлантида… Подобные истории весьма забавляли меня в юности. Тогда мне страшно хотелось послать к черту учение и дать деру в Америку — воевать с индейцами и отыскивать Эльдорадо! Все это — не более чем увлекательные байки, которые приятно послушать на ночь. Странно, что ты, господин коллежский, в них до сих пор веришь. Выходит, что ты со своим давешним немцем — визитером одного поля ягоды. Один до Трои дорыться мечтает, другому книжки царские понадобились! Ну, хорошо, положим, лежат сейчас где-нибудь эти царевы фолианты… Вернее, то, что от них осталось, потому как сгнили уже давно, либо крысам на корм пошли. Но мне-то, Лева, какой с этих басен прок?
— Вот именно, — «где-нибудь»! — Левушка посмотрел на Сергея с явным сожалением. — Эх, ведмедь ты, ведмедь!
Он выпил свой бокал до дна, снова рассмеялся своим резким, сухим, неприятным смешком, а затем как-то сразу перевел разговор в другое русло:
— Эх, брат Нарышкин, то ли дело за границей! Вот взять, к примеру, Лондон! Славное место. Вестминстер, Чипсайд, Тауэр… Та же хмарь, что и здесь, однако не так постыло! А где-то, Сережа, целый мир… Восток… пирамиды… Италия, в конце концов! А кенгуру? Кто из нас может похвастаться, что видел живого кенгуру? Это, знаешь, такое с карманом… — он ухмыльнулся и ткнул пальцем в живот Нарышкина. — Э, брат, да ты, я вижу, жирком подзаплыл! Надо себя держать… Поди, все на диване бока пролеживаешь? А жизнь-то мимо проходит!
Сергей покраснел и, нахохлившись, неприязненно покосился на тонкую талию приятеля, который успел заметно охмелеть. Последнее обстоятельство слегка подняло настроение нашему герою: что-что, а пить Левушка никогда не умел.
— Я хочу всего и сразу! Денег много единым махом загрести… А потом — в Италию, к пирамидам или хоть на тех же кенгуру поглядеть… — Трещинский снова зашелся хриплым смешком. — Видишь, сколько желаний!.. Статс-даму тоже хочу… Впрочем, к чему мне с деньгами эти дешевые потаскушки?! Лучше уж тогда сразу — Шамаханскую царицу!
— Э, брат, да ты, Ваше высокоблагородие, уже под сурдинку нарезался! — Нарышкин усадил Левушку в кресло и отобрал у него опустевший бокал.
— Кто… я? Ничуть не бывало! Мы с тобой еще должны выпить брудершафт! Алексис! Алексис! — позвал он. — Принеси нам, любезный, брудершафту.
— Ну, так и есть, — вздохнул Нарышкин. — Чекмарь чекмарем!
Трещинский вытаращил на друга вдруг разом ставшие мутными и бессмысленными глаза. Погрозил пальцем.
— А… а… смеяться изволите, Сергей Валерианович… нехорошо-с. Я тут Вам душу распахнул, а Вы, милостивый государь, потешаться надумали. Я вот как сейчас кого-то вызову… через платок стреляться…
Нарышкин, не спеша, снял со стула просохший у камина сюртук, достал из кармана широкий, как скатерть, носовой платок и трубно высморкался в него. В дверях показалась испуганная физиономия лакея.
— Ты вот что, голубчик… Что у нас там поблизости выпить имеется? — Сергей пристально оглядел опустевшие подносы.
— Мадера имеется, ром… также, — Алексис покосился на оплывшего в кресле барина.
— Мадерой твоей только воробьев причащать, а вот ром подойдет. И сооруди-ка мне стакан грогу. Сумеешь?
— Как не уметь-с, — тревожно отозвался Алексис.
— Только смотри, не ошибись в пропорциях!
Лакей поклонился и попятился из двери.
— Или лучше так, — подытожил Нарышкин, — стакан грога, рюмку рома, а хозяину твоему чай с лимоном.
— Рюмку только полную налей, а то я знаю вас, чертей! — крикнул он уже вдогонку.
— Так как же, насчет стреляться? — давясь хмельным смехом, замычал утопающий в кресле Левушка. — Оскорбление кровью смыть?
— Да, интересно… Это я про твое обогащение, господин коллежский советник! — Нарышкин принялся расхаживать по комнате. — Говоришь, пусть даже и безнравственно, но коли дает фортуна шанс, стало быть, хватай ее за хвост или что там у нее имеется? Бери и не выпускай!
— Ну так, значит, не продашь имение? — донеслось из глубины кресла.
Сергей, не обращая на него внимания, отрицательно мотнул головой.
— Жаль… жаль! — с грустью пробормотал Левушка. — А вдруг передумаешь? Может быть, это и есть твой шанс, а Сережа?
— Нет, не передумаю! — ответил Нарышкин, продолжая размышлять о своем.
Он растворил окно, подставил разгоряченное лицо прохладному ветру, задумчиво поглядел на темнеющую Мойку. Внизу о чем-то громко бранились вышедшие на работу фонарщики.
— Хорошо бы, конечно, Фортуну ухватить за бока или за другие какие выпуклые места, — сказал сам себе Сергей, и эта фривольная мысль представилась ему в образе обнаженной пышнозадой нимфы, прячущейся почему-то в камышах.
— Мир повидать это тоже дело… Тут ты, Лева, пожалуй, прав… Махнуть в Париж или еще куда-нибудь. А хотя бы и кенгурей погонять… Ну, а потом можно и тихое место себе на земле приискать, ведь есть же где-нибудь такое место? Что скажете, Ваше высокоблагородие?
— Болван ты, болван! — процедил Трещинский. Язык его заплетался, но в голосе чувствовалась неожиданная злоба.
— Болван… — тихо повторил он. — Да уж видно, так тебе на роду написано… Пропадай не за грош…
Нарышкин рассмеялся, затворил окно, надел уже совсем просохший сюртук.
— Что и говорить, приятное окончание вечера. Ну, бывайте здоровы, господин коллежский советник!
Кресло с Левушкой ответило мерным храпом…
Уже в дверях Сергей столкнулся с Алексисом, несшим небольшой поднос с напитками. Нарышкин остановил лакея и залпом выпил ром, хлебнул обжигающий губы грог.
— Барин твой изволят почивать, — произнес он, закусывая горячий напиток лимоном. — Ты его не трогай теперь, а как проснется, дай ему чаю… или лучше шампанского во льду. Он, барин твой, всегда раньше так любил.
— Нешто я, сударь, не знаю, — пошевелил бакенбардами лакей. — Они и теперь так поступают.
— Ну, вот и славно. Проводи меня к выходу.
Алексис вздохнул, поставил поднос, и, сонно помаргивая, поплелся провожать уходящего гостя.
Глава вторая ЗАСТУПНИК И БЛАГОДЕТЕЛЬ
«Кто ж противиться нам может?
Славянин перед врагом
Руку за ухо заложит,
Гаркнет, свистнет и положит
Супостатов всех кругом».
(Д. Д. Минаев)Прошло три дня, в течение которых Нарышкина охватила непонятная хандра. Часами валялся он, продавливая диван, в своей квартирке на четвертом этаже в доме наследников купца Завынкина на Большой Мещанской улице.
Необъяснимая тоска проникла в грудь нашего героя, какой-то невидимый глазу душевный переворот произошел в нем, заставляя его грезить и воспарять «в эмпирей», что по обыкновению было противно его не терпящей всевозможных томлений, здоровой от природы, хотя и не лишенной своеобразной чувствительности натуре.
Ему грезились райские кущи, до странности, впрочем, похожие на парк Елагина острова. Там, в этих зарослях, Нарышкин ловил резвоногую богиню Фортуну. Богиня изворачивалась, пряталась, убегала, норовя показать аппетитные ягодицы, но Сережа Нарышкин был настойчив и неутомим. Он настигал беглянку, срывал с нее какие-то античные одежды и увлекал в кусты… Фортуна вырывалась, сопротивлялась, говорила: «Сережа, не надо! Как тебе не стыдно — дети же смотрят!» (Неподалеку и вправду порхали какие-то амуры…) Однако Нарышкин был неумолим. Он шикнул на крылатых карапузов, а богине подарил серебряный рубль да еще два добавил ассигнациями, после чего Фортуна, немного конфузясь, согласилась… Сцена совсем была уже готова стать непристойной, но тут из-за кустов степенно вышел величавый старик с длинной седой бородой, в дорогой шубе и высокой шапке с меховой опушкой. В одной руке он сжимал окровавленный посох, а другой прижимал к боку стопку книг — собрание сочинений господина Дюма. Старик потряс в воздухе посохом и, подвывая на театральный манер, закричал ни к кому особенно не обращаясь:
— Аще не знаете, псы, что мои хотят поглотить меня, что ближние готовят мне кровавую погибель?
«Царь! — понял Сергей. — Иван Грозный!».
Самодержец, не торопясь, вытер страшный посох свой о траву, и тут оказалось, что это не посох вовсе, а бильярдный кий.
— Сыграем! — сменив тон, интимно предложил царь, наклоняясь к Нарышкину и подмигивая ему налитым кровью глазом.
Нарышкин закричал и проснулся…
Райские кущи, крылатые карапузы, прелести богини Фортуны и страшный царь испарились без следа, а вместо них в раскрытую дверь комнаты заглядывала смуглая физиономия дядьки Терентия. Дядька пестовал Сергея еще в отрочестве и теперь, будучи отпущенным в столицу, служил в доме Завынкина дворником, а заодно присматривал за молодым, склонным к необдуманным поступкам барином.
— Какого черта тебе от меня понадобилось ночью? — недовольно проворчал Нарышкин, хотел было запустить в Терентия подушкой, да лень взяла вытаскивать ее из-под головы.
В прошлом Терентий служил на флоте и даже совершил кругосветное плавание на одном из судов Российско-Американской компании, о чем не раз тешил рассказами жадно слушающего его молодого барчука.
Дядька — невысокий, бородатый, коренастый мужичок, с темным, выдубленным ветрами и солнцем лицом, на котором ясно блестели добрые глаза, широко расставляя ноги, неуловимым чем-то напоминая краба, бочком-бочком вдвинулся в комнату, внеся с собой древесный, приятный запах свежей стружки, сам весь опрятный, в ладно сидящем на нем старом, но аккуратно заштопанном армячке.
Поклонился, протопал к окну, раздернул плотные шторы. В комнату прыгнул, побежал по полу, полез на диван и остановился на носу Нарышкина бледный солнечный луч.
— Склянки уж полдень били, баринок, — проговорил Терентий, проворно загребая «клешнями» столпившуюся у дивана груду пустых бутылок. — Солнышко-то уже — вона. Работает за нас грешных!
Дядька Терентий обладал двумя бесспорными с точки зрения Нарышкина достоинствами: он одновременно и споро мог делать несколько дел и никогда ни в чем не упрекал молодого барина, к образу жизни и характеру которого давно привык. Дядька любил Нарышкина и ничему не удивлялся. Вот и сейчас он уже протирал пыль, сгребал со стола объедки. Как по волшебству на нем возникла запотевшая бутыль хлебного вина.
— Провианту из дому прислали, — Терентий уже выставлял на небольшой столик у дивана свиное сало, домашнюю колбасу, ржаной хлеб и крепкие соленые огурчики.
— Какой сегодня день? — Нарышкин расчесал пятерней мятые, всклокоченные, как у псаломщика, вихры и вделся в турецкий халат, поданный расторопным Терентием.
— Четверьхь, — сообщил дядька, уже выметая пыль из углов.
Барин издал звук, похожий на рычание, откупорил бутыль и припал к ней, как младенец припадает к груди кормилицы.
— Ну, что там дома? Что нового в деревне? — увязнув зубами в сале, прогудел Нарышкин.
— Да, вроде, все как будто порядком, — дядька Терентий затеплил лампадку и смахнул паутину с образов. — Все велят вам кланяться. Хозяйство как будто движется мало-немного. Только вот Петр Кузьмич, управляющий Ваш, царство ему небесное, того…
— Чего «того»? — повернул голову Сергей.
— За борт сыграл, как у нас говорили, — Терентий поправил висевшие на ковре скрещенные турецкие сабли.
— Куда сыграл?
— На Масленую, сказывают, уходили его шибко…
— Когда?
— Да Петра Кузьмича-то.
— Куда уходили? Зачем? — не понял Нарышкин.
— Да Петра же Кузьмича! На масленую неделю накинулись на него лиходеи какие-то ночью и так отконопатили, что прямо караул. Три дня, сказывают, лежал. А потом шабаш. Отдал концы!
— Убили что ли? — дошло наконец до Нарышкина. Он тряхнул головой и сделал большой глоток хлебного. — Ай-яй-яй. Это скверно! Очень скверно, Терентий.
Барин помолчал, соображая. Несмотря на дурные известия, ему становилось значительно лучше. Остатки давешней хандры улетучивались, подгоняемые прохладным вином и сытной деревенской пищей.
— Да за что же его?
— Кабы знать, за что! — дядька выкатил из-под дивана пустую незамеченную бутыль, выгреб мусор.
— Станового пристава вызывали?
— Да был, сказывают. Приехал, походил, поспрошал, Митьку Косого высек для острастки и укатил. Поди теперь, сыщи лиходеев-то! Одеваться прикажите или как?
Терентий подал барину вычищенный сюртук.
Нарышкин, подумав, разделался-таки с хлебным. Подцепил кусок колбасы и покосился на солнечный лучик.
— Что там, в божьем мире-то творится?
— Известно что, батюшка Сергей Валерианович! Май соку набирает. На дворе полный штиль. Погодка — любо дорого поглядеть.
Терентий, воркуя, помог барину скинуть халат и натянуть сюртук.
— Да, вот еле-еле не позабыл! Тут Вам бумаги пришли.
— Что за бумаги? — Нарышкин глянулся в зеркало.
«Да, немного помят, слегка опух, синева на подбородке… пожалуй, что и подзаплыл жирком… Но ведь не свататься же», — подумал он и в целом остался собой доволен.
— Что там за бумаги такие?
— Расчеты квартирные от Завынкиных. Аглая Тихоновна шибко ругались. Не платит, мол, барин твой!
— Вечно ты, Терентий, ляпнешь этакое! — рассердился Нарышкин. — Мало мне забот. Дома, вишь ты, беда какая стряслась, а ты ко мне с квартирными расчетами приступился, за горло схватил, Аглаей Тихоновной стращать вздумал! Видал я твою Аглаю Тихоновну, знаешь где?
— Где? — живо поинтересовался дядька Терентий, смахивая с плеча барина соринку.
— Рядом с мужем своим — Силой Тимофеевичем Завынкиным, царствие ему небесное, вот где!
Терентий, усмехнувшись в бороду, перекрестился.
— Что там еще?
Дядька подал запечатанные сургучом конверты.
Нарышкин надорвал один. Приторно пахнуло духами. Пробежал глазами наугад из середины письма:
«…После отъезда мужа я сделалась совершенно больной, а уж какая грустная, Вы, Серж, себе и представить не можете. Мучаюсь несказанно и не перестаю томиться, сидючи у окошка…
На святой неделе пришлось катать яйцами без Вас и теперь мне иногда хочется сильно умереть. А третьего дня я сочинила романс:
Утешь меня в моих томленьях О прошлых днях минувших лет, Ответь же на мои моленья, Верни мне то, чего уж нет. Тебя любила я так страстно, Как никогда, как никого. И от того теперь несчастна, И я прошу лишь одного: Утешь меня в моих томленьях, Приди ко мне хотя б на час, И нас охватит вожделенье, Как и тогда, как в первый раз.Вот если бы вы, мой друг…»
Нарышкин издал громкий вой и бросил письмо в корзину для бумаг.
— Да что они сегодня, все меня извести сговорились? Смерти моей хотят?
Он не стал пояснять кто это «все», и почему эта толпа желает свести счеты с его достаточно молодой еще жизнью.
Сергей надорвал второй конверт. Это была записка от Трещинского.
«Милостивый государь Сергей Валерианович! Надеюсь, что все произошедшее между нами, меж нами и останется. Вы как человек чести не дадите огласки тем откровениям, кои были произнесены мной в момент душевной слабости и под влиянием Бахусовым. Прошу меня за то извинить. Верю в Вашу порядочность и остаюсь вашим покорным слугой. Будьте здоровы.
А. К. ТрещинскийP.S. Кстати, Вы позабыли у меня свой секстан».
— Ну вот, и этот туда же! — прокомментировал послание Нарышкин. — Ох уж эти польские гордецы. Сегодня они с тобой запанибрата, а стоит только чуть перебрать, назавтра руки не подадут. Бардзо дзинкую за гонор… нех их вшицы дьябли везмо!
И второе письмо также последовало в корзину.
— Ладно, Терентий, я, пожалуй, пройдусь, а ты приберись тут покамест, — Сергей рассеянно оглянулся и, не замечая доброго взгляда старого моряка, решительно шагнул за порог.
У парадного крыльца столкнулся нос к носу с ширококостной, толстомясой Аглаей Тихоновной. Вдова купца Завынкина тащила с рынка гуся. Не доверяя прислуге, она предпочитала все покупки совершать сама, что давало ей лишний повод брюзжать на всех и вся.
В тесном парадном, ставшем еще теснее, когда в него ввалилась вдова с гусем, безжизненно свисающим из огромной корзины, Нарышкин не имел пути к отступлению и принужден был выслушать все упреки, которые разъяренная, как весенняя медведица, Аглая обрушила на вихрастую голову своего постояльца.
Наконец, с трудом разминувшись с купчихой, наобещав ей в самом скором времени расплатиться полностью за квартиру, Нарышкин выстрелил из подъезда, как пробка из бутылки шипучего вина.
На улице зажмурился, до того ярким после темного парадного показалось весеннее Петербургское солнце. Пахнуло дымом, копотью, нагретой землей и тушеной капустой — неизменным блюдом здешних обывателей. Мещанская пестрела вывесками до самых крыш. Солнце высвечивало на позолоте объявлений, оповещающих о нахождении здесь всевозможных лавок: мелочных, кондитерских, табачных; тут же попадались вывески модисток, чулочников, цирюльников, повивальных бабок и каких-то опытных кремлевских красильщиков, которые «…недурно раскрасят стены алфрескою, декатируют и еще много чево в малярном деле разумеют…»
Рядом, над заведением цирюльника красовалось: «Здесь бреем стрижом и отворяем крови». Чуть поодаль виднелся красочный щит, на котором был изображен чрезвычайно толстый запорожский казак со свекольными щеками и люлькой в надменно ухмыляющихся губах. Под рисунком вилась затейливая надпись: «Домашняя табачная мануфактура отставнова унтера-офицера Перетятько». Напротив, над лавкой, торгующей детскими деревянными игрушками, была нахлобучена вывеска, неизменно улучшавшая настроение Сергея. Неровным, валким, колючим шрифтом, имитирующим готику, там было выведено: «Detskoe proizwodstwo. Столяр Осип Штумпф — иностранец из Вильно».
Сергей прошелся по улице и, чтобы восстановить пошатнувшееся душевное равновесие, заглянул в недорогой трактир, где в тумане от пригорелых блинов проворно бегали половые и дули копеечный чай извозчики.
Нарышкин заказал водки с селедкою и сел у раскрытого окна, чтобы не дышать блинным перегаром.
Окликнул через окно разносчика газет, купил «Северную пчелу», и, подливая себе водку из надтреснутого графина, принялся читать объявления театров и зрелищ.
Балаган Лемоша обещал сцены в современном роде: терзание Панталона, разрыв Пьеро на две части, превращение бочек в чертей, а также всевозможные фокусы в исполнении русского человека из Германии Карла Ивановича фон Штюка.
Панорама и косморама на Невском проспекте в доме Косиновского, наискось Английского магазина, предлагала посмотреть виды Константинополя, штурм и взятие Варшавы, смерть Наполеона, внутренность церкви св. Петра в Риме…
При упоминании о Константинополе Нарышкин закрыл глаза и представил залитый южным солнцем, утыканный минаретами город, по которому бродили похожие на коконы прелестные одалиски в парандже, а свирепого вида усатые янычары в красных шароварах день и ночь точили о каменные ступени мечетей свои кривые зазубренные ятаганы. Они курили кальян, пили крепкий черный кофе, а в перерывах между этими занятиями сажали на кол христианских невольников.
Нарышкин вздохнул, хлебнул водки и продолжил чтение.
В Александровском театре давали народный водевиль в одном действии: «Филатка и Мирошка — соперники, или четыре жениха и одна невеста»; в Михайловском — «Тридцать лет, или жизнь игрока. Драма в трех сутках», в Большом шла некая комическая опера: «Навуходоносор-царь, или Вавилонские проказы».
Нарышкин зевнул, повертел газету и наткнулся на сообщение о том, что «его императорское величество объявляет высочайшее благоволение с награждением орденом св. Анны 1 степени…» какому-то действительному статскому советнику Мордищеву. К объявлению прилагался гравированный портрет героя, вполне оправдывающего, судя по всему, свою фамилию.
— Что ж, Мордищеву повезло, — философски заключил Нарышкин, доел селедку и вытер руки о счастливого обладателя ордена св. Анны.
Расплатившись, он вышел вон из душного трактира. Неспешно прогуливаясь, как бы окутавшись легким облаком винных паров, Сергей как-то незаметно для самого себя вышел к Невскому.
Толпа вокруг сгустилась, загрохотали по мостовой многочисленные экипажи, замелькали сюртуки, цилиндры, эполеты, бакенбарды, дорогие женские шляпки.
Нарышкин отметил, что все встреченные им барышни оказывались прехорошенькими, и это обстоятельство подействовало на него благотворно. Настроение его заметно улучшалось. Он даже хотел зайти в ту самую панораму и космораму, где представляли виды Константинополя. Благо заведение находилось тут же неподалеку, и совсем было уже пошел, однако вспомнил, что «цена за вход самая сходная — по рублю с персоны, а с детей по полтине». Тратить рубль на Константинополь Нарышкин не стал, да и не очень-то хотелось увидеть вожделенный город глазами какого-нибудь мазурика, недоучившегося в Академии художеств. Взвесив все хорошенько, он предпочел поворотить на Мойку и окунуться в недорогое полуподвальное штофное заведение, наполненное галдящими мастеровыми. Из заведения Сергей вышел не совсем твердой походкой. В сгустившемся над ним алкогольном тумане контуры предметов стали терять четкие очертания. Пару раз он споткнулся о выбоины в мостовой и один раз о будочника, который скучал возле своего полосатого черно-белого скворечника. Служивый открыл было рот, набрал воздуха, чтобы выбраниться, но, оглядев крепкую фигуру Нарышкина, передумал и стал смотреть куда-то поверх протянувшихся вдоль набережной фасадов… Вскоре ноги нетвердой походкой сами привели Сергея к Демутовой гостинице.
— Зайти что ли, забрать у Трещинского свой секстант? — подумал он. — Хотя, с другой стороны, Левушка мог бы сам прислать его вместе со своим дурацким письмом… Странно… и зачем это он морочил мне голову россказнями про царские книжки?
Нарышкин помедлил, с минуту потоптался на тротуаре, но затем вспомнил про настоянную на смородиновом листу водку и решительно шагнул внутрь.
Однако там его ждало легкое разочарование. Выяснилось, что «его высокоблагородие» отъехал в неизвестном направлении… На все вопросы метрдотель только разводил руками:
— Спешно съехали-с. Куда не сказывали-с, адреса оставить не изволили-с… Впрочем, погодите, сударь. Не Вы ли будете Сергей Валерианович Нарышкин? — служитель нырнул под стойку и вынул оттуда знакомый увесистый пакет. Сергей удовлетворенно икнул.
— Вот, Вам велено передать!
…Уже совсем стемнело, когда Нарышкин добрел-таки к себе на Мещанскую, исследовав по пути еще пару питейных заведений. Совсем уже подходя к дому Завынкина петляющей неверной походкой и взглянув на утыканное звездами небо, Нарышкин неожиданно для себя самого решил произвести обсервацию. Он разорвал пакет, извлек секстант и принялся обозревать вселенную, вертя прибор перед мутными глазами, заглядывая сквозь него на звезды, которые теперь более всего напоминали почему-то выпуклые шляпки обойных гвоздей. Это сравнение показалось Нарышкину вполне поэтичным и, довольный метафорой, он принялся было сочинять эклозу, но дальше строк
«В бархат неба вбиты звезды, Словно золотые гвозди…»дело почему-то не пошло.
Внезапно тишину отходившей ко сну Мещанской прорезал истошный женский крик:
— Убивают! Помогите! Караул!
На противоположной стороне улицы, против мастерской реставратора битой посуды, похоже, действительно кого-то били.
Из темного клубка человеческих тел выскочила тонкая женская фигурка и подбежала к Нарышкину, схватила его за рукав. Запричитала:
— Помогите, барин! Отца убивают лиходеи… помогите ради Христа!
Нарышкин насколько мог быстро оценил ситуацию. Постоял молча, слегка покачиваясь, чувствуя как глаза наливаются кровью, затем отстранил девушку (успел заметить: хорошенькая), пригнул голову по-бычьи и, взяв секстант на вооружение, пересек улицу. Разя тяжелым прибором направо и налево, он мягко вошел в самую середину толпы, в центре которой на тротуаре, закрыв окровавленную голову руками, сидел худой, как жердь, мужик в разорванном армяке. Нападавших было четверо. Однако Нарышкину показалось что-то около восьми. Скорее, даже девять…
— А ну посторонись, православные, — попросил он, сбивая секстантом чей-то картуз.
— Поберегись! — предостерег излишне ретивую физиономию, которая ткнулась редкими зубами ему в кулак.
— Ах, ты кусаться! Ну так я тоже буду кусаться! — сообщил Сергей, и в самом деле укусил попавшееся ему на пути ухо.
Укушенный истошно завыл. В толпе нападавших как-то сами собой появились бреши. Пара удачных фухтелей погнувшимся от ударов секстантом завершила баталию полной победой нашего героя. Враг ретировался, оставив после себя эхо отборной брани, несколько оторванных пуговиц и смятый картуз.
— Дуйте по домам, ребята, не то квартального позову! — крикнул Нарышкин вслед отступающим и помог подняться потерпевшему.
Лицо и борода того были в крови, рукав почти оторван.
Подскочила девушка, запричитала над отцом, который, однако, несмотря на то, что был бит, подобрал с тротуара бесхозный картуз и только затем, кряхтя, согнулся в земном поклоне.
— Премного благодарны, Ваше превосходительство, век будем за Вас Бога молить!
— Спаситель Вы наш, — хлюпнула носом девушка.
— Ну, полно. Полно, — поморщился Нарышкин, оценивая ущерб причиненный секстанту. — За что они вас?
— Лихие люди, нехорошие! Совсем живота лишить хотели. Если бы не Вы, то прибили бы нас с Катенькой, как есть прибили! Люди мы приезжие, небогатые, а энти вот подкараулили и все наши пожитки подчистую отобрали. Как-то еще до кишок не раздели!
В темноте сверкнула крупная слеза, серебряной змейкой побежала по грязной щеке, запуталась в растрепанной бороде потерпевшего.
— Куда ж нам теперя с тобой, Катюша? Меня в этаком-то виде и на постоялый двор не пустят да еще, пожалуй, и в сибирку посадят… Останешься ты, Катя, совсем одна-одинешенька. Без денег… без всего!
— Ничего, батюшка, свет не без добрых людей, вот и его превосходительство нам помогли. А деньги, что же о них горевать…
При упоминании о деньгах Нарышкин слегка поморщился.
— Ну, будет, будет! Какое я вам превосходительство? Сергей Валерианович меня зовут.
— Вы, Сергей Валерианович, истинный… ерой! — заявила девушка, утирая набежавшие слезы.
— Да ну уж… скажете тоже… — Нарышкин почувствовал, что зарделся.
— Правда-правда, — сказала она. И без перехода:
— Меня Катей звать, а это — батюшка мой, Степан Афанасич.
Оба снова поклонились в пояс, при этом из-под платка девушки выбилась коса (русая, насколько сумел разглядеть Сергей).
— Нарышкин Сергей Валерианович, — вновь отрекомендовался «ерой», немного наклонив голову и не сводя глаз с девичьей косы.
— Батюшки, не может того быть! — Степан отступил на шаг назад, в изумлении отворил рот.
— Чего не может быть? — Сергей нахмурился.
— Не гневайтесь, заступник, благодетель наш… да не в этом ли доме Вы проживать изволите?
— Изволю… проживать, — Нарышкин решительно не понимал происходящего. — К чему эти расспросы?
— Да ведь выходит это мы Вас, почитай, с полудня дожидаемся. А Вы — вот он каков! Сами нас нашли-с, — Степан захихикал, морщась от боли и трогая рукой подбитую скулу.
— Зачем дожидаетесь? — недоумевал Нарышкин, чувствуя, что мучительно трезвеет.
— Дельце у нас к Вам, Сергей Валерианович, голубчик! Вы уж не откажите выслушать. Дело-то оно выгодное к обоюдному согласию, — понизив голос и оглядываясь по сторонам, быстро заговорил Степан.
— Вы уж будьте ласковы, мы ведь с Катей ради таво дела и в столицу приехали. Вас вот, почитай, третий день разыскиваем.
— Ладно, пойдемте ко мне… — поколебавшись и окинув взглядом темную Мещанскую, согласился Сергей. — Там решим, как с вами быть. Только бы вдова не увидала… — и он пустил в ход довольно замысловатое ругательство, похоже, только что подобранное им на бранном поле в качестве трофея.
— Благодетель Вы наш, Сергей Валерианович, да ведь мы же Вам стеснению учиним.
— Ничего, только тихо ступайте.
Подошли к дому. Нарышкин заглянул в дворницкую, переговорил с Терентием, взял у него соломенный тюфяк и одеяла.
Дядька покосился на новых постояльцев, но ничего не сказал, открыл черный ход и проводил нежданных гостей до квартиры Нарышкина.
— Т-сс! — сказал Сергей, обращаясь, похоже, к самому себе, потому что никто кроме него и не думал шуметь.
Нарышкин долго, сопя, извлекал из кармана ключ, пока наконец не уронил его со звоном, разнесшимся по всему коридору. Он сел на корточки и принялся шарить руками по полу.
— Т-сс! Терентий, посвети-ка сюда. И тихо мне, а не то эта старая змея — Аглая Тихоновна проснется…
Его опасения были не напрасными. Потому что через секунду громоздкая фигура вдовы Завынкиной перекрыла собой коридор.
— Это что здесь такое?! — грозно возгласила вдова, выступая из тени. — Что Вы, сударь, себе позволяете?
Нарышкин поднялся с колен, приняв от Терентия свечу. Поднял ее повыше и стал вполне доброжелательно разглядывать надвинувшуюся на него купчиху.
— Не спится, Аглая Тихоновна? — мягко спросил он. — Опять кошмары мучают?
— Да, мучают! — взревела вдова. — Вы, сударь, и есть мой главный кошмар. Мучитель! Душегубец! Шильник окаянный! За квартиру третий месяц не уплачено! Я все терпела, а он, бесстыжая душа, еще и канпанию вздумал сюда водить. Притон кабацкий мне устроил!
— Это мои друзья, Аглая Тихоновна, — Нарышкин указал рукой на опустивших глаза гостей. — Вот это… как бишь тебя … Степан… Афанасьевич.
Степан Афанасьевич стащил с окровавленной головы чужой картуз, поклонился и поправил сползший к локтю оторванный рукав.
— А это Катерина… э… как Вас по батюшке?
— Катерина Степановна, — тихо сказала Катя из-за спины отца.
— А вот дядька Терентий… дворник наш… то есть Ваш. — Нарышкин улыбнулся и приятельски подмигнул вдове. — Шли бы Вы почивать, Аглая Тихоновна…
Купчиха, набрав воздуха, разверзла рот — «шире ворот» и, округлив маленькие оплывшие глаза, заорала, едва не задув свечу:
— Чтобы духу вашего здесь не было! Пьяница! Охальник! Я притоны держать у себя не дозволяю! У меня здесь приличные люди проживают, а не какие-либо там всякие разные…
Из своих нор стали выказываться физиономии приличных людей, разбуженных истошными криками вдовы.
Неожиданно мягкий и доброжелательный в своей хмельной благости Нарышкин мгновенно преобразился. Он решительно шагнул к Аглае Тихоновне и взял ее левой рукой за горло, увязнув пальцами в мясистой шее купчихи, легко притянул обмякшую, разом потерявшую свои грозовые очертания фигуру ближе к себе. Затем, опустил шкалик со свечей до уровня расширившихся от внезапного страха глаз Завынкиной, при этом капнул ей на нос горячим воском.
Купчиха сдавленно хрюкнула и зажмурилась.
— Катенька, закройте ваши уши, — попросил Нарышкин. — Мне надо кое-что сказать Аглае Тихоновне.
— Я тебя, корова старая… — почти ласково начал Нарышкин, а затем принялся вполголоса делиться с мадам Завынкиной своими обширными познаниями кабацкого лексикона, время от времени нависая над ней и капая оплывающей свечей на платье купчихи.
Обучающий эффект превзошел все ожидания, когда Нарышкин со словами «надеюсь Вы меня поняли, сударыня» разжал пальцы на горле вдовы.
Побелевшая Аглая Тихоновна, вжав по-черепашьи голову в дородные плечи, часто и быстро моргала редкими ресницами. Постояв мгновение в совершенном оцепенении, она стала, пятясь толстым, как у холмогорской телки, задом, отступать по коридору, а затем с шумом метнулась вниз по лестнице.
— За полицией побежала, — печально констатировал дядька Терентий.
— Это вряд ли, — спокойно возразил Нарышкин, опять устраивая возню с дверным ключом. — Она в такую пору на улицу и нос сунуть побоится.
— Не больно ли Вы ее, сударь, того? — поежился Степан Афанасич.
— Ничего. У нее была хорошая выучка, да вот, видать, немного подзабылась. Муж ее покойный, Сила Тимофеевич Завынкин, царствие ему небесное, бывало, только так с ней и обращался. Иную аргументацию не признавала…
Нарышкин покосился на полутемный коридор, в котором маячили белесые пятна лиц приличных людей, и громко объявил:
— А ну-ка, господа, всем спать! Ступайте по койкам! Считаю до трех. Кто не спрятался, я не виноват!
Тут же послышался шум закрываемых дверей, лязг запираемых засовов, и спустя минуту «приличных людей» словно метлой вымело — весь дом погрузился в тишину.
— Прошу вас, входите, — Сергей открыл наконец свою дверь и впустил всю компанию в квартиру.
Глава третья УГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
«И надо же случиться на беду,
Что он тогда лишь свой заметил промах,
Как уж вошел. „Ну, — думает, — уйду!“
Не тут-то было! Уж давно в хоромах
Народу тьма — стоит он на виду…»
(А. К. Толстой)Первым в квартиру вошел Терентий. Он затеплил еще несколько свечей, и в комнате стало светлее.
— Ну вот, располагайтесь, — Нарышкин указал гостям на продавленный диван. — Терентий, голубчик, принеси-ка воды, пусть Степан кровь обмоет, ну и полотенца там какие-нибудь. Да, вот еще что, еда у нас найдется?
— Поищем, — коротко ответил Терентий и удалился.
— Сделаем так, — поразмыслив, решил Нарышкин. — Час уже поздний, поэтому заночуете у меня. Потолкуем с тобой о деле. А завтра, как говорится, утро вечера мудренее…
— Век бога молить буду, — потупился Степан.
— Вот и славно. Заморим червячка. А засим и побеседовать можно.
Через несколько минут Нарышкин сидел, удобно развалившись в кресле, потягивал принесенное дядькой из дворницкой хлебное и с удовольствием наблюдал, как горемычная компания уписывала за обе щеки нехитрый поздний ужин.
Степану на вид было около пятидесяти лет. Умное, хитроватое, слегка рябое лицо. Рыжая борода «помелом» и шевелюра оставались всклокоченными даже после того, как он смыл кровь и привел себя в порядок, надев старый сюртук, с хмельной щедрости подаренный Нарышкиным. Сюртук сидел хотя и мешком, но все же рукава на нем были целы. Впрочем, Катерина извлекла откуда-то иголку с ниткой и, быстро закончив трапезничать, принялась деловито чинить старую одежду отца.
Нарышкин почувствовал, что невольно залюбовался ею — так хороша показалась она ему при свете свечей. Сосредоточенное, серьезное и вместе с тем очень милое живое лицо, слегка вздернутый носик, глубокие серые глаза, тяжелая коса до пояса.
Степан перехватил взгляд Нарышкина, созерцающий прелести девушки, и едва заметно нахмурился:
— Сергей Валерианович, дозволь спать отпустить Катюшу. Намаялась она.
— Конечно, Терентий, приготовь ей постель!
Катерина отложила шитье, молча встала, поклонилась и проплыла почивать.
Полуночники еще раз выпили и закусили. Нарышкин понюхал табаку. Предложил Степану.
— Прощения просим, мы к энтому делу не привычные, — Степан оглянулся на дверь и произнес, понизив голос:
— Дельце у меня к Вам, Сергей Валерианович, серьезное имеется. Не откажите теперь выслушать. Открыться я Вам, сударь, желаю. Потому-то Вас и искал. Засим и сюда, в столицу, с дочкой приехал. Последние, можно сказать, сбережения поистратил. Одежду, какую ни есть, всю изорвал…
— Ну, полно, Степан, Лазаря мне петь, а то и впрямь, как в сказках получается, — семь пар железной обуви поизносил, в чем дело-то твое? — нетерпеливо произнес Нарышкин и громко чихнул, сотрясаясь всем телом. — Хорош, зараза, турецкий табачок! Ну, давай, не канителься, рассказывай!
— Я давеча Вам, Сергей Валерианович, неправду сболтнул, будто бы не знаю, за что на нас злодеи эти накинулись…
Степан говорил тихо, поглядывая на дверь.
— Открыться я Вам, сударь, желаю. Потому как, ежели б не Вы, может, и не сидел бы я живой сейчас здесь.
— Ну, полно, полно, — Нарышкин поморщился и утер слезящиеся от табака глаза.
— Хотели они у меня, сударь, про место вызнать, где много добра схоронено! — Степан, выпучив глаза, понизил голос до шепота.
— Какого такого добра? — не понял Сергей.
— А такого добра, которое разбойник Татенок награбил!
— Что это еще за Татенок такой? — Нарышкин тоже перешел на шепот.
— А такой… — Степан придвинулся ближе. — Вы про Кудеяра слыхали?
— Кудеяр… Кудеяр… Постой. Что-то такое вертится в голове. Уж не тот ли это, который:
Жили двенадцать разбойников, Жил Кудеяр-атаман. Много разбойники пролили Крови честных христиан?..— Тише, тише, Сергей Валерианович. Он самый этот Кудеяр и есть! Страшный, говорят, человек был. Да и не человек вовсе. Оборотень! Дух нечистый, кладовик.
— Кладовик?
— Точно так. Дух, который клады заговоренные стережет!
— Этак ты мне еще, пожалуй, сказки на ночь рассказывать станешь! — Нарышкин усмехнулся и отхлебнул вина из почти опустевшей бутылки.
— Ну, это Вы, сударь, хотите — верьте, хотите — нет! — Степан пожал плечами. — Но только были у Кудеяра два помощника. Самые, что ни на есть прелютые злодеи во всей его шайке-атаманстве. А звали их Татенок и Пуденя.
— Хорошие имена, — усмехнулся Нарышкин, — ласковые.
— Да только дела у них не ласковые были, лихие да злохитрые! Сказывают, показалось им как-то, что мало они душ христианских загубили. Вот и порешили меж собою, что можно и поболе награбить. Удрали из Кудеяровой шайки и стали сами по уездам шерстить. И в такую лютость вошли, столько народу православного порезали да поклали, что сам Кудеяр головой только качал, когда про дела их черные прознавал.
— Ну-ну, рассказывай, — Нарышкин потянулся и сладко зевнул. — Мне в детстве на ночь Терентий тоже много чего рассказывал. И про Агафонушку и про Щелкана Дуденьтьевича и про Козу-дерезу.
— Ну, это Вы, Сергей Валерианович, зря на меня напраслину возводите, — Степан заморгал глазами. — Я Вам как на духу все рассказать хотел… Как Вы есть мой спаситель…
— На вот, вина хлебни, сказочник! — Нарышкин подал стакан. — Что дальше-то было?
— Вы же мне, сударь, не верить изволите, что ж я зазря распинаться стану? — Степан обиженно надул губы, но от своей порции вина, однако, не отказался.
— Ладно, допустим, я верю, валяй дальше.
— Ну, дык вот, — продолжил Степан. — Те окаянные разбойники, Татенок и Пуденя, много добра награбили и попрятали в землю, чтобы денежку на черный день пасти. Долго — коротко, наконец обложили их царевы войска в одном овраге. Они, значит, лиходеи окаянные, порешили в руки казакам не даваться. Отбивались до последнего из пистолей. Да и то сказать, от Татенка любая пуля отскакивала — не брала. Видать, заговоренный был! Покудова его один ливенский поп, который при казаках был, насмерть-то и не убил!
— Чем же он его убил, коли тот заговоренный был?
— Известно чем, сударь! — Степан допил вино и утер мокрую бороду. — Поп тот пулю отлил из пуговицы от своей рясы. Той пулей его и ушибли, Татенка, значит.
— Ну, а что ж стало с этим… как его, вторым?
— Пуденя, после того как Татенка убили, долго еще отстреливался, а потом убег и схоронился в пещере. И никак его оттудова взять не можно было. Тогда казаки вход в пещеру взорвали порохом. Там в этой пещере Пуденя без воздуха и пищи издох!
— Собаке — собачья смерть, — философски констатировал Нарышкин. — Очень занимательный рассказ, Степа. Право же, ради этого стоило тащиться в Петербург. И что же — это все?
— Нет, сударь, не все, — Степан зашипел пуще прежнего. — Я знаю место, где схрон их разбойничий запрятан!
— Кто запрятан?
— Схрон… ну, поклажа, то есть, зарыта.
Степан встал и подошел к двери. Из комнаты доносилось только мерное сопение спящей Катерины.
— Никому не сказывал, даже ей, а Вам так и быть скажу! Только я знаю, где он, клад этот, обретается.
— Да ты сам-то откуда знаешь? — разговор начал забавлять Нарышкина.
— Да уж знаю! Мне перед смертью один человек открылся. И карту передал, где все обозначено.
— Какой такой человек?
— А вот какой… Его сродственник, он и был ливенским попом этим самым, что с казаками разбойников обкладывал. Татенок, перед тем как дух испустить, успел все попу исповедать про сокровища. Поп от службы церковной в скором времени в мир ушел. Обженился. Нанялся к болярину одному, на чьей земле схрон был зарыт, чтоб деток его грамоте обучать. Поклажу разбойничью он вырыть не успел. Бог его прибрал, видать, в наказанье. Однако же указку поп оставил — где искать. Прописал все обстоятельно, что к чему и помер — «наг, яко благ, яко и нет ничего»! Через многое время записи кладовые, случаем, попались на глаз правнуку поповскому. А может статься и к праправнуку. Как разберешь, кто он ему доводился? Ведь с той поры годов-то сколько прошло! Тьма тьмущая!.. Ну, дык вот. Правнук поповский управляющим стал в тех краях, на барской земле. Клад он сыскал и перепрятал. Только тратить сокровища до поры, знамо дело, опасался…
— Что же он сразу богатеть не стал?
— Да ведь человек был осторожный! Ежели сразу забогатеть, а ну как донесут?! Где взял? Откудова? С каких блинов такие залишки? А так никто и не докумекал. Он даже мне только опосля открылся, когда уж при смерти был. Боялся! И я теперь опасаюсь тож! Степан тревожно покосился на входную дверь.
— Вот, извольте видеть сами, — он извлек из-за пазухи засаленный и грязный, свернутый вдвое листок пожелтевшей политурной бумаги.
— Что это?
— Это она самая, запись кладовая и есть!
Нарышкин взял листок.
— Черт знает что, ничего не понять… будто куры набродили!
Он придвинулся ближе к свету и, с трудом разбирая замысловатые каракули, прочел:
«…Копать два аршина вглубь …поклажи сей котел малый пивной денег татарских, серебряных. Осемьнадцать брусков литых золота. Да еще перстней золотых и иных мелких статей золотых и серебряных без счету. Да рукавица жемчугу, образа старинные в окладах дорогих… (дальше стояло пятно, скрывающее под собой часть записи)… лжица церковная золотая, каменьев разных мало неполная, да с рухлядью… два сундука, да посуды церковной два пуда, да серебряных денег около пуда с половиною…(заканчивался же этот список весьма странной фразой)……а сундуки те трогать не моги… …знахарь… …заклятье…»
Далее запись обрывалась, окончательно похороненная под большим бурым пятном.
— Вот это да! — Нарышкин присвистнул и тут же сам себя одернул, оглянувшись на входную дверь. — Хорошо. Все это очень заманчиво. Возможно даже, что все это так, и ты не врешь…
— Помилуйте, сударь, только Вам вздумал открыться. — Степан укоризненно покачал головой.
— Ну а те, на улице, они откуда узнали?
— Сам не понимаю, сударь! Ей богу ведать не ведаю. Только управляющий этот, что мне доверился, не своей смертью помирал. Прибили его шибко! Может стать, как раз те, кто его жизни лишил, и нас с Катенькой выследили, чтобы тоже того… ухайдокать.
— Постой, постой, — Сергей отодвинул штору, пристально вгляделся в черный провал двора. Шел дождь, и капли серебристыми стрелами, высверкивая возле освещенного окна, стремительно таяли в сырой темноте дворового колодца.
— Говоришь, прибили?… Прямо беда с этими управляющими. Мрут, как мухи. — Нарышкин снова взял в руки листок с кладовой записью. — Два аршина копать… — он помахал листком перед носом Степана. — Где копать? В каком таком месте копать?
— В усадьбе, — Степан настороженно посмотрел на разгорячившегося Нарышкина. — В усадьбе, сударь, где же еще?
— Черт побери! — взвился Сергей. — В нашей необъятной Матушке России тысячи помещичьих усадеб. И даже у меня есть, будь она неладна!
— Так ведь я, сударь, о чем Вам и толкую? — удивился Степан. — Ваша усадьба эта самая и есть!
— Как это, моя? Постой, постой… погоди, дай сообразить… — Сергей прошелся по комнате. — Так ты хочешь сказать, что клад спрятан у меня в имении, верно?
— Точно так, — согласно кивнул Степан.
— Но все это как-то… как-то… — Сергей пытался подобрать нужное слово. — Ну, в общем, все это как-то необычно… Почему же именно у меня?
— Так уж оно, значит, вышло, — пожал плечами Степан. — Ничего уже тут не попишешь. У Вас, стало быть, все и зарыто!
Нарышкин прищурился:
— Постой-ка, это что же тогда получается? Это, стало быть, мой управляющий Петр Кузьмич, он и есть тот самый человек, который тебе перед смертью все рассказал?
— Он самый, Петр Кузьмич и есть! — хлопнул себя по колену Степан. — То есть был, царствие ему небесное…
— Так почему же мой управляющий, этот хитрован, тебе, прощелыге, открылся?
— А я так думаю, сударь, что деваться ему, стало быть, некуда. Одна дорога — на тот свет. А богатства туда с собой не заберешь.
— Ну так и что ж. Ты-то тут при чем?
— А при том, сударь, что Катерина-то моя Петру Кузьмичу — крестница. Видать, хотел он ее перед смертью облагодетельствовать. Своих-то деток бог не дал… А еще, говорит, «на храм толику того золота положи, Степа, мне на том свете послабление выйдет…».
— Ну и дела! — Сергей развел руками. — Петру Кузьмичу конечно земля пухом и все такое. Но где же копать ее, эту самую землю, чтоб до клада дорыться? Имение мое, хотя и не очень в смысле доходов, однако же, землицы будь здоров. (Он подлил себе хлебного.) Жизни не хватит все перелопатить. Где именно искать, Степа?
— Карта, сударь, у меня имеется…
— Ну? — Нарышкин в нетерпении протянул руку.
— У нас с Катюшей, Сергей Валерианович, окромя карты этой и нет ничего.
— Боишься, что я себе все присвою? Ну, так и есть, боишься!
— Боюсь, сударь, по миру пойти, — Степан почесал всклокоченную шевелюру и снова потрогал скулу. — Вы, Сергей Валерианыч, понятие тоже иметь должны. Нам с Катей и малой толики может хватить — такое богатство…
— Ну, это еще как сказать. Во-первых, не такое уж и большое, судя по записи. Дворцов не настроишь. А во-вторых, может, там уже и нет ничего!
— Как это нет? — обиделся Степан.
— А так и нет. Может, уже кто-нибудь взял да и выкопал.
— Как это выкопал? С каких таких блинов?
— Да почем мне знать, — взвился Нарышкин. — Экий ты, Степан Афанасьич, право, бестолковый, — Нарышкин огляделся. — Дьявол, хлебная закончилась! Больно не хочется тащиться к Терентию еще просить. Там вдова эта… черти бы ее прибрали… Людишки те, которые управляющего моего пришибли, может, они все уже и выкопали?
Степан выглядел слегка подавленным, сидел, точно двинутый рюхой.
— Это, конечно… может, так оно и есть, может статься, и выкопали, — он горестно засопел и почти совсем уже уронил голову. Но в последний момент вскинулся.
— А может, и не выкопали! Шалишь! Точно не выкопали! Иначе, посудите, сударь, какая надобность была б за нами охотиться?
— Ну, а от меня ты чего сейчас хочешь, Степан?
— Я? Смилуйтесь, благодетель, Сергей Валерианович! Ничего я от вас не хочу! Я было подумал… Скажу, вот, барину, откроюсь ему. Глядишь — мы этот клад вместе и отыщем… А тогда и богатство поделим по справедливости.
— А как это — «по справедливости»?
Степан замялся, сконфузился, принялся теребить пуговицу старого сюртука, отданного ему Нарышкиным.
— Ну… я так разумею… Коли нас трое, то и делить надобно на троих. Оно так будет по-божески.
— По-божески! — вскипел Нарышкин. — А себе, значит, с доченькой малую толику! И всего-то на всего каких-то две трети! А мне ты «по-божески» целую треть отвалишь? Да что за бог у тебя такой, Степан? Ты, может быть, иудей или мормон какой? — усмехнулся Нарышкин.
— Что Вы такое, сударь, говорите, — Степан истово перекрестился. — Я как есть христианин православный…
— Ну, а коли ты христианин, то и поступай по-христиански. — Сергей усмехнулся. — Позволь тебе, любезный, напомнить, что землица моя и коли в ней что-нибудь есть, то это тоже мое!
Степан опустил глаза и согласно кивнул.
— Однако же, сударь, карта у меня. Кабы я Вам не открылся, так Вы и не знали бы ничего вовсе…
— Не скряжничай, Степан Афанасьич, а то ведь я и отобрать твою карту могу. Что делать станешь?
Степан сразу же пришел в сильное волнение. Он весь подобрался, натянулся, как струна на балалайке, при этом рябь на лице его пришла в хаотичное движение, обнаруживая бурную игру страстей.
Он отшатнулся к стене и быстро сунул бумагу за пазуху.
— Помилуйте, сударь, за что?
— Ладно, ладно, шучу, не щетинься, — Нарышкин весело засмеялся.
— Я Вам душу выворотил, открылся, наизнанку вывернулся, а Вы потешаетесь…
— Да ты же мне, сукин кот, авантюру предлагаешь. Мне — дворянину! Ну, вот что, драгоценный Степан Афанасьич, сделаем так: десятую часть, пожалуй, уступлю тебе за красивые глаза твоей Катерины. Я же, так и быть, согласен поступиться своей дворянской честью и влезть в это сомнительное, темное дельце за остальную, как ты выразился, толику.
Выгоревшие на солнце брови Степана взлетели вверх.
— Помилуйте, сударь! Нешто можно так. У нас с дочкой, окромя этой карты…
— Слышал я уже твои стенания. Так и быть! Восьмую часть — крестнице моего покойного управляющего, остальное — мне как землевладельцу!
— Помилосердствуйте, сударь… Пополам оно будет вернее!
— Не помилосердствую! Да знаешь ли ты, иудейская твоя душа, что мы, Нарышкины, меньше чем за три четверти в такие авантюры не встреваем! Надо было бы мне самому прибить тебя.
Нарышкин поднялся и развернулся во всю свою медвежью стать.
— Ну что, прибить мне тебя? Или как? Прихлопну, пожалуй, как муху. И никаких тебе пополамов! Что на сей счет думаешь?
В атмосфере возникла предгрозовая пауза. Стало слышно, как в соседней комнате заскрипела пружинами дивана крестница покойного управляющего.
— Не убьете, — втянув голову в плечи, тихо, но, однако, твердо сказал Степан.
— Это еще почему? — заинтересовался Нарышкин, слегка покачиваясь на носках.
— Потому, — опасливо отодвигаясь, объяснил Степан. — Потому как Вы, сударь Сергей Валерианович, благородный. Стало быть, прибить меня не можете. Я про Вас вызнал кой-чего. Сказывали, барин добрый, жалостный, не обидит… третью долю, пожалуй, от своей барской милости даст!
Сергей от души рассмеялся.
— Ну и каналья же ты, Степан. Упрямый, как хохол! Ладно, покажи карту. Да не бойся, не отниму!
Степан молча достал из-за пазухи и протянул Нарышкину еще один пожелтевший вдвое сложенный листок. Сергей несколько брезгливо взял его в руки и, саркастически усмехаясь, стал изучать содержание этого любопытного артефакта.
— М да… Вообще-то я несколько иначе представлял себе карты кладоискателей. Это кто-то нарисовал или просто клопы наползали?
— Должно, покойник Петр Кузьмич срисовал все сам. И запись кладовую, должно, он переписал набело… А что? Не так что-то?
— Нет, все так! Набело… — Нарышкин вспомнил полутемные классы Академии художеств, куда он год проходил вольнослушателем, бесчисленные отмывки архитектурных планов, ордеров, колонн, капителей…
— Недурно исполнено… для покойника, — похвалил он рисунок. — Как будто есть черты некоторого сходства с моей усадьбой. Так… каретный сарай… ракитки… флигелек…дуб… а это еще что за фигура такая с загогулиной?.. Непонятно. М-да! Как ни верти, а разбираться в этих каракулях видно придется на месте… Стало быть, надо брать этот, так сказать, план и отправляться в имение… тем более, мне все равно нужно туда съездить, дела разгрести да и управляющего нового подыскать.
— А мы как же, Сергей Валерианович? — Степан заискивающе заглянул в глаза Сергею. — Как же мы с Вами порешим?
— Шут с тобой! Со мной поедешь.
— А дочка? Я Катю не брошу…
— Возьмем и дочку. Только раз уж дорожные расходы, судя по всему, мне придется брать на себя, получишь пятую часть! Это двадцать процентов! И не гроша больше, а то и впрямь прибью.
— А это как…ежели по чести… Ваше последнее слово?
— Да ты, Степан, в своем-то уме? Ты что же в моей чести сомневаться вздумал?
— Никак нет, это я так… Ведь, честно признаться, я, сударь, едва ли на десятую часть рассчитывал! — рябая физиономия Степана озарилась плутоватой улыбкой.
— Ах ты бестия, каналья, мошенник! Обул меня, как Филю в лапти!.. Ладно. Добр я сегодня без меры. Сколько сказал, столько и получишь. Хотя, к слову сказать, сильно сомневаюсь я во всей этой тайнописи, — Нарышкин с пренебрежением помахал картой покойного управляющего.
— Ну что, по рукам? Уговор дороже денег!
— По рукам, Сергей Валерианович! — обрадовано воскликнул Степан и с готовностью подставил Нарышкину грубую, плохо вымытую ладонь.
Глава четвертая НЕ ДО ЖИРУ, БЫТЬ БЫ ЖИВУ
«А горе тут как тут!.. Гнилая дверь скрипит
И отворяется. Спокойствия рачитель
Вступает с важностью в мундирном сюртуке.
„Потише, — говорит, — вы здесь не в кабаке…“»
(В. Л. Пушкин)Чуть свет явились, подпирая друг дружку плечами, пухлые, прыщавые, стриженые «капульчиком» несовершеннолетние отпрыски вдовы Завынкиной — близнецы Феофил и Ослябя. Потея и краснея, слегка срывающимся фальцетом, в котором, однако, уже слышались нотки будущего гонора, они поведали непреклонную волю купчихи: Аглая Тихоновна велела жильцу съезжать сегодня же, иначе она посылает за полицией.
Нарышкин долго и неучтиво таращился на обоих купчиков, соображая — не двоится ли у него в глазах. От неудобного сна в кресле затекла спина и шея. В голову будто кто-то налил свинца. Минувшее стало понемногу всплывать из затуманенного сознания, и постепенно Нарышкин восстановил хронологию прошедшей ночи.
— Съезжать будете? Али за квартальным посылать? — спросило «сросшееся плечами» существо в дверях. — Что маменьке передать?
— Сынков — что пеньков… — буркнул Сергей, тщетно пытаясь найти разницу между близнецами. — Передайте вашей маменьке, — сонно помаргивая и намериваясь сотворить большой матерный загиб, начал он. — Передайте вашей матери…
Однако в эту минуту приоткрылась дверь в спальню, и оттуда показалось встревоженное лицо Катерины.
Нарышкин захлопнул рот и проглотил окончание фразы.
— Ступайте, — пробурчал он близнецам, — съеду… Пусть успокоится мамаша ваша, черти бы ее прибрали. А теперь — брысь отсюда!
Существо, шумно сопя и топоча всеми четырьмя ногами, поспешно убралось восвояси.
— Вы уж простите нас, Сергей Валерианович, кабы знали мы, что Вы через наше горе такие гонения терпеть станете, нипочем бы не пошли сюда, — Катерина пустила слезу, скорбно поджав красиво очерченные губы.
«Хороша! — в который раз, подумал Нарышкин. — Однако и впрямь, что-то делать надо. Проклятой вдове, хотя лишний шум и не нужен, но в этом случае лучше все-таки убраться от греха подальше…».
— Буди отца, Катерина, — он кивнул на Степана, свернувшегося калачиком на полу у выложенной голландской плиткою печки.
Вскоре Терентий принес из дворницкой продукты и быстро соорудил нехитрый завтрак.
— Аглая Тихоновна шибко ругаются, — вздохнул Терентий, собирая на стол. — Велели и мне, чтоб с якоря снимался! Выметайся, мол, вместе со своим барином, говорит. Что ж делать-то будем, Сергей Валерианович? — он печально посмотрел по сторонам, вздохнул и достал из котомки бутыль хлебного. — Последняя осталась… Изволите видеть! А квартирку-то жаль, хорошая была квартирка.
— Брось, Терентий, причитать, — цыкнул на него Нарышкин. — Пусть старая ведьма подавится конурой своей. Ничего, что-нибудь придумаем! Ну, налетай, соколы, — он кивнул, приглашая к столу всю компанию.
— Давай, Степан, буйны головы на место поставим! А то моя где-то далече обретается.
— Сергей Валерианович, а как же насчет уговора давешнего… неужто, запамятовали? — Степан вопрошающе посмотрел на барина.
— Какой уговор?
— Ну, как же, давеча… ведь сговорились мы с Вами, — Степан заерзал на стуле, покосившись на Терентия и Катерину.
— А-а-а… — протянул Нарышкин. — Как же, помню. Я тебе десятую часть обещал.
Степан едва не подавился куском вареного картофеля.
— Как же, помилуйте… мы же так не уговаривались!
— Ладно, шучу я! — засмеялся Нарышкин. Его голова возвращалась на насиженное место — хлебный пенник подействовал. — Уговор есть уговор! Все одно шкуру еще неубитого медведя делим… Сколько там у нас капиталу осталось, Терентий?
Дядька склонился над ухом Нарышкина и шепнул:
— Сотенная, сударь… Ну еще «беленькая» у меня припрятана. Все что имеем…
— Не густо! Сто двадцать пять! Черт! — Нарышкин почесал вихры. — А сколько мы должны-то?
— Извольте. За квартиру сто пятьдесят, да за дрова осьмнадцать. Водовозу я отдал, прачке тож, винной лавке заплатил, а то там грозились не отпускать. Итого, получается… получается опять же сто пятьдесят… с маленьким хвостиком. — Терентий посмотрел на барина взглядом, в котором явственно читалось сострадание.
Нарышкин вскочил, заходил из угла в угол, как делал всегда, когда испытывал сильное возбуждение.
— Черт бы побрал все эти «маленькие хвостики»! Отдать весь долг вдове мы не сможем! У нас ничего не останется, так? Она, поди, будет довольна уже тем, что я съеду. С другой стороны, не отдать совсем — значит себя обесчестить! Скажи-ка, дядька Терентий, можем ли мы поступиться дворянской честью и не заплатить вдове?
— Воля ваша, Сергей Валерианович, — Терентий пожал плечами.
— С другой стороны, если не дать ей совсем ничего, пожалуй, все-таки она может позвать квартального, так, Терентий?
— Воля ее, — кивнул головой Терентий, убирая со стола посуду.
— А в нашем положении квартальный нам без надобности, так, Степа?
— Точно так! — быстро согласился Степан.
— Сделаем вот как: дадим этой старой каналье рублей тридцать. С нее хватит, тем более что она своим вчерашним поведением опорочила купеческое сословие. Будет рада и этому. Что у нас остается? Восемнадцать за дрова и тридцать хозяйке, в остатке, если не ошибаюсь… пятьдесят два… да еще четвертной… выходит — семьдесят семь рублей. Все равно маловато!
Нарышкин вздохнул, продолжая расхаживать по квартире. Вся горемычная компания внимательно следила за его перемещениями, поворачивая головы из стороны в сторону по мере движения барина — от окна к входной двери, от кресла — к печи с изразцами.
— Семьдесят семь рублей — это даже как-то не звучит. Округлим эту сумму до семидесяти. Получается в остатке — семь рублей! Вот на них, на эти семь рублей я и буду думать, где нам достать деньги на поездку, — лицо Нарышкина озарилось широкой улыбкой. — Ты вот что, Терентий, голубчик, ступай в лавку и принеси нам чего-нибудь на эту мелочь. Там, я помню, было кагорское в сорок копеек ценой. Так ты захвати бутылок… пару-тройку. Дрянь винцо, конечно, ну да чего уж там… И возьми, пожалуй, конфектов каких-нибудь Катерине, или орехов… Да, и еще захвати бутылку Шато-Лафита. Оно там в целковый. Не пить же ей эту бурду за сорок копеек, в самом деле…
— Ну к чему Вы… зачем это, Сергей Валерианович? — Катерина вспыхнула румянцем.
— Бросьте, Катенька, мы тут с Вашим папашей такое дело затеваем — на великие тыщи! Что ж нам теперь из-за лишнего рубля скопидомиться? — подмигнул девушке Нарышкин.
Терентий вернулся довольно быстро, волоча с собой корзину провизии.
— Худо, сударь мой Сергей Валерианович, — запыхавшись, сообщил он. — Аглая Тихоновна все ж таки вызвала полицию. Внизу они, с жильцами беседуют. Жильцы тоже шибко Вами недовольны, шумят. Сейчас подниматься будут. У черного хода человек уже поставлен. Меня впустил, а выпускать, говорит, никого не велено.
— Ах, черт! — Нарышкин с веселой злостью окинул взглядом комнату. Подавленный Степан обреченно втянул голову в плечи.
— Что же нам теперь делать, Сергей Валерианович? — Катерина с мольбой в глазах схватила Нарышкина за рукав.
— Я тут с утра на всякий случай собрал кое-что, — сказал Терентий, кивнув на туго набитый большой дорожный саквояж.
— Венгерку мою захвати, потом переоденусь, — Нарышкин вновь быстро зашагал по квартире, бегло оглядывая ее. — Книги… Черт с ними, с книгами, с коврами тоже… пусть подавится, их все равно моль сожрала…
Его взгляд упал на висевшую на стене медвежью шкуру с прикрепленными на ней крест-накрест турецкими саблями и парой старинных пистолетов.
Со словами «Ну нет, этого я ей не оставлю!» Нарышкин сдернул шкуру со стены, закатал в нее свой арсенал и передал Степану, который с гадливым ужасом отворотив голову, взял шкуру в охапку.
Один из пистолетов Нарышкин оставил при себе. Повертев его так и этак, хмыкнул:
— Смотри-ка, заряжен. Отчего бы это? Терентий, ты не знаешь?
— Как не знать! Вы третьего дня по мухам стрелять изволили. Вон на стене отметины остались, — Терентий показал на издырявленную стену.
— Точно! Вспомнил! — хлопнул себя по лбу Нарышкин.
— Может, пойдем уже, голубчик, батюшка Сергей Валерианович, — с дрожью в голосе, отворачивая от шкуры лицо, попросил Степан.
— Присядем на дорожку! Терентий, открывай кагорское. Хлебнем за отъезд.
— О, господи! — вырвалось у Степана. — Как Вы только, сударь, можете в такой-то час…
Катерина выглядела много спокойнее своего отца. Хотя и в ее лице угадывался затаенный страх.
— Катенька, возьмите конфекту, — улыбнулся Нарышкин, сунув ей кулек.
— Благодарю Вас, — тихо проговорила девушка.
— А что, Терентий, ход на крышу открыт? — поинтересовался Нарышкин, делая большой глоток из бутыли.
— Открыт, сударь мой, вчера как раз трубочисты приходили, сегодня, сказывали, тоже придут, так я и не запирал.
— Отлично, отлично, — Нарышкин еще отхлебнул из бутыли.
— Ну что, Степа! Вот и начинается наша с тобой авантюра! Я чувствую душевный подъем! Эх, засиделся я в этой коморке. На волю пора! Выпей вина, Степан, нас ждет дальняя дорога!
— Ей богу, Сергей Валерианович, как Вы можете… в этакой-то момент! Пойдемте скорее уж, а то будет нам не дальняя дорога, а казенный дом!
— Поднимаются сюда! — крикнул Терентий, выглянув из двери.
— Ну что ж, — Нарышкин встал, держа в одной руке заряженный пистолет, а в другой наполовину пустую бутыль кагорского.
— Прощай, вдовья клетка! — с пафосом воскликнул он. — Лезьте на крышу, я вас прикрою.
Гул голосов внизу слышался все отчетливее.
— Вы что это задумали… не гневите бога, Сергей Валерианович, — оглядываясь на пистолет и бледнея, произнес Степан.
Первым с неожиданной легкостью вскарабкался по шаткой лестнице, ведущей на чердак, дядька Терентий. Он откинул крышку люка, принял саквояж из рук Степана и подал свою мозолистую клешню Катерине. Та легко вспорхнула наверх. Однако Нарышкин успел мельком заглянуть под юбку.
— Хороша крестница у моего покойного управляющего, — вновь отметил он про себя.
Голоса приближались. Теперь они были уже на третьем этаже. Из общего гула выделялся поросячий визг разгневанной вдовы.
Степан, кряхтя и морщась, с трудом втащил шкуру в отверстие люка:
— Сергей Валерианович, быстрее! Что же вы!?
Нарышкин сделал долгий глоток, расплылся в хмельной улыбке, а затем быстро поднял пистолет и нацелил его в окно, находящееся как раз над лестничной клеткой.
— Эх-ма! Весело, как на ярмарке! — воскликнул он и нажал курок. Раздался оглушительный грохот, послышался звон разбитого стекла. Истошный крик «Убивают!» потонул в шуме, гаме, воплях и топоте стремительно убегающей вниз толпы.
Нарышкин бросил в этажный проем допитую бутылку кагорского, присоединив ее звон к общей какофонии, слегка пошатываясь, вскарабкался на чердак, захлопнул крышку люка и навалил на нее какую-то оказавшуюся под рукой тяжелую колоду. На чердаке пахло сыростью, голубиным пометом, всюду были развешаны сохнущие тряпки…
— Что же Вы это? Зачем? — Степан перекрестил вспотевший лоб. — Господи, шуму-то сколько! Что ж теперь будет! Убили кого?
— Не распускай сопли, Степа! Никого я не убил! Попугал только немного… Давайте выбираться отсюда, — Нарышкин подтолкнул Степана к ржавой лесенке, выводящей на крышу.
Они вылезли наверх через слуховое окно и обмерли от вида открывшейся красоты. Повсюду, насколько хватало взгляда, перед ними расстилалось море крыш, целые лабиринты дворов, улиц, переулков, печных труб, балюстрад, затейливых коньков, эркеров и прочих архитектурных изысков. Впереди за чередой крыш в дымке ясного весеннего дня сверкала золотом утыканная лесом корабельных мачт Нева.
Ослепительно сиял шпиль Петропавловской крепости, за ним таяли в золоте острова, чуть левее у стрелки Васильевского острова густели корабельные снасти, а совсем вдалеке, где-то у кромки горизонта, скорее угадывалось, чем виделось бледное зеркало Финского залива.
— Господи, как красиво, — вырвалось у Катерины. — Папа, Вы только гляньте!
Степан, на секунду подняв голову, хмуро посмотрел по сторонам, буркнул себе под нос:
— Не убиться бы! Крыша вона какая крутая. Ты, дуреха, башкой-то по сторонам меньше верти… того и гляди вниз засвистишь.
— Красотища! — воскликнул Нарышкин, поддерживая Катерину под руку и помогая ей перелезть на соседнюю крышу. — А вон слева, видите — это Исаакий! Степан, видишь Исаакий! — широким жестом указал он, едва не сбросив Степана с крыши.
— Вижу! — крикнул Степан, хватаясь за печную трубу. — Вы, сударь, того, поосторожнее. Кабы Вы меня вниз не сверзили.
Так путешествовали они примерно с полчаса. Перелезая с крыши на крышу, благо дома тянулись сплошной застройкой, и попасть с одного на другой не составляло особого труда.
Несколько раз они меняли направление, так как улица в этом месте обрывалась, и принуждены были двигаться в сторону, обходя колодцы дворов. Нарышкин радовался, как ребенок, уверяя, что это обязательно собьет с толку их преследователей, если, конечно, они вздумают кинуться в погоню. Пару раз он соскальзывал, но успевал зацепиться за что-нибудь к ужасу всей компании, пока наконец не выронил из руки пистолет, который полетел по скату крыши и с омерзительным грохотом исчез в водосточной трубе. Но и это происшествие нисколько не расстроило Нарышкина. Он был весел и оживлен. Повстречав на одной из крыш перепачканного сажей трубочиста, барин пожелал выпить с ним на брудершафт немного вина. Однако перепуганный трубочист бросился бежать с невероятной прытью и шустро ввинтился в одно из чердачных окон, прежде чем Нарышкин успел распечатать бутылку.
Наконец сплошная вереница крыш оборвалась возле канала, и ходу дальше не было ни влево, ни вправо.
— Привал! — объявил Нарышкин. — Место мне нравится. Вид преотличнейший. Здесь и пообедаем. А то у меня желудок уже реквием наигрывает.
Дом, на крыше которого они находились, был ниже остальных. У края его рос одинокий клен, возвышаясь несколько над крышей и создавая естественную сень. Здесь, в тени клена, крыша, нагревшаяся от солнца, была прохладнее.
— Райские кущи! — заявил Нарышкин, опускаясь на кровлю. — Доставай провизию, дядька Терентий. Степан, раскатывай шкуру. Здесь нас никто не потревожит. Разве только коты да, пожалуй, еще трубочисты. Только они нас сами почему-то чураются…
Катенька почти беззаботно засмеялась, вспомнив удирающего чистильщика дымоходов и предоставляя Нарышкину редкую за последнее время возможность полюбоваться ее прелестной улыбкой.
Она сняла с головы набивной платок, расстелила его на медвежьей шкуре вместо скатерти и, слегка смутившись, уложила тугую, тяжелую косу на затылке.
Отобедав, все пришли в хорошее расположение духа, и даже Степан пару раз хмыкнул в растрепанную бороду.
Возблагодарили Господа Бога и Терентия. Дядьку за то, что корзина оказалась куда как не пустой, а всевышнего за то, что удалось-таки вкусить ее содержимое. Ватага блаженствовала.
Внизу грохотали экипажи, слышался нудный речитатив продавца сбитня, звон посуды, гул пьяных голосов, аккорды растерзанной гармошки из нижних этажей, где, судя по всему, находился трактир. Компания сидела на теплой крыше и потягивала винцо. Непьющий Терентий булькал мутным квасом, Катерина робко кропила губы искристым Шато-Лафитом, стараясь избегать пристального взгляда отца.
— А и то верно — хорошо, — утирая губы, огляделся Терентий, — и до Бога совсем недалече. Вон он, Боженька-то, за облачком хоронится, — дядька ткнул пальцем куда-то поверх крыш.
— Тебя послушать, так к Богу те же трубочисты ближе всего, — Нарышкин расплылся в благостной улыбке, наблюдая, как Катенька осторожно теребит розовыми губками бокал вина.
— Ну, нет уж, сударь! Этим до Бога куда как далеко. Когда рожа в саже, где уж тут бога углядеть. Вон они как от людей шарахаются. По мне, так ближе простого матроса никому к Боженьке не подобраться.
— Это почему же?
— А потому! Ведь знаете, как оно бывает? Вот, к примеру, ежели в шторм, да по обледенелым вантам на грот-мачту полезешь, на самую что ни на есть верхотень, а мачта вся ходуном ходит, море внизу так прямо кипмя-кипит, и ветер в снастях гудит страшным гудом, тут и сам еле-еле жив, из последних сил за выбленки уцепляешься. Вот когда Бога вспомнишь и углядишь самолично.
— И что же ты, углядывал? — слегка скривил губы Степан.
— Может, углядывал, а может, и нет. Про то сам знаю. Ему там, поди, виднее, кому открыться, а кому и шиш с маслом.
— А что, дядька Терентий, правда ли я слышал, что раньше, когда корабль строили, непременно пару-другую краденых бревен употребляли? — Нарышкин, весело сощурившись, оглядел крепкую фигуру старого моряка.
— Ну, это когда раньше? — пожал плечами Терентий. — При Петре Алексеевиче тебя самого бы за эти краденые бревна на стружку пустили, — Терентий достал короткую глиняную трубку и с удовольствием запыхтел ею. — Не знаю, сударь, про краденые бревна, а вот перед тем как мачту ставить, под шпор монету кладут и заговор заговаривают: «Господи, упаси сей корабль, чтобы от бурь и непогоды и всего такого прочего…» — это чтоб хорошо плавалось.
— Да, пора и нам в дорогу трогаться, а то вот так всю жисть и просидел бы на теплой попе, кабы не дела… — философски подытожил Степан и высморкался.
— Ладно, что мы имеем? — Нарышкин зевнул и наморщил лоб.
Терентий достал деньги и сделал нехитрый подсчет:
— Сотенная, красная и еще восемь целковых. Извольте, сударь, глянуть.
Сударь глянул, сгреб деньги, задумался. Затем придвинул к себе саквояж, раскрыл его и вывалил содержимое на крышу. Основательно перетряхнув вещи, он стал укладывать самое, по его мнению, необходимое, а именно: смену белья, плащ, венгерку, пару туфель, пузырь кельнской воды и небольшой несессер. Подумав, он бросил в основательно похудевший саквояж пистолет и кривой, богато украшенный турецкий кинжал.
Степан перекрестился и покачал головой:
— Вы уж не гневайтесь, Сергей Валерианович, но кабы я знал, что Вы этаким башибузуком окажитесь…
— Не стал бы связываться, — усмехаясь, закончил фразу Нарышкин. — Ну, так ведь еще не поздно, Степан Афанасьич. Мы можем расторгнуть сделку.
— Ну, нет уж, — буркнул Степан. — Уговор есть уговор.
— Не знаю, судари мои, какие у вас там уговоры, — вмешался дядька Терентий. — А только что с вещами-то станем делать? — он кивнул на остающуюся кучу пожитков.
— А вот что. Ты их снеси, продай. Глядишь, что-нибудь выручишь. Шкуру продай тож… Жаль, конечно, как-никак трофей, да ничего не поделаешь, нам она сейчас только в обузу. И вот тебе еще десять рублей на первое время — наймись на работу, квартиру мне пригляди. А я съезжу в имение, вернусь вскорости и тебя разыщу.
— Как же так, помилуйте, сударь мой, — Терентий скроил удивленную и обиженную физиономию, часто заморгал ресницами. — За что ж, батюшка, такая немилость мне выпала!? Я без вас здесь не останусь! Мне еще маменька ваша, когда жива была, наказ давала за вами присматривать. На кого же это я вас оставлю!? На него? На этого баклана? — дядька ткнул пальцем в сторону Степана. — А может, он шильник какой ни есть!? Вы его без году неделя знаете, а уж туда же — уговоры уговаривать. Нет, батюшка, не гневайтесь, я Вас не оставлю.
— Это кто шильник? — вскинулся Степан, сжав кулаки. — Да ты сам-то кто есть? Матрос — в штаны натрес…
— А ну-ка тихо мне! — прикрикнул на обоих Нарышкин. — А не то — пущу с крыши в раз. Шут с тобой, Терентий, вместе так вместе! Все одно, лишние вещи надо продать, — он кивнул на остающиеся пожитки. — Нам они в дороге без надобности… И сабли тоже. Сделаем так, — Нарышкин огляделся. — Ты, Терентий, Степан и Катерина идете продавать мое барахло на Сенную площадь. Она вон как раз неподалеку. Я иду в оружейную лавку и продам сабли.
Степан покачал головой.
— Не в обиду будь сказано, Сергей Валерьяныч, а что коли Вы возьмете себе, да и уедете, а нас грешных здесь оставите…
— Ну, ты и впрямь шильник! Где это видано, чтоб Нарышкины свое слово нарушали? Ладно, хорошо, ты пойдешь со мной, а Терентий пойдет с Катериной на Сенную.
Тут снова не выдержал дядька:
— Не гневайтесь, батюшка Сергей Валерьяныч, но я Вас с этим выжигой не оставлю.
— Нет, ну что ты будешь делать!!! — взорвался Нарышкин. — Так и будем друг за дружкой всюду толпой хороводиться. Нет уж, Терентий, делай как сказано, а не то, ты меня знаешь…
Артель каких-то оборванцев, разбившая бивуак у корней клена, была ошарашена, когда сверху, ломая сучья и чертыхаясь, на их головы низвергнулся коренастый барин с турецкими саблями под мышкой, за ним рябой рыжебородый субъект с медвежьей шкурой, следом перепачканная сажей смазливая девица и пожилой мужик, по виду бывший дворник, с узлом и саквояжем.
Не смотря на то, что утро началось скверно, день, пожалуй, получился не таким уж и плохим. На Сенную не пошли.
Большую часть вещей удалось сбыть за углом в трактире, куда Степан сообразил нырнуть, когда вся компания спустилась с крыши. Трактирщик, хитроватый малый из новгородцев, сразу прикинув стоимость барского белья, почти не торговался, когда Степан назвал свою цену, он просто взял да и снизил ее вдвое, затем отвел Степана в закут, еще раз осмотрел вещи и выложил деньги, опять слегка округлив сумму в свою пользу.
Нарышкин, ожидая конца сделки, доверил стеречь сабли дядьке Терентию, а сам заглянул в трактир. Ознакомившись с «картой вин», он хмыкнул довольно громко:
— Эге, да тут по-благородному все устроено!
Выбрал вино, заявленное как «МОЗОЛЬСКОЕ»[1] Название это страшно его порадовало.
Он выпил, с неподдельным интересом рассмотрел осадок на дне бокала и долго раскатисто хохотал, хлопая себя по бокам под неодобрительные и косые взгляды посетителей — каких-то лакеев и мелких купчиков.
Когда оба вышли из трактира, Степан, несмотря на скоро обделанную сделку, был мрачнее тучи, заявив, что и раньше считал всех новгородцев свиньями, а теперь и вовсе в этом убедился. К слову вспомнил, что не зря их в народе прозвали «гущееды». Попутно досталось также «ряпушникам» — тверичам и «кособрюхим», то бишь, рязанцам.
Нарышкин, шедший следом за ним, раскрасневшийся то ли от смеха, то ли от винных паров, напротив, был в самом добром расположении духа. Он время от времени разражался приступами буйного хохота, припоминая название столь запомнившегося ему напитка.
— Мозольское… ой не могу! — трясся он. — Надо же, полторы рубли бутылка! Тебе не смешно, Степа?
Степан не ответил на вопрос, продолжая костерить жителей российских губерний и волостей, добрался уже до «соломатников» — ливенцев, но тут его остановил дядька Терентий, заявив, что земляков крыть не позволит.
Продвигаясь вдоль канала, они дошли до оружейной лавки, куда Нарышкин ввалился со шкурой и саблями, слегка перепугав хозяина.
Однако тот вскоре признал в Нарышкине своего давнего знакомца и с удовольствием принял и шкуру, и клинки, сознавая, сколь невелика выставленная за них цена. Оставался еще один пистолет, но его Сергей решил оставить при себе. Хозяин выпил с Нарышкиным здесь же в лавке по рюмке хорошего французского коньяку, завершив, таким образом, сделку к обоюдному удовольствию. Коньяк вогнал нашего героя в совершенную благость. Это выразилось в том, что Нарышкин, едва выйдя из оружейной, тут же ввинтился в соседнюю лавку, где купил яркий набивной платок и небольшой дамский несессер[2], в который умудрился втолкнуть бутыль кельнской воды[3]. Все это он преподнес, припадая на одно колено, вспыхнувшей, как маков цвет, Катерине, к явному удовольствию праздных зевак и небольшой собачьей своры, тут же огласившей округу громким лаем.
— Пойдемте, Сергей Валерьяныч, пойдемте от греха, — пробурчал Степан, помогая барину подняться. — Нам, сударь, на вокзал теперь надобно.
До вокзала докатили, взяв «живейного» извозчика[4], с которым Терентий долго рядился, пытаясь сбить цену, в то время как безучастный Нарышкин, позевывая, флегматично изучал вывески на фасадах. Огромный рыдван, который сам извозчик льстиво именовал коляской, отличался от обычной телеги только наличием крыльев и четырех кусков железа, имитирующих низкие рессоры.
На Сергея Валериановича езда подействовала усыпляюще, и он храпел всю дорогу, навалившись всем телом на Терентия, который, впрочем, проявил поистине трогательную заботу о своем барине. Подоткнул ему под голову венгерку и всю дорогу до вокзала в полголоса напевал какую-то матросскую песню, своей заунывностью напоминающую колыбельную.
У вокзала Нарышкин долго приходил в себя, возвращаясь в действительность из страны пьяного Морфея, а посему продолжительное время отказывался выходить из экипажа, чем сильно нервировал извозчика и Степана.
Несколько раз пересчитывали деньги и препирались с Нарышкиным, который в порыве человеколюбия заявил, что все должны ехать в первом классе, при условии, что он как особа дворянского звания поведет паровоз сам. Терентий, метнувшийся покупать билеты, вернулся, разводя руками: «Уже не продают! Касс заперт».
Но здесь неожиданно подфартило. Подошел прилично одетый, пышноусый господин и, елейно улыбаясь, предложил билеты до Москвы, как раз четыре штуки. («Сам, вместе с прислугой собирался ехать, да вот, извольте видеть, задерживают срочные дела-с»).
Таким образом, билеты были куплены: Нарышкину — во втором, а всем остальным в третьем классе. Поезда до Москвы ходили два раза в день — утром и вечером, и компания как раз успевала на вечерний поезд.
В оставшееся время до отхода поезда они побродили по Невскому, после чего Нарышкину непременно захотелось в Лавру. Пришлось снова взять извозчика, который довез их до некрополя. В стенах монастыря Нарышкин сделался серьезен и сентиментален. Он бродил меж могил, вздыхая и пытаясь припомнить строки популярных элегий.
На всех остальных тоже снизошла печаль. Катерина всплакнула, и только Степан, осматривая пышные надгробия, прикидывал вслух, во сколько такие памятники обходятся.
Пока бродили в Лавре, завечерело, от могил потянуло холодком, надгробия стали отбрасывать длинные замысловатые тени.
Спохватившись, снова изловили извозчика и погнали на вокзал. И едва-едва успели к отходу поезда. Давали третий звонок.
— Зайдите в вагон! На амбаркадере[5] па-а-аберегись! — зычно кричал кондуктор.
Степан и Катерина, никогда дотоле не путешествовавшие по «чугунке», пришли в сильный трепет, когда похожий на огромный самовар паровоз, весь в облаках сиреневого (в вечернем сумраке) пара, перед тем как тронуться, издал пронзительный свист. Наконец разместились, расселись, поезд с грохотом двинулся, затем пошел быстрее и быстрее, и вот уже в окнах замелькали дома, церкви, загородные поселки, а потом уже потянулись болота и бесконечное однообразие лесов. Степан поначалу все охал, удивляясь, как это можно, чтоб вагон ехал по рельсам без лошади, пытаясь рассуждать на эту тему. Однако вскоре его бунтующий разум смолк, усыпленный мерным перестуком колес.
Сгустились сумерки, и золотой солнечный мячик, скакавший между несущихся мимо вагона деревьев, пляшущий на поверхности болот, озер и речушек, канул за горизонт. В вагоне зажгли тусклый фонарь, и он, покачиваясь в махорочном тумане, выхватывал из полумрака руки, ноги, лапти, мешки, кошелки.
Потом была остановка. Кондуктор, контролер и сторож долго бродили по сонному вагону, перелезая через завалы вещей, проверяли билеты — длинные бумажные хартии с пропечатанными на них названиями станций.
Затем снова пронзительный свисток, пробуждающий от самого летаргического сна, шум, пар, движение, перестук колес, и вот уже за окнами снова несутся темные массы деревьев, и дрожит плывущий над лесом, ломаный пятак ущербной луны.
Во втором классе было меньше народу, диваны мягче, да и воздух не такой терпкий. Однако Нарышкин отчаянно скучал. Рядом ехало семейство, состоящее из благообразного господина, читающего «Северную пчелу», его тучной, дородной жены, которая, обливаясь потом, без конца обмахивала себя веером, регулярно повторяя Bon Dieu, и упитанного мальчика лет семи, который, сидя на краю дивана, тупо пялился в окошко и нес какую-то ахинею, мешая русские и французские слова. Нарышкин мучился, испытывая борение между хорошим воспитанием и желанием как можно шире зевнуть. Победило второе, более естественное, желание. Благообразный господин отложил «пчелу» и попытался завязать разговор о преимуществе Европейских железных дорог, которые, в отличие от нашей, устроены не так скверно, да и поезда по ним ходят быстрее, на что Нарышкин не без сарказма ответил, что в наших вагонах есть, по крайней мере, ватерклозет, и этим пресек все дальнейшие попытки сблизится в общении.
Минула ночь, но день также не принес ничего интересного за исключением зрелища горящей деревни на горизонте.
В Вышнем Волочке, когда поезд долго стоял, загружаясь углем, вся компания собралась в станционном буфете, где Нарышкин с мрачной злобой нарезался под сурдинку, и Степану с Терентием пришлось в буквальном смысле втаскивать его в вагон, прибегнув к помощи кондуктора и двух контролеров.
Всю дальнейшую дорогу до Москвы Сергей Валерианович спал в купе один. Почтенное семейство, весьма смущенное видом его расхристанного могучего тела, а также убоявшееся богатырского храпа, перебралось в дальний конец вагона на освободившиеся места. Наконец в разгаре следующего дня поезд прибыл в Москву.
Глава пятая В ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ
«Здесь огромные палаты,
Много, много здесь всего!
Люди всем в Москве богаты,
Нет лишь счастья одного…»
(Г. А. Хованский)С вокзала Степан хотел ехать прямо в контору дилижансов, чтобы отправляться далее. Но Нарышкин заявил, что вначале надобно осмотреться, показать Катерине первопрестольную, для чего не худо было бы и покататься по городу. Он вполне отоспался в поезде и выглядел хотя и немного опухшим ото сна и всклокоченным, однако настроение его было бодрым. Глаза сверкали деятельным огоньком.
Москва, в отличие от Петербургской чопорности и строгой холодности, встретила шумной крикливостью, пестротой домов, грязных переулков, расхристанностью улиц, где зачастую рядом с особняками соседствовали неказистые, ветхие домишки, повсеместно виднелись разнокалиберные маковки и золоченые кресты всевозможных церквей, часовен и соборов. В воздухе висела рыжая пыль, над крышами носились тучи жирных воробьев и галок, в атмосфере чувствовались ароматы большого базара.
Прямо у Николаевского вокзала наняли «Голубчика» — румяного извозчика в щеголеватой шапке и длинном, застегнутом сверху донизу темном сюртуке, подпоясанном ярким кушаком. Когда тронулись, Нарышкин стал указывать руками улицы, едва не вывалив в придорожную грязь всех сидевших в экипаже.
— Вон, вон, видите — это Красные ворота! А это Мясницкая — здесь богатеи живут. А это, взгляните Катенька, Тверская!
Катерина не успевала вертеть головой в разные стороны.
— А вон там, видите вдалеке — это Кремль! Арсенальная башня!
Катерина кивала головой, поправляя выбившуюся прядь.
Выкатили на Страстную, где против церкви Дмитрия Солунского, Степан потерял с головы свой картуз, который тут же был растоптан едущей следом черной каретой. Ее кучер, по утверждению Степана, из одной только подлости направил свой экипаж прямо на слетевший головной убор.
Остановиться, и подобрать картуз не было никакой возможности, так как движение было довольно оживленное и конца не было видно телегам, дрогам, дилижансам, каретам и прочим порою весьма причудливым экипажам. Одни из них везли пассажиров, другие тянули бочки с водой, тюки галантереи или возы с дровами, и все это беспрерывно двигалось, грохотало по ущербным камням мостовой, лязгало, скрипело, трещало рессорами и всеми сочленениями, бряцало конской сбруей, звенело колокольцами под дугой, цокало бесчисленными копытами. При этом подъезжающие к лавкам возы и подводы, следуя какому-то странному неписаному правилу, становились не гуськом — друг за другом, а поперек мостовой, создавая невообразимую толчею и затрудняя проезд.
— Господи ты, боже мой, — вырвалось у Терентия, — движение-то, какое! Что картуз! Тут бы самому живота не лишиться!
— Пройдет еще лет десять, и они тут совсем от этого движения задохнутся, — мрачновато предрек Нарышкин.
— Это, барин, у нас враз! — откликнулся с козел «голубчик». — Оченно даже возможно. Вчера на Москворецком мосту битый час стояли. Две тройки никак разъехаться не могли — так промеж себя сплелись, что ни в какую! А шуму-то было, шуму! Сверху ехал охотнорядский купец, а навстречу ему замоскворецкий заводчик. И никто уступать не захотел. Спервоначалу кучера друг дружку вожжами стали охаживать. Потом охотнорядский за своего вступился и тож в разделку полез. А там ребята замоскворецкие прибегли и туда же! Ну а следом за ними — охотнорядцы подкатили. Что ты! Такое дело задымилось! Насилу растащили!
— В Петербурге такого беспорядку нет, — насупившись, заявил Степан, обращаясь к вознице. Ему было жаль потерянный картуз.
— Ишь ты! В Петербурге! — негромко хмыкнул Терентий, дернув за рукав барина. — Давно ли у себя в Тмутаракани клопов кормил, а туда же — в столичные прописался…
— Это правильно, что беспорядку нет, — весело отозвался «голубчик». — А у нас никак не можно, чтоб порядок был. Вроде вот-вот обзаведемся порядком, а тут, на тебе, въедет какой-нибудь дурень поперек всех и опять беспорядок! Берегись, ожгу! Куда прешь… раззява! — заорал он на невысокого мужичонку с большим мешком на плече, который захотел перебежать дорогу перед экипажем. — Видали, какой народ бестолковый! Ну как с этакими быть порядку?
— Стало быть, верно сказано, что Петербург — это голова, а Москва — сердце Российской империи, — с некоторым пафосом воскликнул Нарышкин.
— Я бы, сударь, другое сказал, — вновь отозвался словоохотливый кучер. — Вот так поездишь цельный день среди этакого люда, оно и думаешь, что навряд ли сердце… скорее, другое какое место. Сказал бы вам, да совестно при барышне.
Катерина слегка зарделась и поворотила голову в сторону.
Незаметно въехали на Театральную площадь.
Тут Нарышкин пожелал сделать по ней круг, объезжая немощеный, огороженный канатами на столбиках плац-парад и водоразборный фонтан, возле которого сгрудились подводы с бочками водовозов, толпился в ожидании своей очереди народ с ведрами, коромыслами, тачками и лоханями. В многочисленных лужах вокруг фонтана принимали водные процедуры тысячи московских голубей.
От Театральной вдоль стены Китай-города, с многочисленными, лепившимися к ней лавками и лавчонками, проехали вниз — к деревянному, на каменных быках, Москворецкому мосту. С него открылась великолепная панорама на плавающий в легкой дымке Кремль, воинственную череду башен, златоглавые соборы, колокольню Ивана Великого, Москву-реку, сверкающую на солнце, с разбросанными по ее глади плоскодонными баржами, лодчонками, перевозами и плотами. А дальше дышало весенним воздухом Замоскворечье: «Болото», Кадашевская слобода, Берсеневка, Якиманка, Полянка, Ордынка, Винно-соляной двор. У кромки горизонта висел расположенный на крутом берегу Симонов монастырь, и уже совсем вдалеке где-то за Таганской и Рогожской заставой растворялись в небе поля.
Красота! Верно, Катенька? — не усидел Нарышкин.
— Верно, Сергей Валерианович. Красота и есть, — подтвердила Катерина, с замиранием сердца оглядываясь вокруг.
— А батюшка Ваш против был, чтоб мы этой красотой любовались, — подначил Нарышкин.
— Что на ее любоваться, дело надобно делать, — буркнул Степан.
— У их деловой милости в Петербурге лучше, — съязвил Терентий.
— И то лучше! Этакой вон грязи нет. Все чисто, аккуратно, честь по чести.
— Нет, Степан Афанасич, ты не прав. Петербург, конечно, хороший город, но это не Россия. Все там какое-то правильное, бледное, казенное, по линейке расчерченное. А Русь она вот где! Вот где русская кость. Как там, у Пушкина — «…там русский дух, там Русью пахнет…», — Нарышкин засмеялся и, расширив ноздри, втянул в себя весенний Московский воздух.
— Это Вы верно, сударь, про дух сказали, — откликнулся с козел «голубчик». — Пахнет у нас тут… Бывает еще ничего, а бывает — хоть святых выноси. Мимо Хитровки иной раз проедешь, так что ты, в нос так и шибает! — Балуй! Но, милая, пошла! — извозчик хлестнул по крупу лошади вожжами и повернул с моста на Софийскую набережную. Затем, проехав с версту, снова свернули на мост — теперь уже Каменный. И снова возникла панорама Кремля, но уже под другим углом. На Знаменке, устав от тряской езды, Катерина почувствовала себя дурно, и Нарышкин велел остановить у ближайшего трактира.
— Укачало, должно быть, — посетовал Степан. — Да и не мудрено. У самого нутря еле-еле наружу не вылезают.
— Подкрепимся немного. Это, наверное, от голода, — покачал головой Нарышкин.
— И верно, пора бы уже и подкрепиться, а то так с жирку сбрыкнуть вся недолга, — поддержал барина Терентий.
— Вы бы, сударь, не ходили в трактир этот, — нахмурился извозчик, получая расчет. — Неспокойно тут. Хотите в «Саратов» отвезу или к Гурину? Тут недалече.
— Нет уж, братец, поезжай, — махнул рукой Нарышкин. — Мы ребята не боязливые. Да и у Гурина нам не по карману обедать.
Двухэтажный, неказистый трактир ничем не отличался от всех себе подобных заведений: спертый табачный воздух, запахи кислой капусты, горелого сала и сырых половиков. Большое полутемное помещение обшито некрашеным тесом, у стены «каток» со снедью, по сторонам столы с грязноватыми скатертями, колченогие стулья. В зале было пусто. Только в дальнем углу неприятно галдела ватага подгулявших купчиков, да за одним из столов храпел, уронив буйну голову на скатерть, какой-то потасканный молодец.
Подлетел развязный, юркий, как хорь, половой. Подоткнул всю компанию к столу. Усадил.
— Пожалте, пожалте… У нас здесь отдохновенно, омашнисто! — облапал глазами Катерину. — Чего будете заказывать?
Спросили щей, свинины, блинов, горячих ситников и водки. Заказ был оформлен быстро. Порции оказались большими, а водка стоила всего полтинник, что несказанно обрадовало Нарышкина.
— Эге, да тут есть, где разгуляться, — заметил он, примостив к заказанному макарьевский балык и «сибирских пельменей».
Еда показалась весьма сносной, несмотря на то, что щи были кисловаты, а блины полежали на сковороде немного дольше положенного времени.
— Ну что, Степан Афанасич, чай, в Петербурге вот так-то «за грош да пошире» не посидишь, — подмигнул Нарышкин, уписывая блины. — Ваше здоровье, Катерина Степановна!
— Пойдемте лучше от греха подальше, сударь, — Степан с тревогой покосился на пировавшую в дальнем углу шумную компанию. — Вон они как в нашу сторону пялятся! Неровен час…
— Успокойся, Степа, выпей водки. Водка тут конечно дрянь. Ну да в нашем положении нос воротить не следует…
Тем временем от подгулявшей компании отделились двое и, пошатываясь, подошли к столику. Красные распаренные рожи, волосы, зализанные с пробором, мокрые от пота атласные рубахи под сюртуками распахнуты на груди, обнажая нательные кресты величиной с детскую ладошку, наглые сощуренные глазки, толстые губы, растянутые в ухмылке…
— Эй, барин, — прохрипел один из них, упершись руками о край стола и опрокинув рюмку, — продай нам вашу девку. А то ребят чегой-то скука одолела… Мы б с ей распотешились…
Нарышкин неспешно отодвинул свой стул.
— И много дадите? — спокойно спросил он, прищурившись.
— Тебе бы хватило, — заржал второй. — Правильно я говорю, Тимоха?
Однако Тимоха ответить не успел.
Грузный и неповоротливый, казалось бы, Нарышкин молниеносным движением метнул тяжелый графин с водкой точно в низкий лоб того, кого назвали Тимохой. Графин был пущен с такой силой, что молодец отлетел на два шага назад и, не успев издать ни звука, рухнул на спину. Брызги стекла разлетелись во все стороны. Его приятель, оторопев, не успел ничего предпринять, он только удивленно повел бровью и раскрыл рот, как тотчас кулак, стремительно прыгнувшего вперед Нарышкина с мокрым хрустом влетел в это отверстие. Парень упал почти беззвучно, и только голова его издала громкий стук о заплеванные доски пола.
Раздался истошный крик:
— Нашенских бьют!!!
И сразу же из дальнего угла к Нарышкину бросилось несколько человек.
— Не все сразу, ребята! — цыкнул на них Сергей, отбивая посыпавшиеся на него, будто картофель из мешка, удары.
Нападавших было шестеро. На шум драки из верхнего зала тоже сбегались бойцы. В образовавшейся свалке мелькали перекошенные злобой лица. С грохотом и звоном опрокинули стол. Из толпы, истошно вопя и хватаясь руками за окровавленную голову, выпал еще один любитель кулачных боев, об чело которого Нарышкин сломал стул.
Степан и Катерина в ужасе прянули к стене и теперь расширенными от страха глазами наблюдали за этим побоищем.
— Что же вы творите, изверги! — крикнула Катерина, но звук ее голоса потонул в общем гвалте кровавой сумятицы.
Нарышкин был страшен. Он разил направо и налево, но силы противных сторон были слишком не равны. Еще один купчик вылетел из общей кучи и с диким воем врезался в стойку буфета, обрушив на себя возвышающийся там трехведерный самовар-будан, по цилиндрическому тулову которого бежала затейливая надпись славянской вязью: «Самовар кипит, уходить не велит».
Над ревущей толпой поднялось облако пара.
Нарышкина теснили в угол, навалившись всей гурьбой. Ребята были все как на подбор крепкие, по всему видать, не раз ходившие стенка на стенку. Правда, тут бой шел без всяких правил, и нашему герою приходилось очень туго. Он отбивался точеной ножкой стола, пользуясь ей как дубиной, однако удары сыпались на него все чаще. Неожиданно раздался оглушительный выстрел, и внезапно наступившую тишину прорезал вопль подавшегося вперед Терентия.
— Стой, бакланы, поубиваю!
Одному богу известно, когда старый моряк успел достать из саквояжа пистолет и зарядить его. Однако это произошло, и на несколько мгновений в рядах нападавших возникла заминка и легкая паника, что дало возможность Нарышкину вырваться из своего загона, пнув ближайшего к нему верзилу ногой в пах.
Секундная передышка закончилась, как только нападавшие сообразили, что пистолет у Терентия только один, и перезарядить его он не успеет. Кто-то из половых сзади приложил дядьку тяжелым подносом по голове. Терентий выронил бесполезное оружие и ткнулся лицом в грязные половицы.
— Гады! Убивцы! Беги, Катюха! — взвизгнул Степан.
Но и ему тут же поднесли к лицу кулак, и Степан сразу смолк, сползая на пол и утирая окровавленный рот. Чьи-то руки потянулись к Катерине, но она вывернулась, выдернула из раскрывшегося саквояжа турецкий кинжал и зашипела змеей, полоснув по этим рукам холодной, острой, как бритва, сталью.
— А-а-а!.. Стерва! — возопил нападавший и метнулся за скатертью, пытаясь остановить хлеставшую во все стороны кровь. Поредевшая орава, тем не менее, уже пришла в себя и вновь подступилась к Нарышкину.
Но в этот момент шум драки перекрыл властный голос:
— А ну-ка расходитесь, православные!
В горницу вдвинулась огромная, слегка сутулившаяся фигура.
Вошедший был, казалось, выше любого из самых рослых молодцов по меньшей мере на две головы. Длинные, как у гориллы, ручищи оканчивались пудовыми кулаками, каждый величиной со средних размеров арбуз. В лице незнакомца тоже было нечто обезьянье — массивная нижняя челюсть, низкий лоб, широкий, разметавшийся по лицу нос, жесткая щетина на щеках. В темных, глубоко посаженых глазах притаилось что-то первобытное, и вместе с тем в них светился ум и даже своеобразная ирония по отношению ко всему происходящему. Одет явившийся исполин был опрятно и немного старомодно. Он подал оторопевшему половому так не вязавшийся с его обликом цилиндр и распахнул плащ-крылатку, делающий и без того громадную фигуру еще более широкой. Под высоким воротником вокруг могучей шеи был повязан галстук, из кармана сюртука выглядывала массивная золотая цепь.
Гигант легко поигрывал тростью величиной с хорошую оглоблю.
— Я, кажется, велел расходиться! — прорычал вошедший господин.
— Ты еще, что за гусь? — пробормотал кто-то в притихшем трактире.
Гигант усмехнулся, шагнул вперед, выдернул из толпы огольца, произнесшего последнюю фразу, и, слегка качнув его, выкинул в окошко, разлетевшееся со звоном и треском, особенно неприятным в наступившей до того тишине.
В следующую пару минут в окна и двери была выброшена вся остальная шайка разом протрезвевших, насмерть перепуганных молодцов, за ними наружу вылетели половые, некоторые попрыгали сами. Последним из-под буфетной стойки был выволочен хозяин заведения, который, получив добрый пинок в мягкое место, также покинул помещение.
В разгромленном трактире среди поломанной мебели и битого стекла осталась только компания наших героев да бледный половой, все еще державший цилиндр господина, нанесшего столь неожиданный, но своевременный визит.
Гигант же брезгливо вытер запачканные руки о скатерть и осклабился, поворотясь к Нарышкину.
— Спасибо, сударь, выручили, — шагнул навстречу ему Сергей.
Лицо его было в ссадинах, под глазом зрел, наливаясь соком, здоровенный синяк.
— Уж не знаю, как Вас благодарить, — Нарышкин осторожно пожал лопатообразную ладонь незнакомца. — Не знаю, кому обязаны…
— Зовите меня просто Николай Петрович, — рыкнул исполинский господин.
— Кабы не Вы, сударь, туго бы нам пришлось…
— Пустое, — Николай Петрович еще раз оглядел трактир. — Уходить вам надобно, господа… и чем скорее, тем лучше.
— Да, Вы правы! — Нарышкин заторопился. — Катя, Терентий, Степан … пойдемте отсюда.
Компания мигом подхватила пожитки, только Терентий замешкался, он, кряхтя и держась за голову, полез под стоящую у стены лавку, чтобы извлечь закатившийся туда пистолет. За барское добро Терентий, даже контуженный, считал себя в ответе.
Николай Петрович, забрав у трепетавшего, как лист, полового свой цилиндр, вышел первым. Зеваки и остатки разгромленного «воинства», собравшиеся на улице, вмиг растворились. Исполин критически осмотрел вышедших за ним помятых путешественников. Спросил прямо:
— Может, вам денег надобно?
— Не извольте беспокоиться… мы сами, — замычал опешивший Нарышкин.
— Пустое, — снова прогудел великан. — Вот извольте взять, — и протянул Нарышкину ассигнации.
— Да как же я Вам отдам? Ведь мы…. Мы здесь, собственно, проездом. В имение мое направляемся…
— Ну и поезжайте с Богом! А за деньги не беспокойтесь. Когда-нибудь еще свидимся, уж тогда и отдадите свой должок. — Николай Петрович странно усмехнулся.
— Слово дворянина, обязательно верну! — Нарышкин торопливо спрятал ассигнации во внутренний карман.
— Ну, вот и ладно. А теперь прощайте. Мне с вами не по пути, — Николай Петрович слегка наклонил голову, поворотился и степенно зашагал вниз по улице.
— Экая глыбища! — вырвалось у Терентия.
— Да, с колером человек! — согласился Нарышкин, растерянно глядя вослед уходящему исполину…
Поговорить, и обсудить происшедшее они смогли, только когда Знаменка осталась далеко позади. Перепуганный видом странной компании извозчик согласился везти только после того, как ему было уплачено вперед, да и то вдвое больше против обычного. И только после того, как перегруженная пролетка, тяжело скрипя, покатила по узкому коридору Моховой, Нарышкин, наконец, спросил:
— Интересно, откуда он взялся, этот Николай Петрович?
Степан нахмурился и пожал плечами. Терентий оглянулся и пробормотал:
— Как добрый самаритянин в писании…
— Откуда бы ни взялся этот добрый самаритянин, — продолжал рассуждать Нарышкин, — он появился как раз вовремя. Еще немного и мне пришлось бы совсем худо.
— У Вас, Сергей Валерианович, кровь на губе… И бровь поранетая, — тихо сказала Катерина.
— Да это ерунда! Однако вы, други мои, тоже выглядите не краше.
И в самом деле, платье Катерины было разорвано у самого ворота, кроме того, она порезала руку битым стеклом. Степан лишился зуба и теперь при разговоре слегка посвистывал. Губа его была рассечена. У Терентия на голове зрела огромная шишка. Падая, он прикусил язык, который теперь распух и, будто пудовый, едва ворочался во рту.
Однако больше всех досталось самому Нарышкину. Синяк под глазом вполне созрел, отчего глаз почти совсем закрылся, лицо было в ссадинах, болело все тело и особенно — бока, которые молодцы в трактире успели-таки изрядно намять.
— Черт, кажется, ребро мне сломали, окаянные! — Нарышкин выругался и с ненавистью посмотрел назад, туда, где скрылось за домами оставленное поле боя.
— Вам к дохтору надо, — отозвалась Катерина, с тревогой заглядываясь на опухшее лицо Сергея.
— Ну, мы их тоже неплохо отделали. Дядька Терентий хорош оказался! Страху на них нагнал, когда из пистолета пальнул! А вы, Катенька, когда кинжал выхватили, ну прямо Шамаханская царица, ей богу. Этакой гюрзой изловчились того длинного полоснуть!
В ответ Катерина немного нервно засмеялась:
— Ну и страху натерпелась, ужасти! Прямо колебание всей натуры!
— Про тебя, Степан Афанасич, одно скажу — герой! У этих мерзавцев, поди, и сейчас кулаки болят, когда ты на них лицом набросился.
— Не надо, Сергей Валерианович, — заступилась Катерина. — Видите, что они с батюшкой сотворили.
Она заботливо прильнула к отцу, но Степан отстранил ее, мрачно просвистев:
— Говорил я, не след туда ходить! Кабы не пошли, так ничего бы и не сталось с нами.
— Ну, будет, будет, Степан Афанасьич. После драки кулаками не машут, — примирительно сказал Нарышкин. — У нас как-никак впереди дорога. Да вот, кстати, тот господин денег нам дал.
— Много дал-то? — заинтересовано спросил Терентий. Сергей развернул ассигнации и обмер. — Триста рублей! Бумажка к бумажке!
Степан присвистнул. Благодаря образовавшейся прорехе во рту получилось это у него особенно залихватски. Извозчик испуганно оглянулся и втянул голову в плечи.
— Виданное ли это дело, чтобы за просто так этакими деньгами одаривали? — Терентий с сомнением покачал головой. — Что-то здесь нечисто, чует мое сердце! Я вам, сударь, еще давеча хотел сказать, когда вкруг Кремля объезжали. За нами почитай всю дорогу карета ехала черная… и лошади тоже черные все.
Нарышкин вспомнил случай на Дворцовой набережной и быстро оглянулся. Позади на почтительном расстоянии громыхала только телега, груженая бочками. «Нет, простое совпадение!», — подумал он.
— Тебе, должно быть, померещилось, Терентий! Вот ты, Степан, видел что-нибудь?
Степан, болезненно морщась, затряс головой:
— Ничего такого не видал.
Терентий внимательно посмотрел на него.
— А я, сударь, видал! Точно Вам говорю, была карета! И человек этот опять же… Откудова он взялся? С каких таких делов в заступники полез? И деньжищи с какой доброты отвалил? Нет, сударь, помяните мое слово, нечисто здесь!
— Чисто, не чисто, какая разница? А деньги я в долг взял. Вот продам по осени урожай, тогда и отдам! — с убеждением сказал Сергей, а про себя подумал: «Интересно, где искать кредитора? Он ведь даже адреса своего не оставил. Пожалуй, действительно странно!».
— Не хотел бы я, Сергей Валерианович, с этим господином еще раз встречаться, — мрачно изрек Степан и поежился. — Уж больно страшен!
— Ну, мы-то сейчас тоже не с модной картинки взяты, — ухмыльнулся Нарышкин.
— Это верно. По Владимирке краше гонят, — согласился Терентий.
— Надо бы приодеться, что ли, перышки почистить, пока нас в таком виде в участок не сволокли… Ты вот что, братец, вези нас на Сухаревку! Там рынок есть, — объяснил Нарышкин спутникам.
— На Сухаревку не поеду, — уперся извозчик. — Больно далеко! Рынок — вона, и на Никольской имеется!
— Ну, черт с тобой, вези на Никольскую!
— Боится нас, крыса, — тихо сообщил Терентий. — Думает, клячу мы его упрем, что ли?
На Никольской, в проезде, ведшем к маленькой старой церкви Троицы в Полях, шумел и гомонил толкучий рынок. Едва сойдя с пролетки, наши герои сразу затерялись в пестрой толпе, где на их вид никто не обращал внимания. Прежде всего, зашли в аптечную лавку, купили бинты и специальную повязку на подбитый глаз Нарышкина, надев которую, тот стал походить на флибустьера. Сухонький старичок аптекарь, он же и «фершельныхъ дел мастер», похожий на постаревшего вербного херувима, осмотрел бок Сергея в отдельной от общего зала комнатке, оказавшейся чем-то вроде приемной.
— Шить путете, сутар мой. Цело фаше репро, мошете не фольнофатьса! — сказал, он с сильным акцентом и наложил повязку, предварительно смазав ссадину каким то вонючим веществом, похожим… похожим на… впрочем, Нарышкину было не до тонкостей. Затем аптекарь осмотрел остальных и, покачивая головой, словно китайский болван, обработал, как мог, прочие раны.
— Как ше это фас укорастило? — спросил он, не рассчитывая, видимо, на ответ. — Это фам не Эфропа! Это Москфа! Тут нато смотреть ф опа!
Этот своеобразный каламбур пришелся ему по душе, так как старичок долго смеялся, потряхивая похожей на одуванчик головой, отчего казалось, она вот-вот оторвется от тонкого стебля его шеи и улетит под потолок.
Глянувшись в зеркало, новоявленный флибустьер приободрился:
— Я, «Гроза морей», страх и ужас Карибского моря! — объявил он, выйдя из аптеки. — Берем первопрестольную штурмом! Даю вам трое суток на разграбление города! Терентий, свистать всех наверх!
Сергею понравилась роль пирата, и он с удовольствием стал в нее вживаться. Завидев магазин готового платья, Нарышкин приказал немедля взять его на абордаж, пояснив, что такой отчаянной команде просто грех одеваться на толкучке. Команда взошла на борт галантерейного галеона и велела приказчикам капитулировать. В течение следующего часа вокруг наших героев суетилась, металась, примеряла и подшивала на ходу, угодливо улыбаясь, вся жалкая галантерейная братия.
Через час разграбленный галеон был покинут.
Наш флибустьер облачился в добротный сюртук, на шею повязал шелковый платок, на голове его, среди волнистых вихров плавал новый картуз. Все это в сочетании с повязкой на глазу производило сильное впечатление.
Катерина рдела от смущения, не без тайной радости оглядывая себя. В новом капоте и дорожном плаще она ничем не отличалась от молодых богатеньких москвичек. Если что и выдавало в ней простое происхождение, то это великолепная русая коса и чрезвычайно здоровый, немного смуглый цвет лица, так не любимый в среде кисейных барышень.
Степан с Терентием получили по кафтану, жилетке и шелковой рубашке с косым воротом. Нарышкин купил им новые картузы московского фасона. Степану черного, а Терентию мышиного цвета. Оба стали похожи на здешних гостинодворских купчишек-сидельцев.
Обмундированием команда осталась довольна, а Степан даже раскрыл в широкой улыбке щербатый рот. Покончив с галантереей, Нарышкин решил двинуться на штурм соседних лабазов, предварительно окропив свои обновы изрядной порцией перцовки, которую ему вынесли на крыльцо ближайшего трактира.
В то же время Терентий был отправлен на разграбление продуктовой лавки, откуда дядька вышел с кулем, в котором находились: изрядный кусок окорока, каравай хлеба, пряники, сыр и половина сахарной головы.
Еще битый час наша четверка бродила по рынку. В результате, Терентий сторговал у восседающей на подводе, доверху груженой плетеным товаром, грызущей семечки, толстой, словно бомбеха, бабы, объемистый дорожный погребец, куда и переложил провизию. «Гроза морей» купил Катерине туземное ожерелье из баранок, на книжном развале приобрел потрепанный томик некоего Александра Эксквемелина, под названием «Пираты Америки», а также сторговал чучело весьма странного вида птицы, которая по утверждению продавца была ничем иным, как «ахреканским попугаем Какадой».
Апофеозом стала покупка старой, траченной молью офицерской треуголки елизаветинских времен. Нарышкин тут же нахлобучил ее, до времени избавившись от нового картуза, и в таком виде двинулся в сторону Красной площади, вызывая вокруг своей персоны сильную ажиотацию видавшей виды Московской публики.
Только после того, как Нарышкин вблизи осмотрел всю в киселе майской грязи площадь, полюбовался собором Василия Блаженного, могучими стенами и башнями Кремля, продолжая удивлять своим экстравагантным видом московских обывателей, он наконец угомонился и, купив в гостином дворе большую бутыль рома, согласился заняться поисками ночлега.
Глава шестая ДОРОГИ И ДУРАКИ
«— Эй, ебена мать, возница! –
Крикнул он, и колесница,
Загремев по мостовой,
Унесла его стрелой…»
(Неизвестный автор)Переночевали в Гостином дворе, сняв для этой цели номера над торговыми рядами. Ночь прошла в целом спокойно, если не считать того, что Нарышкину опять являлся царь Иван. Вместо окровавленного посоха самодержец держал теперь весло. На бильярде играть уже не предлагал, все больше хмурился и сопел, нависая над постелью Сергея.
— Хто ты еси и откуду приде, и почему желаешь тайну мою прознать? — спросил он наконец.
— Отче, аз ныне бых на торжище и пременяяся к товаром, которой товар и по какой цене купитца и почему надлежит ево продать! — немного смущенно, но без запинки ответил Нарышкин. — Ух ты! Когда это я выучился на старославянском так складно чесать? — подумал он.
— Хощешь быть в торгу смыслом лутче меня? — с нескрываемым ехидством допытывался царь. — Хощешь жити славнее и богатее?
— Государь мой, милостивый батюшка! — льстил напропалую Нарышкин. — Дай ты мне триста рублев и отпусти с миром восвояси. Век за твою царскую милость богу молитца буду!
Самодержец стукнул в пол веслом и, брызгая себе в бороду обильной слюной, прокричал:
— Просишь триста рублев, пианица, а сам озадориваешься по кабацкой части! С каких таких прибытков?! — царь Иван, вытянув шею и пуча красные глаза, указал на бутыль рома, стоявшую на столе. — Како еси смел сотворить сие, мне, господину своему, ни малого кубка не поднеся?
— Выпить желает царь-батюшка! — смекнул Нарышкин и хотел, было, уже предложить государю промахнуть рюмашку, но упустил нужный момент.
— Не ведаешь, что лютой смертию да умрешь!
С этими словами царь шагнул сквозь окно и растворился в темноте московской ночи…
Утро выдалось ясным. Нарышкина разбудил колокольный перезвон, плывущий, казалось, отовсюду.
Контора, отправлявшая ежедневные дилижансы на Тулу, Орел, Курск и Харьков, располагалась на Тверской. Туда поехали сразу после завтрака, взяв правившего парой справных гнедых лошадок «лихача» — смешливого малого, который беспрестанно вертел головой, разглядывая Нарышкина, похохатывал и один раз так отвлекся, что едва не перевернул пролетку.
Стоило большого труда упросить Нарышкина, дабы он сменил свою пиратскую треуголку на более подобающий картуз, прежде чем отправится покупать места. «Гроза морей» с большой неохотой подчинился. Он обреченно нахлобучил на себя картуз, подарил чучело мнимого попугая извозчику, велев присматривать за ним хорошенько и только тогда, поворчав, поплелся в контору.
Здесь неожиданно повезло, компания успела как раз к отходу очередного дилижанса.
— Есть только четыре места, как раз перед вами случайно освободились, — сообщил сидящий за прилавком конторщик и отметил что-то в своей толстой шнурованной книге.
— Нам это очень даже подходит! — воскликнул не скрывающий радости расставания с Москвой Степан.
— Одно место снаружи, — поднял голову конторщик. — Изволите брать?
— Берем, тысяча чертей! — рявкнул Нарышкин так, что находившиеся в помещении люди, включая конторщика и человека, взвешивающего в дальнем углу багаж, вздрогнули и с испугом посмотрели в его сторону.
Наконец все было улажено, и шестерка почтовых лошадей тронула с места тяжелую рессорную карету. На одной из передних лошадок в своем седле мотался форейтор — низкорослый, похожий на старую карлицу мужичонка, которого кучер называл Петюней. Место на высоченных козлах рядом с возницей пожелал занять «Гроза морей», на сей раз заявив, что не желает сидеть взаперти, в тесном купе, словно сельдь в бочке. Он вооружился бутылью рома и куском окорока, не без оснований полагая, что это значительно скрасит ему поездку. Переполненный людьми дилижанс сверху был уставлен всевозможным багажом: саквояжами, корзинами и сундуками, плотно увязанными и укрытыми кожаным чехлом.
Лошади слегка скромничали в белокаменной, но за Москвой понесли во всю прыть. Нарышкин едва не потерял свой новый картуз и был вынужден надвинуть его до самых бровей. На сердце нашего героя сделалось весело и легко от предвкушения дальней дороги. От весеннего ветерка, бьющего в лицо, оттого, что мимо неслись избы, заборы, овраги, проплывали поля и перелески.
Сергей не нашел ничего лучшего, как поделиться своей радостью с кучером — коренастым, плотненьким дядей с круглым, обветренным, немного бабьим лицом, слегка обрамленным похожей на пух бороденкой.
Кучер, которого звали Мартын, вначале долго отнекивался; держа вожжи в левой руке, правой сердито нахлестывал лошадей и твердил:
— Нет, барин! Никак не можно!
Однако на первой же за Москвой остановке, когда пассажиры несколько минут разминали свои затекшие конечности, оказалось, что все-таки можно. Возница махнул рукой, согласился и выпил украдкой, чтобы не видел кондуктор. Петюня, у которого был завидный нюх на такого рода вещи, тоже тишком метнул в горло порцию рома. На следующей остановке они с Нарышкиным добавили еще. Мартын, и без того бывший не вполне бел лицом, сделался красным, как томат. Одновременно он стал обнаруживать признаки презрения ко всякого рода рытвинам и колдобинам и совсем перестал тормозить экипаж, в результате чего дилижанс несся под гору со свистом, гоня впереди себя шестерых обезумевших от страха лошадей, которые быстро выбились из сил от такой езды. Петюня на некоторое время как бы затмился. Он дремал, опустив голову к самому седлу, опасно раскачиваясь из стороны в сторону.
В Серпухове у переправы через Оку, когда меняли лошадей, ожидали застрявший на том берегу паром и чистили купе, в котором двум путникам стало нехорошо, пассажиры дилижанса приходили в себя. Будучи не в силах доковылять до почтовой станции, они сидели на траве у дороги и затравленно смотрели на то, как доставшие свой плетеный погребец Нарышкин с Терентием закусывали здесь же, неподалеку, чем бог послал. Степан и Катерина чувствовали себя неважно и от своих порций отказались.
Отужинав, «Гроза морей» изъявил желание осмотреть живописные окрестности Оки. Кучер и Петюня пожелали сопровождать его в этой экскурсии, по прошествии которой выяснилось, что Мартын не вяжет лыка. По причине этого, а также в ожидании парома, приклеившегося к дальнему берегу, возникла продолжительная заминка. Кондуктор метал гром и молнии. График следования был безнадежно разрушен. Вопреки здравому смыслу, решено было все-таки выезжать.
Проштрафившегося Мартына сдали смотрителю станции. Поскольку замены вознице не нашлось, кондуктору, кряхтя и чертыхаясь, самому пришлось лезть на козлы. Петюня, слегка оживший, сидел в своем седле; нахохлившись и беседуя сам с собой, нес околесицу на каком то ирокезском языке.
Нарышкин «покинуть мостик» наотрез отказался. Терентий, убоявшись потерять своего барина по дороге, прикрутил его к сиденью крепкой веревкой для увязывания багажа.
Переправа затянулась до позднего вечера. А за Окой пошла бесконечная, тряская езда в ночи…
Кондуктор, сменивший эпикурейца-Мартына, был зол и мрачен, короткого знакомства с Нарышкиным свести не захотел. Он только бурчал себе что-то под нос да внимательно смотрел на темную, еле различимую впереди дорогу. Почтовая станция все не показывалась. Выбулькавший весь ром Нарышкин крепко спал, привязанный к козлам. Однако вскоре он проснулся от осознания неотвратимости совершения естественной надобности и потребовал немедленной остановки. Но кондуктор, казалось, ничего не слышал, а привязанный накрепко барин не мог высвободиться сам. Время шло, Нарышкин нервничал. Наконец, окончательно потеряв терпение, он изловчился и сильно пнул кондуктора свободной от пут ногой. От неожиданности тот выпустил вожжи и тихо провалился куда-то в темноту. Лошади проскакали еще с полверсты и перешли на шаг. Форейтор, снова затмившись, мерно храпел, покачиваясь в седле. Дилижанс, лишенный управления, рыскнул куда-то вправо и остановился, увязнув колесами в земле. Разбуженные криками запутавшегося в своих силках Нарышкина, из экипажа выскочили перепуганные пассажиры.
— Сергей Валерьяныч, что стряслось? Жив ли ты там, батюшка? — подал голос Терентий.
— Развяжи меня, старый дурень, сил моих нету терпеть!
— Свят, свят, свят, а где же кучер?
— Почем мне знать! — злился Нарышкин. — Развязывай меня скорее или я сейчас дам течь.
На востоке посветлело. Где-то лаяли собаки. Близость жилья немного обнадеживала. Нарышкин предложил развести костер и, быть может, что-нибудь спеть.
Однако любезно обнародованная им песня о том, как в степи глухой замерзал ямщик, энтузиазма не вызвала. Кто-то из полумрака послал Нарышкина к черту.
— Что ж, мое дело предложить, — прерывая пение, ответил «Гроза морей» невидимому оппоненту. — Дело в том, что в поле на заблудившихся путников частенько нападают волки. И я подумал, если бы мы развели костер и спели, то это могло бы отпугнуть зверя.
В салоне послышался всхлип и шум падающего тела.
— Боже мой, да заткните его кто-нибудь!
— Вот послал бог попутчика, — раздался нестройный хор голосов.
— Что происходит?
— Это моя жена! Она упала в обморок!
— Бедняжка. Осторожно не наступите…
— Вы чудовище! Вы же ее напугали…
— Вот всегда так! Хочешь как лучше, а люди этого не понимают, — Нарышкин скорбно вздохнул и, чтобы не возбуждать дальнейшего негодования толпы, снова полез на козлы.
Остаток ночи пассажиры провели в томительном ожидании. Мужчины несли дозор. Дамы дрожали внутри дилижанса. Кроме Нарышкина, храпящего на козлах, и Петюни, покоящегося в седле, никто не заснул. Степан с Терентием, расположившись на своих скудных пожитках возле заднего колеса, вполголоса переругивались. Катерина, сидевшая внутри кареты вместе с тремя пассажирками, пыталась дремать. В карете дамы единодушно осуждали поведение Нарышкина. Дородная купчиха, направлявшаяся в Малороссию, с тревогой прислушивалась к раскатам богатырского храпа, доносившегося с козел.
— Это прямо ужас с кем приходится ехать! Просто шайка какая-то. А этот одноглазый, который кучера напоил, настоящий колодник, прости господи! Верьте слову, кондуктора тоже он угробил. Горло чирик — перерезал и в канаву скинул. Это у них быстро, — купчиха покосилась на Катерину, но та сделала вид, что спит.
Тусклый свет лампы выхватывал из темноты перекошенные страхом лица.
— Господи, что же с нами будет? — донеслось из другого угла кареты.
— А что будет? Мужчин порежут да покладут. А нас известное дело… — купчиха снова бросила быстрый взгляд на Катерину, — насильничать станут, глумиться да куражиться. Спервоначала, конечно, разденут до исподнего…
— Неужто до исподнего? — враз спросили обе дамы и голоса их показались Катерине заинтересованными.
— Страх-то какой! — с чувством произнесла худая, словно грабли, барыня средних лет, по виду небогатая помещица. — Я даже своему Петру Ивановичу этакого-то не дозволяла… Да неужто и впрямь до исподнего?
— А что ж вы думаете? Это у них, злодеев, так заведено. Разденут — ну насильничать, ну насильничать… Видели, какая рожа у ихнего атамана? Чистый каторжник. Такой ни перед чем не урезонится.
— А мне он сначала интересным показался… Если бы, конечно, не эта повязка… — прошептала третья барынька помоложе.
— Что вы такое говорите, — косясь на Катерину, шикнула на собеседницу купчиха. — Вот увидите. Истинный крест, они, кандальные души, как есть будут насильничать! — в голосе купчихи слышалась мрачная убежденность.
— Да когда ж они начнут-то? — со страхом в голосе, в котором также угадывалось и нетерпение, вопрошала худая дама.
— Кто их окаянных знает? Может, сейчас прям и начнут, а может, как к Орлу подъедем. Орловские-то знаете какие? Первые душегубы на земле. Разденут до косточек и не погребуют ничем. Чистые канибальцы!
— А я вот только до Тулы еду, — облегченно и как-то слегка разочаровано вздохнула молодая барынька.
— А кто ж их разберет, злодеев, могут и под Тулой накинуться. Тула она тоже никому не уступит. Тот еще вертеп! Сейчас где угодно раздеть могут, анчихристы, — утешала купчиха.
На рассвете выяснили, куда же заехал злополучный дилижанс. Карета стояла посреди обширной пустоши, позади виднелась какая-то деревня, справа и слева темнел лес. А прямо по ходу, в десятке саженей от копыт передних лошадей, обнаружился глубокий овраг, на дне которого клубился густой туман.
— Бог уберег! — убежденно воскликнул Терентий, опасливо подходя к провалу. — Кабы не господь, так бы и сверзились в общую могилку!
С дамой, ехавшей до Тулы, при виде опасности, которой чудом удалось избежать, сделался легкий чувственный припадок.
Мужчины, сквозь зубы кляня мирно спавшего на козлах Нарышкина, отправились в деревню за подмогой. Они вернулись примерно через час, перепачканные дорожной грязью, и привели с собой пятерых заспанных мужиков и пару тощих крестьянских лошаденок. Немедленно возникла та суетливая неразбериха, препирательства и ругань, обычно предшествующие любому делу, за которые только не берется русский народ. Наконец с божьей помощью почти по ступицы увязнувший в сырой земле дилижанс удалось вытолкать и выволочь на большак.
— Как же это вас, болезных, угораздило? — скребли затылки мужики. — Мы ж давеча слыхали, как вы скрозь деревню проехали… Эк, куды вас занесло-то!
Когда дилижанс был выкачен на дорогу, мужикам дали расчет, и они, премного благодарные, тут же испарились.
Прежде чем тронуться, осмотрели поклажу. Выяснилось, что пропал баул направляющейся в Малороссию купчихи и два мешка с казенной почтой. Купчиха взвыла белугой, и ее долго пришлось приводить в чувство.
— Теперь, матушка, уж не сыщешь добро Ваше. Такой народ, что не зевай. Ни в жисть не признаются! — резонно заметил Терентий.
— Хорошо, что только вещи взяли, а ведь могли бы и насилие учинить, — задумчиво произнесла худая помещица.
— Такой уж народ! Вор на воре и вором погоняет, — вновь рассудительно ответствовал Терентий и полез на козлы править шестеркой, поскольку кроме него никто не умел управляться с таким экипажем. Отоспавшийся карлик-форейтор, тревожно озираясь в сторону Нарышкина, пытался помогать с удвоенным рвением. Каких-либо следов пропавшего кондуктора так и не обнаружилось.
Терентий правил осторожно. Проголодавшиеся лошади, почуяв близость почтовой станции, на которой ждали корм и отдых, бодро рысили по укатанной дороге. Вполне рассвело, но день обещал быть сереньким, солнце только угадывалось среди плотной пелены облаков. Нарышкин икал и ежился, в полудреме покачиваясь рядом с Терентием.
….До Тулы доехали к обеду.
На станции пассажиры дилижанса в голос объявили, что путешествовать далее в компании Нарышкина отказываются наотрез. Возмущенные путники разошлись в своем гневе не на шутку. Кондуктор так и не отыскался. Казенная почта и купчихины вещи пропали безвозвратно и все по вине Нарышкина — так гласило общественное мнение. Кроме того, сильно нарушился график движения. Плюгавый смотритель Тульской станции выглядел встревоженным. В воздухе запахло словом «полиция». Самым лучшим выходом было, не нарываясь на скандал, ретироваться подобру-поздорову, что наши герои и сделали.
Покинув гудевшее, как улей, здание станции, они долго петляли незнакомыми тульскими переулками. Вскоре пошел дождь, за его пеленой виднелись только заборы, фабричные трубы, да вдалеке над мокрыми крышами домов угадывались массивные башни Кремля с куполами соборов.
— Мерзость… — ни к кому особенно не обращаясь, произнес «Гроза морей». — Голова просто разламывается!.. Что это за город?
— Тула, сударь, — невозмутимо ответил Терентий, сдувая с носа повисшую на нем каплю.
— Тула… — проворчал Нарышкин. — Что-то не верится мне, что это Тула. Где ж самовары? Я пока вижу только одни проклятые заборы. Чай пьют здесь или нет?
Катерина рассмеялась:
— Да вы, Сергей Валерианович, поди, уж разучились чаи-то пивать!
Минут через десять мокрого хода на пути наконец попалась гостиница. Название разобрать не удалось, да и кому было охота стоять под дождем, силясь прочесть вывеску, укрепленную почти под самой крышей. Внутри было темно и покойно, как в норе. За конторкой служителя горела масляная карсель. Из ресторации доносились звон посуды да унылые переборы гармошки. Сергей поморщился, как от зубной боли.
— Есть у вас тут тихие номера? — спросил он у служителя. — Такие, чтобы без музыки?
— В осьмом и десятом очень покойно-с, — угодливо изогнулся служитель, — никто не потревожит, не извольте сомневаться.
— Не надо так кричать, — медленно ответил Нарышкин, оглядывая согбенную фигуру служителя. — Терентий, заплати сколько нужно и дай ему рубль — чтобы нас никто не беспокоил.
Служитель понял с полуслова и, приложив ладонь к губам, дал понять, что будет нем как рыба. Опасливо косясь на Нарышкина, он сиплым шепотом подозвал мальчишку коридорного, чтобы тот проводил господ.
Номера были обычные, как в любой провинциальной гостинице и, пожалуй, в этом смысле ничем примечательным себя не проявили; разве что в номере, который заняли Нарышкин с Терентием, на стене, прямо на видном месте был зверски убит могучий некогда таракан, а чуть повыше неизвестный художник ламповой копотью нарисовал голую женщину с обширным задом.
— Славное местечко, — кисло поморщился Нарышкин. — Надеюсь, что долго мы здесь не задержимся! Поди, Терентий, распорядись насчет чаю.
Через четверть часа на столе перед компанией, собравшейся в номере Нарышкина, был воздвигнут кипящий самовар. Расторопный малый принес печатные пряники и липец в большой миске, дядька достал остатки окорока, извлек из погребца сахар и сыр.
— Милости прошу! — Терентий выразительным жестом пригласил всех к столу…
Но тут за стеной раздался выстрел, а следом противный женский визг.
— Канальство! Это называется — «покойно»! — Нарышкин нахмурился и решительно поднялся. — Сидите все, я выйду, посмотрю, что там такое.
— Сергей Валерианович, не надо! — взмолилась Катерина. — Не ходите туда!
Нарышкин молча отодвинул возникшую у него на пути Катерину — просто приподнял ее за плечи и отставил в сторону.
У дверей соседнего номера уже толпился народ.
— Ахвицер из Плавска гуляют, — округляя и без того большие васильковые глаза, объяснил мальчишка-коридорный. — Во весь рост гуляют, тому как три дни! Ужо, небось, ведерко водки ухнули за энтое время! — мальчишка восхищенно прищелкнул языком. — С девкой оне там. Он ее не пущает! Грозит! Говорит, убьет! А то и убьет, что жа, разве долго!?
Побелевший, как мел, служитель вклинился в толпу постояльцев.
— Господа, покорнейше просим разойтись! Это недоразумение, господа!
— Как же, недоразумение, когда у вас тут смертоубийства творятся! — пискнул невысокий человечек со следами прерванного бритья на лице. — Надобно за квартальным послать и немедля-с!
— Успокойтесь, господа, ничего страшного не случилось! — увещевал служитель.
Раздался новый выстрел, также сопровождаемый женским визгом.
— Там у него Глашка с Оружейного, — зло сказала смазливая, растрепанная девица, лузгая семечки, которые она сплевывала в кулак. — Так ей и надо, воспище, чтоб чужих кавалеров не отбивала.
— Ступай, без тебя разберемся! — раздраженно оборвал ее служитель.
— Прибьет он ее, как пить дать прибьет! — девица сплюнула шелуху, вызывающе оглядела Нарышкина мутными глазами и, покачивая крупом, удалилась.
— Если выстрелит еще, надо сразу ломать дверь, пока перезарядить не успел, — полголоса сказал Нарышкин служителю.
— И-и, батенька, охота была вам под пули подставляться? — встрял, не добрившийся коротышка и попятился прочь от двери. — Беспременно нужно квартального!
— Господин офицер всегда так куролесят… Правда, допреж не стреляли, — удрученно пробормотал служитель. — Потом, когда отоспятся, чаевых хороших дадут, — он доверительно посмотрел на Сергея.
Раздался третий выстрел и Нарышкин, не раздумывая, двинул в дверь плечом что было силы, выбил замок и вломился в заполненную пороховым дымом комнату…
Глашка сидела на измятой постели и жалобно скулила, зажав уши ладонями. Возле залитого вином и заваленного объедками стола, сжимая в руке дымящийся двуствольный пистолет, покачиваясь, стоял багровеющий господин с бульдожьей физиономией. Господин был в исподнем белье, только голову его венчала остроконечная каска с фигурой, изображающей горящую гренаду[6] и двуглавым имперским орлом.
— Эт-та чта-а! — выпучив глаза, протянул он и направил дуло пистолета в сторону Нарышкина.
— А ну брось эту штуку, — спокойно сказал Сергей, шагнул к господину и, крепко сжав ему запястье, легко выдернул оружие — Что же это ты, брат, расшалился совсем? Негоже!
В комнату со страхом заглянул служитель.
— Чта-а-а? — повторил господин в каске. — Я обер-офицер гренадерского полка, а ты кто? Как стоять перед офицером?
Нарышкин медленно выдвинул вперед кулак и подпер им нос разгулявшегося гренадера.
— Будешь шуметь. Я тебе, гад, морду набью! — пообещал Сергей.
— Хочу Шанпанского!.. — разом перестав скулить, хрипло сказала Глашка.
Обер-офицер свел соловые глазки на своей переносице, внимательно рассматривая кулак Нарышкина, потом переместил их на лицо Сергея, украшенное повязкой через глаз. Некоторое время вояка собирался с мыслями.
— Кутузов! — сказал он, отодвигая свое лицо от кулака. — Я узнал тебя!
— Оденься, смотреть стыдно, — поморщился Сергей.
Гренадер тяжело опустился на кровать, исподлобья посмотрел на Сергея и, взяв со стола замасленный обрывок газеты, прочел.
«…Нет в Европе войска, подобного русскому! Никакого в свете солдата, не исключая даже француза, нельзя так скоро поставить на военную ногу…», — он принялся возить по тексту корявым пальцем: «…Что может быть приличнее и приятнее зеленого с красным для пехоты…».
— Налей, красавец, даме красного! — по-своему истолковав услышанное, прохрипела Глашка, пытаясь подмигнуть Нарышкину.
— Пошла вон, стервь! — обер-офицер навел на нее выпученные глазищи. — Галопом, паскуда, ать-два!
Глашка, вполголоса выругавшись, собрала свои пожитки и нехотя поплелась из номера прочь.
— Ты в карты играешь? — спросил обер-офицер, обращаясь к Нарышкину и снимая каску с головы.
— Ну, допустим, — прищурившись, ответил Сергей.
— Давай партейку, Кутузов, а? — предложил вояка. — А то в этом поганом городишке совсем не осталось порядочных людей… одни мошенники и свиньи! Он пошарил под кроватью, смахнул с заплеванной скатерти объедки и воздвиг на ней бутылку красного виноградного вина за номером сто один.
— Ну что ж, — приязненно оглядев возникшую на столе доминанту, умягчился Сергей, — как там, в гимназии-то учили? «Volentem ducunt fata, nolentem trahunt…», так, кажется? «Желающего судьба ведет, не желающего тащит!»
…Нарышкин вернулся в свой номер около полуночи. Он был уставшим, но заметно повеселевшим.
— Боже мой, Сергей Валерианович, мы тут уже совсем извелись Вас ожидаючи, — бросилась к нему Катерина. — Где же Вы, сударь, так долго были?
— Играл в карты, Катенька. Все в порядке. Да я ведь посылал коридорного сказать.
— Сказать-то он сказал, но все же как же можно, что б вот так… — глаза Катерины предательски заблестели. — Я волновалась об Вас! Мы все волновались, — добавила она, бросив быстрый взгляд в сторону хмурого Степана.
— Собирайтесь-ка и побыстрее. Терентий, спускайся вниз. Там во дворе бричка, я велел ее закладывать, так ты присмотри. Ну что, друзья мои, путешествие наше продолжается! — Нарышкин широко зевнул и улыбнулся. — Бог мой, как я устал…Черви, бубны, вины… В глазах рябит! Ничего, в дороге посплю…
— Откуда, сударь мой, бричка? Какая такая бричка? — Терентий развел руками.
— Бричка знатная, новая. Экипаж о четырех колесах с рессорами, изделие знаменитого каретного мастера Прулля из самого Санкт-Петербурга. Тройка лошадок прилагаются к сему в качестве основного движителя экипажа. И даже колокольчик под дугой, кажется, валдайский! Имеется в комплектации кучер, но нам он, пожалуй, без надобности. Так-то, судари мои! — Нарышкин рассмеялся.
— Но откуда? Как? — почти в один голос воскликнула компания.
— Взял на карту у этого болвана из Плавска! Масть шла — любо дорого! Теперь «Портупей-прапорщик» спит, как и его кучер, и нам с вами надобно выезжать немедля, покуда они не прочухались и не подняли шум. Так что собираемся — и в путь дорожку!
— Это что ж, выходит, рублев на полтыщи погрели господина ахвицера? А ну, как он донесет?
— Что делать, Степан Афанасьич! В карты играть — это тебе не лапти плесть! Так что ли в народе говорится? По мне — не садись, коль боишься продуться, а сел — так играй!
— А ежели, все-таки донесет? — не унимался Степан.
— Ну, это, пожалуй, навряд ли. Мундир марать не станет. Пошумит, пошумит да и образумится. А, кроме того, — «Гроза морей» хитро улыбнулся и хлопнул себя по карману, — господин ахвицер написал мне расписку! Поэтому, други мои, — по коням! Свистать всех наверх и полный вперед!
Сборы были недолгими. Через несколько минут запряженный и снаряженный экипаж уже выкатывал со двора гостиницы. Нарышкин более чем щедро дал на чай коридорным и благодарно склонившемуся перед ним служителю.
— Храни вас бог, сударь, выручили вы меня. Молиться за вас буду!
— Пустое, — отмахнулся Нарышкин. — Ты вот что, когда господин обер-офицер проспится да спрашивать станет, ты скажи, что, дескать, давешний барин, с которым в карты играли, велел кланяться и с тем отбыл… ну, скажем, в Петербург.
— Давешний барин? — переспросил служитель.
— Да, давешний барин — Михаил Кутузов, сын Илларионов. Фельдмаршал, — ответил Нарышкин и скромно улыбнулся.
— Стало быть, Вы, сударь, в Петербург едете? — служитель с трудом скрывал понимающую усмешку.
— Вот именно, в Петербург, ты так и передай. Ну, бывай, голубчик!
— Час добрый! — служитель поклонился и проводил глазами отъезжающую бричку.
Глава седьмая В КРАЮ ДВОРЯНСКИХ ГНЕЗД
«Ба! Что я вижу! Тит Евсеич здесь!
Так, так и есть! Его мы точность знаем!
Но отчего ж он виден мне не весь?
И заслонен каким то попугаем?»
(А. К. Толстой)Солнце высоко поднялось над редкими хлопьями облаков, и воздух наполнился зноем, какой бывает иногда в мае, до той поры холодов, когда начинает цвести черемуха. Дорога широкой лентой вилась впереди, между вспаханными, исходящими паром полями и зеленеющими коврами лугов. Колокольчик с подвязанным языком молчал, так как его звон мешал дремать Нарышкину. В бричке пахло новым лаком и свежей кожей. «Гроза морей» поклевывал носом, он был трезв, как огурец, и вяло рассеян.
На повороте, из-за ракит, навстречу экипажу гурьбой вышли мужики, обутые в тяжелые растоптанные лапти. За спинами у них болтались берестяные котомки. Мужики хмуро поклонились и, равномерно колыхая дорожными палками, медленным тяжелым шагом прошествовали мимо.
— Эх, Рассея! — буркнул приоткрывший глаз Нарышкин. — Как там? «Люблю Отчизну я, но странною любовью…», — продекламировал он.
— «…Проселочным путем люблю скакать в телеге И взором медленным, пронзая ночи тень, Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, Дрожащие огни печальных деревень…»— Это Вы написали, Сергей Валерианович? — Катерина слушала стихи очень внимательно, глядя в полузакрытый глаз Нарышкина.
— Нет, не я, — задумчиво ответил Сергей. — К сожалению, Катенька, это написал не я. Это стихи одного молодого поручика. Он служил задолго до меня в Тенгинском пехотном полку, на Кавказе. Сложный был человек, острослов и задира, каких поискать. Погиб глупо. Рассказывали, все издевался над одним майором, в сущности — безобидным человеком. Дразнил, насмешничал, потешался… и даже при дамах, — Нарышкин рассеяно, думая о чем-то своем, посмотрел на Катерину. — Глупо, ужасно глупо, — пробормотал он.
— Что же случилось? — подавшись вперед и расширив серые глаза, спросила Катерина.
— Майор терпел, терпел да и плюнул. Да и кто бы снес на его месте? У нас этакого не поощряли, чтобы, извините, в бабском кругу над полковым товарищем зубоскальничать. Вышла дуэль. Поручик был убит.
Прескверное дело. Вот так, по глупости, по недомыслию и сам жизни лишился, и человеку на совесть пятно поставил. Глупец! Однако талантлив был чертовски! М-да… «Дрожащие огни печальных деревень…» — рассеяно повторил Нарышкин и выглянул из брички.
В самом деле, запахло деревней: дымом, дегтем, навозом, а потом с обеих сторон замелькали покосившиеся избы с резными тесовыми крылечками и маленькими оконцами, затянутыми бычьим пузырем. Крестьянские дети, чрезвычайно грязные, в одних драных рубашонках, сквозь которые светилось голое темное тельце, тянули ручонки в сторону брички, бежали за экипажем, быстро семеня в пыли босыми ногами и выпрашивали монетку.
— Брось им, Терентий! — крикнул Нарышкин и, печально усмехаясь, отвернулся.
— Мне, сударь, не жалко! Только не надо им деньги давать. Все одно родители заберут на пропой. Этак-то они и вовсе работать перестанут. Пробегал целый день за каретой — на тебе грош! Не надо сеять, не надо жать! — Терентий для острастки замахнулся на попрошаек кнутом и слегка щелкнул, чтобы отогнать детей от колес.
Вскоре деревня осталась позади, а дорога вновь побежала меж полей, то ныряя под бугор, то взбираясь на невысокие плоские холмы. Средняя полоса России — лесостепь, буераки, вспаханные кое-как поля и пыль, пыль, пыль.
Верст через пять дорогу запрудил двигающийся навстречу караван огромных возов, запряженных сытыми владимирскими тяжеловозами.
— Чего везете, землячки? — поинтересовался Терентий у головного извозчика. Но тот только махнул кнутом и проводил экипаж Нарышкина долгим бессмысленным взглядом.
— Чурка с глазами! — в сердцах, сказал дядька.
Повторение вопроса, обращенное к следующему возу, на котором, накрывшись грязной рогожей, лежал другой возница, принесло те же плоды. Краснорожий мужик с русой, окладистой бородой высунулся из-под рогожи и, хрумкая морковкой, равнодушно-презрительным взглядом окинул бричку.
— Им — что с масла вода, — покачал головой Терентий. — Ну как с этакой орясиной беседы весть?
— Мы ленивы и не любопытны, — констатировал Нарышкин. Проехали еще с десяток верст, и тут выяснилось одно весьма досадное обстоятельство: коренник захромал.
— Расковался совсем, — доложил дядька, остановив тройку и осмотрев лошадь.
— Кузнеца надо, иначе не доедем.
Лошадей пустили шагом, и через пару верст на пригорке показалось большое село.
Первый же встреченный на околице селянин ввел наших героев в легкое замешательство. На вопрос Терентия о том, как найти кузнеца, мужик приостановился, задумчиво оглядел лошадок и экипаж, а затем проговорил нехотя, будто пуды ворочая языком:
— Кузнец-то он кузнец… Да вот примет ли он вас севодни?..
Оставив, таким образом, вопрос открытым, селянин чинно проследовал по своим мирским делам. Проехав несколько вперед, Терентий повторил попытку. Следующий обыватель, остановленный им, услышав вопрос о кузнеце, бросил беглый взгляд на тройку, зашелся смехом и удалился, придерживая трясущийся выпуклый живот рукой: — Подкова…ой не могу! Обхохочисси!
— Это становится забавным, — пробормотал Нарышкин.
Следующий житель села был более словоохотлив. После традиционного осмотра экипажа он поскреб затылок:
— Оне шибко заняты. Навряд примут… Вот кабы вам надобно было изгородь сковать или, скажем, крыльцо сгородить, тогда бы еще туда-сюда. А за этакую говенную безделицу и браться не станет: не по шубе рукав! К ему даже из столиц ездют! Да какие люди! Что ни коляска, то купец первой гильдии, либо заводчик… ну, на худой конец, — прокурор! А ты говоришь, подкова!
— А может спробовать, — пытал Терентий. — Тут делов-то — всего-ничего.
— Нет, что ты! Пальца не подсунешь, — селянин скорбно покачал головой.
— Да что он за генерал-губернатор такой… мать его! — Нарышкин едва не вывалился из брички. — А ну, показывай дорогу…
Однако, прибыв на подворье кузнеца, «Гроза морей» сменил гнев на изумление.
Все пространство перед кузней напоминало разъезд Большего Театра в день премьеры. Экипажи, кареты и коляски всех мастей запрудили просторный двор.
— Куды лезешь, квашня! — прикрикнул на Терентия запачканный сажей мужик, бывший, очевидно, кем-то, вроде распорядителя. — В хвост очереди становьсь!
Пристроив бричку там, где было указано, Нарышкин с Терентием отправились дальше пешком.
Сама кузница походила на средних размеров вокзал в губернском городе. Из ее ворот, словно из жерла преисподней, вырывались клубы дыма и пара. Лошади в испуге шарахались. Люди тоже слегка нервничали. Внутри кузни грохотало, ворчало, шипело. Слышались тяжкие удары молота по наковальне. Все подходы были загромождены разнообразными коваными изделиями. Рядами и секциями стояли затейливые ограды, заборы, решетки и парапеты. Громоздились друг на друга лестницы, балконы и козырьки крылечек. Ажурными колоннами выстроились завитки, кудри, волюты, кронштейны… Посреди этого кованого многообразия возвышался громадный, литой в металле истукан в парадном вицмундире, при всех старательно вылепленных регалиях. Истукан был похож на жителя Полинезии и имел очень нехорошее выражение лица.
— Предводитель губернской! — поймав полный немого вопроса взгляд Нарышкина, пояснил, богатырского роста, закопченный мужик, несший на плече тяжелый молот. — Как влитой, со всеми причиндалами! — восхищенно добавил он, на секунду залюбовавшись «полинезийцем».
— Послушайте, любезный, не Вы ли будете кузнец? — поинтересовался Нарышкин у молотобойца. От удивления тот едва не покалечил себя, уронив молот на землю. Он остолбенел, как бы пораженный дерзостью вопроса. Некоторое время шевелил губами, переводя дух. Наконец, справившись с потоком чувств и опустив очи долу, молотобоец благоговейно указал грязным перстом:
— Вон, они будут Кузнец!
Поглядев в указанном направлении, Сергей увидел маленького, щуплого, опрятно одетого, лысоватого человека в огромном пенсне. Человек восседал на деревянной колоде, будто на престоле, и внимательно читал «Губернские ведомости». Лицо его было абсолютно непроницаемо, как у вождя и духовного лидера племени американских индейцев Хункпапа-Сиу, шамана по имени Сидящий Бык.
— Они и есть Кузнец! — подтвердил кивком головы богатырь с молотом, и взгляд его был полон смиренной кротости, как у невесты перед алтарем.
Возле Кузнеца суетился толстый господин в цилиндре. Явно конфузясь и комкая в руках белоснежные перчатки, с дрожью в голосе он вопрошал:
— Ну так как же, Порфирий Петрович, я могу надеяться?
— Надеяться можете, — не прерывая чтения, отвечал Кузнец.
— А нельзя ли как-нибудь пораньше… скажем… э-э…скажем… в среду? — канючил толстяк.
— Нельзя, — отрезал Мастер и, отложив газету, передал ее в руки мигом подлетевшего работника. Затем хлопнул в ладоши и крикнул кому-то невидимому:
— Лукашка, мы сегодня будем наконец обедать, или нет?!
— Пошли отсюда! — хмуро сказал Нарышкин.
Лошадь подковали в небольшой деревеньке, верстах в трех от села. Деревенский кузнец, босой, опухший и взъерошенный, узнав о нужде путешественников, обрадовался несказанно. На его каленых щеках заблестели крупные слезы.
— Работы никакой не стало! — пожаловался он, послав полный злобы взгляд в сторону прячущегося за лесом села. — Порфирий, собака, всех заказчиков свел. И гламное дело, внутря, паскудник, ни капли не берет! — кузнец обвел мутным взглядом компанию, ища сочувствия. — Ни капли, — повторил он. — И даже в престольный праздник, падлюка, рта не окропит!
Похоже, последнее обстоятельство огорчало его больше, чем отсутствие заказов. Заменив подкову и, тепло распрощавшись со всей компанией, деревенский умелец еще долго стоял у своей покосившейся кузни и, размазывая слезы, махал рукой вслед отъезжающей тройке.
— Сдается мне, он нам еще и приплатил бы за эту несчастную подкову, — оглянувшись, сказал «Гроза морей».
Проехали еще с десяток верст… Снова — лесостепь да буераки, снова дорожная пыль из под колес…
— Передохнуть бы мне, Сергей Валерианович, — взмолился Терентий, который правил тройкой еще от самой Тулы, почти не слезая с козел. — Всю корму отсидел, мочи моей нет! Пусть Степан меня сменит.
— Что я, кучер какой? — пробурчал Степан, принимая вожжи. — Я и не правил-то никогда… Боюсь, не сдюжу!
— Тише ты, баклан длинношеий, — ворчал усталый Терентий.
— Ладно, Степа, не кобенься, что ты, в самом деле! — прикрикнул на него Нарышкин. — Трогай помалу, не облезнешь! Тем более, считай, уже приехали.
Тройка дернула с места и пошла как-то неровно, но потом разошлась, и Степан, вначале нервно ерзающий на козлах, вскоре вошел во вкус, щелкнул кнутом, как заправский возница, и пустил лошадей вскачь.
— Тише, черт угорелый, — ворчал Терентий. — Править он не может! Ишь ты, каков калач! Чем же, Катерина Степановна, Ваш батюшка заниматься изволил, коли он не знает, с какой стороны к лошади подходить?
Катерина не ответила. Она спала с полуулыбкой на губах. Дремал и Нарышкин, отвалившись, качаясь на кожаном диване.
Терентий вздохнул, закрыл глаза и тут же уснул, как зарезанный.
…Однако вскоре из объятий Морфея всю спящую троицу вырвал резкий толчок, грохот и треск. Бричка накренилась и встала. Нарышкин обнаружил себя лежащим на полу между сиденьями, причем под ним кряхел Терентий, а рядом охала Катерина.
— Похоже, приехали! — сообразил Нарышкин.
— Вот кобел косорукий, да он что там — ворон ловит? — сопя, выбрался из-под своего увесистого барина дядька Терентий.
— Экая оказия! Лесора переломилась, — оправдывался Степан.
«Гроза морей» вылез на свет божий. Экипаж действительно представлял собой плачевное зрелище.
Ось развалилась пополам, бричка зарылась передком в дорожную пыль, причем одно колесо валялось тут же, а другое откатилось далеко под откос и утонуло в грязном ручье.
— Ах ты аспид! Душегубец! Потрох куриный! Едва до смерти не расшиб! Через тебя, косорукого, чуть концы не отдали! Что теперь делать будем? — Терентий продолжал костерить Степана.
Тот вяло оправдывался:
— Так я же упреждал, что не сдюжу… Кто ж знал, что оно вот так выйдет. Кабы не ось, то, может, и обошлось бы…
— Полно тебе, Терентий, живы — и слава богу, — вступился за оплошавшего «кучера» Нарышкин.
Видя, что барин отнесся к происшествию философски, Терентий умерил пыл и принялся помогать незадачливому вознице, выпрягать лошадей.
— Как же оно быть-то теперь? Ехали, ехали и вот те, на! — Степан, оглядев карету, развел руками. — Тут работы, почитай, на весь день. Да в кузне, а не в поле.
— Что это вон там, никак деревня виднеется? — спросил Терентий, щуря глаза.
Ландшафт показался Нарышкину знакомым. С бугра пыльная дорога вела меж зеленеющих посевов, на взгорке виднелась старенькая деревянная церквушка, а чуть поодаль лепились друг к другу неказистые, крытые гнилой соломой избенки.
— Эге, да ведь это же соседская вотчина! — радостно воскликнул Сергей. — Мы почти дома! Раньше эти земли принадлежали довольно странному субъекту… как-то, бишь, его звали? Земляницкий? Малиницкий? Калинковский?.. Поговаривали, что он франкмасон. Дружбы с соседями не водил, жил замкнуто, видели его редко. Правда, сказывали, имение это выкуплено… Терентий, ты не помнишь, как, бишь, теперешнего владельца этих земель величают?.. Мне покойник Петр Кузьмич писал, да я запамятовал…
Дядька Терентий, отличавшийся редкой памятливостью, поскреб затылок и развел руками: — Нет, не припомню!
— Ну, тогда вот что, ты, дядька Терентий, сиди тут — багаж стереги. А мы с Катериной и Степаном пешком до усадьбы пройдемся и подмогу сюда вышлем. Сосед мне помочь, должно быть, не откажет.
Нарышкин бодро зашагал напрямик. Степан и Катерина поспешили за ним. На лугу девушка нарвала полевых цветов и на ходу сплела венок. В этом незамысловатом уборе она показалась Нарышкину еще более мила.
— Вот сейчас за этой рощицей и будет усадьба. Вы, Катерина Степановна, надеюсь, не устали? — осведомился Нарышкин.
— Да что Вы, Сергей Валерианович! Я знаете, какая сильная! Вот, кажется, так бы и полетела! Катерина взмахнула руками, как бы и правда пытаясь взлететь, а затем, подобрав платье, понеслась вниз с откоса.
— Постой, куда ты? — «Гроза морей» с шага тоже перешел на легкую рысь. — Вот еще глупость — за девицей бегу! — усмехнулся про себя Сергей. — Право же, я, кажется, схожу с ума!
— Сергей Валерьянович, догоняйте! — донесся голос Катерины.
Таким манером Катерина и Сергей влетели в небольшую рощу. Рысь перешла в полугалоп. Степан безнадежно отстал и хмуро тащился далеко позади, высоко, как журавль, поднимая худые ноги, путающиеся в траве. Фигура Катерины мелькала между берез, плотный Нарышкин еле поспевал за нею.
Наконец он схватил Катерину за руку. Сергею с трудом сдержал разбег, чтобы не ушибить девушку. Однако столкновения избежать не удалось. Нечто мягкое, женственное, ткнулось в грудь Нарышкину, он обнял это существо и, уже не отдавая себе отчета, поцеловал в полные, чуть приоткрытые губы.
— Вы зачем это? Пустите, Сергей Валерианович! — Катерина, упершись кулачками в грудь Нарышкина, оторвала его от себя.
— Ты, Катенька, можешь звать меня просто Сергей! — сказал Нарышкин и тут же понял, насколько глупо и фальшиво звучит эта фраза.
— Нет уж, сударь! Вы насмешничать над бедной девушкой изволите!
— Почему насмешничать. Разве не могут люди по имени друг к другу обращаться?
— Я Вам не ровня. Мы люди простые, неполированные!
— Вот еще вздор. Все перед Богом равны!
«А это — еще более фальшиво, — подумал Сергей. — Пожалуй, она права. Ведь так, чего доброго, и ее папаша мне „ты“ говорить станет!».
— Все, да не все. Вот Вы целовать меня изволили, а может, мне это не по ндраву, благородная дама Вам бы тут же отпор дала, а я не смею.
— Прости, Катенька, само как-то вышло! Ты же в этом веночке чудо как хороша… А я, значит, тебе совсем не нравлюсь?
— Отчего же, ндравитесь, — выдохнула Катерина. — Только… не та у нас с Вами канплекция. Кто Вы и кто я? Вы-то, вон, — грамотник, а я — мещанка забвенная!
«Гроза морей» не сразу нашелся, что ответить на такое признание. Он выпустил девушку из своих объятий, сделал шаг в сторону.
И вовремя. Через жиденькие кусты уже ломился как обычно хмурый Степан.
— Ох, запалили вы меня совсем! Ваше-то дело молодое, а я уже будто конь в мылу!.. Я же не иноходец какой!.. А что это вы тут стоите… молчком?
— Тебя, батюшка, поджидаем.
Нарышкин вздохнул, чертыхнулся про себя и хмуро зашагал по направлению к деревне.
…Ни Степан, ни Катерина, ни тем более погруженный в себя «флибустьер» не заметили, что в роще за ними наблюдали две пары зорких, все подмечающих глаз….
Обойдя деревню стороной, путники, наконец, вышли к усадьбе. Два каменных столба, изображавших из себя колонны с ионическими капителями, символизировали парадный въезд на территорию именья. Забора вокруг поместья не было, вглубь одичалого сада к барскому дому вела длинная липовая аллея. В саду кружило множество ворон, их гнезда густо покрывали верхушки деревьев. Путники были встречены рассерженным карканьем, и Нарышкин всерьез стал опасаться за сохранность своего костюма. Но вот показался и дом — старое каменное строение в один этаж. Выглядело оно запущеным. Дом явно разваливался, его штукатурка облупилась, из одной трещины тянулась к небу тоненькая березка, а кое-где окна были попросту забиты досками.
Первой навстречу гостям из дома выскочила легавая, затем вышагнул заспанного и мрачного вида ливрейный мужик, и уж потом из дверей показался тучный, величавый господин, лицо которого показалось Сергею странно знакомым. Он был облачен в какое-то немыслимое, но весьма живописное одеяние, бывшее, по всей видимости, домашним халатом. Нечто в античном стиле, напоминающее длинную широкую тунику или хитон.
— Кто это к нам пожаловал? Проходите, милости просим! Всяким гостям рады! — господин в тунике гостеприимно взмахнул руками.
— Позвольте представиться, Сергей Валерианович Нарышкин, дворянин, можно сказать, сосед ваш, а это — путники мои: Степан Афанасьевич и дочь его Катерина. Наш экипаж подле вашей деревни потерпел крушение, ось переломилась, так мы к вам за помощью!
— Нехлюдов Алексей Петрович, — отрекомендовался хозяин. Милости прошу, Сергей Валерианович. Поможем всенепременно. У меня кузнец Пахом — первостатейный мастер.
Нехлюдов говорил сильным, хорошо поставленным голосом, немного даже нараспев.
— Евстафий, распорядись снарядить подводу и доставь экипаж господина Нарышкина на каретный двор!
Сергей снова внимательно посмотрел в лицо Нехлюдова. «Где я мог его видеть?», — подумал он.
На вид тому было лет пятьдесят. Великолепная густая пепельная шевелюра, такие же, пожалуй, даже чересчур пышные усы, некоторая округлость и театральная величавость во всех движениях. На лице жирно поблескивал слой грима. «А это еще зачем? Молодится соседушка?», — подумал Сергей.
— Так Вы, стало быть, Валериана Аркадьевича сын? — осведомился Нехлюдов, отводя свои глаза от лица внезапно свалившегося на голову соседа, который хоть и выглядел пиратом, тем не менее, одет был прилично, да и вел себя со всей возможной учтивостью.
Нарышкин чинно кивал, рассматривая затейливый рисунок на полинялых обоях. «Где все-таки я видел этого господина?», — напряженно раздумывал он.
— Рад! Искренне рад познакомиться! — нараспев говорил Алексей Петрович, помавая вкруг себя рукой. — У нас, как видите, по-простому!
Дом Нехлюдова был старым как снаружи, так и внутри. В комнатах стояла разнокалиберная, доживающая свой век мебель, полы рассохлись и немилосердно скрипели, звуки шагов в залах раздавались резко. По стенам, по углам и около картин лепилась пыльная, седая паутина, зеркала смутно отражали предметы и могли бы скорее служить для записи на них каких-нибудь заметок на память. На столике лежало несколько развернутых книг с пожелтевшими страницами, на бюро стояла массивная чернильница с перьями. Но, присмотревшись, было видно, что книги читать бросили уже давно, да и чернильница также не менее года служила саркофагом для нескольких высохших мух. Запах во всем доме был какой-то нежилой, и только ароматы, доносившиеся из кухни, свидетельствовали о том, что здесь находились люди.
Обед подали на особенном английском сервизе из жести. Чрезвычайно смущенные тем, что их усадили за барский стол, хотя бы и с краю оного, Степан и Катерина, опустив очи долу, сидели тише воды и почти ничего не ели.
— Вы уж простите мой скромный обиход. Разносолов заморских не держим. Нам бы хоть по-русски быть сытым. Не откажите отведать, чем Бог послал, — указывал на стол Нехлюдов.
А Бог у него оказался не жадным. Посередине на огромном блюде в рядок лежали два румяных молочных порося, в зубах у каждого соответственно торчал пучок петрушки. На столе также имелись пирожки подовые с рисом и рыбой, судак разварной с хреном, караси жаренные, тушеная говядина, домашняя колбаса, а на горячее суп грибной перловый с ушками. В качестве напитков предлагался яблочный квас и клюквенный кисель, а на десерт песочное пирожное с миндалем.
«Забавно! Ждал он нас что ли? — „Гроза морей“ покосился на уставленный закусками стол. — Интересно, часто ли здесь обедают подобным образом?».
Алексей Петрович будто угадал мысли Нарышкина:
— Дочку нынче ждал, одно осталось мне утешение в печальной старости — Настасьюшка, кровиночка единоутробная! Уж такая она у меня раскрасавица (Катерина вздрогнула и бросила быстрый испуганный взгляд на Нарышкина), такая распрелестница, словно цветок майский! Да вот, погодите, раз сегодня не приехала завтра точно будет, сами увидите! Она, душенька, загостилась у подруги своей, княжны Лизаветы, в Орле. — Алексей Петрович томно вздохнул.
Чувствуя, что обед непоправимо затягивается, Сергей отпросился немного размять ноги. Нехлюдов с явной неохотой вылез из-за стола, и, следуя законам гостеприимства, показал соседу дом. Вернее, лишь малую часть его, состоящую из наиболее обжитых комнат. Нарышкин, стараясь выказывать заинтересованность, осмотрел достопримечательности жилища, коими значились: ружье старинной тульской работы, пыльный ковер из самой Персии, аглицкие каминные часы с рыцарем и темный, похожий на печную заслонку, портрет какого-то предка Нехлюдова. Закончив осмотр и отправив Степана присматривать за ремонтом брички, Нарышкин испросил разрешения хозяина отправиться на прогулку в запушенный сад, который тянулся по всей усадьбе вплоть до крутого обрыва, нависшего над небольшой, но, по всей видимости, глубокой речушкой.
Вспоминая свое нелепое объяснение в роще, Сергей резво заскакал вниз к воде с намерением рассмотреть свою судьбу в темных водах. Он в очередной раз поймал себя на том, что думает о Катерине. Один только чуть вздернутый носик ее мог бы повредить в уме любого ценителя женской красоты, а что за чудо были ее глаза, бархатистые ресницы, тяжелая русая коса, ямочки на щечках и другие аппетитные прелести! Но более всего Нарышкина привлекало выражение Катиного лица: доверчивое и кроткое.
«Может быть, она и есть мой клад? — подумалось ему, и он, вспомнив миф о Галатее, криво улыбнулся. — Нет, Пигмалион из меня решительно не получится! Все, Все! Нужно выбросить эти глупости из головы!».
Отплевываясь и фыркая, как тюлень, «Гроза морей» с удовольствием умыл разгоряченное лицо чистой студеной водой. И в этот момент с высокого обрыва над головой сорвался огромный валун, который через мгновение с громким плеском рухнул в воду в каком-нибудь аршине от Сергея, обдав его с ног до головы брызгами. Нарышкин вскинулся, пытаясь оглядеться вокруг. Сомнений быть не могло: кусты над обрывом шевелились, и до слуха явственно доносился треск ломаемых веток. «Флибустьер» бегом кинулся вверх по склону, хватаясь за траву и загребая ногтями глину. Наконец он выбрался наверх и бросился по следам злоумышленников. Такой прыти Сергей не выказывал, пожалуй, со времен кавказской службы, особенно в том деле, когда после взятия одного немирного аула войскам пришлось спешно отступать в крепость под выстрелы, гиканье и крики горцев: «Аллах акбар! Урус иай!»… Однако отягощенный настойками и плотным обедом, несмотря на все приложенные усилия, он, конечно же, никого не догнал. Пожалев об оставленном в багаже пистолете, Сергей постоял с минуту, прислушиваясь к легкому шелесту листвы в старом саду, затем поворотил обратно и вскоре вышел к барскому дому. У крыльца сидел, попыхивая глиняной трубочкой, дядька Терентий. Нарышкин, тяжело дыша, присел рядом со своим старым слугой.
— К чаю зовут, сударь. Вечер, однако.
Помолчали.
— Странно у них тут, — заметил дядька, выпуская аккуратное кольцо дыма. — Не возьму в толк. В комнатах пыли — аршин! Будто и не живет никто. А повара ихнего видали? Чистый острожник! И люди, те, что за бричкой нашей ходили, тож не краше — подлеты, да и только! Не ндравится мне здесь что-то, сударь!
— Ладно, идем, — рассеянно пробурчал «Гроза морей». — Чай так чай. Хотя знаешь, Терентий, пожалуй, ты прав. Мне здесь тоже как-то не по себе. Ты давай, брат, приглядывай в оба! Сергей поднялся и затопал в дом.
— Какой, к лешему, чай? — сказал он уже сам себе. — Флакончик беленькой я бы сейчас нарушил!
Нарышкин как истинно русский считал водку лучшим средством и в радости, и в горе, и в момент напряжения душевных сил.
На террасе уже кипел самовар, который, раскрасневшись как рак, раздувал ливрейный мужик Евстафий. На улице стало сыро и туманно, солнце скрывалось за дальним лесом, и крыши просторных навесов, окружающих задний двор, поблескивали от росы.
За чаем с пирогами Нарышкин уже не был столь рассеян. Нехлюдов, угадав желание гостя, водрузил на стол толстопузый запотевший графинчик. Сергей охотно, хотя и довольно сумбурно, рассказывал о своей службе на Кавказе, избегая, впрочем, батальных и кровопролитных сцен, дабы не испугать не притронувшуюся к булочкам, но зато пожиравшую его глазами Катерину. Он старался романтически описывать горные красоты и типы местных жителей.
В частности, поведал историю о том, как однажды ранил в бою чеченца, взял его в плен, а затем долго ухаживал за ним, вылечил и отпустил обратно в горы… Правда, в своем повествовании он не упомянул, что Аслан, — так звали горца, впоследствии не перестал при удобном случае резать головы русским солдатам, и в конце концов, Нарышкину сообщили, что его воинственного кунака снял из винтовки поручик Леденев в деле при рубке леса.
Настроившись на лирический лад, чему немало способствовала прозрачная жидкость, таящаяся в графинчике, Нарышкин разошелся и даже с воодушевлением прочел стихи «одного неплохого, но мало известного поэта»:
Когда ты входишь легкою стопой, О, пощади! Я будто сам не свой. Меня ты ранишь так глубоко! Зачем небрежно и жестоко С плеч белых и с груди высокой Сползает медленно покров? Уже горит во мне любовь. Надежду тайную лелею, Но замираю и немею, Признаний высказать не смею. Вот рядом ты, и страсти дрожь Меня охватит, ну так что ж! Мгновенье бешенства, желанья На части разорвет дыханье! Какое это наказанье — С тобою находится рядом, Испытывать все муки ада. О, пощади! Оставь проклятья, Приди скорей в мои объятья — Умру от счастья в складках платья.Во время декламации Нарышкин не единожды ловил на себе взгляды Катерины, которые расценил как пылкие, и ему вдруг стало понятно, что, хотя еще ничего не решилось, все между ними уже решено.
— Это стихи того самого поручика? — тихо спросила Катерина.
— Нет, — смутился Нарышкин, — не того самого… То есть тоже поручика, но не того. Этот поручик тоже писал стихи, ну, может быть, не такие хорошие стихи, как тот, но все же… — Сергей чувствовал, как мучительно краснеет.
— Душно здесь как-то. Я, пожалуй, выйду. Простите, — он почти выскочил на крыльцо, подставил разгоряченное лицо прохладному вечернему ветерку.
— Она будет моей! — сказал себе Нарышкин. — Будет, черт возьми!
Некстати вспомнилась фраза из купленной в Москве книги про пиратов, которую Сергей полистал-таки дорогой:
«…. Утащив зверя под воду, крокодилы оставляют его там дня на три-четыре, пока мясо не протухнет. До этого к добыче они не притрагиваются, даже не кусают свою жертву…»
«Никуда ты от меня не денешься!», — подумал «Гроза морей» и, расплывшись в улыбке, схватил себя за вихры.
Глава восьмая В ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА ЛУЧШЕ
«Пойдемте же мои осматривать поля!»
И преданность крестьян сей речью воспаляя,
Пошел он с ними купно.
«Что ж здесь мое?» — Да все, — ответил голова,
— Вот Тимофеева трава…
«Мошенник! — тот вскричал, — ты поступил преступно!»
(Козьма Прутков)Утром до завтрака Сергей, втягивая расширенными ноздрям приятные ароматы готовящихся блюд, доносившиеся с кухни, вышел умываться в сад. Он позвал с собой Степана, и пока тот выливал кувшин за кувшином на обнаженный, могучий торс Нарышкина, между отфыркиваниями в двух словах обрисовал компаньону давешнюю историю с валуном.
— Не мог ли это быть кто-нибудь из твоих прошлых знакомцев, а, Степа?
— Ваша правда, сударь. По всему видать, выследили они нас. Ехать нам надо, Сергей Валерьяныч, в усадьбу Вашу ехать да поскорее. Боюсь я, кабы они раньше нашего до поклажи не добрались.
— Да кто они-то?
— А черт их знает. Лихие люди, одно слово. Поспешать нам надобно. Ведь клад-то он, почитай, в двух шагах. Поедемте, сударь. Сейчас поедемте, а? — Степан с мольбой заглянул в глаза молодого барина.
— Экий ты чудной, Степа, право слово. Всего-то ты боишься. Да коли он там до сих пор лежал, то кто ж его сейчас тронет?
— Поедемте! — Степан продолжал упрашивать.
— Нет, до завтрака это никак невозможно, — Сергей принюхался.
Со стороны кухни продолжал плыть невыносимо вкусный аромат.
— Бараньи котлеты, — отметил про себя Сергей, — куропатка тушеная, пожалуй, в сметане, а вот и осетринкой потянуло.
— Поедемте, сударь, бричка уже готова, — теребил Степан.
— Да что ты пристал, как банный лист, — разозлился Нарышкин. — Сказано тебе, не поеду сейчас и точка. Я Алексею Петровичу обещал погостить. Побудем денек и тронемся.
Степан в отчаянии махнул рукой и со скорбной гримасой на лице удалился.
Наконец в одиннадцатом часу сели завтракать. Потекла неспешная беседа, под разговор потекли наливки, настойки и плодовые домашние вина, до коих хозяин, как выяснилось, был большой охотник. Некоторая скупость напитков вчерашнего дня была с лихвой возмещена. Дворовые девки — Стешка с Парашкой — не успевали подавать на стол холодные, извлеченные из погреба золотистые, янтарные, пахнущие антоновкой графины.
Откупоривались запотевшие бутыли с рубиновой тягучей смородиновой наливкой, ароматной рябиновой настойкой. Неспешно выплывали на свет божий клюквенный квас и обарный медок.
Единственный глаз Нарышкина наливался слезой. Сергею начинало казаться, что комнату вокруг него до самых гардин окутывает липкий туман, из которого выплывает такая же липкая воркотня Алексея Петровича.
— Медок у меня первейший. Ариадна Васильевна, царствие ей небесное, большая была мастерица по этой части. А как ягодный мед готовила — это просто, боже мой! Ягодки варила, пока не раскипят вовсе, потом с огня снимала, бывало, процедит, даст отстояться, сливает в мед, прежде сваренный с хмелем, и запечатывает. И, доложу я вам, не медок — картинка выходила! Теперь, конечно, другое… Без нее, без душеньки, и мед не в радость, — Алексей Петрович уронил в свой стакан большую слезу.
Часам к двенадцати подали сладкую водку из трех сортов фруктов. Водка немного разлепила рот Сергея, медовый туман вокруг начал редеть. Завтрак вступал в свою завершающую фазу и плавно перетекал в обед. Примерно во втором часу прибежали специально посланные встречать молодую барыню люди. Истошно закричали:
— Едет! Едет!
Алексей Петрович проворно выскочил из дверей, велел выкатить на крыльцо небольшую старинную кулеврину и, как только ландо молодой барыньки показалось в воротах усадьбы, самолично поднес фитиль.
Пушка выстрелила. Грохнуло так, что посыпалась штукатурка, а дом задребезжал всеми стеклами, заскрипел забитыми рамами.
Алексей Петрович пустил из глаз слезу и кинулся театрально обнимать выходившую из экипажа дочь.
— Вот она — моя душенька! Вот она — голубица моя ненаглядная, Настенька!
Анастасия Алексеевна, высокая, прямая, выступила из экипажа вся в небесно-голубых кружевах. Она была красива, очень красива, и Нарышкин поневоле залюбовался темными выразительными глазами, светлой кожей, благородными чертами лица. Каштановые волосы были замысловато уложены под модной шляпкой. Вся она была свежа, как только что распустившийся цветок. Долгая поездка в экипаже не причинила ей никакого внешнего ущерба.
Анастасия Алексеевна, слегка отстранившись, благосклонно приняла объятия отца:
— Тише, папа, какой Вы, право!.. Вы же меня всю помнете!
Алексей Петрович подвел дочь к Нарышкину и представил их друг другу. Сергей поклонился со всей возможной грацией, на которую только был способен, ткнулся губами в ручку, обтянутую белой, пахнущей духами перчаткой.
Вихрастая голова Нарышкина пошла кругом. Анастасия Алексеевна ответила на поклон и, очаровательно улыбнувшись, посмотрела прямо в покрасневшее лицо Сергея.
— Корсар, вылитый корсар, — сказала она, рассмеявшись.
— Вся в матушку свою, Авдотью Власьевну, — восторженно умилялся Нехлюдов.
— Простите, Вы, кажется, изволили недавно называть матушку… Ариадна Васильевна, — не сводя глаз с Анастасии, припомнил Нарышкин.
— Ах да!.. — Алексей Петрович замялся, обменявшись с дочерью странными взглядами. — Да. Как бы вам объяснить… Она-то ведь, матушка покойница, из простых была… вот и вышло, что дома она — Авдотья Власьевна, а на людях, стало быть, наоборот… Ну, то есть Вы понимаете…
Из замешательства Нехлюдова вывела Анастасия. Она втянула тонкими породистыми ноздрями ароматы, доносившиеся от покинутого стола.
— Ах, папа, я так голодна! Кажется, съела бы целого быка.
Расплывшийся от счастья Алексей Петрович тотчас же приказал подавать обед.
Катерина, представленная молодой барыне в последнюю очередь, скромно поклонилась. Анастасия Алексеевна удостоила ее весьма прохладным кивком. Но когда Катерина подняла голову, глаза их, встретившись, сошлись в короткой окончившейся вничью дуэли. Сверкнули угольки зрачков, в атмосфере погожего весеннего дня возникло электрическое напряжение, молнии метнулись из-под пушистых ресниц. Соперницы улыбнулись, еще раз смерили друг друга обоюдоострыми взглядами и разошлись, ненадолго отложив продолжение дуэли…
В очередной раз позвали к столу. Чередой пошли нескончаемые кушанья. Алексей Петрович желал, по-видимому, вовсю расстараться перед дочерью и гостем. Он требовал принести из погреба холодной севрюги с хреном. Жаловался, что бараньи котлеты недостаточно прожарены и отсылал их на кухню с тем, чтобы они «дошли»; велел разыскать в кладовой особый водочный травник, обладающий чудодейственной целительной силой.
Травник, по его словам, одинаково хорошо излечивал прыщи, запор, ломоту в костях, кроме того, способствовал изведению глистов и многократно увеличивал мужскую силу.
Нарышкин, никогда допреж не имевший случая пожаловаться на отсутствие мужской силы, вынужден был капитулировать под натиском хлебосола и отведать-таки чудесный травник. Дрянь оказалась преизрядная, разящая полынью и такая крепкая, что весьма благосклонно относящийся к жестким напиткам Нарышкин закашлялся и хватил перекосившимся ртом воздуха. Это вызвало необычайное оживление в стане воссоединившихся Нехлюдовых. Папаша с дочкой смеялись долго и от души.
— Чтоб тебя, черта хлебосольного, самого так перекорежило, — буркнул Нарышкин в сторону, пытаясь отдышаться.
За этим его занятием прошел остаток обеда, и когда Алексей Петрович предложил немного проветриться перед ужином, прокатиться верхом и осмотреть угодья, Сергей тут же согласился. Анастасия Алексеевна хлопнула в ладоши:
— Отлично придумано, папа! Мы покажем Сергею Валериановичу мельницу, где водится домовой! — отец и дочь многозначительно переглянулись.
Между тем завечерело. На улице стало сыро и туманно, солнце скрывалось за дальним лесом, и крыши просторных навесов, окружающих двор, поблескивали от росы. На террасе уже кипел самовар, который, раскрасневшись, как рак, раздувал угрюмого вида ливрейный мужик.
Как-то само собой вышло, что ни Катерине, ни остальным спутникам Нарышкина не выпало счастья проехаться рысью или пуститься в галоп — лошадей им не подали. Впрочем, Катерина и не смогла бы толком держаться в седле, однако она все-таки разрыдалась, выбежав для этой цели в сад, едва только силуэты трех всадников скрылись из виду.
— А она весьма недурна, эта ваша прислуга, — весело помахивая хлыстом, и оглядываясь на усадьбу, сказала Анастасия Алексеевна Сергею.
Их лошади рысили рядом. Разгоряченный обильными возлияниями Нехлюдов, опасно покачиваясь в седле, скакал далеко впереди, то разговаривая с невидимым собеседником, то что-то горячо ему доказывая. Временами он простирал свободную от поводьев руку и, указывая на окрестности, обводил ею открывающиеся по дороге поля, луга и перелески.
— Она не прислуга, — немного смущенно ответил Нарышкин. — Она… как бы это сказать…
— Ваша наложница, верно? — Настасья Алексеевна заговорщически подмигнула. — Я угадала? Ну же, корсар, смелее! Мне Вы можете открыться!
— Нет, не угадали! — Сергей почувствовал, что краснеет. — Она мой, как бы это сказать… компаньон.
Настасья Алексеевна недоверчиво хмыкнула.
— Она мила, но несколько простовата… для компаньона. Я заметила, что она не знает толком, как правильно пользоваться столовыми приборами. Вам следовало бы научить ее хорошим манерам. Почему бы Вам ни подыскать для нее гувернера?
Нарышкин покраснел окончательно.
— Она достаточно образованная девушка, — пробормотал он.
— А хотите, я преподам ей несколько уроков? — Настасья Алексеевна улыбнулась, склонив голову и заглядывая в пока еще единственный, помаргивающий от дорожной пыли и смущения глаз Нарышкина. — Что же вы умолкли, отвечайте, циклоп вы этакий! — она рассмеялась, обнажив белоснежный ряд зубов.
«Э, да ты, однако, злая девочка, — подумал Нарышкин. — Злая, но чертовски хорошенькая».
Они вернулись с прогулки, когда уже стемнело, и невидимый небесный фонарщик затеплил в небе бесчисленные огоньки звезд.
Нарышкин был немного задумчив. Его кудлатая голова, венгерка и сапоги были сплошь в дорожной пыли. Взбалмошная барынька заставила-таки совершить экскурсию на мельницу и войти внутрь этого громоздкого деревянного изрядно подгнившего сооружения с тем, чтобы убедится в наличии там домового.
Сама, конечно, осталась снаружи, папаша тоже, хоть и был пьяненькой, но поостерегся — топтался, бормотал что-то про черта, размахивал руками и на мельницу не полез.
В народе ходили слухи о каком-то таинственном преступлении, будто бы совершенном на мельнице в стародавние времена. Впрочем, и все место возле нее считалось нечистым. Глухое и мрачное даже в солнечный день, оно казалось еще мрачнее от близости древнего дубового леса, стоявшего рядом черной стеной. Остовы громадных деревьев высились какими-то призраками над низкой порослью кустов. Жутко было смотреть на них: казалось, злые великаны сошлись и замышляют что-то недоброе. Узкая, едва проторенная дорожка вилась в стороне. Никто без особой нужды не проходил мимо старой мельницы.
Домового там, разумеется, не было, зато была мучная пыль и голубиный помет, причем в огромных количествах.
Нарышкин постоял немного, прислушиваясь к мышиному шуршанию. Снаружи доносился приглушенный голос Нехлюдова.
Странный запах был у этой мельницы. Как и положено, пахло пылью, прелым деревом, мышами и голубями. А чем же, спрашивается, еще должно пахнуть в старом заброшенном строении? Однако в полумраке слабо вился чужеродный, совсем неожиданный аромат. Нарышкин напряженно принюхался.
Сомнений не было. Пахло хорошими, очень хорошими сигарами.
«Вот ведь, действительно чертовщина! Чур меня, чур!», — пронеслось в голове.
— Ну, как, — крикнула Настасья Алексеевна, — видите Вы его или нет?
— Я его унюхиваю, — буркнул Нарышкин.
«Кто бы мог оставить здесь после себя такой запах?», — подумал он.
Снова тишина. Только голуби еле слышно разговаривали между собой где-то под крышей.
«Чертовщина и есть», — Сергей почувствовал, как по спине пробежал противный холодок. Он поймал себя на том, что пытается вспомнить молитву от нечистого духа, которой его когда-то учили в детстве.
— Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа облекохомся во единого Христа и слова Божия… «Что за слово такое идиотское — „облекохомся?“, — подумал Нарышкин.
Наверху, на чердаке, что-то скрипнуло. По телу пробежали мурашки.
— Убойся, Диавол, отыйди от меня, раба божия Сергея. Христос воскресе своей волею, имяй силою изгоняти тя, страшный и нечистый дьявол… „Как же там дальше?“ — Стану я, раб Божий Сергей, благословясь, пойду из запада в восток. Поднимется царь грозная туча, и под грозной тучей мечется царь-гром и царица-молния… „Тарабарщина-то какая“, — снова подумал Нарышкин. — Пойду-ка я, раб Божий, отсюда, пожалуй…» — Аминь, аминь, рассыпься!
На чердаке хрустнуло, послышался легкий щелчок, до странности похожий на звук взводимого затвора, и «Гроза морей» почувствовал, как рубашка прилипает к его спине.
— Сударь! Сергей Валерьяныч! Где ты там? — внезапно донесся снаружи знакомый голос Терентия. — Выходи скорее, батюшка, будет тебе с домовым в жмурки играть! Вертайся сей же час!
Сергей облегченно выдохнул, повернулся на каблуках и шагнул к выходу, спиной чувствуя на себе чей-то пристальный взгляд.
Старый моряк поджидал его, сидя на взмыленной лошадке.
— Насилу вас догнал! — тяжело дыша, сообщил Терентий, слезая на землю и вытирая пену у лошади. — , к слову сказать, все нутря себе растряс, покамест за вами поспел!
— Ваш доблестный оруженосец не отстает от Вас ни на шаг! — усмехнулась Анастасия, и в голосе ее Сергей уловил разочарование.
Ужин подали в плохо освещенной бильярдной, где Сергей намеренно уступил Нехлюдову пару партий, рассеянно катая шары и как бы думая о своем.
Настасья Алексеевна потягивала херес и сверкала глазами из полутемного угла, томно, по-кошачьи изогнувшись в мягком кресле. Катерина и ее отец от ужина отказались. Катерина сослалась на головную боль и, еле сдерживая слезы, ушла в отведенную ей комнату. А Степан весь вечер хмуро просидел на крыльце подле пушки, нахохлившись и не вступая в разговор с дворней Нехлюдова. Его оставили в покое, и он сидел, слегка покачиваясь, подперев голову кулаком, временами сплевывая сквозь прореху во рту.
В это время в бильярдной Нехлюдов выиграл уже третью партию, отчего, оживившись, предложил выпить.
Рюмка перцовой, вкупе с проигрышем гостя, ввела его в опасную благость. И вот тут-то Сергей предложил победителю в качестве приза выпить «кубок большого орла». Алексей Петрович принял предложение с энтузиазмом, он хлопнул в ладоши и объявил, что это чудесно. Затем Нехлюдов заметался по комнате в поисках подходящего сосуда и вскоре нашел чашу для пунша, примерно, этак, в полторы пинты мерой. Нарышкин выбор одобрил, при этом заметил, что неплохо было бы налить в чашу по малой толике изо всех бутылок, имеющихся на сей момент в комнате.
— Папа, что Вы делаете? Это же не благоразумно! — воскликнула Настасья Алексеевна, сверкнув глазами из своего угла.
— Полно, дщерь моя! — заговорил Нехлюдов высоким штилем, сливая в новоявленный кубок херес и медовуху.
— Что ж, господа! — Настасья Алексеевна порывисто поднялась, глядя на отца с плохо скрываемым презрением. — Я не хочу при этом присутствовать.
Уходя, она клюнула Нехлюдова в щеку и прохладно кивнула Нарышкину:
— Оставляю это на Вашей совести. Покойной ночи.
Когда «кубок большого орла» был выпит, Нехлюдов трижды изъелозил Сергея мокрыми губами, а затем без каких-либо предисловий полез почивать на бильярдный стол.
Нарышкин вышел на крыльцо. Степан все так же сидел возле кулеврины, уронив голову в колени и бормоча что-то неодобрительное.
— Вот что, Степа, — зевая и поеживаясь, тихо сказал Сергей. — Готов ли экипаж?
— Готов, сударь, давно уж как готов, — Степан встрепенулся и вскочил на ноги.
— Разыщи Терентия. Скажи, чтоб к утру запряг лошадей. Уедем, как только рассветет. Постараемся сделать это тихо и незаметно.
— Вот это, сударь, дело! Давно бы так, — Степан ощерил рот в улыбке. — А как же быть с барином? С Алексеем Петровичем?
— Ну, Алексея Петровича я взял на себя, — ответил Нарышкин и покосился на тускло помаргивающие окна бильярдной. — Думаю, завтра Алексею Петровичу будет не до нас…
Выехали на зорьке. Майский холод сковывал движения, и все сидели нахохлившись. Катерина, хотя и была довольна тем, что соперница ее осталась ни с чем, но виду не показывала, а Нарышкин думал о том, насколько он все же беспутный человек. Едва увлекся Катериной, так тут же чуть было не попал под чары местной взбалмошной барыньки.
«Нет, — говорил он себе, — надо бежать от всего этого. Делом пора заняться. Делом! Клад искать, конечно, безрассудство. Однако чем черт не шутит! Да и вообще, довольно путешествий. Надо и свое родовое гнездо обустраивать. Там, видать, сейчас запустение…».
Сергей оказался более чем прав. Если уж Алексей Петрович Нехлюдов мало радел о внешнем благоустройстве своего имения, то в усадьбе Нарышкина этим не занимались уже лет пять. Кирпичные столбы при въезде в усадьбу едва виднелись из зарослей сухого прошлогоднего бурьяна. Был заброшен и цветник, некогда разбитый перед барским домом, дом же в свою очередь также представлял собой печальное зрелище.
Построенный в стиле классицизма, в два этажа с портиком и колонами, покрашенный в яркие пастельные, оттененные белым тона, дом прежде напоминал кремовый торт и был яркой доминантой в окружающем ландшафте.
Теперь краски поблекли, штукатурка во многих местах облупилась, и родовое гнездо Нарышкиных потерялось среди обступивших его кленов, выросших диким образом.
Хотя был уже полдень, в усадьбе путешественники не встретили ни души. Все как вымерло. Парадная дверь оказалась заколоченной. Пришлось идти через черный ход. Дверь открыл подслеповатый, сморщенный как чернослив сторож Митрич. Впрочем, Сергея он узнал по голосу и тут же бухнулся хозяину в ноги:
— Барин, вернулись, а мы уж не чаяли!
— Что не чаяли, вижу, — буркнул Нарышкин и прошел в дом. Его шаги гулко отдались по комнатам.
— Да… — только и смог сказать Нарышкин, оценивая увиденное.
Паутина густо облепила потолки, обои отошли от стен, явно не доставало части мебели.
— Ну, и кто мне за это ответит? — задал риторический вопрос Сергей.
— Стало быть, как Петра Кузьмича схоронили, так и не стало тут над нами гламного. Людишки все поразбрелись, кто в город, кто куды. Один я остался за домом приглядывать, — пояснил старик и утер рукавом слезящиеся глаза.
— Ну, стало быть, спасибо тебе, Митрич.
— Позвольте, барин, ручку поцеловать! — пробормотал сторож, подслеповато щурясь и искательно шевеля мокрыми губами.
— Ну, полно, полно, — брезгливо отстранился Нарышкин. — Так ты говоришь, людишки в город подались?
— А что делать-то было, батюшка? Коров кормить и тех нечем стало. Порезали буренушек подчистую. Свиней покойник Петр Кузьмич на ярманке запродал. Птицу, какая оставалась, на поминках оприходовали. Конек Ваш, Бутефал[7] больно стар стал, как есть уездился, навроде меня, — Митрич шумно потянул носом внутрь себя проклюнувшиеся некстати сопли. — Кости уж собаки растащили, — добавил он, видимо, решив украсить свое повествование яркой деталью.
— Чего же им делать было, людишкам-то, взяли да и разошлись. Так-то, глядишь, сыты будут, а то — хоть волком вой…
— М-да… — протянул Нарышкин, покачивая головой и тоскливо оглядываясь вокруг. — Просрали имение, сволочи!
Митрич булькнул носом, смахнул очередную слезу и сказал несколько приободряясь:
— Ничего, вот вы, барин, слава Богу, возвернулись, теперь заживем!
— Бред какой-то… — пробормотал Сергей, по-видимому, не разделяя энтузиазма старого сторожа.
Вернувшийся с кухни Терентий только развел руками:
— Пусто на камбузе, сударь! Из припасов одни тараканы.
— А что, дед, выпить у нас тоже нет ничего? — уныло спросил Сергей, тяжело приваливаясь к дверному косяку. — Или тоже все подчистую оприходовали?
— Должно, есть, — встрепенулся старик. — В погребе осталось. Народ-то, он свойское пьет. От барского вина, говорят, дюже пучит.
— Уже окунались! — зло сказал Нарышкин и размазал ударом кулака зазевавшегося на стене таракана.
— Чтоб окунаться — такого не было, — заверил Митрич. — Грех, ведь, какой — а барское добро зариться… Отец Пантелиимон, тот, по совести сказать, прикладывался. Ему Петра Кузьмича отпевать, а мы сыскать его не можем. Нету и нету. Хорошо, догадались в погребе посмотреть. К слову, и птицу порезать — это он наказал. Помин души, говорит, дело святое.
— Ну что же, с отцом Пантелиимоном я еще потолкую, — пообещал Нарышкин и недвусмысленно усмехнулся.
Так за разговором со сторожем, переходя из комнаты в комнату, Нарышкин обнаружил, что в доме недостает шкафа старинной итальянской работы, кожаных кресел, трех пейзажей голландской школы и столового серебра в буфете.
Терентий, находившийся при барине, только всплескивал руками и приговаривал — Вот оно где — разорение литовское! Тати, как есть тати, грабители. Я помню, тут ваза стояла, а тут поднос серебра фунта в полтора. Барин, станового пристава вызывать надо и допрос учинить. А с тебя, старого черта, я сам шкуру спущу!
— Помилуйте, Терентий Иваныч, за что?
— Да ты смотри, что наделал-то, сторож неусыпный. Тут же, почитай, все самое ценное барское добро растащили.
— Как так растащили? Все, что было, то и цело!
— Что цело? Вот на энтом самом месте, — Терентий показал на светлое пятно на стене, — морской вид порта города Анстердама висел. Где он теперь?
— Знать не знаю, ведать не ведаю. А только как все еще при покойном управляющем заведено было, так все и осталось. Вот вам крест святой! — старик истово перекрестился и бухнулся Нарышкину в ноги, подняв облако пыли.
— Ну, полно, Митрич, вставай! — морщась и кашляя, велел Нарышкин.
— Так не пропали вещи-то. Петр Кузьмич, известно, кой-чего продал, чтобы Вам, то есть в Питембург, деньги посылать. А так все на месте.
— Ах вот оно что! Как же, как же! Видали мы этих денег. Вот старый болван! — бросил в сторону Нарышкин.
— Надо за становым посылать. Да разузнать, кто краденое скупал. Да в кандалы его и в Сибирь!
Степан, все время присутствующий при этой сцене, вздрогнул, скукожился и вполголоса пробормотал: — Сергей Валерианович, может, не надо пристава. Сами знаете, дело-то у нас какое.
— Наше дело само собой, а воровство в имении пресечь надо. Все растащили мерзавцы, — Нарышкин гневно сжал кулаки.
— Ты вот что, Терентий, ступай в деревню, собери всех, кто остался. А ты, Митрич, выясни насчет того, как бы нам пообедать, а то у меня брюхо уже марш играет. Пусть повар, если объявится, где хочешь сыщет, хоть пусть взаймы берет… ну, там, птицу какую да и пирожков тоже неплохо бы наделать.
Пока Терентий собирал народ, Сергей успел бегло осмотреть территорию усадьбы и разозлился еще больше. Оказалось, что флигель, в котором проживал управляющий, сгорел подчистую, плодовые деревья в саду выпилены, парк, занимающий большое пространство, зарос, да так, что с трудом можно было найти дорожки, беседка покосилась, на хозяйственном дворе не осталось инвентаря, все службы стояли без дверей, а в людской поломаны лавки и полно собачьего кала. Нарышкин мрачнее тучи ходил по усадьбе, виртуозно матерясь и пиная ногами попадающиеся на пути предметы.
Часам к трем дворню удалось собрать. Конюх Петр, повар Григорий, лакей Никифор и зряшный человек на побегушках Митька Косой, все как один, пряча глаза, топтались у входа в барский дом, мяли в руках картузы и распространяли вокруг себя стойкий запах сивушных масел. Женская половина прислуги оказалась представлена дворовыми девками: Фроськой, Танюхой и теткой Аграфеной.
Толстомясая Фроська наглыми маленькими глазками бесцеремонно разглядывала Катерину. Невысокая, кубастенькая Танюха апатично мякала моченое яблоко. А тетка Аграфена тяжко, по-бабьи вздыхала, когда Нарышкин при помощи Степана собственноручно открыл парадное, оторвав доски, вколоченные здоровенными гвоздями в затейливую резьбу парадных дверей. Распахнув двери, Сергей вернулся к народу, оглядел каждого и сказал коротко:
— М-да…
Фроська хамски заржала, обнажая крепкие и здоровые, как у лошади, зубы.
— С приездом, Сергей Варелианыч, — прочавкала набитым ртом Танюха.
— Барин возвернулись… — выдавил из себя зряшный человек Митька Косой.
Сергей, собиравшийся произнести пространную гневную речь, раздосадовано плюнул, махнул рукой и буркнул: «Вот мерзавцы».
И вдруг неожиданно для всех влепил Митьке Косому показательную оплеуху.
Митька, закружившись, как турман, охнул и пал на колени.
Вся дворня тут же дружно последовала за ним.
— Не губите, барин. Как есть, все поправим, — раздались нестройные голоса.
— А мы ничего и не брали Вашего, — нагло заявила Фроська.
— Молчать, мерзавцы, выпорю! — гневно сказал Нарышкин и на всякий случай поднес к Митькиной физиономии кулак.
— Ну, вот что, дьяволы косопузые! Двор вычистить, в доме прибрать, бурьян вырубить, а кто что взял без спросу, вернуть на место, а не то я за становым приставом посылаю. Не ровен час, найдет у вас чего, сами знаете, что после этого будет! А теперь за работу живо!
Повеселевшая дворня засуетилась и с показательным рвением бестолково кинулась исполнять поручения.
Барин сечь никого не велел, только постращал немного. Это понравилось. Добрый барин, ничего не скажешь. Смущала только угроза вызвать пристава. Но тут уж ничего не поделаешь, к наездам станового в усадьбе относились философски, как к стихийному бедствию. И только Митька Косой, хмуро трогая гудевшую от оплеухи шею, вздохнул, вспоминая прошлое посещение имения начальством. Ну да ладно, авось пронесет.
Митрич отыскал амбарные книги управляющего, которые до сей поры хранил у себя. Сергей смахнул с них пыль и попытался разобрать каракули своего бывшего ключника. Дело это, однако, оказалось не из легких. Покойник Петр Кузьмич писал пером, как курица лапой. Мыслил управляющий тоже оригинально, что нашло свое отражение в записях. На бумаге выходило все не так уж плохо. Имение процветало. Нивы наливались золотом колосьев, скот плодился, закрома были полны, а оброк платился исправно, причем в каких-то немыслимых количествах поросят, гусят, яиц, мер пшена и пудов овечьей шерсти.
— Вот ведь, гад! — почти восхищенно произнес Нарышкин и захлопнул книгу.
Митрич принес из подвала запотевшую бутыль «травника».
— Извольте спробывать, барин. Больно хорош перед обедом, — произнес старик, облизываясь.
— Ты-то почем знаешь? Уже пробовал?
— Никак нет, — мотнул головой Митрич и скроил обиженную физиономию. — Батюшка Ваш их перед трапезой очень уважали-с.
— Ну-ну… — Нарышкин усмехнулся и плеснул старику горькой настойки.
Митрич от такого расчувствовался, пустил из глаз смолу и помянул добрым словом родителей барина.
Сергей тоже вспомнил отца и мать и смахнул набежавшую слезу:
— На могилку сходить надобно.
Пока он коротал время за бутылкой травника, девки приготовили обед. По дому распространился чад от пригоревшего блюда — Танюха с Фроськой перестарались. Григорий, который руководил кулинарными опытами, оказался не на высоте. За долгим отсутствием практики все у него вышло из рук вон плохо.
Курица, как уже было сказано, подгорела, гусь же, наоборот, не прожарился, а в картофельное пюре Григорий забыл доложить масла (впрочем, его и не было). Пришлось растолочь картофельную массу просто на воде. О пирожках не могло быть и речи, поскольку не было муки, а кисель вышел вязким как смола (крахмал в кладовой все же оказался).
Фроська умудрилась часть киселя вылить на себя и, перепачканная липким варевом, в окружении роя мух, бродила по дому, причитая и охая.
Впрочем, просидевшие весь день впроголодь путешественники не заметили, что поздний обед не удался. Нарышкин надолго задумался о чем-то своем, сидел, хмуро подперев голову, ни на кого не глядя. Катерина, за весь день не проронившая ни слова, делала вид, что продолжает дуться на Сергея за вчерашнее, а Степану при мысли о становом приставе было не до гастрономических тонкостей. Ему вообще кусок в горло не лез.
Спать отошли поздно. Когда хватились, постельного белья в доме не оказалось, не было даже одеял и подушек. Пришлось послать Митьку Косого в деревню. Пока тот притащил стеганые, довольно вонючие крестьянские одеяла, пока разобрались, кому где почивать, пока Нарышкин надавал очередных оплеух Митьке, просто потому, что тот постоянно путался под ногами, и, кроме того, все еще чесались руки… в общем, к тому моменту, когда в доме все затихло, заведенные Сергеем по приезду часы гулко пробили двенадцать.
— Ну вот я и дома, — сказал себе Нарышкин, устраиваясь в кабинете. Он вытянулся на диване и с легкой брезгливостью натянул одеяло. Прохладная, благоухающая сиренью весенняя ночь накрыла усадьбу, и все потонуло во мраке. Все, кроме белеющего колонами старого дома, который вновь обрел хозяина и смысл существования.
Глава девятая АВГИЕВА КОНЮШНЯ
«Поклон тебе, мой друг Тарас Скотинин,
Дай руку мне!
Свинюшник твой далек, брат, до упадка,
В нем тьма свиней…»
(В. С. Курочкин)Утро выдалось погожее. Дом пронизывали пыльные солнечные лучи, на кухне гремела посудой дворня. Григорию удалось реабилитироваться: сооруженный им завтрак, впрочем, весьма нехитрый, оказался не так уж и дурен. Фроська с Танюхой, хотя и бродили заспанными, но накрыли стол со всей возможной проворностью. Сергей отлично выспался, и настроение его с утра было куда лучше вчерашнего.
Позавтракав, он сделал необходимые распоряжения, велел дядьке Терентию присматривать за людьми, Катерину предоставил самой себе, не зная чем бы этаким занять девушку. Сам же отправился навестить родителей. Степан, вооружившись обломком косы, поплелся вслед за ним. До места шагали почти с версту.
Могила находилась на старом сельском кладбище, обнесенном выгоревшей на солнце изгородью из серых жердей. Холмик под которым покоились родители Сергея, весь заросла бурьяном. Пришлось изрядно повозиться, борясь с сорняками и поправляя покосившийся крест. Степан и Сергей, оба раскрасневшиеся и взмокшие от пота, присели на скамью. Нарышкин достал склянку с водкой. Крякнули на помин души Валериана Сергеевича и Марии Ивановны, незабвенных и дорогих родителей. Сергей всплакнул и долго сидел в задумчивости, поддавшись нахлынувшим чувствам и воспоминаниям.
Обратно возвращались молча. Но когда шли заросшим, одичавшим парком, Нарышкин нарушил молчание:
— А знаешь что, Степа? Все это начинает меня занимать, — оглядевшись вокруг, заговорил Сергей. — Я ведь, когда известие о смерти Петра Кузьмича получил, решил, что как ни крути, а в имение съездить надо. А тут ты как раз объявился с кладом. Аглая, будь она не ладна, с квартиры погнала…
Сергей сорвал травинку, повертел ее в руках.
— Петушок или курочка? — неожиданно улыбнувшись, спросил он Степана.
— Вы это об чем, Сергей Валерианович?
— Да нет, это я так, детство вспомнил. Мы в детстве играли здесь в парке с дворовыми ребятами. Бывало, этак вот, сорвешь былинку и угадываешь — петушок или курочка, — Сергей провел пальцами вдоль стебля, показал собравшийся в перстах пучок. — Видишь, хохолок небольшой, стало быть, курочка.
— Не пойму я, сударь, об чем Вы толкуете, — Степан поморщил лоб.
— А я толкую, Степа, вот о чем. Я ведь поначалу тебе не поверил. Съезжу, думаю, в имение. Могилу родителей навещу, с делами, глядишь, разберусь да и, пожалуй, развлечение выйдет — лекарство от Петербургской хандры. А клад… что ж, забавно, но не более того…
— А теперь, стало быть, поверили?
Нарышкин оглянулся по сторонам, внимательно посмотрел на Степана.
— Стало быть, теперь, любезный мой Степан Афанасич, я склонен относится ко всему этому всерьез. Что-то есть во всей этой истории… Что-то есть.
Нарышкин понизил голос:
— Смерть моего управляющего, твое явление, карета черная, человек этот в Москве, мельница, камень, в меня брошенный. Что-то и впрямь за этим кроется. Что-то кроется. Ты мне, Степушка, вот что поведай: почему это Петр Кузьмич перед смертью именно тебе открылся? Что это, у него ближе тебя никого не нашлось?
Степан вздохнул:
— Так ведь я же Вам рассказывал. Мы с Петром Кузьмичом — давние знакомцы, можно сказать, сродственники. Катерина крестницей ему приходится. Стало быть, кумовья мы с ним были. Упокой господи его душу…
— Ты давай, брат, не темни, — оборвал Нарышкин. — Рассказывай, как есть. Тоже мне, «кум» сыскался…
Степан тяжело засопел, оглянулся вокруг. В аллее никого не было. Сквозь густую листву заросшего парка кое-где пробивались солнечные лучи, пятная золотом таинственную изумрудную сень.
— Ну, дела у нас были с Петром Кузьмичом… — неохотно пробормотал Степан.
— Какие такие дела?
— Ну, как какие… всякие дела. Я для него продавал кой-чего… помаленьку.
— Что продавал? — Сергей нахмурил брови.
— Ну, там разное… все разве упомнишь.
— Что продавал? — повторил вопрос Нарышкин, пристально глядя в глаза собеседнику.
— Ну, что Вы меня, сударь, пытаете! Прямо с ножом к горлу приступили, — попытался обидеться Степан.
Нарышкин не дал ему договорить, он сделал быстрый выпад и ухватил «компаньона» за бороду.
— А ну говори, каналья, или я из тебя дух вышибу! Добро мое распродавал?!
— Да откуда же мне было знать! Вещи как вещи, на них не написано. Продай, говорит, я и продавал. Пустите, сударь, больно… — Степан, схваченный крепкой рукой, трепыхался, словно рыба на крючке.
Нарышкин ослабил хватку, однако все еще придерживал щепотью растрепанное окончание бороденки компаньона.
— Вот, значит, как! — с расстановкой произнес Нарышкин. — Пока хозяин в отъезде, вы с Петром Кузьмичом имущество мое наследное потихонечку спускали и разживались на этом.
— Не губите, Сергей Валерианович, — запричитал Степан. — Бес попутал. Жить как-то надо. Все так делают. Только я вот что скажу: коли у Вас в имении еще добро осталось, так это его, Петра Кузьмича заслуга. Он ведь и брал-то по-божески. Так кой-чего, из негодного. За эти вещи никто цены настоящей не давал. Сами видите, не больно-то я и разжился…
— У-у, ворье! Дать бы тебе в рыло, — мечтательно сказал Нарышкин. И тут же осуществил желаемое, несильно, впрочем, двинув Степана по физиономии, отчего тот кубарем покатился в кусты.
Сергей постоял некоторое время, рассматривая зажатый в левой руке приличный клок волос из бороды Степана, помолчал, прислушиваясь к пению птиц и трепетанию листвы. В кустах трещал ветками и всхлипывал Степан.
— Ладно, вылезай оттуда, — смягчился Нарышкин. — Кому говорю, вылазь. Ворюга!
— Бить станете? — хлюпал носом Степан. — Что за жисть такая пошла! Чуть что, все сразу кроворазлитие норовят учинить. Тут никакие мордасы сопротивляться не в силах!
— Ладно, не бойся. Иди сюда. Поговорить надо.
Степан нехотя выступил на аллею, старательно размазывая кровь, капавшую из расквашенного, распухшего носа.
— И ладно бы еще в морду, а бороду-то драть за что? — обиженно прошепелявил незадачливый «компаньон» Нарышкина.
— Ладно, хватит причитать. Получил ты, брат, за дело. И довольно об этом. Теперь ты мне расскажи, как Петр Кузьмич помирал. Только все доподлинно, без фортелей! На вот, — утрись, — Нарышкин подал Степану шелковый платок.
— Благодарствую, — Степан утер нос рукавом, незаметно сунул барский платок себе в карман и стал рассказывать:
— Петр Кузьмич незадолго перед смертью вроде как сам не в себе стался. Похоже, боялся он чего-то сильно. Из имения не выезжал. А он сидел у себя во флигеле, точно сыч в дупле, и прикладываться стал.
— Куда прикладываться? — не понял Сергей.
— Известно куда, сударь. Понятное дело, что не к святым иконам. К зелью зеленому прикладывался. Весь сделался нутряной. Мне про Татенка с Пуденей рассказывал, про злодейства ихние, только я тогда не понимал к чему. А теперь знаю, кладовика он боялся, нечистого, значит!
— Ну, опять понес околесицу. Вот что, любезный, хватит мне про кладовика сказки плести, — взметнулся Нарышкин. — Я в эту чертовщину не верю и тебе не советую. Но чего-то он, говоришь, боялся, или кого-то? А вот кого? Это вопрос. Что дальше-то было?
— На масляной неделе заехал я к нему ввечеру — про дела наши посудачить. Гляжу — батюшки, а двери-то нараспашку и прям со двора в сени след кровавый.
— Как же ты кровь углядел, если вечером это было? — прищурился Нарышкин.
— Так ведь, батюшка, на снегу как не углядеть. Я, значит, зашел осторожно в комнаты. Свечу засветил. Гляжу, а он, Петр, стало быть, Кузьмич, лежит, как есть при последнем издыхании. Сами знаете, он мужик здоровый, подковы гнул… Да, видать, на силу всегда другая сила найдется. Я к нему, а он мне тихо так говорит: «Возьми, Степан Афанасич, бумаги эти и держи их у себя»… Ну, и про клад мне все рассказал, и про Кудеяра, и как Татенка с Пуденей казаки обложили, и про отца своего, который клад разбойный потревожил, через что теперь беда и к сыну его явилась в образе злодеев лихих. Хочу, говорит, грехи свои и отцовы замолить перед Богом. Употреби сокровища эти на благое дело, а где искать их рассказать не успел, там, говорит, все в карте обозначено…
— Так и сказал?
— Точно так. Мне, говорит, от клада этого, видать, только горе и страдания. Может, он хоть тебе впрок пойдет. Сказал так и глаза закрыл. Помер, значит.
— Ну, а ты?
— А что я? Бумаги подхватил да и бежать кинулся. Сами знаете, судейские какие. Начнут пытать — не отмоешься. Так в Сибирь и упекут ни за что ни про что.
— Это ты верно подметил. И все-таки, много в твоем объяснении, Степан, прямо скажу, пространного.
— Ничего тут странного нету. Человек перед смертью мне открылся. Камень с души своей свалил.
— На тебя, стало быть, свалил? — недобро усмехнулся Сергей, вспомнив недавнюю сцену с брошенным в него валуном. — И тут ты, Степан Афанасич, про меня вспомнил. В Петербург помчался, дабы со мной поделиться, так?
— Получается, что так, — согласно кивнул Степан.
— А сам ты найти клад не пытался, верно? — Нарышкин сверлил «компаньона» взглядом.
— Да я ведь, сударь, грамоте не шибко обучен. Как же мне во всех этих бумагах разобраться?
Сергей зло рассмеялся.
— Опять ты темнишь, Степан! Я же тебя просил правду рассказывать. Или тебе снова бороду трепать, каналья ты этакая? Ты хочешь сказать, что из-за того, что читать не умеешь, деньгами с хозяином имения делиться вздумал?! Или тут в округе никто грамоты не разумеет? Так я тебе и поверил!
Степан неожиданно сдался, заметно смутившись:
— Правда, Ваша, сударь. Ходил я тут к одному кабатчику, просил посодействовать, да, видать, зря я ему открылся. Худой человек оказался, — Степан потупил взор и стал переминаться с ноги на ногу.
— Ты показывал ему карту?
— Нет… то есть показывал, но в руки не давал, уж больно он побелел. Аж в лице изменился…
На этих словах Сергей шикнул на собеседника, замер и стал к чему-то принюхиваться.
— Что такое? — спросил Степан шепотом и тоже попытался втянуть воздух ноздрями, при этом его расквашенный нос производил изрядное хлюпанье.
— Снова тот запах, — пробормотал Нарышкин, оглядываясь вокруг.
— Какой такой запах? — Степан, вытянув шею, завертел головой.
— Показалось, наверное, — махнул рукой Сергей. — Мне в последнее время все что-то мерещится. Ну так что кабатчик? В лице переменился, говоришь?
— Точно так, сударь. Затрясся весь. И глазищи прямо такие алычные стали.
— Алчные, — поправил Нарышкин, невольно улыбнувшись.
— Ну, тут я, сударь, нутром почуял — дело неладно. Подхватился, бумаги в охапку и тикать.
— Экий болван, — беззлобно заметил Нарышкин.
Степан, пропустив замечание мимо ушей, продолжал.
Смекнул я, что в одиночку поклажу мне не сыскать. А ежели и сыскать, то дворня заметит непременно. Покумекал, покумекал, да и, не откладывая, поехал Вас в столице найти, чтоб, значит, все по закону было, честь по чести.
— Ну да, он еще про честь говорить будет, — Нарышкин ненадолго задумался. — Презанятное дельце выходит, Степан Афанасич. Как думаешь, успел этот твой кабатчик карту запомнить? Где, кстати, она?
— Не думаю, чтоб успел, — Степан, оглянувшись, достал из-за пазухи и подал Сергею листок. — Я ведь, сударь, ее из рук не выпускал.
Сергей повертел карту так и этак, поднес к глазам, посмотрел через нее на свет.
— Ну, что же, Степа, — сказал он, улыбнувшись. — Я думаю, пора наконец приступать к поискам разбойничьих сокровищ.
— Пора, сударь. Давно пора! — ощерился в улыбке Степан.
— Так, что мы тут имеем? — Нарышкин вновь принялся рассматривать карту. — Очень напоминает детский рисунок. Хотя все изображено тщательно. Вот это, я полагаю, сама усадьба, вот эта загогулина — каретный сарай. И верно, видишь, тут приписка под ней — «сарай».
Степан ткнулся глазами в карту, пытаясь изобразить на лице умственное напряжение.
— Пожалуй, что похоже на «сарай», — согласился он.
— Вот эти веники на карте, — продолжал Нарышкин, — это очевидно парк. То есть, мы в нем и находимся. Судя по всему, карту он нарисовал заранее… Но вот зачем? Неужели память подводить стала?
— Боялся он, сударь. За душу свою боялся. Чувствовал, что в гиене ему гореть придется, если богатства эти в земле пропадут и на доброе дело не обратятся. Знал, что смерть близко ходит!
— Ну что ж, пожалуй, это похоже на правду. Будем искать. Судя по всему, начинать нужно от каретного сарая. Насколько я помню, сарай у нас находился вон там, — Сергей указал рукой направление. Компаньоны свернули с аллеи, и пошли напрямик, продираясь сквозь густой кустарник.
— Черт, — разозлился Нарышкин, — заросло-то как все! Чем он здесь занимался, этот Петр Кузьмич. Прямо джунгли какие-то!
Каретный сарай обнаружился там, где и должен был быть — у южной опушки парка. Вид он имел плачевный: крыша над строением наблюдалась лишь фрагментами, так как она, по всей видимости, прогнила и обвалилась. Массивные ворота лежали поодаль в грязи. На них предавались любви две замызганные собаки, чрезвычайно этим делом увлеченные и не обращающие внимания на кладоискателей.
Из груди Нарышкина издался горестный вопль:
— Вот она, мерзость запустения!
Он схватил камень и швырнул его в собак. Те с отчаянным визгом бросились в стороны.
Нарышкин разразился очередной тирадой ругательств в адрес покойного Петра Кузьмича, из которой следовала главная мысль о том, что управляющий отправился на тот свет как раз во время.
— Иначе я бы ему самолично башку отвертел, — заявил Сергей, раскрасневшись от досады. — Разорил имение, как есть разорил. Ведь какой сарай был! Шесть экипажей могло вместиться!
— Давайте уж, сударь, клад сыщем, глядишь, там хватит, чтобы усадьбу в божеский вид привесть, — изрек Степан, пряча глаза от гневного взора Сергея.
Нарышкин еще раз тщательно осмотрел карту. Возле фигуры, обозначающей сарай, была приписка: «Три … шагов вправо». Запись после слова три перекрывалась бурым пятном.
— Сколько же шагов вправо? — раздраженно буркнул Сергей. — Тринадцать? Тридцать? Три сотни шагов?
Степан развел руками и поскреб затылок.
Они двинулись вправо от руин сарая, считая шаги. Тринадцать шагов оборвались посредине зловонной лужи, тридцать пришлись на старый хомут, одиноко валявшийся в лопухах.
— Это что, черт возьми, вешка? — поинтересовался Нарышкин, пиная хомут ногой. — Может быть, тайный знак?
Он снова заглянул в карту, пытаясь разобраться в иероглифах экс-управляющего.
— «Идти вдоль забору», — прочитал он и усмехнулся. — Да уж, изящно пишет наш Петр Кузьмич. Ну, и где здесь забор?
— Нету, — оглядевшись, произнес Степан. — Давайте, сударь, далее посчитаем.
Триста шагов вывели искателей сокровищ на крутой, обрывистый берег реки. Внизу под кручей неспешно несла свои воды Ока, лениво серебрясь на солнце. Отсюда открывался великолепный вид на заливные луга и убегающие к горизонту дали. На противоположном берегу, бредя бечевником, волокла баржу ватага бурлаков. Однако Нарышкина, похоже, не умиляла вся эта пастораль.
— А не мог он сыграть с тобой злую шутку, этот самый Петр Кузьмич?
— Какие шутки, сударь, на смертном-то одре! — Степан воздел глаза к небу.
— Ну, ты это брось. Опять за свое. Я тебя спрашиваю, дальше-то что делать? Продолжать считать шаги до трех тысяч?
— Погодите маленько, сударь, — Степан осмотрелся, — должон быть какой-никакой знак. Как там в карте прописано?
— Там прописаны одни канальские каракули! Вот видишь? Видишь, что это, по-твоему, такое?
— Должон быть знак, — убежденно сказал Степан и, отворотясь от карты, заходил кругами.
— Ну и где этот знак?
— То-то и оно, — философски заметил Степан и стал сужать круги. — Вот оно, глядите-ка, сударь. Трава, вроде как, тут меньше растет.
Нарышкин пригляделся и, на секунду задумавшись, хлопнул себя по лбу.
— Как я мог забыть?! Здесь же раньше стояла большая скамья. Отсюда маменька любила любоваться далями. Видишь, вот тут она и стояла, где трава пониже.
Они подошли к обрыву. Деревянный остов скамейки обнаружился у самой воды.
— А вон и забор! — Степан указал на серые доски, прячущиеся в зарослях бурьяна.
— Ну точно, скамья стояла как раз у границы усадьбы.
Продираться вдоль забора было трудновато. Все вокруг заросло колючим кустарником и крапивой. Кроме того, местами сам забор отсутствовал, и движения приходилось все время корректировать.
— Должно, на дрова потаскали, — выдвинул версию Степан. — Далеко еще идти-то?
— Идти, судя по карте, примерно столько же, сколько шли от каретного сарая до обрыва. То есть шагов триста-четыреста. Видишь ли, Степа, у покойника, по-видимому, было пренебрежительное отношение к масштабам, — Нарышкин яростно оторвал прицепившийся к одежде колтун сухих репьев. — Во всяком случае, идти следует до места указанного на карте как «Дуп». Ты видишь «Дуп», Степа?
— Не вижу, покамест, — Степан повертел головой.
— «Дуп», Степа, это такое дерево, — пояснил Нарышкин и, набрав воздуху в легкие, загремел, слегка перевирая мелодию:
«Среди равнины ровныя, На гладкой высоте Цветет, растет высокий дуб В могучей красоте. Высокий дуб развесистый Один у всех в глазах. Один, один бедняжечка, Как рекрут на часах!»…— Тише, сударь, — с тревогой одернул Степан певца. — Что это Вы, как диакон вопите. Не услыхал бы кто!
— Ищи дерево, Степан, — высокопарно велел Нарышкин. — Развесистое дерево, которое цвело-росло бы в могучей красоте. Есть подходящее растение?
— Покудова нету.
— Странно, что я в детстве мало внимания уделял деревьям. Проморгал исполина, — пояснил Нарышкин.
— А это не дуб ли? — воскликнул Степан, когда они прошли еще полсотни шагов. Унылое, невысокое древо, замеченное им, было похоже на торчащую из земли растопыренную пятерню.
Нарышкин со скепсисом осмотрел дерево от корней до кроны и недоверчиво усмехнулся:
— И, по-твоему, это дуб?
— Пожалуй, что дуб, — кивнул Степан.
— Степа, по твоему мнению, это растение находится в состоянии «могучей красоты»? Только какой-нибудь литератор от ботаники смог бы опоэтизировать эту метлу… — Сергей обошел дерево кругом. — Не знаю, не знаю, — пробормотал он в нерешительности. — Если это дуб, то должны быть желуди какие-нибудь… Хоть какое-то подтверждение.
— Желудей, сударь, о сю пору не бывает, — резонно заметил Степан. — Не сумлевайтесь, дуб и есть.
— Ну, хорошо, пусть будет по-твоему. Что мы имеем далее?
— А далее нам велено: «стать спиною к забору и идти полста шагоф чуть более». — Куда идти? — поинтересовался Степан, тупо заглядывая в карту.
— По всей вероятности туда! — Нарышкин указал рукой. — То есть в глубь усадьбы.
Они отсчитали полсотни шагов. Заросли чуть расступились, и компаньоны уткнулись в низкую каменную кладку какого-то строения.
— А это что еще такое! — воскликнул Нарышкин.
Они обошли постройку. Судя по крыше, состоявшей из рам без стекол, тут должна была располагаться оранжерея. Однако внутри никаких следов посадок экзотических растений не обнаружилось.
Наверняка, они и были, но определить это не представлялось возможным, потому как все внутреннее пространство оранжереи было завалено навозом, подножие кучи которого начиналось у входа, а вершина была вровень со стенами.
«Гроза морей» сверился с картой и внимательным образом осмотрел благоухающее сооружение.
— Вот где жила золотая. Добра-то сколько! Я тебе, Степан, пятую часть обещал? Так и быть, бери половину, а хочешь, все забирай!
— Об чем это Вы, сударь? — Степан сделал брови домиком.
— Как о чем? Об этом? Вот он, клад твой! Видал, злата-серебра сколько навалено? Забирай!
— Вы, сударь, шутить изволите, — попытался улыбнуться Степан.
— Какие уж тут шутки! А вот Петр Кузьмич, похоже, шутку с тобой сыграл. Да и со мной тоже.
— Почему это?
— Да потому что на карте так и написано: «Рыть тута». И Крест жирный стоит: «+».
— «Тута» рыть, ты понял, Степан? Вот в этом самом дерьме, на два аршина вглубь, — Нарышкин даже повеселел от такого оборота событий.
— Да не может быть, чтоб Петр Кузьмич перед смертью шутки шутить стал, — Степан выглядел растерянным.
— А ну тебя, Степа. Тут же и так все понятно. Ройтесь в дерьме, кладоискатели! Всех уел покойничек. И тебя, и меня, и братца своего, и прочих до золота охотничков. Пойдем отсюда!
— Нет, Вы, сударь, как хотите, а я этого так не оставлю.
— Рыть что ли станешь?
— И стану. Нам оно не привыкать!
— Ну-ну, бог помощь. Велю дворне тебе лопату и тачку выдать. Только ты ж смотри, навоз на огород вывози. Хоть какая-то польза будет, — Нарышкин повернулся и зашагал по направлению к дому.
Степан поспешил за ним.
— Ну не верю я, сударь, что все наши хлопоты впустую были! Может, это он, Петр Кузьмич, специально сделал, чтоб глаза отвести. Сергей Валерьянович, велите людям навоз расчистить, а там уж посмотрим…
— Экий ты, Степан, неугомонный! Ну хорошо, кучу эту, конечно, нужно вывести и по огороду раскидать. Действительно, что за манера такая — росить, не достроить, да еще и загадить! Вот Россия-матушка!
— Нет, Сергей Валерианович, неспроста это тут навозом нагажено. Ой, неспроста! Я так думаю, немедля приступать надо. Вы сами то, сударь, посудите: зачем это покойнику навоз сюда валить. Коровник-то вона оно где, с версту будет. Что за шутки такие!
— А ведь верно, Степан! Что-то тут не так. Точно под навозом, не иначе, золотишко припрятано… Ты глянь, никак блестит что-то! А? Ты тут пошуруй пока! А меня уволь. Я все-таки — дворянин, а не «золотарь обозный», — Нарышкин повернулся на каблуках и в раздражении зашагал к дому.
— Барин! Барин! К Вам гости приехали, — навстречу Нарышкину, потряхивая телесами, бежала Фроська. — Мы Вас обыскалися, с ног сбилися! — выпалила она, тяжело дыша.
— Кого там нелегкая занесла? — Нарышкин ускорил шаг.
— Навроде как, сосед Ваш и с ним барынька изячной канплекции. Чистая Калюпатра! Вся из себя такая, ну прямо мед, — при этом Фроська даже плотоядно облизнулась.
— Сосед? Нехлюдов Алексей Петрович пожаловали! А скажи Ефросинья, что, раньше он частенько сюда заезжал?
— Допреж ни разу, истинный крест, — заверила барина Фроська, щепотя лоб.
«Ну посмотрим, что там за „мед“ такой», — подумал Нарышкин и вошел в дом с черного хода. Поднявшись к себе, он принялся приводить свое платье в порядок, отряхиваясь и обрывая налипшие колючки. Осторожно выглянул в окно. Так и есть! У парадного подъезда стояло знакомое ландо, а чуть поодаль по тропинке, ведущей к усадьбе, прогуливались и о чем-то мило беседовали Анастасия и Алексей Петрович Нехлюдовы.
Глава десятая ВОКРУГ ДА ОКОЛО
«Века бегут, а все, как встарь
На вышке гордый витязь ходит,
И яму чистит золотарь».
(В. С. Соловьев)Нарышкин, чертыхаясь про себя, спустился по лестнице и вышел из дома к гостям.
— Очень рад! Очень рад! — наклеив на лицо улыбку, выдавил из себя Сергей. — Какими судьбами в мою обитель? — спросил он, и сам же себе мысленно ответил: «Не иначе, черти вас сюда занесли».
— Что же Вы, корсар, уехали, так и не попрощавшись? — Анастасия Алексеевна томно повела бровями. — Должно быть, не пришлось по вкусу папенькино хлебосольство?
— Ну что уж ты этак-то… — забормотал Нехлюдов, стараясь сгладить резкий тон дочери. — А мы-то, Сергей Валерианович, с Настенькой яровые осматривали. Хорош ячмень в этом году. С неделю будет, как посеяли, а уже прямо этак-то вот проклюнулся и поднялся… просто любо-дорого посмотреть. Даст бог, урожай будет преотличный. Наши земли, знаете ли, прямо-таки клином в Ваши владения вторгаются, вот мы и решили заодно уж и к вам с визитом. Не прогоните?
«Клином? — подумал Нарышкин рассеяно. — Каким еще, к дьяволу, „клином“? Вот еще и эти решили себе землицы оттяпать…». Но вслух произнес:
— Да что Вы, Алексей Петрович. Как можно! — и, делая широкий замах, как будто тоже что-либо сеял, пригласил гостей пройти в дом.
— Чурбан этакий, — тихо вздохнула Анастасия, подкатила в притворном ужасе свои восхитительные темные глаза и, проходя мимо посторонившегося Нарышкина, больно ущипнула его за живот.
«Клином, — снова подумал Сергей, поморщившись. — Точно, клином вторгаются! Свиньей прут», — «Гроза морей» лихорадочно соображал, как бы повежливее отделаться от непрошеных визитеров, но ничего путного в голову не лезло.
— Вот, изволите видеть. Приехал в имение, а тут разор. Как мой управляющий умер, людишки и поразбежались. Так что, дел невпроворот, хозяйство на ноги ставить нужно!
— Понимаем, Сергей Валерианович. Мы, как узнали про ваши обстоятельства, сразу же решили руку помощи протянуть. По-соседски, значит. Не откажите принять. Эй, Евстафий! — Алексей Петрович кликнул слугу. — Распорядись, голубчик, чтоб подводы в усадьбу заезжали!
Слуга кинулся исполнять поручение.
— Позвольте, какие подводы? — обомлел Нарышкин.
— Ну как же, батюшка, две подводы со всем, что вам сейчас необходимо будет. Поверьте, от чистого сердца! — Нехлюдов изобразил легкий реверанс.
Подводы вкатили во двор. Пришлось кликнуть Терентия, под руководством которого, повар Григорий и лакей Евстафий, принялись разгружать соседское добро.
Алексей Петрович не поскупился. Судя по его неожиданной щедрости, Нехлюдовский клин, вторгшийся во владения Сергея, обещал прирасти еще преизрядным куском землицы.
«Вот они когда подступились, — подумал Нарышкин. — Поняли, что я сейчас нуждаюсь. Знали, что не смогу отказаться! Кроме того, отказываться невежливо. Это значит — обидеть хлебосольного соседа. Черт бы побрал, его хлебосольство! Однако дочка Нехлюдова хороша, — проносилось в голове Сергея, — очень хороша, вот только щиплется чертовка пребольно!».
В качестве неотложной помощи разоренному имению, в его трюм, как выразился Терентий, с подвод было перегружено постельное белье, ватные одеяла, крахмальные скатерти, столовые приборы и посуда на двенадцать персон. Из провизии: три мешка белой пшеничной муки, мешок гречневой крупы, сахарная голова, три фунта чаю, пять копченых сигов, несколько колец домашней колбасы, туша свиньи и две бараньих туши. Помимо этого — варенье, соль, перец и прочие приправы, ну а главным спасательным средством от местного сплина, конечно же, должны были оказаться дюжина бутылок с различными настойками и бочонок с домашним вином.
«Прямо за горло взяли, — с тоской оглядывая батарею бутылок, подумал Нарышкин, непроизвольно глотая слюну. — Теперь уж точно не смогу отказаться», — сказал он себе, понимая, что визит Нехлюдова, судя по всему, затянется.
Только после того, как, рассыпаясь в благодарностях, Сергей усадил гостей пить чай с их собственным вареньем, он смог на минуту отлучиться и сделать-таки необходимые распоряжения относительно расчистки оранжереи. Ему в голову пришла вдруг шальная мысль о том, что он ничем не рискует. Компаньона, пусть даже такого никудышного, как Степан, тоже стало немного жаль.
Согласно указаниям Сергея, навоз должна была вывезти артель деревенских мужиков, под началом бывшего конюха Петра. Нарышкин почему-то решил, что такое предприятие будет ближе и понятнее человеку, имевшему непосредственное отношение к лошадям. В артель затесался вездесущий Митька Косой, а воспрянувший духом Степан взял на себя обязанности общего руководства ходом работ.
Вернувшись к гостям, Нарышкин принужден был поддержать беседу о видах на урожай. Анастасия Алексеевна откровенно разглядывала Нарышкина.
— Скажите, Корсар, неужели Вы так и будете теперь сидеть в нашей глуши? — спросила она, кокетливо улыбаясь.
— Придется некоторое время. Сами изволите видеть, какое положение. Надо хозяйство поправить.
— Фу, как это скучно! Вы совсем как мой папа. Хозяйство, покосы-выпасы, озимые-зерновые и так далее. Я считаю, что этим должен заниматься управляющий, желательно немец. Посудите сами, мой отец с этими крестьянами бьется, а толку все равно нет! Вот у матушки, Афродиты Васильевны, все было по-другому поставлено. Там Фридрих Карлович управлялся, и во всем, как он говорил, «оргнунг» был. Порядок, значит!
В который раз Сергей поймал себя на мысли о том, что рассуждения обоих Нехлюдовых о хозяйстве он слышал уже в какой-то скверной пьеске….
— Постойте, — сказал Нарышкин, припоминая, — мне кажется, Вашу матушку изволили звать Ариадна Васильевна!
Анастасия слегка смутилась.
— Именно так ее голубушку и звали, — пришел на выручку Нехлюдов. — Но Настенька называла ее «моя Афродита». Уж очень, извольте верить, хороша была покойница!
— Охотно верю, — согласился Сергей. — Так о чем мы говорили?
— Не стало в России порядочного немца, одни жулики и проходимцы, — продолжил прерванный разговор Алексей Петрович. — Думаете, я не хотел немца нанять? Хотел. Еще как хотел. Ну, привели мне одного. С виду, вроде, немец. Рыженький такой. Но все ж думаю, что-то тут не то. Глазки у него так и бегают. Навел справки. Точно! Оказалось поляк. Такая бестия, пся крев!
Обсуждение недостатков польских управляющих прервалось довольно бесцеремонным образом. В залу, ломая картуз и глупо улыбаясь, вперся перепачканный навозом Митька Косой.
— Дело есть, Барин! — заговорщически моргнул глазом Митька. — Выдь на минутку, чаво скажу!
Сергей порывисто вышел, извинившись перед гостями. Хотел было дать зряшному человеку тумака, но Митька, благоухая навозом, источал вместе с тем такую крайнюю преданность, что у Нарышкина не поднялась рука.
— Наследил-то, дурень! — недовольно сказал барин, указывая на жирный след, тянущийся за Митькой из прихожей. — Экий ты, брат, болван, однако. Ну что там у вас стряслось?
— Эта, значит, вона какие дела, — зашмыгал носом Митька. — Мужики говно разгребать ни в какую не хочут! Прямо ни-ни! Так что Афанасич один мается!
— Тише, дурень, не кричи! — зашикал на него Сергей. — Гости у меня. Понимать надо, башка твоя стоеросовая… Куда Петр делся?
— Прямо убег! — снова шмыгнул носом Митька. — Как есть убег. Я, грит, ему не говночист какой! Я — конюх… И мужиков за собой свел.
— Тише, опять ты орешь!.. — Сергей нахмурил лоб. — Ну значит так, возьмешь лопаты и раздашь дворне. Кто там у нас есть — Григорий, Никифор, Фроська, Танюха, пусть тоже впрягаются.
— Понял! — чрезвычайно оживленно кивнул Митька. — Это, значит, всем гребсти, стало быть? Ну я побег?
— Беги, беги, — согласился Нарышкин. — Экий все же дурень народился!
— Так о чем, бишь, мы говорили? — Сергей пригладил непослушные вихры, возвращаясь к гостям.
— Мы говорили о погоде, — подсказал Алексей Петрович.
— Нет, постойте. Кажется, Вы изволили упомянуть о поляках? Я тоже с одним поляком в полку на Кавказе служил. Щеголем был, все в черкеске ходил, с кинжалом в серебряных ножнах, а денщику, чуть что не так, — в зубы!
— Так Вы служили на Кавказе!? Расскажите, ради бога, расскажите! — взмолилась Анастасия Алексеевна.
И Сергею ничего не оставалось, как начать повествование о службе. Вначале вяло, но потом, отвечая на вопросы девушки, он и сам как-то разошелся, вспоминая набеги на горные аулы, немирных чеченцев, рубку леса, выстрелы в спину и отчаянную резню в рукопашной.
В это время за стеной возник шум, будто там и в самом деле шла рукопашная… Дверь распахнулась, и в комнату ввалилась раскрасневшаяся, растрепанная Фроська. Позади нее клубилась возбужденная толпа дворовых.
— Это за что ж нам наказание такое, барин-кормилец, а? — слегка наклонив вперед голову, исподлобья оглядывая гостей, возопила Фроська. — Как мужики, дык все вона, значит, поразбежамши кто куды, а мы, девушки малосильныя, за их будем дерьмо разгребать?!
— Не губите, заступник, Сергей Валерьяныч, — чавкнула моченым яблоком Танюха из-за спины Фроськи.
— Коли мы господские, дык теперь что ж, глумиться над нами давай, так? — продолжила Фроська.
— А я им сказал, чтоб лопаты брали, а они слушать меня не хочут! — жалобно проблеял откуда-то из-за дверей Митька. — И еще скажу, хочут меня отлупить, и чтоб я говно сам греб!
Возникла неловкая пауза.
— М-да уж, однако… — покачал головой Алексей Петрович. — Распустился народ. В прежние времена этакого не было.
— Минутку, прошу извинить, — двинулся из-за стола Нарышкин, багровея и сверля депутацию дворни налившимся кровью подбитым глазом. Он выдавил Фроську в коридор, захлопнул за собой дверь, а затем после непродолжительной паузы по барскому дому ураганом пронесся истошный женский визг, грохот опрокидываемой мебели, топот ног, хлопанье дверей и хлесткое щелканье кнута. Затем в доме вновь воцарилась тишина, вся какофония звуков переместилась за его пределы. Щелканье бича и крики слышались теперь то из парка, то доносились со стороны цветника, то шум, треск веток и визг слышались из малинника, что буйно рос за огородом.
— Однако крут, — с оттенком удивления в голосе отметил Алексей Петрович, выглянув в окно. — Ишь ты, как погнал их арапником. Сущий дьявол!
— Бросьте, — Настасья Алексеевна подавила зевок. — Это же просто теленок. Неужели Вы не видите? «Корсар»! — она фыркнула и засмеялась. — Такого прибрать к рукам не сложно. За рожки его и в стойло, бодливого!
— Ну, не знаю, не знаю, — с сомнением покачал головой Нехлюдов. Однако же землицы у него преизрядно. Эвон сколько ее пропадает, — Алексей Петрович скорбно покривился. И зачем ему столько? Именье, почитай, профукал, и земля пропадет! У такого не залежится. Пропьет или в карты проиграет.
— Нам то с Вами что за дело? — ловя из варенья вишенку, сказала Настасья Алексеевна.
Нарышкин вернулся через несколько минут, взъерошенный и вспотевший. Он все еще держал в руке длинный витой арапник. Тяжело отдуваясь, Сергей пробурчал извинения.
— А мы тут о Вас разговаривали, — повела рукой по волосам Анастасия Алексеевна. — Хотите вишенку, Корсар?
— Ловко Вы их, — кивнул на дверь Нехлюдов. — Правильно, пусть знают! Разбаловались людишки, совсем потеряли стыд! А все потому, что оргнунга нет.
— Чего-чего, а этого добра хватает, — Сергей тяжело приземлился в кресло. — Ору, хоть отбавляй… а вот работать никто не хочет.
— Эй, кто там есть? Принесите еще вина! — крикнул Нарышкин.
Никто не отозвался. Дом, казалось, опустел.
— Митрич, Терентий, где вы там? Черт знает что! — выругался Сергей. — Разбежались все что ли? Эй, Терентий, иди сюда! И этот старый черт куда-то запропастился!
— Так я велю моему Евстафию принести, — Алексей Петрович проворно выскочил из-за стола и выглянул в приоткрытое окошко.
— Эй, Евстафий, — крикнул он, — принеси нам, дружок, вина. Возьми в коляске, в погребце пару бутылок.
— Я, знаете ли, везу с собой преотличнейшую запеканку! — сказал Нехлюдов, поворотившись от окна.
— Запеканку? — переспросил Сергей.
— Именно, — подмигнул Нехлюдов. — Мне ее присылает один приятель из Малороссии. Это, доложу я вам, просто боже ты мой, что за штуковина! Они ведь, шельмецы, что придумывают? Фрукты в глиняном горшочке заливают горилкой, обмазывают его плотненько тестом и ставят томиться в печь… Получается наливочка первостатейная, — Алексей Петрович причмокнул, поднеся щепоть пальцев ко рту.
— Пробовал делать сам — не то! Вкус не тот и ароматности нет никакой…
Сергей припомнил клейкий хмельной угар, царивший за столом у Нехлюдова, и слегка поморщился.
«Пинка бы тебе хорошего, черту липкому», — подумал он при этом жесте Нехлюдова.
Втянув плешивую голову в покатые плечи, в комнату, осторожно ступая, прошел Евстафий. Он хмуро поставил на стол бутыли с запеканкой, опасливо косясь в сторону Нарышкина.
— Что это у тебя, братец, с губой? — спросил Нехлюдов, приглядевшись к своему лакею.
— Да вот-с попал-с… под руку. Оне больно уж горячи-с, — Евстафий повел головой в сторону Сергея.
— Ну ладно, ступай. Ступай, — поспешно приказал Нехлюдов. — Однако вечереет! воскликнул он, чтобы как-то сгладить неловкую ситуацию.
Выпили запеканки. Малоросский напиток пришелся по вкусу.
Объявился Митрич, который от гнева барина хоронился в погребе и успел там хорошенько окунуться в остатки барских запасов. Сергей распорядился: найти повара Григория, освободить его от работ с тем, чтобы он приготовил ужин.
Старик, шаркая, кинулся исполнять. Тогда же, прихлебывая запеканку, было решено, что гости останутся на ночлег.
…А тем временем в оранжерее все еще кипела работа. Степан, торопясь добраться до вожделенного богатства, мокрый от пота, орудовал лопатой с проворностью и исступлением, которых трудно было ожидать от него ранее. Разбежавшаяся дворня куда-то попряталась, и разгребать навоз так никто и не явился. Вечерело. На киноварно-золотистый небосвод наползала рыжая, отливающая у горизонта чернотой туча. Стал накрапывать мелкий дождик.
Отыскавшийся Терентий прикатил откуда-то тележку, и Митька Косой, всякий раз впрягаясь в нее, лихо гикал, будто застоявшийся жеребец.
— Хороший навоз, жирной! Этаким хорошо картофель, к примеру, уговнить! — хвалил барское дело Митька. — Мы-то в этом годе малость с жирку сбрыкнули. Толком ничего не посадили, распорядиться некому было. Ну да оно ничего. Землице и отдохнуть надо. Оно полезно…
— Давай-ка накладай! — напустив на себя строгий вид, прикрикнул Степан. — Чего зря-то лясы точить! Вам крупожорам волю дай, вы и вовсе сажать перестанете!
— Оно, пожалуй, верно, — соглашался Митька. — Такой уж народ неодушевленный!
Терентий, не испытывая энтузиазма к делу, затеянному Степаном, работать не полез. Отделался не очень понятной фразой о том, что главный гальюньщик[8] должен быть только один. Он постоял, морща нос и как будто о чем-то раздумывая, пристально разглядывал хмуро снующего в оранжерее кладоискателя.
— Что, Степан Афанасьич, чай, не ложкой в супу ковыряться? Не возьму в толк, для какой надобности ты этакое дельце задымил?
— Зачем надо, про то мы с твоим барином сами знаем, — утирая со лба пот и капли начинающегося дождя, ответил Степан. — Ты бы лучше, чем лясы точить, взял бы, да и помог.
— Куда уж мне! — отмахнулся Терентий. — По ранжиру не положено. Мне барин велел приглядывать, чтоб какие-либо молодцы побойчее остатки добра хозяйского совсем не растащили. Так что, греби, сударик мой, коли тебе честь такая выпала. Греби, не сумлевайся! Терентий хрустнул корявыми узловатыми пальцами. — Не знаю уж, какие такие дела вы с Сергеем Валериановичем обделываете, не знаю чем ты ему потрафил, но только я тебе, Степа, так скажу: ежели надумаешь барина моего обмануть, или иную какую пакость против него умыслишь, так и знай, я тебе вот это дерьмо, которое ты разгребаешь, заместо каши скормлю! Всю кучу!
Терентий для верности смастерил кулак и изобразил им в воздухе некую незамысловатую, но очевидно исполненную грозного смысла фигуру, затем он повернулся и зашагал по направлению к усадьбе.
— Чавой-то он, а? — удивился Митька, глядя ему вослед и вытирая перепачканными навозом руками мокрое от дождя лицо.
— Чево, чево, ишь расчевокался! — передразнил с издевкой «главный гальюньщик» — Закрой свою чевокалку и знай — работай!
Митька пожал худыми плечами, сказал миролюбиво:
— А что, я ничаво! — тяжело сопя, покоряясь судьбе, покатил полную тачку в сторону от постепенно уменьшающейся кучи навоза.
Дождь усилился. Рыжая туча заволокла весь небосклон и стала бурой. В гостиной у Нарышкина зажгли сальные свечи. Сергей продолжал истории о своих кавказских похождениях, которые под влиянием запеканки обрастали новыми, неожиданными даже для самого рассказчика подробностями.
Пару раз, спохватившись, «Гроза морей» вставал из-за стола, покидал гостей и заходил с увещеваниями в комнату Катерины, но та, ссылаясь на нездоровье, упорно не желала присоединяться к компании.
Возвращался Сергей обескураженный и продолжал прерванную историю, не всегда, впрочем, связно, однако по-прежнему живо и ярко.
Алексей Петрович крякал и покачивал головой. Он уже изрядно «запекся» от наливки и сидел, немного скособочившись, благостно щурился, внимая рассказу. Анастасия Алексеевна, с полуулыбкой откинувшись в кресле, жгла рассказчика мерцающими угольками глаз, поворачивая при этом красивыми тонкими пальцами ножку своего бокала.
Раздались громовые раскаты, створка окна под напором ветра распахнулась. В залу со сквозняком ворвался пьяняще-свежий аромат цветущего сада. В это же время в противоположной стороне комнаты раскрылась дверь, через которую вместе с несколько иными ароматами в гостиную проник Степан.
Он был мокр до нитки, и весь вид его выражал чрезвычайное возбуждение.
— Сергей Валерианович, подь суды! — презирая все правила этикета, замахал выпачканными в навозе руками Степан.
Анастасия Алексеевна наморщила носик и брезгливо отвернулась.
— Что такое, Степа? — Нарышкину надоело без конца отвлекаться. Хотелось покойно сидеть в кресле, потягивать наливку и, глядя в хорошенькое личико гостьи, рассказывать ей о своих кавказских подвигах. Сергей в раздражении встал и вышел в коридор, прикрыв за собою дверь.
— Кажись, нашли, сударь! Там внизу клеть… дверь завалена чем-то, ни зги не видать! Надобно лампу… Там он, верьте слову, там! — Степан в нетерпении дернул Нарышкина за рукав.
— Эк от тебя, брат, разит! — Сергей слегка отодвинулся. — Ты, часом, не обмишурился? Какая такая «клеть»?
— Погреб там! Схрон потайной! Там он и есть, под навозом значит, — вполголоса затараторил Степан, тревожно оглядываясь на пляшущие по стенам тени.
— Там поклажа схоронена. В погребе этом… Пойдемте быстрее, сударь! И лампу возьмите…
— Ах, черт! — Нарышкин посерьезнел. Однако выходить в дождь ужасно не хотелось.
— Может, до утра подождем? Смотри, ливень какой! Вдруг там и нет ничего? — Сергей поежился.
— Там он, сударь, там! Идти теперь надобно! Берите же лампу!
Нарышкин коротко чертыхнулся.
— Нашел, тоже время! Видишь, гости у меня!
Степан глядел умоляюще. Нарышкин не выдержал его взгляда.
— А… ладно, будь по-твоему; пошли, посмотрим!
Он разыскал лампу и старый отцовский дождевик. Перед выходом заглянул в залу.
— Корсар, Вы нас все время покидаете, — обижено протянула Анастасия Алексеевна, — куда Вы на этот раз?
Нарышкин пробормотал какие-то бессвязные объяснения, насчет чрезвычайных обстоятельств, пообещал вернуться сей же час и, прикрыв поплотнее дверь, растворился в сырой темени, озаряемой изредка вспышками молний.
Ливень был изрядный. И старый дырявый дождевик нисколько не защитил Сергея от прохладных струй, низвергающихся с неба. Не прошло и минуты, как он вымок с головы до ног. Его компаньон не обращал на дождь никакого внимания. Довольно долго, как показалось, шли и молчали. Масляный фонарь отбрасывал вокруг себя маленький пятачок призрачного света, который тревожно плясал на мокрой траве.
— Пришли! — стараясь перекричать очередные громовые раскаты, воскликнул Степан, указывая на кратер посреди разрытой оранжереи.
— Это я уже понял по запаху, — раздраженно откликнулся Нарышкин и тут же поскользнулся. Стараясь не выронить фонарь, он неловко повалился набок, прямо в глянцево чернеющую под ногами жижу. Далее последовало одно из самых многоэтажных ругательств, на которые был богат его словарный запас.
— Видите, вот она клеть! — возбужденный Степан даже не обратил внимания на конфузию Нарышкина.
— Осторожнее, сударь, не загасите фонарь! Посветите-ка вот сюда. Видите, там внизу! Погреб там! Это схрон и есть! Гляньте, сверху колода тяжелая навалена. Мне не одолеть. Вдвоем надобно!
— Канальство! — отозвался Нарышкин. — Ну-ка держи фонарь.
Сергей, упершись ногами в плывущую и чавкающую под сапогами массу, отвалил действительно тяжелую колоду в сторону.
Блеснула вспышка молнии и осветила поляну, обступившие ее кругом высокие деревья качали мокрыми кронами, и, казалось, следили за вымокшими до нитки кладоискателями, которые суетились в зловонной яме рукотворного кратера.
— Фонарь, барин, не загасите, а то худо!
— Молчи, дурень, сам знаю! Свети сюда.
— Кольцо видите?
— Вижу, не кричи! — отозвался Нарышкин.
— Ты, вот, мне скажи, Степан, ну какой прок этому Петру Кузьмичу нужно было клад здесь прятать да еще дерьма сверху столько навалить?
— Почем мне знать! — Степан пожал плечами и с силой потянул за кольцо. — Не поддается! Давайте Вы, сударь, тяните, а я заступом поддену.
— Черт побери! — выругался «Корсар», хватаясь за кольцо обеими руками. — Какими, должно быть, идиотами мы выглядим со стороны! Ты-то еще ладно, Степа, а я?
— Не надо бы нам выглядеть, Сергей Валерианович! — отозвался из темноты Степан. — Чем меньше глаз, тем лучше. Тяните, сударь, я поддел!
Нарышкин изо всех сил рванул за кольцо — никакого результата, крышка лаза так и осталась на месте.
— Должно, от сырости разбухла, — воскликнул Степан, — а ну еще наддайте!
— Я сам уже разбух от сырости, — буркнул Нарышкин и, скользя ногами в жидкой массе, потянул что есть мочи, чувствуя как напрягаются все жилы, а глаза лезут из орбит.
Кольцо хрустнуло и выдралось из крышки со скобой. Нарышкин от неожиданности опрокинулся спиной прямо в мягкую, вонючую кашу. Как и в первый раз, он тут же разразился потоком отборных ругательств.
— Надо бы ломиком поддеть, и пошло бы как по маслу, — посетовал Степан.
— Ломиком?! Ломиком?! — орал Нарышкин, барахтаясь на спине, будто огромный навозный жук. — Какого черта я, дворянин, поручик, делаю ночью посреди этой кучи дерьма?! Как я позволил уговорить себя?! Мне надо было прибить тебя еще в Петербурге. Все, с меня хватит! Я уже и так по уши в твоем сокровище. Видал сколько его тут навалено?!
— Сергей Валерьяныч, да тут всех и делов, что ломиком ковырнуть!.. — умоляюще хлюпнул носом Степан.
— Я тебя самого лучше ковырну ломиком. Меньше хлопот!
— Фонарь заморгал и, с шипением выбросив в темноту последний маленький протуберанец света, погас окончательно.
— Пошли в усадьбу, — сказал Нарышкин, на ощупь выбираясь из кратера. — Никуда до завтра твое сокровище не убежит!
— Воля Ваша, Сергей Валерьяныч, ступайте, а только я теперь отсюда никуда не пойду. До утра сторожить буду поклажу нашу. Мне так покойнее будет.
— Экий ты, право, Степан, неугомонный. Ну ладно, черт с тобой, сиди тут, если хочешь, мокни! — Нарышкин плюнул и направился в сторону дома.
Пока Сергей, спотыкаясь в темноте почти на каждом шагу, добрался до дома, пока долго и тщательно отмывался на кухне от навоза, распорядительный Терентий уложил гостей почивать.
Злой Нарышкин набрал себе на кухне поднос всякой холодной еды и, захватив бокал и пару бутылок наливки, поднялся в кабинет. Но едва он, приобщившись к напитку, попытался снять все еще кипевшую в нем досаду погружением в разного рода мечтания, а также предаться сравнению прелестей Катеньки и Анастасии Алексеевны, как глаза его сами собой стали закрываться, веки отяжелели, голова преклонилась куда-то вбок, и отставной поручик Сергей Валерьянович Нарышкин, захрапев, позабылся сном. Однако, сон этот, хоть и был крепок, тем не менее, ни отдохновения, ни покоя не принес. Через приоткрытое окно, выходящее в сад, навалившись на подоконник, в кабинет без приглашения шумно протиснулся царь Иван.
— Вы откуда? — сказал обомлевший от неожиданного визита Сергей. — И что себе такое позволяете? Взрослый человек все-таки! И, кроме того, здесь второй этаж, Вы можете свалиться!
Царь не отвечал, полулежа на подоконнике, только сопел и пристально разглядывал Нарышкина да шуршал длинными перстами, почесывая всклокоченную бороду.
— Откуду пришел и что есть мое дело? — наконец, пробормотал он. — А ты сам откуду сей и какова града и отечества?
Царь Иван приложил козырьком ладонь ко лбу, пытаясь разглядеть Сергея в темном кабинете.
— Аз не могу довольно глаголати, понеже ненавыкновен есмь языка Вашего, — осторожно ответил Нарышкин.
— Молодец, складно чешешь! — похвалил самодержец. — Ну да я же все твои потрохи и так знаю! За добром моим поохотиться решил?
— За каким таким добром? — прикинулся Сергей, — Э-э … то есть, не ведаю, о чем речешь, государь! Мало распамятствую, вот и не вразумляюсь!
— А вещички-то в схроне мои, пес! Ты, вот, говоришь, не распамятствуешь, а я тебе пособлю! «Котел малый пивной денег татарских…» Это тебе ничего не говорит? — царь Иван затрясся от смеха. Смеялся он нехорошо и недобро. — Ишь, додумались, псы, деньги в котле хоронить! «Осьмнадцать брусков литых золота…» Все растащили, пакостники!
— У меня тоже в имении, чего ни хватись, нету! — сочувствуя царю, посетовал Нарышкин.
— «Посуды два пуда!», — государь горестно помел растрепанной бородой по подоконнику и пустил слезу. — Вот видишь, как оно бывает-то! Для них, для душегубцев, это всего-навсего посуда, а для меня ведь это и ковшички и братинки… чанцы… блюдички, бочурочки! Горбом ведь наживал! — в руке у царя появилась кладовая запись. Он помахал ею в воздухе.
— Больно мне, Сергей! Больно и паршиво делается на душе, когда подумаю, в чьих лапах могут оказаться дорогие сердцу вещи! Для кого-то просто каменья, а для меня — акинфы да яхонты, изумруды да жемчуг драгоценный! Понимаешь?
— Мне вашего жемчуга не надо! — соврал Сергей, но, кажется, не очень убедительно.
— Да еще с рухлядью два сундука! — вспомнил царь.
— Тем более не нужно вашей рухляди.
— Ты это серьезно? — самодержец казался удивленным. Борис искал, Лжедимитрий искал, Конон Осипов искал, дьяк Макарьев, другие тож! Возле Тайницких врат искали, и в Кутафьей башне, в Коломенском и в Троице… и даже в Вологде искали, а ты под носом у себя посмотреть не хочешь? Да ты, я вижу, невеликого полета птица!
— Да что поискать-то? — воскликнул с досадой Сергей, но царь Иван уже плюнул, махнул в сердцах рукой и стремительно растворился в утреннем воздухе.
Глава одиннадцатая МАСКИ СБРОШЕНЫ
«Из сада ночью
Ай, Марья Львовна,
Пятнадцать тысяч
Собрали ровно!»
(Н. А. Некрасов)Нарышкин подскочил, как ужаленный. Взглянул на часы, стоявшие в глубине комнаты.
«Половина пятого! Что, черт возьми, стряслось?», — мелькнуло в голове. Сразу вспомнился вчерашний ливень, разрытая куча навоза, крышка лаза и Степан, пожелавший остаться сторожить мнимое сокровище.
— Ах, дьявол! — Нарышкин скинул халат, быстро оделся и выскочил в коридор.
Из соседней комнаты уже показалось встревоженное и слегка опухшее от пролитых накануне обильных слез личико Катерины.
— Что случилось, Сергей Валерианович?
— Позже, Катенька, позже!
Сергей метнулся по коридору. Сбежал вниз по лестнице и выскочил на крыльцо. Вокруг дома плотной пеленой стоял липкий, белесый туман. Возле одной из колонн, привалившись к ней спиной и обхватив голову руками, сидел Степан и протяжно, по-звериному подвывал.
— Что стряслось, Степа?
Компаньон продолжал тупо выть, сотрясаясь всем телом.
— Да говори же, черт тебя возьми!
Степан вздрогнул и поднял на Сергея грязное, окровавленное, перекошенное до неузнаваемости лицо.
— Все, сударь! — хрипло выдавил он из себя. — Все! Плакали наши деньги!
Степан вновь закрыл лицо руками и зарыдал, мотая низко опущенной головой.
— Да говори ты толком! Кто это тебя? — Сергей как следует тряхнул Степана за плечи.
— Не уберег я поклажу, сударь. Караулил, караулил и на тебе!
— Что все-таки случилось? Ну, говори! — Нарышкин вновь встряхнул компаньона. — И не реви, как белуга. Отвечай по делу!
Степан немного успокоился, перестал трястись и, всхлипывая, принялся рассказывать:
— Опосля того, как Вы ушли, я тоже воротился в усадьбу — переменил платье, взял другой фонарь, рогожу, чтоб накрыться. Да и в обрат, на место. Ковырялся мало-немного, должно, с час. Фонарь погаснул. А крышку лаза я так и не осилил поднять. Сел под дерево. Накрылся рогожей да, видать, и задремал… Проснулся, чую — навроде, шум какой-то, что-то будто звякнуло. Раз, другой, третий. Я только встрепенулся, хотел, было, закричать, тут-то меня по голове и хватили.
— Кто хватил?
— Кабы знать, сударь, кто! Только так саданули, что и по сей час ломит и звенит, хоть на стенку лезь, в глазах круги, и тошнота к горлу подкатывает, — Степан всхлипнул, поморщился и продолжил рассказ.
— Не знаю, сколько я пролежал в беспамятстве… Думаю, долго. Потом очухался маленько. Пошел в оранжерею, гляжу — крышка-то отринута! Спустился по лесенке в схрон, руками пошарил, а там одни сундуки пустые стоят. Все подчистую выгребли! Вот только это и нашел. Видать, в спешке обронили… — он порылся в складках одежды, извлек наружу горстку мелких монет старинной чеканки.
— Вот оно, стало быть, злато-серебро, сударь. Эх, а Вы мне не верили! — Степан мотнул головой, застонал и снова заплакал.
— Черт меня побери! — пробормотал Сергей, рассматривая монеты.
— Да ведь это же и впрямь… золото! Нет, не может быть! Быть этого не может!
— Может, сударь, может. Нагрели нас с Вами, Сергей Валерьяныч, на все четыре корки! Вот кабы мы вчера крышку эту сковырнули, сейчас бы уже богатеями ходили!
— А ну-ка пойдем! — Сергей встрепенулся и решительно зашагал по направлению к саду.
— Стойте, сударь. Не так шибко! — простонал Степан, едва ковыляя за Нарышкиным. — Теперь спеши, не спеши — все без толку.
На месте все оказалось именно так, как рассказал пострадавший кладоискатель. Туман на поляне был, казалось, еще гуще. Вокруг висела плотная молочная кисея. От оранжереи поднимались испарения, и шел тяжелый смрад. Вокруг все было истоптано. Крышка люка действительно была откинута. Сергей высек огонь, затеплил желтый язычок фонаря и спустился по шаткой лестнице в подвал.
Глаза его не сразу привыкли к темноте. Погреб был достаточно глубок. Петр Кузьмич, видать, изрядно потрудился, чтобы устроить здесь потайной схрон. Сергей принюхался. Его обоняние, «оглушенное» ароматами навоза и подвальной сырости, не сразу уловило тот самый запах… Так и есть. Сомнений быть не могло. Как и тогда, на мельнице, здесь в подземелье витал сигарный дух. Нарышкин огляделся, подняв фонарь повыше. Вдоль стен подвала стояли массивные дубовые, обитые железом сундуки. Крышки их были сдвинуты, сбитые замки валялись подле. В самих сундуках было пусто, но все же, пошарив на дне одного из них, Сергей обнаружил несколько серебряных монет допетровской чеканки. В другом нашлась покрытая плесенью бархатная перевязь и небольшой медный кубок. Еще пару монет Нарышкин подобрал на грязном утоптанном полу. И все. Все!
Больше в разграбленном схроне ничего не было!
— Проклятье! Все выгребли! Обобрали до нитки!
Сергей постоял немного, плотно сжимая челюсти, чувствуя, как горит его лицо.
Сокровище было рядом, под самым носом!
«Болван! Болван! — корил себя Нарышкин. — Нужно было послушаться Степана и достать клад вчера. Черная карета, сигарный запах, смерть управляющего… Без сомнения, за кладом охотились с самого начала, только не знали где искать! А мы-то хороши, сами привели грабителей на место. Можно сказать, подали его на блюдечке. Но кто они? Кто эти люди? Мы это выясним! — пообещал себе Сергей. — Должны остаться следы…», — он метнулся к лестнице, но неожиданно споткнулся о какой-то твердый предмет.
— Это еще что такое? — Сергей подобрал находку и поднес ее к свету. В руках у него оказался небольшой ларец, покрытый затейливой резьбой.
— Нашли что? — морщась от боли, закряхтел Степан.
— Вот, — Сергей хмуро поставил ларец на край полуразрушенной стены оранжереи.
— Что там? — Степан вытянул шею. — Неужто, осталось что-либо? Должно быть, не заметили…
Нарышкин, не отвечая, ковырнул легко поддавшийся замочек. Под крышкой оказалась расшитая бисером рукавица. Сергей встряхнул находку. Сквозь прореху в траченной временем ткани в навоз посыпалась горстка крупных, как на подбор, жемчужин.
— Вот она, «рукавица жемчугу», — округляя глаза, вспомнил Степан кладовую запись. И горько покачал головой. — Эх, сударь, сударь… Осторожнее, не затопчите!
— Да, все сходится, — пробормотал Нарышкин. — Смотри-ка, жемчуг какой… великокняжеский, одно слово. Я, брат, и не видал никогда такого! Сколько же это на целковые выйдет?
— Выйдет-то оно, сударь, видать, не мало. Однако же, мы с Вами всю поклажу могли забрать. Ан — нет!
— Погоди ныть, Степа, может не все еще потеряно, — восхищенно перебирая жемчужины, ответил Нарышкин. — Клад на моей земле был. Значит он по закону мой. А грабителей сыщем, не могут они вот так незаметно улизнуть из наших краев. Кто-то видел, кто-то слышал, кто-то чего-то знает. Авось, нагоним воров! Давай-ка отнесем ларец в дом и хорошенько подумаем, что нам в первую голову делать…
— Что тут думать? Вам теперь только наплевать да растереть остается, а нам-то с Катенькой на ком обиду взять? Пропали мы теперь совсем, — обреченно произнес Степан.
— Полно. Пойдем, пойдем в дом. Хотя бы кровь умоешь да и платье переменить не мешало. Разит от тебя… да и от меня тоже, — усмехнувшись, заключил Сергей.
У крыльца их встретил хмурый, озабоченный Терентий. Увидев побитого Степана, всплеснул клешнями:
— Отцы небесные! Никак, Степан Афанасьич, тебе опять рыло нашкипидарили? Что за дела такие творятся?
— А ты чего не спишь? — недовольно буркнул Нарышкин. — Все ли в доме в порядке? Гости почивают?
— Нету никаких гостей, Сергей Валерианыч, — Терентий развел руками.
— То есть, как это — нету? Уехали? Когда?
— Сам не понимаю, сударь! Ввечеру были, а сейчас и след простыл. Да так тихо съехали, что я ничего не слыхал. Должно, ночью отчалили на своей коляске.
— А телега?
— Телега ихняя — вона стоит, около погреба распряженная. А лошадей нету.
— Как «нету»?
— Так и «нету», сударь, — Терентий опустил глаза. — Никаких лошадей! Ни ихних, ни наших.
Брови Нарышкина взлетели вверх.
Он бросился в дом, едва не сбив с ног бледную Катерину.
Комнаты гостей были пусты.
Прислуга храпела в людской, а разбуженная дворня, оторопело и сонно моргая, в голос заявила, что никто ничего не видал и не слыхал.
— Кричал быдто кто-то, — изо всех сил сдерживая зевоту, сказала Танюха.
— Корова ты стельная! — не выдержал Сергей.
— А я видал! — неожиданно заявил Митька Косой, выныривая из-за барина.
— Что ты видал, говори! — Сергей, нахмурившись, шагнул к нему.
— Все видал! — беззаботно продолжал показания Митька. — Видал, как ихний Ифстафий лошадев наших из конюшни выводил.
Митька, преданно моргая, смотрел в глаза хозяина, и весь вид его говорил, что он ожидает благодарности.
— Дык, я смотрю, зачем он энто… лошадок… а опосля думаю, знамо, их дело господское…
Сергей почти с умилением посмотрел на идиота. Этот человек был рожден для оплеух. Нарышкин глубоко вздохнул, сдержался и, больше ни о чем никого не спрашивая, вышел вон.
— Чертовщина какая-то, клад исчез, удрали гости, лошадей наших, у вояки выигранных, тоже след простыл… Что же здесь творится? Голова идет кругом!
«… Финал гремит, пустеет зала; Шумя, торопится разъезд, Толпа на площадь побежала При блеске фонарей и звезд»,— почему-то пронеслось в его возбужденном мозгу.
«Чьи это стихи? Кажется, Пушкина, или нет? Что все-таки происходит?», — спрашивал себя Сергей и не находил ответа. Он прошел в кабинет и тяжело опустился в кресло. Следом, горестно вздыхая и пошатываясь, приплелся Степан. Нарышкин высыпал жемчуг из рукавицы в стоявшую на столе вазу. Оба некоторое время молча рассматривали перламутровые, идеальной формы бусины.
— Что делать-то станем? — нарушил молчание Степан.
— Должно быть какое-то объяснение всему этому, — не отводя взгляда от жемчуга, сказал Сергей. — Я ничего не понимаю!
— Что тут понимать, — буркнул Степан, — было добро, да сплыло.
Снова помолчали.
Дом постепенно пробуждался ото сна. Хлопали двери. Слышалось суетливое топанье босых ног. С кухни потянулся привычный запах чего-то пригорелого. Раздалось громкое ржание Танюхи. Голос Терентия сказал кому-то: «Куда прешь, баклан косопузый!». Последовал звук оплеухи.
Объяснение нашлось неожиданно. Внимание Сергея привлек конверт, белеющий на зеленом сукне стола. Нарышкин повертел его в руках. Послание было не запечатано и адресовалось ему. Сергей развернул письмо, пробежал глазами его не очень ровные, но вполне твердые строки и с минуту стоял, будто громом пораженный…
…Письмо было от Левушки.
«Милостивый государь Сергей Валерианович, — писал Трещинский. — Понимая, в каком ты сейчас находишься недоумении, беру на себя смелость кое-что прояснить тебе по старой дружбе. Мне, признаться, больно думать о том, как ты, вероятно, чешешь сейчас свою кудлатую башку, пытаясь найти ответы на вопросы, кои подбросила тебе в последнее время фортуна. Что ж, mon ami, я готов поделиться с тобой ответами, хоть ты, верно, того не заслуживаешь. История с кладом довольно запутана и уходит корнями в весьма далекие времена. За недостатком времени я не стану описывать тебе все его перипетии. Как бы там не было, но во времена, называемые „Литовским разорением“, один из моих предков, находясь в составе отряда польских гусар, вывез часть сокровищ Московского Кремля, чтобы доставить их своему королю Сигизмунду. Однако в пути отряд был перебит шайкой лихих людей, коих в те времена на дорогах было предостаточно. Мой предок чудом остался жив, благодаря своим познаниям во врачевании. Он прижился в шайке и даже смог заручиться доверием атамана. Он смог убедить татей не прикасаться к той части клада, в поисках которой он и приехал в Московию…»
— Вот что значит «заклятье знахаря»! — пробормотал Сергей, не отрываясь от письма.
«… Он также сумел составить кладовую запись, разузнать место тайника и переправить эти сведения близким родственникам в Краков. Спустя много лет бумаги эти попали ко мне. Полагаю, тебе известен конец шайки, а также история о том, как кладом завладел твой управляющий. Историю моего обогащения я, помнится, тебе изложил. Правда, кажется, забыл упомянуть, что старик Калиновский, мой родственник, отписал мне одно из своих имений — оно как раз по соседству с твоей усадьбой. Проку от сих владений, разумеется, никакого, но зато ты, милый друг, был у нас под присмотром. Как ты сам уже, должно быть, догадываешься, встреча наша в Петербурге была не случайной. Мне забавно было посмотреть на своего приятеля, у которого под боком богатства запрятаны, а он, дурень, об этом и не ведает. Я не знал точное место нахождения клада. Знал только, что из твоего имения сокровище уйти не могло. Людишки мои, пытаясь выведать это у твоего управляющего, немного переусердствовали. Прости, я не сторонник крайних мер. Про то, что карта находится у этого плута Степана, я узнал слишком поздно. Мы его, признаться, упустили из виду, однако я догадался, куда он побежит. В Петербурге за твоим домом следили, ждали. Не вмешайся ты в драку и не выручи этого дурня с его прелестной дочуркой, пожалуй, о кладе тебе ничего не стало бы известно. Однако ты попался на крючок. Согласись, что истории о скрытых сокровищах чертовски притягательны.
И вот тогда я решил не тратить сил даром и избрал вас своим орудием. С этого момента наши шансы получить клад стали примерно равны. Прости, но я оказался расторопнее! Сейчас, когда мои люди грузят в экипажи содержимое сундуков, я вижу, что выбор мой себя оправдал. Ты не можешь не признать, что я разыграл все, как по нотам, и сделал это весьма талантливо!
Ведь ты же сам вывел нас к сокровищам! Хотя, mon ami, охломон ты, я тебе доложу, редкий. Немало трудов стоило вашу компанию до усадьбы препроводить. Я за тебя изрядно побеспокоился. Мне не только долг твой г-же Завынкиной оплатить пришлось, но и г-м полицейским еще по четвертному билету сунуть, дабы дело замять. К слову сказать, билеты на поезд и дилижанс тоже пришлось для вашей компании ангажировать. Чего для приятеля не сделаешь! А в Москве тебя вообще могли живота лишить. Скажи спасибо, Николай Петрович у меня в компаньонах ходит. Он незаменимый человек и, смею надеяться, ты оценил его услуги по достоинству. „Нехлюдов“ и его так называемая „дочь“, тоже недурно отыграли свои роли. Прости, мон шер, но только такой олух как ты, не смог признать в своем „соседе“, моего Алексиса. Я повстречал его несколько лет назад в Пензе, когда он мыкался без ангажемента и сразу оценил его таланты. Признаться, этот сукин сын мне недешево обходится. Кстати, понравилась ли тебе „Настенька Нехлюдова“? Думаю, ты мог встречать ее настоящие имя в афишах, поскольку она тоже актриса, правда, на мой взгляд, несколько провинциального пошиба. Однако, друг мой, с тебя и этого оказалось довольно.
Прости за брошенный в тебя камень, но именно таким способом Николай Петрович, которому надоело бездействие, показал мне, что в любой момент мог бы прихлопнуть Сережу Нарышкина, как муху. Был резон тебя на небеса отправить, да только не по-христиански это и, скажем так, без изящества. Я решил, пусть живет мой приятель; можно сказать, пожалел тебя, стервеца. Травником хотели тебя споить, сонного зелья в него подсыпали, так у тебя душа нашего угощения не приняла. Тогда на мельницу тебя вытащили, чтоб в вещах твоих пошарить, да ты, видать, карту с собой носил. Ну да бог с ним, дело прошлое, все и так удачно вышло. Теперь, Серж, когда ты держишь в руках это письмо, клад у меня. Но ты не отчаивайся. Я бы посоветовал тебе остепениться, заняться чем-нибудь полезным, хозяйством, например. Сам знаешь, поместье твое в запустении. Недурно было бы и жениться. Катерина милая девушка, хотя и не дворянка, но тебя, дурня, кажется, любит. Твое приключение закончилось, а мое, Сережа, только начинается. Так что, не пиши мне пока, я, ведь, еще не решил, где остановиться. Да и не до писем тебе будет в ближайшее время.
Как говорится, прости и прощай! Умей проигрывать достойно!»
Сергей несколько мгновений после прочтения письма стоял, как громом пораженный, и только сверлил глазом конверт. Затем с яростью ударил по столу кулаком. Ваза с жемчугом подпрыгнула. Степан вздрогнул и полез искать укатившуюся бусину.
Неожиданно для самого себя Сергей рассмеялся.
— Что веселитесь, сударь? — буркнул из-под кресла Степан.
— Нас провели, Степа, нас просто облапошили! Нарышкин помахал в воздухе письмом.
— Ну, слава Богу, насилу Вы догадались!
— Догадался! — со злой улыбкой ответил Сергей.
Все встало на свои места. Все, да не все. Особенную ярость у Нарышкина вызвала фраза об окончании его приключения.
— Ах, полячишка заносчивый! Да кем это он себя представляет!? Тоже мне, злой гений выискался! Да я тебя на дуэль! Стреляться на шести шагах! Я тебя, подлеца, выведу на чистую воду! Я тебя к ответу привлеку и всю твою банду тоже. Я же просто-напросто физиономию твою польскую побью!
Эти негодования разъяренного Нарышкина были прерваны каким-то шумом внизу, затем раздался топот ног по лестнице, и в кабинет вошли, если не сказать ворвались, несколько полицейских чинов.
— Позвольте представиться: становой пристав Дерябин! — пристав резко щелкнул каблуками. — Имею сведения, что в данный момент Вы укрываете у себя опасных преступников. Среди них значатся мещанин Степан Заплетнев и дочь его Катерина, стало быть, Заплетнева. Дерябин хмуро огляделся и потеребил ус.
(«Вот, значит, какая у Степана фамилия, а я у него даже паспорта не спрашивал», — подумал почему-то Нарышкин.)
— Откуда у Вас эти сведения? Как вы смеете? На каком основании?
— Извольте, на основании письменного заявления помещика Алексея Петровича Нехлюдова. Имеем письменное заявление указанного господина о похищении из его усадьбы вещей, список которых прилагается.
«Ах, соседушка хлебосольный, — с тупой яростью подумал Сергей. — Вещи, конечно, найдутся. Вон она, телега с Нехлюдовскими дарами во дворе маячит… Верно, и в дом тоже что-нибудь успели подкинуть!».
— Кроме означенного воровства, Степан Заплетнев подозревается в убийстве управляющего Вашей усадьбы Трифонова Петра Кузьмича. А это уже, сударь, серьезным дельцем пахнет! — пристав нахмурил брови. — На сим основании имею учинить обыск, следствие и дознание.
«Ай да молодец Левушка! Ловок, подлец, сверх меры… — Нарышкин криво улыбнулся своим мыслям. — Пока мы тут в разбирательствах увязнем, тебя, канальи, уже и след простыл …».
— Вот, значит, как! — произнес он вслух. — Стало быть, на основании заявления помещика Нехлюдова! А вам известно, господин Дерябин, что означенного помещика в природе не существует! Все это — т начала и до конца фикция. Кроме того, у меня имеются неопровержимые доказательства, касаемые убийства моего управляющего, и я сейчас вам их предоставлю.
Нарышкин потряс в воздухе письмом Трещинского.
«Вот тут, Левушка, ты мне и попался!», — подумал он с ликованием.
Он протянул конверт. Дерябин развернул его, повертел, поднес к глазам, а затем, еще пуще нахмурившись, возвратил Сергею.
— Шутки шутить изволите? Я тут в некотором роде «при исполнении»!
Сергей посмотрел на письмо. В руках он держал чистый, немного смятый лист белой бумаги. На нем не было ни единой строки, ни единого слова, ни единой буквы!
— Но позвольте, как же это? — Нарышкин был ошеломлен. — Я только что, перед вашим появлением прочел… там были явные улики… как это могло статься?
— Вам, сударь, надо бы в город. Фельдшеру показаться, — почти с жалостью качая головой, произнес Дерябин. — Совсем Вы, как я погляжу, из пазов вышли!
— Клянусь, что на этом листке только что было письмо, которое все объясняло…
— Могу Вам порекомендовать одного цирюльника в Орле, — с неожиданной человечностью сказал пристав. — У него, знаете ли, этакие персидские пиявки имеются. Черт его знает, где он их достает, но только, против наших конских, они не в пример чище. Кровь отворяют любо-дорого! Он их в кислом квасу выдерживает. От этого они злее становятся!
«Кто из нас двоих вышел из пазов? — подумал Нарышкин, лихорадочно соображая, что делать. — Алхимией забавляться изволите, господин Трещинский! Все продумал, мерзавец, даже чернила специальные использовал!».
— Господин пристав, простите, не знаю как Вас по имени-отчеству?..
— Иван Семеныч, — ответил Дерябин, продолжая смотреть на Сергея с плохо скрываемой снисходительной жалостью. Нарышкин изобразил на лице подобие радушной улыбки.
— Иван Семенович… следствие, дознание… Давайте о деле позже. Никуда Ваши подозреваемые не денутся, коли они и вправду тут. Если угодно, приставьте к дверям Вашего человека. А мы с Вами пока с дорожки по маленькой! Ведь Вы, сломя голову, сюда летели, наверное, без завтрака! Я сам в прошлом служил, понятие имею. Не откажите в столовую пройти…
— В столовую? — суровое лицо полицейского чина несколько смягчилось. — Ну что ж, пожалуй, извольте, пройдем. Желудок, сами понимаете, он и «при исполнении» желудок! А насчет персидских пиявок Вы все-таки подумайте…
— Непременно подумаю, Иван Семенович, непременно!
Становой пристав и Нарышкин прошли в столовую, где, не торопясь, накрывала на стол заспанная, расхристанная Танюха. Взгляд Дерябина сразу потеплел.
Молча, не чокаясь, выпили по первой.
Да, Трещинский нанес сильный упреждающий удар, но Сергей уже знал, как ответить на его выпад!
Часть вторая ПОГОНЯ ЗА ЛИБЕРИЕЙ
Глава первая В ПОГОНЮ!
«Протер глаза, перекрестился
И деньги подбирать пустился».
(А. Е. Измайлов)Пароход назывался «Святогор», но кроме этого имени ничего другого от былинного богатыря не имелось. Был он тихоходен, неповоротлив и грязен. При попутном ветре копоть из трубы оседала на палубе жирным слоем.
Нарышкин, вылезший из каюты, дабы освежиться и свершить «благородное нюханье» ядреного турецкого табачка, взялся за поручни и чертыхнулся, увидав руки свои и костюм совершенно запачканными.
— Канальство! — выбранился Сергей, однако безо всякой злобы, потому как день, несмотря ни на что, был чудесным. Дали, как им и положено, голубели. Вода в реке была синей-синей, и ветер, разведший моряну, вздувал на шершавой поверхности Оки белопенные гребешки.
Река быстро несла свои воды мимо кудрявых берегов, пристаней, бакенов. Вот, с усилием молотя ржавыми лопастями гребных колес, потащил баржу вверх по течению встречный пароходик. Миновали сплавляющиеся вниз звенья змеевидного плота, который обгоняли бесконечно долго, наблюдая, как плотовщики вяло ворочали длинными веслами и беззлобно высмеивали черепаший ход «Святогора». На пересечении курса встретилась возвращающаяся с пикника подгулявшая компания в большой лодке. Капитан рявкнул в рупор бессвязное ругательство — посудина прошла совсем близко к борту, и ее сильно раскачало набежавшей от парохода волной. Дамы в лодке визжали. Мужчины пытались нестройно петь. Один, в кумачовой косоворотке, держа в руке полуштоф, встал в рост и, надрывая багровое, злое лицо, истово заорал:
— Эх, ты водка, солдатскыя-а тетка-а!
Нарышкин облизнул сухие губы и отвернулся. Солнечные веселые искорки, танцующие на волнах, заставляли глаза щуриться. Сергей прикрыл веки. Сами собой стали припоминаться события прошедших дней.
Изрядно воды утекло уже с того момента, когда, прочитав письмо Трещинского, Сергей дал себе слово продолжить охоту за сокровищем. Много раз он спрашивал себя: «Зачем мне нужно все это? Так ли велика обида, нанесенная зарвавшимся полячишкой?». Разумеется, поквитаться с Трещинским хотелось, ох как хотелось! Однако не обида, не жажда богатства (хотя оно вовсе не помешало бы), не оскорбленная дворянская честь… Что-то иное безотчетно гнало в путь, разжигало огонь в венах, заставляло мчаться вперед, сломя голову. Клад был только далекой, призрачной целью. Не больше. И хотя целью, без сомнения, желанной, тем не менее, Сергею нравилось чувствовать, как ветер треплет его шевелюру, подгоняет, толкая в спину. Приятно было ощущать всеми клетками тела, как катит куда-то вперед вместе с этими речными волнами его жизнь, как улетучивается без остатка бледная петербургская хандра.
Нарышкин улыбнулся, подставляя ветру лицо и вспоминая подробности спешного отъезда из усадьбы. Припомнилось, как явившийся по навету мерзавца Левушки становой пристав Дерябин «сотоварищи», был вовлечен в буйную пирушку; как скирдовали и вязали в снопы упившихся до растительного состояния полицейских; как господин пристав, оказавшийся большим охотником до женских прелестей и к тому же изрядным пьяницей, был отдан на растерзание дворовым девкам, получившим от Сергея на сей счет особые инструкции….
Сборы были не долгими и, пользуясь тем, что нижние чины дрыхли, а г-н Дерябин, брошенный на алтарь плотской любви, находился в жарких и цепких объятиях Танюхи, компания наших кладоискателей отчалила (по выражению Терентия) еще засветло. Разумеется, за неимением других средств передвижения, пришлось позаимствовать экипаж блюстителей порядка (вместе с тройкой добрых лошадок), любезно оставленный у крыльца. Катерина с дядькой Терентием, которых пришлось спешно вводить в обстоятельства дела, заявили в голос, что догадывались о сокровище давно. Оба изъявили готовность немедленно отправиться в погоню за кладом. Срочно, уже на рысях, было создано товарищество «Нарышкин и компания» с уставным капиталом в виде нескольких отборных жемчужин. И хотя сам Сергей отстаивал другое название — «„Гроза морей“ и увязавшиеся за ним прочие-остальные», — на общем «выездном» заседании товарищества большинством голосов эта формула была отринута.
Потом была долгая утомительная скачка приокскими кручами в погоне за бандой Трещинского (Сергей именовал теперь всю эту компанию не иначе как «банда»).
Колесные следы трех экипажей (именно столько их было у похитителей клада), четко отпечатавшиеся на мокрой земле, выводили из усадьбы, а затем принялись петлять по полям, сосновым перелескам, повторяя дорожные изгибы. Несколько раз они меняли направление, пока не стало ясно, что все три экипажа повернули к Оке. Здесь, на подъезде к Алексину, на уже просохшей земле, отпечатки колес различать стало трудно, да и дорога пошла уезженная. Однако несложно было догадаться, (что не преминул сделать Нарышкин): банда «дернула» к большой воде. Именно туда, к Алексинской пристани, и вывели поиски пропавшего сокровища. Здесь концы буквально канули в воду, и Сергей, охваченный приступом внезапной хандры, совсем, было, уже собрался совершить обряд глухого запоя, но спутники общими усилиями пресекли это его начинание. Нарышкину, которому была противна любая задержка в этом пыльном, заляпанном солнцем и скатывающемся к реке городишке, вздумалось посетить трактир неподалеку от пристани. Неожиданно по соседству с заведением обнаружилась черная, успевшая порыжеть от дорожной пыли карета, а во дворе неподалеку виднелось ландо Нехлюдовых и незнакомая, довольно новая бричка. Путем несложного опроса босоногих алексинских отроков, вившихся стайкой у экипажей, выяснилось, что весь каретный парк купил надысь за гроши («Вот свезло, так свезло!») местный купчик Гридя Харин («Торгуетъ солью и селдми. Извозничаетъ»). Гридя, которому приплыло в руки сразу столько почти дармового счастья, не придумал ничего лучшего, как направить стопы свои в трактир, и, не мешкая, осуществить вспрыск своего удачного приобретения. Там же, не вставая из за стола, головорукий оборотистый Гридя перепродал два экипажа своим сотоварищам: Наливаеву Дейке, Ларионову сыну («Торгуетъ в своей лавке москотилным товаром») и Замараевым детям — Куземке и Васюку («Промыслъ извозничей, а Куземка на винокурне вино куритъ»).
Когда «Гроза морей» вошел в трактир, вся братия была здесь. Гридя, Куземка, Васюк и Дейка Наливаев, Ларионов сын, все порядком уже взбрякнувшие и благорасположенные, нестройно сидели у заваленного жратвой стола. Нарышкин принят был тепло и даже радушно. Васюк, впрочем, все время щурился, но когда Сергей выставил полуштоф, выяснилось, что делал он это скорее от смущения, нежели из подлой подозрительности.
Вся изрядно подпившая компания уже давно перешагнула ту черту, за которой начинается непринужденная откровенность беседы, поэтому Сергей без обиняков попытался узнать, куда направился распродающий недорогие экипажи господин.
— Уплыли, — почти радостно сообщил Гридя Харин, тыча непослушным пальцем в золотящуюся за пыльными окнами гладь Оки.
— Погрузилися на пароход и поплыли себе с Богом, — вставил более словоохотливый Дейка Наливаев, Ларионов сын.
— Па-ап-плы-илии лебеди бел-л-лыя, — добавил задушевности в беседу с трудом удерживающийся на стуле Васюк.
На вопрос о том, как выглядел пароход, Гридя сделал неопределенный жест, а затем надолго умолк, приязненно глядя в глаза Нарышкину.
— Эх-х, матуш-шка Волга, ш-ш-широка и до-о-олга, — патриотично вспомнил опасно сползающий к краю стула Васюк.
— С трубой! — пояснил словоохотливый Дейка.
На этом особые приметы парохода исчерпались.
— Уплыли, — кривовато улыбнулся Гридя Харин. — Может, вниз до Серпухова подались, а может стать, что и вверх, до Калуги.
— Вот брошу все, — заявил молчавший доселе Куземка Замараев и ляпнул себя пятерней по мокрому лбу. — Брошу все и пойду бурлачить!
— Э-э-эх жисть-р-раскубристь! — подвел итог беседе шумно съехавший на пол вместе со скатертью и остатками пиршества Васюк Замараев.
Сторож на пристани подтвердил, что пароход был. «С трубой. Из себя весь кавурой масти». Что это могло означать, сторож не дал себе труда пояснить.
Пароход стоял в Алексине долго. «Быдто поджидал кого!»
Из дальнейших расспросов сторожа выяснилось: «Даве утром прибыли господа с хорхорами. Погрузилися. А один такой здоровенный. Страшной. И барыня с ими. Отвалили сразу, а коляски оставили Гридьке. Вона — со своими в трахтире сидят. Загвазживают.» Сторож тоскливо посмотрел в сторону трактира.
Судя по всему, пароход был наемным, так как рейсовый ожидался только на следующий день. Направился он все-таки вниз по течению. Это означало, что «Банда Трещинского» подалась до Серпухова, если не далее.
Последующие события сбились в тугой ком.
Всем четверым нашим героям, включая правившего полицейской тройкой Терентия, запомнилась только нескончаемая тряская езда …
Из Алексина — о переправы на Серпухов, где выяснилось, что пароход точно был и проследовал дальше. Оттуда — сосновыми приокскими перелесками до Коломны.
Пароход был и здесь, но ушел вниз, на Рязань. Бесконечная дорога, пыль, тряска и все прочие прелести такого рода путешествия порядком утомили товарищество «Нарышкин и К».
Солнце кануло за горизонт, когда, тяжело тащась по песчаной колее, усталая тройка свернула к берегу Оки. Река здесь немного сужалась, сдавленная тисками берегов. Полоса бечевника, отвоеванная у леса, заросла, так что деревья подступали к самой воде.
— Места здесь мне знакомые, — проведя беглую рекогносцировку на местности (проще говоря, оглядевшись вокруг себя), заявил дядька Терентий. — Я по молодости бурлачил раз в этих краях. Вот там, — он указал рукой вдаль, — речка здоровенную петлю делает, потому думаю, обогнали мы их!
— Отлично, значит тут и заночуем, — заявил «Гроза морей». — Мимо нас, пожалуй, не прошмыгнут.
Распряженных лошадок, напоив и накормив овсом, стреножили и отвели в неглубокую балку. Быстро стемнело, но гладь воды посверкивала серебром в лунном свете. Вскоре весело затрещал костер, разведенный Терентием. Перекусив «нехлюдовскими дарами», захваченными в дорогу предусмотрительным дядькой, залегли у огня, на подстилках из сосновых веток. Дорога вымотала всех, поэтому заснули сразу же, и первый подал пример Нарышкин, захрапев так, что кони в балке тревожно заржали. Дядька Терентий остался нести вахту. Он сидел, глядя на танцующие языки пламени, покуривал свою трубку и временами подбрасывал в огонь дрова.
Перевалило за полночь, когда старый моряк растолкал мерно храпящего барина. Тот чертыхнулся и, пробормотал, не разлепляя глаз: — Что такое?…Я с червей не заходил!..У меня валет и король бубен… А у вас?
— А у нас пароход, сударь! Слышите?
Нарышкин с трудом пришел в себя. Сонно потянулся. Почесал всклокоченные вихры. Со стремнины доносился нарастающий шум, а затем из-за стволов стоящих у воды сосен, вынырнул, молотя воду лопастями гребных колес, пароход. Словно призрачное видение возник он из ночного тумана. В лунном свете блеснула пена, бегущая за его кормой…
— Вот они! — вскакивая, воскликнул Нарышкин, — Дьявол, не видать ничего! Слишком далеко!
— Держат ближе к тому берегу, потому и не видать! — Терентий покачал головой. — Лоцман у них, как я погляжу, все мели тут знает… Ишь как лупит!
Призрачный корабль исчез, снова нырнув в туман. Только шум колес еще долго раздавался над спящей рекой, постепенно удаляясь, пока окончательно не растаял в темноте.
— Что делать станем? — вздохнув, поинтересовался Терентий.
— Спать! — хмуро, но спокойно ответил «Гроза морей» укладываясь. — Что еще мы можем сделать? Время для абордажа неподходящее, да и силы у нас не равны. Подождем до утра. Лошадям нужен отдых. А Трещинский со своей бандой… Сколько верст они смогут так плыть, не приставая к берегу?
Терентий задумался: — Ночь нынче светлая. Фарватер, видать по всему, им знакомый. При полной загрузке углем, сменяя вахты, пожалуй, что до Мурома могут без продыху чесать! А там уже и Нижний недалече…
Нарышкин хлопнул себя по лбу и рассмеялся.
— Точно! Ах, я дурень! Терентий, я, кажется, понял, куда метит наш польский приятель! Он плывет в Нижний Новгород! Ведь только там он сможет спокойно продать сокровище! Как же я раньше не догадался?!
— Дык ведь ярманка наступит только в середине июля.
— Так то оно так, но Нижний — это же карман империи, именно там можно получить лучшую, выгодную цену за вещи из клада.
— А это правда, сударь, что мы, навроде как, за проклятым сокровищем гоняемся? — дядька подбросил дров в огонь и посмотрел в сонные глаза барина.
Сергей ответил не сразу. Он долго ежился, кутаясь в плащ. — Видишь ли, Терентий, в проклятия я не верю. И тебе не советую. По-моему, все эти проклятия придуманы только для того, чтобы поубавилось количество охотников поискать клады… — Дескать, убоись и не лазай за чужим добром!
— А много добра то? — спросил Терентий.
— Я и сам толком не знаю, — честно сказал Нарышкин, пытаясь рассуждать вслух. — У нас есть кладовая запись, где все указано… Однако, было что-то еще… В том разбойничьем кладе, в числе прочего добра были два сундука. О том, что в них находилось, не говорится, но мы знаем, что некий знахарь, один из предков негодяя Левушки, якобы наложил на эти сундуки заклятье…
Сергей подоткнул под себя полы плаща. Спать расхотелось.
— Хм. Заклятье, конечно, чушь, но зачем он это сделал? Зачем? Думаю, чтобы разбойнички не трогали того, что спрятано внутри. Понимаешь, Терентий, допустим, в поклаже, кроме медных и серебряных монет, было несколько слитков золота. Были, должно быть, и камни, — то есть драгоценности, что там еще? Посуда… ну, утварь значит. Все это, разумеется, имеет цену, однако же, не такую, чтобы ради нее остаться в отряде разбойников. Это я про Левушкиного предка. Он ведь по своей воле остался присматривать за содержимым двух сундуков. И даже, судя по всему, не попытался сбежать. Наоборот, он предпочел остаться рядом с кладом и даже переправил сведения о нем в Краков… Ужели только из-за золота? Господин Трещинский, его потомок, пошел на преступление. Неужто только для того, чтобы получить кучку злата, пусть даже и весьма приличную… Нет, это, пожалуй, моветон!
— Вот, что правда, то правда! — согласился дядька. — Он самый и есть!
— Что-то было еще в том схроне, — задумчиво продолжил свои размышления Нарышкин. — То, ради чего люди готовы были тратить время и средства… лицедействовать… и даже убивать! Ясно, что это не золото и не камни. Иначе, пожалуй, лихих ребят из Кудеяровой банды не удержали бы никакие заклятья… Что же было внутри? Истинную цену этих сундуков предок Трещинского знал очень хорошо. Он старательно оберегал их.
Сергей встрепенулся и сел, пытливо вглядываясь в танцующие языки пламени.
— Наш «приятель» — коллежский советник тоже отлично знал это!
Нарышкин в пол голоса, стараясь не разбудить Катерину, выругался, а затем умолк и долго в молчании смотрел на играющий с кучкой дров огонь.
Внезапно он вскочил на ноги и хлопнул в ладоши. Дядька вздрогнул. Степан с Катериной заерзали во сне. Кони в темноте отозвались нервным всхрапом.
— Терентий, какой же я болван! — заявил «Гроза морей». — Как же я сразу не догадался! Ведь в сундуках могли быть документы… рукописи… книги, черт возьми! Ведь Трещинский в Петербурге намекал мне о существовании неких списков…Списков книг из библиотеки Ивана Грозного!
Сергей вспомнил череду своих снов с появлениями Царя.
— Либерея… — выговорил он медленно. — Неужели это правда?!
— Погодите, сударь. Так весь этот сыр-бор из-за книжек, что ли? — Терентий приподнялся на локте, недоуменно уставившись на барина. — Да нешто, для того, чтоб все потрохи знать и всякую книжную премудрость одолеть… Нешто для этого и живого человека убить не жалко? Это на что ж мне такая грамота, коли, из-за нее на смертоубийство идти придется?
Терентий, недовольно ворча, в очередной раз подбросил дров в весело пляшущий огонь.
— Ты, разумеется, прав, — согласился Сергей. — Только, видишь ли, если все так, как думаю я, то книги, которые искал этот каналья Левушка, они и впрямь уж очень дорогого могут стоить!
— А что за резон был хранить их так долго? Да они бы, книжки эти царские, сгнили в сундуках, а уж вид потеряли — это как пить дать, — возразил старый моряк, осторожно выколачивая трубку о полено. — А бумаги сгнили бы и подавно.
— Это верно. Книги конечно могли истлеть… Если только за ними не было ухода.
— Кому ж их обхаживать? Ведь разбойнички-то, поди, в книжном деле одубелые, да непролазные, навроде нас со Степан Афанасьичем.
— А вот: далекий родственничек нашего «друга» Левушки, тот самый «знахарь», и мог ухаживать за книгами. Он ведь был обучен грамоте. Стало быть, знал, какой трофей вез своему королю. Оставшись в банде, он никогда бы не допустил порчи царских рукописей, или что там было…. А поскольку этот самый родственник был знаком с медициной, можно предположить, что он и приложил руку к тому, чтобы сохранить книжное сокровище… Убедить темных разбойничков в том, что на сундуки с книгами наложено проклятье, я думаю, труда не составило. Рукописи же, пожалуй, и вовсе не имели в их глазах никакой цены…
— Ну и сколько же за все это можно получить? — спросил дядька, собираясь табашничать. — Все эти книги… какую цену они имеют?
Сергей придвинулся ближе к костру, достал свою тавлинку с турецким табаком, вынюхал щепоть, сдерживая себя, чихнул и зашуршал, удобнее устраиваясь на ложе из сосновых веток.
Не знаю, Терентий! Даже представить не могу! Одно скажу тебе точно. Трещинский затеял очень крупную, нечестную игру и наш долг…мой долг — взять этого негодяя за руки…что я и собираюсь сделать, чего бы это мне ни стоило… А теперь давай-ка спать… И не дыми ты так своей трубкой! Все глаза, старый черт проел!..
Остаток ночи прошел спокойно, а поутру всю компанию вновь ожидала дорога…
В Рязани выяснилось, что «кавурой масти пароход» ненадолго швартовался к пристани, грузился углем, и — только его и видели — отвалил далее на Касимов и Муром.
С трудом добравшись до древнего Мурома и выяснив, что неуловимый пароход успел и здесь улепетнуть вниз по Оке, «Гроза морей» усмехнулся, вытирая грязное от дорожной пыли лицо.
— Что я тебе говорил, Терентий! Наш польский приятель устремился в Нижний Новгород!
Установив, таким образом, пункт следования «Банды Трещинского», Нарышкин затеял пересадку на рейсовый пароход, идущий в Нижний. Одну жемчужину удалось продать жидовину-ювелиру, глаза, которого при виде перламутрового шарика зажглись алчным огнем.
— Какая большая бусина! — приговаривал он, с удовольствием катая ее в тонких, хищных, скрюченных, будто птичьи лапы пальцах. — Большая бусина, …ай-ай какая большая! Додя не видал такой жемчуг. (О себе он предпочитал говорить в третьем лице.) — Додя думает: а что если это поддельная бусина, нехорошая бусина? Ай-ай, тогда больная бедная додина мама не переживет такого горя!
Он долго вертел в лапах жемчуг, цокая языком, причмокивая и тряся пейсатой головой. Наконец, странно улыбаясь, назвал свою цену. Поскольку она оказалась выше, чем мог предположить Сергей, торговаться не стали, чем привели Додика в минутное оцепенение.
Денег, предложенных ювелиром, с избытком хватало на то, чтобы совершить речную прогулку до Нижнего, не отказывая себе ни в чем. И даже после этого немало должно было остаться. Если бы наши герои, выйдя из ювелирного заведения и пройдя несколько вперед к ожидавшей их тройке, удосужились оглянуться, то они увидели бы, как Додик дрожащими непослушными птичьими лапами своими торопливо замуровывал лавку, навешивая замки на дверь и затворяя витрины.
Полицейскую бричку вместе с поизмотавшимися в дороге лошадками пришлось продать, следуя примеру «этого негодяя Трещинского». Тем же днем были куплены две каюты на пароходе «Святогор», шедшем до Нижнего Новгорода.
Глава вторая В НИЖНЕМ
«Так я думал, с парохода
Быстро на берег сходя,
И пошел среди народа,
Смело в очи всем глядя».
(Козьма Прутков)Пронзительный пароходный гудок разорвал цепочку воспоминаний…
Нарышкин открыл глаза и огляделся. Ока, казалось, стала еще шире. Левый берег ее был весь залит солнечным светом. Под кручами правого берега залегла густая тень. По обоим бортам «Святогора» виднелись трубы, мачты, реи, ванты… целая паутина из прихотливых хитросплетений корабельной оснастки. У воды громоздились пристани, склады, амбары, торговые конторы; стал приближаться шум огромного портового города.
— Хорошо-то как, эхма! — гаркнул Нарышкин прямо в ухо подошедшей Катерине.
— Вон она — ярмарка, видите, Катенька? — Сергей простер длань в сторону левого берега. — Тут тебе целый Вавилон, не иначе! Вот где божье стадо торговлишку справляет!
Катенька, потирая пальчиками слегка оглохшее ухо, улыбнулась.
— И впрямь, будто бы библейский город — Вавилонт.
— А еще Содом и Геморой, — жизнерадостно сплевывая за борт, добавил подошедший Терентий.
— Лучший вид вон оттуда, — Нарышкин ткнул указательным пальцем туда, где на крутые холмы правого берега взлезали дома и сады, а над ними по гребню вились мощные стены Нижегородского кремля.
— Вот, подсуропил восподь, насилу доплыли! — воскликнул невысокий мужичонка в картузе, стоявший у поручней неподалеку.
— Баклан ты баклан, — презрительно хмыкнул Терентий. — У тебя, дядя, бельмо на глазомере. Где тут плавать? Восподь ему пособил! Чуть шагу от родимой лужи ступил и уж в штаны наклал. Давай лоб щепотить!
Терентий смачно и далеко плюнул, стараясь попасть в грязноватую речную чайку. Попал и, многозначительно ухмыляясь, вразвалку отошел от борта.
«Святогор» снова пронзительно загудел, затрясся всем корпусом, перешел на малый ход и, вяло шлепая плицами гребных колес, стал забирать в сторону, выискивая путь к причалу.
С вершины кремлевской горы вид и в самом деле открылся необыкновенный. У подножия высокого холма, на котором был некогда заложен город, сходились, плавно вливаясь друг в друга и в горизонт, две великие русские реки. Четверка наших героев, несколько минут стояла молча, завороженная видом безбрежной, казалось, водной шири.
— Ой, какая красота! — с замиранием сердца, проговорила Катерина.
Степан глубоко вздохнул полной грудью, насколько позволяли легкие, и закашлялся от избытка свежего воздуха.
— Изрядный вид, — сказал дядька Терентий. — Помню, этак вот, однажды пришли мы к острову Тенерифу. Ну и порешили на тую Тенерифу взобраться…
Однако Нарышкин не дал продолжить рассказ. По обыкновению своему, возложив на себя обязанности гида, он сорвал с кудлатой головы картуз и стал размахивать им направо-налево.
— Во-о-он, видите, там за рекой? Это Пески.
(Картуз метнулся в сторону речных отмелей.)
— А вон там, ну воон там — это мост плашкоутовый.
(Картуз поехал в сторону моста.)
— А там Сибирская пристань, стрелка, Сормовский завод; а вон — Кизлярская улица, там вина Кавказские продают!
Картуз Нарышкина совершал замысловатые порывистые движения. Он то плескался в Мещерском озере, то прогуливался по Китайской улице, где шла торговля чаем, то перелетал к Макарьевской часовне, куда на время ярмарки переносилась из монастыря икона почитаемого в народе святого Макария — покровителя торговли.
— Вот там и будем искать господина Трещинского. Там он! — Сергей кивнул головой в сторону огромного ярмарочного города.
От кремля погрузились на извозчика. В большой, открытый, топорно сработанный экипаж была впряжена понурая, грязно-пегая кобыла. «Гроза морей» критически оглядел лошадь.
— Ты уж поспеши, братец, — обратился он к извозчику — невысокому, нескладному малому с рябым лицом и васильковыми глазами.
— Доедем ли? — недоверчиво покосясь на кобылу, усомнился Степан. — Уж больно она лядаща. Живая душа на костылях!
— Не извольте беспокоиться! — алый вытянул дремлющую лошадь вожжой.
— Враз доставим с вашим удовольствием! Валяй, качай, даст барин на чай!
Н-но пошла, дохлятина!!!
«Дохлятина» всхрапнула. По спине ее пробежала крупная зыбь. Малый на козлах снова плеснул вожжами. Кобыла раздраженно мотнула мордой и подпрыгивающей иноходью, набирая ход, затрюхала по улице, распугивая бредущих к вечерне богомольцев. На спуске снова открылась великолепная панорама блестящего самоварным золотом разлива рек. Из-за Волжских далей перла в вечерний небосвод налившаяся чернилами туча. Кобыла исторгнула дьявольское ржание и понесла с неожиданной для такого животного прытью.
— Ну, таперича держись! — истошно крикнул возница, прежде чем экипаж со страшным грохотом увалился вниз под гору крутым разъезженным спуском. — Эге гей, голубчики, грабют! По-ошла родимая!!!
Нарышкин, подпрыгивая на жестком сиденье, глянул на своих спутников. Побелевшая, как полотно, Катерина, ухватив в охапку узел с вещами, испуганно-расширенными глазами смотрела перед собой. Степан, уцепившись руками за борт коляски, на разные лады истово и почти беззвучно бормотал:
— Помилуй мя грешного… упаси и сохрани раба твоего…
Терентий, тщетно пытался придержать разваливающуюся горку пожитков.
— Ох, мать честная! — успел подумать Нарышкин, прежде чем экипаж с адовым грохотом ринулся вниз и исчез в облаках пыли…
— В аккурат довез, — немного смущенно почесывая бок, пробормотал возница, когда, просвистев с горы и, кажется, одною только силой инерции промчавшись по плашкоутному мосту, крякнув напоследок остатками рессор, повозка замерла против Макарьевской часовни.
«Дохлятина», выпучив глаза, возбужденно храпела и трясла мордой. По крупу ее пробегали мелкие судороги.
— Ну, стой, будя! — успокаивающе пробормотал извозчик и ткнул кобылу в бок поросшим светлой шерстью кулаком. «Дохлятина» покосилась на хозяина и нервно укусила его за плечо.
…Первым из экипажа вывалился порыжевший от пыли Степан. Пошатываясь и заплетая ноги, он проковылял до тумбы с объявлениями пароходства, где его громко стошнило. Ставшая из белолицей слегка зеленоватой, Катерина на прямых, негнущихся ногах вышагнула из коляски. Ее платок сбился набок, выпростав наружу расплетшуюся косу.
— Держи, на вот, — Терентий, утирая пыльное лицо, отсчитал вознице медяки.
— Как-то еще вещи не растеряли?
Последним на грешную землю ступил Нарышкин. Его вихры стояли дыбом — картуз слетел во время бешеной скачки. «Гроза морей» внимательно посмотрел в васильковые глаза извозчика.
— Ну, дык вот… — ежась, заметил тот и отвел взгляд.
— С-с-с… — прошипел Нарышкин и глаза его от усилия налились красным.
— Это вам спасибо сударик-барин, — отмахнулся извозчик.
— С-с-скотина, едва не угробил! — старательно выговаривая буквы, закончил Нарышкин и, не смущаясь присутствием Катерины, широко и вольно выматерился…
В этом году открытие ярмарки, по обыкновению, должно было состояться 15-го июля. Однако торговля на территории этого огромного привоза уже шла. Многие павильоны достраивались, над площадью торжища стоял стук молотков, визг пил и деревянный шорох рубанков.
Ярмарка действительно была подобна городу. С улицами, площадями, гостиницами, трактирами, соборами, мечетью, караван-сараем и чайна-тауном.
Здесь были свой цирк и ипподром, банки и торговые конторы без числа, вершившие дела свои по всему белу свету. Черта лысого, казалось, можно было купить на этом огромном рынке и его же продать по весьма сходной цене, разумеется, ежели сыскался бы покупатель.
На Макарьевской улице торговали табаком и бакалеей. Царская была завалена мылом и колониальными товарами. Платочная под крыши павильонов забита валяной обувью, чулками и одеждой. Петербуржская ломилась стальными и железными изделиями. Ярославская, Куликовская и Пожарские улицы провоняли кожами всевозможной выделки: от сырых, грубых, недавно снятых кож до тончайших, по последней Парижской моде сработанных, футляров для penz nez. Караван-сарай, устроенный, разумеется, в восточном вкусе, разбух от распиравших его пряностей, посуды, ковров, украшений и прочих даров востока. Зрелище подобного изобилия захватывало дух.
— Мне это нравится, — заявил Нарышкин. — Тут есть, где разгуляться!
— Агзотика! — согласился дядька Терентий.
— Трещинский здесь, на ярмарке. Я этого гада нутром чувствую! — Сергей оглянулся. — Спешить он, пожалуй, не станет. До официального открытия еще месяц с хвостиком. Возможно, мерзавец Левушка будет сбывать клад по частям…
Степан с сомнением качнул головой.
— А вдруг, сударь, он с кладом, как со своими лошадками — отдаст подешевше и был таков? Ему тут мостовые гранить резону нет. Сбрыкнет добро, только его и видели.
— Не думаю, — Нарышкин поморщился. — Если в кладе были действительно дорогие вещи, то сбыть их, Степан Афанасьич, будет непросто. Трещинский, пожалуй, чувствует себя сейчас в безопасности. Вероятно, он считает, что мы до сих пор разбираемся с господином Дерябиным в усадьбе. Пусть так и полагает. Здесь, на ярмарке, Левушке выгоднее всего не спешить. Цену сокровищу он знает и навряд ли отдаст его за бесценок. К тому же едва ли сыщется один покупатель на все добро. Такой карман придется поискать даже здесь. Стало быть, есть вероятность, что клад будут сбывать частями. А на это Трещинскому тоже понадобится время…
Сергей ободряюще улыбнулся: — Ярмарка закроется в начале сентября, так Степа?
— Так, — хмуро кивнул Степан.
— Значит, времени у нас не много, но, однако же, и не мало.
— Что делать станем? — поинтересовался дядька Терентий.
— Станем искать. Трещинский и его люди все-таки не иголка в стоге сена. Здесь на ярмарке хоть и пропасть народу, однако, Левушка будет тереться около ювелиров или около богатеев. Возможно, что он станет посещать торговцев редкими книгами. Стало быть, будет на виду.
— Это как на виду-то? — спросил Степан.
— А так. Он, наверное, остановится в лучшей гостинице. Будет появляться на публике… Гостиницы, особенно хорошие, тут наперечет, так? Кроме того, Трещинский «сотоварищи» могут заглядывать в чайные. Между прочим, тут миллионные сделки в чайных заключаются… И, наконец, Левушкины приятели слишком приметны. Взять хотя бы Николай Петровича. Такого дядю непросто даже в Нижнем Новгороде спрятать!
— Они-то приметны, спору нет, — подала голос Катерина. — Однако же и мы им хорошо известны.
— Правильно, — поддержал дочь Степан. — А ну как спугнем их?
— Постараемся не спугнуть, — Сергей ухмыльнулся. — Наш «друг» Лева большой театрал. Он всегда любил маскарады. Как он нас с «Нехлюдовыми» провел? Ничего, господин Трещинский! Мы докажем Вам, что тоже не лыком шиты. Мы почище Вашего сумеем менять внешность. Опыт имеется!
— На что же ее менять? — Степан недоверчиво тряхнул бородой.
— На сало! — съязвил Нарышкин. — Экий ты Степан непонятливый. Мы изменим свой образ так, чтобы нас не смогли узнать. К примеру, тебе, Степан Афанасьич, бороденку твою лапотную удалим. Переоденем тебя… ну, допустим, местечковым евреем… А? Что скажешь?
— Не позорьте, сударь! — ощетинился Степан. — Где это видано, чтобы меня, православного человека, в жиденка рядить?
— Что, бунтовать?! — «Гроза морей» театрально сдвинул брови. — Я этого, Степа, не потерплю! Завтра же займемся твоей наружностью. А теперь не худо бы и ночлег поискать. А, дядька Терентий?
На ночлег было решено остановиться в номерах «Александрия» поблизости от достраивающегося караван-сарая. По мысли учредителей, номера должны были представлять собой нечто среднее между султанским гаремом и пещерой Аладдина. Вышло действительно нечто весьма среднее. Томная роскошь мусульманского востока перла изо всех углов заведения. Пурпур, злато, яркая мозаика и узорчатая резьба создавали, как указывалось в рекламации, «Чарующий и таинственный мир персицкой культуры, волшебный оазис сказочной арабской мистерии». Вся эта восточная мишура «пленяла взор», или, проще говоря, лезла в глаза. От обилия диванов, скамеек, подушек, драпировок, марокканских люстр и александрийских светильников голова слегка шла кругом. Кроме того, изрядную долю экзотики заведению добавляли весьма специфические ароматы, ибо пахло здесь так, будто кто-то нарочно посыпал приправами и пряностями каждый угол гостиницы.
— Может, того, поищем другое место? — сдавленно попросил Степан, у которого перехватило в горле от немыслимой смеси благовоний.
— Нет, только здесь, — упрямо рявкнул Нарышкин, оглядываясь вокруг. — Я уже чувствую себя каким-нибудь царем Шахрияром. Мне хочется нежиться на коврах, кушать щербет и слушать восточные напевы. А, кроме того, тут, поди, и Шахерезады водятся?
Он подмигнул Терентию, оглянувшись на потупившуюся Катерину.
— Не знаю, сударь, как насчет этих…Шхеразад, но клопы тут точно в достатке, — бодро ответил Терентий.
— Что поделаешь, — улыбнулся Сергей. — Вошка и гнида людям не обида, так что ли, Степан Афанасьич? Эй, кто-нибудь, человек!
Из-за стойки, покрытой затейливым резным орнаментом степенно вышел портье, одетый, как средней руки визирь, с приятным лицом, обтянутым глянцево-коричневой «диванной» кожей.
Он приложил ладонь ко лбу, к сердцу, сложился в поклоне.
— Вот, поглядите, Катенька, каков молодец! — восхищенно сказал «Гроза морей».
— Полюбуйтесь, какая физиономия! Чистый турок! Настоящий потомок Магомета! Интересно, понимает ли он хоть слово по-нашему? Послушай… Как бишь тебя? Хамал…Ифрит…Калым! — Нарышкин сделал довольно сомнительный реверанс, позволив своей правой руке коснуться сначала лба, груди, живота, а затем прогуляться немного ниже.
— Скажи, о изумруд души моей, не могут ли четверо утомленных дорогой странников, совершающих священный хадж по маршруту «Санкт Петербург — Нижний Новгород»… Не могут ли эти четверо найти приют и отдохновение в твоем достойном дворце?
— Могут-с! — воскликнул «восточный человек», щеря редкие зубы. — С превеликим нашим удовольствием! Имеем отличные номера по полторы рубли. Будете довольны-с. Имеем также номера подешевше. Всего по рублику с постели!
— Э-э… — протянул Нарышкин, переменившись в лице, и с брезгливой гримасой оглядывая разом поблекший наряд «визиря». — И здесь бутафория! Терентий, распорядись!
Он отвернулся, разом потеряв интерес к происходящему, и оживился, только когда расторопный дядька приказал вытащить из его номера кровать и застелить весь пол коврами. Прочие комнаты, снятые компаньонами, были оставлены в том виде, в каком пребывали, то есть являли собой вполне заурядные нумера заурядных губернских гостиниц. Впрочем, стены, оклеенные турецкой бумагой, несколько оживляли дешевые олеографии в восточном вкусе, изображающие базары, обнаженных одалисок и мужественных слуг Аллаха на горячих и резвых конях.
Настроение вернулось к Нарышкину, когда дядька раздобыл где-то кальян, целый поднос халвы и большой кувшин кислого молодого вина.
— Жить можно и в этом клоповнике! — заявил «Гроза морей», развалившись на полу среди кучи подушек. — Начинаю чувствовать себя восточным царьком-тираном. Уже чешутся руки. Хочется рубить головы…Может быть, просто дать кому-нибудь в рыло? — Нарышкин мечтательно потянулся. — Эх, жалко музыки нет! Было бы совсем недурственно, если бы ты, Степа, и ты, дядька Терентий, усладили мой слух. Сыграли б мне на каких-нибудь дутарах или камузах. На чем они там, в Туретчине играют? А вы, Катенька, могли бы исполнить танец живота…
— Это еще зачем? — едва не поперхнулся халвой Степан. — Господь с вами, Сергей Варельянович! Придумаете этакую белендрясину. Она же еще девица. Как же можно ей на животе танцевать?
— Темный ты человек, Степан Афанасьич! — вздохнул Нарышкин.
— А я вот слыхала, что в Туреции этой женщины в бурнусах ходят с головы до пят. И лица совсем не смеют казать, — подала голос набившая ротик халвой Катерина.
— Это верно, — авторитетно подтвердил Терентий. — Называется «параньча». Гуляют в этой параньче и зимой и летом. Ходят в ей, будто гусеницы. Одни бельма наружу торчат.
— А еще есть на востоке такое, Катенька, — блеснул глазами из своих подушек Нарышкин, — такое, когда мужчина может иметь не одну жену, а, скажем, три или пять. А те, кто побогаче, к примеру, султан или падишах, имеют сто и больше жен. Называется это — гарем.
— Не знаю, как там, на востоке, — серьезно сказал Степан. — Их там дело басурманское. Может у них, у ефиопов, бабы по-другому устроены. А у нас, ее вон матерь, (он кивнул в сторону Катерины) случалось, что и бивала меня. Рука-то у ней, у покойницы Степаниды Платоновны, налитая была, ощутительная! Мне ее одной-то, голубушки, через края хватало… Царствие ей небесное! А тут тебе три или пять… Это в какие же ворота столько счастья?
— Эх ты, каша-размазня! — вмешался Терентий. — Виданное ли дело, чтобы баба тебе в шею накладывала? Баба — на и есть баба. К ей тоже свое обращение полагается. Главное — спуску не давать!
— Это как же? — Нарышкин кейфствовал от кальяна и вина, блаженно щурясь, с улыбкой наблюдал за компаньонами.
— А так, — гнул свою линию Терентий. — Чуть заартачилась голубушка — сразу ей в мордец! Или в ухо засмолить! Не сильно, но так, чтобы руку мужнину почуяла. А коли спуску дашь, то они, изверги естества, вовсе на шею усядутся. Потому как бабы повсеместно устроены похожим образом. У всех промеж ног «вдоль», а не «поперек»…
— Ну ты уж, Терентий, того… Не один все ж таки! — нахмурился Степан, покосившись на Катерину.
— А что такого? Как есть и говорю. Бабы — ни и в Ефиопии бабы! Вот мужики там — е то, что у нас! Там этаких тетерь нету, навроде тебя, Степан Афанасьич. Там чуть, что не по-ихнему — враз за кинжал хватаются. Крякнула супротив мужа — чирик, и языка у ней нет! Побреши, пойди, теперь без языка-то! Мусульманы на это дело спорые…
В эту ночь, когда золотой попугай солнца опустился в клетку запада, а серебристый попугай луны вылетел из гнезда востока, в сердце Нарышкина зажглось смутное томление. Вино было допито, но в голову, одурманенную кальяном, сон не шел. Сергей ворочался среди пахнущих молью подушек, зевал отчаянно, но заснуть не мог, как ни пытался. Попробовал считать баранов, но проклятые животные сбились плотной, блеющей массой и пересчитывать себя упорно не желали. Виноваты ли в том были пряные ароматы, разносившиеся по дому, кислое вино, кальян или упрямые бараны Нарышкин не знал и в последствии не мог объяснить себе тот факт, что в половину первого ночи он оказался перед дверью номера Катерины, в которую принялся тихонько скрестись. Все происшедшее затем, было как в тумане.
Она открыла. Он вошел. Вполголоса (как показалось) принялся увещевать, уговаривать, убеждать. Наконец, когда девичий бастион, как показалось Нарышкину, готов был капитулировать, «Гроза морей» пошел на решительный штурм… И тут неожиданно сильная и хлесткая пощечина вернула его к действительности.
— Уходите, Сергей Валерьянович! Христом Богом прошу! — сурово сказала Катерина.
…Щека горела, будто опалённая огнём. В воздухе, казалось, ещё звенело эхо пощёчины. «Гроза морей» пошатнулся, отступил на шаг, затем вышел в полутёмный коридор и довольно скоро обнаружил себя стоящим на ступеньках заднего входа.
Ночной воздух остудил горящее лицо, неожиданно резко прошёлся по волосам, и Нарышкин, словно тяжёлая неповоротливая баржа, отчалил от порога. Тёмные задворки и гулкие колодцы дворов вынесли его на какую-то незнакомую улочку, которая медленно и бесцельно, словно полусонная река, понесла Сергея в неведомом направлении. Слева и справа, тускло мерцая огнями, проплывали спящие дома. В окнах некоторых из них всё ещё горели свечи, а по правую сторону пьяная орда местных флибустьеров сражалась за тонущий в кустах сирени фрегат кабака. Из-за кустов слышался треск ломаемой мебели, хриплая брань и глухие удары кулаков. Один из дерущихся, едва не сбив задумчивого Нарышкина, не без посторонней помощи вылетел на мостовую и бесформенным мешком рухнул на его пути. Сергей безразлично перешагнул через поверженного и, погружённый в свои мысли, побрел по тёмным улицам дальше. Шумный трактир исчез за поворотом, вдоль мостовой опять потянулись незнакомые строенья. Промелькнула фигура бородатого дворника, о чём-то хмуро беседовавшего с самим собою. Громко простучав подковами, роняя обрывки хмельного веселья, цыганских напевов и женского смеха, мимо промчалась загулявшая тройка… Сергей оставался совершенно безучастен к происходящему вокруг. Он вспомнил свою столичную жизнь, которая сейчас, в этот момент, показалась ему навсегда и напрасно утраченной, припомнил неожиданную встречу со Степаном и Катериной. Встречу, так резко изменившую его, Сергея Валериановича Нарышкина, благостное Петербургское бытие…
Сердце наполнилось досадой. Сергей потрогал еще горячую от пощечины щеку.
— Девчонка! — подумал он. — Дурочка неотесанная! Точно возомнила себя царицей Шамаханской! А я то, каков дурень! Чуть флакон нарушил — и на тебе, обрадовался! Кинулся невесту выплясывать! Болван…болван!
— А…наплевать и растереть! — сказал себе Сергей, и совсем не сразу заметил, что уже несколько минут стоит на обочине и тупо, невидящим взором, глядит вослед тёмному силуэту невесть откуда возникшего, куда-то спешащего человека.
И вдруг неожиданное открытие, словно игла, пронзило Нарышкина. «Трещинский!», — чуть было не выкрикнул он, однако в следующую секунду, уже сорвавшись с места, бросившись в погоню, завопил:
— Стой! Стой, шельмец!
«Трещинский» бросился наутёк, юркнув под тёмные своды небольшой арки, попытался уйти от преследователя, но тот в несколько скачков настиг беглеца. Во мраке подворотни по мощёной земле рассыпался отразившийся от стен стук сапог. Завязалась борьба. Противник не возмущался, не кричал и не отбивался, а только, громко пыхтя, извивался, как змея. Он пытался выскользнуть из сильных рук Нарышкина, который то и дело перехватывал вертлявого беглеца, цепляя его то за рукав, то за воротник, а когда ухватился за грудки, батарея пуговиц не выдержала, звонко выстрелила и рассыпалась по брусчатке.
В следующее мгновение поле боя сместилось, противники выскочили на открытое пространство под свет мертвенно-бледной луны, и здесь-то Нарышкин, опешив, увидал, что перед ним какой-то незнакомый лысый человек с мясистым носом и маленькими перепуганными глазками… От удивления Сергей дал слабину, воспользовавшись которой, незнакомец выскользнул и, оставив преследователю свой измятый сюртук, скрылся в ночи. Осмысливая происходящее, «Гроза морей» несколько секунд простоял на месте, потом, не зная, что делать с оставшимся у него «трофеем», он снова бросился за улизнувшим незнакомцем, который, примерно через квартал, с невесть откуда взявшейся прытью нырнул между досок старого покосившегося забора и затаился где-то под сводом высокой груши.
— Эй, дядя, выходи! — крикнул Нарышкин в темноту. — Выходи, кому говорю…
Он перевёл дух, окинул взглядом корявую крону дерева, и…совсем рядом неожиданно ощутил чьё-то присутствие. Сергей оглянулся, прищурился и в тени толстого шершавого ствола опять узрел глянцево блестевшую голову, жидкие усики и мясистый нос недавнего противника. Невольно вздрогнув, «Гроза морей» тихо спросил: — Ты кто такой будешь-то? Да не бойся, не трону я тебя!
Глава третья СИЛА ИСКУССТВА
«Какой-то злобствующий бес,
А по афише — добрый гений,
Нас вводит в область превращений
И фантастических чудес».
(А. М. Жемчужников)Утром, когда чертов золотой попугай солнца, некстати вылезший из гнезда востока, стал клевать глаза, Нарышкин проснулся окончательно разбитым. Все тело ныло и болело. Голова была налита точно горячим свинцом. Во рту царил мерзкий запах. Щека почему-то все еще горела. Как водится, стали выплывать из глубин сознания обрывочные подробности минувшей ночи…
Вспомнилось, как бродил по ярмарке, распугивая ночных прохожих….Потом, что-то с кем-то пил… Хотел купить ковер… саблю …и, кажется, буланого коня… Почему «буланого»? Черт его знает почему… Седло — вот оно, лежит под головой, нестерпимо воняя новой кожей… А это еще что? Почему снег по всей комнате?..
Странно, очень странно… Это не снег вовсе, а пух от подушек… Понятно… Значит, саблю все таки купил. (Вспомнил, как под утро остервенело рубил подушки острым клинком.) А вот и ковер в углу… шевелится.
Ковер действительно слегка ворочался и храпел. Из него торчала незнакомая, лысая, как яйцо, голова с мясистым, багровым носом, оттопыренными ушами и мокроватыми малопривлекательными усишками.
«Это еще что за молодец?», — Сергей с трудом отлепил свою буйну голову от седла, на котором та покоилась. Вошел Терентий и, оглядев комнату, стал деловито сметать перья, битое стекло и прочий мусор в кучу.
— Все болит! — с трудом разлепив рот, сообщил «Гроза морей».
— Опохмеляться будете, сударь? — трогая ковер рукой, спросил Терентий.
— Неси! — коротко приказал Нарышкин, пытаясь привстать.
Лысая голова растворила мутный глаз и обвела им комнату.
— Вылезай, как тебя там? — Терентий выставил на расчищенный от перьев и битой посуды участок пола кувшин, в котором что-то призывно булькнуло.
— Аскольд, — отозвалась голова, краснея от натуги и силясь высвободиться из ковра. — Имею честь отрекомендоваться: Аскольд Рубинов, театральный антрепренер и актер императорских театров.
— Бред какой то, — пробормотал Нарышкин.
Из ковра показались, наконец, плечи, а вслед за ними на свет божий выпростался пожилой господин, в некогда приличном, но теперь сильно измятом и засаленном сюртуке. Он проворно взял протянутый Терентием стакан с вином, нервно дергая кадыком, опрокинул его в рот и блаженно улыбнулся.
— Эх, и погуляли вчера-с! — сказал он, утирая губы. — А я, ведь, спервоначалу думал, что прибьете вы меня! Не соблаговолите ли плеснуть еще?
— Ты откуда взялся? — хмуро спросил Нарышкин, садясь по-турецки и пытаясь протолкнуть кислое вино внутрь себя.
— Как же, помилуйте, то есть откуда-с! Вы, сударь, не далее как вчера пиджак с меня сорвать изволили, потом били смертным боем, гоняли по всей ярмарке, ну а опосля того мы с вами крепко взяли-с, в ресторации сидючи. А уж, так сказать, хе-хе-хе, по прошествии всех перипетий, вы меня изволили нанять!
— Нанять? — переспросил Сергей. — А… м… м… в каком качестве?
— В качестве консультанта.
Лысый господин улыбнулся. — Вы, сударь, такого звону вчера задали, что не мудрено и запамятовать. Вам, если я правильно уразумел, надобен специалист, дабы личность людей ваших, некоторым образом, исказить-с.
— Да? — кашляя вином, удивился Нарышкин.
— Перелили лишку, вот память и затмилась. Оно, хе-хе-хе, бывает-с. Но, доложу я вам, дельце вы завертели — будь здоров!
— Какое дельце? — Сергей выронил стакан.
— Ну, как же, помилуйте-с, кладоискание-с и все такое-с, погони, засады, прямо в духе романов господина Дюма!
Терентий покачал головой и укоризненно посмотрел на барина. Нарышкин хмуро глядел в пол.
— Разумеется, с моей стороны полный конфеданц, — продолжал разглагольствовать лысый. — Как говорится, могила-с! Провалиться мне на этом месте, ежели, хе-хе-хе, проговорюсь.
— А это мысль, — заметил Нарышкин. — Насчет могилы это ты, пожалуй, верно придумал… Как там тебя? Рюрик?
— Аскольд, — с некоторым дрожанием в голосе, поправил лысый.
— Так ты, стало быть, антрепренер…
— Точно так-с. Служил в императорских театрах. Но в данный момент нахожусь, как говорится, на вольных хлебах-с. Ангажементу нет, вот и приходится, знаете ли, всяким заниматься. Я ведь, хе-хе-хе, некоторым манером на многих специальностях настрыкался. Имею широкие амплуа. Случалось игрывать характерные персонажи-с: от героев-любовников до комических старух. Приходилось и пиесы писывать…
— Что-нибудь про Филатку и Мирошку? Или про царя, как бишь его… Навуходоносора? — иронически осведомился Сергей, вспомнив объявления Петербургских театров. Он подлил себе вина. Второй стакан, как это обычно и случалось, пошел гораздо легче.
— Имею готовую к постановке пиесу в народном духе «Фролка и Федул на ярманке», а также историческую драму в четырех актах «Отравленная туника, или Наказанные пороки». Лысый заметно приободрился и спросил еще вина.
— Смыслю также в цирюльном деле, — заявил он, — умею отворять крови и ставить пиявки…
Нарышкина слегка передернуло при последнем слове.
— Не помню… Ничего не помню.
Он внимательно оглядел лысого господина с ног до головы.
— А скажи-ка мне, господин антрепренер, тебе часом не приходилось бывать в городе Пенза? Не знаешь ли ты такого актера — Нехлюдова Алексея Петровича? Очень мне запомнилась одна его роль! Да и пьеса, в целом, тоже была недурна…
В Пензе Аскольд бывал и не раз, однако Нехлюдова не знал, хотя по собственным уверениям, в театральном мире знал всех.
Когда бутыль иссякла и возникла потребность в другой, Терентий отозвал Нарышкина в коридор.
— Что-то не нравится мне этот баклан, сударь! Нет у меня к ихней братии доверья! Один раз нас с вами уже облапошили. Вы только на рожу евойную гляньте! «Геройский любовник»… Это ж смех один! Муха елозящая, а никакой не любовник! Он вам навинтил про себя бог знает что, а вы по пьяной олаберности ему про дело наше и выложили!
— Но-но, ты, Терентий, не забывайся! Ступай-ка лучше, кликни Степана с Катериной.
При упоминании Катерины «Гроза морей» сделался красен и, чтобы скрыть смущение, приказал: — И вина еще принеси! Ишь ты, критику наводить вздумал, старый черт!
Сомнения на счет нового персонажа возникли, однако, не только у бывшего дворника м-м Завынкиной. Степан, едва завидев прогуливающегося в коридоре Нарышкина, округлил глаза, скроив при этом озабоченную донельзя физиономию.
— Что ж это делается, сударь, а? Мы этак не договаривались! Мы этак ничего с вами не сыщем, ежели кажный день у вас просыху нет, да еще по кабацкой лавочке кому ни попадя открываетесь!
Степан шипел, отчаянно жестикулируя, и поминутно оглядывался на приоткрытую дверь номера, который снимал Сергей.
— Откудова он взялся, лысый этот? Может, его специяльно подослали, чтоб нам с вами вред чинить! Кто он таков? Знаем мы его? И этого в долю брать будем? Так, сударь мой, никаких долей не напасешься!
— Уже наябедничал старый фискал? — Сергей оглянулся на Терентия, но тот снова принялся выметать мусор в коридор, делая вид, что не слышит гневной реплики барина.
— Успокойся, Степан Афанасьич, — Нарышкин исподлобья посмотрел на возникшую за спиной отца Катерину. — Людям иногда надо верить. Просто для разнообразия… А то, бывает, расскажет человек о своих чувствах другому человеку, расстегнется… да так, что стоит сам-дурак, вся душа наружу… а тот другой — хлоп ему за это и по мордасам! Верно, я говорю, Катерина Степановна?
— Всяко бывает, сударь… — опустив глаза, ответила Катерина.
— Вот именно, всяко! — сказал Сергей, подняв указательный перст и покачав им перед носом Степана. — Всяко, ибо, как… не помню, кто сказал… лучше быть слишком доверчивым, чем слишком скептиком… потому как недоверие обманывает нас гораздо чаще, чем доверие! Вот! А насчет того, кого брать в долю, а кого нет, это уж мне, Степа, решать. И хватит об этом!
Лысый, однако, не обманул. Он действительно кой-чего смыслил по части грима. Получаса не прошло, как он сбегал за своим увесистым баулом, в котором чего только не было. Среди рулонов со старыми афишами нашлось несколько костюмов и париков. Кроме того, баул был набит всевозможными баночками, склянками, пузырьками и прочим барахлом, предназначение которого было одному богу известно.
Нашлись ножницы, папильотки и даже ключ для выдирания зубов, который цирюльники называют «козья нога».
— Прошу не беспокоиться, все будет с акуратесом! — суетился антрепренер. — С кого начнем?
— Давай, Степан Афанасьич, — подтолкнул Нарышкин.
— В жида обряжаться не стану! — уперся Степан. — Я православный християнин…
— Ну отчего же обязательно в жида, — лысый извлек из баула пахнущую молью рясу. — Мы сделаем из вас сельского священника или монаха! Типаж вполне, хе-хе-хе, подобающий. Немного фиксатуару в волосы и будет акуратес!
— Знаем мы ваши «акуратесы». Небось, все из копытного клею понаварили, — бурчал Степан, однако в рясу облачился охотно. Старый, грязноватый клобук и дешевый наперсный крест с облупившейся эмалью довершили образ.
— А ведь и впрямь похож! — удовлетворенно крякнул Нарышкин. — Попик вышел что надо! Пожалуй, вы нам подойдете, господин бывший герой-любовник… Как вас там, опять запамятовал…Эйнар? Трувор? Синеус?
— Аскольд… Рубинов, — лысый слегка потупился. — По совести сказать, это я себе для сцены псевдоним выдумал. Так оно как-то благозвучнее-с.
— Я, почему-то так и решил, — усмехнулся Нарышкин. — А настоящее имя, позвольте узнать?
— Антон я… Репкин Антон Семенович.
— Ну что же, Антон Семенович, твоя помощь нам может пригодиться!
Сергей улыбнулся, оглядывая новый наряд Степана. — Добро пожаловать в компанию, господин Репкин! Ну, давай-ка еще по одной!
Для того чтобы экипироваться надлежащим образом, следуя указаниям новоявленного консультанта, пришлось изрядно походить по торговым рядам, совершая необходимые покупки.
Место пребывания сменили. Нарышкин успел насытиться восточной экзотикой до краев, да и хозяин «Александрии» после ночной эскапады Сергея смотрел на постояльцев косо. Сумма, которую он заломил за порубленные подушки и слегка подмоченный ковер, перекрывала убытки гостиницы, по крайней мере, втрое. Взогретый вином Нарышкин, покидая негостеприимные номера, хотел, было, предать заведение огню и мечу, однако товарищество дружно его отговорило. «Гроза морей» несколько умягчившись, но все еще опасно поигрывая клинком, изъявил желание вырезать мужское население «Александрии», обещав пощадить женщин и детей, на что также получил решительный отпор. Урезонил новоявленного «тамплиера» дядька Терентий. Со словами: «Будет баловать-то, еще не ровен час, в глаз себе пырнете», — он отобрал у барина саблю…
Подходящая гостиница нашлась на соседней улице. Комнаты были вполне заурядными, однако чистыми. Содержал номера благообразный, неглупый, степенный немец, напомнивший Нарышкину портрет адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна, виденный на выставке в академии художеств. Немец проживал здесь же, в гостинице, с семьей, которая занимала часть верхнего этажа. Он оказался понятливым, с расспросами не лез и за отдельную плату разрешил пользоваться черным ходом. Когда же Сергей объявил, что столоваться вся компания будет тут же, в гостинице, радости господина Заубера не было границ. Он даже прислал в номер Нарышкина кувшин преотличного пива, которое варила сама фрау Заубер.
— Вот это я понимаю «орнунг», — восхищенно крякнул Сергей, отдавая дань пиву.
На следующий день с утра пораньше Аскольд Репкин взялся за работу.
Со Степаном трудностей не возникло. Церковное облачение подходило ему как нельзя кстати.
— Ежели б не жисть подлая, то я и впрямь в духовные подался бы! Глядишь, сей бы час уже службы справлял. Степан удовлетворенно глянулся в зеркало.
— Какой из тебя, лаптя, духовный сан? — хмыкнул Терентий. — Ты же, дядя, за печкой вырос!
— Да уж, мы ваших морей-окиянов не лизали. Мы свое понятие имеем…
— Какие такие у тебя, кобел лесной, понятия завелись?
— А ну-ка, цыц мне! — прикрикнул на них «Гроза морей». — Споры и раздоры прекратить! Зачинщиков самолично буду вешать на реях!
— Научил на свою голову, — тихо буркнул Терентий и отошел в сторону.
С Катериной вышло посложнее.
— Больно, того, хе-хе-хе, краса в глаз кидается, — внимательно оглядев девушку, заявил Аскольд-Антон. — Оно, конечно, пожалуй, и хорошо… только уж больно заметно-с. Тут надобно что-либо посконное, серенькое, чтоб зрению не смущать!
Он достал из своего объемистого баула какие-то вещи, покружился вокруг Катерины, что-то бормоча себе под нос, уединился с ней, попросив всех выйти из номера (к немалой досаде Нарышкина), и через несколько минут перед глазами компании предстала чумазая, забвенная девка-распустеха. Первым побуждением Сергея при взгляде на изменившуюся до неузнаваемости Катерину было подать ей милостыню — о того по-сиротски жалостно она выглядела.
У Степана при виде дочери из груди совершенно неожиданно исторгся горестный вопль. С ним сделалась даже легкая истерика. Понадобилось время, чтобы привести его в чувство.
— Дочура! — выл, комкая клобук, и мажа по щекам сопли, Степан. — Сиротинушка моя жалкенькая! Не припас я тебе на черный день копеечку! Кровинка моя единоутробная!
— Как трогательно… — отводя глаза в сторону, сказал Нарышкин. — Вот она, сила искусства!
Терентия решено было сделать средней руки купчиком. Он был облачен в новый, мышиного цвета сюртук, палевый жилет с массивной «золотой» цепью, свисающей из кармана, и глянцевые смазные сапоги.
Антон-Аскольд удовлетворенно кивнул головой и стал ерошить дядьке волосы.
— Ты что это, баклан, удумал? — ощетинился Терентий.
— Надобно сперва взмохрявить, а потом слегка маслицем покропить и на прямой пробор-с. Борода у вас вполне, так сказать, «алажен франсе», а вот с головой надо что-то менять. Не желаете, пробор можем сделать «брекосе» — на лоб, или стрижку «а ля капуль»…
— Это тебе надо с головой что-то менять! Парикмахер — по баням баб завивать!
— Не хотите «капуль», давайте, по крайности, усы ваши на папильот возьмем.
— Я те возьму! — пригрозил Терентий. — Я те так в шею возьму!
— Бунт на борту? — зарычал Нарышкин. — Ну-ка стой смирно! Тысяча чертей!
Он сам смазал голову Терентия маслом, расчесав его волосы на купецкий пробор. Дядька стоически снес такое надругательство над собой, решив, очевидно, что принять «позор» из рук барина не так обидно.
Аскольд-Антон хмыкнул, увидев результат, но возражать, не стал.
— Не желаете «брекосе», можно было бы и «андулясьон», — буркнул он в сторону.
Труднее всего оказалось с Нарышкиным.
— Больно, сударь, внешность у вас приметная! Такую сажей не замажешь. Тут в корне менять надо! Пожалуй, мы вам, хе-хе-хе, пол переменим!
— Это еще зачем? — «Гроза морей» занервничал. — Нельзя ли как-нибудь попроще?
— Боюсь, нельзя, сударь! Мы из вас такую мадам сотворим, что будет не женщина, а смятение чувств!
— Может, хоть так от питья отобьется! — еле слышно сказала Катерина.
Антон-Аскольд долго вился вокруг Сергея, куделил непослушные вихры, укладывал волосы под сетку, примерял парики, оборачивал мощный торс молодого барина в креп и левантин, надевал шляпки, а в финале и вовсе устроил давно не знавшим бритвы щекам Нарышкина форменную экзекуцию, заставив «Грозу морей» заложить по огурцу за каждую щеку. Называлось это «брижка с огурцом».
— Опытные цирюльники всегда так поступают, — оправдывался Аскольд-Антон. — Так сподручнее-с, да оно и чище выходит!
— Ты бы мне под эти огурцы еще стопку поднес, — бурчал Нарышкин.
Однако результат превзошел все ожидания. Барыня из Нарышкина получилась что надо. Антон-Аскольд навел последний глянец, подрисовав над губой Сергея кокетливую мушку и спрыснув все творение ладиколоном.
— Ну и куда мне теперь в таком виде? На панель? — поинтересовался «Гроза морей»…
— Да! — подивился Терентий. — Не женщина, а прямо статской советник!
— Бери выше! — подхватил Степан. — Это ж пальцымейстер, навроде моей покойной Степаниды Платоновны. Она, голубушка, в плечах примерно такая же была, царствие ей небесное…
Начались поиски. Ежедневная толчея среди запруженных толпой улиц, по которым между домов, павильонов и ларьков, построенных и строящихся на сваях, текла пестрая людская река, состоящая из русских, татар, калмыков, чувашей, персов, китайцев и прочих представителей народов и рас, населяющих Европу и Азию. Терентий, прохаживаясь вдоль пристаней, искал пароход «кавурой масти», опрашивал судовладельцев, капитанов, грузчиков, матросов, извозчиков. Степан и Катерина искали похитителей клада у Макарьевской и Строгановских церквей, к перекресткам у которых сходились людские тропы. Нарышкин в сопровождении Аскольд-Антона вели поиски в ювелирных лавках, справлялись в гостиницах, обходили заведения антикваров. Антона-Аскольда пришлось приодеть поавантажнее, дабы с ним не стыдно было показываться в приличных местах.
Однако повезло одному Терентию. Через пять дней поисков он сумел отыскать пароход, на котором «банда Трещинского» прибыла в Нижний.
— Меня на него один баклан навел, — рассказывал Терентий. — Пришвартовались они недавно. Вся компания на берег сошла у Сибирской набережной. Сундуки сгрузили тож. Отбыли в неизвестном направлении, однако ж, с телитории города не выезжали. Я справлялся в пароходствах и на вокзале…
— Значит они точно здесь! — Нарышкин радостно потер руки. — Молодец, дядька Терентий!
— Тут они, — подтвердил Терентий. — И что еще не возьму в толк… Пароход у пристани торчит, а фрахту они не берут вовсе. А в эту пору его хочь пруд пруди. Заказов — навалом. Бери, не хочу, — дядька загнул узловатый палец. — Это раз!
— Что это значит? — насторожился «Гроза морей».
— А то и значит… Команда ходит, посвистывает и на остатный счет не сильно зашибается. При мне отказались брать выгодный груз до Казани. Однако же пары разводят исправно — кажний божий день. Это — два!
— Ну?
— Погоди, Сергей Валерьяныч, погоди, батюшка, не понукай — чай, не запряг еще!
— Команда на борту и на берег далее пристаней сходить не намеряется. Обеды им носят из трактира. Однако же пить не пьют. Блюдут себя в порядке — это получается «четыре» и «пять».
— Следовательно, что ж?
— А то, что, по моему разумению, приплатили им. И, видать, хорошо приплатили! Ожидают они, чтоб сняться с якоря в любой час. Пароход у них неказистый только с виду, а уж ходок — будь здоров! Такой об сю пору еще поискать!
— Ах, канальство, и верно! Что ж мы стоим, а вдруг они уже снялись? — Нарышкин хаотично зашагал по комнате, задевая предметы.
— Нет, это навряд ли. Я там землячка встретил. Служит половым в трактире, где команда столуется. Так, ежели что, он меня враз известит. Однако ж, пароход пароходом, а на ярманке в свой черед поискать не помешает!
— Ты просто гений, дядька Терентий! Надо было бы тебя по сыскной части пустить. Толк бы вышел, помяни мое слово!
Нарышкин потряс старого моряка за плечи и широко улыбнулся. — Ну что ж, други мои, мы с вами на верном пути! Будем продолжать поиски!
Шли дни. От ежедневного созерцания чужих драгоценностей у Сергея стояла не проходящая рябь в глазах. Кроме того, изображать из себя богатую купчиху было весьма утомительным занятиям. У Нарышкина от хождения в дамских туфлях нестерпимо ныли ноги, и к концу дня он еле волочился. Антон-Аскольд держался много бодрее. Поиски в ювелирных лавках ничего не дали. Торговцы книжными раритетами охотно желали помочь пышущей здоровьем барыне, которая к тому же проявляет интерес(!) к редким изданиям. Однако, когда «Гроза морей» напрямик спросил одного из торговцев, не предлагал ли кто-нибудь книги из библиотеки Ивана Грозного, это вызвало только смех.
— Что вы, сударыня! Мы об этаких редкостях отродясь не слыхали!
Неожиданная помощь пришла в лице хозяина гостиницы. Совершенно случайно выяснилось, что немец был большим любителем древностей и даже организовал вокруг себя археологическое общество, почетным председателем коего он же сам и являлся. Разумеется, герр Заубер был приятно поражен той внезапной тягой к археологии, которая обнаружилась у его вихрастого, румяного постояльца. Вечерами они стали просиживать допоздна в кабинете почетного председателя, набитом до отказа книгами, заваленном черепками, обломками античной керамики, рукописями и всем тем, что г-н Заубер льстиво именовал «образцами изысканий» и что фрау Заубер с превеликим удовольствием отправила бы в ведро, будь на то ее воля. Поскольку бдения сдабривались изрядным количеством домашнего пива, археология показалась Нарышкину наукой занятной и не лишенной притягательности.
— Иван Грозный, о, это есть гросс фигур! — восклицал Иоганн Карлович, (именно так звали немца), смахивая пивную пену с пышных седеющих усов. — Это грандиозный фигур! А библиотека, который он собирал, — это есть сокровищ! И знаете что, мой друг? — герр Заубер расплывался в хмельной улыбке и заговорщически подмигивал Сергею. — Я видел список книг из эта библиотека!
…Немец наслаждался произведенным эффектом.
— В свое время, перед тем, как перебраться в Россия, я законтшил университет в Дерпт, — продолжал Иоганн Карлович, вновь прикладываясь к пивной кружке.
— Вы конечно знаете, что давно, в шестнадцатый век, когда был Ливонская война… пленных привозиль сюда, в Россия, и расселяль по городам… Как это сказать… провинциальный. Так вот, мой молодой друг, сопровождал этих пленных воин, мой…как это есть…землияк. Его зваль Иоанн Веттерман — пастор из Дерпт. Московский царь показывал ему хранилище книг и даже просил сделать… как это называется… dolmetscher… толмач.
— Перевод! — догадался Нарышкин.
— Да, перевод, richtig! — немец обрадовался понятливости Сергея. — Герр пастор был, как сказать по-русски, «не лыком шит»! (Заубер говорил с сильным немецким акцентом, вот только теперь «шит» получилось у него, несколько на английский манер.) — Веттерман делал вид, что он толмач, а на самом деле он успел составить список книг царский библиотека. Я вас уверяю, мой друг, этот список есть уникален!
В восемьсот двадцать второй год, список… как это… откопал (немец засмеялся, брызгая пивной пеной)… да, именно откопал герр профессор наш университет Христиан Дабелофф. Он нашел список среди … schtadsarhiw… архивов города Пернов — это в Эстляндии. Кстати, герр профессор показывал этот уникальный документ свой самый способный утшеник, в числе который, быть ваш покорный слуга.
Иоганн Карлович благостно и самодовольно зажмурился.
— Вы только представьте, мой друг, царь имел… около восемьсот рукопись. Это же есть настоящий клад! Светоний, Тацит, неизвестный науке рукопись Вергилий… Эти книги, если они где-то сохраняться, есть бесценный сокровищ!
— Но, знаете, что интересно! — потирая руки от удовольствия, вспомнил Иоганн Карлович. — У история есть продолжений.
— Неужели? — удивился Нарышкин.
— Когда герр Дабелофф сделал копий список, он вернул ее в Пернов. Через некоторый время, подлинник документ имел намерений изучать другой профессор из наш университет — герр Вальтер Клоссиус. Случилось это, кажется, в двадцать шестой год… Я не очень хорошо помнить, но мне казаться, это был последний год мой обучений в Дерпт. Ах, юность! Славный молодой годы… Шамиссо, Клейст, Эйхендорф… Где вы, милый сердцу романтик?
— Ах, быть бы птичка мне — пропел бы я песенка много! Ах, быть бы птичка мне — нашел бы я к милой дорога! — растроганно продекламировал Иоганн Карлович и трубно высморкался в аккуратно расшитый незабудками платок.
— И что же случилось? — нетерпеливо спросил Нарышкин. — Что стало со списком?
— Когда герр Клоссиус приехал в Пернов, то документ там не оказалось, — вытирая нос, сообщил Заубер. — Его там не был, понимайте?
— Куда же он делся? — выразил удивление Сергей.
— Сие обстоятельство есть покрытое мраком! — ухмыльнулся Иоганн Карлович.
— А где, все-таки может находиться сокровище Грозного? — мысли о пропавшей библиотеке царя Ивана странным образом все больше и больше занимали Нарышкина.
— О, это есть еще большой тайна! — немец снова наполнил кружки. — Библиотека хотелось найти многие люди. Ее искали в Белокаменной… в Коломенское и даже в Вологда! Для Петр Первый ее искал Конон Иосипофф … как это… пономар. В Москве, в подземелий Кремль, он видел две комната с многими сундуки. Это был возле Тайницкий ворота. Забавно! — Заубер закудахтал, смеясь. — Тайник есть возле Тайницкий ворота!
— Действительно забавно, — согласился Сергей, успев подумать о своеобразии немецкого юмора.
— Пономар так ничего не нашел, — продолжал Заубер. — Он был хитрый бестий! Он пытался открутить себя от… как это… казенный недоимка…
— Так, по-вашему, библиотека и вправду существует? — перебил немца Сергей.
— О, молодость, она всегда есть отшень поспешить, — снова закудахтал Иоганн Карлович. — Этот вопрос, к вашему сведений, я задавать себе отшень давно.
Он сдул пену и, перестав смеяться, внимательно посмотрел на Сергея поверх своей кружки.
— Библиотека, мой друг, может быть и цел… если только она не сгореть от большой Московский пожар и не пропадать в земле насовсем!!!
Глава четвертая НИЖЕГОРОДСКИЙ БЕСТИАРИЙ
«Лиры нет у капитана
— Лишь бутылки да графины.
И при шуме урагана,
И при грохоте машины
Пью из этого стакана…»
(А. К. Толстой)«Вот поднялась стопудовая баба
Все выше, выше, медленно, не вдруг…
— Тащи! Тащи! — Эй, Федька держишь слабо!
— Тащи еще! — Пускай! — И баба: бух!»
(А. К. Толстой)Неделя за неделей проходили в поисках следов банды похитителей клада, а между тем, кончился май, началось лето и как-то незаметно и споро подобралось к своей середине. Ярмарка открылась, как ей и положено было — в известное число, со всею обычной торжественностью. С переносом во флачную часовню чудотворной иконы преподобного Макария, с подъемом флагов на обеих башнях подле часовни. С молебном, с колокольным неистовством, со светлейшими гостями, с огромным стечением торгового и глазелого люда всех статей.
Дни стояли жаркие. Ежедневные наблюдения за пароходом пока не приносили никаких результатов. Судно разводило пары с исправностью часового механизма, но никуда не двигалось от пристани. Его команда скучала на борту, лишь ненадолго отлучаясь в город. Капитан парохода, расквартировавшийся на третьей Пожарской, от избытка свободного времени запил уже к концу июня. При этом отдохновенный покой «речного волка» довольно часто и бесцеремонно нарушали весьма разнообразные посетители. К нему, например, регулярно заходили в гости Генерал-губернатор, Царь Морской, компания белых человечков и некая Синяя Бабушка.
Нарышкин застал капитана возлежащим на диване, в мятом форменном кителе. Закрыв глаза и слегка шевеля пальцами босых ног, капитан вел неспешный, тихий и, на взгляд стороннего наблюдателя, лишенный всякого смысла разговор. Судя по тому, что он обращался к своим невидимым собеседникам не иначе, как «господа», в этот раз у него гостили белые человечки. Все попытки привести речного волка в чувство не увенчались успехом. Капитан был человеком самоуглубленным, предусмотрительным и, как выяснилось, равнодушным к физическому воздействию. При виде количества емкостей из под горячительных напитков, несших почетный караул у изголовья его кровати, даже многое повидавший Нарышкин уважительно присвистнул и почесал шевелюру. Караулила капитана разношерстная компания в разной степени початых бутылок, в которой преобладали ямайский ром, заморское столовое вино ярославского производства за номером сорок и некая мутноватая жидкость, поставщиком которой, как рассказал словоохотливый коридорный, являлись квартиры «пятыя, семая и шашнадцатыя» из дома напротив.
«Василь Игнатьич только когда на реке грозен бывают. А как на берегу в запойность войдет — завсегда тихонький, как ерань, цветок в кадочке. Ты его протирай, да поливай, он тебе ни слова поперек, только головкой качает. А захотит поговорить, поговорит сам себе, стаканчик заглотит — и на бочок!»
— Хороший постоялец, — заметил Нарышкин, давая коридорному монетку.
— Тьфу, тьфу, тьфу, — согласился тот. — Вот только бывает, иной раз, в луну, задумчивость на него нападает. Он в таком разе на крышу в одних подштаниках лазает и все топочет взад-вперед по самому краешку! А то трубу облапит и стоит себе воет, навроде как по-собачьи. Мы спервоначалу пужались, да фелшер все растолковал. Мол, болезнь это, навроде чесотки, только незаразная. Вы, говорит, его не трожьте. Пущай на луну человек попялится! Что вам убудет? Сделает себе променаж, да и урезонится…
Так, что вы, сударь, через недельку к нему заверните. Глядь, к тому времени Василь Игнатьич в разум-то и возвернется!
Тем временем поиски на берегу продолжались.
Ежедневные походы по лавкам и заведениям ювелиров, вначале забавлявшие Нарышкина, теперь стали его раздражать. Трещинский как сквозь землю провалился. Палимый зноем город начинал давить на Сергея, и порою, ему делалось душно и гадко до того, что он чувствовал себя подлещиком на шкворчащей сковороде. Уже давно были осмотрены и даже пересчитаны башни Нижегородского кремля, лучшие магазины на Большой Покровке, а также умильно-провинциальная колоннада портика Дворянского собрания. Преклонены были колени пред могилой спасителя Отечества — Козьмы Минина, и поставлена свеча в знаменитой «золотой» Георгиевской церкви, построенной в стиле «барокко» на средства купца Ивана Пушникова… Все было не то!.. Сергею нравился дух погони, аромат большого приключения, но ежедневные безрезультатные «хождения в народ», да еще в крайне «стеснительном» женском платье угнетающе действовали на его психику.
При виде огромной водной массы, утекающей куда-то к горизонту, Нарышкину хотелось одного — сесть на первое подвернувшееся судно и отправиться на нем в Плавание. Перед его глазами постоянно мелькали названия пароходств: «Самолет», «Дружина», «Кавказ и Меркурий»… Однако пароходы с шумными, веселыми людьми один за другим отплывали и растворялись в сверкающей дали, а Нарышкин не садился ни на первый, ни на десятый, ни на сотый….
Степан с Катериной тоже порядком вымотались. Не унывали только Терентий, да, пожалуй, еще Аскольд-Антон. Один — ввиду большого заряда природного оптимизма. А другой получал карманные деньги из рук Сергея и, кажется, находил удовольствие, как от компании Нарышкина, так и от каждодневного созерцания ювелирных украшений и разговоров с приказчиками.
«Гроза морей» и бывший герой-любовник представляли собой презабавную пару и вскоре спелись совсем. Оба возвращались в гостиницу изрядно взямши, а раз явились в номера, подпирая друг друга плечами, при этом подол платья у Сергея был разорван, парик съехал набекрень, а измятую модную шляпку он держал под мышкой. Антон-Аскольд выглядел не краше. Его новый сюртук был заляпан грязью. На лысине виднелись следы губной помады. Фрау Марта Заубер, случайно повстречавшаяся с ними в коридоре, была сильно удивлена и долго не могла прийти в себя. Тем же вечером Сергей постучал в дверь номера Катерины и, мрачно сопя, вложил ей в ладонь изящный золотой перстенек.
— Вот… Это тебе… Хоть какой то прок будет… А то ходим, ходим и все без толку! Он собирался сказать что-то еще, но потом махнул рукой и, попеременно кренясь на оба борта, удалился восвояси.
На следующее утро, вернув голову на место, Нарышкин решил немного проветриться и пройтись по набережной. Скрепя сердце, он заставил себя обрядиться в опостылевшие дамские шмотки, мысленно пообещав, что сегодня, — ж точно в последний раз! Аскольд, которому явно хотелось выпить, увязался эскортом. День выдавался по-обычному знойный. Улицы, дома, павильоны, толпу между ними пятнали яркие солнечные лучи. Река пестрела парусами и сверкала золотом, как новый иконостас. Водная гладь, насколько хватало взгляда, кишела самыми разнокалиберными судами. Натружено сопя, пыхтя, и оставляя за собой борозды перламутровой пены, коптили небо пароходы. Сотни барж с угрюмой значительностью, не спеша, утюжили воды обеих рек, и должно быть, тысячи суденышек поменьше юрко сновали туда-сюда, торопясь по своим делам, и пересекали эти самые воды, в разных направлениях, будто обыватели базарную площадь в торговый день. А Ярмарка — вот она, была совсем рядом. Ее амбары, лабазы, склады и павильоны спешили проглотить в свои закрома огромное количество товаров, которые в самом скором времени должны были разойтись во все стороны белого света.
На пристанях тоже кипела жизнь. Причалы и подходы к ним распирало штабелями, тюками, мешками, ящиками и бочками. В тесных ущельях между горами этого добра, покрикивая, суетились приказчики. По сходням и мосткам, перекинутым с одной баржи на другую, проворно топали босыми пятками широкоплечие грузчики-волгари. Вдоль берега фланировала пестрая разношерстная публика. Слышались пароходные гудки, крики чаек, шум ручных лебедок, незлобная брань бурлаков, смех, песни, переливы гармошки.
— Эх ты, мать честная! — «Гроза морей» неожиданно для себя расправил плечи и сладко потянулся. Платье на нем затрещало по швам. — Взгляни, Рубинов, сколько уж ходим, а все равно чудесно, не правда ли?!
— Преизрядный пейзаж! — Аскольд прикрыл левый глаз и, откинув слегка назад плешивую голову, соорудил пальцами нечто вроде рамы. В нее он и разглядывал реку, многозначительно щурясь, будто увенчанный лаврами маэстро на выставке в академии художеств.
— Ты бы видел, господин консультант, что тут делается весной, в разлив, — улыбнулся Нарышкин. — Всю ярмарку заливает половодьем, а по улицам ездят на лодках, словно в какой-нибудь Венеции!
— Доводилось бывать в Венеции? — поинтересовался Аскольд-Антон.
— Нет… Не доводилось, — Сергей потупился. — Картинку видел в «Ниве» — Каналетто …художник тамошний…
— Ну, еще успеете набываться. Ваше дело молодое! — заверил консультант, утирая вспотевшую лысину.
— Как знать… — Сергей пожал плечами и потрогал треснувший рукав. — Как знать, куда тебя забросит судьба… Вот, к примеру, на этой пристани в Нижнем можно сегодня же сесть на пароход, рвануть на нем вниз по Волге и уже назавтра или послезавтра оказаться где-нибудь далеко… Ну, шут его знает где… Там, куда тебя река вынесет… И вся штука в том, что ты и не предполагаешь, в каком месте можешь выйти из этой реки… Здорово, а, Рубинов? Здесь, брат, целая философия!
— Здорово, — согласился Аскольд, хотя и без особого энтузиазма. — Сядешь тут, а с парохода слезешь в Саратове или в Царицыне… Эка делов! Небо повсюду синее… И чего в нее лезть, в реку эту? Потопнуть — вся недолга. Бульк — и поминай, как звали! А потому, я разумею, — сам виноват, не лазь на авантюрный рожон… Вот один древний римский грек хорошо сказал: дескать, не все, что происходит, это от судьбы, кой-чего и в нашей власти изменить!.. Да и к слову сказать, не люблю я, когда под ногами жидкая стихия, боязно как-то!
«Гроза морей» усмехнулся и слегка погрустнел, слушая рассуждения собеседника.
— А я люблю города, где много воды! — возразил он. — Вот в Киеве с этим знатно. Там красотища! Днепр, который чуден при тихой погоде… и Лавра… и Андреевский спуск! — Нарышкин мечтательно вздохнул. — Одессу люблю… Бульвары… каштаны. В Петербурге тоже хорошо! Люблю Неву и даже Фонтанку, хотя в ней воробью по колено…
— Воды, сударь, много в Симбирске! — поддержал разговор Аскольд. — А еще в Астрахани. Там этой воды хоть залейся… И арбузы… и осетринка, и вобла — такой шарман, что пальцы оближешь!
Сергей внимательно посмотрел на собеседника и наморщил лоб.
— Квасу что ли выпить? — сказал он с тоской…
Возле одного из причалов на условленном месте поджидал Терентий. Дядька сидел на канатном ящике и, попыхивая трубкой, чинно беседовал с каким-то босяком в матросской робе. Завидев прогуливающегося барина, он прервал разговор и подошел к Нарышкину.
— Ну что, сегодня опять мимо? — глядя на танцующих в реке солнечных зайцев, осведомился «Гроза морей».
— Да уж как повелось! — пожал плечами Терентий. — Пароход вона, у пирсу пасется. Команда, стало быть, в трактир подалась — обедают.
— М-да, — протянул Нарышкин, неприязненно разглядывая судно. — Ржавый весь. Оттого, должно быть, и «каурый»!
— Ты, батюшка, не гляди на ржавь-то. У его силенок в нутрях — дай бог каждому!
— Ну, будет! — отмахнулся Сергей. — Сейчас опять свои россказни заведешь…
Он зевнул, огляделся по сторонам и вернулся к своим прежним мыслям:
— Жарко сегодня… Зайти куда-нибудь, испить квасу холодненького… А лучше пивка! Ты как думаешь на сей счет, господин Рубинов?
— Оно было бы совсем даже недурственно! — с живостью отозвался Аскольд.
— И впрямь, что ли, заглянуть… — Сергей поворотился всем корпусом в сторону трактира.
— Куда же вы, сударь, — остановил его Терентий, помогая поправить сползающую на бок шляпку. — Нешто можно в дамском виде?!
— Ах, да, проклятье! — Сергей с отчаянья гулко топнул каблучком в мостовую. — Приличной девушке даже в кабак теперь не зайти!
— Выпейте оранжаду в лесторации, — дядька кивнул на открытую террасу плавучего ресторана, вдоль которой под полотняным тентом водили призывный хоровод белые столики. «Гроза морей» нахмурился и, уперев руки в бока, посмотрел на своего слугу:
— Чтобы ты, старый дурень, при мне так больше не выражался! Ишь, слово-то какое выискал — «оранжад»! Знаешь ли ты, что от этой дряни у меня случаются желудочные колики в печенках?! Знаешь ли, какие нехорошие сновидения бывают от этого самого «оранжада»? Не далее, как в среду, ввечеру, я выпил целую кружку этой гадости, а ночью, во сне, с полным ртом каменьев сдавал каким-то древнегреческим баранам экзамен по риторике!!! («Спасибо еще царь-батюшка перестал шастать в гости!», — подумал Сергей.)
Получивший бурную отповедь Терентий спрятал глаза, тогда как его барин, прищурившись, взглянул на синюю полоску тени, которую давал тент плавучей ресторации:
— Впрочем, думаю, можно пропустить по рюмочке холодненького «Шабли»… Ты как полагаешь, господин Репкин?
— Я бы уже и от водочки не отказался, с изморозью да под ботвинью-с, соответственно! — облизнулся лысый антрепренер.
«Гроза морей» одернул прилипшее к телу платье и, ухватив Аскольда под локоть, направился, было, к ресторации, но тут случилось неожиданное…
В толпе на пристани возникло какое-то движение, и она заколыхалась, как степной ковыль на ветру. Раздались крики, относящиеся, по-видимому, к тому, что происходило на воде.
— Куда прет?! — воскликнул Терентий, вскакивая и «козырьком» прикладывая ладонь ко лбу. — Нешто не видит! Что они там бельма запорошили!?
«Гроза морей» в свою очередь, «взяв под козырек», прикрыл глаза, но ничего не увидел — мешали яркие блестки танцующего в воде солнца.
— Что происходит? — поинтересовался он, вытягивая шею.
— Так ведь баржа то… — Терентий ткнул пальцем в сторону причала. — Канат, видать, у ей лопнул… Сейчас врежет! Эх, держись, «кавурый»!
Только теперь Сергей разглядел груженую тесом баржу, которая, полоща оборванный буксирный конец, с тупой неотвратимостью надвигалась на мирно прижавшийся к причалу пароход.
Вахтенный матрос на «кавуром» заметался по палубе, пытаясь что-то предпринять. Сложив ладони рупором, он стал кричать, призывая на помощь людей на буксирном пароходе, но столкновение было неотвратимо. Тяжелая баржа с грохотом ударилась в правый борт «кавурого». Пароход вздрогнул всем корпусом. Одна из вант, держащих мачту, лопнула, будто струна, и не успевший увернуться вахтенный был зацеплен ею и в мгновение ока выброшен за борт. Его выловили полуживого.
— Свезло еще, — констатировал Терентий. — Могло бы и напополам, как треску, разрезать! Между тем, толпа на пристани, привлеченная происшествием, сгустилась, будто грозовая туча. В ней замелькали полицейские мундиры.
Капитан буксирного парохода, тащившего злополучную баржу вниз по течению, явившись на пристань, пытался делать какие-то объяснения, чесал затылок и разводил руками, давая понять, как обескуражен и огорчен случившимся. Однако глаза у капитана были плутоватые и, чувствуя это, он старательно отводил взгляд куда-то далеко за Волгу.
— Что же он, паразит, не увидал, что буксирный конец оборван? — распихивая обывателей локтями и пытаясь пробиться к эпицентру события, негодовал Нарышкин.
— Все подстроено, — сказал чей-то сухой голос в толпе. — Эта авария, господа, чистейшей воды фикция! Сергей завертел головой, пытаясь разглядеть автора реплики, но того уже оттерли в сторону.
— А что, и впрямь! — согласился жавшийся рядом Терентий. — Чисто сработали бакланы! Пароходу теперь прямая дорога в доки на ремонт. А место у причала, стало быть, освободится. Вы, сударь, сами гляньте! Канат-то буксирный как есть обрублен, а не оборван… Да не напирай, православные!
— И что теперь будет? — хмуро спросил Сергей.
— Известно что, сударь мой, — Терентий указал пальцем на заметно накренившийся пароход. — Баста, голавлики, отплавались! Пробоина, извольте видеть, не маленькая. Это вам не прореха на портках. Тут ремонт надобен. Должно, в доки оттащат…
— Проклятье! Только этого нам не хватало! — «Гроза морей» в раздражении хлопнул себя по бедру.
— O! Dieu! Dieu, — томно подкатывая глаза к небесам, ужаснулся некий козлобородый субъект в цилиндре, находившийся в толпе рядом с Сергеем. — Мадам, вы такая… такая jolie femme — красивая женщина, а ругаетесь, пардон, как mouzjik!
— А еще могу и в морду дать! — не поворачивая головы, зло пообещал Нарышкин.
— Vieille sotte[9]! — испуганно проблеял козлобородый, поспешив затеряться среди обывателей.
— Слишком много внимания к этому пароходу, будь он неладен! — сказал «Гроза морей», оглядываясь на шумно галдящих свидетелей происшествия. — Сколько может длиться ремонт?
— Как знать… — Терентий пожал плечами. — За недельку — другую подлатают.
— А ведь, пожалуй, теперь навряд ли мерзавец Левушка захочет связываться с этой дырявой калошей. Так, дядька Терентий?!
— Коли капитал имеется, так он и другой пароход зарендует или укупит, — подумав, ответил дядька. — А то, глядишь, и этот еще сгодится.
— Ладно. Как бы там ни было, нам здесь больше делать нечего! Пора выбираться отсюда! — Нарышкин, решительно работая локтями, двинулся сквозь толпу…
И тут, пробив изрядную просеку в обывательских рядах и выдравшись из них на волю основательно помятым, со сползшей на лицо шляпкой, «Гроза морей» нос к носу столкнулся с «Анастасией Нехлюдовой»!
…Актриса смерила его ледяным, презрительным взглядом, поправила складки ослепительно-белого платья и прошипела, оттолкнув от себя: «Не видишь, куда прешь, корова стельная!!! Глаза дома оставила?!!!»…
Одарив совершенно опешившего Сергея уничтожающей усмешкой, «Анастасия» повернулась на каблучках и грациозно поплыла по пристани, миражом растворяясь в мареве знойного дня…
С минуту Нарышкин стоял на месте, будто двинутый рюхой, и только обалдело крутил головой, как бы ища сочувствия и совета у обывателей. Наконец, не найдя ни того, ни другого, «Гроза морей» взревел, как раненый кашалот, и кинулся в погоню…
Возможно, в этом месте, какой-нибудь дотошный бывалый китобой из какого-нибудь Нантакета мог бы выразить протест, заявив, что раненые кашалоты не ревут. Они, де, пускают фонтаны, выскакивают из воды, стоя на хвосте, и, барабаня плавниками или страшно клацая зубами, несутся в глубину со скоростью двенадцать узлов и увлекают за собой в пучину загарпунивший их вельбот… Возможно…
И, тем не менее, звук, который исторг предводитель компании «Нарышкин & Ко» из своей мощной груди, был сродни бурному поведению кита-подранка.
…Некоторые бывшие на пристани и по сей день вспоминают картину, невольными свидетелями коей им довелось стать. И если вы, благодарный слушатель, угостите такого очевидца сообразно с его интересами, то даже спустя много лет, сжимая дрожащими пальцами бокал, раскуривая трубку или раскладывая в ноздри порцию табаку, он расскажет вам… Он расскажет, потому что такое не забывается, не уходит из памяти с годами, помнится во всех необычайных подробностях. Он расскажет, как в тот злополучный день с жутким, леденящим душу воплем, расшвыривая по сторонам людей, животных и тюки с мануфактурой, со скоростью курьерского поезда вдоль Сибирской набережной неслась дородная женщина средних лет. Он расскажет, как эта самая женщина разметала одной левой рукой преградивший ей путь амбар восточного общества товарных складов, а большой отряд полицейских (скорее, даже полк!), вставший на ее пути, был бит и брошен в Волгу все той же левой рукой.
Правдивый очевидец, пожалуй, поведает вам о том, как, не найдя своей жертвы, эта самая женщина съела народную столовую, вынюхала табачный киоск, выпила павильон кавказских вин на Кизлярской улице, а потом еще долго сеяла страх и ужас на ярмарке: разрушила до основания каланчу пожарного депо; сорвала с якорей и потопила несколько пароходов общества «Лебедь»; передвинула мечеть на стрелке Мещерского озера и жонглировала товарными вагонами неподалеку от Сормовского завода…
На ваше удивленное замечание, что такого быть не могло, очевидец, пожалуй, обидится и замкнется, потому что ничто так больно не ранит памятливого рассказчика, как недоверие слушателей.
— А знаете, что ее остановило, ту женщину? — все-таки спросит вас поседевший очевидец перед тем, как окончательно умолкнуть. — Представьте себе, не пушки и не стянутые к городу по приказу губернатора войска, отнюдь!
Ее остановила туфелька. Каблук, знаете ли, сломался!
Глава пятая ЗАПАХ КУЛИС
«Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель,
Ты был ли, о свободный Рим?
К немым развалинам твоим
Подходит с грустию их чуждый навеститель.»
(Е. А. Баратынский)— Чертов каблук! — рычал Нарышкин, потирая вывихнутую голень. — Теперь еще, пожалуй, до конца дней своих придется хромать! И как только они ходят в этих своих проклятых туфельках! Если бы не этот сломанный каблук, я догнал бы мерзавку «Анастасию» и вытряс из нее всю душу!
«Гроза морей» несколько виновато оглядел компанию, собравшуюся на военный совет в его номере.
— Ну, уж и шуму ты, батюшка, наделал! — беззлобно усмехнулся Терентий. — Народу сколько передавил!
— Настоящий Самсон-богатырь в юбке! — возвышенно заметил успевший приложиться к бутылке консультант. — Господ полицейских вы здорово напугали!
Нарышкин отвел глаза, вспомнив, как «не разбирая брода» мчался вдогонку за фальшивой Анастасией по набережной, пока не наткнулся на компанию будочников, кои по случаю приезда высоких гостей на ярмарке расплодились, будто сорняки в нерадивом огороде. От растерянности служители закона даже не оказали сопротивления разъяренной даме…
— Какой там Самсон. Скорее уж, Аника-воин! — подумал Сергей.
— Наскочил на них как вихорь, — рассказывал Рубинов. — Только эполенты в разные стороны полетели…
— М-да, кажется, вышло слишком шумно, — пробормотал Нарышкин. — Ну, так ведь они меня остановить пытались!
— Где уж им такого мерина захомутать! — буркнул «в сторону» Степан, съежив кислую физиономию.
— Поговорим лучше о деле, — поспешил сменить тему «Гроза морей». — Так больше не может продолжаться! — заявил он. — По правде сказать, мне эти поиски уже поперек горла…
— И мне тож в кулак свистеть опостылело! — пожаловался Степан, не меняя прокислого выражения лица. — От толкучести людской уже мозоль на глазах. Катюха, вон, хоть с паперти мелочь горстями приносит!
— Вчера полторы рубли набежало! — похвасталась Катерина. — А в четверьх чуть было не прибили меня. У них там все места укуплены. Спасибо Терентий Иваныч заступились. Теперь не трогают.
— Надо что-то предпринять! — Нарышкин в раздражении стукнул кулаком по столу. — Опять же, немцы наши уже косятся. Заубер пивом угощать перестал. Я уж и не знаю, за кого он меня в этом проклятом бабьем наряде принимает!
— Ну, это еще полбеды! — влез в разговор Аскольд. — Сунуть им лишнюю копейку в карман — по новой залюбят!
. — Где уж там, лишнюю… уже шестую бусину в размен пустили! — нахмурился Сергей.
— Этак никаких жемчугов не напасешься! — поддержал Степан, покосившись в сторону бывшего антрепренера.
— Мне казалось, что найти Трещинского с его бандой не составит труда, а на деле выходит, что проще разыскать иголку в стоге сена! Актриса меня, разумеется, не узнала, но кто может сказать, когда она снова появится на ярмарке? Мы опять можем бродить там неделями и никого не найти! Пароход как предмет наблюдения отпадает, а из капитана вытрясти ничего не удастся, по крайней мере — в ближайшее время. Итак, мы возвращаемся к тому, с чего начали, то есть к топтанию на месте!
— Вот ежели бы их чем ни будь подманить, — подал голос Терентий. — Так, чтобы эти бакланы сами клюнули и к нам выползли. А мы их тогда вместе с кладом — цоп! За причинное место — и на солнышко!
— Черт возьми, а это мысль! — вскричал Нарышкин. — Молодец, дядька Терентий! Как же это я сам не догадался! Вот только чем мы их подманим…
Сергей принялся мерить шагами комнату.
— А на что он допреж клевал? — спросила неожиданно Катерина.
— Кто? — не понял Сергей.
— Ну, этот, который… Терещинский?
Нарышкин на минуту задумался, а затем хлопнул себя пятерней по лбу:
— Странно, что я не подумал об этом раньше. Он же театрал завзятый! Раньше не пропускал ни одной премьеры! Последние деньги за места в ложу платил! Театры! Вот где надо было бы его поискать, а теперь уж должно быть поздно… Он за это время, пожалуй, все уже пересмотрел!
Сергей посмотрел на полусонного консультанта, который сидел в углу и вяло обмахивал себя веером.
— Что у нас там с премьерами, господин Рубинов?
— В ближайшие дни не предполагается, — встрепенувшись, подал голос лысый антрепренер. — Мочальский-Волгарь уже сорвал все аншлаги и укатил в Самару. Купидонов здесь, но на него мало кто ходит. Да-с, пыл у него уже не тот! А Юрьев-Юрьский ожидается только в следующем месяце, когда пойдет самый наплыв-с… Шапито и балаганы, как я понимаю, не в счет?
— Разумеется, нет. Нужна театральная премьера, какой-нибудь новый спектакль или бенефис…
Аскольд-Антон вздохнул: — Откуда же его взять?
Нарышкин снова зашагал по комнате. Остановился. Достал из погребца бутыль вина. Сделал затяжной глоток…
— Мы сами можем создать премьеру!
— Как-с? — не понял Рубинов.
— Что? — в голос спросили Степан, Катерина и Терентий.
— Мы сами будем делать театр! Снимем сцену, расклеим афиши, дадим объявление в газету, а когда в день премьеры явится Трещинский, мы его тут как раз за причинное место и возьмем! — Сергей возбужденно потер руки.
— Да, но как все-таки быть с самим спектаклем? — Антон-Аскольд в недоумении пожал плечами. — Если соберется народ, а спектакля не будет, то, пожалуй, могут, хе-хе-хе, мордасы в битое мясо превратить! Вот, я помню, как-то в Ростове…
— М-да, об этом я не подумал, — Нарышкин потрепал вихры. Сделал новый глоток. — Когда соберется народ, мы можем вернуть деньги…
— Это делается заранее, сударь! Если вернуть деньги, когда соберется народ, то непременно скандал выйдет-с, — резонно заметил Аскольд-Антон. — Уж вы мне верьте-с! Непременно выйдет скандал, с мордобитием и полицией! Я на этих делах уже настрыкался!
— Постой, постой… Ты же говорил, что у тебя пьеса есть! Ну, что-то там про отраву и… галантерею.
Антон-Аскольд выдержал изрядную паузу, а затем скромно опустил голову.
— Пиеса называется «Отравленная туника, или наказанные пороки».
— Ну вот! — радостно воскликнул Нарышкин. — Как раз то, что нужно! Туники, фавны, потом эти… креатиды… прочая древнегреческая белиберда. На такое Трещинский клюнет наверняка!
— Вообще-то, действие происходит в Византии! — с некоторой обидой в голосе сказал бывший герой-любовник.
— Какая разница! Греция, Византия… Главное, чтобы мы могли попробовать сыграть это сами. Что там у тебя в пьесе происходит?
Антон-Аскольд достал со дна своего объемистого саквояжа пухлую растрепанную рукопись, откашлялся, с достоинством оглядел всех присутствующих и принялся рассказывать.
— Византийская империя разлагается!
— Это как разлагается, как рыба что ли? — задал первый вопрос дядька Терентий.
Автор пьесы не удостоил его ответом, лишь одарил холодным, колючим взглядом, промокнул вспотевшую лысину и продолжал:
— Во главе царствует император — базилевс Клавдий. Он стар, коварен и чрезвычайно сластолюбив…
Степан с тревогой взглянул на дочь и судорожно дернул кадыком.
— Супруга императора, Варения, влачит свои дни, изнывая от скуки и, хе-хе-хе, разврата-с, — Антон-Аскольд отодрал свои глаза от рукописи и почему-то тоже посмотрел на Катерину. — Императрица молода, хороша собой, но, увы — коварна, распутна и до крайности сластолюбива!
Молодой стратиг Кориандр, любовник императрицы. Он хорош собой, но, хе-хе-хе…
— Тоже, небось, с душком, верно? — попытался угадать Терентий.
— Сластолюбив сверх всякой меры! — подтвердил Аскольд-Антон.
Степан зашелся внезапным приступом кашля.
— Имеется также молодой, подающий надежды кентарх, из местных, по имени Передокл…
— А кто это такой — «кентрах»? — пытаясь подавить кашель, проявил заинтересованность Степан.
— «Кентарьх» — это когда на одну половину лошадь, а на остальную — мужик! — жизнерадостно пояснил дядька, имевший некоторое смутное понятие о мифологии. — Верно я говорю, сударь?
— Ну, в общих чертах, — согласился «Гроза морей». — Только надо говорить не «кентарх», а «кентарв»!
История, как впрочем, и греческий никогда не являлись коньком Нарышкина, в гимназии он еле-еле тянул на «удовлетворительно». Позже, будучи юнкером, Сергей предпочитал лекциям выездку, фехтование, а также кулачные бои. В этих дисциплинах он добился в свое время блестящих результатов, но теперь, искоса поглядывая на Катерину, почему-то пожалел о пропущенных занятиях.
Тем временем Рубинов продолжал.
— Несмотря на молодость, кентарх доблестен, храбер и полон всяческих достоинств, но он самозабвенно любит императрицу…
— И этот баклан туда же! — хмыкнул Терентий.
— Это как же он ее любит, ежели он — конь?
— Тебе же объяснили, дурья твоя башка: лошадь он только на одну половину, а на другую — мужик как мужик! — внес ясность дядька.
— Которой же половиной он ее… любит? — поинтересовался Степан, встревожено покосившись на дочь.
— Много еще народу-то? — зевнул Нарышкин.
— Ну… еще имеются царедворцы, охлос, народ то есть, рабы, воины-дорифоры — четверо! Факиры, пара извозчиков… мн-э-э… возничих… потом, еще танцовщицы, лошади, леопарды… пожарные…
— А пожарные зачем? Кормить леопардов?
— Нет, пожарные на случай пожара! — глаза Аскольда возбужденно блеснули. — В четвертом акте предполагается гибель империи, так я решил, пускай уж они за кулисами покараулят. Мало ли что-с… хе-хе-хе…
— Разумно! — одобрил Сергей. — С размахом писано, господин Рубинов.
— Да, чуть не забыл! — воскликнул ободренный автор. — Из главных есть еще стратопедарх Архилох и немой раб Фобий, а для массовки — хор мальчиков-кастратов.
В возникшей вслед за этим сообщением неловкой тишине послышался взволнованный голосок Катерины:
— Господи, а мальчики-то чем ему не угодили?
— Сратопедарх этот… чем занимается? Гальюны чистит? — предположил Терентий.
— Страто-педарх за припасами для войска царского присматривал, ну и прибирал к рукам, чего плохо лежит, — это я в приложении к «Ниве» вычитал, там про гибель Византеи много чего прописывалось. Жуткие дела творились, все друг дружку подсиживали, ядами травили, пытками терзали, прелюбодейничали вовсю, вот я и вдохновился.
— Недурно, недурно, — похвалил Сергей. — Действительно, повод для вдохновения основательный. Есть, правда, некоторые сомнения насчет юных кастратов… Страто…м…м…педарх тоже может быть лишним… Как-то это… Ну, вы понимаете… А так — недурно пущено… М-да.
— И что же все эти люди делают? Хотелось бы в общих чертах узнать, что собственно происходит?
Антон-Аскольд тряхнул стопкой исписанной бумаги.
— Императрица самозабвенно влюбляется в красавца Кориандра. Но он в первую голову жаждет власти и трона, а уж потом все такое… пардесю… парлефрансе…
— Малый, видать, не дурак! — встрял Терентий. — А что ж этот… как бишь его, черта… Ну тот, который полуконь… Передохл?
— Передокл самозабвенно влюбляется в императрицу.
— М-да, — неопределенно сказал Нарышкин. — Нравы в этой Византии, как я погляжу, были и впрямь вольные.
— А куда ж царь-то смотрит!? — развел руками Степан. — Это ж не дело, коли бабы по конюшням шастают!..
— Император влюбляется в Кориандра…
— Вот это страсти! — с некоторым дрожанием в голосе произнесла Катерина и всплеснула руками.
Рубинов откашлялся и, не обращая внимания на частые реплики, продолжил пересказ своей пиесы.
— Старый стратопедарх строчит донос императору на Варению и Кориандра. Ну, что они, хе-хе-хе, тайно встречаются в храме Пантократора.
— Как реагирует Пантократор? — покосившись на Катерину, спросил Нарышкин.
— Он тут ни при чем, зато император повелевает схватить любовников и в участок… Ну, то есть… заточить их в башню! Передокл, когда узнает об таком коварстве, в первую голову, посылает в темницу своего черного раба Фобия и подучает его, как и что делать. Фобий убивает стратопедарха отравленным кинжалом и освобождает Кориандра и Варению, а потом убегает в горы, чтобы поднять там восстание рабов — наподобие Спартака, только еще пуще!
— Ух, ты! Молодец ефиоп! — похвалил Терентий. — Даром, что черномазый, а свое дело знает!
— Подождите, дальше еще хлеще будет! — пообещал Аскольд-Антон. — Непокорного раба излавливают, секут, конечно, а потом — на кол! Но перед смертью он предрекает императору скорый конец царствия. Все, говорит, взвешено, семь раз отмерено… и отрезано. Всем, мол, крышка!
— Как же он говорит, коли он немой? — придрался Степан.
— Учел! Я учел и это. Он пишет своей кровью на стенке каземата.
— Жалости какие! — хлюпнула носом Катерина. — Что ж дальше-то было?
— Передокл признается Варении. Люблю, говорит, нет мочи! Нет сил, говорит, терпеть! Это, мол, по моей указке вас… того… освободили. А Кориандр тебя, дескать, не любит, а любит он власть и желает императора сверзить! Сам на трон усядется, посмотрим тогда, как вы запоете! Ну, императрица, сначала: я, мол, не верю и все такое прочее. Но потом соглашается. Гад, говорит, он! Знала, что гад! Просто проверить хотела! — Рубинов хлебнул вина и продолжил:
— Видя такие дела, Кориандр, решает извести соперника. Он вливает Передоклу в ухо яд, и тот помирает в страшных корчах, но перед тем, как помереть, сообщает Кориандру все, что об нем думает, а потом бросается на меч и все-таки кончается с именем возлюбленной на устах!
— Надо было дать ему овса порченого, он тогда б быстрее околел! — со знанием дела вставил Степан.
— Тем временем, — продолжал Рубинов, — Кориандр тайком пробирается в палаты к императору под видом бродячего факира. Он приносит с собой в корзине ядовитую змею-анаконду. Змея кусает Клавдия за пятку, и он помирает в страшных судорогах.
— Неужто так просто помрет и все? — спросил Нарышкин, которого начал занимать сюжет пьесы.
— Ну, не то, чтобы просто… Весь третий акт. Яд действует медленно, так что у императора времени навалом. Он бродит по дворцу, причитая и охая, потом раскаивается в своих делах, обличает недостатки в византийском государстве… прощает всех, соборуется и отходит со словами «пол царства за коня!»
— Знакомые какие-то слова… А зачем это ему лошадь перед смертью приспичила? — поинтересовался «Гроза морей».
— Бредит, болезный! — пожалел Степан. — Где ж это видано, чтоб за коней такую цену ломили?
— Нет, что-то ты тут недокумекал! — навел критику Терентий. — Ну, и что, удается ему с конем повидаться?
— В том-то и штука, что нет! Конь к тому времени уже околел.
— В страшных судорогах?
— Безусловно! Императору приносят только его череп. Видя такие дела, Клавдий решает последовать примеру коня и приставляется!
— Наконец-то! — облегченно выдохнул Сергей.
— Но и это еще не все! Кориандр занимает место императора и показывает всем, где раки зимуют. Ну, то есть сам становится тираном еще пуще прежнего. Варения в знак уважения преподносит ему красивую тунику, ну, рубаху до пят, если по-нашему… На, мол, миленок, носи на здоровье, смотри, не замарай! Кориандр радуется, надевает тунику, и вот тут-то вся штуковина! Туника отравлена! Да-с! Самозванец покрывается ядовитыми прыщами…
— И помирает, естественно, в страшных мучениях!? — догадался Сергей.
— Само собой! Но перед тем, как скончаться, он поджигает дворец, город и все вокруг! Империя гибнет в одночасье! — В глазах Аскольда вновь появился нехороший блеск.
— А что ж императрица? С ней-то что сталось?
— Варения бросает в лицо Кориандру свои упреки, изобличает всю его подлую сущность и с последними репликами своего монолога выбрасывается из окна!
— И разбивается?
— Вдребезги! — Рубинов наслаждался произведенным эффектом.
В наступившей тишине слышны были только сдавленные всхлипывания Катерины.
— Да, наворотили ребята дел! — хмуро произнес Степан.
— Что ты! Трагедь, одно слово! — подтвердил Терентий.
— Пьеса серьезная, — согласился Нарышкин. — Тут есть, где всеми потрохами развернуться.
Он достал новую бутыль вина, откупорил ее и налил себе полный бокал.
— Ну что ж, я думаю, мы будем это ставить. Подлец Левушка точно на такое клюнет! За успех нашего предприятия! За великое искусство театра!!!
Сергей залпом выпил бокал до дна и с размаху хлопнул его об пол.
Глава шестая СЦЕНЫ ИЗ РОМЕЙСКОЙ ЖИЗНИ
«Если нежданное горе внезапно душой овладеет,
Если кто сохнет, печалью терзаясь, то стоит ему лишь
Песню услышать служителя Муз, песнопевца о славных
Подвигах древних людей, о блаженных богах олимпийских,
И забывает он тотчас о горе своем; о заботах
Больше не помнит: совсем он от дара богинь изменился».
(Гесиод)Две последующие недели, занятые подготовкой к спектаклю, для компании Нарышкина пролетели, как один день. Сергей даже не подозревал, какое обременительное и хлопотное дело он затеял. Все началось с распределения ролей. Если кандидатура Катерины на роль императрицы Варении даже не обсуждалась, то с остальными персонажами пьесы начались сложности. В ранг императора возвели дядьку Терентия, но тот, узнав, что тирану полагается быть гладко выбритым по византийской моде, наотрез отказался сбривать свою бороду, да и текст роли был для него слишком велик и непонятен, не говоря уж о том, какого труда стоило заучивать его. Выспренний монолог императора Клавдия, начинавшийся почему-то словами:
«Когда б мы жили без затей, Я б перестроил Колизей, А также термы Каракаллы, Но этого мне было б мало. И я б в порыве богоравном Народ свой сделал благонравным!»Терентий комкал и жестоко перевирал. На слове «Каракаллы» он непременно спотыкался и заправлял туда лишний слог. Получалось у него «Каракаккалы», что выглядело не совсем благозвучно. Кроме того, император, который собирался сделать свой народ «благондравным», особенного доверия не вызывал.
Когда выяснилось, что вся пьеса написана в стихах, Нарышкин проявил уважение к титаническому труду Антона-Аскольда, однако же, не лишенный сам дара к рифмоплетству, довольно критически отнесся к некоторым местам эпоса г-на Репкина. Особенно его возмутило место из наставления Передокла своему черному рабу Фобию:
«Кинжал ты в грудь ему пырни И там три раза проверни, Чтобы треклятый Архилох Собачьей смертию подох.»— Это не речь благородного мужа, это пособие для начинающего живодера, — оказывал Сергей Аскольду.
Автор упирался и отстаивал свою точку зрения общим падением византийских нравов, где и благородный, на первый взгляд, муж на деле мог оказаться полнейшей скотиной.
В одном из монологов императора Нарышкин усмотрел признаки плагиата:
«Кто не помрет — всех убивец тайный! Повсюду торжествует страх. И все тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые в глазах»…— Что это еще за «кровавые мальчики»? — возмутился Сергей. — Я где-то слышал уже эту фразу! Рубинов, ты у кого этот текст состриг?
— Что значит «состриг»? — закипал возмущенный автор. — Император тиранил и старых, и малых. Неудивительно, что некоторые стали ему мерещиться!
— Это что, те самые мальчики из хора кастратов? Он что, изверг, целый хор…того?..
— А что вы хотите, — оправдывал императора Антон-Аскольд. — Какие были нравы, империя-то почти разложилась!
«Живая власть плебеям ненавистна. Они любить умеют только мертвых!»— Нет, Аскольд, это уже слишком. Давай переписывай. Это я точно где-то читал, — настаивал Нарышкин. — Признайся, передернул у Шекспира?
Репкин с пеной у рта доказывал обратное. В конце концов, стороны сошлись на том, что переписывать сценарий времени нет, и поэтому решено было оставить все как есть, только немного подсократить текст в особо спорных местах и в целом урезать пьесу до двух актов. Аскольд заламывал в отчаянии руки, но Нарышкин был неумолим.
— Не потянем такой воз, и точка! Ты посмотри, какая у тебя кипа бумаг, и это все надо выучить? Не успеем! У нас же актеры грамоты не разумеют! Вымарывай половину!
Первым делом в корзину полетела массовка. Пришлось отказаться от возниц, факиров, копьеносцев — дорифоров, большей части рабов и танцовщиц. Последних, впрочем, Нарышкин хотел оставить, заявив, что с удовольствием предпочел бы любым монологам Рубинова добрую полковую мазурку. С леопардами тоже пришлось расстаться. В заезжем зверинце подобных тварей не оказалось. Были только волки, медведь, павлин, дикобраз, дряхлый лев, гиена и «презабавный зверь макак-шинпанзе который публике свою вторую личину кажет».
Затем Нарышкин жесткой рукой прошелся по монологам главных героев, убрал все несущественные места, вымарал из пьесы длинноты и описания, напрямую не связанные с основной линией сюжета. И хотя Антон-Аскольд был вне себя от такого отношения к своему детищу, получилось даже недурно. Пьеса, по выражению Нарышкина, «обрела нужный резон и романтическое местоположение». Покончив с текстом, вновь стали разбираться с действующими лицами. Терентия как не справившегося с ролью тирана Клавдия понизили в главные стражники и палачи. Заодно именно он должен был терзать непокорного раба Фобия. Дядька снова пытался закандрычиться, заявив, что «заплечных дел мастер ничуть не лучше императра с бабьим именем». Сажать «ефиопа» на кол он отказывался наотрез. Пришлось внести изменения в программу истязаний мятежного раба. Сошлись на паре дюжин линьков, которых Терентий, скрепя сердце, согласился всыпать чернокожему. В противном случае, Нарышкин, успевший-таки прочесть купленную в Москве книгу про пиратов, грозился протянуть дядьку под килем или заставить его «прогуляться по доске».
Степана назначили коварным стратопедархом Архилохом, («Архиолухом», как съязвил дядька Терентий). Благо текста у того почти не стало (с легкой руки Нарышкина), донос свой он строчил на папирусе, а умирать в страшных корчах от удара отравленным кинжалом у Степана получалось вполне похоже. Репетировать эти самые корчи он и начал сразу же, как за ним утвердили роль жреца. В результате такого серьезного знакомства с образом он намял себе бока, извалялся в пыли и до смерти надоел своими предсмертными воплями всей труппе.
— Батюшка, будет вам юродиком-то прикидываться! — отряхивая отца, серьезно сказала Катерина. — А то ведь, поди, в привычку войдет!
— А у него к юродству талан! — саркастически заметил Терентий. — Вона, как выше головы ноги таращит!
— Эпатантно! — согласился Аскольд. — В этом что-то есть!
Роль черного раба взял на себя Нарышкин, что сулило некоторые преимущества. Во-первых, он изменялся до полнейшей неузнаваемости, и наблюдать за зрительным залом в таком обличии ему было проще всего. Во-вторых, его не могли опознать и по голосу — в соответствии со сценарием раб был нем. И, в-третьих, Сергею не нужно было учить текст, а следовательно, он «развязывал себе голову» и в свободное от репетиций время мог заняться организационными вопросами, кои влетали уже в кругленькую сумму.
Прежде всего, нужно было позаботиться о костюмах. Роскошные византийские одеяния пошили в полуподвальной мастерской у расторопного еврея Шмулика. Жидок взял недорого из любви к искусству, но потребовал столько материи, как будто собирался обшивать целый легион.
Более всего этим обстоятельством возмущался Терентий.
— Парча, однако ж, кусается! Четырнадцать рублев аршин — виданное ли дело! Купчина просил по пятнадцати, ну дык я рублишку с каждого аршина у него оттяпал. Такой кровосос! Верно люди говорят: «Как купца не величай, все равно — пятак на чай!» Вот приспичило вам, сударь, из парчи! Небось, обошлись бы и сатином.
Нарышкин, увлекшийся постановкой, тут же поставил дядьку на место.
— Терентий, ты что же хочешь, чтобы у нас император в посконной одежонке по Константинополю расхаживал? Должна же быть хоть какая-то правда искусства. Сказано «из парчи» значит из парчи!
Сандалии «ромеям» смастерил вечно пьяный сапожник Федор из будки напротив гостиницы. Столь непривычная к его рукам, обувь вышла гораздо более античной, чем требовалось. Создавалась полная иллюзия того, что сандалии эти плелись на заре человечества существом, которое только что слезло с ветки и встало на задние лапы, а посему не успело ознакомиться с сапожным делом.
Нарышкин, примеривший изделие Федора, в целом, сандалии одобрил, но, немного походив в них, заметил, что двигаться на четырех конечностях значительно удобнее. Ромейские мечи выстругал столяр Михеич, он же изготовил трон для Клавдия и скамьи, на которых должны были возлежать герои представления во время оргий. Михеич делал все на славу, хотя и топорно, но добротно и прочно:
«Ты только глянь. Это ж не кресло царское, это ж гранит кремневый! Оно ж тыщу лет простоит, и хрен что станется!»
Прочий реквизит — лавровые венки, кубки, поддельный виноград, а также чучело ядовитой змеи-анаконды в виде пожарной кишки — нашелся в кладовых местного театрика, на сцене которого Нарышкин и собирался представить публике шедевр г-на Рубинова. Здание, ангажированное Нарышкиным, некогда принадлежало помещику Шуховскому, имевшему свою крепостную труппу. По смерти барина театр у его наследников выкупили купцы Распутнов и Крымов. Бывшие крепостные актеры, которым дали вольную, играли на этой сцене еще лет десять, но ко времени затеи Нарышкина театр Шуховского уже утратил свой первоначальный блеск. В Нижнем появилось здание нового храма Мельпомены. Его зрительный зал вмещал почти две тысячи человек, и все заезжие знаменитости представляли свои постановки здесь. Нарышкину было не до жиру, поэтому он по совету Аскольда остановил свой выбор именно на старом театре. Загвоздка состояла лишь в том, что как раз накануне этого решения ничего не подозревавшие купчины Крымов и Распутнов перепродали здание некоему коммерсанту, которого с интимной иронией оба называли просто «Ромой».
— Рома согласится сдать вам в аренду театр, — пряча усмешку в усы, дружно сказали Сергею бывшие владельцы. — Этот ползучий гад своей выгоды никак не упустит!
Театром было мрачное неуклюжее строение, насквозь пропахшее ламповым маслом, с белеными стенами, почерневшими от копоти, с нелепыми колонами посреди зала и с бархатным занавесом, вместившим в себя едва ли не пять пудов пыли. Партер был рассчитан на сто человек, верхняя галерея — а двести, в двадцати семи ложах могли разместиться еще пятьдесят наиболее состоятельных зрителей.
— Это бы нам подошло, — согласился Нарышкин. — Просто и без затей. Берем!
Однако новый владелец театра сразу запросил двадцать пять процентов от сборов и пятьсот рублей за аренду — сумму весьма изрядную. Полное имя «ползучего гада» было Роман Фахрутдинович Мосьпан — Тер-Хачатрян.
— Вполне приятное имечко! — оценил Нарышкин. — Надо взять на вооружение.
Господин Тер-Хачатрян представлял из себя маленький, пучеглазый, с большой проплешиной шар в синей, почти волочащейся фалдами до земли фрачной паре при золотистом жилете; напыщенный, как верблюд, и весьма скверно изъясняющийся по-русски.
— Дэньги давай хорошо! — веско заявил Рома, выпячивая нижнюю губу. — Ка мнэ тут великие люди хадить будут. Театр хатеть сматрэть, патом мясо хатеть кушать, шашлык-пахлава… Будет дэньги, будет театр!
— И верно «гад»! — решил Сергей, мысленно согласившись с характеристикой Крымова и Распутнова.
Из дальнейших переговоров выяснилось, что Рома планирует часть здания обратить в ресторан с кавказской кухней (уже вовсю шел ремонт). Что делать со зрительным залом г-н Мосьпан пока не решил, а потому предложение Нарышкина заметно заинтересовало его. Маленькие глазки коммерсанта вспучились и забегали по мокрому от пота лицу, все время норовя соскользнуть к переносице.
Пошел торг, как на восточном базаре. Напыщенность разом слетела с нового владельца театра. Он вертелся, размахивал руками, брызгал слюной, пытаясь навязать свою цену, и вообще вел себя так, будто продавал персики или абрикосы.
— Пятнацыть прасэнт и чэтырэ сотня! Не жалэй! Великие люди прыдут, будут харашо сидеть шашлык!
При этом Рома не говорил, кто именно должен осчастливить театр и будущий ресторан своим посещением. Однако именно с Великими мира сего честолюбивый восточный коммерсантик связывал определенные гастрономические надежды. Монархи, духовные лидеры, политики, ученые, деятели культуры и просто мильенщики станут ломиться в ресторацию, имея одну единственную цель: откушать его шашлыка. В этом Роман Тер-Хачатрян был абсолютно уверен.
— Дэсять прасэнт и двэстиписат рублэй!
— Сказку про колобка помните-с? — тихо спросил Нарышкина присутствовавший на торгу Аскольд. — Он самый колобок и есть!
Наконец, сошлись на пяти процентах от сборов и двухстах рублях арендной платы. Рома светился довольством.
Знал бы почтенный Роман Фахрутдинович, в какую историю он вляпается, ни за что бы не пустил на порог антрепренера Рубинова вместе с его спутником — розовощеким, вихрастым меценатом из Орла пожелавшим сохранить инкогнито и отрекомендовавшимся просто «Занзевеем Адаровичем Маркобруном».
Фамилия эта вызвала у Ромы неподдельный интерес:
— Э-э, я Маркарон всэх знаю, — сказал он, вглядываясь в лицо «мецената». — Абрампэйсах тоже знаю… Тэбя не знаю!
— Ты Баку был? — спросил он у Нарышкина, вытирая физиономию. — Баку харашо!
— Мы, сударь, орловские… — с достоинством ответил «Гроза морей».
— Арол тоже харашо-э! — согласился Рома, протягивая Сергею свои пять розовых сарделек. — Па рукам!
Когда все формальности были улажены, все взятки полицмейстеру, начальнику местной пожарной охраны и санитарного ведомства были даны, встал вопрос об афишах и объявлении в газету «Нижегородские Ведомости». Текст согласовывали едва ли не полночи. В конце концов Аскольд, находящийся в растрепанных чувствах, вымучил из себя:
«Впервые в Нижнем Новгороде, проездом в Москву прима театров Флоренции, Неаполя и города Триест несравненная Франческа де Милано в русской постановке весьма откровенных сцен из византийской жизни:
„Отравленная туника или наказанные пороки“.
Небывалое кипение страстей, прямо на сцене! Картины рисующие падеж нравов и обнажение чувств возвышенной красоты!
Заняты лучшие актеры!
Бенефисный показ спектакля состоится в бывш. театре Крымова. Антреприза А. Рубинова.»
Нарышкин даже присвистнул:
— Ну, Аскольд, не ожидал! Брависсимо! Развернулся всеми потрохами. Размазал так, что не придерешься. На такое у нас не только Трещинский клюнет, весь город повалит! В проходах будут стоять. Цену непременно надо повысить. За «итальянку» я с ложа меньше трех рублей не возьму!
Когда дело дошло до репетиций, пыл компаньонов поугас. Выяснилось, что двух героев-любовников — Кориандра и Передокла — играть некому. Вначале Аскольд-Антон возжелал сыграть обоих молодых людей сам.
— Я буду, как двуликий Янус. Един в двух ипостасях, хе-хе-хе, это даже презабавно-с, в этом есть некий куртуаз и тайный смысл.
— Ты в зеркало давно гляделся, геройский любовник? — критически заметил Терентий, кивнув на чахлые усишки, глянцевую лысину и пламенеющий нос бывшего антрепренера, но голос старого моряка не был услышан компанией. Рубинов довольно бойко барабанил тексты обоих ролей, поочередно появляясь на сцене, говорил то за одного то за другого, благо лучше него никто не знал пьесы, однако, когда дело дошло до вливания Кориандром яда в ухо сопернику, получалась какая то слишком уж фантасмагоричная картина. Аскольд должен был разделаться сам с собой, это уводило стороннего наблюдателя в такие психологические дебри, что Нарышкин в конце концов хлопнул в ладоши и сказал:
— Все хватит паясничать. Сам же видишь, ничего путного не выходит. Играй-ка ты, Антоша, императора. У него текста больше всех, а на роли этих балбесов-любовников найми кого-нибудь из своих старых знакомых. Небось, тут у вас полно безработных актеров. Да, и еще про кордебалет не забудь, без него на сцене скука смертная. Ты уж возьми пару рабынь поавантажнее. Ну, и этих, как их… «дурифоров» тоже парочку прихвати. Все поживее выйдет!
На следующий день Рубинов привел нужных людей. На роли героев-любовников он пригласил комическую пару — господ Хондрика и Жихарку. Оба комика оказались на редкость глупыми, потрепанного вида субъектами с бегающими глазами и недельной щетиной на обрюзгших физиономиях. В свое время они подвизались в балагане грека Каприотиди, но были вынуждены уйти из-за расхождения во мнениях на оплату актерского ремесла. Так, по крайней мере, объяснил положение вещей Антон-Аскольд. На деле же одного взгляда на этот дуэт было достаточно, чтобы понять г-на Каприотиди. Нарышкин, бегло осмотрев комическую пару, тихо матернулся и отозвал Рубинова в сторонку.
— Как же ты, Аскольд, собираешься этаких пивогрызов на серьезные роли брать, ежели их даже из балагана выперли?!
— Так балаган же шутовской, а мы их на трагедию берем. Может быть, их потому из комедии и того… удалили, что в них таланты трагиков зарыты-с!
— Видно, глубоко зарыты, — внимательнее оглядев комический дуэт, заметил Сергей. — Пожалуй, что не дороешься! Вон, брагой от обоих аж за версту несет!
— Ну, сударь, я бы на вашем месте не больно-то привередничал, — тихо сказал Антон-Аскольд. — У Вас, извините-с, у самого амбре того-с… будь здоров!
— Ладно, поступай, как знаешь, — Сергей поморщился и махнул рукой. — Лишь бы ничего не сперли да слова помнили.
Жихарка и Хондрик, получив свои роли, преступили к репетициям. Рабынь за умеренную плату согласились играть две опрятные, тугие, крепко сколоченные барышни — Полина и Глафира. Обе работали в вышеупомянутом балагане Каприотиди наездницами-амазонками под сценическими именами «Афродита» и «Венера». На роль стражников-дорифоров взяли трех дюжих ребят из пожарной команды, этим заодно решили и вопрос безопасности в момент гибели империи.
Начались бесконечные читки, репетиции, выстраивание мизансцен и разбор эпизодов. Аскольд-Антон требовал строгого следования тексту до буквы. Получалось не всегда. Особенно у Хондрика с Жихаркой. Двое страдающих непроходящим похмельем паяцев никак не могли заучить свои монологи дословно. А поскольку суфлера не предполагалось, Аскольд нервничал и не раз срывался на крик:
— Ну простой же текст! Неужели невозможно запомнить!
«Моя любовь, моя отрада! Чего еще от жизни надо? Лишь быть с тобою вечно рядом, ласкать тебя рукой и взглядом…»— Ну, господа, это ведь проще пареной репы! Или вот этот кусок, я к вам, господин Жихарев, обращаюсь! — Аскольд порывисто вскакивал и, размахивая рукописью, выбегал на сцену.
«С тобой, моя императрица, Греховной страстью насладиться Я пущенной стрелой спешу. И вот уже грешу… грешу!»— Последние слова нужно произносить с чувством! — кричал бывший антрепренер. — Вы, Жихарев, должны передать всю силу своего вожделения! Империя погрязла в сладострастии, а у вас рожа кислая, будто вы лимон сожрали-с. Посмотрите, какая у нас императрица! Вы должны вожделеть ее всю — с головы до ног! А вы, извините, стоите, как обухом ударенный!
Катерина при этих словах смущалась и краснела, как маков цвет. Степан шипел и ерзал, будто на сковороде, но обязанности жреца проявлять до времени свое раздражение не позволяли.
К началу второй недели репетиций дело худо-бедно пошло на лад. Тексты кое-как заучили, отработали выходы на сцену и последовательность действий, правда, двигались все несколько хаотично, часто натыкаясь друг на друга. Аскольд извелся.
— Ну что вы ходите, как деревянные! Кто так преклоняется?! Вы, сударыни, как будто грибы ломаете, — кричал он рабыням. — Это вам не жеребцов своих объезжать, это театр, тут грация нужна-с!
Нарышкин же втянулся в процесс настолько, что, казалось, позабыл, для чего вся эта круговерть затевается. Поиски банды Трещинского отошли на второй план, теперь сам спектакль занимал все его помыслы, и даже жажда отомстить «проклятому полячишке» поутихла. Со своей ролью он справился быстро, благо она была без слов. Сергей картинно всаживал деревянный кинжал в бок Степану-Архелоху, задиристо бился на мечах с пожарниками-дорифорами и трагически мычал под пытками палача-Терентия. Господин Тер-Хачатрян зачастил на репетиции, подолгу в глубокой задумчивости просиживая в зале. Вскоре к нему стали присоединяться два таких же низкорослых небритых субьекта — Турокул и Жырокул. В отличие от пучеглазого Ромы, его телохранители, наоборот, почти не имели глаз. То есть, глаза, конечно, были, но они сидели так глубоко в своих щелях-амбразурах, что их цвет и выражение можно было скорее угадать, чем увидеть. Вся троица незваных зрителей с нескрываемым вожделением следила как за обеими рабынями, так и за императрицей.
— Не хватало еще, чтобы он сюда весь свой хазарский каганат притащил! — кипятился «Гроза морей». — У меня руки чешутся выкинуть этих, …как бишь их… Протокола и Дырокола в окошко!
— Не стоит того-с, — успокаивал Аскольд. — Притащат полицию. Закон-то на их территории. Нам преждевременный скандал без надобности-с!
К положенному сроку непьющий маляр Тихон Никифорович, руководимый Нарышкиным, намалевал на огромном полотне некое подобие исторического пейзажа. На горизонте, над синим пятном Босфора мирно кудрявился вулканчик а-ля Везувий. Половину холста занимала белокаменная изба с куполами и античным портиком — храм Софии. Позади нее из яркой зелени торчали разлинованные «под кирпич» щербатые зубцы Константинопольских стен, а также несколько гражданских построек, которые архитектурой своей более всего напоминали вокзальный сортир. Сравнение это пришло Нарышкину на ум, когда он в последний раз критически осматривал задник. Оно показалось не очень лестным, особенно для столицы Византийской империи, и Сергей хотел, было, все переделать, однако компаньоны сумели заверить его, что дома — «как живые» и для трагедии подходят в самый раз. Михеич сколотил, а непьющий Тихон Никифорович разрисовал «рамы перспективного письма» — деревянные щиты, изображающие густые кущи южной растительности. За ними актеры могли укрыться в ожидании своего выхода на сцену. Нарышкин оглядел декорацию и собственноручно довершил ее, изобразив на заднем плане, под вулканом, группу праздношатающихся зевак.
Рома декорации одобрил, сказав, что похоже на Баку, но посоветовал для пущей достоверности добавить в пейзаж шашлычную.
Объявление в газете и расклеенные по всему городу афиши сделали свое дело. По Нижнему поползли слухи о небывалой откровенности новой постановки. Поговаривали, что этот пройдоха Рубинов сумел взять «в разделку» какого-то неизвестного мецената, и тот отвалил кучу денег на италийскую артистку, отличающуюся весьма свободным поведением и в жизни, и на сцене. Сам Аскольд эти слухи только подогревал. На расспросы отвечал уклончиво, делая многозначительное лицо, откровенных разговоров со старыми знакомыми избегал, в обществе (трактире, где обычно сиживали служители сцены) не появлялся, но что самое подозрительное — был трезв и пил теперь только, разве что, оршад и квас. В воздухе запахло сенсацией.
Незадолго до премьеры уставший до невозможности Сергей решил-таки еще раз навестить запойного капитана «кавурого». Он добрел к нему на Третью Пожарскую поздним вечером после репетиции. В комнате капитана было пусто и подозрительно чисто. Пахло хлором. Коридорный, давешний знакомец Нарышкина, на вопрос о постояльце только скорбно опустил голову и отложил веник.
— Убрался Василь Игнатич, царствие ему небесное… Тому уж, как пять ден…
— Куда убрался? — не понял Сергей. — Далеко?
— Дальше некуда, на тот свет преставился, вот как!
— … Как это случилось? — нахмурился «Гроза морей».
Коридорный развел руками: — Понятия не умею, как такое сталось. Навроде, как в себя человек стал возвертаться. Личность побрил начисто… Чаю спросил… Часу это было уж к полуночи… Я усыпать стал… Слышу по кровельке — топ, топ… ходят. Ну, думаю, опять полез Василь Игнатич луну глядеть. Она тот день и впрямь здоровущая была… Вдруг — крик евойный, и внизу под домом — хрясь! Выбег я на улицу, глянул, а ен сверзился с крыши, значит, и уж лежит в полной бездыханности. Только ногой — дрыг, дрыг и помер!
— Вот оно что… — пробормотал Сергей. — Стало быть, несчастный случай…
— Может и так… А может, и подмогли ему.
Коридорный понизил голос до шепота: — Василь Игнатич и допреж сам между себой беседы вел. И в энтот раз тож. Ну, думаю, опять Синяя бабушка пожаловала…ан нет. Слышу, отвечает ему кто-то на два голоса. А уж потом слышу: люк скрипнул, на крышу… топ, топ. Я еще смекаю себе: густовато что-то Василь Игнатьич топает. Навроде, как на четырех ногах…
— И кто же ему помог?
Коридорный с тревогой оглянулся по сторонам и, округляя глаза, прошептал:
— Ясное дело, кто! Не иначе, как черти за ним с луны явились!
За день до премьеры Нарышкин с подачи Аскольда назначил генеральную репетицию на сцене и в костюмах. Наняли мужичонку, который должен был открывать-закрывать занавес и в нужный момент зажечь особые лампы с красными стеклами, чтобы багровые сполохи ознаменовали окончательную гибель империи.
Облачились в тоги и туники. В целом актеры смотрелись неплохо, но больше походили не на римлян, а на посетителей сандуновских бань, завернутых в простыни. Сандалии, сработанные Федором, также грации не прибавляли.
— Провалимся, ну точно провалимся. Освистают, как пить дать! — нервничал Нарышкин. — Куда вся материя девалась? Ведь договаривались атласу и парчи взять, кучу денег отвалили. Аршин — аж четырнадцать рублей! А у нас актеры в поскони щеголяют! Я этому Шмулику второе обрезание сделаю — под самый корень!
Однако же, когда из гримерной появилась «императрица Варения», Нарышкин воспрял духом. Катя в ромейском наряде была чертовски хороша! Аскольд поколдовал над ее прической и возвел на голове девушки какие то невозможные вавилоны. Пышные волосы, поднятые наверх, открывали взору лебединую шею и выгодно оттеняли без того красивое лицо, делая его, по меньшей мере, благородным. Уроки Рубинова не прошли даром, в осанке «императрицы» появилась царственность, в движениях плавность, в голосе — чувственная женственность. Наряд Катерины потрясал еще больше. Он открывал плечи, полуобнажал грудь, а разрезы по бокам платья давали возможность лицезреть стройные ноги девушки.
— Нет, не императрица… Богиня! — только и смог промолвить Сергей, увидев такую неземную красоту.
А когда преображенная Катенька произнесла свой монолог:
«Томленьем трепетным томима, Ах, отчего я не любима? И почему не в царской власти Призвать к себе любовь и счастье? О, как же горек мой удел! Возлюбленный не захотел Делить со мной сегодня ложе. Я вся горю теперь. О, боже!»,Нарышкин подумал: «Мы теперь, пожалуй, можем вообще не играть, успех спектакля обеспечен! Это уже не театр в Нижнем, это точно византийский „Порнай“ какой то! Чудо, как хороша!».
Он еще раз оглядел царственную фигуру девушки и дернул себя за вихры.
— Черт побери, а ведь я все-таки люблю ее!
Глава седьмая КАРБОНАРИИ НА ПОДМОСТКАХ
«Утомились мы; вальс африканский
Тоже вышел топорен и вял,
Но явилась в рубахе крестьянской
Петипа — театр застонал».
(Н. А. Некрасов)В ночь перед премьерой Нарышкин спал плохо. Пробовал гнать от себя дурные мысли с помощью пузатой зеленого стекла бутыли Нижегородской водки, но мысли продолжали упорно пролезать в курчавую голову мятежного раба. Мнилось Сергею, что доморощенные актеры перед публикой непременно стушуются, перезабудут текст или будут произносить свои монологи без должного чувства.
— Осрамимся. Непременно осрамимся, — думал он, ворочаясь в бессоннице с боку на бок. Тяжелый сон явился только под утро. Знакомая Тень царя неслышно возникла из-за портьеры и замерла у изголовья постели Сергея. Иоанн Васильевич многозначительно молчал, поковыривая в носу тонким перстом, и грозно сверкал очами.
«Давненько не видались», — подумал Сергей.
— Почто ты, батюшка, всякий раз меня стращаешь? Не смерд я тебе, не холоп, а человек сам себе вольный, — взмолился он, холодея от собственной храбрости.
— Не ты ли, мил человек, будешь Зензевей Адарович Маркобрун? — вежливо осведомился царь Иван, с любопытством разглядывая Нарышкина.
— Никак нет-с, — извернулся тот, чувствуя, что покрывается липким потом. — Не могу знать, о чем речешь, государь!
— Верно ли сие? — допытывался царь, нехорошо улыбаясь и все больше пуча глаза на ерзающего в кровати Нарышкина.
Сергей покраснел до самых корней волос и неожиданно для самого себя, путаясь в одеялах, пал в ноги самодержца.
— Согрешил, батюшка, прости мя! Змий прельстил и диавол наущил скоморошествовать! Паки опотчевался зелием нерастворенным, сиречь зеленым вином, поелику пиан сделался! («Зачем я несу всю эту тарабарщину? — подумал Сергей. — Сколько можно оправдываться перед этим извергом?»)
Царь, однако, покачал головой и брезгливо улыбнулся:
— Каков бражник! Вот так проспался с похмелья ано самому себе сором. Борода и усъ весь в блевотине, а от гузна и до ног весь в говнехъ, валяется на улице яко свинья! Смотрите-тко на него! Горе, да и только! Покайся, скоморох! Прибегни к богу, да простит и помилует тебя, яко благ и человеколюбец…
С этими словами царь Иван протопал через комнату и, боднув челом стену, исчез в ней. Некоторое время оттуда доносилось его бормотание, но вскоре все стихло, и свет божий ударил Нарышкину в лицо. Оказалось, это Терентий распахнул портьеры.
— Вставайте, батюшка Сергей Валерианович, час пробил! Пора за дело приниматься. Спектакля нынче у нас.
Нарышкин поднялся, привел себя в порядок, все еще содрогаясь от воспоминаний о своем ночном визитере, проглотил легкий завтрак, и время понеслось для него с угрожающей скоростью.
С утра у кассы старого театра толпился народ. К полудню все места были проданы. Партер пустили по цене от одного до двух рублей, место на галерее — полтина. Ложи, как и обещал Нарышкин, пошли по три рубля. Рома из жадности за гривенник разрешил пускать на галерку без мест. В итоге сборы составили чуть более пятисот рублей. Господа Турокул и Жырокул были тут как тут, у кассы, и, постреливая во все стороны из темных бойниц своих нагловатых раскосых глаз, осуществляли надзор за продажей билетов. Увидев их, «Гроза морей» сорвался:
— Эй ты…как тебя…Частокол! — подозвал он крайнего и, не вступая в дальнейшие переговоры, дал ему отменного пинка под зад. Второй соглядатай, получив сходный пинок, вслед за первым, кубарем выкатился из дверей театра.
— Зарэжем! — злобно пообещал Турокул, пытаясь подняться с пыльной мостовой.
— Кэк сабака! — согласился Жырокул и, потирая ушибленный крестец, погрозил Нарышкину поросшим черной шерстью кулаком…
— Не густо, — «Гроза морей» подсчитал выручку. — Если учесть, что двести рубликов заплатили Роме, еще двадцать — его процент от сборов, около двух сотен отвалили на костюмы, афиши, оркестр и прочую дребедень, не считая оплату сценического усердия Жихарки, Хондрика, рабынь и господ из пожарной команды, нам выходит едва ли пятьдесят рублей на всю компанию! Не выгодное это дело — искусство. Одни расходы и треволнения.
— А вы как думали, сударь? — Антон-Аскольд тяжело вздохнул. — Всю жизнь крутишься, как белка в колесе, а толку — пшик-с!
Наскоро пообедали в трактире неподалеку. Никому кусок не лез в горло, все заметно волновались. Хорошо было бы снять напряжение рюмочкой-другой, но Сергей в день премьеры объявил сухой закон.
И сам же его нарушил. В похоронках за кулисами «Гроза морей» зарыл бутылку белой и намеревался раздавить ее непосредственно в момент представления.
Часам к трем на сцене расставили лавки-ложа, повесили размалеванный «византичностью» задник и заправили маслом лампы. В четыре начали гримироваться.
Сергея вымазали сажей с ног до головы. Негр из него получился весьма колоритный — черный, как сапог. Сажу смешивали с постным маслом, и теперь мускулы Нарышкина поигрывали бликами в неверном свете рампы.
— Мной только детей пугать, — сказал доморощенный эфиоп, сверкнув бельмами в зеркало. — В таком виде меня не то что Трещинский, мама бы родная не узнала.
Черный раб вышел что надо, и даже хмурый с утра Рубинов удовлетворенно крякнул, оглядев Сергея. Неожиданно обнаружилось одно досадное обстоятельство. В сцене истязания мятежного раба Фобия необходимо было, чтобы он предстал перед публикой окровавленным. Сделать это надо было незаметно для зрителей. Плоская фляга с густым церковным вином, имитирующим кровь замученного эфиопа, которую Сергей припас специально для этой цели, никак не хотела держаться под набедренной повязкой и все время норовила выскользнуть.
— Проклятье! — выругался «Гроза морей». — Как же быть? Может выйти некрасиво, если она во время спектакля выпадет!
Порешили передать сосуд с «кровью мятежного раба» г-ну Жихареву. Непосредственно во время экзекуции черный раб подползал к правой кулисе, из-за которой Жихарка (по сценарию находящийся где-то в бегах) должен был обильно полить г-на Эфиопа багровым кагором. Хондрик (которого, как оказалось, зовут Сидор Филиппович) проявил к фляге неожиданный интерес и предложил даже самолично пришить к тунике Жихарева потайной карман, однако на его рвение внимания не обратили. Все были изрядно взволнованы.
К шести часам Сергей занял наблюдательный пост у прожженной в занавесе небольшой дыры и принялся высматривать своего недруга. Волнение свое он слегка погасил, сделав несколько приличных глотков из отрытой в кулисах бутылки. Тем временем к театру потекла публика. Вначале возник разночинный люд: мелкие чиновники, приказчики модных магазинов, гимназисты старших классов, купеческие сынки и мещане. Особняком явилась большая группа офицеров, бывших несколько навеселе. Зрители поавантажней стали прибывать позднее. Это были тучные носители известных купеческих фамилий и городская знать в лице начальствующих особ и представителей местного дворянства. Даже Его превосходительство господин Губернатор с женой оказали честь премьерному показу пьесы Аскольда Рубинова.
Сам автор от такого блеска орденов, эполет и фрачных манишек сидел за кулисами ни жив, ни мертв.
Нарышкин все глаза проглядел, но ни в партере, ни на галерке подлеца Левушку не заметил. В ложах, сплошь занятых сиятельными особами, Трещинского тоже не наблюдалось. Оставалась только слабая надежда на две крайних ложи, обзор которых из дыры в занавесе был затруднен.
Часы пробили семь. Шум в зрительном зале стал стихать. Служители пригасили лампы; занавес, разделившись, пополз в разные стороны, оркестр из своей ямы заиграл нечто, долженствующее означать увертюру. Представление началось.
Пока рабыни и стражники дефилировали по сцене, изображая дворцовую суету, зрители еще переговаривались. Офицеры довольно бесцеремонно лорнировали дам как по ту, так и по эту сторону оркестровой ямы. Дамы по эту сторону краснели в полумраке и шумно обмахивались веерами. Но когда Аскольд-Антон, потакая низменным вкусам толпы, стал нараспев перечислять похотливые похождения тирана Клавдия, публика все же заинтересовалась происходящим.
На фразе «вакханок в бане обнажать и там их долго ублажать» кто-то из офицеров хамски заржал.
Аскольд старался изо всех сил. Он метался по сцене, как буйнопомешанный, вдохновенно демонстрируя падеж нравов. При этом он слегка переборщил, когда принялся хватать рабынь за мягкие места, поскольку вскоре получил от Глафиры увесистую оплеуху, разнесшуюся на весь зал, одобрительно загудевший. На галерке раздались аплодисменты. Затем Клавдий в изнеможении повалился на ложе, но тут же вскочил и, вздымая руки к небу, поклялся Вседержителем перетопить в крови всех своих противников и пересовратить всех их жен. Под конец своего сольного выступления, когда он, явно импровизируя, пнул ногой одного из пожарных, зал, кажется, окончательно поверил в то, что нравы в Византийской империи пали ниже некуда. И только поверженный брандмейстер довольно громко, так, что слышно было в первых рядах, прошипел вослед удаляющемуся тирану: — Ты мне, паскуда, за энто ответишь!
Явление несколько смущенной императрицы зал встретил вздохом восхищения. Все тот же хамский офицерский голос отметил: «Сладка чертовка!».
Каждый поворот тела Катерины, когда обнажались стройные ножки или открывалась грудь, галерка встречала гулом одобрения. Точка кипения случилась в момент, когда Кориандр (Жихарка) неожиданно сымпровизировал и принялся с увлечением лобызать колени императрицы. Офицерское собрание в зале застонало. Нарышкин сопел и бороздил взглядом пол.
— Что с этим болваном Жихаревым? — негодовал Аскольд, пытаясь отдышаться за кулисами после своей мощной эскапады по сцене. — Что он делает? Зачем он прилип к ее коленям? Он же, как будто куриную булдыжку гложет!
Пока Архилох строчил свой донос, а император приказывал заточить любовников в темницу, публика отходила от потрясения, обсуждая достоинства заезжей примы. На галерке переговаривались:
— Это тебе не наши — плоскогрудые да чахоточные. Тут порода сразу видна. Да-с.
— Что ты! На винограде взращена. Одно слово — тальянка!
— А по-русски-то чешет, как по писаному.
— За такие деньги, как ей платят, я бы и по-китайскому заговорил.
Сцена заточения Варении в темницу вызвала у особенно впечатлительных дамочек чувственные припадки. Эпизод с освобождением арестованных — одобрительный свист гимназистов. Вызволяя Кориандра и Катерину, черный раб вел себя весьма джентльменски и даже прошептал на ухо императрице: «Держитесь, Катенька!»
Когда же Передокл (Хондрик), вовсю жестикулируя, послал черного раба Фобия куда-то в сторону рисованного задника поднимать «восстание Спартака», на почетных местах заволновались. Губернатор направил в ложу к полицмейстеру человека с вопросом, читал ли он текст данного произведения, прежде чем разрешить его к постановке.
Пока Варения и Хондрик выясняли свои сложные драматические отношения, пока Кориандр травил ядом соперника и подбрасывал змею-анаконду, то бишь бывшую пожарную кишку, базилевсу, в ложе у полицмейстера шло срочное совещание. С одной стороны, падение Византийской империи — это факт, но зачем эти комедианты к нему обратились? Нет ли тут вольнодумства? Что ответить губернатору? И почему Аскольд-Антону потребовались дополнительные доводы, чтобы ускорить разрешение пьесы к постановке? (О взятке в размере четвертного билета речь, разумеется, не шла.) Нет ли тут подвоха? В конце концов, полицмейстер решил во время антракта срочно просмотреть текст пьесы и, уже исходя из прочитанного, делать выводы. Но, как оказалось, дальнейшие события потребовали незамедлительной реакции нижегородских властей.
На авансцену, стеная, вышел укушенный пожарной кишкой император. Прозревший от яда тиран перед смертью осознал всю глубину своего падения и стал направо и налево изобличать имперские порядки. Публика притихла. Было слышно, как шипят масляные лампы. Окончание своего монолога Аскольд произносил в гробовой тишине.
«Доколе сильный и богатый Будут терзать ромейский люд? Ужо приходит час расплаты, Неправедных владык сметут!»…В этом месте, увлеченный своими обличениями, Аскольд весьма необдуманно потряс перстом в направлении губернаторской ложи. (Позже он уверял, что сделал это не намерено.)
«Я правил грозно и жестоко, Посеял гнев, усилил гнет. Отягощенная пороком, Моя империя падет! Я властолюбию в угоду Ступал к престолу по гробам. Я не облегчил жизнь народу И вольную не дал рабам!»Завершив декламацию, Аскольд многозначительно пошевелил накладными бровями, окинул взором зал, чтобы оценить произведенный эффект, и почувствовал неладное. Зрители замерли на своих местах. У полицмейстера по губам бродила нехорошая улыбка. Губернатор в своей ложе привстал, подался тучным корпусом в сторону сцены, да так и оцепенел. И тут до тирана Клавдия с некоторым опозданием наконец дошло, что, обличая пороки Византийской империи, он только что запустил увесистый камень в огород империи Российской, и его монолог нельзя расценивать иначе, как открытое политическое выступление против существующего режима. В этом месте Аскольду стало плохо, в глазах его помутилось, он попятился и с глухим стуком рухнул на деревянное ложе. Стражники-пожарные, следуя ранее полученным инструкциям, тут же подхватили павшего тирана вместе со скамьей и отволокли за кулисы.
Нарышкин, чей выход следовал дальше по ходу действия пьесы, так никого и не высмотрел в крайних ложах. К этому времени он допил свою бутылку и чувствовал некоторый нутряной подъем. Сцена истязания выглядела весьма реалистично. Сергей живо изображал мучения, старательно мычал и подвывал под ударами. Но когда один из пожарников довольно ощутимо пнул его ногой (видимо, отыгрываясь за обиду, нанесенную императором), Сергей не выдержал и шепотом обматерил зарвавшегося экзекутора. Наставало время окропить себя из фляжки церковным вином. Отчего-то смущенный Жихарка, торопливо облизнув губы, в полумраке кулис вылил на Сергея все ее содержимое. «Гроза морей» перекрестился. Усердно подвывая и мыча, он поднялся и, пошатываясь, вернулся на сцену. Реакция зала последовала незамедлительно. По передним рядам, словно подгоняемый легким ветром, пронесся смешок. Он усиливался по мере передвижения Нарышкина по сцене. Когда же черный раб Фобий расправил плечи и в ожесточении затряс цепями, хохотал весь зрительный зал.
Сергей придвинулся ближе к рампе, и, подслеповато щурясь, в недоумении оглядел себя. Тут только он заметил, что весь с головы до ног густо измазан небесно-голубого цвета краской. Как раз той, что красили небо над «Босфором»… С полведра этой жидкости оставалось еще у непьющего маляра Тихона Никифоровича. Краска была куплена с запасом… И зеленая, и красная, и голубая…
Нарышкин растерянно оглянулся и посмотрел за ближайшую кулису, ища глазами г-на Жихарку, но не нашел его там. За кулисой был только Аскольд, который в отчаянии заламывал руки и топтал крепкими, но лишенными изящества сандалиями Федора сорванный с головы лавровый венок.
«Вино из фляги вылакали, пакостники, и плеснули туда краски… Хотели, должно быть, красной, да видать ошиблись впотьмах», — понял мятежный раб, продолжая искать глазами в полутемных кулисах бывшую комическую пару.
Зал продолжал сотрясаться от смеха.
— Какой актер погибает во мне! — с тоской подумал Нарышкин, одновременно понимая, что нужно срочно что-то предпринять.
— Что ржете, сволочи! — сказал он, как ему казалось, про себя, однако вышло вслух, причем достаточно громко, так, что услышали в ложах.
Он отступил в глубь сцены, сорвал с ближайшего кресла кусок материи, скомкал его и принялся яростно утираться. Вместе с краской с могучего торса «эфиопа» стала ползти сажа.
Театр дрожал от громовых раскатов хохота. Сергей в сердцах сплюнул и понял, что спектакль уже не спасти. Неожиданно в нем шевельнулась некая стихийная сила. Он шагнул к заднику и, бряцая колодезной цепью, которая играла роль оков, на холсте, прямо на стене Софии Константинопольской, полуаршинными буквами решительно стал писать прощальный манифест черного раба Фобия, который начинался призывом: «Долой императора-тирана!». Написать он успел немного.
Едва на белокаменном портике «Византийской святыни» одна за одной появились грязно-голубые буквы «И М П Е Р А…», хохот стих, и наступившую тишину зрительного зала прорезал истошный вопль губернатора: «Прек-ра-тить!!!»
Тут же со своих мест вскочило несколько полицейских чинов и людей в штатском платье. Зал зашумел.
Раздались крики: «Взять! Немедля! Всех!». Общую какофонию звуков перекрыл чей то женский визг: «Хватай негру!».
Полицейские ринулись на сцену. Нарышкин, который увлекся искусством каллиграфии, был бесцеремонно схвачен двумя господами «при исполнении». Толстые и неповоротливые квартальные надзиратели, привыкшие иметь дело только с пьяными приказчиками да разными босяками, не ожидали отпора от ряженого эфиопа. Грязно-голубой, маслянистый негр выскользнул из власть предержащих рук и с размаху засветил одному из полицейских в ухо. Тот без звука отлетел назад и, сверкнув в воздухе чищенными до блеска голенищами, со всего размаху загремел в оркестровую яму. Второй полицейский получил в зубы и, увлекая за собой пару горящих ламп, последовал вслед за первым. Расплескавшееся масло загорелось, огонь перекинулся на занавес, который вспыхнул, как порох, и через мгновение пламя уже пошло драть колосники над сценой. В зал повалил густой дым, зрители, визжа, крича, и сбивая друг друга с ног, кинулись к выходу.
— Дэржи эта сабак! — донесся крик из директорской ложи, в которой находился восточный человек Роман Фахрутдинович Мосьпан — Тер-Хачатрян.
— Зарэзать! — орал Турокул. — Кишка выпустыть!
— Казныть, кэк баран! — вторил ему Жырокул.
Внезапно Сергей увидел в одной из крайних лож освещенное зловещим заревом пламени, ухмыляющееся лицо Трещинского.
— А-а-а! Вот ты где, подлец!!! — заорал Нарышкин, подбежал к краю сцены, с силой оттолкнувшись, прыгнул и повис, ухватившись руками за перила полукруглого, резного балкона ложи. Он попытался подтянуться, но умащенные постным маслом пальцы соскальзывали. Из-за перил к нему наклонилось ненавистное холеное лицо. На секунду Сергею показалось, что Трещинский напуган.
— А я тебя недооценил, Сережа! — покусывая губы, пробормотал Левушка. — Надобно было разделаться с тобой еще в имении.
— Подлец! Отдай клад, он не твой! — изо всех сил стараясь удержаться, прорычал Нарышкин.
Лицо Трещинского исказила брезгливая гримаса, он легко ударил по пальцам Сергея веером, и Нарышкин, чертыхаясь, соскользнул вниз. Его тотчас схватили чьи-то руки, но он вырвался и, раздавая затрещины направо и налево, ринулся назад на сцену, а затем вниз, к черному ходу, на бегу увлекая перепуганную насмерть актерскую компанию за собой.
— Сматываем удочки! Все за мной живо! — Сергей подхватил на руки остолбеневшую Катерину и понесся вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки…
…Случайный прохожий лотошник, которого потом не раз допрашивала полиция, божился, что все так и было, как он ранее и «сообчал»: из дверей запасного хода в бывший театр Крымова выскочил «чорт» с белой женщиной на плече. Бросил ее в пролетку. За ним высыпали трое ряженых мужиков и тоже попрыгали в повозку. «Чорт» сбрыкнул возницу с места, хлестнул лошадей, и вся бесовская «канпания» помчалась вниз к пристаням. Лотошник истово крестился и советовал прибить его на месте, «ежели сбрехнул чево по пьяной своей олаберности».
Глава восьмая ВНИЗ ПО МАТУШКЕ ПО ВОЛГЕ
«Река шумит, река ревет,
Мой челн о брег кремнистый бьет
Сердит и страшен говор волн…
Прости, мой друг! Лети, мой челн!»
(А. В. Тимофеев)Театр Крымова в Нижнем Новгороде сгорел дотла. Слава богу, что, кроме двоих человек, не было сколь-нибудь серьезно пострадавших. В давке у выхода нижегородские любители Мельпомены изрядно намяли друг другу бока. Кому-то отдавили конечности, кому-то порвали сюртук или платье, но в целом все обошлось. Правда, группа воинственно настроенных офицеров, подогретых вином и пожаром, с удовольствием отлупила попавшихся под горячую руку Хондрика и Жихарку. Эти двое и были наиболее серьезно пострадавшими. Болваны вместо того, чтобы уносить ноги, вместе с толпой зевак решили поглазеть на пламя. Барышни-наездницы Глафира и Полина оказались куда как проворнее и с места событий скрылись бодрым кавалерийским аллюром, у знатоков называющимся «три креста». Дорифоры присоединились к прибывшей по тревоге пожарной команде и потрудились с удвоенным рвением, качая воду из огромной бочки и растаскивая баграми горящие завалы. Возможно, отчасти их усердию город был обязан тем, что огонь не перекинулся на соседние здания. Полиция здесь же, на месте происшествия, принялась с жаром опрашивать свидетелей. Владельца здания, который пребывал «не в себе», сволокли в участок. Там восточный коммерсант Роман Фахрутдинович Мосьпан-Тер-Хачатрян устроил форменную истерику. Он выл, скрежетал зубами, пытаясь сжевать рукава обгорелого фрака, обливался слезами и призывал все несчастья мира на голову того, кто лишил его розовой мечты — элитарного заведения с шашлыком и драматическим театром.
— Вай мне! Прапал шашлык-пахлава! Прапал великий люди. Всо сгарэль праклятый Арол!
Здесь же, в участке, перепачканный сажей Губернатор брызгал слюной на полицмейстера и приказывал достать мерзавцев из-под земли живыми или мертвыми. Картина выходила скверная. Налицо была политическая диверсия, заговор и революционный террор. Если слух об этом дойдет до столицы, (а в том, что он обязательно дойдет, губернатор не сомневался) можно было не только кресла лишиться, но и вообще полететь с государевой службы «вверх кубырятками». От сознания этого губернатор впал в совершенное душевное озлобление, изрыгал проклятия в адрес карбонариев и в этот же злополучный вечер понял, что на своей чистой, христианской душе государственного радетеля он натер преизрядный, больной мозоль.
Репликой «в сторону» стоит сказать, что тайное расследование по делу о вольнодумстве, бунте и поджоге театра в Нижнем продолжалось довольно долго. Восточного коммерсанта затаскали в жандармское отделение. Дела Ромы пошли из рук вон плохо. Нижегородцы, словно сговорившись, отказывались от его шашлыка и отшучивались тем, что он «на тиятре пережарен». О великих людях Тер-Хачатряну пришлось забыть. Взятки управским чиновникам подорвали его бюджет. Торговлишка восточными деликатесами совсем оскудела, приказчики заворовались и разбежались, но чуть ли ни ежедневно вызываемому на допрос Роме было уже не до таких мелочей. Сведущие люди помогли ему растолковать договор по аренде и докумекать до того, что означенный там «Маркобрун» никакой не Маркобрун и не Зензевей вовсе, а как есть Вельзевул, то есть диавол, отец лжи и совратитель рода человечьего.
— На адское золото прельстился — вот и сам, соколик, чуть не погорел в адовом пламени! — говорили Роме. По ночам тот стонал, как плакучая баба, и клал перед семисвечником земные поклоны всем своим богам до полного изнеможения.
Вскоре восточный коммерсант, на которого, по словам видевших его, «снизошла пахондрия», отправился пешком к святому Макарию. Его не раз встречали неподалеку от обители, где Рома продавал паломникам клубнику и довольно складно чесал на русском языке: «А вот кулубничка отборная, неподзаборная! Ягода затейная — первостатейная! Каждый кус — на медовый скус! Покупай и лопай, хошь попой!!!»
Торговля его пошла было в горку, но тут возникло некое дело о конокрадстве, а за ним — другое, вовсе темное уголовное дело, и господин Тер-Хачатрян вынужден был навсегда исчезнуть из поля зрения жителей Нижегородской губернии и переселиться на остров Сахалин в Корсаковскую ссыльно-каторжную тюрьму, став одним из первых ее обитателей.
Полиция схватила еще двух пособников преступления в театре. Ими оказались небезызвестные господа Хондрик и Жихарка. Обоих голубчиков взяли на следующий же день тепленькими, в трактире, где побитые накануне комедианты пропивали полученный за спектакль аванс. С подозреваемых спустили три шкуры, но так ничего путного не добились. Ни на один из вопросов следствия ни Жихарев, ни Хондрюков толком не ответили. Даже в описании внешнего вида «карбонариев» их показания петляли, путались и в итоге сбивались на полную чушь. Нарышкин у них выходил то кривоглазым, то вполне зрячим, Степан описывался как вредоносный подозрительный елемент: «Сразу видно езуит или поп-растрыга». Терентий по всем признакам был то ли пиратом, то ли дворецким, а итальянская примадонна оказывалась «патшей девкой Катькой», которая сожительствует с черным ефиопом — главарем банды. Сам полицмейстер, обломав о спины бестолочей сотню розог, в конце концов вынужден был признать, что дурней-актеришек просто использовала очень хитрая и опасная шайка врагов престола. В итоге, Жихарева и Хондрюкова в очередной раз выпороли теперь уже для порядка и отпустили восвояси с отеческим наставлением больше в театрах не представлять.
Выяснилось, что из города бесследно пропал один из главных обвиняемых — антрепренер постановки и автор крамольной пиесы господин Рубинов. Пришлось признать, что под маской безобидного пьяницы долгие годы скрывалась подлая личина гнусного вольтерьянца. Исчез и хозяин гостиницы, в которой останавливались карбонарии.
Как не пытались местные власть имущие замять дело, история все-таки вышла громкая. Недоброжелатели, как и предполагал губернатор, дали знать в Петербург. Из столицы прибыл чиновник по особым поручениям и так-то он ловко все раскрутил, что на стол самому шефу жандармов лег весьма тонко составленный и политически грамотный доклад. Оказалось, что в Нижнем уже давно действовала группа революционно настроенных заговорщиков, имеющих целью посеять смуту в экономическом сердце России, вызвать брожение в среде купечества и части так называемого «прогрессивного дворянства», а также провести серию громких акций: поджогов, налетов и убийств высокопоставленных государевых слуг.
Шеф жандармов схватился за голову. Как следует за нее подержавшись, он решил все-таки шума не поднимать, но, чтобы повадно не было впредь, обложить нижегородских чиновников негласным штрафом. Заодно тряхнули и купечество. Довольные таким оборотом дела, нижегородцы согласились, и уже к закрытию ярмарки нужная сумма была собрана и отправлена в столицу. Дело было закрыто. Материалы его — несколько томов с полицейскими отчетами и показаниями свидетелей — бесследно исчезли. Вот почему, листая старые губернские хроники, вы вряд ли найдете там упоминание о театре купца Крымова, о пожаре в нем, а также о заговоре с целью свержения престола, который «со всею дерзостию умыслил совершить» загадочный человек — Зензевей Адарович Маркобрун.
Однако вернемся к нашим героям. Покинув горящий театр, перепуганные «карбонарии» бросили пролетку на соседней улице и дворами пробрались в номера Заубера. Там первым делом наскоро отмылись от грима. (Нарышкин смыл сажу только с лица и рук. На остальное времени не было.) Впопыхах переоделись. Вещи собрали и уложили кое-как, постоянно выглядывая в освещенное заревом пожара окно и поминутно опасаясь появления полиции.
— Куда ж мне теперь? — только и мог произнести разжалованный император Клавдий, утирая лысину обгоревшим париком.
— А как поступил бы в твоем случае уважающий себя тиран? — Нарышкин криво усмехнулся и продолжил назидательно. — Уважающий себя тиран должен был бы выпить яду или броситься на меч! Учитывая, что яд на тебя не подействовал, придется выбрать клинок. Оружие мы, к сожалению, оставили в театре, но я могу попросить для тебя у фрау Заубер кухонный нож!
Аскольд клацнул зубами, побледнел, оплыл, как свеча, и повалился на пол без чувств.
— Вот еще дурень на нашу голову! — сердито буркнул Нарышкин. — Дайте кто-нибудь воды этому малохольному базилевсу! А то придется тащить его на себе!
Сергей зашагал взад-вперед по комнате.
— А нам, разлюбезные мои, пора уносить ноги! Вместе с господином Трещинским! Я этого гада в ложе видел, едва за горло не ухватил! Он теперь тоже из города скроется, не с руки ему здесь оставаться! Не сомневаюсь, он уже пакует свои монатки! — со злостью процедил Нарышкин, торопливо застегивая сюртук. — История выходит малоприятная. Мы с «императором», пожалуй, немного перестарались!
— Да, дельце скверное, — подтвердил дядька Терентий. — Театер, видать, совсем погорел, — старый моряк кивнул в сторону окна. — За такое поутюжить могут так, что только держись!
— Матерь божья, что ж теперь будет-то? — запричитал Степан.
— А вот, коли в руки пальцымейстерам здешним попадемся, то выйдет нам всем верная каторга, — обнадежил дядька. — Стало быть, амба! Последний градус!
— Да за что же это? — у Катерины дрожали губы, но держалась она все-таки молодцом.
— Не волнуйтесь, Катенька! — Сергей на всякий случай достал из сумки и зарядил пистолет. — Это моя вина! Но в обиду я вас не дам!
— А может, разберутся, что мы не со зла, а по нетесанности своей и умственному оскудению! Мы же не мухометане какие-либо, а все как ни есть верноподданные християне, — заскулил Степан.
— А ну-ка тихо, православные! — рявкнул Нарышкин. — Нечего сопли распускать! Давайте-ка сейчас в порт. Чует мое сердце, Трещинский из города по воде уходить будет! Недаром пароход у него под парами стоял…
Внезапно Сергей замолчал, приложил палец к губам, сделал два шага назад и с разбегу пнул ногою дверь. Та с шумом распахнулась, и взору компании предстало растянувшееся при входе, безжизненное тело господина Заубера.
— Он же все слышал, крысья душа! — воскликнул дядька Терентий. — Никак и этот сознанию потерял.
Внезапно оконное стекло с душераздирающим звоном брызнуло вдребезги, и в комнату влетел увесистый булыжник.
— Вот оно! — почти торжественно воскликнул Нарышкин. — Началось!
Внизу у парадного уже слышался какой-то шум. «Гроза морей» осторожно выглянул в окно.
— Вон он, паршивый сабака! — донесся с улицы знакомый фальцет Туракула. — Выхади, пес, будэм тебя рэзать!
— Выхади, уважяемый! Будэм тебэ кров пускат! — вторил ему не менее приятным голосом Жыракул.
— Это наши друзья с востока, — констатировал Нарышкин. — Их там целая делегация, так что прием, судя по всему, будет горячим.
Снаружи грохнуло несколько выстрелов, пули защелкали по стенам. Люстра на потолке раскололась. Зеркало у двери зазмеилось трещинами.
Сергей, почти не глядя, выстрелил в окно. В ответ раздались злобные крики и беспорядочная пальба. С потолка во все стороны полетела штукатурка.
Нарышкин, пригнувшись, пробежал через комнату, обхватил стоявший у боковой стены массивный шкаф и, уперевшись плечом, сдвинул его к окну, загородив проем. Крики и выстрелы с улицы сразу стали глуше. Пули теперь вгрызались в дубовую плоть шкафа и не причиняли вреда перепуганной компании.
— Что происходит? — забормотал очнувшийся Аскольд.
— Пустяки, ваше величество, мы тут пытаемся спасти свои шкуры… И Вашу заодно!
Рубинов, выпучив глаза, подполз к лежащему на полу немцу и осторожно потрогал его за кадык:
— А с этим что?
Нарышкин не ответил. Прислушался.
— Собираются штурмовать парадное! Надо выбираться через черный ход! — прорычал он. — Дядька помоги!
Вдвоем с Терентием они сбежали вниз к парадной двери, которая уже содрогалась от тяжелых ударов снаружи.
Проход в холл удалось забаррикадировать широким кожаным диваном, конторкой и креслами.
— Это на время задержит наших ретивых приятелей! — с одышкой сказал раскрасневшийся «Гроза морей». — Кто еще, кроме нас, в здании?
— Да немец только… Его мадама вчера уехала к родне… и прислугу отпустила. Она то, ведь, Заубериха, опосля того, как вас в дамском платье углядела, прямо не в себе сделалась, так Карлыча отполоскала, почище чем в прачешной… Не заведение, мол, стало, а скотный двор… Вот, видать, и подалась здоровию поправлять!
— Колбасника возьмем с собой, — решил Сергей. — А то наши друзья сгоряча могут сделать ему «секирбашка»! Я не хочу, чтобы еще и он пострадал!
Возьмем лодку, переплывем Волгу и на той стороне отпустим немца на все четыре стороны… Тем более, что он меня пивом угощал, — прибавил Нарышкин, видимо, желая усилить аргументацию.
Бесчувственное тело домовладельца для удобства транспортировки закатали в ковер. Для верности в рот немцу засунули кляп — один из Катиных платков. За это время шум у крыльца усилился еще больше. Камни летели теперь во все окна здания. Парадную дверь уже сбили с петель, но баррикада пока сдерживала натиск визжащих и орущих, словно стая павианов, сторонников Романа Тер-Хачатряна.
— Ну, теперь пошло-поехало! — оглядевшись, заметил «Гроза морей». — Уходите черным ходом. Я вас догоню!
— Вы уж, голубчик-барин, не задерживайтесь! — отступая, со слезящимися от порохового дыма глазами, взмолился дядька. — Шут с ними, с басурманами!
— Нет, пару слов я ребятам все-таки скажу! — упрямо ответил Нарышкин, выдергивая за руку одного из нападавших, пытающегося пролезть сквозь завал у парадного.
— Ба, да это мой старый знакомый, господин Дырокол!
Свирепое и воинственное лицо Турокула вмиг стало испуганным. Маленькие злые глазки зажмурились и исчезли совсем. Держа его вытянутой левой рукой за горло, Нарышкин влепил поистине пушечный удар в намеченное место строго посередине сморщенной от страха физиономии.
— Бах! Точно в лузу! — прокомментировал Сергей.
Голова нападавшего мотнулась, будто у тряпичной куклы. Во рту у него что-то посыпалось. Сергей разжал руки на горле противника и тот, разом потеряв четкие контуры, прилег на паркет.
— А вот и еще один знакомый!
Последовал новый удар, и обмякший Жыракул заклинил собою брешь в баррикаде…
Недалеко от набережной Сергей нагнал компанию. Схоронились на вонючем рыбном складе, за огромными селедочными бочками. Здесь же нашлась просоленная рыбацкая роба и портки. Дядька Терентий переоблачился в находку и отправился на рекогносцировку местности. Через четверть часа он вернулся весьма взволнованный.
— Ну и дали же мы нынче звону! Весь город на пожаре! Полицейских там, как сельдей, — дядька кивнул на разящие рыбой бочки! — Ахтеров заезжих ищут! Нас то есть! А пуще всех — одного, ефиопских кровей! Это, сударь, стало быть, вас! На пристанях покамест тихо…
— Так, а что Трещинский? Ты видел кого-нибудь из его банды? — Сергей нетерпеливо засыпал дядьку вопросами.
— Нет, сударь. Самолично не видал, потому как отчалили они. Зафрахтовали новый пароход: сам из себя белый, кант по борту вохряной, труба черная, звать «Кострома»! Встретил я знакомца своего давешнего из трактира… А он и говорит, мол, видал, как грузились, да все бегом, будто оса у их в штанах. Какой-то ретивой унтер, говорит, хотел судно, что поляк наш заарендовал, осмотреть, так его не пустили, даже в ухо, говорят, засмолили, а чтобы шума не поднимал, потом еще и на лапу дали. …Стало быть, правда ваша была. Водой они убегти решились! Вниз по Волге подались!
— Ах, дьявол! Надо их догнать! Терентий, нам тоже нужно… как это… зафрахтовать какое-нибудь судно или лодку… баржу, что угодно!
— Эх, батюшка, Сергей Валерьяныч, сразу видать сухопутного человека! Да в какие ж это ворота, чтоб на барже за пароходом гоняться! У вашего поляка губа не дура. Ходу у той «Костромы», хошь и помене, чем у «кавурого», однако ж все одно — будь здоров!
— На лодке, сударь, мы его тож ни в жисть не догоним… Еще не родилась такая лодка. А пароход нанять — это только утром да через контору. Опять же бумаги нужны. А нам теперь с вами на люди лучше не казаться… Тут надобно шкуну брать с парусом.
— Ну, так действуй! Есть такая?
— Есть-то оно есть. Тут у причала неподалеку одна стоит. Я уж приглядел. Как будто подходящая. Только по всему видать, команды на ней нету. На берегу, должно быть, и уж точно к этому часу все пьяные.
— Так нам того и надо! Сами поплывем! Чем мы тебе не команда?! — глаза Нарышкина зажглись в темноте, как у кошки.
— Эх, сударь, корабль вести — это Вам не дилижаном править. Тут особая сноровка и наука нужна.
— А ты у меня на что? Хватит артачиться. Берем шхуну, тысяча чертей и семь фунтов под килем! Надеюсь, как парус ставить, ты нам сможешь объяснить?
Под покровом ночи отчаянная пятерка беглецов и один заложник пробрались на борт «шкуны». Ею оказался небольшой одномачтовый шлюп голландского образца с двумя швертами по бортам, способный выходить и в море. У причала было относительно тихо. Только волжская вода хлюпала о днища судов, да на большой «беляне» невдалеке наяривала гармонь. Тусклый фонарь на невысоком дебаркадере высвечивал упреждающую надпись: «Чаль за кольца. Ръшетку береги».
Терентий, словно расправивший крылья, сердитым шепотом делал указания.
— Отдавай концы… Да отвязывай, отвязывай ты, баклан криворукий! (Степану) — Отталкивай багром! Да куда ты его суешь лысая твоя… Отталкивай говорю! (Аскольду) — Руль налево кладите, сударь. Да куда ж ты его, я же говорю «налево», а он в сторону норовит, баклан… простите, батюшка Сергей Валерьяныч… (и через минуту снова) — Да не туда клади, не знаешь, сударь мой, где у тебя сено, где солома?!
— Голову убери, Катерина! Свалишься за борт, подбирай тебя потом!
Наконец, протиснувшись между барж и рыбацких шхун, посудина вышла на чистую воду и, подхваченная течением, ходко побежала вниз по Волге. Терентий сам кое-как поставил парус, и вскоре огни Нижнего растаяли в тумане.
Рассвет застал беглецов на середине реки. Суденышко легко скользило по волнам, подгоняемое попутным ветром. Дядька Терентий бодрствовал, слегка ворочая румпелем и всматриваясь в подернутую туманной дымкой, розовато-золотистую гладь реки. Нарышкин разлепил глаза и полной грудью вдохнул привольный волжский воздух. К речной свежести примешивался стойкий запах рыбы.
— Однако! Как тут провоняло все, — поморщился «Гроза морей».
— Это еще, сударь, райские яблочки! А вот у нас, бывало, особливо когда солонина в трюме протухнет, вот это, я вам доложу, такой запах, что не хуже иного анбре. Случалось, что и до слез прошибало, — улыбнулся старый моряк.
Катерина безмятежно спала в тесной каюте на рундуке, подложив под голову дорожный мешок. На носу вповалку дрыхли Аскольд и Степан. Под банками ворочался и стонал связанный герр Заубер.
— Надо бы немчуру ослобонить, как бы не окочурился! — предложил Терентий.
— И то верно, — Сергей полез освобождать пленника.
Немец долго приходил в себя, разминал затекшие конечности, прикладывал к ссадине на лбу медную монету. Затем, слегка оправившись, он потребовал от Нарышкина разъяснений.
Вольный ли волжский воздух был тому виной сказать трудно, но Сергей выложил Зауберу историю с кладом подчистую. Немец, вначале сидевший нахохлившись, по мере рассказа стал проявлять все большую заинтересованность. Глаза его под треснувшим пенсне заблестели.
— Это есть невероятно! — вскрикивал он время от времени. — Почему вы не говориль мне раньше?
Нарышкин поведал все без утайки. И про то, как карта с кладовой записью попали к нему в руки, и про черную карету и про то, как сокровище действительно уплыло из-под носа и оказалось у негодяя Левушки.
Заубер был потрясен. Некоторое время он сидел, глядя на бегущую мимо бортов воду, тер пальцами виски, а затем, неожиданно встрепенувшись, заявил:
— Я буду ехать с вами, помогать искать книги царя! Не перебивайте! Дома меня ждет только неприятность. Меня схватят жандарм и будут пытать. Мой сердце это не выносить!
Нарышкин просиял. В глубине души он надеялся упросить немца плыть с ними. Заубер мог быть очень полезным. Его достаточно обширные познания в истории и археологии, без сомнения, пригодились бы в поисках сокровища.
— А как же фрау Заубер? — улыбнувшись, спросил Сергей.
На лицо немца набежала тучка.
— Она…как это…сможет переживать! Я посылать ей письмо… — герр Заубер поправил сползшее на нос пенсне. — Марта есть хороший супруг, но… как бы это сказать… она такая… мигер…
— Мегера! — догадался «Гроза морей».
— Да, именно мегера! — Заубер улыбнулся, и лицо его сразу помолодело.
— Но пиво она варит преотличное! — сказал Нарышкин, чтобы как-то смягчить ситуацию. — Ну что, по рукам, Иоганн?
— По рукам, герр Сергей!
Шлюп, поймав попутный ветер, стремительно бежал вперед, рассекая грудью синюю волжскую воду и гоня впереди себя белопенный вал. После обеда миновали Макарьев, оставив город и монастырь слева по борту. По Волге сновало множество судов, и Терентию пришлось глядеть в оба. Несколько раз он вскакивал, перекладывал гик и шлюп; лавируя, уходил в сторону от встречных пароходов, капитаны которых, по-видимому, предпочитали не замечать маленький парусник.
За Макарьевым река стала еще шире. Пообедали чем бог послал, и Терентий, закрепив румпель, прочел короткую, но доходчивую лекцию об обращении с парусами. Управляться с ними оказалось не трудно, так как все парусное вооружение шлюпа состояло из грота и стакселя.
Нести следующую вахту Нарышкин решил сам. Сергей не без удовольствия отметил, что суденышко в его руках довольно послушно держало курс и ходко бежало вперед под туго обтянутыми ветром парусами. Однако Терентий, прищурившись, оглядел проплывающие вдалеке берега и остался недоволен…
— Миль десять делаем. Маловато будет. Так ни в жисть не догоним. Вот ежели парусов набавить… — он покопался в трюме и вернулся оттуда с нестерпимо смердящими рыбой кусками старой парусины и бухтой такелажного троса.
Старый моряк принялся орудовать большой иглой, сшивая остатки старых парусов, затем с обезьяньей ловкостью вскарабкался на мачту, закрепил трос, спустился, снова взобрался наверх, и вот уже рядом со стакселем заполоскал, надулся ветром еще один косой парус.
— Ну вот, — удовлетворенно крякнул Терентий, осматривая работу. — Кливер готов. Теперь все шустрее побежим. А вот, ежели еще бизань на корме изловчимся поставить, то, пожалуй что, можем и нагнать!
Остаток дня до вечера прошел почти без происшествий, вплоть до того момента, когда встречный пароход, громоздкий, двухтрубный «американец», с которым едва разошлись, взбил изрядную волну. Шлюп, казавшийся рядом с пароходом совсем крохотным, так качнуло, что сидевший у левого борта Степан кувыркнулся через голову, прочертив в воздухе босыми пятками дугу и через секунду оказался в воде за кормой.
— Он не умеет плавать! — всплеснула руками Катерина.
— Полундра! — закричал Терентий. — Человек за бортом! Табань!
Дядька, не раздеваясь, прыгнул в воду и в несколько гребков оказался рядом со Степаном, который, молотя во все стороны руками, хрипя и отплевываясь, уверенно шел ко дну.
Положение могло стать критическим, так как шлюп бежал себе вперед и «табанить», как видно, не собирался. Его неопытный экипаж не успел ничего предпринять. Все сидели, как завороженные. Только Катерина, раскачивая суденышко, металась от борта к борту.
— Сергей Валерьянович…Сережа! Сделайте же, что-нибудь! — взмолилась она, цепляясь за снасти и пытаясь разглядеть среди солнечных бликов, пляшущих на волнах, голову тонущего отца.
Нарышкин вскочил и, распустив бухту троса, обмотал его вокруг пустого бочонка из-под солонины. Закрепив за мачту конец бухты, «Гроза морей» метнул бочонок за корму.
«„Сережа“, — подумал он. — Это что-то новое!».
Вдохновленные его поступком, остальные члены экипажа тоже кинулись на подмогу. На борту шлюпа возникла сутолока и неразбериха. Кто-то с силой дернул за снасти, и кливер, сшитый из старой парусины, оборвался, грязной ветошью повиснув на рубке. При этом навалились на румпель и едва не сломали его. Шлюп тут же рыскнул в сторону и лег на другой галс. Паруса заполоскали на ветру. В довершении всего, движимый желанием помочь Аскольд сбросил за борт тяжелый ржавый якорь. А поскольку якорный канат закрепить он не озаботился, тот вместе с якорем в мгновение ока бесследно канул на дно Волги.
И все-таки Терентий, поддерживая одной рукой на плаву мертвой хваткой вцепившегося в него Степана, смог подгрести к бочонку и ухватиться за него. Подтянуть обоих «купальщиков» к шлюпу, рыскающему на речных волнах из стороны в сторону, оказалось тоже делом непростым. Однако тут экипаж суденышка проявил больше слаженности, и через несколько минут Терентий и Степан были снова водворены на борт.
— Спасибо вам, — тихо сказала Катерина Нарышкину. — Век, сударь, не забуду!
— Не за что, — Нарышкин пожал плечами.
«Только что называла меня „Сережа“, а теперь опять — „сударь“! Вот и пойми этих женщин!», — раздраженно подумал он.
Глава девятая В ТУМАНЕ
«Чтоб утонуть в реке,
В нем сердце слишком робко,
К тому же, господа,
В воде не тонет пробка».
(Д. Д. Минаев)К вечеру ветер переменился. Задул с берега. Стало прохладно. Терентий, снова взявшийся за румпель, вынужден был постоянно менять галс, чтобы продолжать двигаться прежним курсом. К ночи ветер стих совсем, и от поверхности воды, нагретой за день, стал ползти густой туман. Паруса захлопали и безжизненно повисли. Теперь шлюп дрейфовал лишь по воле течения реки. Вскоре прямо по курсу возник из тумана силуэт поросшего лесом острова с длинной песчаной косой.
— Надо приставать! — озабоченно высказался Терентий. — В этаком молоке ни единой зги не увидать!
— Не догоним! — зло ответил Нарышкин, вглядываясь в сгущавшийся белесый сумрак. — Трещинский уже верно до Казани добрался!
— Ну, это уж больно шустро, — покачал головой дядька. — Они тож, поди, сейчас где-либо на якорь стали. Такая непролазь, что на мель сесть вся недолга. Переждем тут, а как распогодится, двинем дале. Все одно ветру нет!
Чтобы пристать к берегу, всей команде пришлось спрыгнуть в воду и, протащив шлюп по мелководью, через густой камыш пришвартовать его к стволу старой корявой ветлы, росшей на склоне.
Через некоторое время туман сгустился настолько, что разглядеть что-либо на расстоянии всего нескольких саженей стало совершенно невозможно. С реки доносились тревожные крики пароходов.
— Гуди, не гуди, а выход один — к берегу приставать, — резонно заметил Терентий.
— Что там у нас на ужин? — поинтересовался Нарышкин, помогая вытаскивать на берег пожитки.
— Утица с черносливом, расстегайчики купеческие и всякое разное крембруле с манпасьенами, — хмуро съехидничал Степан.
— В рыло получишь, Афанасьич! — пообещал «Гроза морей». — Неужто пусто на камбузе?
— Пуще не бывает, — откликнулся Терентий. — Пара копчушек завалящих и все! Мышь не разговеется.
— Скверно! — Нарышкин поежился. — Объявляю диспозицию. Мы с дядькой пойдем, принесем дровишек, да и оглядимся вокруг. А вы тут обустраивайтесь. Не худо бы рыбки половить, а то у меня в брюхе кишки друг дружке куличики лепят. В трюме есть сети…
— Самое время рыбку ловить… — пробурчал Степан. — Поди, угляди ее в этаком туманище!
Вглубь острова не полезли. С веток капало. Густые колючие кусты, поваленные деревья, заросли крапивы в человеческий рост не способствовали исследованию «терра инкогнита». Кроме того, досаждали полчища лютых комаров.
— Нарекаю новую землю «Берег москитов», — заявил Нарышкин, яростно отмахиваясь от насекомых веткой ракиты.
Сергей с Терентием собрали и принесли по охапке сухого плавника, обильно усеявшего берег. Решили попытаться обойти остров кругом. Он оказался не широким, но сильно вытянутым вдоль течения реки. Правый берег его был не таким заросшим, и идти, разминая затекшие за время долгого плавания ноги, вдоль кромки воды по чистому мелкому песку было в удовольствие. Вокруг — тихо. Только хлюпала вода, изредка всплескивала рыба, да где-то далеко перекликались гудками попавшие в туман пароходы.
Терентий неожиданно взял барина за рукав:
— Слышите!
Нарышкин, продолжая шагать, прислушался. Из сырого сумрака донеслись голоса. Впереди на фоне большой темной массы возникло бледное пятно света.
— Что это? — Сергей решительно двинулся к нему.
Из тумана выплыли вытянутые очертания парохода, стоявшего на якоре недалеко от берега. На корме его горел тусклый фонарь.
— Тише, сударь! — все еще держа Нарышкина за рукав венгерки, воскликнул Терентий встревоженным шепотом.
— Да что такое?
— Тише! Они это!
— Неужели Трещинский?!
— Точно так. Я пока на пристанях терся, про пароход этот самый хорошо разузнал.
Вона, у него труба маленько назад завалена. Сам белый, кант по борту вохряной!
— И впрямь!
Сергей разглядел темную надпись на корме: «Кострома».
Первой мыслью Нарышкина было тут же брать судно на абордаж. Кровь ударила ему в лицо, под ложечкой засосало. Сергей слегка поплевал на ладони, по-бычьи пригнул голову и целеустремленно шагнул в воду. Удержал его, ухватившись опять-таки за венгерку, дядька Терентий.
— Куда это Вы, сударь мой, намылились? — яростно зашептал он. — Вы что же это с ходу поутюжить их решили? А ну, как дров наломаете? Негоже! Этак все дело завалить недолго!
— Что ты предлагаешь? — немного поумерив пыл, спросил «Гроза морей».
— Нам с Вами, сударь, надобно прижукнуться и тишком к ним подобраться, диспозицию сведать! А там уж видно будет, что к чему.
— Пожалуй, дело говоришь, — подумав, похвалил Нарышкин. — Эх, сапоги — политурка, в подметках штукатурка! — прошипел он, возвращаясь на берег и сбрасывая обувь.
Они разделись и в исподнем полезли в воду, зайдя в нее с таким расчетом, чтобы течение снесло их прямиком к темнеющему в тумане пароходу.
— Ой ты, мать честная! — раздраженным шепотом воскликнул Нарышкин. — Вода-то студеная. Как будто в иордань окунаешься!
— Полно, сударь, какая там ердань! Невская-то водичка, небось, постуденее будет! — отозвался Терентий.
Стараясь не шуметь, поплыли, подхваченные сильным течением. Терентий чувствовал себя в воде, как рыба. Нарышкин производил гораздо больше разнообразных звуков: отфыркивался, сопел, шлепал руками. Его едва не протащило мимо парохода. Сергею пришлось сделать несколько сильных, шумных гребков, прежде чем он смог ухватиться за скользкий плиц гребного колеса.
На палубе послышались шаги.
— Слыхал? — спросил чей-то сиплый голос. — Вроде как плеснуло!
— Должно, большая рыба! — отозвался другой. — Тут осетры водются… Им человека заглотить — все одно, что тебе чихнуть. Этакая презлющая рыбина. Гам, и прощевай, християнская душа!
— А ну-тка, православные, айдемте, промахнем по маленькой, — раздалось над головой Нарышкина. — Лев Казимирович угощать изволют!
Голос показался Нарышкину знакомым. «Николай Петрович!», — вспомнив московского великана, поежился Сергей.
На палубе протопали, и все стихло. Вода еле слышно терлась о борта парохода. Откуда-то из его недр доносились переборы аккордов рояля. Нарышкин закашлялся, глотнув волжской водицы.
— Кудряво живет наш Лев Казимирович, — шепнул он Терентию. — Православных водочкой угощает, музычка тут у него!.. А что, дядька, может, и нам по маленькой нальют?
— Налить не нальют, сударь, а накладут — это враз. Вы только не шумните. Вроде как ушли!
Сергей подтянулся на руках и полез на палубу по склизким лопастям гребного колеса.
— Ты тут, Терентий, побудь покамест, а я вокруг немного огляжусь!
Он перевалился через фальшборт, стараясь не шуметь, прокрался по палубе и нырнул в приоткрытую дверь надстройки. Внутри был сумрак. Звуки рояля стали отчетливей.
— Ну конечно полонез, черт тебя дери! — выругался про себя Сергей, прислушиваясь к аккордам и представляя холеное лицо музицирующего Трещинского. Он постоял с минуту, весь обратившись в слух, пока глаза привыкли к темноте, а затем двинулся вперед по коридору, соображая, где может находиться каюта Левушки. Двери, выходившие в коридор, были заперты. Нарышкин стал осторожно продвигаться по направлению к капитанскому мостику. Неподалеку от трапа, ведущего на мостик, под дверью одной из кают наружу пробивалась узкая полоска света. Сергей приник ухом. В каюте было тихо. Он слегка подергал ручку. Заперто! Однако замок, похоже, был закрыт всего на один оборот. Сергей засопел и навалился плечом. В замке что-то хрустнуло, и дверь отворилась, едва не сорвавшись с петель. Нарышкин тихо хмыкнул и вошел. В каюте царил полумрак. Лишь только у стола, заваленного бумагами, горела лампа. На полу и диване в роскошном беспорядке разметались звериные шкуры. Стены украшали картины в тускло мерцающих золоченых рамах. Резная мебель также поблескивала золотом. На низком столике кальян, рядом — цилиндр, перчатки, колода карт, откупоренная бутыль коньяка.
— Э, брат, вот ты где обосновался! — тихо сказал себе Нарышкин, делая большой глоток из горлышка. Он одобрительно цокнул языком, продолжая разговаривать сам с собой. — Вот где твоя берлога, господин Трещинский! А коньяк у тебя хорош… Не копеечничаешь… Эк, как расположился!
— Ну, здравствуйте, корсар! — раздалось у него за спиной. — Что же это Вы без приглашения являетесь!
Сергей стремительно обернулся, все еще держа бутыль у рта и продолжая булькать ею, уже, скорее, силою инерции, нежели желания, отправляя коньяк в желудок.
В дверях каюты стояла «Анастасия Нехлюдова». В одной руке она держала канделябр, в другой — наведенный на Нарышкина пистолет.
— Однако, какой же Вы мужлан! Кто же пьет коньяк из горлышка? Это неприлично! — язвительно смеясь, проговорила актриса и, не спуская с Нарышкина глаз, поставила тяжелый подсвечник на пол. Она оглядела грузную фигуру Сергея в мокром исподнем белье и презрительно фыркнула:
— Костюм на Вас, сударь, уж больно авантажный!
— Вам правда нравится? — «Гроза морей» сделал шаг в ее сторону.
— Ни с места! Стойте, где стоите! — теперь она держала пистолет двумя руками.
— Убьет еще, пожалуй! — пронеслось в голове у Нарышкина.
— Здравствуйте, Настенька! — стараясь придать голосу как можно больше радушия, сказал Нарышкин. (Он упорно пытался сообразить, что ему делать дальше). — Хотите немного коньяку?
— Не стоит!
— Хорошо тут у вас!.. Пока мы за одним пароходом приглядывали, вы на другой перебрались… Гляжу, обставились…
«Она успеет выстрелить раньше, чем я смогу вырвать пистолет», — думал Нарышкин, продолжая натянуто улыбаться.
— А помните, как славно провели мы с Вами время в усадьбе Вашего, так сказать, батюшки? — не придумав ничего лучшего, пробормотал Сергей, переминаясь с ноги на ногу. — Мне кажется, я Вам тогда был симпатичен… Да и Вы, признаться, произвели на меня изрядное впечатление.
— Полноте, сударь! — «Настенька» театрально и зло засмеялась, обнажая красивые зубки. — Как Вы могли мне понравиться? Вы же сущий медведь! Ни манер в Вас, ни изящества. Лев Казимирович верно говорит…
— Уж и не знаю, как теперь к Вам обращаться? — багровея от ярости, но все еще пытаясь потянуть время, поинтересовался Сергей. — К Вам и Вашему негодяю — «папеньке». Как, кстати, его драгоценное здоровье?
— Это Вам знать уже ни к чему! — нервно ответила «Настенька» и взвела курок. — Ни к чему знать, потому что сейчас Вы умрете!
— Убьете меня, как убили беднягу капитана… там, в Нижнем…
— Этот пропойца сунул свой нос туда, куда ему не следовало. Впрочем, Вы тоже!
Продолжая играть роль роковой женщины, она снова неестественно засмеялась и слегка прищурилась, прицеливаясь.
«Хороша чертовка!», — успел подумать Нарышкин, ожидая выстрела и чувствуя, что внутри у него все холодеет.
Однако выстрела не последовало. Вместо него раздался тупой удар. «Настенька» выкатила глаза, странно улыбнулась и повалилась на пол, выронив пистолет. Позади нее, сжимая в руках канделябр, стоял дядька Терентий.
С мостика послышались приближающиеся голоса.
— Ходу, сударик мой! — воскликнул дядька. — Сейчас здесь будут! Не отобьемся! Их тут что тараканов!
Нарышкин заметался по каюте, затем сгреб со стола Трещинского какие-то бумаги, шагнул к двери, переступив через распростертое тело актрисы.
— Убил что ли ты ее?
— Никак нет. Я ее легонько канделяброй приласкал. Жива будет! Оклемается! — бросил через плечо Терентий. — Давайте бумаги ваши сюда! Мешок тут у меня! Я на камбуз заглянул, прихватил, что под руку попалось!
По трапу «Костромы» уже гремели сапоги. Нарышкин и Терентий метнулись темным коридором к корме. Старый моряк прыгнул в воду первым. Принял брошенный Сергеем мешок и поплыл от парохода прочь, гребя одной рукой. По палубе загрохотало сразу несколько пар ног. Раздались выстрелы.
«Гроза морей» схватил висевший на корме фонарь и бросил его в Волгу. Напоследок выбросив протуберанец света, тот с шипением скрылся в волнах. Стало совсем темно. Сергей перемахнул через борт и, шумно хлопнувшись в воду, поплыл к берегу что есть силы, молотя руками и ногами. Несколько пуль шлепнуло по воде неподалеку от него. Внезапная боль обожгла плечо.
— Задели! — понял Нарышкин и почувствовал под ногами песчаное дно. Скрипя зубами от боли, он выбрался на берег. Пригибаясь, побежал к темнеющей на песке кучке одежды.
Пароход осветился огнями. Выстрелы с него хлопали часто, но пули пролетали теперь над головой и, срезая ветки деревьев, с чавканьем входили в стволы.
— Шлюпку спускают! — сообщил Терентий, подхватывая белье и обувь в охапку. — Побегли, сударь! Опосля оденемся!
Они бегом обогнули остров, и скоро впереди из тумана показалось яркое пятно костра.
Огонь разметали, залили водой. Впопыхах погрузились на шлюп и, оттолкнувшись от берега, поплыли в тумане, увлекаемые течением реки.
— В аккурат успели! — сказал Терентий, указывая на удаляющуюся песчаную косу, по которой сновали светлячки факелов и фонарей.
— Быстро они хватились! — заметил Нарышкин, морщась от боли и чувствуя, что рукав рубахи прилипает к телу.
Осмотреть его рану удалось, только когда остров оказался далеко позади. До этого огня не зажигали. Дядька осмотрел рану, перевязал и сообщил, что пуля прошла навылет.
— Заживет, как на собаке, сударь! Вы не сумлевайтесь! — бодро заявил он и перекрестил барина. — Знать, в рубашке родились!
— Переменить ее, однако, не мешает, — тихо сказала Катерина. — Дайте, я утром постираю.
Отужинали захваченной на камбузе парохода провизией. Окорок, балык и ржаной хлеб показались отменно вкусными.
— Вот это я понимать! — воодушевленно восклицал Заубер. — Это есть настоящий путешествий! Не хватайт только добрый бокал пиво!
— Ну да, как это называется… «тринкен бир унд шнапс», — морщась от боли, усмехнулся Сергей.
Утро рассеяло радужное настроение. Рассвет застал шлюп севшим на песчаную отмель неподалеку от крутого правого берега, поросшего высоким лесом. Поднявшийся легкий ветерок понемногу разгонял туман и вызывал трепет в парусах, однако шлюп увяз в песке изрядно и сходить с мели, похоже, не собирался.
— Ну все! Шламбаум, приехали! Проворонил мель, черт узкорожий, — набросился Терентий на Степана. — Я только на единую минуту глаз сомкнул, а он вместо того, чтоб вперед приглядывать, ворон считает! Титька ты коровья, а не впередсмотрячий!!!
— Говори, говори! Язык-то не купленный! — оправдывался Степан. — Где мне было углядеть, когда кругом так все утуманило…
— Что есть… «тить-ка»? — спросил пытливый Иоганн Карлович, но ему никто не ответил.
— Надо облегчиться, — нахмурившись, заявил Терентий.
— В каком смысле? — поинтересовался Нарышкин.
— А в таком, сударь, что придется всем вылезать и стаскивать нашу шкунку на большак.
Он первым подал пример, спрыгнув в воду. Все последовали за ним, только Аскольд, молча озирая волжские дали, остался безучастно сидеть на носу.
— Тебе что, особенное приглашение нужно, господин базилевс? — спросил Сергей, стоя по пояс в воде.
— Молчите смерды, как смеете предлагать такое вашему императору?! — ответствовал бывший «тиран», набрасывая себе на плечи рыбачью сеть.
— Сбрендил, болезный! — покачал головой Степан. — То-то я гляжу, он последнее время какой-то пяченый стал.
— Видать, пиеса ему всюю голову навинтила, он и попятился! — выдвинул версию Терентий.
— Прочь, прочь от меня, паучье семя! — гнул свою линию Аскольд, продолжая без почину сидеть на носу, опираясь рукою о бушприт.
— И когда успел угару набраться? — всплеснул длинными руками Степан.
— Слез бы ты, дядя, от греха, пока цел! — теряя терпение, сказал «Гроза морей». — Лучше сам подобру слазь…
Он сделал шаг по направлению к «императору», но остановился, прислушиваясь.
Откуда-то издали стал доноситься, разнесся над Волгой шум гребных колес приближающегося парохода. Терентий, прикрыв от солнца глаза, прищурился.
— Это они! Сюда чешут!
— Вот дьявол! — Нарышкин торопливо огляделся. — Торчим на этой мели, как пугало посреди огорода! Что делать-то будем, дядька?
Терентий оценил обстановку, попеременно поворачивая голову то на сидящий на мели шлюп, то на приближающийся пароход.
— Из воды не вылазить! — скомандовал он, наконец приняв решение. — Они подойдут с левого борта! Справу нас не обойти — мелко. Вы все схоронитесь за правым бортом. Меня им не узнать. Господина немца тож! Шкуну нашу они в глаза не видели, стало быть, ежели приголандриться, можно сойти за рыбаков!
Предложение было принято мгновенно, тем паче, что другой выход не пришел на ум никому. Упирающегося «императора» Нарышкин сгреб за борт самолично. Степан с Катериной, не заставляя себя ждать, укрылись в тени борта.
Терентий разделся по пояс, обнажив смуглый, крепкий еще торс. Протянул свою рубаху и картуз белокожему, будто сахарная голова, Зауберу. Тот, брезгливо морщась, переоделся, влез на борт, торопливо схватил сеть и принялся перебирать ее.
Пароход приближался. Нарышкин чувствовал это, присев вместе с другими за бортом. Шум колес стал громче, отчетливей. Когда до шлюпа оставалось несколько десятков саженей, пароход застопорил машину.
— Давай, Терентий, вжарь что-нибудь народное! — вполголоса приказал «Гроза морей».
Дядька, сидя на корме и поигрывая шкотом, во все горло затянул:
«Что за жизнь моряка! Ка-ак привольна, легка! О земле не грустим, Словно птица летим — Па-а волнам, па-а морям, Нынче здесь, завтра там….»— Замечательный выбор, — с убийственной язвительностью откликнулся на пение Нарышкин, обернувшись к соратникам. — Эта «народная волжская песня» из драмы «Артур, или шестнадцать лет спустя» принадлежит перу бывшего редактора журнала «Репертуар и Пантеон» Василия Степановича Межевича. Над ним еще Белинский насмехался … Впрочем, будем надеяться, что господин Трещинский этого не вспомнит!
Сергей, привстав из воды, выглянул из-за борта. «Кострома» проходила слева от шлюпа и, не спеша, дрейфовала вниз по течению. У поручней ее стояли люди и глядели в сторону севшего на мель суденышка.
Лиц было не разобрать, но Нарышкину показалось… да, не могло быть никаких сомнений, что он может различить холеную, ненавистную физиономию Левушки.
«Па-а волнам, па-а морям, Нынче здесь, завтра там!»,— горланил Терентий, проникнувшись сюжетом песни.
Иоганн Карлович продолжал рассеянно тискать в руках сеть, делая вид, что не обращает на пароход ни малейшего внимания. Только теперь Сергей заметил, что на носу немца предательски поблескивает на солнце позолоченное пенсне.
«Я моряк. Хорош собою, Мне лишь два-адцыть лет. Полюби меня душою… Что ж она ему в ответ?»,— выводил свои рулады над Волгой дядька Терентий.
— Ишь, дурень, распушился! Соловьем разливается! — проворчал из-за борта Степан.
«Ты, моряк, уедешь в море, Полюблю другого с горя. Без любви, ой, да веселья нет…»,— неслось над рекой.
— Вот послал бог тенора! — раздраженно буркнул Нарышкин, делая отчаянные попытки привлечь внимание Заубера. — Стекла сними, Иоганн! — зашипел он немцу, но тот не услышал и, поглощенный созданием образа рыбаря, поблескивая позолотой оправы своего penz-nez, упорно теребил сеть. Более того. Желая прийти на помощь Терентию, Иоганн Карлович тоже затянул песню о славных моряках. Говорилось в песне о некоем капитане по имени Йохен Шютт, штурмане по имени Ханс Кикебуш и еще о пятерых членах экипажа парусника, следующего к Гибралтару с грузом корицы и оливкового масла. Обо всем этом Иоганн Карлович с немецкой обстоятельностью и довольно неплохим баритоном пел на родном языке.
— Ну все, — сказал Нарышкин, взявшись за голову. — Шпилен зи полька!
— Кажись, пронесло! — шепотом сообщила выглянувшая из-за шверта Катерина. — Ужасти, какие! Я прямо ног под собой не слышу!
И тут, как на грех, прорезался молчавший доселе Рубинов. «Император», на некоторое время прикусивший свой божественный язык, вдруг встрепенулся и решил напомнить о себе:
— Ужо, приходит час расплаты!.. — визгливо крикнул он, вырываясь из рук державшего его Степана, поднимая брызги и пытаясь влезть обратно на борт. Сделать ему это, впрочем, не удалось, потому что обернувшийся на крик Нарышкин, ляпнул его пятерней по блестевшей на солнце лысине и погрузил в воду с головой.
— Неправедных сметут… — булькая, успел сообщить «император» и пустил пузыри, продолжая беседовать уже с рыбами. На борту «Костромы» возникло движение, но тут Терентий встал в полный рост и закричал, сложив ладони рупором:
— Стерлядки не желаете, господа? У нас стерлядка самопервейшая!
Ответа не последовало. Выпад Аскольда, как и пенсне Заубера, остались, по-видимому, не замеченными на пароходе, который течение уже пронесло мимо. Через минуту, исторгнув из трубы дым, он замолотил воду лопастями гребных колес, стал удаляться и вскоре скрылся за рваными клоками тумана. Разведенная им волна приподняла шлюп и стащила его с мели.
— Все на борт! — приглушенно скомандовал дядька.
Это было выполнено без промедления. Дрожащая от холода команда шлюпа со всей возможной стремительностью выскочила из воды. Некоторое время потребовалось для того, чтобы извлечь из Волги и откачать не к месту прорезавшегося «императора». Когда он перестал откашливать воду, то снова уселся на носу судна, нахохлился и мутными глазами вперился в пустоту.
Терентий поворочал румпелем, потянул гика-шкот, и паруса снова наполнились ветром.
— Они возвертаются! — внезапно крикнул Степан, указывая корявым пальцем на брешь в остатках тумана, из которой снова вынырнул пароход.
— Ходу, родимая! — «беря ветер», воскликнул Терентий. — Шалишь-мамонишь, нас теперя не захомутать!
Шлюп, пеня воду, бодро побежал левым галсом. «Кострома», испустив пронзительный, режущий слух гудок, стала разворачиваться поперек течения реки, однако проворности у парохода было куда меньше, чем у юркой подвижной «шкунки».
Она успела отбежать на порядочное расстояние и была уже на середине реки, но тут ветер неожиданно скис, и паруса обмякли.
— Ах, дьявол! — сорвался Нарышкин, наблюдая, как пароход, сделав разворот, направляется к ним. — Пожалуй, что нагонят и раздавят, как скорлупку. Что делать-то будем, адмирал? Как там в твоей песне, дядька Терентий? «Полюби меня душою, что ты скажешь мне в ответ?»…
«Гроза морей» мельком взглянул на Катерину.
— Не зуди, сударь мой! — хмуро отвечал старый моряк. — А лучше убери этого баклана с носа. Мне из-за него фарватера не видать!
Аскольда стащили в каюту, где бывший византийский диктатор тут же забился в угол и, качая головой, принялся плести околесицу. Поймав очередной порыв ветра, шлюп вновь ходко побежал вперед, но пароход уже нагонял, с каждой минутой увеличиваясь за кормой в своих размерах. Терентий по-прежнему, нахмурившись, крепко держал одной рукой румпель, другой шкот. Временами он привставал, силясь разглядеть что-то впереди. Шум гребных колес за кормой стал тем временем совсем нестерпимым.
Терентий вскочил, внимательно глядя вперед по ходу движения судна.
— Держи, сударь! — он передал румпель Нарышкину. — Правь так, покуда я не скажу!
Дядька стремительно взлетел по вантам на верхушку мачты и стал напряженно вглядываться в бегущие навстречу волны. Очередной порыв ветра снова заставил пузыриться парус. «Гроза морей» вспотел и напрягся, удерживая рвущийся из рук шкот. Шлюп бодро побежал вперед, слегка подскакивая на волнах, но время было упущено. На пароходе тоже поднажали. Дым из трубы повалил гуще, его колеса месили воду с дьявольской частотой, все прибавляя и прибавляя обороты. Пена летела от него во все стороны так, что над палубой «Костромы» появилась небольшая радуга.
— Мель прямо по курсу! — подал голос с мачты дядька Терентий. — Как скажу — повертай! Румпель вправо до отказу!
Оба судна шли теперь в кильватерной линии. Пароход, пристроившись прямо за кормой, продолжал увеличиваться в размерах. Его капитан, судя по всему увлекшись погоней, имел очевидные намерения догнать шлюп и раздавить его корпусом. При этом на какое-то время он позабыл об опасностях, которые могла таить в себе река…
— Повертай! — заорал Терентий, спрыгивая с мачты. Сергей торопливо переложил румпель. Шлюп, накренившись, рыскнул влево. Парус тут же заполоскал и безжизненно повис, будто старая полинявшая тряпка.
— Голову береги! — предупредил «адмирал», ухватившись за гик и перебрасывая его в сторону. Тяжелый брус, провернувшись в вертлюге, сбил картуз с головы Нарышкина и опрокинул на палубу сидевшего у правого борта Степана. Парус снова затрепетал и наполнился ветром. С мостика парохода раздался отчаянный крик. Машина его застопорилась, но было уже поздно. С хрустом и скрежетом «Кострома» налетела на мель. При этом оттяжки, держащие трубу парохода, лопнули, и она, продолжая исторгать из себя клубы дыма, со страшным грохотом рухнула за борт.
— Наша взяла! — подбирая картуз и размахивая им, вскричал Нарышкин. Команда шлюпа поддержала, и над волжскими водами разнеслось дружное и раскатистое «ура!!!».
Глава десятая НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ
«У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья».
(М. Ю. Лермонтов)Шхуна уверенно неслась по волнам, удаляясь от плотно севшего на мель парохода.
— Теперь им нас не почем не взять! Баста, голавлики, отплескались! — торжествовал Терентий. — А то ишь чего удумали, бакланы, потопить хотели, а вот «накося выкуси»! — он показал убедительную дулю покренившемуся на бок незадачливому судну.
Однако радоваться было еще рано, с враждебной стороны раздался первый выстрел, а потом пошло-поехало, свинец засвистел рядом с лодкой, несколько пуль с противным причмокиванием вошли в борт и мачту.
— Ложись! — заорал Нарышкин.
Все за исключением Терентия и Аскольда попадали на дно лодки.
Дядька, мужественно пригнув голову, продолжил править, уходившей от преследователей шхуной, а развенчанный «базилевс», будто ничего не замечая вокруг, встал во весь рост на носу шлюпа и что было мочи надрывно завопил:
«О-о-о, трижды проклятое время! Жестокое и злое племя! Но брошенное в лоно семя Ужо растет и сбросит бремя!»— Ложись, дурак, убьют! — закричал ему Сергей.
Но декламатор, закатив глаза к небесам, простер длань над Волгой. На лысине его резвились солнечные зайчики. Не обращая внимания на свист пуль, он продолжал вопить:
— Огнями смрадными пожаров я изничтожу этот край. Все вывернется наизнанку, и адом обратится рай! Подайте меч мой и кольчугу, подайте трубный, верный рог! Я покажу вам, негодяи! Я — червь! Я — раб! Я — царь! Я — Бог!— Сбрендил! Окончательно затмился! — Нарышкин вскочил и, ухватив извивающегося, как уж, обезумевшего актера в охапку, повалил его на дно.
Впрочем, шхуна уже вышла из-под обстрела. Пули вяло шлепали по воде за кормой в паре десятков саженей от цели.
— Отбой! Суши весла! — объявил дядька Терентий.
На всякий случай команда Нарышкина еще некоторое время полежала, хоронясь от выстрелов, а потом все разом зашевелились.
Севший на мель пароход таял вдали, а впереди широко, пожалуй, на несколько верст, от берега до берега раскинулась Волга. Связанный по рукам и ногам антрепренер на время затих. Он лежал на вонючих рыбацких сетях, хлюпал носом и угрюмо косил налитым кровью глазом в сторону Нарышкина.
— Ну вот, насилу убегли! — оглядываясь по сторонам, удовлетворенно крякнул кормчий.
— А что толку?! — хмуро отвечал Сергей. — Клад все равно остался у Трещинского! И заполучить его будет куда как сложнее. Мерзавец Левушка знает, что мы выследили его. Он теперь, пожалуй, изменит курс, и только мы его видали!
— Ну, это уж, сударь мой, навряд ли! На пароходе могли сразу курс поменять и не ворочаться. Или в туман бы ушли, и поминай, как звали! А они, однако же, за нами погнались, будто настеганные! Спрашивается: из-за чего? Уж не из-за того ли мешка с провизией, который я на камбузе у них к рукам прибрал?
— Постой, там ведь были бумаги какие-то; ну, те, что я сгреб со стола Трещинского.
Сергей запустил пятерню в мешок с продуктами и вытряхнул из него пожелтевшие рукописные листки.
— Может быть, он возвращался вот за этим?
Нарышкин осторожно разложил листки на колене, прикрывая их от ветра.
— Не разобрать ни бельмеса! Тут все не по-нашему! Иоганн Карлыч, может ты сумеешь докумекать?
— Осторошнее! — немец бережно принял рукопись у Сергея, приблизил ее к лицу, всмотрелся в замысловатую вязь букв.
— Это есть гретшеский почерк… но не совсем обычный… что-то тут есть не так. Мне нужно время, чтобы читать. Документ очень старый… — он протер пенсне и, углубившись в изучение бумаг, позабыл, казалось, обо всем…
Вскоре пристали к одному из берегов, над которым на высокой круче белел монастырек. К воде сбегала деревянная пристань, портомойня, клети с рыболовными снастями и судовыми принадлежностями. На берегу кверху свежепросмолеными глянцево-черными днищами лежало несколько лодок.
— Вот отсюда будет удобно следить за рекой. Упускать Трещинского нам никак нельзя! — объявил диспозицию «Гроза морей». — Клад этому негодяю с его бандой я не отдам!
Команда сошла на твердую землю, чтобы привести себя в порядок. Аскольд выскочил из шлюпа, как ошпаренный, и сразу чесанул в гору, да так прытко, что его еле удалось изловить и связать, при этом он умудрился укусить Терентия за ногу. Кое-как бывшего «монарха» успокоили. Он забился под огромный лопух и сидел там молча, только зыркал по сторонам безумными злыми глазками, да временами судорожно всхлипывал.
— Совсем, видать, повредился, бедолага! В мерихлюндию впал. Пусчай посидит, оклемается; глядишь, и возвернется в умственную жисть! — посочувствовал Рубинову ранее не замеченный в подобной снисходительности Степан.
— И то верно, батюшка, — поддержала отца Катерина. — Жил себе человек, в тиятрах представлял, а тут на тебе — и пожар, и потопление, и стрельба кругом. Этакого не всякий сдюжит!
Аскольд услышал реплику Катерины и жалобно заскулил, испустив жирную, как смола, слезу.
— Оно и к лучшему, — заметила Катерина. — Пускай его поплачет. Глядишь, похондрия-то наружу и выльется! Не надо человека теребить.
— А ведь и правда, — смягчился «Гроза морей». — У Аскольда, ко всему прочему, по-видимому, водная боязнь. Я про такое слышал. Вон, как из лодки убегом дунул, аж пятки задымились.
Команда оставила безумца в покое, приставив следить за ним дядьку Терентия, который, поглядывая одним глазком за Аскольдом, принялся развешивать на прибрежных кустах верхнюю одежду для просушки.
Заубер, уединившись, присел на продырявленный рыбачий челн и, что-то бормоча себе под нос, продолжил изучение манускрипта. Остальные решили подняться к монастырю.
Вид на Волгу от древних, беленных известью монастырских стен открывался изумительный. У подножия крутобокого холма голубой лентой расстилалось беспредельное, казалось, водное пространство. Сергей должен был признаться себе, что это, пожалуй, один из лучших виденных им пейзажей во всей необозримой матушке России. Под стенами монастыря шелестела, обдавая прохладой, аллея молодых лип.
— Вот где бы лежать, — с неожиданной дрожью в голосе произнес Степан, когда часть команды, запыхавшись, взобралась на холм. — Вот она где — манность небесная! Хорошо! Отдохновенно!
Нарышкин утер разгоряченное лицо, огляделся и заметил:
— Вид, Степан Афанасьич, не спорю — преизрядный, однако я бы предпочел уж ежели и лечь, то по ту сторону ограды.
Массивные ворота с покосившейся церковью над ними были заперты и, пройдя приземистой калиткой, в которой Нарышкин едва не застрял, наши герои оказались у собора, окруженного кованой решеткой монастырского кладбища. С трех сторон к нему подступали кельи, трапеза, деревянные службы и прочие строения. У самой ограды в траве лежало несколько позеленевших, внушительного вида стволов старинных пушек. Братии не было видно, кроме тщедушного малого в грязном подряснике. Инок ползал на коленях между могильными плитами и был, казалось, целиком поглощен выпалыванием сорняков.
— Эге, да у них тут, как я посмотрю, своя артиллерия имеется! — прицокнул Сергей, глядя на пушки и как будто что-то смекая.
Услышав фразу, брошенную Нарышкиным, послушник выпрямился и отложил ножницы.
— Дык это… В прежние времена ватаги у нас тут по берегам шалили, — пояснил он. — Вот оно и приходилось антилерией оборон держать.
— Ну так, то когда было… — усмехнулся Сергей. — Сейчас-то пушки уже, поди, ни к чему.
Будущий монах ощерился и покачал головой:
— На светлой седмице митрополит наезжал. Так ему братия ферверьх устраивала. Так пальнули, что только господи помилуй! Воздуся уж больно сотрясались — паче грома небесного!
— Хорошо тут у вас! — похвалил Нарышкин, продолжая разглядывать пушки.
— И впрямь, — подхватил Степан, во все стороны вертя худой гусиной шеей. — Такое нутряное упоение, такая сладость елейная на душу нападает, что вот, казалось бы, так и лег вон под тем камушком!
Послушник поправил скуфью и посмотрел на разлившегося соловьем Степана неодобрительно.
— Камень эвтот есть реликвь от преподобного отца нашего Макария, который обитель сюю основал. В стародавние времена Господь сподмог ему от татарского полону скрыться. Вышел отец Макарий на Волгу, сел на эвтот камень и поплыл на ем чудесным образом вверх по реке от Казани к Нижнему. А покудова плыл, вышел тута на бережок; дай, думает, поставлю обитель Божию… Поплевал на ручки, тяп топориком, глядь — монастырь наш уж готов изделался! Перекрестился отче, поблагодарил Господа и дале себе поплыл.
— На чем же он поплыл, раз камень тут остался? — поинтересовался было Нарышкин, но внезапно покой и тишина обители были нарушены. Тревожно и часто ударил колокол. Из чрева храма черной массой выплеснулась стоявшая службу братия.
— Что случилось? — поинтересовался Нарышкин у спешивших мимо келейников.
— Пожар, говорят, на пристани! — фальцетом выкрикнул на бегу один из монахов, по-бабьи подбирая края рясы.
Предчувствуя неладное, Сергей метнулся за ворота.
…Выпростав столб черного дыма, клубами поднимающегося к небу, у воды горели клети, близко друг к другу стоявшие на сваях. Охваченный пламенем, никем не управляемый шлюп медленно дрейфовал вниз по течению реки. На крыше занявшегося огнем сарая приплясывал невесть как освободившийся от своих пут Рубинов.
— Прыгай, баклан ты этакий! — орал ему Терентий, мечась в дыму. — Прыгай, черт тебя дери, сгоришь!
Сошедший с ума антрепренер выкрикнул в ответ что-то патетическое и, закашлявшись, воздел руки к небесам. Ветер отнес его слова в сторону, и Сергей не смог разобрать содержание речи бывшего «императора Византии». По берегу суетились монахи с ведрами и баграми.
— Я, сударь, только на минуту отвернулся, глядь — а этот оглашенный уже шкуну нашу запалил и за монастырское добро принялся! — в отчаянии крикнул Терентий. — Вона, как занялось! Потому — смола там! Сгорит все как есть! Дурацкое-то дело, оно нехитрое!
— Все! — тяжело дыша от быстрого бега, выдавил Нарышкин, глядя вослед уплывавшему вниз по Волге факелу, который еще недавно был шлюпом.
— Прощай, наш кораблик!
Сергей хотел, было, броситься на помощь Рубинову, но у него на руке повисла подоспевшая Катерина:
— Сергей Валерианович, куда Вы! И его не спасете и себя погубите!
— Ах ты, горе-то какое! — причитал Степан. — Спалил! Как есть спалил себя, раскольник окаянный!
Заубер тер пенсне, удивленно наблюдая за происходящим. В руках он все еще держал манускрипт.
— Aut Caesar, aut nihil*… — пробормотал он растерянно.
— Пусти Катерина! — Сергей вырвался из рук девушки и, прикрываясь рукой от дыма, решительно зашагал к сараю.
— Не пущу! Сережа! Ты же ранетый!
Внезапно длинный протуберанец пламени, выпроставшись из-под кровли, сильно клюнул сумасшедшего, и тот, инстинктивно отпрянув, с шумом свалился с крыши в росшие у кромки воды камыши. Сразу несколько рук подоспевшей на пожар братии выдернуло его оттуда. Поджигатель блаженно улыбался, хотя и трепетал, как осиновый лист. Глаза его были совершенно осоловелыми. Лицо и лысина покрылись копотью.
— Пещь огненную вздул! — сообщил он обступившим его монахам. — В пламени очистимся, не правда ли, господа?!
— Куда ж его теперь болезного? — сочувственно вздохнула Катерина.
— Да, с собой его брать нельзя: и нам обуза, и ему маета… — задумался Нарышкин. — Надо было оставить его в Нижнем, на растерзание почтеннейшей публики.
— А давайте его в монастырь определим. Ему там покойно будет. Душе отдохновение, и монахи опять же приглядят, — предложил Степан. — При божественной красоте всякая заблудшая душа враз опамятствуется. Глядишь, и отряхнется человек от своих страстев.
— Это он дело говорит, — вставил Терентий. — Вот только как в монастырь этакий брандер подсунуть — ума не приложу. Кто ж поджигателя в божью обитель пустит?
Братия тем временем уже оставила попытки спасти смоляной сарай и стояла поодаль, наблюдая за тем, как огонь с возрастающей силой пожирал строение.
— Да, убытки нам возместить нечем… — Сергей нахмурился. — Могли бы шхуну инокам предложить, так ведь этот доморощенный Нерон и ее спалил… Вот, разве что, отдать жемчуг?
— Нерон христианских мучеников дикими зверями терзал, когтями железными когтил, пламенем огненным палил! — вдруг заблажил Аскольд-Антон.
— Ну вот, опять началось, — развел руками Нарышкин. — По новой, что ли, его вязать?
На вопль поджигателя обратили внимание монахи. От братии отделился высокий седовласый старец и направился к путешественникам.
— Христос с вами, люди добрые. По здорову ли живете? О чем сей человек кричит и как в огне оказался? — монах хотя и вопрошал учтиво, однако сивые брови его были сурово нахмурены…
Несмотря на то, что вопрос предназначался не ему, «экс-император» отреагировал немедленно:
— А-а-а, чернец! С виду монах, а душа в штанах! — выкрикнул он, указуя пальцем на старца.
Стоявший рядом Степан чуть было не задохнулся от возмущения неожиданной дерзостью сумасшедшего, но монах ничуть не смутился, а наоборот — осмотрел на непрошеных гостей, казалось, более заинтересованно.
— Иноки сраму не имут, А под полами блуд дерут! Монастырская наливочка сладенька, А во сне бабенка гладенька! Вот такая материя — Пропадает империя!— зачастил скороговоркой Репкин-Рубинов.
Монах продолжал с любопытством рассматривать помешанного.
— Что пялишься, косоротый? Стопудовый … тебе в ворота! Попил, погулял всласть, А теперь земные поклоны класть? Не будет тебе спасения, Накося-выкуси воскресение!— и Репкин сделал в сторону чернеца весьма недвусмысленный жест.
Монах наконец смутился и сотворил крестное знамение.
— Ох, как костерит… иретик! — в голосе его послышалось уважение. — А и то ведь, верно… подзаелись. Не так живем… не по Писанию! Эх, грехи наши тяжкие!
— От теплых морей до холодного края, империя умирает! — продолжал раздираться антрепренер. — Забыли о Божьей каре? Твари… твари! — Аскольд порвал на груди мокрую рубаху и залился слезами.
План в голове Нарышкина сложился мгновенно.
— Вот, отец мой, блаженный человек, — смиренно проговорил он не своим голосом, кланяясь монаху и опуская очи долу. — Мы в Астрахань плыли, он и прибился к нам по дороге. По святым местам путешествует, про божественное говорит и все пророчествует. Только вот… в стихах уж больно искушен, по сему случаю у него в голове поворот учинился — зрит неизбежное будущее и имеет всевозможные видения! А теперь вот испытать себя огнем захотел. Может, вы его с братией… того… молитвами отчитаете?
Два дюжих инока подхватили расслабленно повисшего у них на руках «пророка» и бережно понесли его в обитель. Седовласый монах, судя по всему, заинтересовался способностями новоявленного блаженного, который, прикрыв глаза и заплетая ноги, продолжал витийствовать:
— Сказано вам в писании: «Будьте как птицы небесные…». А вы налетели, как воронье: «Это мое и это мое!»
…Аскольд вещал всю дорогу до монастыря, довольно складно сочиняя обличительные вирши антиклерикальной направленности, чем приводил старца в тихий восторг.
— Воистину, блаженный человек! — говорил он, с умилением глядя на Рубинова, и на глазах монаха проступала непрошенная слеза.
На виновника переполоха вышел посмотреть сам отец игумен. Перед настоятелем Репкин вновь обрел силы, стряхнул с себя иноков и понес густую ахинею, перемежая ее богословскими словечками и цитатами из Библии. Братия глядела на «пророка» с немым изумлением. Нарышкин только диву давался. Сумасшествие Аскольда действовало на монахов безотказно.
— Какого же он ремесла будет? — поинтересовался настоятель, рассматривая кружащегося, как турман, по монастырскому двору Рубинова.
— Не стал ни сеять, ни пахать, а вышел к церкви на село.
Влез на паперть, скинул шапку — вот тебе и рукомесло! — нашелся с ответом Аскольд.
— Вот дает! — послышалось в толпе монахов.
— А во славном, было, граде Константина… — продолжал завиваться блаженный. — А и жил себе славен Клавдей царь. Не было у Клавдея отроду ни жилья, ни казны, ни огороду…
— Это становится утомительным! — тихо сказал Нарышкин Терентию.
Однако настоятель монастыря отец Нектарий умильно щурился и потирал пухлые белые руки. Он быстро смекнул, какую выгоду сулит обители собственный пророчествующий блаженный. Настоятель принялся строить планы, как к монастырю потянутся заинтересованные богатые богомольцы, вдовые помещицы с подношениями и прочие жертвователи всех мастей, желающие послушать пророка… «Только бы уговорить его совершить постриг!..». Последнее, впрочем, не представлялось отцу Нектарию затруднительным. Игумен дал указание отвести блаженного в особую келью, присматривать за ним и все, что изречет, надлежащим образом записывать.
— Ушицы ему дайте! — крикнул вслед монахам, уводящим Аскольда, настоятель. Он распорядился, чтобы спутников Нарышкина накормили в странноприимном доме.
Сергея же он принял тет-а-тет в своей просторной, чистой келье, в которой из обстановки были только сундук, два дубовых кресла и огромный, канцелярского вида стол, на котором расположились письменные приборы, стопка амбарных книг и старинное, богато украшенное евангелие изумительной работы. Дело «пророка» обговорили быстро, порешив его к обоюдному согласию на том, что блаженному человеку лучше всего побыть некоторое время в стенах монастыря. Чтобы обеспечить Аскольду должный пригляд и слегка сгладить последствия пожара, Нарышкину пришлось расстаться с одной из двух последних жемчужин. Немного поколебавшись, он передал перламутровую бусину настоятелю, чем весьма расположил его к себе. Отец Нектарий проводил Сергея в смежную с кельей, вполне мирского вида комнату.
Батюшка оказался большим любителем рыбной ловли.
— Рыбалка у нас тут весьма хороша! — отец Нектарий благосклонно сощурил маслянистые, выпуклые глаза и кивнул на синеющую за окном Волгу. — Вот ведь и Сам-осподь, на что уж был свят, а и он не чурался! На Генисарецком-то озере рыбку, поди, лавливал! Это он человеков потом уж стал… — настоятель благожелательно тряхнул главой, когда вошедший служка поставил на стол тяжелый серебряный поднос, на котором были ковчежец с икрой, балык, белый хлеб и изрядная бутыль черного монастырского вина, при виде которых у Нарышкина рот наполнился слюной.
Потом поднесли еще жареных карасей, запеченного в сметане сома и хрустящих соленых груздей, золотые слитки копченой стерляди.
— Лещ у нас тут знатный! — продолжал настоятель. — Во всей Волге лучше не сыщешь… Ну, с Богом! За здравие!..
— Я, сын мой, этих сетей на дух не признаю. Сим занятием у нас братия промышляют. Только на уду и ловлю! Лещ с подлещиком влекутся за милую душу! Однако надобно прикормить хорошенько! А в прикорм — первое дело пареные отрубя! На перловку хорошо берет, мякишем моченым не гребует. Но, — отец Нектарий поднял перст и покачал им, — есть у меня один секрет. Лампадное масло добавляю в прикорм, и они, голубчики мои, аки птахи, слетаются к удилищу!..
Ты вкушай, сын мой, не стесняйся! Иные, в миру, любят прикармливать опарышем, а я — и боже мой! Этак, еще чего доброго, на червя навозного ловить? Ведь червь он кто? — батюшка пытливо посмотрел на уписывавшего балык Нарышкина. — Червь он все равно, что змий на утробе своей влачащийся. Стало быть — гад ползучий! А посему, сын мой, леща бери только на отрубя — вот тебе мое слово! И как только лещ восколебался — тут же подсекай! Да бери его милостивца сачком!.. Твое здравие!
Сергей согласно кивал, отдавая должное восхитительному балыку и чудесному терпкому вину. Монастырская жизнь нравилась ему все больше и больше.
— А белуга какова? — разводил руками настоятель. — Похлеще твоего кита будет! Такой Иону проглотить, что тебе оскоромиться! До десяти пудов рыбину брали! В несколько сажен! Сама серая, что твой пепел… (Нарышкин скромно опустил глаза, вспомнив недавнее пожарище.) …брюхо побелее будет, а нос вохрянной! — отец Нектарий дотронулся перстом до собственного носа. — А с осьмипудовой рыбы аж два с половиной пуда икры брали, вот как!
Сергей слушал настоятеля рассеянно, продолжая думать о своем.
— Пушки вот у Вас, батюшка, во дворе… Говорят, самому митрополиту фейрверк устраивали?
— Да разве это ферверк? — взметнулся настоятель. — Так, только неосязаемый звук один! Владыко даже не заметил. Воробей, к слову сказать, громче чихнет! А пушки — это еще с прошлых времен. Разинцы у нас тут баловали. Бога позабыли, вот и стали нечестивые дела творить.
Отец Нектарий сделал изрядный глоток.
— Много тут по лесам шатается народу всякого… Потому — береженого и Бог бережет… Вот был у меня Никитка-хромой, всем пушкарям пушкарь! Бывало, пальнет так, что аж твердь земная сотрясается — вот какой человек! Под Рождество ежли даст залп — до самой масленой недели в ушах гул непроходящий стоит! А эти только так, попукали малым зарядом и обрадовались — «ферверк»! Хоть бы усовестились сие говорить! Им бы только языки свои злоротые почесать…
— А где же сейчас ваш пушкарь? — поинтересовался Сергей, чувствуя, что разговор для него принимает интересный оборот.
— А-а-а… — протянул настоятель и раздраженно махнул рукой. — В скиту он живет, на острове, версты с две ниже обители. Такой неудобный человек оказался, все равно, что твой алтынный гвоздь в заднице, прости Господи! Взяли мы его к себе из милости. Он-то ведь был кто? Нищеброд, голь перекатная. Валялся по папертям да кабакам, пропил все, что имел, один только крест нательный на нем и оставался. Пожалел я его, думал вразумится, а он прижился, отъелся и давай свой норов выказывать. С братией у него ладу не стало — воры, говорит, мошенники! Одному в рыло, другому… Дошло до того, что он, еретик, на меня голос подымать принялся! — с раздражением буркнул отец Нектарий и хлопнул ладонью по столу.
— И что же дальше было? — заинтересованно спросил Нарышкин, чувствуя, что пушкарь ему уже нравится.
— Велел я его выдрать как следует, дабы гонор свой умерил. Поучили его мои молодцы на славу… Так он, как только на поправку пошел, дал деру из обители. Лодку увел, забрал с собой порох, пушку умыкнул, кладовую почистил, а перед тем, как сбежать, хотел даже бонбу в трапезную метнуть. Вот каков ушкуйник! Уплыл на Волгу, поселился на острове, поставил скит и живет там как … — настоятель, к удивлению Нарышкина, вставил непечатное слово из числа тех, которыми так богат разговорный русский язык. Спохватившись, он искоса поглядел на Сергея, перекрестил рот и продолжал.
— Мы его усовестить пытались. Я людей отряжал, дабы вразумить его. А он, как только лодку с острова завидел, принялся из пушки палить, да так, что едва не перетопил всех! Ужели с таким сладишь? Я об нем и Владыке сообщал и губернским властям жалобы слал, да все без толку! Такой окаянный человек выказался, что Боже упаси!
После трапезы в странноприимном доме путешественников оставили в покое. Урезонившийся Аскольд, испив целебного отвара, крепко спал в отведенной ему келейке. Степан попросился в храм достоять прерванную службу. Заубер, Терентий и Катерина решили вернуться на пристань. Что делать дальше никто не знал. Дорогой компанию нагнал Нарышкин.
— Диспозиция такая, — объявил запыхавшийся «Гроза морей». — Терентий, ты наблюдаешь за рекой. Смотри в оба, нам важно не пропустить пароход Трещинского. Иоганн Карлович, Вы займитесь этими старинными документами. Чует мое сердце, неспроста они были в каюте у Левушки. А я пока возьму лодку и сплаваю в одно место, тут неподалеку. Надо кое с кем перетолковать!
— Сергей Валерьянович, а можно мне с Вами? — неожиданно попросила Катерина.
Нарышкин взглянул на девушку и понял, что в глубине души надеялся и ждал именно этой просьбы.
— Почему бы нет? — он пожал плечами и впервые за весь день улыбнулся.
Плавание вниз по течению, до небольшого лесистого островка, расположенного аккурат посреди реки, много времени не заняло. Взятая у монахов лодка стремительно бежала по воде, подчиняясь мощным гребкам Нарышкина. Поначалу, слегка рисуясь перед Катериной, Сергей не рассчитал силы и едва не переломил весло. При этом он забрызгал девушку с ног до головы, однако потом приноровился, и лодка пошла ровнее. Всю поездку оба молчали, стараясь не смотреть друг другу в глаза.
Хромой Никитка, одетый в какие-то лохмотья, встречал незваных визитеров у самой кромки воды. Маленький, рябой, худой, как цыганская лошадь, заросший апельсиново-рыжими волосами, он пытался отпихнуть лодку и не дать Нарышкину причалить, однако силы были явно не равны.
Награжденный парой добрых затрещин, пушкарь обмяк и присмирел. Молча, поблескивая злыми, умными глазками, он сидел на песке и смотрел аспидом, наблюдая, как Сергей привязывает лодку.
— Я тут тебе собрал кое-чего, — сказал ему Нарышкин, помогая Катерине выбраться на берег. Он тряхнул мешком с провизией, прихваченной у монахов. Из мешка булькнуло. Никитка заинтересованно засопел.
— Веди, что ли, показывай свои хоромы. Дело у нас к тебе! — безапелляционно заявил «Гроза морей», принуждая отшельника осмотреть его жилище.
Бревенчатый скит выглядел несколько кособоким, однако сработан был крепко, и крест над его лыковой кровлей указывал прямо в небо. Вокруг жилища высились холмики рыбьих костей и прочего мусора растительного и животного происхождения. Небольшая пушка на самодельном лафете у входа грозно смотрела в сторону Волги.
— Одичал, верно, совсем? — спросил Нарышкин, с приязнью разглядывая пушку.
— А хули. И одичаешь тут, — хмуро согласился Никитка, в свою очередь поглядывая на мешок.
В хижине попахивало отхожим местом, поэтому разговор состоялся на свежем воздухе, тем более что с невысокого пригорка, на котором стоял скит, открывался великолепный вид на реку. Для начала выпили бутыль монастырского, закусив балыком. Катерина, слегка покрасневшая от искренних слов отшельника, отправилась осматривать остров. Быстро захмелевший Никитка поделился своими взглядами на жизнь.
— Гаменное вино, барин! — заявил он, наливая деревянную плошку, служившею ему бокалом, до краев. — Бога не помнят, потому делать не умеют. Восподь за такую баланду по шеяке наклал бы. Он-то, поди, когда воду на вино пущал, этакой дряни и в рот бы не стал брать!
Разговорившийся отшельник в нескольких словах описал свою прошлую жизнь в обители и свои отношения с монахами, которых именовал не иначе, как «сучьими крысятами».
— Живу, барин, как кобел лесной, зато на воле и с Восподом! — откупоривая очередную бутыль, говорил Никитка. — Такой-то красоты, хошь весь свет изойди, нипочем не сыщешь. Я тут сам себе янарал, потому — воля! Домекаешь? Одежа только вся изветошилась, а так — кум королю! Пропитание — вот оно, в реке, бери, сколько хошь, в лесу грибов — ломай, не хочу. А чтобы христарадить да чужие окна грызть, это не по мне!
— Хорошо тут у тебя, — соглашался Нарышкин. — Только ведь достанут и здесь.
— А ежли «крысюки» сунутся кто, я им ка-а-ак выпишу картечью! Были примеры…
В этом месте разговор плавно перешел к баллистике, и косеющий от выпитого вина отшельник предложил пальнуть из орудия.
— Трехфунтовая, полевая, Олонецкой работы! — любовно похлопав пушку ладонью по стволу, сказал Никитка. — Еще, поди, с Царя-петровских времен!
Он принес из хижины принадлежности для стрельбы. Зарядил пушку, попутно делая пояснения.
— Вот гляди сюда, это — банник; чтоб нагару не было, прочищаем у ей ствол. Это вот — шуфла, в ее кладем картуз с порохом, пробку, ядро и пыж. Всю эту требуху загоняем в нутро и прибойничком притаптываем, — Никитка удовлетворенно крякнул. — Теперь берем и прокалываем картуз. Сыплем порох затравочный, запаляем и па-а-берегись!..
Грохот от выстрела вышел преизрядный. Пушка окуталась едким дымом. Взбив столб воды, ядро хлопнулось в Волгу выше течения.
— Рыбы будет! — удовлетворенно крякнул Никитка. — Только загребай!
— И как далеко летит ядро? — полюбопытствовал Нарышкин, когда звон в ушах немного поунялся.
— Сажен на сто, — ответил пушкарь. — Ну да я кой-чего докумекал и, пожалуй, с треть версты можно накрыть.
«Маловато!», — подумал Сергей, но, тем не менее, выразил восхищение и быстро перешел к сути дела.
Отшельник, несмотря на то, что держал голову уже несколько неуверенно, цель визитера понял сразу. Сдать орудие внаем он согласился, хотя и выдвинул некоторые условия:
— Одежи какой-никакой привезешь, это «раз», — сказал он, загибая грязный палец. — Обужу, это «два»… И гамна этого, винища монастырского, побольше — это «пять».
Глава одиннадцатая НА АБОРДАЖ!
«Но что ж? Корабль без парусов
Игрушкой стал ветров и валов,
И носится он в море, как колода,
А в первой встрече со врагом,
Который вдоль его всем бортом страшно грянул,
Корабль мой недвижим: стал скоро решетом,
И с пушками, как ключ, он ко дну канул».
(И. А. Крылов)Когда возвращались назад, завечерело. От воды потянуло холодком. Катерина зябко поежилась, и Нарышкин набросил ей на плечи свою венгерку. Девушка посмотрела на него с благодарностью, однако Сергей был рассеян. Под мерный скрип уключин «Гроза морей» задумался. План возврата сокровищ окончательно дозревал в его буйной голове.
«Подплыть на лодке и под угрозой расстрела в упор потребовать клад обратно. Для острастки можно и пальнуть разок над палубой… Или так: переодеться в монахов, подплыть поближе и, пока они не успели опомниться, — на абордаж! Всю банду с парохода ссадить в шлюпки, дать немного провианта и хорошего пинка… Пусть отправляются ко всем чертям… Так поступил бы Морган, Томас Тью или Вильям Кидд…
Стоп! Морган не стал бы конфетничать, а попросту перерезал бы им всем глотки. Мертвые не кусаются… — Сергей нахмурил лоб. — Но мы же не можем поступать, как какие-нибудь головорезы… Ладно, пусть живут! Главное — захватить пароход и на нем направиться вниз до Самары или, скажем, до Астрахани. Там можно будет перегрузить сокровища в дорожные сумки, купить у казаков коней и растаять в приволжских степях…(Эта фраза показалась Нарышкину весьма романтичной, и он про себя повторил ее дважды.) А как же отпустить этого негодяя Левушку?!.. Нет, Трещинского нужно непременно вызвать стреляться! Непременно… А если не повезет, и он меня ухлопает? — Нарышкин поежился. — Ну, так что ж, честь жизни дороже… А с Катериной как быть? Она же без меня пропадет! И, потом, надо все-таки с ней объясниться…».
Катерина сидела на корме лодки и время от времени бросала на Сергея быстрые взгляды. Один из них Нарышкин поймал и, глядя в глаза девушки, принялся, фальшивя, напевать недавно сочиненные строки:
— Катя-Катерина, Бог судья. Отчего ты, Катя, не моя?! Сердце и душа горят в огне. Катя-Катерина, вспомни обо мне! Катерина заерзала на лавке.«Теперь или никогда!», — мелькнуло в голове у Сергея. Он сделал несколько сильных гребков и опустил весла. Почувствовав себя обнадеженным, продолжил:
— Катя-Катерина, дай ответ: Ты меня полюбишь или нет? В петлю с головою, Если не с тобою!«Насчет петли, пожалуй, переборщил, — подумал Нарышкин. — Может так:
„В омут головою…“, или: „В пулю головою…“? Нет, „омут“, пожалуй, лучше. Ну да ничего, потом переделаю!».
Сергей кашлянул, мысленно перекрестился и начал:
— Знаете, Катенька, нам наконец надо поговорить. Хватит уже от себя бегать…
— Ну что ж, говорите, Сергей Валерианович, — ответила девушка, и ресницы ее затрепетали.
Ответ ободрил, но нужные слова как-то не приходили.
— Ну так вот, Катерина…Степановна, — выдохнул «Гроза морей», чувствуя, что лицо становится пунцовым.
Сергей с тоской посмотрел на гаснущий небосвод.
— А может, нам эту затею с кладом оставить? — сказал он внезапно для самого себя.
— Как же так, Сергей Валерианович? Уж столько-то страху натерпелись и все бросить?
— То-то и оно! Замотал я вас совсем. И сам, признаться, замотался изрядно. Гоняемся за сокровищем, словно за призраком неосязаемым! И все без толку… Театр спалили, Аскольд вон, совсем с ума попятился, сами чуть богу душу не отдали. Я ж не за себя боюсь…
— Ничего, Сергей Валерианович, сдюжим! — ответила Катерина с неожиданной решимостью в голосе.
— Вот за что и … («Нет, ну все, хватит вокруг да около ходить», — подумал Нарышкин, чувствуя, что нужный момент наступил.)
— Катенька, нашел я уже свой клад бесценный и терять его не желаю… Ведь люблю я тебя… Сразу полюбил, да только сказать как следует не мог. Если б ты согласилась женой моей стать, так и желать мне больше нечего! Давай в имение вернемся… заживем, хозяйство поднимем…
«Как „женой“?.. Почему „женой“? Какое, к дьяволу, „хозяйство“? — пронеслось в голове Нарышкина. — Зачем я это говорю?», — подумал он, чувствуя, как покрывается испариной.
Однако слова уже были сказаны, и девушка, подавшись к нему, нежно тронула за плечо:
— Эх, Сергей Валерианович… Сережа… Розан ты мой пионовый! Полюбила я тебя на ответ, да так, что который день уж ног под собой не слышу! Только мне самой за себя решать… Согласная я, пойду с тобой под венец, но не теперь, а когда ты врага своего достанешь! Клад не клад, да только не хочу я, чтоб ты потом всю жизнь себя корил и меня заодно, что дело свое начатое до конца не довел. А уж если сгинуть нам тут на реке придется, так на все воля божья…
Нарышкин схватил ее руки и стал порывисто целовать, потом сжал девушку в объятьях и припечатал ее губы долгим поцелуем.
— Ну все, пусти, задушишь меня совсем, медведь такой… — Катерина наконец высвободилась из стиснувших ее рук. — Прямо медведь и есть… Вон как растрепал всю!
— Ну, так меня приручить можно… — пошутил Нарышкин.
— Уж не знаю, как этакого разительного мужчину и приручать! — немного жеманно сказала Катерина. — Но уж ежели приручу, то хозяйка у вас, Сергей Валерьяныч, одна будет!
Нарышкин содрогнулся. Катенька кокетливо улыбнулась и чмокнула его в щеку.
«Пропал. Совсем пропал. Облупили как белочку! — подумал он. — Вот так под каблук и попадают. А… ну и пусть… наплевать да размазать!»
Сергей снял с ее плеч венгерку и бросил на дно лодки, затем обхватил девушку за талию и потянул на себя.
Они вернулись к монастырю далеко за полночь. Лодка против течения продвигалась медленно. «Гроза морей» греб вяло. Он чувствовал себя слабым, будто вареный петух. По телу разливалась приятная истома, в голове шумело, как во время похмелья. Хотелось спать. Катерина, напротив, сидела гордо и прямо, по привычке слегка опустив глаза, и с трудом удерживала торжествующую улыбку.
«Как баба на чайнике!», — подумал Нарышкин.
— Жизнь у нас с тобой, Сережа, размалиновая будет! — мечтательно щебетала Катенька. — Тебя только от питья отбить надобно! У меня душа к такому непереносчива. Где ж это видано, чтоб каждый божий денек как клюковка наливаться?! Себя, мой золотенький, надобно понимать, помнить и держать. Ты, Сережа, не обессудь, будто Саврас без узды! Сорвался с привязи, нарушил флакон и присосался к нему, как пиявица, глядь — уже и нарядился! — Катерина истомно потянулась. — Вот найдем клад, забогатеем, денежку на черный день припасем и заживем с тобой, как за пазушкой — шире масленицы! А там уж и хозяйство путем пойдет!..
Нарышкин молчал и греб, ворочая веслами так, будто они были пудовыми. «Пропал, что с воза упал!», — думал «Гроза морей», хмуро глядя на темную воду.
На берегу их встречал подозрительный и мрачный Степан.
— А вот и тестюшка дорогой! — буркнул себе под нос Нарышкин, высаживая Катерину из лодки. Выходя, она сжала ему локоть, успев шепнуть на ушко, жарко выдохнув: «Золотенький мой!».
Неподалеку от воды мерцал огонек костра. В ожидании своего предводителя товарищество «Нарышкин и К» грелось у огня и пекло картошку. Заубер корпел над бумагами, по-прежнему ничего не замечая вокруг. Терентий помешивал угли.
— Докладываю, — сообщил он. — Пароход видал. Трубу они поставили, артель бурлаков подрядили и, по всему видать, завтра поутру стащат их с мели.
— Значит завтра решающий день! — стряхивая с себя остатки вялой истомы, объявил Сергей. — Жребий брошен, Рубикон перейден! Толкни немца, дядька Терентий, будем держать совет!
Спать легли, когда уже брезжил рассвет. Усталый, вымученный, опустошенный Нарышкин упал ничком у костра, как куренок, свернулся в ком и заснул накрепко; так, как говорят в народе: «Спит, точно коноплю продал». Во сне в который уже раз к нему пришатался Царь Иван.
— Почто добро мое к рукам прибрал, сучий пащенок? Ужо ли тебе златом владети? Тебе с гузном немытым на трон царский садиться? Не быть сему!
Царь угрожал, топал ногами, матерился, как ломовой извозчик, но Сергей дрых кирпич кирпичом и на провокации самодержца не реагировал.
Утром его с трудом растолкал дядька Терентий. Нарышкин мучительно долго приходил в себя.
— Вставайте, сударь! Пора Ваше добро отвоевывать! — воинственно сообщил дядька, плеснув на барина волжской водицей.
— Что такое… Отставить купание… Прокляну навеки, от церкви отлучу! — возмутился «Гроза морей», возвращаясь из объятий Морфея.
Стали грузиться в две лодки. Вторую, впрочем как и первую, пришлось позаимствовать у монахов. У них же «взяли в аренду» несколько ряс и клобуков. Терентий ночью ходил в монастырь и вернулся не с пустыми руками.
— Вина прихватил? — сонно моргая, спросил Нарышкин.
— Пяток бутылей к ногтю пришил, — усмехнулся дядька.
— Дай одну! — потянулся Сергей. — Нашему островитянину и так за глаза хватит, а мне боевой дух поднять надобно!
Он раскупорил бутыль и, запрокинув вихрастую голову, забулькал из горлышка.
— Будет Вам! — прошипела сквозь белые, как кипень, зубки, незаметно подошедшая Катерина. — С утра уже начинаете! Что ж Вы ее, как конь запаленный, пьете?..
— Ты мне вчера что обещал? — сказала она, придвинувшись и прибавив в голос немного интимности. — Хватит лакать-то, ступай в лодку!
Нарышкин оторвался от бутылки и вымученно улыбнулся, глядя на девушку мутноватыми глазами.
«Как она похожа на своего папу!», — подумал он со злобной нежностью.
До острова доплыли быстро. Никитка уже поджидал гостей и в нервном напряжении, прихрамывая, ковылял по песку взад вперед.
— Привез? — крикнул он, когда обе лодки еще только собирались причалить.
— Как обещал! — Нарышкин спрыгнул в воду и вывалил на берег груду монашеского одеяния.
— Что ты мне мануфактуру кажешь, пойла привез, ай нет?! — почти выкрикнул рыжий отшельник, стиснув худые веснушчатые кулачки.
— На вот, держи, Робинзон! — Сергей протянул ему котомку с монастырским вином. — Чем ушибся, тем и полечись!
— Всего-то? — разочарованно протянул пушкарь, бегло ознакомившись с содержимым котомки. — Это мне на один укус.
— Будет с тебя и этого, — ответил Сергей. — Ты нам тут еще живой понадобишься. Если подсобишь, такого добра у тебя море разливанное появится, хоть с головой купайся!
— Когда будете запой делать, меня возьмете с собой? — неожиданно смягчившись, спросил Никитка. — Одубел я тут совсем, мохом оброс, будто леший. Сижу на этом острове, как вошь в пироге, а душа раскачнуться желает! Баб уже, почитай, год не нюхал, — добавил он, плотоядно покосившись на Катерину.
— Где ж мы тебе, сиволапому, тут баб сыщем? — недипломатично встрял было Степан, загораживая дочь собой, но Сергей отстранил компаньона.
— Все, будет! — успокоил «Гроза морей». — Мы с тобой, Никита, еще черта за уши подержим! Ты нам только помоги немного, а вино и женщин мы тебе обеспечим в избытке, верно, Терентий?
— Девок, что репок! — философски подтвердил дядька.
Никитка просиял, как масленый блин, и откупорил бутылку.
— А не обманете? — спросил он с тревогой в голосе.
— Чтоб мне болтаться на рее! — поклялся Нарышкин и сделал выразительно страшное лицо.
Покуда отшельник поправлял голову, «Гроза морей» сотоварищи снова держал совет.
— Итак… — оглядывая команду, сказал Нарышкин. — Нас пятеро вместе с Робинзоном, Катерина не в счет. У нас две лодки, пушка малого калибра и дуэльный пистолет. Для начала военной компании уже достаточно! Сколько у нас снарядов, Никита?
— Этого добра у нас, что песку морского! — немного туманно заверил островитянин.
— А точнее?
— А точней — два ядра и картечный заряд. Божья обитель не склад воинский. Что ближе лежало, то и прибрал. Спасибо еще, что это сыскалось!
Нарышкин нахмурился и немного помолчал.
— Ладно, план, как и уговаривались, такой: мы переодеваемся в монастырские обноски, садимся в лодки и старательно изображаем сюжет картины «Чудесный улов». Не помню, чьей кисти полотно, но суть, я думаю, ясна! Терентий, только, чур, в этот раз песен этих своих не пой!
Как только объявляется пароход Трещинского, Робинзон стреляет из пушки, стараясь сбить руль или сделать так, чтобы они потеряли ход. Покуда они не успели опомниться, мы атакуем с обоих бортов, берем пароход на абордаж, далее — короткая схватка на палубе и мой поединок с главным негодяем, то бишь мерзавцем Левушкой. Злодей побежден и наказан, мы забираем клад, плывем с ним дальше и в ближайшем порту устраиваем грандиозную оргию в древнеримском вкусе. Некоторый опыт у вас уже имеется, так что с этим загвоздки не вижу, — Сергей усмехнулся и встретился глазами с возлюбленной.
Катерина стояла кувшинчиком — уперев руки в бока. Весь вид ее свидетельствовал о том, что идею с оргией она не разделяет. Нарышкин отвел взгляд.
Доселе молчавший Заубер критически покачал головой:
— Это есть неправильно! Один пистолет и один пушка много не навоевать! Надо еще оружие!
— Наше главное оружие — внезапность! — трубил Сергей.
— А я говорил вчерась, надо было ночью их брать! — заявил Степан. — Ночью мы бы их враз одолели!
— Ночью они уже ученые, — вставил свое слово Терентий. — Этаким манером теперь к ним не подберешься!
— Верно! — одобрил Сергей. — Наш главный козырь — внезапность. Днем они не будут ожидать нападения! С Трещинским я справлюсь, молодцы его мне тоже не страшны, вот только, пожалуй, с великаном тем повозиться придется… Впрочем, Иоганн Карлович прав, нам нужно еще оружие.
— Языком-то мы все мастера будто на гуслях играть, — буркнул Степан. — А ну, как до дела дойдет, кому воевать-то?
Спор нарушил отшельник. Он подошел к компании; икнув, бросил на землю перед Нарышкиным небольшой плотницкий топорик и ржавый обломок косы.
— Вот. Есть еще ружжо. Я с ним на уток ходил. Патронов только мало. Но ружжо есть.
— Никитушка, голубь сизокрылый, — расплылся в улыбке «Гроза морей». — Это же целый арсенал!
В томительном ожидании прошло все утро и часть дня. Переодевшись в монастырское платье, товарищество «Нарышкин и К» сидело наготове у лодок. Терентий, приладив обломок косы к крепкой палке, затачивал получившееся копье. Заубер не расставался с бумагами, взятыми из стола Трещинского, и с головой ушел в их изучение. Никитка, выкушав бутыль, дремал возле пушки.
Припекало. Пароход не являлся. Помрачневший, как грозовая хмарь, Нарышкин нервничал, в который раз проверяя свой дуэльный лепаж и охотничье ружье, сыскавшееся в жилище отшельника. Вниз по течению проплыла утиная вереница барок, вверх прошлепал огромный трехпалубный «американец» общества «Самолет». Он прошел довольно близко от островка, и пробудившийся Робинзон, не разлепивши глаза, кинулся было палить из пушки, однако его вовремя удержали.
После обеда поднялся сильный ветер. Небо помутнело, и на него стала громоздиться тяжелая, как булыжный камень, огромная, фиолетовая с рыжими подпалинами туча. Вдалеке за рекой уже слышалось сердитое ворчание грома.
— Гроза будет! — уверенно сказал Терентий.
Произнес он это вполне буднично, однако Нарышкин почувствовал: «Вот оно! Момент настает!».
Ветер дунул с неистовой силой, будто метлой поднял в воздух водяную и мелкую песчаную пыль. В небесах раскатисто ухнуло, загрохотало и рассыпалось горохом окрест. Волга пошла белыми барашками. Деревья на острове заходили ходуном, как во время доброй пирушки. С крыши скита стало рвать лыковую кровлю.
— Вон они! — неожиданно закричал Степан. — Вижу пароход!
— Все в лодки! — взревел «Гроза морей»! — Катерина, ты остаешься здесь! Терентий, буди Робинзона!
Никитку растолкали, он вскочил к пушке и, щуря глаза от летевшего песка, пристроил к стволу самодельный прицел-диск.
— Почитай, с полверсты будет! — крикнул он, вглядевшись. — Отсюдова не дострелить!
— Ах, дьявол! — Нарышкин всмотрелся в приближающийся силуэт парохода. Трещинский держал ближе к левому берегу. Далеко, слишком далеко…
— Собирались, как вор на ярманку — и на тебе! — простонал Степан. — Что делать-то будем, сударь?
— Грузите пушку во вторую лодку. В ней поплывем мы с Робинзоном. Никита, бросай туда свои причиндалы! В первой лодке — Степан, Терентий и Иоганн Карлович! Давайте живее!
Катерине показалось, что в этот момент, накануне решающей битвы, ее суженый был одновременно прекрасен и ужасен. Его благородное лицо стало вдохновенным и ярко-розовым, как слегка разбавленное вино. «Гроза морей» метался по берегу и ревел, как бык на бойне, отдавая приказания:
— Лодки на воду! Берись за весла! А-а-а… проклятье… кто положил здесь ядро?!
На минуту замершая в пень Катерина вдруг очнулась и, заголосив, как плакучая баба, бросилась на шею Нарышкина.
— Сережа, я с тобой! Я тут одна не останусь!!! «Гроза морей» хотел, было, выругаться, но слова комом застряли в груди.
— Садись в лодку! — только и смог сказать он.
Обе посудины, переваливаясь на волнах, отплыли наперерез пароходу. Поминутно всех, кто находился в них, окатывало водой.
— Оставалась бы на берегу, дурочка! — стараясь перекричать громовые раскаты, почти ласково выпалил на ухо Катерине Сергей. — Чего за нами увязалась?!
— А случись что, мне там одной сидеть, смерти дожидаться?! — крикнула в ответ девушка. — Меня бросишь, как истопку с ноги, а сам в непотребные дома подашься оргиев устраивать!
Лодку сильно качнуло. Катерина судорожно схватилась за борт. Ее глаза расширились от страха.
— Вот погоди, вернемся на берег, я те покажу оргиев, — тихо добавила она, втягивая голову в плечи.
— Эх, не потопнуть бы! — отозвался Никитка. — Я-то плаваю, как колун!
С неба упало несколько тяжелых капель.
— Ежели порох замочит, тогда кранты, отвоевались! — отшельник озабоченно посмотрел вперед. — Правее забирай. Вон они, теперь уж недалече!
— У тебя все готово, Робинзон? — выправляя лодку, спросил Нарышкин. — Может, уже пора?
Никитка неожиданно стал серьезным.
— А оно того стоит? — спросил он, испытывающим взором глядя на Сергея.
— Стоит, — коротко ответил Нарышкин. — Пали!
— Эх, мать честная! — отшельник прицелился и запалил фитиль.
Перекрывая грохот небесный, пушка выметнула из себя пламя. При этом она подпрыгнула. Хруст, раздавшийся от удара орудия о дно лодки, услышан не был — у всех заложило уши. Ядро просвистело прямо перед носом парохода, срикошетило об воду, отпрыгнуло от нее, словно удачно пущенный плоский голыш, и взбило султан брызг неподалеку. В первой лодке послышался дружный стон разочарования.
— Не попал! — воскликнул Нарышкин.
Никитка покраснел, точно обваренный.
— Разве на этакой волне мыслимо с первого разу попануть? Это тебе не лапоть сплесть, тут пристреляться надобно! А ну, подай мне банник!
— Давай, Никитушка, давай пока они не ушли!
— Даю! — воскликнул Никитка, посылая в дуло новый заряд.
С трудом балансируя в качающейся на волнах лодке, он затолкал в пушку второе ядро.
— Тут вода! — вскрикнула Катерина, указывая пальцем на фонтанчик, бьющий из днища. — Вон уже сколько натекло!
«Гроза морей» сорвал с головы картуз:
— На, вот, держи, будешь вычерпывать!
Снова адски грохнуло, но уже над головой. Небеса, казалось, разверзлись, обрушив вниз потоки воды. Пароход почти скрылся из виду за стеной ливня. Мгновенно все вымокли до нитки.
— Прикройте меня! — закричал пушкарь. — Я заложил весь порох, что был!
Сергей бросил весла и растянул над запальным отверстием венгерку. Вода прибывала. Ее в лодке теперь было уже выше щиколотки.
— Давай, голубчик, давай… — торопил Нарышкин.
— Эх, была не была! — Никитка перекрестился. — Ну, куда бог пошлет…
Прикрываясь от дождевых струй, он вновь запалил фитиль… А дальше произошло то, чего никто из находившихся в лодке предугадать не мог. Раздался страшный грохот. Пушка плюнула огнем и едким дымом, стремительно отпрыгнула назад и пробила корму. Через мгновение где-то впереди за белесой вуалью дождя прогремел взрыв. Яркая вспышка разодрала пелену ливня.
— Кажись, попали! — немного обескуражено констатировал Робинзон.
— Тонем! — не своим голосом закричала Катерина.
Вода стремительно прибывала, и лодка, которую заливало теперь и сверху и снизу, погружалась все быстрее.
— Пушку долой! — воскликнул Нарышкин, мощными гребками пытаясь сократить расстояние между тонущей лодкой и пароходом Трещинского.
— Я ее не брошу! — крикнул в ответ Робинзон.
— За борт ее, дурень, не то потонем все! — приказал «Гроза морей», не прекращая отчаянно работать веслами. Бросай, я тебе новую куплю!
Робинзон всхлипнул, обхватил горячий ствол двумя руками и, поднатужившись, вытолкнул тяжелое орудие из лодки. При этом он не устоял на ногах, поскользнулся и тоже повалился за борт.
— Он же плавать не умеет! — взвизгнула Катерина, не переставая, однако, вычерпывать воду картузом.
— Держись! — крикнул ей Нарышкин и прыгнул вслед за отшельником.
Он нащупал барахтающегося в воде Никитку, ухватил его за рукав и потянул на себя. Рукав подался легко, так и оставшись зажатым в ладони Сергея.
«И впрямь поизносился весь…», — успел подумать «Гроза морей», вспомнив живописные лохмотья отшельника. Он набрал побольше воздуха, нырнул и успел подцепить идущего топором ко дну Никитку за шевелюру. Темная вода завертела, закрутила обоих. Перед глазами Сергея поплыли круги…
Выныривали, как показалось, бесконечно долго. Волга-матушка никак не хотела выпускать из своих цепких объятий…
Первое, что увидел Нарышкин по возвращении на поверхность, был нависающий над ним на расстоянии сажени борт парохода. Лодки с Катериной нигде не было видно. Сергей закашлялся и подтянул к себе обмякшее тело Никитки. Держа отшельника одной рукой так, чтобы его голова была на поверхности, он с трудом подгреб к пароходу и ухватился за свисающий вниз обрывок каната. «Кострома» глубоко сидела в воде, накренившись на правый, ближний к Сергею борт, вдоль которого покоилась смятая, искореженная взрывом труба. Часть надстроек и борта было разрушено, волны плескались выше ватерлинии, грозя захлестнуть палубу. Пароход развернулся теперь поперек течения. Из его стального нутра валил густой пар вперемешку с дымом.
— Ты что ко мне присосался как гроздь! — отплевываясь, высказался Нарышкин, стараясь привести отшельника в чувство.
— Сам присосался! — булькнул Никитка и зашелся кашлем, хрипя и выплевывая воду.
— Жив, слава Богу! Держись за канат!
— Кажись, мы им котел разнесли, — продолжая отхаркиваться, заметил Робинзон.
Вверху на палубе послышался топот.
Хорошо знакомый Сергею голос воскликнул: «Капитан, вы не смеете! Немедленно вернитесь!».
Другой голос ответил с вызовом, в котором чувствовался страх: «Сударь, идите к черту! Пароход тонет. Советую Вам спасать свою шкуру!».
«А-а, уже грызетесь, крысы», — не без злорадства, подумал Нарышкин.
— Вы не имеете права бросать корабль, пока на нем остаются пассажиры… и груз!
— Я нанимался управлять судном, но, черт возьми, я не собираюсь стать пушечным мясом для Ваших приятелей! Я с самого начала понял, что тут дело нечисто… Уйдите с дороги!
Послышался звук борьбы, а затем раздался выстрел и шумный всплеск.
Мимо держащихся за канат Нарышкина и Робинзона, проплыло тело человека в белом кителе речного пароходства.
— Капитана убили! — просипел Никитка, выпучив глаза на мертвеца, за которым в воде тянулся кровавый след. — Это что ж такое делается?!
— Им не впервой! — прохрипел Сергей. — Капитаны у этих милых господ не приживаются!
Стиснув зубы, он подтянулся по канату вверх и, не выпуская его из рук, осторожно выглянул через отверстие шпигата на палубу.
Трещинский стоял к нему спиной и разговаривал теперь с одним из своих помощников. Фигуры последнего не было видно за надстройкой, но по голосу Сергей узнал Николая Петровича.
— Что можно сделать? — стараясь сохранять спокойствие, спросил Трещинский.
— А что тут сделаешь! — отвечал исполин. — Готовьтесь, Лев Казимирович, скоро будем с Вами кормить рыб! Кочегаров обоих — сразу на месте… Пантюха и Митяй — раненые, лежат, как камушки. Рулевой, собака, кажись, за борт сиганул. В дыру вода хлещет… Плохо дело. Надобно нам с Вами ноги уносить!
— Merde! — оглядываясь вокруг, но, очевидно, не замечая Сергея, выругался Левушка. — Откуда у них пушка?
— Кончать с ними нужно было еще в имении, — прорычал Николай Петрович. — А Вы все бирюльничали… Теперь, поди вот!
— Сколько выдержит лодка? — спросил Трещинский, понизив голос.
— Нас с Вами сдюжит. А вот поклажу — навряд, — раздраженно отвтил великан. Говорил я Вам — не ломите цену. Надобно было сбагрить все добро сразу, сейчас бы уже как сыр в масле катались! Эх, сударь… Теперь уж поздно… Берите, что в карманах поместится, да и с Богом!
— Грузите лодку! — приказал Трещинский. — Возьмите только все самое… Впрочем, Вы знаете, что нужно взять!
— Да уж не извольте сомневаться… Как быть с Вашей мамзелью?
— С ней я разберусь, — отрезал Левушка. — Не мешкайте!
Где-то невдалеке треснул одинокий выстрел. Пуля, срикошетив от надстройки, ударилась в фальшборт, вместе с каплями дождя запрыгала по мокрой палубе.
Трещинский пригнулся и выстрелил в ответ. С грохочущих небес сорвалась ослепительная молния и ударила в воду совсем близко от парохода.
— Там монахи какие то! — прогудел Николай Петрович, и в голосе его Сергею послышалась озадаченность.
— Какие, к черту, еще монахи?!
— В лодке… Гребут сюда.
— Откуда тут могут быть монахи… зачем монахи? Стреляйте — это Нарышкин! — взвизгнул Левушка, разряжая длинноствольный револьвер американского образца.
(«Эх, нам бы такую штуковину», — позавидовал Сергей.)
С борта парохода в направлении подходившей лодки захлопали выстрелы. Нарышкин, пользуясь отвлекающим моментом, ухватился за планширь, кряхтя, подтянулся на руках, перекинул свое тяжелое тело через фальшборт и метнулся в открытую дверь надстройки. Внутри парохода раздался скрежет. Судно вздрогнуло и накренилось еще сильнее. Сергей не удержался на ногах и ударился раненым плечом о переборку. Острая боль обожгла всю руку. Снаружи на палубе вновь послышалась беспорядочная пальба, а затем голос Николая Петровича прогудел, будто в трубу:
— Ужо, мы им сыпанули. Драпают, словно настеганные!
— Спускайте лодку! — приказал кому-то великан. Сергей постоял некоторое время, прислонившись к переборке и потирая ушибленное плечо.
— Только бы не случилось беды с Катериной, — подумал он. В памяти всплыли ее слова, сказанные накануне: «Розан ты мой пионовый!». — Хорош «розан», — невольно улыбнулся Сергей…
По палубе вновь протопали тяжелые сапоги. Стало слышно, как заскрипели тали. «Спустили шлюпку», — догадался «Гроза морей».
— Осторожнее, дьявол вас возьми! — срывающимся фальцетом выкрикнул голос Левушки.
— Нервничаешь, — с наслаждением подумал Нарышкин. — Это правильно! То ли еще будет!
Было слышно, как что-то тяжелое спустили в лодку. Затем раздался тупой приглушенный удар, хриплый вскрик и последовавший за ним шумный всплеск. Еще один знакомый голос истошно завопил:
— Постойте! Зачем это?! Мы так не договаривались!
— Вы, конечно, неплохой актер, господин Нехлюдов, — с усмешкой ответил из-за переборки Левушка. — Однако роль свою Вы уже отыграли. Да и места мало в лодке, Вы уж не обессудьте…
— Заканчивайте с ним, Николай Петрович!
Послышался новый удар и сдавленный крик. Нарышкин содрогнулся, представив себе происходящее на палубе. «Ну и жрите друг друга!», — с ненавистью подумал он. Только сейчас Сергей понял, что стоит уже по щиколотку в воде.
— Готовы оба, — сообщил исполин. — Прощайтесь с вашей мамзелью, господин Трещинский, и айда отсюда.
Левушка расхохотался.
— Сколько в вас весу, Николай Петрович? — спросил он, явно ерничая.
— Это Вы к чему клоните? — озадаченно ответил исполин.
— Вы не догадываетесь, кто будет следующий? — голос Трещинского окреп и звучал теперь почти спокойно.
— Вы что же это, собираетесь меня убить?.. Ах ты тля! — взревел Николай Петрович. — Неужто и впрямь осмелишься… Да ведь я тебя…
— Я Вас и пальцем не трону, — поспешно заверил Левушка.
— Это сделаю я! — раздался еще один голос.
Нарышкин, стараясь не шуметь, прокрался по коридору и выглянул сквозь приоткрытый иллюминатор на палубу. Позади великана, держа в изящной руке взведенный револьвер Лефоше, гибкая, как борзая, стояла «Настасья Нехлюдова». Нарышкин поймал себя на том, что в который раз невольно ею любуется.
— Ишь ты, бабу свою на меня натравить решил… — удивился Николай Петрович, оборачиваясь назад. — Раздавлю обоих, как клопов…
Он сделал шаг по направлению к актрисе. Та слегка отступила и, прицелившись, одну за другой стала всаживать пули в грузное тело гиганта. Каждый раз после выстрела небрежным и ловким движением она взводила курок.
— Один, два, три… — непроизвольно считал Нарышкин.
Николай Петрович, слегка морщась после каждого попадания, вытянув вперед руки, молча шел навстречу своей смерти.
— Четыре, пять…
Промахнуться было невозможно. Шестой выстрел побледневшая, как полотно, актриса сделала почти в упор.
Взревев, как бык на бойне, великан рухнул на палубу.
— Однако… — пробормотал Левушка. — Экий здоровяк! И как Вам, право, не жаль…
— Помилуйте, какая может быть жалость? — усмехнулась «Настасья Алексеевна», и поправила мокрые волосы. — Он ведь только что убил моего «отца»!
— Вот мерзавка! — содрогаясь, подумал «Гроза морей» и ему вспомнилась ночная сцена в каюте Трещинского. — А ведь она могла меня тоже…
Пароход снова вздрогнул и заскрежетал. Новая порция воды хлынула на палубу.
— Я захвачу кое-что в своей каюте, — поспешно кинул Трещинский актрисе. — Ты ступай на мостик. Если приблизятся монахи в лодке — стреляй, это люди Нарышкина.
Левушка шагнул в коридор и едва не задел прижавшегося к переборке, старавшегося не дышать Сергея.
Нарышкин осторожно шагнул следом. Он прокрался по коридору до дверей Левушкиной каюты и заглянул внутрь.
Воды здесь было уже по колено, и она прибывала с каждой секундой. Пароход заметно «клевал носом». Полячишка, чертыхаясь, лихорадочно искал что-то в своем столе и, казалось, не замечал ничего вокруг. Сергей тихо вошел, осторожно приблизился к Трещинскому…
— Что-то потеряли, господин Трещинский? — почти ласково спросил Сергей.
— Ты! — Левушка резко обернулся и тут же получил один из тех ударов, которыми дворянин Сергей Нарышкин по праву гордился. Трещинский перелетел через стол, ударился о переборку, на секунду прилип, казалось, к ней, а затем, кулем рухнул вниз и некоторое время лежал на столе без движения. При этом револьвер его с длинным дулом отлетел в дальний угол каюты и, булькнув, скрылся в воде.
— Да ты живой ли? — поинтересовался Сергей, слегка морщась. Боль в плече давала о себе знать.
Он наклонился над своим врагом, поправил его запрокинутую голову и не без удовольствия отвесил несколько звонких пощечин, гулко отозвавшихся в заполненной водой каюте. Трещинский замычал и с трудом растворил правый глаз. Другой его глаз закрылся, видимо надолго.
— Пятачок придется приложить, — озабоченно сказал Сергей, осматривая сильно поврежденный участок холеного, ненавистного ему лица.
Левушка застонал и выругался. Одинокий глаз его пылал злобой.
— Что, Сережа, дорожку в мою каюту протоптал?! — с ненавистью выдавил из себя Трещинский. — Рукопись к рукам прибрал?! — он зашелся хриплым кашляющим смешком. — А впрочем, черт с тобой. Ты все равно не поймешь, что попало тебе в руки!..
Нарышкин схватил Левушку за ворот и, сильно тряхнув, стащил со стола.
— Я, может быть, и сохраню твою жалкую жизнь, а ты взамен расскажешь мне про эти бумаги. Что в них?!
Трещинский затрясся, захихикал, как китаец.
— А вот не скажу! Что ты сделаешь? Убьешь меня?
За бортом раскатисто грохнул гром. Пароход затрещал и еще больше зарылся носом. Оба, и Сергей, и Левушка, не удержавшись на ногах, повалились в воду, доходившую теперь почти до пояса. Где-то в железном чреве корабля зазвенела, посыпалась посуда. Трещинский, воспользовавшись секундным замешательством соперника, извернулся ужом и схватил Сергея за горло. Он был достаточно жилистым и имел крепкую хватку, однако природное здоровье и кряжистое сложение Нарышкина не шло ни в какое сравнение. Сергей разжал пальцы на своем горле и припечатал здоровый глаз Левушки кулаком левой руки. Удар вышел смазанным, но цели своей достиг. Трещинский обмяк и осел.
— Кур-р-ва! — выругался он по-польски, шаря руками в воде.
— Я ничего не вижу. Ты мне глаз выбил!
Сергей, крепко ухватив его за ворот, пинком направил к двери. — А ну, пошел! Я с тобой позже поговорю, негодяй!
— Постой! — вскрикнул Левушка изменившимся голосом. — Предлагаю тебе сделку! В трюме парохода — вещи из клада. Очень ценные вещи. Они твои!
— Не темни! — Сергей пнул Трещинского коленом.
— Забирай себе клад, — извивался Левушка. — Бери его, пока не поздно! А меня отпусти. Там, за бортом, небольшая лодка… В ней только сундучок с личными вещами… Отпусти меня! Я сяду в эту лодку и поплыву себе с Богом! А, Сережа, договорились?!
— Нет! — отрезал Нарышкин. — Не договорились. Что в сундуке?
Трещинский зашипел и сделал очередную попытку вырваться. Сергей оторвал его от палубы и встряхнул, будто мешок с картошкой.
— Там… там только книги и больше ничего!
— Книги из царской библиотеки?
— Какая тебе разница… Бери себе клад. Мне нужен только этот сундук в лодке… и еще рукопись — ту, что ты взял! Отдай ее мне!!!
— Черта с два, мерзавец! Ну, пошел вперед! — Нарышкин снова наподдал Левушке коленом. Он выволок Трещинского на залитую водой палубу. Лодка с большим, обитым жестью сундуком моталась у борта. Тонкий канат, за который она была пришвартована к пароходу, имел достаточную длину.
— Никитка, ты здесь? — крикнул Сергей оглядываясь.
— Здеся! — слабым голосом отозвался пушкарь. Ухватившись дрожащими руками за едва выступавший теперь из воды планширь, он все еще болтался по ту сторону борта.
— Лезь сюда! Хватит там прохлаждаться! — прикрикнул на него «Гроза морей». — Покарауль этого супчика, а мне тут надо еще кое-кого повидать.
— Не трудитесь! — из-за кожуха гребного колеса выступила «Анастасия». В ее руке щелкнул затвором револьвер. — А у меня для вас, корсар, есть приятный сюрприз! Она вытолкнула вперед мокрую дрожащую Катерину.
— Эту наяду я выловила из воды. Так что можете поблагодарить меня за ее спасение. Одного baiser, я полагаю, будет достаточно. Актриса нервно рассмеялась и приставила револьвер к виску Катерины.
— Вы блефуете… — спокойно сказал Нарышкин, но сердце его сжалось. — У вас не осталось пуль… Я считал Ваши выстрелы. Их было шесть.
«Анастасия» зло посмотрела на него и вновь скривила рот в усмешке.
— Вы не наблюдательны, «корсар»! Эта модель имеет семь зарядов. Желаете проверить?
Сергей нахмурился и прикинул свои шансы. Проверять не хотелось… А вдруг и впрямь остался один патрон? Револьвер актриса держала у самого виска Катерины. Выяснить, не рискуя, есть ли пуля в барабане не было возможности.
— Итак, произведем обмен, — актриса кивнула в сторону Левушки, изящным жестом левой руки приглашая негодяя сесть в лодку. — Давайте же, Лев Казимирович! Отпустите его, «корсар», или ваша избранница умрет!
Нарышкин неохотно подчинился, пинком подтолкнув Трещинского к шлюпке. Тот не преминул полезть в нее, напоследок успев лягнуть Сергея ногой. Держа Катерину на мушке, «Анастасия» легко прыгнула в лодку.
— Катя! — Нарышкин метнулся к девушке, обнял ее.
— Как трогательно! — донеслось из лодки. Актриса, все еще усмехаясь, спустила курок. Раздался щелчок, но выстрела не последовало.
— Она блефовала, — успокоил дрожащую Катерину «Гроза морей».
— Паскуда крашеная! — еле слышно хлюпнула носом Катерина.
— Осечка вышла. Вам чертовски везет, «корсар»! — засмеялась в отходящей шлюпке «Анастасия».
— Постой! — Трещинский, бросив весла, вырвал у нее револьвер и взвел курок снова. Прицеливаясь, он прищурился и закусил нижнюю губу. Сергей инстинктивно загородил девушку собой…
— Где рукопись, которую ты забрал? — прохрипел Левушка. — Верни ее мне!
— Извини, я не захватил эти желтые листки с собой! — ответил Нарышкин, отступая назад. — А что в них такого важного?
— Ах, оставьте Вы эти бумаги, — одернула Трещинского актриса. — Зачем Вам? Вы же сделали копию! Пристрелите его и уходим!
— Молчи! — зашипел на нее Левушка, держа Сергея на мушке. — Так не отдашь?!
— Извини, Лева, не могу… — Нарышкин, прикрывая собой Катерину, продолжал медленно пятиться назад.
— Ну и черт с тобой! Подыхай!!! — в сердцах крикнул Трещинский и палец его на спусковом крючке дрогнул…
Но тут последовало невероятное. Внезапно с залитой водой палубы с хриплым стоном во весь свой исполинский рост поднялась изрешеченная пулями фигура Николая Петровича. Мертвенное лицо его с полузакрытыми глазами было страшно. Гигант исторг из себя жуткий рев, затем, пошатнувшись, сделал усилие, шагнул на затопленный водой фальшборт и, оттолкнувшись от него, махнул нечеловеческим по силе прыжком вслед за уходящей лодкой. Он со стуком ударился о корму и схватился за нее цепкими, как у гориллы, пальцами. При этом правой рукой он успел сграбастать Трещинского за грудь и рвануть его на себя. Левушка пошатнулся и выронил револьвер. «Анастасия» взвизгнула совершенно по-бабьи, красивое лицо ее перекосилось. Она попыталась помочь и выдернуть Трещинского из лап умирающего, но из последних сил цепляющегося за жизнь великана.
Однако лодка уже черпнула воды, накренилась и, накрыв всех бывших в ней людей, перевернулась вверх килем. Обитый жестью сундук камнем пошел на дно Волги. Перевернувшаяся шлюпка еще некоторое время держалась на плаву, но затем и она скрылась под водой, оставив на ее поверхности после себя только пенные пузыри да промокшую и расползшуюся модную шляпку «Нехлюдовой».
— Вот, кажется, и все! — неожиданно для самого себя вырвалось у Сергея.
В то же самое время «Кострома» совсем зарылась носом, заваливаясь на правый бок. Корма парохода со скрежетом стала приподниматься над водой. С трудом карабкаясь по скользкой вздыбившейся палубе, трое оставшихся на борту людей добрались до кормы. Никитка и Катерина ухватившись за леера повисли на них, со страхом наблюдая за агонией идущего ко дну судна. Сергей, взявшись за древко флагштока, выпрямился и огляделся. Дождь стихал, но берегов все еще не было видно. Волга по-прежнему бурлила пеной барашков, однако, вода в ней стала, как будто светлей.
Между гребешками волн на расстоянии полутора десятков саженей от тонущего парохода качалась вторая лодка. Над ее бортом осторожно показались три мокрых монашеских клобука, три растерянные, встревоженные, испуганные физиономии: Степана, Терентия и Иоганна Карловича Заубера.
Нарышкин закричал и отчаянно замахал «монахам» рукой….
Под вечер гроза ушла за горизонт, вымыв начисто купол неба, по которому брело теперь одиноко отбившееся от грозового стада маленькое розоватое облако. Потеплело. Промокшая компания Нарышкина отогревалась у костра, разведенного на песчаной косе. Уже отрыдалась от пережитого Катерина, уже подсохли монашеские обноски, и отчертыхался Никитка, сетуя об утопленном орудии.
Все сидели молча, уныло глядя на пламя, в котором, казалось, сгорали последние надежды.
— А глубина тут какая? — ни к кому не обращаясь, поинтересовался «Гроза морей», пересыпая из горсти в горсть мелкий речной песок.
— Да агроменная глыбота, а то и поболе! — отозвался Никитка. — Я тут рыбу на донку лавливал… — он горестно вздохнул и продолжил поток своеобразных умозаключений.
— Эх, дела-мудила… Ушла на дно камушком. И прибойник с ей, и все потроха… А теперь и вообче в ил зароется. Как найтить-то? И винища поповского не осталось… Отстрелялси…
— Ты все о пушке своей горюешь! Тут бы подумать, как клад со дна доставать, — Сергей, отбросив песок, потянулся за сломанной веткой и пошевелил угли в костре.
— А никак, — отозвался дядька Терентий. — Дело это, сударь, бесполезное. Коли глубина более десяти аршин да течение, да ил придонный… Так засосет, что век искать будешь — не сыщешь! У нас случай был — левый якорь оторвало на рейде. Такие умельцы за им ныряли, что ты! Капитан пять рублей золотом давал. Никому не достались. Так, не солоно хлебамши, без одного якоря и ушли.
— Ну, должен же быть какой-то способ! Что же нам теперь так и сидеть на берегу у разбитого корыта?! — Сергей вскочил на ноги и махнул рукой в сторону Волги. — Эх… Сколько за этим сокровищем гонялись, и вот оно где. На дне! Может все-таки попробовать, а, Терентий?
— Вы, сударь, чай, сегодня не нанырялись? — дядька покосился в сторону Нарышкина. — Много нас таких ныряльщиков наберется? Что скажешь, Степан Афанасьич?
— Плавать я еще так-сяк, а вглубь мырять не сподоблюсь. — Степан поежился и развел руками. — Не дал бог умениев… да и страх берет, как подумаешь, какая нечисть на дне обретается!
— Старый ты суеверный дурень, — в сердцах бросил Нарышкин. — Русалки тебя там защекочут, что ли?
— Русалки не русалки, а только на рожон переть, к черту водяному в гости — это Вы, сударь, меня увольте. Охоты нет!
— Место хотя бы приметили? — Сергей тоскливо посмотрел на чистую, будто выстиранную дождем гладь реки.
— Вот там! — Терентий указал рукой направление. — Пароход плыл так, мы так… Вон, против того мыска мы его и того… Или нет… вон, как раз горка… Стало быть, от ее прямо держать…
— Да не горка, дурья твоя голова! — вскинулся Степан. — Вона там… вишь… пригорок. От его — маленько в сторону… и поперек…
— Сам ты «поперек»! Сказано тебе — горка!
Тут только Нарышкин понял, что никто, включая его самого, не представляет себе точное место гибели парохода. Плотный дождь скрыл берега. В абордажном пылу никто не подумал определить ориентиры. А в это время река несла и несла их вниз по течению…
— Выходит, плакало наше злато-серебро, — подытожил Сергей.
— Я так думать, что это не есть главный сокровищ, за которым вы охотился! — подал голос доселе молчавший Заубер.
Все дружно повернули головы и посмотрели на него.
— Это есть, как говориться, — малый толика. Главный сокровищ — тут, у меня… в мешок!!!
Немец выдержал эффектную паузу.
— И когда успел подтибрить! — вскинулся Степан. — А ну, вываливай! Делить станем!
Иоганн Карлович многозначительно улыбнулся:
— Я прошитал рукопис, что вы забраль на пароход! Отшень сложный гретшеский шифрованный письмо… и немножко не есть разборчиво. Но самый суть я понимать… О, я понимать все!
Заубер обвел победоносным взглядом компанию, разом навострившую уши.
— Нам надо без единый промедлений ехать в Истамбул!
— Куда? — переспросил Нарышкин, не веря своим ушам.
— В Истамбул, — ответил Заубер, и усы на сияющем лице его победоносно зашевелились.
— Ис-там-бул, — повторил он по слогам. — Это находиться в Турция!!!
Часть третья СВЯЩЕННЫЕ РЕЛИКВИИ
Глава первая ПРИЗРАКИ ВИЗАНТИИ
«Они никогда не представляли себе, что на свете может существовать такой город…
Никто не смог бы вообразить себе такое, если бы не видел это своими собственными глазами. И длину, и ширину города, превосходившего все остальные…»
(Виллардуэн)Не по времени злой штормовой ветер, пришедший с Черного моря, сеял над городом мелкую водяную пыль, норовившую попасть прямо в лицо. Прокопий Архонт нервно теребил перевязь меча. Невысокий царедворец, в одежде воина он казался самому себе довольно нелепым. Куда привычнее было носить отделанный жемчугом и золотой каймой с нашивками зелено-фиолетовый скарамангий. Однако теперь, в это нелегкое время, приходилось быть во всеоружии. Да и положение, в котором оказался осажденный Город, обязывало переменить придворную одежду на более подобающие моменту доспехи воина. Прокопий поежился и плотнее запахнулся в пурпурный плащ, надетый поверх доспехов. Плащ был дивной красоты — прошлогодний подарок от базилевса за победу в колесничных ристаниях. Дар бывшего императора Исаака Второго, ныне слепого, низверженного в темницу правителя Византии…
Великолепный плащ! На каждые две шелковые нити в нем приходилась одна золотая. Золотом вытканы резвящиеся в пурпуре львы, леопарды и грифоны. Прокопий стряхнул с плаща холодные капли и еще раз огляделся.
Отсюда, с крепостной стены, воздвигнутой еще при Феодосии, открывался дивный и величественный вид. Слева была бухта и змеящийся в даль залив Золотой Рог, на противоположном берегу которого виднелись столичные предместья Пера и Галата. Справа туманился неспокойный, весь в белых гривах волн Босфор.
«Босфорус». На языке Гомера слово это означало «Коровий брод». Греки верили, что именно здесь, на этих берегах, громовержец Зевс, спасая от гнева жены, превратил в корову свою возлюбленную Ио, дочь Иноха. Прежний город греки называли Бизантионом, по имени одного из легендарных аргонавтов, что плавали в Колхиду за золотым руном. Говорят, что когда Константин Великий увидел это место с моря, он воскликнул в воодушевлении: «Вот столица мировой империи». Дабы пророчество осуществилось, он перенес сюда на границу Азии и Европы столицу империи Римской. Так возник «град Константина».
Константинополь лежал по обе стороны залива огромным веером, расширяясь с востока на запад. Как и всякий портовый город, он поднимался из моря. От пристаней у подножья крепостных стен к густому лабиринту улиц, притонов, торговых дворов, лавок менял, мастерских, дворцов, садов, монастырей — до золотых куполов святой Софии. Вся Византия была здесь: императорский двор и патриаршая церковь, судейские чиновники, воины наемной гвардии, тюремщики, прорицатели, купцы, мастера золотых дел, завсегдатаи ипподрома и портовые потаскухи, всем хватало места в этом гигантском городе. Позади стены, каменной лентой опоясывающей его, вырастали мокрые черепичные крыши домов, мраморные фасады дворцов, увенчанные крестами купола златоглавых храмов. Там были ипподром и акрополь, форумы и акведук Валента, зеленые сады и парки, а над всем этим царил храм Святой Софии — дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя.
Еще выше, над храмом — клочок ослепительной небесной синевы, крошечный остров среди тяжелых, будто наевшихся досыта бедой туч.
— Тучи, — думал Прокопий, разглядывая громоздящиеся друг на друга облачные массы. — Тучи сгустились над Византией в этот недобрый год… Год одна тысяча двести четвертый, от Рождества Христова…
На пляже, в месте, называемом Аркадия, Степана укусила медуза. Одуревший от черноморского зноя, он долго сидел на берегу, не решаясь зайти в воду. Нарышкин, Заубер и дядька Терентий, фыркая и отплевываясь, прыгали на волнах в полосе прибоя. Катерина, приподняв юбку и слегка обнажив стройные, белоснежные ноги, весело смеялась и пританцовывала по колено в пене морской.
— Постыдилась бы, — проворчал в сторону дочери Степан. — Дорвалась, как Мартын до мыла, и на тебе — ножищи заголять!
— Иди сюда, Степан Афанасьич! — пригласил «Гроза морей». — Водичка чудо хороша! Бодрит!
— Das ist gut! — согласился Иоганн Карлович.
— Поди, Степа, помойся, — поддакнул Терентий. — А то воняешь уже, как солдатский сапог!
— Ступайте сюда, батюшка, не сидите как обваренный! — пропела Катерина. — Когда еще в море-окияне приведет господь ополоснуться!
Степан нахмурился паче прежнего, однако уступил компаньонам и, пробурчав что-то нечленораздельное, принялся прыгать по мелким камням, стаскивая с себя одежду. Наконец, оставшись в одних портах, Степан, перекрестившись три раза, смело, будто на плаху, пошел к воде и дерзко ринулся впалой грудью прямо в набежавшую невысокую волну. Однако тут же с отчаянным криком он выскочил обратно и, высоко взбрыкивая ногами, подвывая и чертыхаясь, запрыгал к берегу.
— Что случилось? — поинтересовался Нарышкин. — Что он там ревет, как бык на бойне?!
— Что с вами, батюшка?! — встревожено крикнула отцу Катерина, но тот не отвечал, и только схватившись за голову, юлой вертелся на горячих камнях.
Дядька выбрался из воды и, подойдя к неудавшемуся купальщику, тронул его за плечо. Степан поворотился, оторвал ладони от лица. Один глаз его заметно покраснел и слезился.
— Ожгло! Прямо в бельма — пырь! — захныкал он. — Не успел толком окунуться, — ан вся рожа будто бы в холодце! Что это такое, Терентий, ась?!
— Медуза! — хмыкнул дядька. — Всех-то и делов! Жив будешь, Афанасьич, не блажи. Чистой водой харю умой, и все пройдет. Эх ты, горе-пловец!
«Гроза морей» приземлился на расстеленный плед, потянулся и прищурился.
Море мягко и размеренно шуршало в камнях, навевая дрему. Солнце купалось в теплой воде. Где-то за валунами, в районе порта, настойчиво гудел одинокий пароход.
— «Цесаревич» подался до Лександрии! — словно угадывая мысли барина, сказал присевший рядом на краешек покрывала Терентий. — Через пару ден, должно, будет уже в Босфоре.
Сергей вяло кивнул.
— А мы вот застряли здесь, в Одессе! — буркнул он и с шумом выдохнул, отчего мелкие песчинки веером разлетелись у него из под носа.
Стояла середина августа. Плавание, начавшееся для товарищества «Нарышкин & Ко» в приокском городке Алексине, после всех перипетий завершилось в Самаре, куда всю компанию доставил чистенький и аккуратный рейсовый пароходик «Сормово». На нем был очень неплохой, хотя и крохотный, по сравнению с трехпалубными гигантами, буфет, где подавали отменную ушицу. Сергей облизнулся, вспоминая белоснежные скатерти, хрусталь и вкуснейших серебряных стерлядок, которых покупали прямо на берегу у рыбаков. Это было, пожалуй, одно из последних приятных волжских воспоминаний. Затем, началась долгая сухопутная дорога до Киева, через Пензу, Тамбов, Курск и Орел. В Тамбове товарищество распрощалось с Никиткой.
В последнее время тот стал довольно обременителен. Кроме того, исходящее от волжского Робинзона амбре было слишком сильным и никак не желало выветриваться. Зато очень быстро выветрились сто рублей и вполне сносная одежда, выданные ему Нарышкиным.
Беспокойный пушкарь доставлял слишком много хлопот, всюду выказывая свой строптивый, неуживчивый характер. На «Сормово» он поссорился с кочегаром, был бит и чудом не попал в топку пароходного котла. В Самаре, сходя на пристань, он умудрился свалиться с трапа и едва не утонул, о чем местная газета написала: «… Будучи выловлен из воды, пострадавший оказался пьяным до последней возможности, или, как сказали бы у нас в городе, „пьян, как брандмайор“. Не будем называть имена, но вы, дорогие читатели, безусловно, поняли, о ком идет речь! Я имею в виду брандмайора N-ской пожарной части, г-на Х-ва.»
В Пензе неуемный пушкарь помочился на ворота дома княгини Бабо-Баборихиной, вследствие чего вышел большой, шумный резонанс, и товарищество едва успело унести ноги из города. Никитка вновь был бит, но теперь уже Нарышкиным, которому начали приедаться выходки отшельника.
— Такого даже я себе не позволяю! — строго сказал «Гроза морей», но его голос так и не был принят к сведению.
Оказавшись в родном Тамбове, Никитка снова безобразно напился на первом постоялом дворе сразу же за заставой.
— Куда ж его теперича? — проявил сердобольность Степан, глядя на расхристанное тело пушкаря, развалившегося на лавке. Волосы Никитки были сваляны овчиной, нос багров, щербатый рот бормотал околесицу, перемежаемую вполне внятной, грубой руганью в адрес всех присутствующих. Затрещины, которыми время от времени снабжал пьяного артиллериста Нарышкин, уже не действовали.
— Все! — отрезал Сергей. — Дальше наши пути расходятся!
— Что тут поделаешь, — развел руками Терентий. — Коли в разнос человек пошел, тут уж никакой резон не поможет. Амба! Закрывай лавочку, не то далеко не уедем. Нам он теперь только помеха, все равно что в попе дробинка или навроде как зуб больной во рте. Куда с таким дале ехать? А здесь он по крайности дома!
— Пропадет християнская душа! — вздохнула Катерина. — В леса уйдет или же нищебродить станет.
— Кто бы говорил! — покачал головой Степан. — Сами-то мы давно с паперти слезли?
— Что есть такое «в попе дробинка»? — спросил пытливый Иоганн Карлович, отрываясь от изучения манускрипта…
В результате недолгого совещания волжский Робинзон был оставлен как есть — почивающим на лавке. И только толстый хозяин постоялого двора получил от Нарышкина «красненькую» и наказ: «Присмотри за человеком!»
Из Тамбова уезжали рано Ильиным днем. Как водится, небо занавесилось тучами. С самого утра зарядил дождь с грозой и поливал до самого вечера. Небо хмурилось и весь следующий день. Нарышкин, как часто случалось с ним в дороге, впал в меланхолию и мало обращал внимания на выразительные взгляды, которые посылала ему Катерина. Заубер всю дорогу о чем-то сосредоточенно размышлял, почти не отвлекаясь на тянущиеся за окном дилижанса однообразные, впрочем, ландшафты. Он так и сяк разглядывал манускрипт, что-то бормоча про себя, при этом лик его был хмур и непроницаем. На подъезде к Орлу, немец неожиданно просветлел и хлопнул себя по лбу, да так, что соскочило penz-nez.
— Das ist richtig! — воскликнул он, широко улыбаясь. — Я есть на правильном пути!
— А то! — встрепенулся полусонный Нарышкин, по-своему истолковав его радость. — Скоро, Иоганн, Оку будем переезжать. Она тут — ручей по сравнению с Нижним, но тоже по-своему хороша.
— Я ведь, брат, родился в этих краях, — почему-то смущенно добавил Сергей.
Тяжелый дилижанс въехал в Орел, миновав узкую каменную арку Московских ворот, скатился вниз по длинной, вымытой дождем улице к реке и вскоре загромыхал по мосту, а в это время в вечернем небе взошла радуга. Она выстреливала из Посадской слободы, грациозно выгибалась над Банной горой и публичным Шредерским садом, а затем падала куда-то в багрово-синий сумрак позади сверкающих куполов Успенского монастыря.
— Эге-гей! — крикнул Нарышкин испуганно всхрапнувшим коням.
— Эге-гей! Zaljotnije! — подхватил Иоганн Карлович и, высунувшись в окно экипажа едва ли не до половины, пропел на родном языке некий музыкальный фрагмент, который в приблизительном переводе выглядел бы так:
«О, закат золотой, Ты посланец любви святой, Вздохи, слезы мои К ней донеси ты…»На следующий день ночевали в Курске, который никому из компании почему-то не показался. Город и город. Что с него взять? Таких мест хватает в необъятной матушке-России. Все они чем-то между собой похожи, как близнецы. Будь, например, этот город человеком, про него бы, пожалуй, сказали пословицей: «Ни в городе Иван, ни в селе Селифан»… или: «Ни Богу свечка и ни черту кочерга.» А про сам город Курск что можно было сказать? Ну, действительно — стоит и стоит. Давно стоит. Вроде, никому не мешает!
И дело тут отнюдь не в архитектуре. Просто так случается в долгом путешествии. Скажем, ты, сладко потягиваясь и зевая, выглядываешь ранним утром из окна своего экипажа… А экипаж проезжает в это время обычный заштатный городишко. Ничего особенного — речка, забор, колокольня…
Но то ли ты хорошо выспался и встал с правильной ноги, то ли сытно и вкусно поел давеча в придорожном трактире, и это все наилучшим образом переварилось в желудке, то ли просто у тебя с утра хорошее настроение…Черт его ведает! Но вдруг ты понимаешь, что городишко этот заштатный тебе нравится. Нравится!!!
И речка, в которой плещутся грязные утки, блестит как-то по-особенному приветливо. И серый забор с навалившейся на него сиренью мил. И даже торчащая пугалом среди стаи галок облупленная колоколенка отчего-то кажется такой величественной, что так и тянет стащить с головы шапку и перекрестить лоб.
А бывает, что ты просыпаешься таким же точно утром. Солнышко встает, птички щебечут, дорога убегает из-под колес… Но что-то не так. Не так! Вот ведь, кажется, и выспался, почти не отлежав себе конечности, и живот не сильно бурчит после вчерашнего, и вообще, все как будто бы не совсем плохо. А вот поди ты. Выглядываешь в окно и видишь в нем тот же набор компонентов: речку, колокольню, забор… Ты рассматриваешь все это с минуту-другую, а потом неожиданно для самого себя произносишь: «Тьфу!», зашториваешь окно и, закрыв глаза, пытаешься снова уснуть.
Проезжая Курск, Нарышкин плевать на его красоты не стал. Он оглядел достопримечательности, во всяком случае, те из них, которые открывались взору из окна дилижанса, и слегка зевнул. На переправе через реку Сейм зевнул во второй раз.
— Город как город, — подумал «Гроза морей» и, когда экипаж подкатил к гостинице, зевнул в третий.
Гостиница была ни то ни се, желтое здание в два этажа с подъездом, окнами и крышей… Да, еще трубы на крыше и вывеска. Все.
Сергей слегка оживился только тогда, когда оглядел предоставленный ему во втором этаже заведения номер, половину которого занимала колонна. Могучая колонна антично-губернского стиля перла прямо из свежеокрашенного дощатого пола и расцветала под потолком гигантской ионической капителью. Она выглядела здесь столь же нелепо, как нелепо выглядел бы баобаб, перенесенный, скажем, в дачную оранжерею.
— Что это? — обнимая взглядом исполина, спросил Нарышкин.
— Нумеров на всех не хватало-с, — обстоятельно объяснил коридорный. — Вот мы и пристроились. Балкон снаружи кирпичом заклали, чтоб снутря площадей под жилье больше стало. А колонна по хвасаду шла. Что ж ее теперь ломать, красоту такую?!
— Разумно, — согласился Нарышкин. — А почему здесь три кровати?
— Так это съезд был земской, — ответил коридорный, стараясь незаметно достать из-под стола пару пустых бутылок.
— Послушай, любезный, — спросил Сергей, — а что у вас здесь есть такого…ну…такого особенного что ли?
— В смысле девок? — глаза коридорного мигом приобрели глубину и ясность.
— Нет…не то, чтобы…
— Пойла-с?
— Нет… не угадываешь, — Нарышкин подыскивал нужное слово. — Ну, такого, чего у других нет, а у вас — есть. Понял?
На круглом лице служителя отобразился сложный мыслительный процесс. В наступившей тишине стало слышно, как что-то движется внутри его головы, скрипит половицами, хлопает невидимыми дверями, отворяет ящики памяти.
Все это происходило довольно долго, и Сергей стал скучать. Он хотел, было, уже отозвать назад свой вопрос, но тут рот коридорного распахнулся.
— Как же, сударь, соловьи у нас выдающие!
— А ведь и верно! — согласился «Гроза морей». — Как я мог запамятовать!
Лицо коридорного сразу обрело значительность. Кустистые брови взлетели вверх.
— Быть в Курске, сударь, и не услыхать наших певческих соловьев никак невозможно-с. Вы опосля всю жисть казниться станете-с!
Чтобы избежать пожизненных мук совести, Сергей и Иоганн Карлович потащились с раннего утра караулить знаменитых пернатых вокалистов в мокрый от росы сад. Оба изрядно продрогли и промочили ноги, но ничего похожего на соловьиную трель так и услышали. Они уже собирались вернуться в гостиницу и, чертыхаясь, продирались сквозь кусты, как вдруг неожиданно сад оживила похожая на звон серебряного колокольчика, замысловатая птичья трель.
— Вот он! — Нарышкин схватил немца за локоть. — Слышите!
— О, да! — зашипел Иоганн Карлович. — Das ist gut! Das ist ser gut!
— Знаменитый курский соловей! — тихо проговорил Нарышкин, как бы смакуя фразу. — Ишь, что творит! Какие коленца, паразит, выводит!
— Что есть паразит? — благоговейным шепотом поинтересовался пытливый Заубер.
— Паразит …ну, это значит поразительно, …замечательно.
— Паразит! — млея от восторга, согласился Заубер. — Очень большой паразит!
— Нигде в мире нет таких соловьев! — похвастался Нарышкин, всем нутром ощущая прилив патриотизма.
Восхищенные реплики любителей соловьиного пения внезапно прервались треском кустов и появлением заспанного отрока, обладателя копны спутанных рыжих волос и густо засиженной веснушками физиономии. Обеими руками отрок прижимал к животу большую проволочную клетку.
— Вот она где! — довольно бесцеремонно сказало юное создание, с ненавистью оглядывая нижние ветки яблони, с которой и доносилось божественное пение. — Попалась, стервь!
— В чем дело, молодой человек? — шикнул на него Нарышкин. — Смотри, не спугни нам знаменитого певческого соловья, а не то ты у меня получишь!
Отрок испуганно попятился и выронил клетку.
— Осподь с Вами, барин, какие уж тута соловьи? — веснушчатая физиономия выражала крайнее удивление. — Энто у купца Чертопхаева заморская канарейка удрали. Так мне сыскать ее велено, а то и впрямь в шею накладут!
Весьма продолжительное время «Гроза морей» молчал, стараясь не смотреть в сторону Заубера. Немец также молчал, рассеянно моргая и пытаясь сорвать с мокрой одежды налипшие репьи.
— Пойдемте, Иоганн Карлович, нам пора собираться в дорогу, — наконец хмуро сказал Нарышкин и, ежась от утренней прохлады, побрел к гостинице.
Киев встретил путников приветливо. Он поразил всех без исключения, в том числе, в очередной раз и Нарышкина. Сергей любил этот древний город и всегда был рад встрече с ним. Больше всего ему нравилось любоваться киевскими окрестностями со смотровой площадки у подножия Андреевской церкви. Вид отсюда открывался восхитительный. Тонущий в зелени град Кия был виден как на ладони. Сразу бросалась в глаза широкая синяя лента Днепра, окаймленная белым песком пляжей. За нею лежал почти сплошной ковер зелени низкого, местами заболоченного левобережья. Внизу у подножья Старокиевской горы шумел торговый Подол. Прямо из-под ног, прихотливо извиваясь, к нему сбегал Андреевский спуск. Слева к Подолу подползала песчаными отмелями Рыбальского острова Оболонь. Где-то там, выше по течению в Днепр вливалась Десна. Она выгрызала в правом его берегу заливы, которые носили названия Верблюд и Собачье гырло. (Последнее название неизменно веселило Нарышкина.) Справа из-за кудрявых каштановых крон в небо целились колокольня и маковки Святой Софии Киевской, за ней, словно опята на грибной поляне, — целая россыпь сверкающих куполов Печерской лавры и еще дальше, почти у самого неба, — золотые шляпки церквей Выдубицкого монастыря.
— Вы заметили, что мы с вами уже привыкли осматривать города как бы сверху, — обратился «Гроза морей» к своим слегка обомлевшим от киевских красот спутникам. — Помните вид с башен Нижегородского кремля?
А Замоскворецкие дали? А помните, как хорош был Петербург с крыши купчихиного дома?
— Ну, это, положим, кто красотами любовался, а кто думал, как бы вниз с этой самой крыши не угораздить! — не отрывая глаз от пейзажа, буркнул Степан.
— Как давно это было, память уж затмилась, — печально вздохнула Катерина и поднесла к глазам платок.
— Когда я смотрю на город сверху, — продолжал разглагольствовать Нарышкин, — мне кажется, что я как бы держу его в ладонях. Понимаете?! Все, что есть в таком городе хорошего, сразу видно. И еще хочется, чтобы обязательно река была. Без реки как-то пусто!
— Вы есть большой романтик, Серьожа! — с неожиданной теплотой сказал Заубер и похлопал Сергея по плечу.
— А потом, когда я посмотрю на такой город сверху, у меня появляется очень сильное желание, — продолжил Нарышкин, несколько смущенно косясь на Катерину.
— О, да! Стихи? — попытался угадать Иоганн Карлович.
— Не совсем… Когда я смотрю на красивый город с высокого, красивого места, у меня появляется желание сесть в этом самом месте, свесить ножки и обязательно выпить!
Заубер неуверенно рассмеялся и вновь потрепал Нарышкина по плечу.
— А ему что горох в стену лепи! — тихо сказала Катерина. — Только дай к бутылке присосаться!
— И то верно! — с охотой подхватил Степан. — Который месяц мотаемся, поиздержались до последней возможности, клад проворонили подчистую, а Вы, сударь, все как новый двугривенный сияете! И впрямь, хоть горохом рассыпься, а Вам все нипочем!
Нарышкин продолжал смущенно улыбаться.
«Запалили меня, добра молодца. Как свечку запалили, сразу с двух концов!», — подумал он, покосившись на ладную фигурку своей возлюбленной.
— Выручайте, Иоганн Карлович, — попросил Сергей, с надеждой глядя на немца. — Право же, я устал объяснять этим людям… Боюсь не сдержаться! Расскажите им про то, что у нас есть надежда. Расскажите им про Константинополь!
Глава вторая РЕЛИКВИИ ВЕЛИКОГО ГОРОДА
«Там было такое изобилие богатств, так много золотой и серебряной утвари, что казалось поистине чудом, как свезено сюда такое великолепное богатство».
(Робер де Клари)Константинопольский рейд, насколько хватало взгляда, трепетал парусами, флагами и вымпелами. Вот она, армада пришельцев — быстроходные, маневренные, ощетинившиеся длинными веслами и носовыми таранами галеры, широкоскулые и крутобокие нефы с боевыми площадками, украшенными пестрой геральдикой щитов, а также суда с запирающимися воротами в корме, которые франки называют «юиссье», а венецианцы именуют «ускиеры».
— Что за язык у этих варваров, — с неприязнью подумал Прокопий. Куда как эстетичнее называть судно для перевозки коней привычным греческим словом — «гиппагога»!
Вот они, корабли с разбойниками, алчущими наживы, которые лишь прикрываются словами о гробе господнем…
Кажется, что нет им числа! Корабли прибывают и прибывают, заполняя собою залив. И повсюду — кресты, кресты…
Кресты, нашитые на одежду — красные, зеленые, черные… Кресты на щитах и наконечниках копий, кресты всех цветов на флагах, развевающихся над мачтами и реями… Огромный флот пришельцев, прорвав кованую цепь, перегораживающую вход в залив, подошел к самым стенам Города. Тяжелая венецианская галера с хищным птичьим именем «Орел» с ходу, будто гнилую нитку, разорвала слабые звенья ржавой цепи. Без труда были захвачены или потоплены ветхие, изъеденные червями корабли византийцев, пытавшиеся помешать незваным гостям…
Зачем явились сюда, под стены Великого города, эти воинственные паломники? Неужели, для того, чтобы сражаться с неверными?
Однако здесь не Палестина и не Сирия. Да и кто же тут «неверный», если и греки, и крестоносцы верят в одного и того же Бога, поклоняются одним и тем же святым реликвиям?
Против кого будут направлены прячущиеся в чревах кораблей тараны, баллисты и катапульты?
До слуха Прокопия доносились самые разные звуки. Над заливом слышалось пение псалмов, хлопанье парусов, отрывистые команды капитанов и военачальников, ржание коней, топот босых матросских ног по палубам, но перекрывал все это стук тысяч молотков: это на бортах судов сколачивались длинные лестницы и высокие осадные мостки, защищенные от стрел прочными кусками парусины и грубого холста. На боевых платформах устанавливались мангонели — колесные орудия, способные метать тяжелые камни на дальние расстояния. Крестоносное воинство явно готовилось к решительному штурму…
Всей этой орде паломников, науськанных римским папой, любезно предоставила свои суда жадная до византийского добра Венеция. Ни у одной страны мира, кроме нее, нет таких громадных тяжелых галер, которыми управляют десятки гребцов. Вот она, алая галера венецианского дожа Дандоло, украшенная роскошным парчовым балдахином и четырьмя серебряными трубами. Она выделяется среди прочих судов крестоносной армады. Над ее бортами плывут песнопения: это священники и клирики, подбадривая воинов, тянут и тянут «Veni creator spiritus»…
Говорят, дож снарядил за свой счет пятьдесят галер! Ну что же, у венецианских купцов давние счеты с греками, именно поэтому хитрый, полуслепой правитель Венеции избрал крестоносцев орудием, с помощью которого рассчитывал ударить по Византии. Можно только подивиться иудейской хватке венецианца, сумевшего превратить крестовый поход в очень доходную сделку. За предоставленные крестоносцам корабли и провизию дож обязал их уплатить восемьдесят пять тысяч марок! Кроме того, он сумел выговорить в пользу Венеции половину всей будущей добычи…
Какой добычи? Да вот же она! Весь этот огромный, богатейший, обессиливший от смут и смены правителей город обречен стать легким трофеем для крестовых рыцарей. Положение, в которое попал осажденный Константинополь, оставляет слишком мало надежд на будущее…
Будущее… Откровенно сказать, Прокопий уже давно страшился его. Гадание на лопатке ягненка, которого зарезали вчера вечером, только подтвердило худшие опасения, накопившиеся за последние дни, не посулив ничего хорошего впереди. Предсказания же по направлению полета птиц и числу птичьих криков уже давно в Константинополе никто не брался делать. Потревоженные легкокрылые чайки, обычно многочисленные у городских базаров, теперь метались над заливом, уступив место воронью, которое словно предвкушая обильную, кровавую пирушку, черными стаями зловеще кружило над Городом. От хриплых криков этих предвестников смерти кровь застывала в жилах.
Высыпавшие на стены горожане, дивясь на крестоносный флот, громко обсуждали последние события. Среди прочего говорили и о том, что Император вчера выглядел подавленным, что на торжественную литургию в храм Святой Софии он явился в одном девитисии, не надев даже полагающегося для такого выхода цицакия!
Прокопий горько усмехнулся. Обыватель всегда остается обывателем! Что же необычного в перемене настроения нынешнего базилевса? Порфироносного понять не сложно. Должно быть, накануне он опять до икоты опился молодым вином…
Существует ли причина, которая заставила бы этого узурпатора, погрязшего в разврате и пьяных пиршествах, одуматься и заставить себя действовать на благо разваливающейся на глазах империи? Вряд ли! Государственные дела мало его интересуют. Император, не глядя, подписывает любую бумагу, даже если это бессмысленный набор слов. По Городу ходят шутки, что базилевс ставит свою подпись, даже если проситель требует распахать Босфор или желает, чтобы корабли стали плавать по суше. Подстать императору и его чиновники. Эти за взятку продадут все что угодно с потрохами. У них нет ни истинной веры, ни совести, ни чести! Можно ли положиться на этих продажных глупцов? Доверить им Город в то время, когда столица империи гудит, как потревоженный улей, а обозленный нищетой и налогами народ, того и гляди, заварит очередную смуту?!
Вероятно ли, чтобы состоящая из наемников, наспех набранная армия смогла удержать Константинополь? Армия, которая «отличилась» в последних неудачных войнах с сельджуками и болгарами? Разве можно положиться на тех, кто сражается только за плату?
— Нет! — ответил себе Прокопий и, с тоской оглянувшись, отчетливо понял, что Город действительно обречен…
Деньги кончились внезапно. Посланный на греческий рынок за продуктами Терентий принес оттуда только «полное лукошко проклятий» в адрес одесских карманников.
— Спасу нет, какое ворье! — сокрушался он, предъявляя на всеобщее обозрение прорезанную подкладку. — Народу столько, что не продыхнуть! Притулились ко мне поближе да кошелек-то и умыкнули! Я и пикнуть не успел. Эти — почище наших подлетов будут.
— А жратва где? — Степан засопел и ринулся к корзине.
— Яблоков вот натрес… — Терентий хмуро разглядывал носки своих сапог.
— У меня от яблоков твоих уже третий день буркотня в животе, — яростно зашипел Степан. — Мы ж тебя, остолопа, за мясом посылали!
— Сам ты остолоп! — рявкнул дядька с обидой. — Пасть закрой! С каких шишей тебе мяса? Я же говорю, кошель у меня увели!
— Раззява! — визгливо крикнул Степан. Не прошло и секунды, как оба уже катались в пыли, тузя друг друга руками и ногами.
— Эй, а ну разойдись! — Нарышкин ухватил бывшего сверху Терентия за шиворот и оттащил его в сторону.
— Что, подчистую все выгребли? — спросил он с участием.
— Все, сударь… Не гневайтесь. Оплошал я.
Сергей тяжело вздохнул и опустился на камень.
В Одессе компания обреталась уже неделю. За это время выяснилось, что отправиться в Стамбул, просто взяв билет на пароход, не получится. Имеющихся наличных явно не хватало для покупки билетов. Бумаги Степана были не в порядке.
В них не оказалось какой-то важной подписи. У Заубера документы отсутствовали вовсе. Однако это были еще цветочки. Верхом всего стали расклеенные в порту объявления о розыске важных государственных преступников. В них давались довольно точные приметы всей честной компании и даже гравированный портрет главаря банды. Нарышкин узнал себя с трудом, но в целом некоторое портретное сходство наличествовало.
— А господа сыщики не дремлют! — нахмурился «Гроза морей». — Несмотря на то, что этот губастый малый с их афиши больше похож на Дюка де Ришелье, чем на меня. Как ни крути, а ход в порт мне теперь заказан.
Ежедневные солнечные ванны, принимаемые на диком пляже в Аркадии, вначале действовали благотворно на всю компанию. Однако Степан, не поладивший с местными медузами, умудрился еще и обгореть. Он хмуро сидел на берегу в тени и, слегка подвывая, мазал воспаленную кожу лампадным маслом. Удовольствие от купания получали только Нарышкин с Катериной. Терентий занимался разведкой в порту и окрестностях, а Иоганн Карлович пропадал на Биржевой площади в здании «Музеума» Одесского общества истории и древностей. Манускрипт все время был при нем, и немец не переставал внимательно его исследовать.
— Вы на нем глазами уже дыру протерли, — шутил Сергей.
Из любопытства однажды он составил компанию Зауберу и отправился вместе с ним поглядеть на одесские древности. Ничего полезного для себя из этой прогулки он не вынес. В «Музеуме» было скучно, безлюдно и пахло пылью. Тут и там висели какие-то планы, литографии и линялые гравюры с видами старого города. Некоторый интерес вызвал отдел нумизматики с монетами времен Ольвии и «златниками» киевских князей. Наибольшее оживление Нарышкин испытал при виде выставленной в экспозиции железной трости, принадлежавшей Пушкину. Смотрителю музея пришлось дать небольшую взятку, чтобы тот разрешил подержать трость в руке.
— Тяжелая! — одобрительно крякнул Сергей. — Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!
Море, однако, привлекало Нарышкина гораздо сильнее древностей Одессы.
По неодобрительному выражению Степана, «купаться он был горазд». В воде «Гроза морей» мог торчать часами и весьма преуспел в нырянии, ловле бычков и собирании красивых камней. Погода стояла чудесная. Ночи были теплыми, поэтому несколько дней подряд ночевали на берегу в приморской балке. Место было дикое, посещаемое только рыбаками.
— Мы здесь действительно, как в Аркадии! — не переставал восхищаться Нарышкин. — Подходящее название, хотя я понятия не имею, что оно значит. Странно, что никто в Одессе не додумался построить здесь какой-нибудь курортный поселок. Надо бы подарить идею губернатору!
— Угу, — бурчал Степан. — Купаться мы сюда приехали!
Наконец к его огромному удовольствию погода испортилась. Море заштормило весьма прилично, и Нарышкину ничего другого не оставалось, как заняться делами. Перво-наперво пришлось подыскивать жилье. На оставшиеся деньги снять что-либо приличное в городе не было никакой возможности. Время гостиниц для компании, похоже, миновало. Крыша над головой нашлась неподалеку от Арбузной гавани. Довольно просторная, беленая известью мазанка фасадом выходила к причалам для «дубков» с херсонщины, до верху заваленных арбузами. Сотни этих лодок стояли в несколько рядов, сцепившись друг с другом бортами так, что между ними едва виднелись полоски грязной, усеянной арбузными корками воды. Вереницы грузчиков, растянувшиеся цепочкой, перекидывали арбузы из «дубков» на подводы биндюжников, сгружали их в тачки, тащили в мешках. За гривенник Нарышкин купил пять арбузов — каждому из компании по одному. Однако, не удержавшись, он сам слопал два и весь день бегал «до ветра» с расстроенным желудком.
Содержал мазанку немолодой близорукий инженер. Звали инженера Яков Аркадьевич. Фамилия его была весьма примечательна для Одессы — Ланжерон. Яков Аркадьевич был вдов и вскармливал на свой счет целую кучу растрепанных, сопливых ребятишек. Сколько их было точно, похоже, он сам не знал, так как все свободное от кормления и вытирания детских поп время проводил в большом сарае-мастерской за домом. Значительную часть рациона его хлопотливой, чумазой семьи составляли дармовые арбузы из гавани, это приводило к тому, что детские попы приходилось вытирать, пожалуй, слишком часто. В целом инженер Сергею понравился. Он был безобидным чудаком и за съем части дома запросил совсем немного.
— Я с этих детей прямо в отчаянии! — бормотал он в сердцах. — За ними скучать не приходится. Вы же видите сюда, я здесь сам-один, и рук у меня не десять, как хотелось бы кому-то, а всего два. И этими двума мне некогда даже зачинить фортку.
— А Вы какой инженер будете? — более от скуки, чем от любезности, поинтересовался Нарышкин.
— Что значит «какой»? — вскинулся Яков Аркадьевич. — Я, милостивый государь, инженер-мостовик. Когда при вас станут говорить, что мосты у нас в Одессе строил не Яша Ланжерон, плюньте этому негодяю на лицо. Когда я строил первый мост в Военной гавани, то приходила смотреть вся Дерибасовская. Да что Дерибасовская! Приходила вся Пересыпь! А когда эти спекуляторы заимели мосты разобрать, то за это плакала вся Одесса. Из Житомира и Бендер приезжали люди, чтобы плакать. Верьте моему слову! Я строил мосты в Карантинной балке, на Базарной, на Успенской, на Троицкой и на Еврейской тоже! Смотреть сам губернатор приходили!
И когда эти биржевые зайчики порешили-таки меж собой, чтобы балку засыпать, я не плакал. О, нет! Я с них смеялся. Я плюнул этим подлецам на их физиогномию и ушел. Если эти гаврики много себе понимают, то пускай им Моня Фрейденберг и Веня Шнеерзон делают хорошие мосты!
Яков Аркадьевич гордо тряхнул седой головой, на которой будто корона высилась потертая фуражка инженерного ведомства, но неожиданно скосил глаза куда-то в сторону и, меняя тон, прикрикнул:
— Роза, где ты нашла эту каку, иди и скорей положь ее там, где взяла!
В один из дней битый, но добившийся своего Степан в сопровождении Катерины отправился на привоз за продуктами, Терентий как обычно ушел в порт, а Нарышкин и Иоганн Карлович пошли прогуляться к морю.
День выдался свежий, и прогулка взбодрила обоих. Сергею нравилось находиться в обществе немца. Заубер, похоже, испытывал сходные чувства. От Градоначальнической улицы они дошли до Водяной заставы, прошли мимо Дюковского сада и спустились в Водяную балку. Всю дорогу навстречу им тянулись раздрызганные «валки» водовозов, обыватели, катившие бочки с водой на тачках, бабы с ведрами и коромыслами. Из балки веяло прохладой. Домики на Бугаевке и Колонистской утопали в винограде и фруктовых садах. Недостатка в колодцах здесь не испытывали, а во многих дворах были устроены цементные бассейны, в которых плескались дети и домашняя птица. Пахнувшая навозом Водопойная площадь была запружена скотом, утоляющим жажду из длинных корыт. В Колодезном переулке за гроши Нарышкин купил бутыль молодого вина, и это значительно скрасило прогулку.
— Благодать! — Сергей потянулся, словно сытый кот, и его лицо озарилось широкой улыбкой. — А что, Иоганн Карлович, может нам с Вами остаться здесь и перестать гоняться за царскими библиотеками и призрачным златом-серебром?
Заубер улыбнулся в ответ, но отрицательно качнул головой и задумчиво посмотрел на небо.
— Это не есть правильно, Серьожа, — сказал он. — Мы пройти большой, весьма большой дорога. И сейчас нельзя сидеть и как это… сложить руки, будто половецкий истукан в музеум. Вы понимать, что происходить? У меня есть мнений, что господин Трешчинский охотился не за царский библиотека. Ему отшень нужен был рукопис, который к нам попадать! Этот манускрипт есть ключ, — Заубер огляделся по сторонам и понизил голос. — Ключ к расшифровка тайна…
— Тайны чего? — спросил Нарышкин тихо.
— Тайна, где есть спрятано величайшее сокровищ Византия!
Возникла пауза, в продолжение которой оба собеседника внимательно смотрели друг на друга. Слышно было, как за соседним забором плескались карапузы. Женский голос истошно закричал: «Митька, поросюк сопливый, ты куда запропастил наше чайное ситечко?!».
— И что же, это самое византийское сокровище… Оно очень большое? — спросил Сергей, глядя немцу в глаза.
— О да! — прошептал Иоганн Карлович, — Вы себе не иметь представлений, какой бесценный клад там скрываться!
Иоганн Карлович набрал в легкие воздух и сделал долгий выдох, во время которого он подозрительно оглянулся по сторонам. За забором, сложенным из валунов, послышался громкий плеск, и чей-то томный голос протянул: «Яка приемна вода! Дуже приемна! Цей бассейн мени подобаеться!»
Заубер снова оглянулся, и, понизив голос, повторил:
— Там, в Константинополь спрятан великий сокровищ! Отшень великий!
Сергей отвернулся, полагая, что речь опять пойдет о несметных кучах злата-серебра, болтовня о которых уже набила ему порядочную оскомину. Он позавидовал тем, кто плескался сейчас за забором.
— Серьожа, Вы должен выслушать меня отшень внимательно, — Иоганн Карлович взял Нарышкина за руку. Из-за стекол penz nez глаза немца смотрели тревожно.
— Это есть не только земной сокровищ! Там, в Истанбул находиться величайший реликвий христианства! Вы понимать меня?
— Нет. Не понимать, — Сергей высвободил руку. — То есть не совсем понимаю, о чем Вы.
Заубер, раздражаясь его неведением, покачал головой:
— Погребальный покров Христос, ну, как это… плач… пласчаница! Это вам хоть что-то говорить?
— Не знаю, — честно признался Гроза морей.
— Как, Вы не знать? — удивился немец. — Для нее в Константинополь даже специально строить базилика. Каждый пятница пласчаница выносить для поклонений перед народ! — Заубер смотрел уже с торжествующим укором. Тревога в его глазах пропала совсем.
— Серьожа, Вы понимать, что это реликвий, которой нет цена!
— Ну, — неопределенно протянул Нарышкин.
— Уфф, — выдавил из себя Иоганн Карлович. — А венец Иисус из терновник? Вы слышать про него?
— Терновый венец?
— О да! — радостно воскликнул Иоганн Карлович, вновь хватая Сергея за руку. — Вы знать про риза и пояс богомуттер… то есть Божья матерь?!
— Богородица, — догадался Нарышкин, в очередной раз высвобождая руку.
— О да, Богородитца! — немец закивал головой. — Церков Богородитца был отшень почитаемый в Царьград. Житель Византия считать, что когда Риза с молитвой погружать в Босфор, то подниматься буря и сокрушайт флот неприятель!
— Это все? — поинтересовался Нарышкин, пряча руки за спину.
— Найн, — взвился Заубер, делая хватательные движения и не находя рук собеседника. — Найн, там находиться мандилион!
— Что? — вздрогнул Сергей.
— Ман-ди-ли-он, — произнес по слогам Иоганн Карлович. — Это есть платок с нерукотворный портрет Иисус!
— Ну, — снова протянул Гроза морей.
— Я Вам говорить про величайший реликвий, а Вы изволить мычать, как баран! — взорвался Заубер.
— Бараны не мычат. Они блеют, — поспорил Нарышкин, дивясь внезапной раздражительности всегда спокойного немца.
— Какой в этом разница, Серьожа! Вы же есть христианин! Там, в Истамбул скрыт самый загадочный святынь — копье Лонгин! Вы читать библий? Римский воин Лонгин проткнуть в бок Христос, который был распят на крест.
— Я читал, — вставил Нарышкин, стараясь вспомнить уроки закона божьего.
— Копье долгий время был в Иерусалим, а затем, когда город захватить персы, его привезти в Константинополь. Там его хранить в позолоченный ларец, который закрываться на шесть пар застежка и особый замок с серебряный ключ.
— Это очень занятно! — искренне сказал Сергей, чувствуя возрастающий интерес. — Как вы говорите, что ларец был позолочен?
— О да! — закивал головой Заубер. — Позлачен!
Он прикрыл веки и, слегка покачиваясь, стал произносить, словно читал заклинание:
— Железный наконечник быть острый, будто шип, и иметь в свой нижний часть отверстий, дабы закрепить его на древко. Длина наконечник составлять приблизительно один пядь и цвай… два дюйм, ширина — около два дюйм. На конец острия виднеться следы свежий кровь. Да, именно свежий кровь, — повторил Иоганн Карлович.
— Копье находился на почетный место в храм Богородица Фаросская. Рыцар Робер де Клари видеть его там и оставлять свидетельство.
И еще. Это есть отшень важный момент! Древний пророчество говорить, что тот, кто будет завладеть копьем, станет держать в своей рука судьба мира!
Нарышкин ошалело завертел головой, чувствуя, как по лицу неожиданно прошла тугая струя свежего ветра. Кроны тополей закачались. В саду за забором с тупым стуком посыпались на землю яблоки. Женский голос завопил: «Фроська, дывись, рушник улетает!».
— Это есть знак! — тихо сказал Заубер.
— Рушник? — переспросил Сергей.
— Найн. Этот ветер есть благовестительный знак свыше! — Заубер поднял назидательный перст и повел им перед носом Нарышкина.
— Погоди, минхерц! — Сергей отступил на шаг назад. — Никак я в толк не возьму всю эту библейщину!
— Это не есть библейщина! — жестко сказал Заубер. — Мы с Вами стоять на пороге величайший момент. Мы должен отыскать самый великий артефакт в историй, а Вы при этом не иметь ни малейший вера! Это отшень и отшень печально. Вы обладать сила, но вам не хватать крупитца ум и познаний в ваш голова! Без этот познаний Вы, герр Нарышкин, не есть авантюрист. Вы есть просто мелкий безмозглый сошшка!
— Что! — Сергей был поражен. — Да Вы… Ты, что себе позволяешь! Я же тебя, немчишку, в бараний рог сворочу! Он расправил плечи, чувствуя, как кровь приливает к лицу, и вместе с тем понимая, что драться с Заубером ему совсем не блазнится.
Немец блеснул стеклами penz nez, гордо вскинул голову и напустил на себя черство-мраморный вид.
— Как Вам будет угодно! — ответил он и, щелкнув каблуками стоптанных туфель, нервной походкой зашагал вверх по улице.
Бредя назад, в сторону арбузной гавани, Гроза морей никак не мог успокоиться:
— Ну и трепачок мне задал господин Заубер! Ах, он ботанист хренов. Архивный юноша! Ишь, как стеклами-то сверкнул, штудиозус!
Нарышкин шел, бурча проклятия и не разбирая дороги, отчего путь его был долог. Бредя по Водяной балке, он вышел к губернаторской даче с рощами белых акаций, ясеня и орешника, а затем каким-то образом оказался в центре города на Херсонской. Там уже рукой подать было до хорошо вымощенных гранитными кубиками Ришельевской, Греческой и Дерибасовской. Нарышкин бредучей поступью прошествовал по приморскому бульвару, постоял у памятника «основателю», где долго вглядывался в позеленевшее лицо бронзового Дюка, а затем спустился по Потемкинской лестнице. Он пришел в себя только у маяка на Большом Фонтане, когда город уже вовсю жег очищенное конопляное масло в фонарях, и вышедшие на работу одесские фонарщики проворно карабкались вверх-вниз по своим приставным лестницам.
— Нет, минхерц, шалишь! — сказал Гроза морей, мысленно продолжая разговаривать с Заубером. — Я тебе еще докажу, что крупица ума у меня есть.
— Я тебе, брат, не мелкая сошка! — с некоторой угрозой пробормотал он и погрозил маяку внушительным кулаком.
На следующее утро, не говоря никому ни слова, Нарышкин отправился в публичную библиотеку.
В просторном пыльном зале было покойно и почти безлюдно. Над пухлым романом краснел гимназического вида прыщавый юнец, да морщила нос забаррикадированная медицинскими изданиями неинтересная суховатая мамзель. Непривычно озираясь, Нарышкин спросил сначала одну книгу, потом, не найдя нужного, — вторую, а затем разошелся и, изрядно погоняв важеватого обходительного библиотекаря, булдыхнул себе на стол целую кипу книг и журналов. Он стал просматривать их сперва осторожно, с подозрением, но неожиданно тема захватила его, и Сергей принялся вовсю шелестеть страницами, время от времени покрякивая, хлопая себя по ляжке и вставляя небольшие замечания: «Ишь ты! Ах, вон оно как! Ну, ты подумай!».
Гимназист и серьезная барышня бросали на него удивленные взгляды, но Гроза морей был так увлечен, что не замечал этого. От книг он оторвался лишь под вечер, когда почувствовал, что его афедрон изрядно отсижен, а перед глазами крутится вертопляска из слов и букв. Сергей устал, но был доволен. Он готовился к разговору с «заносчивым немцем» и так спешил, что промахнул центр города на едином дыхании и даже не завернул по пути ни в одно заведение.
«Становлюсь водопийцей», — подумал он с легкой гадливостью, однако путь свой продолжил, не сворачивая.
Возле Ланжероновой хаты его караулила Катерина, прохаживаясь взад— вперед вдоль палисадника и поплевывая семечки, которые изящно доставала из грязноватого бумажного кулечка.
— Жду, жду, прямо извелась вся! — проворчала она, морща носик. — Хочете семок?
— Благодарю, — отмахнулся Сергей. — А что, Иоганн Карлович здесь?
— Куда ж ему деться, — хмуро сказала девушка, преграждая Нарышкину путь. — Что, так ничегошеньки и не скажешь?
— Потом, Катенька, я спешу! — Сергей легко поднял ее на воздух, обхватив за талию, немного помедлив, чмокнул в губы, после чего отставил девушку в сторону и прошел к крыльцу.
— И зачем только я в тебя, вертопляса такого, врюхалась! — краснея и сжимая кулачки, гневно бросила Катерина. Кулек с семечками жалобно хрустнул в ее руке.
Глава третья КОПЬЯ И КОПИИ
«Это было длинное копье, покрытое золотом. К верхушке его было прикреплено кольцо из золота и самоцветов, с двумя буквами, символизирующими имя Спасителя, на внутренней стороне».
(Евсевий)Город был наполнен звуками. Внизу у подножья домов, словно обитатели растревоженного муравейника, копошились обыватели. Слышался шум многотысячной людской толпы, которая, подобно бурной реке, текла извилистыми рукавами улиц и переулков, выплескиваясь у внешнего оборонительного вала. Люди лезли на стены, откуда любопытных простолюдинов сгоняли пинками хмурые стражники. На вторых и третьих ярусах домов хлопали резные ставни. Перегнувшись через затейливые перила балконов и стараясь перекричать друг друга, делились последними новостями соседи. Особенно любопытные лезли повыше, хрустели черепицей на крышах, пытаясь занять места с видом на рейд, запятнанный разноцветными парусами пришельцев.
Над мокрыми крышами плыл тревожный звон колоколов. Одних только церквей в этом городе, поднявшемся из античных руин, было около пятисот. Прокопий Архонт невесело усмехнулся, вспомнив, что перед тем, как построить новый град, император Константин разрушил древний акрополь со святилищами Аполлона и других языческих богов. Рядом с развалинами торжественно вознес свои величественные главы Собор Святой Софии. Построен он был, кажется, уже при Юстиниане. Легенды говорят, что планировку будущего храма император узрел от небесного ангела, явившегося к нему в чудесном сновидении. Храм возвели в кратчайшие сроки. Всего за шесть лет. Строительным материалом порой служили остатки самых красивых античных зданий. Мрамор для колонн везли из Рима, Афин, Эфеса. Стены храма были облицованы плитами из розового, зеленого, темно-серого, черного и белого камня. Их резали так, что прожилки на мраморе складывались в лики людей и животных, деревья, фонтаны, водопады. По этим причудливым изображениям Константинопольские гадалки пытались делать свои предсказания.
Прокопий посмотрел на огромную, тускло сверкающую в сыром, напитанном влагой воздухе дугу куполов Святой Софии.
«В храме сейчас, должно быть, не протолкнуться», — подумал он, глядя на восьмое чудо света. Никто в божьем мире, кроме, быть может, покрытых пылью и темной патиной, опаленных солнцем Египта арабских купцов, не видел более грандиозного сооружения. Купцы рассказывают, что далеко на юге есть пирамиды, построенные так давно, что никто и не помнит, когда и зачем они вознесли к небесам свои острые вершины. Говорят, что эти пирамиды выше и массивней Константинопольского собора. Выше? Быть может…
Однако трудно представить более великолепное творение рук человеческих. Юстиниан украсил собор с баснословной расточительностью. Иконостас поддерживают двенадцать колонн из чистого золота, балдахин над амвоном усыпан драгоценными камнями, вся священная утварь — чаши, сосуды, ковчеги — сплошь из злата. Шесть тысяч золотых и серебряных лампад льют вокруг свой божественный свет, который отражается в мозаике, преломляется в драгоценных камнях, загадочно мерцает и тает в просторе под необъятным куполом. Император поставил перед своими архитекторами Исидором и Анфимием задачу: превзойти размерами, богатством, красотой знаменитый храм в Иерусалиме.
Юстиниан достиг цели. Собор, созданный его повелением, затмил Храм Иерусалимский. Рассказывают, что в день освящения Святой Софии император воскликнул: «Я превзошел тебя, о, великий Соломон!».
Прокопий словно в последний раз впился глазами в слегка размытые дождем очертания Города.
Рядом с Софией высился Большой дворец и примыкающий к нему Ипподром. Дворец строился и перестраивался на протяжении веков. Вот и сейчас часть его была окружена строительными лесами. Подминая под себя всё новые и новые земли, дворец постепенно сползал к морю и ширился бы дальше, не прегради ему дорогу береговые укрепления. Это был воистину город в городе. Громадный комплекс, состоящий на восточный манер из садов, парков, фонтанов, павильонов, церквей и часовен. Там находились покои для двадцати тысяч слуг, шелкопрядильные и золототканые мастерские, бани, кладовые, конюшни, псарни с охотничьими собаками и гепардами, арсенал и монетный двор. Из века в век там копилось столько произведений ювелирного искусства, что весь дворцовый ансамбль представлял собой огромный разросшийся музей. На глазах Прокопия германский посол, которому случилось быть во дворце, пришел в изумление от придворного обеда, во время которого гости ели с золотых блюд, а фрукты лежали в таких неподъемных золотых чашах, что их спускали с потолка и передвигали по столу специальными механизмами. Прокопий улыбнулся, вспомнив округлившиеся глаза и перекошенный рот тевтонца.
Неподалеку находился еще один отдельный императорский дворец, Вуколеон. Балконы его выходили на Мраморное море, а свое название он получил благодаря большому барельефу, изображавшему битву между быками и львами. Варвары-франки переиначили греческое название дворца на свой лад. Непонятное для них слово они произносили так, чтобы звучало более понятно — «буколеон», «Пасть льва», или «Львиная пасть» — так прозвали они императорскую хоромину.
«Чудовищный язык у этих пришельцев!», — в очередной раз подумал Прокопий и, словно стараясь навечно сохранить в памяти, продолжал вглядываться в знакомые силуэты дворцов, храмов и мокрых черепичных крыш. Пора было уходить. Прокопий зябко повел плечами и еще плотнее обернулся в плащ. Он спустился с крепостной стены по осклизлым ступеням, непроизвольно хватаясь за шершавые, крошащиеся камни рукой.
Стены, защищавшие столицу империи, в этой части города возводились спешно, ввиду грозившего Константинополю нападения гуннов Аттилы. Каменный пояс вокруг города состоял из нескольких частей. Главным и наиболее внушительным укреплением считалась стена Феодосия. Она тянулась от Золотых ворот до Влахернского дворца. На всем протяжении ее усиливали высокие двухъярусные башни, удаленные друг от друга на расстояние полета стрелы. На верхних ярусах, имевших выход на стены, находилось все необходимое для того, чтобы отразить осаду. Здесь всегда дежурили стражники. Вот и теперь они шумно переговаривались между собой, пытаясь укрыться от дождя. Прокопий знал, что Внешняя стена была не столь крепка. Она изрядно обветшала, а проломы в ней заделывались наспех. Укрепления Константинополя только на первый взгляд производили впечатление неприступных. От зоркого взгляда успевших погостить в городе крестоносцев Людовика седьмого не укрылось ничего. Французские рыцари, ошеломленные красотой и богатством Византийской столицы, заметили слабину стен этого огромного хранилища драгоценностей, которыми им так хотелось владеть. Они желали взять этот город, набитый несметными сокровищами дворцов и храмов. Они жаждали обладать столицей великой империи, уподобляясь нетерпеливым любовникам, дрожащим от страсти в предвкушении прелестей своей возлюбленной. Но было кое-что еще. То, что разжигало рыцарей Христа паче желания обладать золотом Константинополя…
При появлении Нарышкина Иоганн Карлович поднялся, снял свое penz nez, и стал торопливо протирать его.
— Мне очень жаль, Серьожа! — пробормотал он. — Я не должен быть так говорить с Вами.
— Пустое, Иоганн, — отмахнулся Нарышкин. — Я тут сегодня почитал кой-чего, и у меня появилось много вопросов.
Брови Заубера поползли вверх:
— Почитал? — немец недоверчиво улыбнулся.
— Ну да, почитал, — с легкой обидой сказал Сергей. — Что я, по-Вашему, готтентот какой-нибудь темный? Я все-таки кой-чему обучался и книги не хуже прочих читать умею.
— О да, разумеется, — сконфузился Заубер. — Какой будет вопрос?
Сергей присел на колченогий стул и наморщил лоб.
— Я буду говорить, а Вы меня покамест не обрывайте. Хорошо?
— Хорошо, — согласился Иоганн Карлович.
— Ну так вот, — начал Нарышкин. — Давайте танцевать от печки.
— Танцевайт? Здесь? — Заубер недоуменно огляделся.
— Это так говорится, когда надобно начинать сначала. Итак, допустим, что у нас имеется кладовая запись и карта места, где зарыты разбойничьи сокровища. Так?
— Так, — кивнул Заубер.
— Мы делаем вывод, что в схроне находится библиотека царя Ивана. Хотя саму библиотеку мы так в глаза и не видели, но на нее, считай, впрямую нам намекал мерзавец Левушка.
— Так, — коротко сказал немец.
— При этом Трещинский не расставался с документом из царской библиотеки, сделал с него копию, а оригинал волею обстоятельств попал к нам. И вот из этого документа мы с Вашей любезной помощью узнаем, о том, что в Константинополе где-то лежат и нас с вами дожидаются сокровища Византии.
— О, да! — согласился Иоганн Карлович. — Все есть именно так.
— А вот тут получается неувязочка! — торжествующе воскликнул Сергей. — Я все проверил. Эта самая святая плащаница находится в городе Турине, а терновый венец обретается в Соборе Парижской Богоматери.
Иоганн Карлович посмотрел на Нарышкина с нескрываемым удивлением.
— До одна тыща шестьдесят третьего года Терновый венец хранился на горе Сион, что в Иерусалиме. После чего оный был перевезен во дворец византийских императоров в Константинополе. В одна тыща двухсот четвертом году священная реликвия была захвачена ворвавшимися в Константинополь западноевропейскими рыцарями-крестоносцами, которые разграбили христианский город.
Сергей выдал текст без запинки и втайне был горд этим. «Славно вызубрил, — подумал он, — Не будет нос задирать, вражонок!»
— Под ударами крестоносцев Византийская империя распалась на несколько частей, — продолжил барабанить Нарышкин. — Константинополь оказался под властью… м… м… каких-то князьков, которые ненасытным образом грабили остатки великого наследия. Один из этих ребят, а именно — Балдуй второй…
— Балдуин второй, — с мягкой улыбкой поправил Заубер.
— Ну да, я и говорю, — раздраженно мотнул головой Гроза морей. — Тот самый второй Балдуин сидел весь в долгах, как в шелках. Чтобы не попасть в долговую яму, он решил выкрутиться и начал распродавать священные реликвии. В результате Терновый венец достался французскому королю Людовику… м… м… не помню которому. Там много цифр.
«Эх, ма, — подумал Сергей. — Начал гладью, а кончил гадью!».
— Отшень хорошо! — подбодрил Иоганн Карлович.
— Что касается копья, — продолжил Нарышкин, — тут вообще темная история. Да, действительно, копье в свое время было в Константинополе, спору нет. Однако получается, что на сей день в мире находится сразу несколько таких реликвий, и что удивительно — все считаются подлинными. Одно копье хранится в Австрии, другое… м… м… в Кракове, третье в Ватикане, а четвертое в Армянском монастыре, как бишь его, запамятовал…
— Гегардванк, — подсказал Заубер.
— Так, стало быть, Вы знаете! — взвился Нарышкин. — Ну, тогда объясните мне, как это может статься, чтобы одно копье находилось одновременно в пяти местах?
Заубер подошел к Сергею и порывисто обнял его.
— Дорогой Серьожа, я есть отшень счастлив, что ошибаться на Ваш счет!
Немец смахнул с глаз непрошенную сентиментальную слезу. — Вы есть настоящий авантюрист!
— Да будет Вам, а то устроил мне, понимаешь, головомытие! — Нарышкин нахмурился, хотя душа его ликовала.
— Видите ли, Серьожа, — немец посерьезнел. — Нет сомнений, что из пять копий подлинный есть только один.
— Ну, разумеется! — кивнул головой Нарышкин.
— Теперь мы возвратиться к наш манускрипт, — Иоганн Карлович любовно провел рукой по сморщенным, пожелтевшим листкам, лежавшим на столе. — Как раз, когда войско крестоносец быть у стен Константинополь, драй… три византийский велможа, устроить заговор. Они тайно сделать копий с христианский реликвий, а подлинник спрятать так, чтобы никто его не найти.
— Погодите, погодите… — Нарышкин чувствовал, что начинает что-то понимать. — Значит, три человека устроили заговор, подсунули копии заместо настоящих реликвий, а настоящие укрыли в надежном месте? Так что ли?
— Точно так!
— Да ведь как же… это получается, что все настоящие реликвии — ненастоящие?! Погодите, а как же верующие? Они-то как не раскусили? Это все-таки не безделица какая-нибудь. Тут такая каша заварилась — будь здоров!
— Главное есть сама вера! — серьезно сказал Заубер. — И потом, посудить сами, Серьожа, если враг стоять у ваших ворот, разве не может появляться идея: спасать великий духовный ценность? Это есть логика. Когда я раньше много читать об захват Константинополь, мне не давать покой мысль: как же они не пытаться все спрятать? А вот сейчас все на свой места! — немец улыбнулся. — Теперь Вы и я знать!
— Действительно, пожалуй, что Вы правы. — Сергей напряженно разглядывал манускрипт. — И что же, этот тайник надежно спрятан?
— Мне казаться, что да. Если бы его найти, турецкий власть не упустил бы повод дать дело огласка и посмеяться над глупый христианин, который почитать копий!
— Возможно, что так оно и есть, — Нарышкин задумался. — Но как манускрипт попал в наши веси?
— О, это отшень просто! Заговоршчики оставить зашифрованный текст и спрятать его в библиотека, среди книга. Библиотека сохраняться до того время, пока не достаться царевна Софья, который поехал на Русь и стал женой …
— Ну да, — перебил Нарышкин. — Это как раз понятно: Софья стала царской женой, библиотека переехала в Москву, а потом наступило смутное время.
— Оно наступить не сразу, — напомнил Заубер.
— Ну да, ну да! В конце концов, поляки ограбили царскую библиотеку, а наши разбойнички в свой черед подломили ляхов.
— И книги попадать в ваша усадьба.
— Да, я это помню. — Сергей наморщил лоб. — Но вот, что я не возьму в толк. Ведь, пожалуй, Трещинский точно знал о манускрипте. Я начинаю думать, что он охотился вовсе не за книгами царя Ивана. Нет сомнений, что он знал про реликвии. Ясное дело знал, иначе, зачем ему было держать именно этот документ у себя?
— Я тоже так думать, — вставил немец. — Но вот откуда он узнавайт про манускрипт?
— Он знал, точно знал и не случайно обратил внимания на эти желтые листки! Там ведь, судя по всему, были и другие документы, книги. Оба помолчали, обдумывая разговор. Из полисадника слышался голосок Катерины, которая что-то напевала с набитым ртом, временами сплевывая шелуху от семечек.
— Постойте, постойте… — воскликнул «Гроза морей». — Одно из священных копий хранится в Кракове, так?
— Так, — согласился Заубер, морща лоб.
— Но ведь наш дражайший Лев Казимирович тоже был родом из Кракова! И этот его родственничек… Калиновский! Ну, тот, что купил усадьбу по соседству с моей… Он ведь, кажется, тоже, из тех самых мест! А нет ли тут какой-нибудь связи?
— Я не знайт! — пожал плечами Иоганн Карлович и неожиданно добавил:
— Вы не хотеть скушать арбуз?
— Арбуз? — переспросил Нарышкин, продолжая хмурить чело. — Зачем арбуз? А, впрочем, давайте, черт с ним! Устроим колыхание чресл, как говорил наш приходской батюшка отец Агамемнон, садясь обедать.
Они достали увесистый зелено-полосатый валун из арбузной горки, возвышавшейся возле печки, и, смачно отплевываясь косточками, принялись поглощать алую, рассыпчатую мякоть.
— Значит, золота там нет, — приземлил разговор Нарышкин.
— Как можно сравнивайт! Это есть чудовищно: думайт об материализм, когда нам выпадать такой шанс — найти величайший духовный ценность! — вновь возмутился Заубер.
— Вы, Иоганн Карлович, голштинские свои замашки бросьте и гаркать на меня не смейте. Нам теперь деньги как никогда нужны, а то, выходит, что мы, считай, шестой месяц по России за Святыми мощами колесим! Да еще и к туркам наведаться собираемся, — плюнул в сердцах Сергей.
— В манускрипт про золото нет прямой указаний, — смягчился и пустился в рассуждения Заубер, — однако я полагать, что тот, кто составлять документ, вместе со священный предмет схоронить и свой собственный добро. Ведь это быть как раз накануне штурм город.
— Ну да, — подхватил Нарышкин, — почему бы ему не воспользоваться тайником и свое добро обезопасить! Слабая надежда… А впрочем, ладно, не отступать же теперь, раз уж столько пройдено. Что делать, поищем и в Турции, главное — как нам туда попасть? Вот вопрос… — Сергей нахмурил лоб.
— Есть хороший мысль! — Заубер утер рот платком и отодвинул от себя недоеденный арбуз. — Мы должны организовать общество возвращения реликвий!
— Чего, чего? — удивился Нарышкин.
— Да! Мы должны объявляйт весь научный сообщество об наша находка! Я полагать, что православный государство должен взять на себя обязательство финансировать поиск священный реликвий и организовайт экспедиция!
— Ну уж нет! Бестолковица какая-то! Турки клад просто так никогда не отдадут. А если и отдадут, то не в наше отечество. Продадут англичанам, и дело с концом! Нет, клад этот наш, достолюбезный Иоганн Карлович, и я до него доберусь! И потом, отчего ты решил, что тебе поверят? Примут за авантюриста, а скорее уж за сумасшедшего. И где это видано, чтобы русский чиновник без выгоды для себя деньги выделял?! Ты его сначала подмажь, пообещай долю, а уж потом он может быть что-то и решит. Нет, Иоганн, плоха твоя мысль! Ты вот, поди, второй десяток лет в России живешь, а страны так и не понял.
Нарышкин с брезгливостью двинул от себя арбуз.
— А что же делайт?
— Клад возьмем сами, тихохонько, чтобы господа янычары ни ушком, ни рыльцем не повели! Вот только для этого нам оборотный капитал требуется…
В этот момент в Ланжероновом сарае что-то грохнуло, и оттуда повалил густой черный дым.
— Ахти, господи, пожар! — из сарая выскочил перемазанный копотью инженер Яков Аркадьевич и, засумятившись, помчался к колодцу.
Нарышкин и Заубер последовали его примеру.
Возгорание удалось быстро погасить. Как оказалось, взорвалась некая металлическая конструкция, склепанная из жести и снабженная какими-то трубками и колесиками. Внутри сарая немилосердно воняло керосином.
— Что это Вы, Яков Аркадьевич, в зажигатели подались? — поинтересовался Нарышкин.
— Горе мое! Прямо Дамоклесов меч! Вы себе не подозреваете — пятый раз переделываю, а нужной тяги все нет. И у клапана недержание, будто у старого Мойши Цинципера! Вот сейчас накачал атмосферу, так она возьми и грохни! Мои дети могли остаться без ничего! Нет, надо заканчивать, а то уже вся гавань смеется с этих опытов. Нечего строить себе утраченных иллюзий…
— Так все-таки, Яков Аркадьевич, что Вы тут мастерили? — Гроза морей с интересом обозревал задымленное помещение, в котором проступали очертания большой плетеной корзины, подвешенной к потолку.
— Мастерил! Именно что смастерил большой гемороид на всех оставшихся у меня конечностей! Яков Ланжерон думал прославить Одессу, он думал об служению науке. Но для его идей требуется приличный цех, а не этот гнилой сарай!
— Да скажите же прямо, что вы хотели сделать? — рявкнул Нарышкин, проявляя нетерпение.
— Дирижабль! Вы читали что-нибудь за изобретения француза Анри Жиффара или другого француза — Жульена?! Раз мои каменные мосты никому не нужны, то я хотя бы повяжу человечество воздушным мостом.
— А что у вас взорвалось? — морща нос от едкого дыма, поинтересовался Нарышкин.
— Горелка, будь она неладна! Вот извольте поглядеть сюда!
Ланжерон указал в угол мастерской, где к стене был прикреплен чудом уцелевший от пламени большой чертеж летательного аппарата. В общих чертах он объяснил компаньонам устройство дирижабля и его принципы. Если верить Ланжерону, главная техническая задача для него заключалась не в пошиве шара и не в плетении корзины, а в создании мощной горелки, способной быстро нагревать воздух. Взорвавшаяся была уже второй улучшенной конструкцией, но и она подвела изобретателя.
— Видите вон то загнутие, — кивал Яков Аркадьевич на чертеж. — Это нос! Вон там под нумером три — пропеллер! Удобопомещаемая корзина типа гондола изготовлена из бамбука для пущей легкости. В оболочку вделан так называемый «баллонет». Это нужно, чтоб уменьшить перетекание воздуха. Посредством перемещаемого вдоль гондолы груза мы можем менять дифференцию тудой и сюдой…
— Голова! — восхищенно отозвался Нарышкин.
— Горизонтальные рули, позволяют аппарату подниматься ввыспрь, — продолжал рассказ Ланжерон.
— А вот эти шнурочки-бляшечки? — допытывался Гроза морей.
— Это сетка нужна, чтоб придерживать оболочку, — бодро сыпал польщенный Яков Аркадьевич. — Название дирижаблю я придумал с аффектацией: «Будитель ума»!
— Отшень красиво! — восхитился молчавший Заубер.
— Ага, Вам тоже понравилось?! — взвился Ланжерон. — Обратите Ваше внимание: для того, чтобы уменьшить лобное сопротивление воздушных масс, я придал аппарату рыбообразную форму…
Неожиданно Яков Аркадьевич потянул носом воздух и схватился за голову грязными от сажи руками:
— Боже мой, рыба! Я же ставил жарить моим деткам полную сковородку бычков! Он метнулся на кухню, задевая по пути предметы и, какое-то время спустя, вышел и вытряхнул на двор кучу дымящихся черных головешек.
— Жаль бычков, — констатировал Нарышкин и, тронув за плечо Заубера, шепнул ему:
— А знаете, Иоганн Карлович, у меня тут созрел один интересный план!
— Скажите, Яков Аркадьевич, а Вы часом не обращались …ну, скажем, к одесскому купечеству с просьбой о том, чтобы оплатить ваш проект? — начал издалека Гроза морей.
— Да чтоб я имел просить у этих жлобов? Они же за поганую копейку маму с папой посмертно удавят и родственников их в придачу. Нет, все свои кровные, недоеденные! От деток отрывал и в дело! Вот, имеете видеть, какая это корзина! — инженер спустил наземь привязанную к потолку большую кособокую конструкцию из толстой лозы.
— Ее Опанас плел, первый мастер на весь Качибейский лиман! Вы бы видели его плетень! Это ж таврическая ограда, а не плетень. Лоза к лозе — мышь не просочится. Он думал, что я в этой корзине гуппиков ловить стану. А оболочка? Вы знаете, за что мне обошлось пошить оболочку? Либерман хоть мне и дальний родственник, а ободрал как родной! Пять рублей — один к одному, смотрят и ухмыляются! Ладно, что парусина почти даром досталась, у рыбаков со старых шаланд за поговорить и поднести рюмочку. А это ж тоже расход. Но зато Яков Ланжерон теперь имеет ни с кем ни славой, ни прибылью не делиться! — инженер гордо вскинул всклокоченную седую шевелюру.
— Так-то оно так, Яков Аркадьевич, вот только Вашему предприятию солидности не достает. Ну, изготовите Вы шар, а дальше-то что? Кто на нем полететь отважится, если он в таком сарае на коленке сшит? — вставил Сергей, незаметно подмигивая Зауберу.
— А сам-один и полечу! — воскликнул инженер в запале.
— Вам нельзя, у Вас дети. Не дай Бог случится чего, по миру пойдут, — грустно и сочувственно вздохнул Нарышкин.
— Дети… дети, да! — на чело изобретателя легла скорбная тень. Он пошарил полными слез глазами по углам мастерской и бросил в сердцах:
— А тогда я в целях науки посажу туда Мойшу Либермана с его пятью рублями, пусть он ими там задавится!
— Нет, Яков Аркадьевич, — улыбнулся Сергей. — Этак у Вас ярмарочный балаган получится. По пятаку за погляд. Не солидно…
— Что Вы имеете этим сказать! — насупился Ланжерон.
— А то, любезный мой инженер, что испытателем Вам нужен человек во всех отношениях достойный. Представьте, Яков Аркадьевич, афиша, аршинными буквами: «Русский дворянин покоряет атмосферу на аппарате системы Якова Ланжерона»! Каково?! И чуть ниже: «Акционерное Общество Южно-Черноморской воздухоплавательной линии „Одесса-Бухарест-Стамбул“ представляет демонстрационный полет над Большим Фонтаном. Спешите видеть, количество зрительских мест ограничено!». И цена билета соответственная.
Афишу беру на себя… Фу, ну и воняет же тут у Вас, давайте на воздух выйдем, — Нарышкин поспешил наружу.
— И еще, вот Вам, прошу любить и жаловать: профессор атмосферных наук, знаток воздушных потоков, Иоганн Карлович Заубер. (Брови немца стремительно поползли к затылку).
— Чувствуете разницу! Да под такое солидное дельце мы с Вами одесских торгашей как грушу потрясем! Вы мне только человека подыщите, чтоб подход к этим Вашим гаврикам знал, — продолжил обхаживать инженера Сергей.
— Есть такой человек. Племянник мой, Моня Брейман. О, это такой способный молодой человек, что он далеко пойдет, если полиция не остановит, — отрекомендовал родственника Ланжерон, с сомнением разглядывая «знатока воздушных потоков».
— Прекрасно! Такого и надо. Я вижу, Яков Аркадьевич, мы начинаем находить с Вами общий язык! — радостно потер руки Нарышкин.
— Только одна загвоздка, где мы с Вами отыщем этого храброго русского дворянина?
— Как!? Вы, что же, не поняли? Это же я! — чуть не задохнулся от притворного возмущения Сергей.
— Вы? — Ланжерон скептически оглядел изрядно потрепанный костюм Сергея.
— Да-с! Извольте видеть, отставной поручик и дворянин Сергей Валерианович Нарышкин… Неслыханно! Не увидеть во мне благородного человека?!
— Так-то оно так, но уж Вы с меня не обижайтесь сударь, тут бы кого поблаго… потребнее, ипостась у Вас не та!
— Вздор! Поизносился в дороге и что с того? Я дворянин и полагаю, что этого довольно, а главное — я не боюсь взлететь на этой вашей штуке, — Нарышкин нервно расхаживал по двору, бросая на Заубера многозначительные взгляды.
— Так-то оно так, я то Вам верю… — заблеял Яков Аркадьевич.
— Все, ни слова больше! Подайте мне этого Моню, пусть он сведет меня с нужными людьми, и завтра же я предстану перед Вами во всей ипостаси! — гаркнул Сергей и хлопнул Ланжерона по плечу.
Инженер пожал плечами.
— Соля! Соломон! Иди к папе! — позвал он копошившегося в дворовой пыли мальчишку, который таскал за хвост упитанную дохлую крысу.
— Завтра утром, Соля, ты имеешь пойти на Привоз и привести мне дядю Моню. Скажи — он срочно нужно. Понял?
Малец утер нос, важно кивнул кучерявой головой и, мотая крысой, ушел.
— Зоологистом будет! — провожая отпрыска теплым взглядом, сообщил Яков Аркадьевич.
— А Вы и правда… профессор атмосферных наук? — обернулся он к Зауберу.
Немец вздохнул и развел руками, дескать, и сам не понимаю, как это вышло.
Ланжерон вздохнул в ответ и скрылся в дымном чреве сарая.
— Может я быть чем-то полезен? — вежливо осведомился «профессор».
— Идите до меня, вот эту железку подержите! — донеслось из мастерской.
Заубер вдохнул несколько раз поглубже и нырнул в сарай.
К вечеру Нарышкин проявил сердобольность, сходил в гавань и все-таки добыл рыбы на ужин. У плиты была поставлена Катерина, которая, не кокетясь, быстро нажарила несколько сковородок вкусных золотистых цуциков. Чумазые отпрыски Ланжерона, с выпуклыми, как у бушменов, животами, смели пару сковородок зараз, и умиротворенный изобретатель принялся рассовывать детей по кроватям.
— Странно, что до сих пор нет Терентия, — сказал Гроза морей, вглядываясь в темное окно. — Куда этот старый черт запропастился?
Сергей вышел на крыльцо, вынюхал щепоть скверного Березинского табака, что не принесло ему ни малейшего удовольствия. Он крякнул, прочихался и сел возле хаты, напряженно всматриваясь в сумрак.
Ночь была тиха, только со стороны гавани слышался плеск, да где-то вдали заунывно-тонко неслось:
«Ой, сыну ж, мий сыну, Ты — моя дытыно, Не женыся на той удовици, Бо щастя не будэ!».Сергей прислушался. На какой-то миг ему показалось, что в палисаднике кто-то стонет. Он поднялся и пошел к забору, продолжая вглядываться в темноту, и едва не споткнулся обо что-то мягкое.
— Кто еще здесь! — недовольно спросил Нарышкин, шаря вкруг себя ногой.
— Я это сударь, — послышался сдавленный голос Терентия.
— Ты что это, старый черт, удумал? — нагибаясь и трогая распростертое на земле тело, сказал Сергей. — Я уже все глаза проглядел, а ты под забором прохлаждаешься?
Руки его коснулись чего-то липкого.
— Что это у тебя, кровь!?
— Прибили меня, сударь! — простонал дядька. — Как есть прибили…
Сергей подхватил слугу на руки и понес в хату. Попавшаяся им на пути Катерина тихо взвизгнула:
— Ой, батюшки святы!
— Помоги, — бросил ей Сергей, занося Терентия в дом.
У дядьки оказалась довольно серьезная ножевая рана в боку. Все его тело было в синяках и кровоподтеках.
— Немного повыше полоснули бы, и прощай, раб божий! — констатировал Нарышкин, осматривая рану, которую осторожно перевязывала Катерина. — Кто тебя так, Терентий?
Сердобольный инженер принес особую целебную настойку. Жидкость, находящаяся в ней, по уверению Ланжерона, излечивала все виды ушибов, а кроме того, помогала при потливости ног и отлично выводила пятна.
Дядька сделал несколько больших глотков, закашлялся и принялся ловить ртом воздух. Сергей опасливо понюхал целебный раствор, удивленно поднял бровь, но попробовать не решился. Тем временем, дядьке стало заметно легче. Глаза его заблестели.
— Чтоб тебя! Чистый огонь! — выдавил он, обращаясь преимущественно к инженеру. — Дай только на ноги встать, лекарь, я тя еще не так изуважу!
Терентий откашлялся и, наконец пересилив себя, заговорил:
— А знаете, сударь, кого я нынче в порту видал?
— Кого же? — поинтересовался Нарышкин, пожимая плечами.
— Нашего знакомца, Льва Казимирыча Трещинского собственной персоной!
— Как! — Сергей округлил глаза. — Не может того быть!
— Истинный крест! — побожился Терентий. — И мамзель евойная с ним!
— Анастасия жива? — не мог поверить Нарышкин. — Но ведь она… они же оба утонули в той лодке на Волге!
— Стало быть, не утонули! — слегка задыхаясь, пробормотал дядька, смежил глаза и забылся сном.
Глава четвертая ДВОЙНОЕ ЗЕРО
«Одна из основных проблем игроков в рулетку – эмоции и необходимость с ними справляться.
Лучший из советов, какие только можно дать: господа, никогда не поддавайтесь эмоциям!»
(Правила игры в рулетку)На следующее утро Терентию полегчало, и он смог рассказать все обстоятельно.
По обыкновению, с утра он отправился потереться в порт и узнать, что в божьем мире делается. Там он побеседовал со знакомыми шкиперами, заглянул в судовую контору, покрутился на причалах, а затем стал коротать время, созерцая работы на судах. И тут внимание дядьки привлекла вставшая под погрузку яхта с названием «Калифорния».
— Леший знает, что я в ней такого углядел, — пожал плечами Терентий. — Но только больно уж хороша! Любо дорого глянуть! Оконечник вострый, как стрела. И весь наличный вид — прямо загляденье! Ну, думаю, за погляд денег не берут. Плюхнулся недалече на кнехт и сижу сиднем, навроде как болдыри на воде разглядываю. Сидел, сидел, да, видать, и заполудремался. Сморило меня. И туг, как линьком по спине, кто промеж лопаток стеганул. Открываю глаза и вижу — на сходнях стоит покойник наш во всей красе, живехонек, и мадам евойная рядышком! Стоят на солнышко жмурят да прямо мне в глаза скалятся!
Господи благосердный! Я аж подпрыгнул с этакого испугу. Чур меня, думаю, чур! А они — знай себе ухмыляются да пальчиком на меня тыкают — вот он, дескать, ату его! Глядь, а ко мне уж два облома с яхты направляются! Третий впоперек дороги стал. Я к складам рванул, да куда там! Обкружили! Спервоначалу-то я отбивался, а тут — хрясь, сзади чем-то треснули! Повалили и ну утюжить, да так, что только клубышком катался, увертывался. Изуважили до беспамятства …
Очнулся уже на яхте, как есть связанный по рукам и ногам. Прочухался малость, огляделся. Вижу — дверь приоткрыта, а наверху, на палубе, — голоса. Я уши-то и навострил! Слышу — навроде, как про меня разговор. Кто-то сипатый спрашивает: «Что, мол, с ним делать?», со мной то есть. А этот врагоугодник Трещинский отвечает: «А что делать, коли он уже богу душу отдамши? Перестарались, болваны! Надо было его попытать хорошенько, он бы нас на Нарышкина навел». На Вас то есть, сударь! «Теперь, говорит, делать нечего. Дождитесь темноты. Балласт ему к ногам и пущай бычков кормить отправляется!».
— Ну, думаю, рановато вы меня, господа, схоронили. Нет же, постойте, есена вошь, я еще побрыкаюсь!
Тут слышу — мамзель подошла и об Вас сударь разговор заводит.
— Про меня? — переспросил Сергей, покосившись на Катерину.
— Точно так, — закашлявшись, кивнул Терентий. — Спрашивает, что мол, теперь с господином Нарышкиным делать станем?
А этот гад ей и говорит: «Афиши с евойным портретом в порту и по городу уже расклеены, наводка в полицию дадена. На лапу кому следует тож сунули, ищут голубчиков! Как сыщут, упекут в кандалы всю кампанию. А пока суд да дело, мы уже в Истамбуле халву-пахвалу кушать будем».
«А ежели не сыщут? Ежели они морем в Туретчину рвануть удумают?», — это она, значит.
А он ей: «Пусть попробют. Полиция за шаландами приглядывает. Рыбаки предупреждению имеют. Сыщутся, голубчики! Чай, не иголка в сене! Одесса — город не великий!»
Эван, думаю, какой ход получается! Не след мне темноты дожидаться, а то и впрямь на тот свет вся недолга! Извернулся я кое-как, веревки ослабил, да и размотался весь. Дождался, покамест тихо стало, доковылял кое-как до трапа, выполз на палубу и бултых, будто куль дерьма за борт! А там уж, видать, Господь пособил! До времени я в порту за штабелями отлеживался, а уж по темноте до фатеры нашей добрался… Вот и весь мой рассказ.
— Он так и сказал: «будем в Истамбуле»? — переспросил Нарышкин.
— Так и сказал, — кивнул дядька.
— Стало быть, противостояние наше продолжается! — усмехнулся Сергей, поймав выразительный взгляд Заубера. — Получается, что Трещинский уверен, что мы тоже направляемся в Турцию?
— О да, — хмуро согласился Иоганн Карлович. — И это есть отшень плохо!
— Это есть хорошо, потому что у меня чешутся руки намять бока мерзавцу Левушке. Теперь, когда мы знаем, что он хочет завладеть реликвиями, мы обязаны опередить Трещинского.
— Если мы это не сделать, может случиться то, что нельзя поправлять! — вставил Заубер. — Мы должен действовать отшень бистро!
Моня не заставил себя долго ждать. Это был шумный, развязный, напористый еврейчик лет тридцати, со щегольскими усишками и кокетливо вьющимися пейсами, в длиннополом поношенном, но, как видно, сшитом на заказ сюртуке. Подвижными, маслянистыми, близко посаженными глазками он сразу с головы до пят огладил зардевшуюся Катерину, и это обстоятельство не понравилось Нарышкину.
Брейман расшаркался перед девушкой, ухватил ее руку и поднес к губам.
— Маммуазель, Ваши прекрасные глаза заставляют мене забывать, хто я есть!
— Ой, да что Вы, сударь! — отмахнулась Катерина, и по лицу ее растекся румянец. Сергей заметил, что грубая галантность пришлась ей по вкусу.
Моня раскланялся перед Нарышкиным; как старому приятелю кивнул Зауберу.
— Ну, и где у нас случилось? — спросил он, вертя головой во все стороны.
Сергей пригласил его в хату и в двух словах обрисовал ситуацию. Моня ухватил суть дела «с первых аккордов». Он вскочил и забегал по комнате, притворно всплескивая руками.
— Нет, Вы мне просто начинаете нравиться! Вы вот это здесь изволите рассказывать на полном серьезе или Вы просто подумали, чтоб пристроить Моне жмурку? С мене же вся Одесса потом будет смеяться! Воздухоплавательная компания! Скажу Вам без лишних ушей за то, что мой дядя, который самых честных правил, он же полный адиет! Этот инженер с дипломом, ну как его еще изволите называть? Разве что придурком! Одесса, Букарешт, Стамбул… не смешите мене! У нас таким распоследний поц не занимается! Это же полный карман гембеля!
— Ну, хватит обезьянничать! — оборвал его Нарышкин. — Короче, Вы беретесь или нет?
— К мене вопросов быть не надо, — перестав смеяться, ответил посерьезневший Моня. — Сдается, что я с этого буду иметь одну беременную голову!
— Сколько Вы хотите? — в лоб спросил Нарышкин.
— Жить надо так, чтобы потом не было печально, а залететь на глупости мы всегда успеем, — уклончиво ответил Моня.
— Двадцать процентов Вас устроит?
— Вы мне нравитесь все больше! Пятьдесят!
— Тридцать!
— Больной вопрос недешево тянет! Сорок пять, Ваше здоровье!
— Сорок, — угрожающе сказал Нарышкин. — Это мое последнее слово!
— Я Вас умоляю, сорок так сорок! Зачем же кипятиться! Я строю Вам дальше Вашу акционерную лабуду, или Вы мне лепите балабуза!
— По рукам, — мрачно констатировал Нарышкин, мало что понявший из Мониной трескотни.
Несмотря на то, что Брейман не показался Нарышкину серьезным человеком, каким-то образом тот «расстегнул» одесских купцов и принес целый ворох денег. Вернее прикатил их на тачке, прикрыв сверху какой-то грязной ветошью. Увидев полную тачку ассигнаций, ошалевший Гроза морей развел руками.
— Черт возьми, вот это я понимаю!
— Но… почему в тачке? — спросил он Моню.
— А ше, я буду у всей Одессы на виду, как той баклан, ходить с оттянутыми карманами? — обиженно выдал Моня, вываливая деньги на стол.
— Ну и как все прошло? — поинтересовался Нарышкин, не отрывая взгляда от денежной горки.
— Моня сделал такой заманухис, шо наши одесские артельщики таки да поверили, — скривился в улыбке Брейман.
Запершись в комнате, они с Нарышкиным все тщательно пересчитали.
— Двадцать тысяч! — ошалело пробормотал Сергей, когда ассигнации были сочтены.
— Так о тож! — потирая руки, хмыкнул Моня. — С такими деньгами вашему пузырю можно уже и не взлетать.
— То есть как? — удивился Нарышкин.
— Шутю! — осклабился Брейман. — Купечество делает нам хорошо не для того, чтобы им сделали на головы с тем же удовольствием! Не имейте волноваться, я уже тиснул объявление за полет в «Одесский вестник»!
Всю следующую неделю вокруг хаты инженера Ланжерона кипела бурная деятельность. К дому в арбузной гавани зачастили рассыльные, на подводах и пешком доставлявшие всевозможные свертки, пакеты, тюки и ящики. Стали являться какие-то криминального вида «эксперты», заходившие в мастерскую и осматривавшие будущее воздушное судно. Они цыкали зубом, сплевывая шелуху от семечек, и досаждали инженера разнообразными идиотскими вопросами.
— Нет никакой возможности работать! — жаловался Яков Аркадьевич. — Наше предприятие еле дыхлает в живот! Эти гаврики с Молдаванки проявляют до него дикий интерес. Полный рот неприятностей — вырванные дни! Ей богу, проще и дешевле утопиться!
В день, когда «пузырь» начерно был готов к пробному полету, хитрован Моня, озираясь по сторонам, поманил Нарышкина в сторонку.
— Есть некоторое соображение в стиле идеи, только без лишних ушей!
Он наклонился к Сергею и интимным тоном заворковал:
— Есть тут одно богоугодное заведение, ну, знаете, на углу Дерибасовской и Ришельевской. Называется эта бодега — казино. У меня там знакомый работает, так, мелкий цуцик, вахлачок бордельный. Но дело свое знает, как старый Хаим Менделевич знает за Тору…
— И какая тут связь с воздухоплаванием? — нахмурился Нарышкин.
— А связь такая, шо наша с вами жалкая кучка банкнотов за один вечер может вырасти, как кендюх у беременной Фени с Тираспольской, которая родила тройню за один присест!
— Заманчиво, — Сергей поскреб щетину на подбородке. — А не сорвется?
— Шо значит «не сорвется»! Дело верное, или нам с вами надоело жить с головами на горлах!
К походу в казино Нарышкин подготовился основательно. Перво-наперво он отправился в заведение известного в городе куафера Ля Виньота, на пересечении Дерибасовской и Екатерининской. Здесь его изрядно обросшей шевелюре придали вполне приличный и благопристойный вид. Сидя в кресле, пока мастер порхал вокруг него, Сергей разглядывал плакат на стене. На нем был изображен лысый субьект, посредством ложных волос, преображающийся в писаного красавца. Рекламное объявление гласило: «Наилучшие в Одессе парики и шиньоны — косы, хвосты, кублики, а также великолепные „блонд арден“ и „ун блонд д'анж“, делающие вас весьма неотразимыми!» Поразмыслив, Нарышкин приобрел себе черный лохматый скальп и белокурый «блонд» для Екатерины. Затем он направился в магазин готового платья, где выбрал добротный, аглицкого кроя костюм и щегольской полуцилиндр в придачу к нему. Одобрительно крякнув при взгляде в зеркало, он довершил череду покупок приобретением элегантных штиблет и трости из красного дерева. Дома он все это примерил. Черный парик в сочетании с бородкой, доставшейся в наследство от Аскольда, придавал ему неотразимо-злодейский вид.
— Похож я на грека? — вертясь перед зеркалом, спросил Нарышкин у Заубера.
Немец только развел руками, всем своим видом демонстрируя высшую степень изумления.
Вошедшая Катерина, взглянув на преобразившегося Нарышкина, обмерла, а затем зарыдала.
— Что такое… Катенька? — пробормотал Гроза морей, пытаясь успокоить девушку.
— В город собрался, женолаз этакой! — всхлипывала Катерина. — Ишь, расчуфырился, словно павлина!
— Это я для дела! — оправдывался Сергей. — Я вот и для тебя купил… ун блон… как, бишь, его? Он достал парик и надел его на голову Катерине.
— Не нужно мне волос ваших! Они, небось, с мертвяков срезаны! — девушка стащила с головы белокурые локоны и больно хлестнула париком по щеке Нарышкина. — Ступайте к своим мамзелям!
Она выбежала из комнаты, хлопнув дверью с такой яростью, что посыпалась штукатурка. Сергей развел руками, встретив понимающий взгляд немца.
— Дьявол… Вот ведь какая оказия, Иоганн Карлович!
— Мигер, — сказал Заубер, покачав головой. — Вы помнить, что мы будем делать сегодня пробный запуск наш дирижабль?
— Успею! — ни секунды не сомневаясь, решил Нарышкин.
У казино было людно. Возле столиков денежных менял с зелеными конторками топтались обыватели. Шумная, хмельная матросня звенела фунтами, франками и лирами, превращая их в российские рубли и ассигнации.
В заведение было изрядно накурено, ввиду чего его интерьер почти не просматривался. Нарышкин даже закашлялся, ухватившись за дверной косяк.
Из табачного смога резво вынырнул Моня, и, бегло обстреляв Сергея глазками, одобрительно хмыкнул: «Шикарный барин, шоб и я так жил!».
В казино стоял гомон. Публика была разномастная: в смокингах, сюртуках, форменных кителях, в каких-то лапсердаках и даже в тех одеяниях, о коих в иных местах никто и не разумеет. В ходу была речь, состоявшая из окрошки, в которой плавали обрывки русских, французских, итальянских, новогреческих и еврейских фраз. Большей частью беседы сводились к городским происшествиям, мировым и портовым сплетням, а также обсуждению цен и достоинств колониальных товаров.
Кроме Американской и Французской рулеток здесь играли в Блэк-джек, расписывали покер, а также азартно лупились в прочие карточные игры, бывшие в ходу на всей территории Российской империи.
Сергея неодолимо потянуло к столам, за которыми дулись в вист, но Моня деликатно, словно селедку, подцепил его за локоть.
— Что Вы себе думаете? Мы топали сюдой ногами не за то, шоб обувать этих мелких цуциков! Мы желаем делать здесь хороший гешефт. А хороший гешефт — это рулетка! Игра ума и духа против администрации заведения и жлобского закона случайных возможностей.
Он потянул Сергея к барной стойке, тут же заказав ему ямайского рома, а себе — рюмку шартреза. К ним сей же час подсел бледный, бесцветный человечек в испачканном мелом жилете крупье, с беспокойно бегающими, сильно полинявшими глазками. Он возник из ниоткуда, до того, словно большая камбала, сливаясь с интерьером. Слегка поклонился, предупредительно бросив каким-то пустым, ничего не выражающим голосом:
— Никаких имен, господа.
— Понимаю, — согласился Гроза морей. — Конспирасьен!
— Вот именно-с, — кивнул «человек-камбала».
— Это ты хорошо придумал, Жоржик! — одобрительно отозвался Моня. — Чтоб ни один гэц свой нос не подточил до наших секретов! Давай верещи нам за игру!
Жоржик скорбно посмотрел на него и спросил у Нарышкина:
— О правилах осведомлены-с?
— Игрывал как-то по младости-с, — в тон ему ответил Сергей. — Может, лучше в картишки перекинемся?
«Человек-камбала» с укором посмотрел на Моню. «Кого ты привел?», — явственно читалось теперь в его рыбьих глазах.
— Жорж, уберите ваш бледный вид! — констатировал Брейман. — Не надо делать из себя лимонную физиогномию.
Крупье вздохнул и принялся нудно наставлять:
— Напоминаю, что правила предельно просты-с: выигрыш зависит от ставки, которую вы делаете. Если желаете-с, можете поставить свои деньги на нечетные либо четные числа; красное, черное либо зеленое, что означает «зеро». Во французской рулетке, такоже имеются особые правила, называемые «эн призон» и «ля партаж»…
Нарышкин зевнул и недоуменно взглянул на Бреймана.
— Жорж, что вы о себе думаете? — взвился Моня. — Мы тащились в эту бодегу, шоб вы, как той херсонский маяк, светили нам жизненный путь и играли в гимназистов и учителя?!
Крупье пожал плечами и принял смиренно-отстраненный вид.
— Хорошо-с, — сказал он, понизив голос до полной интимности. — Извольте видеть вон тот стол для «американки». Советую сесть за него и ставить на зеро, двойку и цифру три. Дело верное. Выигрыш — одиннадцать к одному.
— Тю… — задумчиво протянул Моня.
— Не подходит-с? — встрепенулась «камбала», иронично скривив губы. — Что ж, раз вам мое предложение неугодно, ставьте на нумер. Выигрыш — один к тридцати шести. Ежели повезет, можете сорвать куш, но предупреждаю: имеется весьма значительный риск… значительный! Можно и того-с… проскакаться!
— Нет, как вам это понравится! — довольно громко воскликнул Моня и поворотился к игровому залу в поисках поддержки. — У этого деляги вместо глаз — два червонца!
— Бросьте, — одернул его Нарышкин, тревожно оглядываясь. — К дьяволу риск. Будем играть на три цифры, как нам сказал этот Ваш приятель.
— Вы это мне говорите? — не унимался Моня.
— Это я Вам говорю, — сквозь зубы прошипел Сергей. — Заткнитесь, болван Вы этакий! Всю игру нам сорвете!
Моня как-то сразу обмяк и напустил на себя обиженный вид.
— Ну, хорошо…
Он пожал плечами. — Раз Вы так решили за игру, то так и будет. Но имейте себе в виду, Брейман Вас предупреждал!
За столом уже шла игра, правда достаточно вялая. Колесо рулетки вращалось со скрипом, будто принадлежало не известному заведению, а старой телеге биндюжника.
Шарик тоже производил изрядный шум, напоминавший грохот проезжавших за окнами пролеток. Жоржик, пошептавшись с дилером, занял его место и, незаметно подмигнув помощнику, стал крутить колесо сам. Нарышкин пропустил и только в следующий раз решился обменять несколько радужных бумажек на фишки и поставить их на указанные «человеком-рыбой» цифры. Когда шарик в очередной раз принялся прыгать по колесу рулетки, Сергей замер… Выпала тройка. Ставка выиграла, и Гроза морей загреб горсть фишек себе. Моня одобрительно хмыкнул и зашептал через его плечо:
— Перекратите мене нервничать! Дышите носом, а то с нас все будут смеяться!
— Цыц! — сердито мотнул головой Нарышкин и, прикупив еще фишек, снова поставил их на тройку, двойку и зеро.
Жоржик усмехнулся и принял ставку.
Двойка выиграла. Гроза морей, весьма довольный собой, разменял новую пачку ассигнаций.
— Играю еще, — объявил он с некоторым вызовом. Стол загудел. Вокруг Нарышкина стали собираться любопытные.
— Играйте на все, — шипел вошедший в азарт Моня. — Таки не нужно сидеть одной попой на два базара!
— Ступай, отдохни! — огрызнулся Нарышкин.
— Тоже мене прынц! — с обидой пробормотал Моня. — Гордый, как тая жяба!
— Ставлю все на «зеро»! — неожиданно для самого себя объявил Сергей. Подошел инспектор зала и с интересом принялся наблюдать за происходящим.
— Вы ставите на «зеро»… все? — с легкой дрожью в голосе переспросил Жоржик, косясь на инспектора. Рыбьи глаза его слегка округлились.
— Ставлю, — кивнул побледневший Нарышкин.
— Принято! — громко сказал инспектор, самолично крутя колесо.
Дрогнувшая рука крупье выронила шарик, и все то бесконечно длинное время, покуда он танцевал между цифрами, Нарышкин покрывался испариной. Наконец, слегка покачавшись, шарик остановился на зеленом поле, в середине которого красовались… два ноля.
Зрители ахнули, Моня взвыл.
— «Двойное зеро»! — объявил инспектор, загребая лопаткой фишки Сергея.
— Позвольте, как же так, моя ставка должна была выиграть! — воскликнул Нарышкин, хватая инспектора за руку.
— Вы на «зеро» ставили, а тут, извольте видеть — двойное! — ухмыльнулся тот, пытаясь выдернуть руку. — Пустите, сударь! Да, что Вы, в самом деле!
— Откудова двойное! — взвился Брейман, не управившись с эмоциями. — Ты что обещал, лярва! Зарезал! Как есть зарезал! Укокошил без ножика!
Он уцепился за жилетку Жоржика, пытаясь дотянуться до горла разом побледневшего крупье.
— Ну гляди, сволота, щас у тебе в грызле зубов убавится!
Оба покатились под стол, при этом Брейман нещадно тузил своего знакомца коленками.
— Шоб у тебя заместо палец гангрены повырастали! — рычал он. — Ляжь ровно, погань, я щас тебе буду изображать каннибала!
— Полиция! — в свой черед закричал инспектор, которому Нарышкин пытался скормить свои фишки. Он каким-то образом вывернулся, схватил Сергея за волосы, и в руках у него остался черный флибустьерский парик, приобретенный у лучшего в Одессе куафера Ля Виньота.
— Они жулики! — давясь фишками, заорал инспектор. — Хватайте их!
От соседнего стола отделились два амбала и с интересом уставились на разоблаченного Нарышкина.
— Дывись, Петро! Сдается мене, что ето той мусью, ше на Арбузной гавани пузырь запущать собирался! — густым басом сказал один из них, и в казино сразу стало тихо.
— Чтоб мене! Господин воздухоплаватель! — отозвался второй. — Он, как видно, решил за то, шоб поиграть в наши кровью заработанные ассигнации! Видать, не придумал ничего интереснее, чем просто навсегда зажмуриться.
— А вон и Моньчик тут! Ступай Моня до нас!
Оба детины, раздвигая толпу, двинулись к горе-игрокам, но тут Нарышкин, затрубив, как раненый африканский слон, ухватился за игральный стол и, понатужившись, опрокинул его. Бывшие на зеленом сукне фишки, деньги и даже драгоценности — все это полетело под ноги зрителей. Толпа вокруг стола тут же смешалась. Кто-то кинулся подбирать монеты, кто-то бросился за фишками, остальной доселе мирно глазеющий на игру народ принялся воинственно вопить и с удовольствием бить друг дружку по физиономии. С пышным звоном на паркет посыпалось большое зеркало, в которое кто-то метнул фикусом. Мимо уха Нарышкина просвистел пущенный, будто копье, биллиардный кий и врезался в домовину настенных часов, насмерть убив кукушку или того, кто вместо нее там обитал…
— Ливеруемся! — завопил Моня, оставляя в покое недодушенного, насмерть перепуганного Жоржика и поспешно суя за пазуху разлетевшиеся, словно листья, ассигнации.
Пользуясь суматохой, раздавая направо-налево пинки и зуботычины, Нарышкин с Моней выползли из общей свалки и под жизнерадостную трель полицейской дудки рванули из казино вон.
— Сюдой! — Моня дернул Нарышкина за рукав.
Они кинулись в лабиринт одесских двориков, пахнущих помоями и таранью, мокрым бельем и пыльными каштанами.
— Хорошо поиграли, — хмуро заметил на бегу Моня. — Аж гай шумит!
Нарышкин, шумно сопя и не прекращая ходу, навесил Брейману хорошую затрещину, отчего тот еле удержался на ногах.
— Вот тебе твой «хороший гешефт», скотина! — запыхавшись, выдавил он.
Глава пятая НЕ ПОМИНАЙТЕ ЛИХОМ!
«Тотчас дым, стремившийся подняться, но, не могущий проникнуть сквозь металл, стал толкать сосуды вверх и таким образом поднял с ними и человека»
(Сирано де Бержерак, «Путешествие на Луну»)Двор ланжероновой мызы был окружен народом. Окрестные обыватели, грузчики с гавани, торговки рыбой и всякая мелкая босота норовили заглянуть в щели забора, повиснуть на покосившихся воротах, забраться на деревья. Предметом общего любопытства и острых споров была похожая на огромный кабачок, раздувшаяся до неприличия оболочка дирижабля, повисшего над разобранной крышей мастерской.
— Почикайте, бабоньки, якой справный ливер! К ему б ищщо пару пузырев — и совсем как той антон!
— Да ты уж, поди, и забыла який он бывет!
Нарышкин и Моня еле пробились во двор инженеровой хаты, по пути затеяв ссору с компанией каких-то портовых огольцов.
— Ша, босота! — вполне по-одесски огрызнулся на них Нарышкин, тяжело дышавший от долгого бега.
Прорвавшись во двор и кое-как затворив за собой калитку, Сергей первым делом кинулся к Зауберу.
— Плохи наши дела, Иоганн! Мой грех, послушал этого пейсатого краснобая да и полез за длинным рублем!
— Что случаться? — с тревогой поинтересовался немец.
— Случаться то, что с минуты на минуту сюда могут явиться либо полиция, либо наши приятели — кредиторы! — шумно дыша, объявил Гроза морей.
Убираться нам надо отсюда подобру-поздорову!
Он хлопнул по плечу подошедшего инженера:
— Как, Яков Аркадьевич, все ли готово к полету?
— Катенарная подвеска меня беспокоит! — Ланжерон озабоченно поскреб козырек фуражки. — Может и не выдержать!
— Выдержит! — уверенно произнес Сергей и тихо бросил Зауберу:
— Грузите наши вещи, Иоганн. Будем отсюда выбираться!
— Как! Дирижабль надо испытывайт, — удивился Иоганн Карлович. — Он не готов к перелет.
— К черту! — взвился Сергей. — Или летим сей же час, или уже никогда!
— Но как быть с ветер? Нам нужен попутный, в сторону Истанбуль!
Нарышкин послюнявил палец и поднял его вверх.
— Ветер есть. Приятный, легкий бриз… и, может быть, даже в сторону турецкого берега. Вот и славно! Грузитесь, Иоганн Карлыч, или нам с Вами не видать константинопольских реликвий, как своих ушей!
Узнав о предстоящем отлете, Ланжерон вскричал на всю арбузную гавань:
— Не допущу!!!
Инженер заметался по мастерской и, брызжа слюной, принялся что-то доказывать, однако слушать его Нарышкин не стал. Он кивнул Терентию, вдвоем они повалили непокорного строителя дирижабля на диван и спеленали его полотенцами, не забыв и про кляп.
— Послушайте, милый Яков Аркадьевич, — быстро заговорил Сергей. — Не обессудьте, обстоятельства сложились так, что мы вынуждены лететь. Ваше изобретение попадет в газеты, пусть даже и в скандальную хронику, за это я Вам ручаюсь! Мы сами опробуем Ваш аппарат… Считайте, что Вы ненадолго сдали его нам в аренду!
Он порылся в карманах и извлек оттуда жидковатую стопку оставшихся ассигнаций. Отсчитал часть и сунул их инженеру за пазуху.
— Вот. Здесь около тысячи рублей. На первое время Вам хватит… Простите, все, что могу!
Он повернулся, чтобы выйти из хаты.
— И еще… Советую Вам какое-то время не развязываться. Так, по крайней мере, вы обеспечите себе алиби. Понимаете меня?
Инженер поднял на Сергея красное заплаканное лицо и энергично кивнул.
— Вот и хорошо. Не поминайте лихом! — бросил Нарышкин и вышел из комнаты.
— У нас есть готовность! — отрапортовал Заубер, с тревогой глядя на собравшееся у гондолы товарищество.
— Ну и с Богом! — кивнул Сергей. — Полезайте в корзину!
Все, кроме Катерины, поспешили исполнить его приказание.
— Ни в жисть не полезу! — заартачилась она. — Хошь обеими руками перекрестите, а я туда не ногой!
— Надо, Катя! — пытался увещевать Нарышкин. — Другого выхода нет.
— Сердце мое непереносчиво подобных страстев! Где это видано, чтобы в этакой малипусенькой кошелке люди по небу летали?!
— Полезай, Катя, прошу тебя! — прикрикнул Сергей. — Нам тут не до твоих белоснежностей! Лезь, или я тебя силой туда засуну!
— А Вы на меня ор-то не подымайте! Вы мне не муж еще! Вот кабы женились, тогда и горло драли бы!
«Ишь, ощетинилась, не хуже той пантеры, — подумал Сергей. — Того и гляди вцепится!»
Со стороны гавани уже явственно слышались переливы полицейских дудок.
— Катя я прошу тебя, — сказал Нарышкин, стараясь сохранять спокойствие.
— Так что, женитесь? — с вызовом бросила девушка.
— Ну, хорошо… Бог с тобой, пожалуй, что и женюсь!
— Жаловать опосля будете! Говорите сей же час, мучитель души моей, женитесь иль нет?
— Хорошо, я согласен! — негромко ответил Сергей.
— Ну, вот и славно! — крикнул из гондолы Степан. — Смотрите же сударь, чтоб без коварства! Слово не воробей. Пообещались — стало быть, и молодец!
— Молодец в лавке при прилавке! — хмуро буркнул Сергей, помогая сразу ставшей покорной Катерине влезть в корзину.
— Дывись, бабоньки: и девка с ими, — ахнули за воротами. — Совсем страмоту потеряла!
— А что ж, видать без женского полу не один огурец кверху не подымется!
— Ты хоть знаешь, как этой штукой управляют? — спросил Нарышкин у немца, задирая голову и с сомнением глядя на огромную, нависшую над двором оболочку.
— Я немного понимайт, — пожал плечами Заубер, перелезая через борт гондолы.
— О, майн гот! — добавил он и, несмотря на то, что был лютеранином, перекрестил себя православным троеперстием.
Немец запустил двигатель, работающий на светильном газе, открыл какие-то клапаны, и дирижабль, еще пуще раздувшись, на добрую сажень оторвался от земли. Зрители восхищенно ахнули.
— Ой, вэй! — заорал молчавший доселе Брейман. — Вы что, оставите мене на растерзание етим волчкам?! Как делать гешефт — так вместе, а как подыхай ни за что, так один Моня, с нашим удовольствием!
Он ухватился за волочившийся по земле фал и потянул дирижабль на себя. Однако махина уже рвалась вверх, и родственник инженера, смешно дрыгая ногами, повис в воздухе.
— Возьмем его? — спросил Нарышкин у Заубера.
— Аппарат слишком тяжелый, — с сомнением ответил немец, ковыряясь с двигателем. — Мы все иметь шанс упасть!
— Черт с ним! Возьмем! — махнул рукой Сергей. — Не оставлять же его и впрямь кредиторам! Общими усилиями судорожно болтавшегося на конце фала Моню затащили в корзину, и он повалился на ее дно, словно тюк с мануфактурой.
— Вай-мэ! — запричитал Брейман, едва отдышавшись. — Издрасьте вам, нашел пятый угол!
Заубер высыпал немного песка из балластного мешка, и дирижабль стал подниматься быстрее.
Освободившийся фал еще какое то время поскакал по пыльному двору, взъерошил кроны яблонь и приветливо помахал задравшей головы толпе обывателей, как бы прощаясь с землей, но вскоре сильный порыв ветра потянул дирижабль вверх, словно мячик подбросил его в небо и неумолимо понес над землей. Двор стал быстро уменьшаться в размерах, люди внизу сделались не больше мизинца, а потом и того меньше. По каракулевым папахам каштанов, соломенным и черепичным крышам домов заскользила вытянутая веретенообразная тень и поползла в сторону гавани. Нарышкин посмотрел вокруг и поразился открывающейся красоте. Впереди была безбрежная морская синева. Позади раскинулась утопающая в зелени акаций и каштанов Одесса. Внизу — не больше ракитового листа — силуэты многочисленных «дубков», заполнивших арбузную гавань.
Наверху сила ветра совсем не ощущалась, здесь было тихо, и воздухоплавателям показалось, что аппарат просто висит в воздухе.
Только пляшущая на волнах тень и удаляющийся берег говорили о том, что дирижабль движется. Выглянувший из гондолы Моня смертельно побледнел и запричитал, тряся Заубера за плечо.
— Ой-вэй, поворачивай! Нам же всем здесь придет кадухис!
Он опустился на четвереньки и забился в угол корзины.
— Как в…вы себе понимаете, этот мотлох с…способен долететь до К. константинополя? — спросил он, выбивая зубами чечетку.
Никто ему не ответил. Воздухоплаватели тревожно озирались вокруг, стараясь свыкнуться с новой обстановкой.
— Пяченый-то жидок, кажись, резонт говорит! — зашипел Степан на ухо Терентию. — Как есть, накроемся мы все одной кадушкой! Вот такой, значит, нам леестр выйдет!
— Будет тебе мозоль на душу натирать! — с раздражением отмахнулся дядька, у которого разыгралась рана. — Не пропадем! А еврейчик этот — он и у турка на колу тетю встретит. Помяни мое слово!
Терентий — один из немногих, кто чувствовал себя в гондоле аппарата как в своей тарелке. Сергею было неуютно в плывущей по воздуху зыбкой соломенной корзине, а, кроме того, его слегка подташнивало от непривычного отсутствия твердой земли под ногами. Степан, по-видимому, руководимый тем же чувством, со стонами принялся травить за борт. Катерина, заботливо придерживала его за полу, и весь вид ее служил явным и живым укором Нарышкину. Заубер был слишком сосредоточен на поведении пресловутых катенарных подвесок, чтобы чувствовать что-то, кроме напряжения. Лоб его был мокрым от пота.
— Не имейте беспокоиться, — заметив озабоченность немца, попытался утешить его Терентий. — Канат надежный! Манильской. Я покудова эти самые подвески крепил да узлы плел, семь потов с себя спустил. Прямо как на флоте в прежние времена…
Выглянув из корзины, дядька приложил ладонь козырьком ко лбу и осмотрелся.
— Эх, море-окиян! — крякнул он удовлетворенно. — Вот она, бескрайность природная!
Заходящее солнце вызолотило море и нагрело оболочку дирижабля. Он поднялся еще выше и парил теперь примерно на расстоянии полверсты от поверхности воды. Пронзительно-ясное закатное небо пятнала только легкая тучка, севшая на горизонт…
Неожиданно Терентий указал рукой на длинный белопенный след на волнах.
— Вона она! Яхта та самая — «Калифорния»! В аккурат к турецкому берегу подалась!
Нарышкин, оглядев еле видимый вдали силуэт яхты, нахмурился.
— Ага, господин Трещинский тоже желает осмотреть стамбульские достопримечательности! А мы летим как раз наперерез его курса. Как это понимать, Иоганн Карлович?
Заубер развернул карту и, сверившись с ней, оглянулся на тающий вдали берег.
— Нас выносить в сторону Крым! — пробормотал он озабоченно. — Если ветер не будет измениться, то мы приземляйся прямо на вершину Аю-даг.
— А мы можем идти против ветра? — поинтересовался Гроза морей, не спуская глаз с яхты.
— Только под угол к ветер, — развел руками Иоганн Карлович. — Мотор не иметь отшень большой мощность. Мы можем делать семь — восемь миль в час. При сильный противный ветер, это есть совсем немного. Запас газ тоже не велик. Я запускать мотор только в самый крайний случай!
— И что нам делать?
— Молиться! — улыбнулся Заубер. — Господь да помогать всем нам!
Однако аппарат все больше сносило в сторону открытого моря и тяжелых свинцовых туч, не весть откуда взявшихся на горизонте. Слегка оправившийся Моня приподнял голову над краем корзины и тронул немца за плечо.
— А ше это там, профессор? Сдается мене, вон та большая куча хорошей погоды идет прямо до нас!
— Это есть гроза, — педантично пояснил Заубер.
— Перестаньте меня нервничать! — снова побледнел Брейман. — Давайте уже ее объедем.
— Ой, матерь божья! — неожиданно взорвалась Катерина — Да что Вы на всех мерихлюндию-то напускаете! У нас, поди, не корабль с парусом! Куда ветер дунет, туда и летим!
— Злые вы, — пожаловался Моня. — Хужее только верблюды в зоологическом саду, ше плюются слюной на себе подобных.
— Ну, будет бакланить! — оборвал его Терентий. — Бог не выдаст, свинья не съест!
Заубер запустил двигатель и подтянул несколько строп, но это не помогало. Дирижабль продолжал двигаться в сторону приближающейся грозы.
И вот она разыгралась. Ветер превратился в шквал. Дождь забарабанил по обшивке. Аппарат подбросило еще выше, и свирепая стихия понесла его прочь от родных берегов со скоростью курьерского поезда.
Воздухоплаватели принялись молиться каждый своему богу. И, пожалуй, что три раза молитвы их были услышаны. Первый раз помог еврейский Яхве. Когда аппарат вдруг стал стремительно опускаться к белым шапкам волн, беснующихся на море, Моня сообразил ухватить один из мешков с песком и сбросить балласт за борт. И вовремя. Штормовая волна успела-таки лизнуть корзину. Все, кто был в гондоле, ахнули, но дирижабль так же быстро, как и опускался, взмыл к тучам.
Второй раз Зауберу помог его лютеранский Христос.
Задрав голову вверх, немец углядел в грозном движении воздушных масс какое-то едва заметное изменение. Иоганн Карлович схватил Нарышкина за локоть и указал на небольшой просвет, возникший среди туч.
— Вот там, наверху, ветер может иметь другой направлений. Мы должен сбросить весь балласт и взлетать выше туча!
— Но если у нас не станет балласта, а воздух в пузыре остынет, как же мы потом поднимемся? — вытирая мокрое от дождя лицо, резонно спросил Сергей.
— Это есть риск, — согласился Заубер. — Но это есть наш шанц!
— А, шут с ним. Была — не была! — Сергей подал пример остальным и стал вытряхивать за борт песок из мешков. Терентий, морщась от боли в ране, пришел ему на помощь. Дирижабль вздрогнул и слегка поднялся вверх.
— Гут! — одобрил немец. — Надо еще! Аппарат сильно намокайт и стать весьма тяжелый.
— Ах, ты, тундерветер! — заскрипел зубами Гроза морей и, ухватив сразу два мешка, выкинул их из корзины.
— Молодцом Вы, сударь! — похвалил его Терентий. — Там в аккурат вся наша провизия была.
И в третий раз спасла терпящих бедствие воздухоплавателей Матерь Божья, которой вознес православные молитвы Нарышкин. Избавившись от балласта, дирижабль прошил грозовую пелену и взмыл над тучами, туда, где в чистом небе теплым золотистым закатным светом светило солнце, окрашивая в немыслимые цвета и оттенки гривы облаков.
Вскоре стемнело, и небо украсили крупные, с кулак, близкие звезды.
— Я думать, что ветер будет поменяться — удовлетворенно отметил Иоганн Карлович. — Вот только боюсь, что мы будем падать быстрее, чем увидать берег!
— Сумели подняться, сумеем и сесть, — беспечно хмыкнул Сергей.
— А там-то как? — встрял в разговор Терентий. — Янычары нас завидят, чирик по горлышку сабелькой и прощевайте, православные!
— Да выкрутимся как-нибудь! — улыбнулся Нарышкин. — Главное — летим!
— Вы есть настоящий авантюрист, — впервые за весь полет засмеялся Заубер. — А теперь, как это говорить в России, «Утро вечер мудренее»! Вы укладываться спать, а я буду дежурить…
В эту ночь Нарышкину снились одалиски. Они, смеясь, кружились в восточном танце, старались затащить Сергея в свой круг и манили его за собой, обещая тайные наслаждения.
— Кыш, черноглазые! — прикрикнул на них Гроза морей. — Знаю я вас, чертовок! Меня не проведешь! Сначала хороводы водить будем, а потом вы меня жениться на себе заставите! Нет, шалишь, Сережа Нарышкин не таковский будет!
Девушки рассыпались серебряным смехом, одна из них приподняла вуаль, закрывающую лицо, и Сергей узнал в ней… Анастасию Нехлюдову.
— Вот чертовщина! — подумал он и сдернул покрывало у другой танцовщицы — опять Анастасия!
— Не иначе как нечистый ворожит, — подумал Нарышкин.
— Не узнаете меня, корсар? — голосом Анастасии усмехнулась третья.
— Дьявольщина какая-то, — подумал Сергей, тронул вуаль очередной одалиски… и замер, словно громом пораженный.
Из-под вуали ухмылялся, кривя рот, Царь всея Руси Иоанн Васильевич Грозный! Борода и губы его были почему-то измазаны сметаной.
— А ты, Сережа, зело шалун! — облизнувшись, сказал самодержец и зашелся противным клокочущим смехом…
…Нарышкин проснулся оттого, что стало неожиданно тихо. Шум кашляющего двигателя смолк, и слышался только мерный рокот волн где-то далеко внизу.
Сергей резко поднялся, качнув гондолу, и, не удержавшись на ногах, брякнулся навзничь.
— Что происходит? — пытаясь прогнать остатки сна, пробурчал Гроза морей.
— Ничего особенного. Просто мы падать, — спокойно сказал Заубер. — Газ у нас кончаться, и оболочка остывать.
Нарышкин выглянул наружу. На чистом, ясном горизонте гасли последние звезды, и уже вовсю разгоралась алая полоска рассвета. Шторм, так безжалостно оторвавший наших героев от родной земли, стих, и море спокойно и величаво несло свои волны, которые с шипением накатывались на незнакомый скалистый берег внизу.
— Где это мы? — протирая глаза, поинтересовался Нарышкин.
— Как знать? — пожал плечами немец. — Может, это есть Крым, а может и Кавказ!
— Слава Богу, таки не в раю — попытался пошутить Моня. — А может, ше это уже земля обетованная?
— Я не знать, где мы точно находиться, — печально усмехнулся Заубер, с тревогой оглядываясь по сторонам.
— Ветер меняется, — констатировал Терентий. — Отжимной дует с берега. Ежели так и далее будет продолжаться, то нас неуклончиво в море унесет!
— Что можно сделать, Иоганн Карлович? — спросил Сергей.
Надо быстро посадиться! — серьезно сказал Заубер. — Пока мы есть недалеко от берег! Иначе может быть совсем швах!
Немец дернул за трос, прикрепленный к клапану для выпуска газа, но, видимо, он перетерся, или узел был затянут неправильно, только веревка оторвалась и осталась в руках у Заубера.
— О, майн гот! — вырвалось у немца.
Гроза морей быстро оценил обстановку, сдернул с головы свой щегольской полуцилиндр и, перекрестившись, полез по стропам вверх. Гондола стала опасно раскачиваться.
— Осторожнее! — вскрикнула Катерина — К чему балаганство затеяли! Угробитесь до свадьбы — и вся недолга!
— Не переживай, Катенька! — заскрипел зубами Сергей, пытаясь подтянуться по мокрому, скользкому тросу. — Найдется кто-нибудь и повыгодней меня!
— Ну уж нет! Ишь, чего удумал, лопни твоя утроба! Слазь сей же час, мутитель спокойствия!
Нарышкин, ругая про себя на чем свет стоит глупую бабу, медленно — вершок за вершком — продвигался вверх. Налетевший откуда-то сбоку порыв жаркого, пахнущего степью ветра едва не сбросил его в море. Изо всех сил, в кровь разрезая ладони, Сергей цеплялся за веревки и, барахтаясь в катенарных подвесках, словно муха в паутине, полз к намеченной цели. Вот он уже оказался под самым брюхом оболочки. Здесь тросы сплетались в сеть, и двигаться стало легче. Нарышкин изловчился и, дотянувшись до выпускного клапана, дернул за обрывок веревки что есть сил.
Клапан раскрылся с треском, и Сергея обдало тугой струей теплого газа, который стал с шипением стремительно вырываться наружу. Задыхаясь от кашля, Нарышкин удерживался из последних сил, чувствуя, как слабеет с каждой секундой. Оболочка быстро съеживалась, и дирижабль стал терять высоту. Приближалась прозрачная изумрудно зеленая поверхность воды с мерно шевелящимися на дне водорослями. Не в силах больше держаться, Сергей разжал руки и ухнул вниз, сопровождаемый горестным истошным женским воплем.
— Не много в женихах ходил! — подумал он со странным удовлетворением.
Полет был долгим, и Нарышкин смог даже разглядеть резвящихся неподалеку от берега дельфинов и чаек, облепивших прибрежные скалы.
«Надо бы воздуха набрать», — успел подумать он, прежде чем бултыхнуться. Его сразу потянуло вниз, ко дну. В ушах возникла резкая боль. Вспомнив свой купальный сезон в Аркадии, Сергей развел руки в стороны, замедлил погружение и стал медленно, очень медленно, как показалось ему, выбираться на поверхность. Наконец зеленоватый туман вокруг рассеялся и в лицо ему хлынул солнечный свет.
— Жив!
От радости он заорал и, отплевываясь, принялся хохотать и бестолково колошматить руками по воде.
— Жив!!!
На солнце набежала тень. Сергей поднял голову и увидел приближающийся изрядно похудевший дирижабль. Потерявший свои размеры аппарат несло вдоль полоски прибоя, мимо острых скал, словно зубы огромного морского существа торчавших из воды. У Сергея перехватило дух, но Создатель видимо решил вмешаться и здесь…
Корзину протащило над каменным гребнем и бросило в тихую, спокойную песчаную бухту позади него. Воздухоплаватели кубарем выкатились из гондолы и повалились на мелководье. Сдутую оболочку дирижабля проволокло еще саженей триста и прибило к скале.
Сергей, морщась от боли в разъедаемых солью, порезанных ладонях, доплыл до бухты и, пошатываясь, выбрался на теплый песок.
— Живой! — Катерина со слезами кинулась Нарышкину на шею, замолотила кулачками по его груди. — Дурень этакой! Черт безголовый! Я чуть апоплексическим ударом не скончалась, когда ты упал!
Первым делом было осмотрено воздушное судно. От удара у корзины отвалилось дно, а сам шар сильно изорвало о прибрежные камни.
— Дело шлехт, — констатировал Заубер. — Наш аппарат приказать долго жить!
— Ну и как вам это понравится? — пытаясь выжать промокший сюртук, пробурчал Моня. — Сдается мене, ше это даже не шлехт. Это полный тухес!
— Хватит причитать, — улыбнулся Нарышкин. — Главное, что мы все живы! Давайте лучше посмотрим, куда это нас занесло.
Сергей мягко отстранил от себя Катерину и, несмотря на смертельную усталость, принялся решительно взбираться на крутой берег.
Глава шестая БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
«Турки почти все холерики, каковыми они и быть должны, поелику обитают в весьма жаркой стране: на лицах их разум изображен и варварство».
(Из записок П. А. Левашова, члена Русской дипломатической миссии в Стамбуле в 1763 году.)Солнце поднималось над горизонтом все выше. День обещал быть знойным.
В скалах обнаружилась узкая тропинка, змеящаяся вдоль берега.
— Пойдем по ней, — вытирая пот, предложил Нарышкин увязавшемуся за ним Терентию. — Обязательно к людям выйдем. Хорошо бы раздобыть чего-нибудь на зуб и устроить встряхнутие чресел, а то внутри меня полковой оркестр играет. Причем фальшивит изрядно!
— И то верно, — согласился дядька. — Цельную ночь по небу мотались! Недурственно б и того… подхарчиться маленько.
— И почему ты меня, дурень этакой, сразу не предупредил, чтобы я мешки с провиантом не трогал?! — буркнул Сергей и уверенно зашагал вперед по тропинке. Сзади послышался возглас. Их догонял Заубер.
— Нам надо быть отшень осторожным! — запыхавшись, сказал он. — Ты должен спрятать то, что осталось от аппарат.
— Отличная идея, — похвалил Гроза морей. — Но меня беспокоит, что мы до сих пор не имеем представления о том, где находимся.
Солнце пекло. В сухих травах стрекотали кузнечики и прочая насекомая братия. Над прогретой землей уже дрожало знойное марево. Тропинка повернула от моря, и путешественники углубились внутрь неизвестного «континента».
Вскоре они наткнулись на изящное глинобитное сооружение. Его купол был украшен керамической плиткой с затейливым геометрическим орнаментом. Перед входом, на закапанных воском плитах, во множестве торчали свечные огарки. Внутри было прохладно и пусто, только в дальнем углу высилась груда каких-то узлов и тряпок. По всем четырем стенам бежала причудливая арабская вязь.
— Это есть стих из Корана. Я немного понимать, — присмотревшись, определил Заубер.
— Эге, так Вы знаете арабский! — вскинул брови Сергей. — Вы не устаете меня удивлять, Иоганн Карлович. Может быть, подскажете, где мы все-таки, и почему до сих пор вокруг такое безлюдство?
— Я полагать, что это есть склеп, могила. Как это… мавзолей. Усыпальница мусульманский святой.
— Вот как! Значит мы все-таки в Крыму. Я видел там похожие штуки …
— Отшень возможно.
— Ну и шут с ним. Крым так Крым. Доберемся до Феодосии или до Севастополя, а там видно будет! Давайте население искать. Жрать хочется, мочи нет.
Прошли по безлюдной пересеченной местности еще с версту. Узкая тропинка все больше забирала в горы. По краям ее рос, какой-то колючий кустарник, кое-где появились торчавшие столбами пирамидальные тополя, вдали виднелись поросшие невысоким лесом холмы.
— Древняя Киммерия — благословенный край! Пять веков татары владели, а теперь, слава Богу, эта красота наша, — Нарышкин по-хозяйски оглядел окрестности.
Заблеяли овцы. Из-за поворота на тропинку выкатилась небольшая отара — голов пять шесть. Подгонял овец босоногий мальчонка в драном полосатом халате.
— Эй ты, татарчонок, ходи сюда! — радостно заорал Нарышкин. — Ходи-ходи, как тебя там, Юсуф-Мустафа!
Но татарчонок повел себя очень странно. Сначала он остолбенел, выпучив свои черные круглые глаза, а потом, бросив хворостину.
— Шайтан! Шайтан! — заорал он благим матом, и со всех ног припустил наутек.
— Он что, русских людей не видел? — нахмурился Гроза морей. — Вот же дикий народ. Учишь их, дураков, учишь, и все без толку!
— Это не есть татарчонок, — прислушиваясь к удалявшимся крикам, сказал Иоганн Карлович.
— А кто же? — удивился Нарышкин. — Давай за ним пойдем, чую: неподалеку кишлак или аул… или как там их деревни называются!
Ведомые криками перепуганного пастушка, путешественники быстро добрались до селения. Мазанки с плоскими крышами густо лепились по склону холма. Над ними вились дымки, свидетельствуя о присутствии человека. Крик пацаненка раздавался из ближайшего двора. Поспешили к нему, но прежде чем войти в калитку, догадались заглянуть за невысокий, сложенный из необработанных камней, забор.
Посреди двора несколько женщин в шароварах до лодыжек и темных халатах, о чем-то оживленно болтая, растягивали на деревянных рамах овечью шерсть. Возле дома, в тени, которую давал навес, на ковре вокруг большого блюда с пловом сидело и полулежало несколько бородатых мужчин в фетровых фесках, а перед ними прыгал, размахивая руками, испуганный пастушок. Он быстро тараторил на своем тарабарском наречии, из которого Нарышкин явственно понимал только одно слово: «шайтан». Мужчины смеялись. Сергей хотел, было, уже крикнуть и объявить себя, как вдруг Заубер дернул его за рукав, выразительно провел ладонью по горлу и, сделав большие глаза, указал куда-то взглядом. Проследив его направление, Нарышкин рассмотрел рядом с одним из смеющихся бородачей ятаган. Внимательнее осмотрев двор, Сергей также заметил стоявшие у стены дома ружья и сваленные в углу кривые сабли.
Путешественники разом присели.
— Это не есть Крым. Это не есть Кимерия. Это… это есть Туркай!
— Эвон! Туретчина, стало быть, — шепотом констатировал дядька Терентий.
— Барашка лопают, башибузуки! — плотоядно облизнулся Нарышкин, по-своему осмыслив услышанное.
Потихоньку отойдя от забора, компаньоны что есть духу пустились наутек.
Отдышались только возле заброшенного глинобитного мавзолея.
Неожиданно для всех Гроза морей расхохотался.
— Что с Вами? — с тревогой спросил Заубер.
— Подумайте… ну разве не смешно? Мы столько дней готовились к перелету, создали даже это чертово акционерное общество. С риском для жизни полетели, сломя голову, за море… И вот теперь, когда мы наконец попали туда, куда так стремились, нам пришлось улепетывать во все лопатки, едва завидев этих басурман! О чем мы раньше-то с Вами думали, Иоганн Карлович?! У нас нет ни приличных документов, ни прикрытия… и, как выясняется, нет провианта!
Сергей нахмурился и стал разглядывать пол усыпальницы.
Немец хмыкнул и развел руками:
— Мы не успеть подготовиться. Все получаться так внезапно! И потом этот жуткий штормовой ночь…
— Да уж. Это Вы верно сказали. Как-то так выходит, что куда ни кинь — мы все время не готовы! И только негодяй Трещинский всегда подготовлен лучше нашего! Он-то, поди, сейчас уже в Стамбуле — вынюхивает, как бы побыстрее добраться до реликвий!
Заубер пожал плечами и промолчал.
— Ладно, пустое. Вы лучше скажите, Иоганн Карлович, что дальше-то делать станем? Если эти головорезы нас поймают, абгемахт всем выйдет! Либо сразу чик по горлышку, либо, в лучшем случае, в рабство продадут. Я этих антихристов знаю. На Кавказе навидался, — Сергей тяжело дышал от бега.
— Они не повериль мальчонка. Это есть хорошо, — улыбнулся Заубер.
— А овцы-то разбежамшись! — вставил Терентий. — Как начнут их излавливать да по округе шарить, на нас и наткнутся. Тогда уж точно подумают, что у них тут шайтаны завелись.
— Нас не будут убивайт, — рассудительно сказал Иоганн Карлович. — Турки не есть варвары. Они понять, что мы не шайтан. Они подумать, что мы иностранный шпион и, вероятно, будут отводить нас к свой начальство.
— Все одно тогда нам не выбраться! Прощайте стамбульские схроны!
Помолчали. Терентий приглядывал за дорогой.
— Нам надо сделать маскировка. Притвориться турок! — озарился Заубер.
— Как? В наших-то нарядах? — хмыкнул Сергей. — Да мы и болтать по-ихнему не можем.
— Говорить за себя, Серьожа! Я немного знать персидский, совсем немного арабский, но зато я бывать в Истанбул раньше и иметь возможность понимать их язык. Как это говорить в России… — «чуть-чуть».
— Но… Вы ни словом не обмолвились об этом! — удивился Нарышкин. — Поистине, сюрприз за сюрпризом.
— У меня быть мало время, но кое-что я могу сказать и по-турецки. А еще я знать стихи…
— Причем здесь стихи?
— Стихи из Коран! — пояснил Иоганн Карлович.
— А… Ну тогда другое дело… Хотя нет, все равно зарежут, — жизнерадостно хмыкнул Сергей и окликнул дядьку:
— Что там, Терентий?
— Тихо покамест! — отозвался старый моряк.
— Я все обдумать. Мы должны переодеться в дервиш, — заговорил Заубер, протирая penz nez.
— В кого?
— В дервиш. Это что-то вроде ваш юродивый. Ходить, говорить «каля-маля», иногда полный чушь, околесица. Простой народ дервиш очень уважать и давать им милостыня.
— Ну, знаешь, Иоганн, наши юродивые не так просты, если хочешь знать. Тебе со своим холодным, немецким разумом не понять…
— Простите, Серьожа, я не хотеть Вас обижать! Заубер вздохнул и принялся обстоятельно рассказывать:
— Дервиш — это такой секта. Общество людей, которые распространять тайный учений пророк Мухаммед. Это, если можно так говорить, религий в религии.
Есть несколько орден: Кадири. Он иметь отшень большой влияний и терпимость. Рифаи. Эти дервиш доводить себя до состояний транс и могут ходить по раскаленный огонь… уголь. Могут глотать змея и протыкать себя холодный оружие. Калантари. Бродить босиком, как нищий. Мавляви. Эти люди могут приходить в состояние экстаз, когда они делают танец под музыку свирель и бубен.
— Тьфу ты, нехристь окаянная! — перекрестившись, выругался дядька.
— Есть еще орден, который называть «Бекташи». Его правила разрешать употреблять вино и принимать женщин, которые не носить чадра…
— Это нам подойдет! — обрадовался Нарышкин. — Вот видите, Иоганн Карлович! А Вы мне «каля-маля»! Есть, стало быть, и у турок приличные люди, коли им можно винцом баловаться да женщин принимать.
Золотая ты голова Иоганн, все-то ты знаешь! Вот только одежонку нам откуда взять?
— А вот в этот мавзолей. — Заубер кивнул на груду тряпья. — Там быть какие-то вещи! Это бедный народ на хранение оставлять. Чтобы святой защищал. Это есть такой обычай.
— Ах вот оно что! Придется взять грех на душу.
С некоторой брезгливостью покопавшись в узлах, Нарышкин и Заубер преобразились. Обрядившись в живописные лохмотья, они и впрямь стали выглядеть как пара нищебродов. Правда, Нарышкин смахивал на турка весьма отдаленно.
— Голова надо брить, — скептически глядя на него, посоветовал Иоганн Карлович.
— Еще чего! — зыркнул Гроза морей. — Сойдет и так.
Его вихры с трудом поместились под феской. Светлую седеющую голову Заубера пришлось прикрыть вонючей бараньей шапкой.
— Какой запах! Пфуй! — жаловался немец.
— Да, амбре еще то! Зато, может статься, живы будем, — утешал его Сергей. — Надо бы нам свою одежонку припрятать. И потом… — он запнулся. — Катерине что-нибудь поприличней хорошо бы найти. Негоже ей все время в нищенках ходить.
— Это есть правильно! — согласился Заубер, вглядываясь в кучу белья на полу. — Здесь имеются женский вещь.
Компаньоны связали в узел свою одежду, прихватили тряпки для остальных и поспешили к морю.
— Ах ты ж, Боже ж мой, — снова запричитал Брейман, когда ему рассказали, какому черту на кулички занес их черноморский ветер. — Вы, видно, решили, что у Мони сильно розовые щечки и надо сделать ему лицо страданий! И зачем я не сидел себе дома? Иди, знай! Шил бы сейчас спинжаки, как папаша, и горя не нюхал! Говорила мама за то, чтоб иметь свой кусок хлеба и не забивать себе голову всяких глупостей! — тараторил одесский еврейчик, дрожащими руками поспешно надевая халат и тревожно озираясь по сторонам.
Обломки воздушного корабля — развалившуюся корзину, стропы и огромный мокрый ворох — все, что осталось от оболочки, — спрятали в расщелину у прибрежной скалы.
Хотели завалить припрятанное камнями, но сил у путешественников уже не было. Они повалились на прибрежную гальку и забылись сном…
В саду пели птицы. Пряные ароматы южных растений щекотали ноздри. В беседке, увитой плюющем, на ковре с причудливыми персидскими узорами возлежала женщина. Яркие шелка одеяния свободно охватывали стан дочери востока.
Ленивая красавица поманила к себе пальцем. Сергей подошел и прилег рядом с ней. Он попытался обнять гурию, но своенравная бестия выскользнула из рук и сама навалилась на Сергея; черные глаза ее, подведенные сурьмой, оказались совсем рядом.
— Ну что, Серьежа, нашель чего искаль? Может быть, я — твой сокровищь? — красавица коверкала слова и говорила почему-то с акцентом.
— Кто такая? — пытался припомнить Сергей, но ответа не находил. Было ясно только, что это явно не Катерина.
Нарышкин сжал неизвестную одалиску в объятьях и проснулся…
Вставшее над морем солнце светило Нарышкину прямо в глаза. Спина, измученная сном на камнях, болела. Под левую лопатку вонзился острый голыш. От голода сводило живот.
— Эй вы, горе-пилигримы, вставайте! — принялся будить спутников Сергей.
Товарищество «дервишей» заворочалось и стало шарить сонными глазами вокруг себя.
Опасливо оглядев море, скалы, пирующих у воды бакланов, Степан перекрестился и первым делом спросил:
— Куды это нас занесло? Ась?
— Шё тебе этих мучений? — огрызнулся Брейман, гадливо плеща водой себе на лицо. — К мине вопросов быть не надо. Ясный факт: мы приземлились не на Пузановском пляже. Таки разбуди господина немца и спроси у них, а то он лежит себе, как той мертвый труп утопленника.
— Велькомен зи мир битте, Туркай! — ответил, зевая и потягиваясь, Заубер. И добавил по слогам с легкой улыбкой:
— Это есть Тур-ци-я!
— Ой, значит не приснилось! — загоревала Катерина. — Вот занесла нелегкая в этакие тарашки!
Она с неожиданной злобой пнула голыши под ногами.
— Все бока себе отмяла. Соломушки бы хоть чуток!
В разговор, громко заурчав, вступил живот Нарышкина.
— Неужели ничего не осталось? Хоть бы цукерброд какой-нибудь пожевать, а, Иоганн?
Немец в очередной раз оглядел горку пожитков и молча развел руками.
— Я, сударь, могу сплавать мидиев надрать, — предложил Терентий. — Ежели сварить, а еще пуще — чинненько зажарить с лучком, — то твои грибы: съел и пресытехонек!
— Ракушки, дядька, лопай сам! — нахмурился Гроза морей.
— Зажмурьтесь и глотайте слюни, — посоветовал Моня. — Или можно половить глосиков, но у мене нет с собой ни кручка, ни катушки.
— Вы как хотите, а я в аул пойду. Попрошу хоть лепешку, что ли! — поднялся с гальки Сергей.
— Это верно. Надо в село ходить, милостыня просить, — поддержал Заубер.
— Издрасьте вам через окно! Где вы сохнете белье?! — взвился Моня. — Вы к ним припротесь, и они-таки примут вас как родных, с распростертыми объятиями. Облобызают, дадут покушать кишмиш и еще добавят шмот кошерного сала. Принесут прямо в руки, как в компании быстрой доставки «симон Бикицер и сыновья». Из нас дервиши, как из той селедки риба золотая! Спалимся, Сергей Валерианович. Точно спалимся!
— Мещанин Брейман, отставить скулеж! — скомандовал Гроза морей. — Где наша не пропадала, авось пронесет. Вон, Иоганн Карлович им стишок по-персидски расскажет, глядишь, они и подобреют.
Пошли, что ли, — Нарышкин побрел в сторону деревни. — Степан, ты оставайся с Катериной на берегу. Постарайтесь не высовываться без нужды и приглядывайте за пожитками.
— Ой мне, пропадем! С ума двинуться от такой жизни, — запричитал Моня, но, тем не менее, побрел за Сергеем.
— Будет лучше, если вы все молчать, а говорить буду я, — посоветовал Заубер.
Компания в живописных лохмотьях, изнывая от жары, снова вошла в турецкое селенье. На узких улочках по-прежнему не было ни души. Пахло дымом, навозом и жареной бараниной. Последний запах сводил Сергея с ума. Ряженые «дервиши» устремились на этот аппетитный дымок. Они остановились у двухэтажного дома с плоской крышей. Из-за высокого забора доносились оживленные голоса. И тут Заубер почему-то хрипло запел по-немецки. Песня была написана еще в золотые студенческие времена, причем слова придумал сам Иоганн Карлович, чем немало гордился. В дословном переводе текст песни выглядел так:
Кнехт Либерехт любил Грету А Грета не отвечала ему на это. Чего только не делал кнехт, Грета не соглашалась на грех. Либерехт подарил ей корсет, Но Грета сказала «нет». Ах, как Грета красива! С горя пил Либерехт пиво. Ах, как Грета нежна, Ах, как Грета нужна. Но настал тот счастливый миг Подарил Либерехт Грете шпик, Подарил колбасу и бекон. И отмечен был ласками он. Подарил марципан и цукат И в объятиях Греты был рад. Наконец-то Грета Разрешила кнехту это. И уехал Либерехт Вместе с Гретою в Утрехт.На улицу высыпали подростки и юноши.
— Надо вертеться как волчок, — посоветовал Иоганн Карлович и, широко улыбаясь, заорал: «Гюнайдын! Мерхаба!»
— Шашлык-башлык! Хурма-шаурма! Вах-Аллах! — вторя ему, выкрикнул Сергей первую пришедшую на ум восточную тарабарщину.
Видя, что юное население деревни находится в некотором замешательстве, Заубер снова запел, но теперь уже по-персидски. Песня была о вине и красавицах, слова принадлежали, кажется, Омару Хайяму, а залихватский мотив Иоганн Карлович подхватил в одной из пивных Кенигсберга.
Допеть ему не дали. Молодые турки залопотали что-то по-своему и потащили «дервишей» под руки в калитку.
Во дворе взору путешественников открылся настоящий достархан.
На низком помосте в блюдах и на подносах грудами высились яства. Восточные сладости, фрукты, рассыпчатый плов и куски жирной баранины. Нарышкин едва не подавился слюной. Его сердце бешено колотилось. Однако компанию изголодавшихся «дервишей» провели мимо помоста с едой и заставили опуститься на корточки в углу двора.
Вдруг где-то в глубине дома громко и отчаянно заверещал ребенок, потом крик перешел в плач, а на улицу из дома повалили радостно возбужденные мужчины.
«Все понятно, — подумал знакомый с некоторыми мусульманскими обычаями Нарышкин. — Обрезание. Чик-чирик мальцу сделали. Вот и радуются, нехристи!»
Сергей брезгливо поморщился.
А из дома на руках уже тащили зареванного мальчишку двух-трех лет. Новообращенного мусульманина поднесли к дервишам. Заубер не растерялся. Подражая муэдзинам, он, воздев руки к небу, пропел стих из Корана. А потом, склонившись над заплаканным личиком мальчика, зашептал по-персидски:
«Кто по этой дороге тревожной пойдет, Может, радость, надежду, любовь обретет. Каждый раз, задавая вопросы о том, Для чего родились мы, живем и умрем.»Дервиш Иоганн Карлович осторожно погладил ребенка по головке. Тот перестал реветь и протянул к нему свои ручонки.
— Майн либен киндер, — шепнул Заубер малышу в самое ухо. Тому стало щекотно, и он заулыбался.
Радостные крики огласили двор. Дервишей потащили к столу, и Нарышкин наконец-то смог запустить руку в горячий плов. Обжигаясь и дуя на пальцы, Сергей быстро принялся уписывать рис и баранину за обе щеки.
На все вопросы по совету умного Заубера он широко улыбался и, давясь пловом, старательно мычал: «Ийим! Тешеккюр едерим!»
Не прошло и нескольких минут, как турки принялись играть на каких-то своих балалайках, забили в барабаны, и мнимым бекташи опять пришлось изображать бурное веселье. Так продолжалось несколько раз. Перерывы между пловом и танцами становились все короче. Наконец «половецкие пляски» с их странноватой хореографией туркам прискучили.
Музыка смолкла. Мокрым от пота «дервишам» дали мешок с провизией и вывели их за ворота.
— Иоганн Карлович, а почему ты, сударь мой, решился по-немецки-то петь? — поинтересовался Нарышкин.
— О, это есть точный расчет на понимание человеческий натура, — улыбнулся немец. — Люди — везде есть люди. Любопытство. Надо было привлечь к себе вниманий. А, кроме того, я не знать длинных песен по-персидски. Пришлось петь на свой родной язык. Он для турок все равно не понятный. Какой разница? Святой человек все можно.
— А, пожалуй, верно! — Гроза морей хлопнул немца по плечу. — Помнишь, как мы нашего Аскольда монахам под таким же соусом сбагрили? Поблажил он немного, монахи и сомлели.
— Вот ты правильно сказал: люди — везде люди, что христиане, что мусульмане, — разглагольствовал Нарышкин. — И те, и другие до всякого такого бреда охочи. Надел рубище, поорал дурным голосом, покрутился волчком — все! Можешь нести любую околесицу — всему поверят, — резюмировал он.
В ответ на это Заубер, шедший впереди, резко повернулся и, нахмурившись, неодобрительно посмотрел на Сергея.
— Послушайте, молодой человек! — сказал он внушительно. — Мой студенческий стих не есть «бред и околесица»! Зарубить это на вашем носу!
— Ишь ты как! Пиит! У них собственная гордость имеется! — хмыкнул про себя Нарышкин, но не стал подначивать надувшегося немца.
Вдруг откуда-то со стороны моря донесся отчаянный женский крик.
Сомнения быть не могло: кричала Катерина.
Группа оборванных «бекташи» во главе с Нарышкиным скатилась с обрыва на прибрежную гальку. У кромки прибоя бился в истерике Степан, размазывая кровавые сопли по бороде и в ярости потрясая кулаками.
— Дочуру мою… ыыыы! Ироды…. Живодеры… ыыы-х!!!
Нос у Степана традиционно был разбит и напоминал мятую сливу. Катерины нигде не было видно, но в море уже довольно далеко от берега качалась на волнах фелука.
— Ше случилось среди здесь? — поинтересовался Моня.
— Уииии! — взвыл пуще прежнего Степан, указуя рукой на небольшое судно. — Украли Катеринушку, нехристи басурманскиииия!
— Как так! — Сергей озадаченно посмотрел на фелуку, которая, наполнив ветром паруса, быстро удалялась.
— А вот так! — крякнул Степан. — Умыкнули джанечку мою, блудодеи окаяннные! А мне всюю душу в пятки вколотили, еле живым оставили!
— Что делать-то станем, зятек дорогой, ась? — с надеждой спросил он, хватая Сергея за рукав.
«Ишь ты, быстро меня в зятья записали!», — подумал, высвобождаясь, Нарышкин, в то же время чувствуя приступ ярости и бессилия перед похитителями.
— А и впрямь, что же делать, Иоганн?!
— Такой цорес, такой цорес, — запричитал Моня. — Шебы вся их турецкая шаланда отправилась бичков покормить!
— Они украсть девушка, чтобы продавать в гарем, — задумчиво глядя на уменьшающуюся в размерах лодку, пробормотал Заубер. — Я думать так, что они плыть в Истанбул. Там есть большой спрос на русский красавица.
Степан, услышав, что дочь хотят продать в гарем, совсем обезумел от горя и, воздев руки к небу, большими скачками понесся прямо в набежавшую волну.
— Стой, дурак! — крикнул ему Нарышкин, но невысокая волна уже сбила разбитого горем отца с ног, и тот, полетев кверху тарашками и поболтавшись некоторое время в полосе прибоя, был выброшен на берег ногами вперед с полным ртом гальки и водорослей.
Мокрый и жалкий, он сел на берегу, стуча зубами и отплевываясь, и тихо заплакал.
— Уломался, дуралей сероухий, — глядя на него с жалостью, вздохнул Терентий.
— Если они поплыли в Стамбул, то это нам на руку, — твердо сказал Гроза морей. — Не хнычь, Степа, разыщем мы Катерину и обязательно вернем!
— Шанец есть — подбодрил Брейман. — Крохотный шанец, ше мы не умрем на етих чертовых камнях, а дотопаем-таки до Константинополя. В какой он, господа, стороне, кто-нибудь может сказать? Чтобы «да», так нет!
— Я думать, что он там. — Заубер махнул рукой в ту сторону, куда ушла фелюга. — Сола сапин, гери денюн, повернуть налево и идти назад… по берег моря! Когда мы лететь, я видеть в той сторона много огней.
— Слышали, господа дервиши? — спросил Нарышкин, оглядев компанию. — Собрали вещички и коммен отсюда нах Истанбул!
Верно, я толкую, Иоганн Карлович?
Глава седьмая СЛАДКИЕ ВОДЫ АЗИИ
«В долине меж камней блистая,
Могильных камней виден ряд,
И кипарисы там шумят,
Не вянет зелень их густая…»
(Джордж Байрон)Впереди, в знойном мареве дня, будто нарочно положенного на раскаленную солнцем сковородку, путешественников ждали обнесенные стеной знаменитые семь холмов великого города. Где-то там, вдали, с востока на запад пересекая Стамбул, ползла извивающейся лентой древняя Меса. На эту центральную улицу, словно ломти мяса на шампур, нанизывались срединные районы. Над каждым из них возвышались тонкие, остро оточенные карандаши минаретов и сверкающие изразцами, перевернутые пиалы мечетей.
К мечетям лепились городские кварталы — махалля, представлявшие собой спутанный клубок улиц и переулков.
Но все это было там, впереди, посреди изнывающего от зноя марева. Пока же вдоль дороги тянулись предместья, какое-то большое, обсаженное исполинскими кипарисами кладбище с серыми, выцветшими от времени могильными камнями, украшенными резными изображениями тюрбана, цветов с листьями или просто набалдашниками. Многие камни повалили ветер и время, гробницы были неухоженными. На их куполах свили гнезда аисты, сквозь многочисленные проломы в стенах полз плющ и дикий виноград.
— Вы знать, что такое Истанбул? — говорил небритый, темный от загара и пыли «дервиш» своим товарищам, поправляя сползшее на нос penz nez. — По-гречески это слово означать «истимполис», то есть «к городу». Когда встречаться двое странник, один спрашивать другого: «Куда ты идешь?» А тот отвечать: «Истимполис, к городу».
— Ну и когда мы до него допехаем? — поинтересовался, вытирая пот, Гроза морей. — Сколько топаем, а это Ваше «истимполе» еще не начиналось.
Шли они, действительно, уже двое суток. Передвижение сильно затрудняла жара, поэтому пытались больше идти ночью. Днем отсыпались на кладбищах, стараясь меньше попадаться на глаза местному населению. В последний раз, правда, в облюбованной Нарышкиным гробнице — то ли воина, павшего за веру, то ли какого-то имама — нашелся обитатель. Это был донельзя оборванный, худой турок — по виду дервиш, — принявшийся громко верещать и потрясать кулаками, требуя освободить помещение.
Уставший от жары Нарышкин языком жестов объяснил нищекормливому «конкуренту», что тот не прав и выставил его вон.
— Сделай вид, шеб мы тебя долго искали, — посоветовал из-за спины Сергея расхрабрившийся Брейман.
С провиантом трудностей не было. Иоганн каждый раз приносил из встреченных на пути селений котомку с провизией. На еду здесь стоило только глаз положить, как весьма расположенные к дервишам турки молили принять ее в дар.
Верблюжатина Нарышкину почему-то не понравилась, и он всякий раз требовал от Заубера, чтобы тот принес молодого барашка.
— И халвы больше не бери, — морщился расханжившийся Гроза морей. — У меня от этой липкой дряни рот склеился еще в Нижнем!
— Эх, расстегайчика бы сейчас, да под рюмочку холодненькой! — мечтал он. — Кажется, все бы сейчас отдал за то, чтобы посидеть в трактире где-нибудь на берегу Оки. И чтоб сиренью пахло, колокола бы к вечерне звонили, а внизу на реке небольшой пароходик колесами шелестел!
— А я мечтать сидеть в Кенигсберг, в маленький подвальный ресторанчик. Кушать свинина на ребрышках и пить светлый, прусский пиво, — вставил Заубер и облизнул сухие потрескавшиеся губы.
Однако вокруг была жара, дорожная пыль да сама дорога, которая по мере приближения к Стамбулу становилась разве что шире.
За оставленным позади поворотом неожиданно возник гул, топот и воинственные крики. Из облака рыжей пыли вынырнули с десяток оборванцев под предводительством давешнего кладбищенского знакомца.
— Ба, да это никак наш приятель из гробницы! — улыбнулся Гроза морей, вглядываясь в клубок пестрых, грязных одежд. — Пришел восстанавливать статус-кво!
— Кого? — не понял Моня, заходя за спину Нарышкину. — Сдается мине, ше нам хотят на полном серьезе набросать лишней красоты на лицо.
Толпа яростно шумела, впереди всех бесновался, потрясая в воздухе клюкой, худой турок.
— Чего они, сударь, хочут? — тревожно поинтересовался Степан.
— Нас они хотят, Степа! — пояснил Нарышкин, оценивающе глядя на конкурентов.
В воздухе просвистел камень и больно стукнул Сергея в плечо.
— Ах вот оно как! — взревел Гроза морей и ринулся в самую гущу турок, награждая ударами всех, кто стоял на его пути.
— Ату их, православные! — подхватил Терентий и, несмотря на то, что рана, полученная в Одессе, еще не зажила, ухватил увесистый сук и, действуя им как палицей, врубился в толпу. Иоганн Карлович последовал за ним и, с неожиданной ловкостью выбив у одного из нищебродов клюку, принялся довольно успешно фехтовать ею, отражая нападения визжащих, словно стая павианов, дервишей. Как всегда хуже всех пришлось Степану. Пока он шарил глазами в поисках орудия защиты, метко пущенный камень угодил ему в лоб. Покружившись для порядку на месте, Степан опустился на четвереньки и с причитаньями отполз к обочине. На лбу его мгновенно поспела огромная шишка, а глаза как-то сами собой скатились к переносице.
Звуковое сопровождение побоища взял на себя Брейман, который, приняв грозный вид и перебегая с место на место, принялся кричать:
— Иоганн, заходи справа! Нацепил на нос цейсы и ничего не видишь! Справа бери его, справа, тебе говорю!
— Что, шмындрики, зубы жмут?! — воинственно вопрошал он турок. — А ну, ты, длинный, иди сюдой! Приведите его скорее до меня, я буду делать с него форшмак! Нет, лучше возьму нож и зарежу его насовсем! Искромсаю насмерть топором! Дайте ж мне топор, щас здесь случится расчленение!
Впрочем, свои угрозы Моня производил с безопасного расстояния и в непосредственных боевых действиях участия не принимал.
— Аллах хай! — вопили турки, наседая.
— А-а-а, шайтан вас побери! — кричал Гроза морей, продолжая даже в драке старательно играть роль приверженца ислама. Скоро в туче пыли, которую подняли сражающиеся, стало совсем не разобрать кто где. Воинственные выкрики слились в один общий гвалт.
Повергая на землю очередного ретивого оборванца, Нарышкин выпрямился и огляделся. Внимание его привлекла богато украшенная карета, видимо, только что остановившаяся неподалеку от «поля брани». Из окна экипажа выглядывало прелестное женское личико…
Из-под тюрбана, очень шедшего к этому личику, выбивались рыжие, как огонь, волосы. Огромные глаза были, как это принято на востоке, подведены сурьмой, что еще больше подчеркивало их выразительность. Тонкие черты лица, угадывавшиеся за усыпанной золотыми блестками кисеей, были восхитительны. Вглядываясь в них, Гроза морей расправил плечи и развернулся во всю свою богатырскую стать. Похудевший за недели скитаний торс его смотрелся великолепно. Выпятившуюся грудь лишь слегка драпировал драный халат, подобно львиной шкуре античного героя, живописно свисающий с мощных плеч.
Женщина, не сводя с Нарышкина крайне заинтересованного взгляда, издала вздох восхищения и произнесла только одно слово: «Gercoules!»
В ответ Гроза морей широко улыбнулся… и получил сильный удар по голове. Горизонт неожиданно поплыл куда-то вбок, а высокие кипарисы завертелись в каком-то неистовом хороводе…
Очнулся Сергей от легкого прикосновения. Первое, что увидел, был потолок, покрытый похожей на пчелиные соты диковинной резьбой…
Он почувствовал, что лежит на спине, на чем-то очень мягком — приятное ощущение, успевшее забыться за время ночевок на лоне природы. Поморщившись от ноющей боли в голове, Нарышкин попытался подняться.
— Dieu, il est immense![10]— произнес по-французски, чистый, мелодичный голосок, принадлежавший, как оказалось, той самой прекрасной незнакомке из кареты. Смуглое личико склонившейся к нему красавицы было встревожено.
Она слегка коснулась Сергея рукой:
— Je vous demande pardon… monsieur.[11]
— Я, сударь, говорил ей, что Вы оклемаетесь, да она все не унималась, — послышался радостный голос дядьки Терентия. — И то сказать, лежали Вы прямо как мертвехонький.
Дядька подошел и, наклонившись над Сергеем, заглянул барину в глаза.
— Членоповреждений особенных нет, значит жить будете, — бодро констатировал он.
— Отойдите правым галсом, сударыня, будьте ласковы, ай не видите: поправляется человек, — ревниво буркнул моряк в сторону прекрасной незнакомки, делая красноречивый жест.
— Diable, c`est Moscovite![12] — рыжеволосая красавица фыркнула, поморщила носик, повернулась и поплыла к двери. Затем оглянулась и, погрозив Терентию пальчиком, пропела:
— Moujzik!
— Хотела она своего фелшера к Вам приставить, да я не дал, — зашептал дядька, глядя на удаляющуюся женщину. — Ну их к лешему, басурман этих. Еще опоят до смерти какой-нибудь дрянью. Я рыженькую просил лучше винца Вам поднести. Оно понадежней будет.
— Где это мы? — спросил Сергей, осовело разглядывая ковры на полу и мягкие диваны, стоящие по периметру комнаты.
— Мы у етой дамочки, навроде, как в гостях. Когда Вас сзади, значит, шибанули, она из кареты вышла и бегом к Вам. И слуги ейные туда ж. Разогнали к лешему всю эту нищую братию, а не то затоптали бы нас юродивые, как пить дать.
Ну, а опосля повезли нас всех к этой мамзели в имению. Вот мы теперь тут и обретаемся.
Вошел слуга с подносом, одетый вполне по-европейски. Восточный колорит выдавали в нем разве что феска да мягкие кожаные тапки с загнутыми носами.
Он молча поставил поднос на низкий резной столик посреди комнаты и, пятясь задом, удалился. На подносе оказалось французское вино, сыр, оливки и какие-то сладости.
— А где остальная команда? — поинтересовался Сергей, делая большой глоток.
— В баньку она их спровадила, — жуя, ответил дядька. — Бойкая такая мамзель, пресвоевольная. Уж не знаю, чем Вы этаким ей, сударь, глянулись…
— Ну, ты, Терентий, не заговаривайся! — перебил его заметно повеселевший барин. — По-твоему, на меня и глаз положить нельзя?
— Положить-то на Вас можно, — задумчиво протянул Терентий.
— Ну так что ж? Я, поди, не шваль подзаборная. Дворянин!
— Это да, — согласился дядька. — Что есть, то есть. Я, вот, кумекаю, как нам с Катериной быть? Жалко девку!
— Будем искать, — подумав, нахмурился Нарышкин. — Все-таки это не иголка в стоге сена.
Слегка перекусив, они с Терентием были препровождены в баню, которая находилась в одном из больших павильонов тенистого, заросшего кипарисами сада. К павильону вела аккуратная, обсаженная кустами роз дорожка.
— Ну прямо «тысяча и одна ночь», — удовлетворенно хмыкнул Гроза морей.
В предбаннике худой, смуглый турок, низко кланяясь и постреливая дробинками чернявых глаз, выдал им простыни и сандалии, представлявшие собой подобие маленьких деревянных скамеечек, которые крепились к ногам кожаными ремнями.
— Благодарю покорно! — брезгливо сказал Нарышкин, жестом показывая, что не нуждается в обуви. — Рахмат, любезный! Отдыхай.
Удивленный турок в замешательстве пожал плечами, а Гроза морей, ступив на мокрый мраморный пол, тут же поскользнулся и, высоко взмахнув грязными пятками, опрокинулся на спину, ударившись при этом едва зажившей головой. Баню огласил поток отборной русской брани, эхом отскочившей от стен и колонн.
— Вставайте сударь! — подоспел на деревянных платформах предусмотрительно одевший их Терентий. — Как же Вас угораздило…
— Эфиоп проклятый! — на чем свет ругал банщика Нарышкин. — Развел тут, понимаешь, сырость, так тебя перетак!
Пол в центральном зале под куполом действительно был очень скользким, посреди зала в круглый бассейн лилась вода из фонтана, и брызги летели во все стороны.
— Ну, купель это хорошо! — Нарышкин потер ушибленные места. — Может, тут и парная есть?
Парная в бане нашлась, худой банщик препроводил Сергея в соседнюю комнату — мраморную темницу, насыщенную жарким паром, — и уложил на возвышение посредине. Он окатил Нарышкина горячей водой, надел жесткую рукавицу и стал натирать Сергея с головы до пят. Затем банщик в тазу взбил гору пены мочалкой, напоминающей конский хвост. Однако Терентий, вошедший вслед за Сергеем, мылить барина турку не позволил, принялся за дело сам и хорошенько, будто корабельную палубу, отдраил Нарышкина мочалой.
— Эх, сейчас бы в иордань с разбегу бултыхнуться, — размечтался Сергей. — Тише ты, старый черт, всю кожу до костей стер!
Красный и упарившийся Нарышкин, фыркая, как тюлень, охладился прямо в фонтане центрального зала, вытеснив собой изрядное количество воды.
На шум из соседнего мыльного помещения выскочили Степан, Брейман и Иоганн Карлович. Все были задрапированы в чистые простыни. Следов дорожной пыли на раскрасневшихся, загорелых лицах как не бывало.
— А вас и не узнать! — вылезая из бассейна, усмехнулся Сергей. — Будто заново родились.
— Только костылев не хватает до полного счастья, — хмуро отозвался Степан, думая, очевидно, о своем. Он осторожно приложил медную монету к огромной шишке на лбу, на которую, верно, ушла добрая половина всей кожи его головы.
— Да, у рыженькой тут отдохновенно, — вздохнул Нарышкин.
— Ну, доложу я вам, и краля! — оглядываясь по сторонам, сообщил как всегда словоохотливый Брейман. — Это тебе не наши мымры с молдаванки. Одалиска, одно слово. Высшая проба, шебы я так жил!
— О да, — согласился Иоганн Карлович, плотски причмокнув губами.
— И ше Вы такой на это дело везучий, — пробормотал Моня, завистливо оценивая раздевающегося Нарышкина. — По всему видать, не далее, как чудным сегодняшним вечером, Вас ожидают райские кущи с раздвиганием ног и всеми вытекающими последствиями. Бахчисарайский фонтан, одно слово, или я плохо знаю за жизнь.
— Да будет вам, — отмахивался польщенный Гроза морей.
— Это какое такое «раздвигание»? — забыв про боль, взметнулся Степан. — Мы, сударь, об таком с Вами не договаривались! Вы как-никак жениться на Катерине обещались! Сам вон что говорил, а чуть что — за первую попавшуюся юбку — цоп!
— Ладно, утихни, старый хрыч! Больно рано ты тестем прикидываться стал, — зло огрызнулся Сергей.
При вспоминании о Катерине фривольное мысли потекли вспять.
— Действительно, нехорошо как-то получается, — подумал он. — Что же это я, любил, любил и на тебе…
Мысли о похищенной девушке не давали ему покоя, однако и от предвкушения прелестей черноглазой незнакомки сладко свербило где-то внутри и, как сказал бы какой-нибудь античный грек местного разлива, «огонь охватывал чресла».
Предложенный банщиком кофе Гроза морей с негодованием отверг.
— Пивка бы, — сказал он, с надеждой глядя на изумленного турка-банщика.
Молчите, Серьожа, — горестно вздохнул Иоганн Карлович. — Тут у них не подают.
Последнюю фразу он выговорил на удивление чисто, почти по-русски.
— Кто она такая, эта наша благодетельница? — вполголоса, стараясь не глядеть в сторону Степана, спросил немца Сергей. — Ты говорил с ней?
— О, это есть замечательный женщина, в свой роде Роксолана, — улыбнулся Заубер. — Она родиться во Франция, много путешествовать по миру, а затем жениться…
— Вышла замуж, — поправил Нарышкин.
— Совершенно верно. Вышла за один отшень богатый туретский вельмож.
— Понятно, — протянул Сергей. — Та еще авантюристка. Я чувствовал, что дело не ладно… Ну и где обретается сей доблестный муж?
— О, вы можете быть спокоен. Он умереть пять лет назад.
— Вдовушка, значит, — удовлетворенно присвистнул Нарышкин, чувствуя на себе косой, неприязненный взгляд Степана.
— Это нам на руку, Иоганн. Она может помочь пообвыкнуться здесь да и поразведать кой-чего по нашему делу. У нас ведь ни одной души знакомой в этом чертовом Истамбуле нет. Ну кроме, пожалуй, мерзавца Левушки.
— Я быть согласный, — кивнул Заубер. — Она может узнавать, где находиться Катерина. И потом, не надо забывать про главный дело, ради который мы здесь!
— Ну, разумеется, разумеется, — согласился Сергей. — А хороша, чертовка! — добавил он, понизив голос. — Верно, Иоганн?
— Верно, — с понимающей улыбкой кивнул немец. — Она будет ждать Вас вечером в свой покой.
До вечера Гроза морей дотянул с трудом, изнывая от желания, и в то же время мучимый уколами совести. Больших трудов стоило отделаться от навязчивого внимания «тестюшки». Степан все время болтался рядом, явно подозревая намерения Нарышкина и служа ему живым укором. Наконец стало смеркаться. После сытного ужина, в котором хозяйка дома не участвовала, усадьба стала погружаться в тишину. Затих звон посуды на кухне и перебранка слуг во дворе.
Наскоро простившись со всей компанией и особенно горячо пожелав Степану хороших сновидений, Нарышкин прокрался на женскую половину дома.
— Ну и где же у нас спальня? — размышлял Сергей, разглядывая полутемную анфиладу комнат. Из одной слышались звуки рояля, но у дверей на карауле стоял и дремал, пришепетывая губами, здоровенный, черный, как головешка, слуга.
— Дьявол, этого только не хватало! Так не пойдет, — замявшись и чувствуя внезапную неловкость, решил Гроза морей. — Да и не романтично как-то. Она ведь, кажется, прогрессивная иностранка. Поди, и романы читывает. Как в таком щекотливом случае у мсье Дюма поступил бы главный герой? Сергей развернулся и, стараясь не привлекать ничье внимание, выскользнул во двор.
Он обошел дом и остановился под нависающим балконом второго этажа, слушая нежные аккорды рояля, которые лились из-за притворенного решеткой окна. Вокруг благоухала ароматами востока южная ночь. Кружилась голова, кружились звезды над ней, и прямо в центр этого звездного хоровода, словно в бесконечность, устремлялись изящные, как одалиски, кроны кипарисов…
Нарышкин постоял, раздувая ноздри, словно молодой рысак, а затем вдруг решительно и неожиданно для себя самого поставил ногу на оконный парапет, подтянулся на руках и полез на второй этаж, цепляясь за многочисленные выступы и лепные элементы. Изрядно вспотев, но внутренне торжествуя, он был почти уже на балконе, когда внезапно со двора донесся крик.
— Заметили, — понял Нарышкин, чувствуя, что краснеет до корней волос.
«Вот ведь дурак! Тоже мне Ромео», — подумал он, пошатнулся и, стремясь сохранить равновесие, ухватился за решетчатую деревянную ставню, прикрывающую окно. Крепкая решетка, которую мусульмане называют мишрабийи, крякнула и с треском отошла от стены. Гроза морей повис на ней, болтая ногами в воздухе, и держался так еще с минуту, раздумывая над своим бедственным положением, чувствуя, что начинает слабеть. Внизу тем временем собралась стайка слуг, принявшись шумно обсуждать поступок Сергея.
— Театр вам тут что ли? — не переставая клясть себя, подумал Нарышкин, но обращаясь к толпе, воскликнул с натянутой теплотой:
— Гюнайдын… чок тешеккюр идерим («доброе утро», «большое спасибо»)!
Это было то немногое, что он от нечего делать почерпнул еще в Одессе из купленной по случаю брошюры некоего господина Стаховича «Познание языка турецкаго для быстраго ознакомления и овладения оным».
Толпа притихла, и в возникшей паузе с пронзительными интонациями муллы, возвещающего вечерний намаз, прозвучал крик повисшего на оконной решетке Нарышкина:
«Лютфен… хезабз… гетирин», — что в самом приблизительном переводе означало: «Принесите, пожалуйста, счет!».
И покуда народ турецкий в оцепенении замер, пораженный глубиной языковых познаний, обнаруженных незнакомцем, ставня с треском отломилась, и Нарышкин вместе с ней рухнул вниз на головы правоверных.
В миг образовалось нечто, именуемое в народе русском не иначе, как «куча-мала». Турецкого аналога этому определению Сергей не знал, но, все еще не расставаясь с решеткой, вскочил кому-то на спину и изготовился к неравному бою.
В это время с балкона послышался властный женский окрик. Куча-мала вмиг рассыпалась по сторонам, оставив в своей середине отставного поручика Нарышкина, представшего перед хозяйкой дома во всей красе: без фески, с разметавшейся копной непослушных волос, оторванным рукавом нового, выданного в бане халата и оконной решеткой в руках.
— J` aime ce tableau[13] — сказала женщина и, прыснув со смеху, жестом пригласила Сергея следовать в ее покои.
Жаркая ночь пролетела как будто в хмельном угаре, и спохватился Сергей только утром, когда муэдзин закозлил дурным голосом с недалекого минарета.
— Все, Фатима… Зарема… Гюли, как там тебя, алесс! Довольно…
Женщина потянулась, как сытая кошка, и, подложив руку под голову, стала откровенно разглядывать своего героя.
Tres bien?[14] — лениво протянула «одалиска».
Oui![15] Еще бы, — произнес Нарышкин с хрипотцой.
Красавица грудью прильнула к Сергею и быстро-быстро залопотала ему на ушко фривольные и жаркие французские комплементы.
— Ну вот, опять! Что у вас тут в туретчине мужики перевелись, что ли, — сонно ухмыльнулся Сергей. — Je ne comprends pas![16] Ну погоди ты, ненасытная… Mademoiselle, faites apporter…[17] А, черт! Как там по-французски? Мясо… еда, кушать… de viande, un fromage, du raisin…[18] Так, что ли?
Нарышкин жестом показал, что голоден.
— Oui! S'il vous plait.[19]
Она вскочила и нимало не стесняясь, накинула на себя сброшенный Нарышкиным халат, распахнула двери и, прокричав распоряжения уже по-турецки, захлопнула их вновь. Спустя всего пару минут в опочивальню тихонько постучали.
Сгибаясь в поклоне и осторожно ступая, в комнату втиснулся амбал с непроницаемым бабьим лицом, он тащил поднос уставленный яствами. Красавица забрала у слуги еду и поспешила к Сергею.
— Бон апетит, ханум! — сладенько пропищал слуга неожиданно тонким, евнухоидным голоском и задом выпятился в двери.
На большом серебряном подносе, испещренном червяками арабской вязи и прихотливыми восточными узорами, оказалось вино, фрукты и сладости, но самое главное — это куски сочной ягнятины, горкой высившиеся на синем керамическом блюде. Гроза морей даже зарычал от удовольствия, отправляя в рот первый кусок жаркого.
— Э… comment vous appellez-vous?[20] — мучительно вспоминая заученные с детства французские фразы, поинтересовался Сергей, едва утолив голод.
— Je m'appelle[21] Mishelle, — «турчанка» подхватила с подноса кусок халвы и, смеясь, залепила Нарышкину рот.
— Тьфу ты… Вот те раз, Мишель! Мишка, то есть, выходит! Ну да, Мишель — то у французов женское имя, — вспомнил Нарышкин и, не зная, что сказать, добавил:
— Так ты француженка, значит? Je viens de Russie, et vous?[22] А ты из Франции, стало быть? Из Парижа?
— Oui! Oui! Bon appetite![23] — Мишель вновь заклеила Нарышкину рот чем-то сладким. На сей раз это был поцелуй.
— Карагез, — добавила она, неохотно отлепляясь и истомно потягиваясь. — Аh, Serjoza… que ce beau![24]
Первую вылазку в город сделали после обеда. В карете поместились сама хозяйка с евнухом, естественно Нарышкин, верный Терентий и Заубер. Слишком расторопного Моню вместе с обиженным, замкнувшимся в себе Степаном оставили от греха подальше в усадьбе под присмотром амбала-слуги. Все переоделись в чистое белье, приготовленное предусмотрительной Мишель: европейские сюртуки и новые красные фески. Сама хозяйка также была в феске, похожей на мужскую, и длинном фиолетовом дивной красоты бархатном платье, отделанном лебяжьим пухом и серебром.
— Ну как? — улучив момент, украдкой поинтересовался Заубер, кося глазами в сторону женщины, увлекшейся чем-то интересным за окном экипажа.
— Недельный пансион, пожалуй, заработал, — устало пробормотал Нарышкин. — Она меня то «Карагезом» величает, то, как бишь его, …«гюрещи».
— «Гюресчи», — поправил Иоганн Карлович, пряча усмешку. — Это значит «борец»!
— М…м… — протянул неопределенно Нарышкин, — а «Карагез»?
Заубер замялся, неловко посмеиваясь, и глядя в пол.
— Как это говорить по-русски… — он долго подбирал определение. — Ну, это есть такой народный Петрушка.
— Как у нас на ярмарках?
— О да! Только вместо большой длинный нос, у него… ну, Вы понимаете, — Иоганн Карлович выразительным, но не совсем приличным жестом показал, что именно у Карагеза является выдающейся частью тела.
— Да уж… — Нарышкин хмыкнул, смутился и слегка запунцовел. — Скажешь тоже…
Через время он, уже с трудом подавляя зевок, бурчал, очевидно, продолжая сумбурный внутренний диалог:
— «Гюрещи», говорит. Какой, к чертям, «борец», когда я все больше со сном борюсь, а она, чертовка, вишь ты — ни в одном глазу. Если так и дальше пойдет… кель гонт… кискесе… — Сергей не договорил и задремал, убаюканный плавным покачиванием кареты.
— Медвьедь, — улыбнулась Мишель.
Часть дороги Нарышкин проспал, похрапывая и сладко причмокивая, сопровождаемый теплым, насмешливым взглядом молодой женщины. Разбудили его, только когда карета подъехала к пристани, где нужно было сесть в лодку, чтобы переправиться через залив. Гроза морей, сонно морщась, вылез из затемненного закрытого экипажа, и на него сразу обрушился водопад солнца, свежего морского ветра и оживленного людского гомона. Впереди был хорошо знакомый по гравюрам в «Ниве» залив Золотой рог — дна из красивейших гаваней в мире, отделяющая Стамбул от его предместий Перы и Галаты.
У причалов пританцовывали на волнах изящные, хрупкие на вид каики, похожие на удлиненные турецкие туфли с высоко загнутыми носами. Здесь же, слепя белизной парусов, столпились сотни судов под флагами, должно быть, всех мировых держав. Между парусниками сновали, попукивая дымком, паровые катера.
К воде спускались мраморные ступени, к ней подступали многочисленные торговые лавки, павильоны и кофейни, из которых доносились ароматы пряностей и крепкого местного кофе. Позади среди роскошных садов, пиний и стройных кипарисов прятались зубчатые крепостные стены, дома, дворцы и купола мечетей. Набережная была запружена народом. Слышалась турецкая, армянская, еврейская и бог знает чья еще речь. Все это перемежалось с выкриками лотошников и гортанными командами лодочников-каикджи. Особенно много в толпе было женщин и детей. Отцы семейств, по-видимому, проводили время за кофеем или молитвой. Целые стаи собак, безмятежно высунув языки, дремали, прячась в тени под деревянным дебаркадером. Рядом разложили свои товары бродячие торговцы кальяном, шербетом, фруктами, вареной кукурузой, мелкими сувенирами — арами азиатских берегов. Здесь же с заплечными бидонами сновали бродячие торговцы различными водами, сладким сиропом и шербетом. Общий колорит разнообразили яркие пестрые одежды, над которыми колыхались белоснежные тюрбаны, разноцветные чалмы, красные фески и расшитые золотом тюбетейки.
Мишель жестом указала на большую белую с зеленым обводом и золотым позументом лодку, скользившую по глади бухты. Ее многочисленные гребцы были одеты в одинаковую бело-голубую форму.
— Это лодка султан, — сказал Иоганн Карлович, пояснив, что владыка империи Османов, по всей вероятности, направляется в одну из мечетей на молитву, а за ним на отдельных судах, держась в кильватере, следует хранитель султанской чалмы и прочая челядь.
Народ на берегу приветствовал небольшой караван поклонами и возгласами восторга: «Падасахим чок яса» — «Да здравствует султан!». Нарышкин, поддавшись общему настроению, хотел было также преломиться в поклоне, но, измерив на глаз расстояние до султанской лодки, передумал.
— Все равно не оценит, — решил он и лишь небрежно кивнул головой угнетателю балканских славян.
Один из слуг Мишель, кучер кареты, нанял шестивесельный каик. Рассевшись на его корме под шелковым балдахином, компания продолжила путешествие.
Гребцы действовали согласованно, и вскоре лодка была уже на середине бухты.
Сергей оглянулся вокруг, и дух его захватило от открывающейся на все четыре стороны красоты. Сонливость бесследно улетучилась, гонимая прочь свежестью моря и теплого ласкового ветерка, который, обнимая лицо и легонько гладя по волосам, бежал себе из Азии, а может даже из Африки, куда-то в сторону Европы и нес с собой неведомые ароматы то ли трав, то ли дерев, то ли невиданных чудесных растений.
Нарышкин с сопением втянул в себя эти ароматы, шумно выдохнул и, растопырив руки — одну в сторону Азии, а другую в сторону европейского берега, — подмигнул Зауберу:
— Ну что, Иоганн Карлович, наконец-то мы с Вами добрались. Вот он, Истанбул!
Глава восьмая ГОРОД КОНТРАСТОВ
«В серале в тишине, на бисером расшитых
Подушках, средь колонн, густым плющом увитых…»
(Екатерина II)Примыкавший к дворцу сад патриарха был поистине прекрасен. Финиковые пальмы, вишни, персики, айва, гранаты и смоковницы создавали пышное природное великолепие, способствовали уединению и покою. Всё пространство между деревьями было занято розами, фиалками и шафраном, что еще более усиливало благоуханье. Тут было тихо. Шум города сюда не доходил и лишь басовое гудение шмелей и более высокие ноты, которые брали пчелы, нарушали тишину. Здесь, на прохладной мраморной скамье, в прозрачной тени миндальных деревьев казалось, что находишься в райских кущах. Казалось что в этом мире, не знавшем грехопадения, нет зла, есть только вечное, неземное блаженство.
— Вам шах, — коротко сообщил верховный понтифик, ухмыляясь в пышную бороду и двигая вперед ферзя.
Прокопий стряхнул с себя дурман, навеянный чудесным садом, и вернулся к игре. Вгляделся в изменившуюся расстановку фигур на доске.
— Ну что же, ферзь, — пробормотал он, заставив себя улыбнуться. — Неплохо… совсем неплохо. Вы ведь знаете эту легенду, Владыко?
— Легенду?
— Да, восточную легенду о том, откуда произошло слово «ферзь». Это очень забавно, я прочел ее в одной рукописи.
— Я всего лишь пастырь, — ухмыльнулся понтифик. — И не могу все знать, это, скорее, в ведении Господнем, а легенды и рукописи — по Вашей части. Ведь не я, а Вы у нас являетесь «великим хартофилаксом», хранителем документов.
Слово «великий» Владыко произнес слегка поморщившись, так, как будто сандалии натерли ему ноги.
— Говоря проще, библиотекарем, — скромно ответил Прокопий. — Я предпочел бы именоваться так.
А легенда такова. У одного заядлого шахматного игрока по имени Диларм была прекрасная жена — Фируза. Вопреки обычаям Востока ее муж играл на деньги и однажды, спустив таким образом все имущество, не придумал ничего лучше, как поставить на кон жену. Играл он плохо и почти проигрался, но умная Фируза шепнула супругу, что он может одержать победу, пожертвовав противнику обе ладьи. Диларм последовал совету и выиграл партию. Раздосадованный, что не он, а жена оказалась умнее, игрок стал осыпать жену упреками. В пылу ссоры он произнес, что если шахматы так дороги жене, пусть превращается в шахматную фигуру.
И тут произошло чудо. Прекрасная Фируза действительно стала фигурой, но не простой, а подлинной императрицей шахматного войска. Фируза, то есть ферзь, улавливаете? Говорят, что до сих пор любимой угрозой арабок против зарвавшихся мужей является фраза: «Уйду от тебя в ферзи!».
— Я, пожалуй, сыграю вот так, — сделав ход, выводивший его из-под удара, удовлетворенно констатировал Прокопий.
— Хм… что же было дальше? — впиваясь взглядом в доску и теребя бороду, хмуро спросил Владыко.
— Не найдя способов вернуть жену и окончательно отчаявшись, Диларм ушел в пустыню и там умер, а из его горьких слез возник источник. Человек, испивший воды из этого источника, до самого захода солнца был обязан решать шахматные головоломки.
— Ах, вот как! — патриарх сухо рассмеялся. — Действительно забавная легенда…
— Ну, а если вернуться к нашему разговору? — добавил он уже серьезно. — Вы действительно считаете, что Их необходимо спрятать?
— Да это необходимо, — жестко отозвался Прокопий. — Святые реликвии не должны попасть в руки этих варваров. В этом я убежден. Но главное, что меня беспокоит…
— Копье? — угадал Владыко, разом помрачнев.
— Да, именно Оно. Вы же знаете, что копье способно наделять того, кто им обладает, возможностями вершить судьбы мира. Оно может творить Великое Добро, но может принести в мир и Огромное Зло. Смотря по тому, в чьих руках Оно окажется…
Патриарх погрузил персты в бороду и, нахмурив чело, глубоко задумался. Доска с фигурами перестала его интересовать.
— Позвольте напомнить Вам, Владыко, — гнул свою линию Прокопий, — Константин Великий, владевший Копьем, провозгласил с Его помощью христианство нашей государственной религией. Император верил в то, что могущество Копья намного больше силы всех языческих богов вместе взятых.
Но вспомните, что случилось, когда варвары во главе с их предводителем Аларихом вошли в Рим? Прокопий Кесарийский в своей «Истории» рисует нам поистине страшную картину.
Библиотекарь закрыл глаза и прочитал по памяти: «В самом центре разрушения и грабежа восседал на императорском троне Аларих, одетый в роскошные одежды, с золотой короной на голове и со священным копьем, когда-то пронзившим тело Христово. И перед ним, сидящем на троне, тысячи римлян вынуждены были склонить колени и воздавать ему почести, именуя его императором и победителем. После шести дней бесчинств и грабежа армия Алариха покинула Рим, унося с собой все его богатства».
На высоком челе Патриарха возникла капелька пота. Стало как-то необычно тихо, даже хлопотливые шмели прервали, казалось, свою работу и теперь прислушивались к разговору.
— Представьте, Владыко, что будет, если Копье достанется грядущим варварам? Не лучше, если Им завладеют и те, кто, хотя носят кресты на одеждах своих, также далеки от истинной веры, как невежественные дикари и закоренелые грешники от Царства небесного.
Прокопий кивнул в сторону залива, где невидимый отсюда, но оттого не менее жуткий в своей реальности расправил крылья парусов флот крестоносцев.
— Вам не страшно, Владыко? — тихо спросил Прокопий.
— Я согласен, — почти сдавленно произнес Патриарх. — Согласен. Вот только…
— Что «только»? — нетерпеливо переспросил Архонт. — Если мы спрячем реликвии, их отсутствие будет замечено. Без сомнения их станут искать… Я обдумал это. На их месте окажутся копии. Очень хорошего качества. Я уже позаботился.
— Но ведь это подлог! — патриарх заерзал, скроив брезгливую физиономию. — А как же тысячи верующих, вы подумали о них?
— К сожалению, другого выхода у нас нет; в противном случае, реликвии попадут к нашим врагам.
— Но… — Владыко замялся. — Вы говорите, что копии уже готовы, а как же быть с теми, кто их изготовил. Ведь слухи об этом могут распространиться очень быстро и тогда нам с Вами, дорогой мой хартофилакс, не сносить головы.
— Копии сделал один надежный человек. Он живет по ту сторону залива и никому ничего не скажет. Я убежден.
— Стало быть, обо всем знаем только мы трое — Вы, я и он…
Патриарх замолчал и, нахмурившись, склонил голову к доске. Он взял в руки ферзя и принялся рассеянно поглаживать фигурку указательным пальцем.
— Где же Вы намерены их спрятать? — спросил священник.
Прокопий, оглянувшись по сторонам, наклонился к его уху и прошептал всего несколько слов.
— Вы уверены, что там реликвии будут в безопасности?
— Уверен, — отрезал Прокопий. — Место уже подготовлено. Я сам положу их в тайник, после чего работники пустят воду.
Владыко поднялся, прошелся по саду, отечески, словно юного отрока, погладил дрожащей ладонью невысокий розовый куст.
— Но что будет, если город действительно падет и, ни Вы, ни я… — Патриарх внимательно посмотрел на вершину устремленного в небо кипариса. — Ведь тогда реликвии так и останутся во мраке…
— Я подумал об этом и оставлю в одной из духовных книг библиотеки путеводную нить тем, кто придет с истинной верой. Если ей суждено погибнуть, это будет означать конец нашего мира, а значит, реликвии уйдут вместе с ним. Но если книгу суждено будет прочесть, то человек, который это сделает, вряд ли окажется невежественным варваром, следовательно, он сможет понять и найти скрытое до времени. Его задача не будет слишком сложной, — взгляд Прокопия упал на шахматную доску.
— Да, Владыко, подсказка будет простой.
В Галате — европейской части Стамбула, города и без того шумного, — царила атмосфера праздника и какого-то нервного возбуждения. Как оказалось, гильдии городских ремесленников проводили в этот день свой ежегодный парад, традиции которого терялись едва ли не во временах Сулеймана Великолепного.
Наши путешественники прибыли как раз в разгар этих весьма своеобразных торжеств, когда содержатели лечебниц для душевнобольных вели по улице живописную толпу из пары сотен пациентов. Последние были закованы в позолоченные цепи, их поочередно весьма убедительно пичкали лекарствами и картинно били. Зеваки ликовали, сотрясая воздух одобрительными выкриками. Затем перед зрителями на повозке, запряженной могучими волами, проехало духовное лицо, весьма истово декламирующее Коран. Мальчики в белоснежных одеждах, окружавшие это лицо, тоже во всю «шевелили строку», на разные лады подвывая детскими голосами и закатывая глаза. Впрочем, вокруг и без того стоял гвалт, а посему насладиться красотой восточных рифм не было никакой возможности. Да и оценить силу стиха изо всей компании мог разве что один Иоганн Карлович.
Гильдия палачей протащила повозки с экспозицией, в которой были заявлены семьдесят семь орудий пыток. При виде этакого изобилия впечатлительному Зауберу сделалось нехорошо, а у Сергея что-то противно зашевелилось и заскребло в животе. Особенно, когда один из участников парада, изображавший сторожа, резко дунул в свой медный свисток.
— Какая прелесть — средневековье! — поморщился Гроза морей. — Надеюсь, четвертовать никого не будут, иначе я зря обедал.
Неприятное впечатление дополнила процессия скорняков с уродливыми чучелами животных, набитыми соломой. От них нехорошо пахло. Но еще большую вонь распространяли рыбачьи повозки, на них были выставлены не только гарпуны, сети и корзины с рыбой, но и подвешенные на пеньковом шнуре дельфины, морские львы и другие диковинные существа, изъятые рыбаками у моря. Нарышкин бросил взгляд на Мишель, но в прошлом рафинированная француженка даже не поморщилась, наблюдая вполне варварское зрелище.
«Привыкла, видать», — подумал Сергей и продолжил вглядываться в толпу. Одно женское лицо на другой стороне улицы показалось ему знакомым, но толком рассмотреть его Нарышкин не успел. Его толкнули, все смешалось, толпа резко отхлынула назад, уступив дорогу очередной процессии. На сей раз это были укротители львов. Они вели хищников на поводках, тыча им под нос, куски оленьего мяса, как потом выяснил Сергей, обильно сдобренного опиумом. От наркотика львы выглядели несколько сонными и одуревшими, но, тем не менее, должное впечатление на собравшихся жителей Стамбула произвели.
А Нарышкина порадовали стамбульские нищие — несколько тысяч попрошаек тоже прошли парадом вслед за львами. Эта группа горожан пахла паче всех вместе взятых. Здесь были слепые и хромые, безрукие и одноногие, босые и даже совсем голые. Были и вовсе редкостные уроды, достойные содержания их в петербургской кунсткамере. Особым искусством блистали перед народом эпилептики. Они тут же на глазах у всех изображали припадки и от души корчились в судорогах, катаясь в дорожной пыли. Изрядно повалявшись, они прекращали показательные корчи, вставали, и, утирая с губ пену, как ни в чем не бывало шествовали дальше вслед за главой гильдии, восседавшем на осле.
Этот человек вызвал живейший интерес Нарышкина.
— Ба, а вот и наш знакомец! — Сергей тронул Заубера за локоть и показал на тощего наездника, украшенного незаурядным синяком в пол-лица. — Не узнаёте этого красавца?
— А Вы хорошо его приложить, Серьожа! — усмехнулся Иоганн Карлович, разглядывая живописного предводителя нищебродов.
Парад завершали школяры в бумажных шапочках, игравшие на тамбурах.
— М-да, познавательно, — неопределенно сказал Гроза морей.
— Это есть восток, Серьожа, — резонно заметил Заубер.
Главной целью визита в Галату был съем жилья для Нарышкина. После ночного переполоха, который он учинил в доме Мишель, оставлять его там было бы неблагоразумно: по махалля могли пойти нежелательные слухи. Впрочем, они сразу же и пошли, поэтому любвеобильная француженка, несмотря на свою видимую независимость и эмансипацию, решила «от греха» переправить Сергея за Босфор. Тем не менее, пословица «С глаз долой — из сердца вон» в этом случае не действовала. Мишель, судя по всему, намеревалась превратить будущее жилье Нарышкина в дом их совместных свиданий. Обо всем этом Сергей догадывался, но виду не подавал. Действия вдовы пока были ему только на руку.
Подходящий дом нашли неподалеку от древней Галатской башни. Всезнающий Заубер пояснил Нарышкину, что здесь издавна селились иноверцы: генуэзские купцы когда-то основали в этом месте колонию и добились у византийского императора почти полной ее независимости. При турках Галата также осталась районом со своим особым устройством. В течение веков заправляли в ней итальянцы, именовавшие колонию не иначе, как «великолепная община Пера». По-гречески это означало «там». Сначала «там» были холмами за крепостными укреплениями Галаты, а потом так стали называть и весь генуэзский район. Здесь всегда жило множество неверных — греков, армян и евреев. В последнее время к ним добавились сыны туманного Альбиона, славяне Адриатики, немцы, французы, испанцы шведы и даже представители американского континента. Коренные жители Востока попросту тонули в этом этническом котле, едва выделяясь из толпы своими одеждами. Пользуясь близостью к Золотому Рогу и Босфору, в этом человеческом муравейнике оседали всевозможные любители легкой наживы — моряки, купцы, авантюристы, готовые по первой необходимости сорваться с мест и отплыть за горизонт на поиски приключений.
Последнее обстоятельство Нарышкину весьма понравилось.
— Стало быть, мы здесь будем как дома, — заявил он, широко улыбаясь вдове.
Галата действительно могла смело претендовать на право считаться самым космополитичным местом на земле. Этот город в городе нельзя было назвать ни Востоком ни Западом. Ее темные, душные, грязные улицы и базары наполняла столь разноязыкая, крикливая и пестрая публика, что казалось, весь этот сброд собрался здесь для того, чтобы строить вавилонскую башню. Однако никто ничего не возводил, и лишь башня Галаты, увенчанная островерхой шляпой черепичной крыши, возвышалась над местностью, напоминая о смутных, библейских временах.
Турки любили попугивать своих детей нечестивой Перой, где, якобы, день и ночь на улице с непокрытой головой валяются пьяницы. Существовала даже поговорка: «Кто говорит Галата, тот говорит таверна». Заведение главного инспектора вина находилось рядом с воротами Перы, однако мало кто в округе мог сказать, чем занимался этот чиновник. Вино рекой текло из знаменитых галатских виноградников прямо в таверны, которые держали греки.
— Это нам подходит, — констатировал Сергей, узнав про виноградники. — А то у правоверных и горло промочить как следует не чем.
Седоусый хозяин одной из таверн с забавной для русского уха фамилией Перекакис согласился сдать внаем жилье и отвел гостям комнаты на втором этаже дома. С Мишель он взял плату за месяц вперед.
«Значит, по меньшей мере, месяц собралась меня пользовать… Ну ничего, сдюжим», — подумал Сергей в тот момент, когда рыжая вдовушка отсчитывала хозяину звонкие монеты.
Жилье у грека оказалось устроено на турецкий манер, с небольшой претензией на роскошь: в комнатах, кроме встроенных шкафов для хранения матрасов, не было никакой мебели. Дорогими, но тронутыми временем коврами были завешаны стены и застелен пол, повсюду в живописном беспорядке располагались горки подушечек, играющие роль кресел.
Сергею была отведена отдельная комната. Когда Терентия и Заубера хозяин повел в другую, более скромную, Мишель прикрыла за ними двери, и бросилась к Нарышкину в объятия, он повалил женщину на ковры, и разноцветные подушки покатились по сторонам…
Вечером этого же дня Мишель с блуждающей улыбкой на лице отбыла восвояси, а в таверну под конвоем ее слуг были переправлены Моня и Степан. В собравшейся компании Сергей наконец-то, как он выразился, «поужинал по-человечески», что по его понятиям означало изрядно выпить. Правда, винцо на греческий манер было разбавлено водой, и Сергею, чтобы дойти до нужной кондиции, пришлось опрокинуть в себя целых три кувшина.
За ужином держали военный совет, который порешил разделить небольшой отряд на части и вести поиски параллельно. На разыскание следов Катерины отправлялся Сергей вместе с Мишель. Правда, Нарышкин, опасаясь ревности вдовушки, еще не знал, как сообщить ей, кого, собственно, надо найти. Иоганн Карлович с Терентием, вооружившись манускриптом, продолжали осуществлять главную линию поисков. Моня, которому истинную цель путешествия так и не открыли, под внезапным приливом чувств вызвался посетить местную еврейскую общину. Степана же, ввиду его никчемности и постоянного плаксивого пессимизма, никто с собой брать не захотел.
— Что ж мне тут, на этом ордынском подворье, цельный день одному обретаться? — заныл убитый горем отец. — Как же мне без Катеньки моей быть? Может, она сейчас под туркой, под нехристем басурманским ходит, а мне тут в безвестии, сложа руки, сидеть! — изводил себя Степан.
— Ну, будет тебе причитать! — отрезал Нарышкин. — Станешь тут, пока нас нет, местоблюстителем, все равно проку от тебя никакого. А с нехристями я как-нибудь сам разберусь!
Все, идите спать, господа дервиши. Завтра с утра на поиски. Стамбул город не маленький, тут как в той сказке: семь пар железной обуви сотрешь. Успеем еще набродиться вдосталь, надо отдыхать!
Сергей выпроводил компаньонов, знаком попросив задержаться Заубера, плотно прикрыл дверь и разлил остатки вина по тюльпановым чашкам.
— Что там у нас с Вами вытанцовывается, Иоганн Карлович?
Немец достал манускрипт и разложил его листки на ковре.
— Мы хотя бы что-нибудь уже знаем? — поинтересовался Нарышкин.
— О да, — улыбнулся Иоганн Карлович. — У меня есть все оснований думайт, что искать надо вниз… под земля.
— То есть как? — удивился Нарышкин.
— Греки спрятать свой сокровище в подземный… как это… катакомба. Заубер отпил вина и принялся за рассказ.
Стамбул был уникальным городом не только по своей красоте, но и по своей древней истории. Он представлял собой своего рода слоеный пирог с многометровыми пластами древних культур, которые накатывались одна на другую словно волны в прибой. Византийские стены, выросшие на античных фундаментах, прирастали османскими минаретами, а под куполами мечетей сияли знаменитые греческие смальты. В пластах столетий под землей таились большие искусственные полости, предназначенные для хранения питьевой воды. Дело в том, что своих источников в старом Константинополе не было, и воду приходилось доставлять сюда из родников, находившихся более чем в двадцати верстах от города, в Белградском лесу. Через систему акведуков в свинцовых трубах или по каналам вода доставлялась самотеком в нужное место. Правда, во время войны неприятелю ничего не стоило перерезать водопровод, а посему городские власти решили в свое время сооружать большие подземные водохранилища. Их называли «цистернами» и от прежних византийских времен таких громадных водных резервуаров под Стамбулом осталось около сотни. Самыми крупными из них были две цистерны Акрополя, Большая дворцовая цистерна, водохранилища Аспара, Аэция, Еребатан, Золотого рога, Перы, Святой Ирины, Филоксена, Байазид и некоторые другие.
— Судя по манускрипту, — пояснил Иоганн Карлович, понизив голос, — греки спрятали реликвии в одном из подземных хранилищ воды.
Это он знал наверняка, правда, не знал — в каком именно. Из множества подземелий Заубер выделил относительно небольшой «список подозреваемых».
Некоторые подземелья из этого списка использовались по своему прямому назначению, а в некоторые турки просто сваливали мусор. Трудность состояла в том, что «карта» представляла собой набор подсказок — головоломок, которые были доверены манускрипту теми, кто жил в городе шестьсот с лишним лет тому назад.
— И какого лешего им понадобилось сочинять все эти ребусы? Почему нельзя было просто написать: вот мол, господа потомки, все положено там-то и там-то. Придите, забирайте и владейте, — раздраженно воскликнул Гроза морей, осмысливая услышанное и растворяя окно. Черное небо было усеяно мерцающими звездами, восточная ночь веяла прохладой, морем и покоем.
— Это быть бы слишком просто, — Заубер улыбнулся, но глаза его из-под поблескивавшего penz-nez глядели серьезно. — Это есть слишком важный артефакт, чтобы доверить его поиск первый встречный.
— Ох-хо, — Сергей поперхнулся вином, закашлявшись, зашелся в смехе.
— Ой, уморил ты меня, Карлыч! Да ведь мы-то с тобой кто, по-твоему, такие? Мы и есть «первые встречные»!
Заубер вскочил, опрокинув опустевшую чашку, и в негодовании стиснул кулаки:
— Это есть отшень большой ошибка! Как Вы не понимайт! Весь этот наш перипетий — это, по-Вашему, просто так?
— Да ты, Иогаша, не кипятись, — миролюбиво протянул Нарышкин. — Не гони волну, как говорят в славном городе Одессе.
— О-о, если Вам угодно думайт, что Вы не есть избранник, тогда Вы есть действительный болван и олух небесный царь! — Иоганн Карлович с трудом сдерживался. — И не сметь называйт меня «Игогаша»!
— Ишь ты, какой гусь-институтка выискался! — Гроза морей, расплескав свое вино, вскочил на ноги. — Кто кто тут олух царя небесного?!
То, что произошло далее, оба потом старались не вспоминать. Перевозбужденный немец отвесил Нарышкину звонкую пощечину. Нарышкин рыком схватил Заубера за грудь. Тот повис, как колбаса на крюке у прусского мясника, и только с хрипом пытался дотянуться пальцами до горла Нарышкина. Неожиданно Сергей пошатнулся, потерял равновесие, какая-то сила потащила его к раскрытому окну… Так и не успев полюбоваться бархатной чудной стамбульской ночью и видом на башню Галаты, компаньоны ухнули вниз, с шумом и треском обрушив полосатый тент таверны грека Перекакиса и похоронив под собой, оказавшиеся на удивление хрупкими столики…
Рассвет застал их здесь же, в таверне. Они сидели в обнимку за одним из уцелевших столов и, стукаясь лбами, пытались в очередной раз выпить на брудершафт, в то время как хмурый, сосредоточенный грек выметал с пыльной мостовой обломки.
— Я не х-хочу искать релик-ик-вии, — утверждал Нарышкин, мутными глазами, с приязнью глядя на собеседника. — Не обиж-жайся, Карлыч.
— Warum, Серьожжа, — с улыбкой натужно жужжал немец.
— Я недостоин. Я пьяница и развратник-ик, — выдавливая слезу, икал Гроза морей. — Вот женюсь на Катерине… нет, пардон, на обоих, уедем в имение и будем там жить… в смысле поживать.
Он поник головой и, слегка раскачиваясь, запел с чувством: «Уж ты ми-илая моя, сама виноватая… Титьки выросли большие, голов-ва лохматая!»
— Найн, — пытаясь нацепить на расквашенный нос разбитое penz-nez, ухмылялся Заубер. — Мы не должжен отступайт!
Последовавшие за этим несколько дней каждый занимался своим делом, но по отношению друг к другу партнеры старались выказывать редкую вежливость и предупредительность, однако, встречаясь нос к носу, что, впрочем, бывало нечасто, они смущенно улыбались и отводили глаза. Сергей, не имея четкого плана, начал поиски Катерины, и они вместе с Мишель окунулись в солнце и воздух Истанбула, ветер в каменных иглах минаретов и море, в котором отражалось высокое небо.
Сергею нравился этот город, все эти яркие ткани, мечети, запахи специй и подведенные сурьмой глаза встречных незнакомок. Плохо было только то, что среди этих глаз не встречалось васильковых очей Катерины. Совесть, и без того донимавшая его, материализовалась в виде злобных взглядов, которыми бомбардировал его мрачный, ушедший в себя Степан. Муки совести привели к тому, что Нарышкин попытался было манкировать своими обязанностями в отношении Мишель, на что та ответила Сергею ночным скандалом с классической истерикой, заламыванием рук и битьем посуды. Под утро она долго рыдала у него на плече, после чего собралась, привела себя в порядок и, оставив возлюбленному некую сумму «на проживание», велела ждать несколько дней, ничего не предпринимая. Нарышкин последовал совету и ничего не предпринимал, за исключением того, что слонялся по душным, крикливым улочкам и переулкам Галаты, временами пускаясь в исследование содержимого заведений, в коих подавали горячительные напитки. Терентий и Заубер, усталые и перепачканные грязью, возвращались в свою комнату поздно ночью, когда Гроза морей уже во всю храпел, разметавшись среди подушек. Но сны его были беспокойны…
Катерина, наклонившись над ним, смотрела с укоризной. Лицо её выглядело печальным. Нарышкин хотел было объяснить: то, что произошло, было необходимо для дела; соврать, что между ним и француженкой ничего такого особенного не произошло, но слова застревали в горле, и наружу вырывалось какое-то нелепое бормотание.
Сергей попытался ее обнять, но Катерина выскользнула и погрозила Сергею пальчиком. Нарышкин двинулся к девушке, но та стала отступать, а потом вовсе бросилась прочь. Гроза морей поспешил за ней, еле шевеля чужими, ватными ногами. Катерина уходила от преследования бесконечными анфиладами незнакомых комнат, открытыми террасами, лестницами с деревянными перилами, гулкими залами и темными коридорами. Нарышкину казалось — вот-вот он схватит ее за руку, но в самый последний момент Катя увертывалась, и Сергей ловил пустоту.
Наконец они оказались в комнате с одним только выходом, Нарышкин растопырил руки и попытался загнать девушку в угол, тогда Катерина сорвала со стены икону и выставила перед собой.
— Что, поцеловать хочешь? — зло усмехаясь, спросила его Катя, — Не меня, Её целуй! — закричала она, вздымая икону над головой.
— Иверская, — успел подумать Сергей, но вместо светлого лика Богородицы с иконы елейно и томно улыбалась Мишель…
— Я недостоин, недостоин! — крикнул Нарышкин…
…и проснулся. Из высоко расположенного окна бил луч света, где-то совсем рядом на улице противно завывал муэдзин, от дешевого вина подташнивало, и на душе у Сергея было гадко. Поднявшись и кое-как приведя себя в порядок, он отправился в общий зал таверны, где занялся самолечением. То есть принялся поглощать порцию популярного в Пере лекарства для тех, кто перебрал накануне. Называлось это снадобье «ишкембе чорбасы» и представляло из себя суп из бараньей требухи с лимоном и уксусом. За этим занятием его и нашли компаньоны.
— Ну, будет Вам, сударь мой, прохлаждаться, — без укора сказал Терентий, заглядывая в тарелку к барину. — Что Вы тут как сыч в дупле сидите?
— Друг сердечный, таракан запечный, пора дело делать, Серьожа, — бодро посверкивая новыми стеклами, почти чисто выговорил Заубер и осторожно хлопнул Нарышкина по плечу. Сергей оторвался от тарелки и прищурился, глядя на компанейцев.
— А вы неплохо снюхались, как я погляжу!
— Хватит телепкаться, — улыбнулся Иоганн Карлович. — Надо немного мыслить.
Как говорят в Россия: одна голова хорошо, а два лучше.
— Ну, моя-то сейчас вряд ли что сообразит, — Нарышкин отхлебнул «ишкембе чорбасы». — Извольте видеть: поправляюсь… после вчерашнего… и вообще, мне кажется, я не достоин искать реликвии. Что я вам Перцифаль какой-нибудь? Обычный отставной поручик, плевка жалко… В бабах, вот, запутался… К тому же, соблаговолите заметить, — пьющий человек…
— Через фюнф минут — на улица, — безапелляционно объявил Заубер.
Когда попали в старый город, солнце уже выкатывалось из-за крыш. Стамбул наполнялся разноголосьем, шумом и суетой, чтобы потом, после знойного дня, усталым и довольным отвалиться на мягкие подушки диванов и вновь предаться сладкой лени вечернего спокойствия. Открывались всевозможные мелкие лавчонки, кондитерские подслащивали утренний воздух медом и корицей. Груженые товаром ослики покорно семенили на рынок, а разносчики уже во всю галдели, предлагая всем желающим жареные каштаны, напитки и лакомства. Кричали чайки, стайки турчанок в разноцветных чадрах, словно бабочки в коконах, неторопливо вились по мощеной дороге по направлению к базару, скользя мимо высоких резных городских оград, мимо домов, увитых плющом и виноградом, мимо особняков, прячущихся среди деревьев, чьи раскидистые кроны бросали густую тень на пыльные каменные мостовые. Слышно было, как загорелый усатый точильщик с тележкой, переходя от улицы к улице, громким голосом оповещал горожан о своих услугах.
Чумазые чистильщики обуви уже расположились на своих скамеечках, ожидая прохожих. Жители города наполняли кофейни, в которых дымились и позвякивали на серебряных подносах миниатюрные тюльпановые чашечки, а гостей угощали анисовой ракы, долмой, халвой и лукумом. Мужчины в фесках, развалясь на плетеных стульях, чинно потягивали свои напитки или склонялись над нардами…
— И все же надо попробывайт, я уже переводить манускрипт, — втягивая ароматы свежесваренного кофе, говорил Заубер. — Это есть византийский стих. В нем находиться отгадка! Я запомнить его наизусть!
Иоганн Карлович приостановился и, щурясь на солнце, принялся нараспев читать древние вирши. Если отбросить произношение, с которым Заубер с помощью Терентия пытался бороться, то стихи звучали так:
Они в стальных доспехах, в чешуе кольчужной, Пропахшие вином и луком, конским потом. С крестами на груди, но не с крестами в сердце, И угрожают нам своим оружьем. Они как варвары Дары Святые не приемлют, Для них они — добыча в жаркой битве, да и только, Которую, схватив нечистыми руками, Кладут в мешок и зарывают в землю. И это лучшее, быть может, что осталось Сокровищам Святых Реликвий Византии. Они возьмут и станут пить из кубка, В котором кровь Его по капле собиралась, Хмельную брагу, и своим блудницам Прикроют наготу покровами Пречистой. Погрязших в ереси и блуде иерархов Венчать венцом терновым дерзко станут, Но под шипы подкладывая войлок, Чтоб боль им враз не исказила лица И обнажила сущность их стремлений Все изничтожить и креста частицы Пустить в своем безумстве на лучины, Склоняя перед дьяволом колени. А если копие им достается в руки, То реки крови христиан прольются, И тьма египетская сменит свет небесный, Жизнь человека обрекая мукам. Так скрой же Истину Живую от позора, От разграбленья спрячь, укрой надежно. Пусть варвары потешатся обманом — Не будет в этом верному укора. Когда ж минуют времена лихие И в алтарях опять зажгутся свечи, И светлые затеплятся молитвы, Верни на место все Дары Святые. Для этого спустись во мрак на западе от скачек, Там тысяча и дерево одно стоят на кронах друг у друга; В срединной роще, как войдешь, сочти деревья От крайнего по восемь влево, вправо, На этом поле, сам с собой играя, На третий ряд бойцов своих сдвигая. И если конница противника к царю поскачет дважды, Ее слоном ты грозно должен встретить. Свети свечой: в том месте будет рыба, Под ней сокровища ты обретешь однажды.— Ну и где находятся эти тысяча и одно дерево, да еще и на кронах друг у друга? Околесица какая-то. И что значит «конница к царю поскачет дважды»? Белиберда! Чистая надуванция. Может быть, ты неверно перевел? — возмутился Гроза морей.
— О-о найн! — с оттенком трагизма воскликнул Заубер, будто обманутый муж в немецкой опере. — Мне казаться, я все правильно понимайт, я тут весь день ломаль над этим свой голова… и сломаль!
Иоганн Карлович патетически ткнул перстом в гущу пыльных черепичных крыш. — Там, на западе от скакачка, вы понимать?
Он не очень убедительно изобразил жокея, причмокнув губами и ударив себя по ляжке воображаемым хлыстом.
— Биржа извозчиков? Контора дилижансов? Ипподром! — догадался, наконец, Нарышкин.
— О да, это место называться «гипподром». На западе от него находится цистерна Филоксена! — немец радостно, как младенец, заулыбался.
— Я понял, — сообщил Гроза морей, — но… как всегда ничего не понял.
— О, это есть проще парной репа, — поспешил объяснить Заубер.
— Всецело доверяю твоему чутью, герр Мюллер, — отреагировал на его радость Нарышкин, поспешно давая понять, что никакие объяснения не принимаются.
— Не хватало еще, чтобы я целый день «голова ломаль», — буркнул он в сторону.
Нужное место действительно находилось неподалеку от ипподрома. Нарышкин запрокинул голову, оглядывая грандиозное сооружение, печально известное трагическими события восстания «Ника», когда по приказу Юстиниана здесь было перебито тридцать тысяч недовольных правлением императора жителей Константинополя. Однако факт сей был скрыт для отставного поручика под спудом времени и библиотечной пыли, а посему Сергей сказал просто: «Эх, ма!». А потом добавил веское «да-а!». Этими возгласами его комплименты архитекторам, равно как и скорбь по поводу Юстиниановых бесчинств, ограничились.
У входа в катакомбы, очевидно, велись какие-то строительные работы — тут и там были навалены груды пиленого мрамора, плинфы и жженого кирпича, однако ни каменотесов, ни работников с тачками нигде не было видно. Из какой-то норы вылез толстый полусонный сторож, похожий на хомяка-переростка. Заубер сказал ему несколько слов и предъявил некую бумагу, от которой страж подземелья отшатнулся, как черт от ладана. Он согнулся в поклоне, бормоча приветствия и извинения.
— Отарафа гидин, — сторож указал на ведущие вниз ступени.
— Что это Вы ему показали? — поинтересовался Нарышкин, когда, вооружившись припасенными масляными фонарями, все трое стали спускаться вниз. Заубер молча сунул Сергею небольшой лист плотного сложенного вдвое картона, оказавшийся ничем иным, как приглашением на ужин в ресторане «Волжский откос». Украшенное имперскими двуглавыми орлами и вензелями, оно произвело на сторожа неизгладимое впечатление.
— Случайно в карман положить и забывать, — оправдывался Заубер.
— Ну-уж, Иоганн, это как-то даже… а если откроется, что все это фикция?
— Я уже быть здесь вчера, — ответил Заубер, старательно наблюдая за пятном света, скользившим по стенам. — И представляться как инженер-консультант, представитель фирмы «Мюллер и Мюллер». Турки отшень уважать все немецкие инженеры…
— И этот человек называл меня авантюристом, — усмехнулся Гроза морей. — А почему никого не видно?
— Сегодня здесь нет работа, — сказал Иоганн Карлович, поднимая фонарь повыше. — Нет работа, значит нет хороший освещений. Ничего. Все что нам надо, мы увидеть и так.
Тусклый свет, отразившись от пола подземелья, на сажень покрытого водой, вырвал из мрака уходящий вдаль и тающий в темноте лабиринт колонн, подпирающих кирпичный свод. Впечатление было завораживающее.
— Мать честная! — только и смог вымолвить Терентий.
— Вот это и есть деревья, — сказал Иоганн Карлович. — Только их сделать люди.
И вправду, рукотворная роща простиралась вдаль, насколько хватало света. Наверху был шумный, пронизанный солнцем город с домами, мечетями, площадями, базарами и садами, а здесь, словно в волшебной пещере Аладдина, оказался совсем другой мир — мир вечного мрака и тишины. Здесь даже голоса звучали совсем по-другому.
— Тысяча и одно дерево, в трех ярусах. Стоят на кронах друг у друга, — сообщил Заубер.
— Когда вы успели их сосчитать? — спросил Сергей, поразившись искаженному звуку собственного голоса.
— Я видеть план цистерна, там, наверху. Не забывать, что я есть инженер Мюллер, — усмехнулся немец, осторожно двинувшись вперед. — Надо смотреть под ноги, — предупредил он.
Осторожно ступая по скрипучим деревянным переходам, компания двинулась сквозь каменный лабиринт.
— Иоганн Карлович, как там в стихах сказано? — спросил Нарышкин, вглядываясь во мрак впереди.
Там тысяча и дерево одно стоят на кронах друг у друга; В срединной роще, как войдешь, сочти деревья От крайнего по восемь влево, вправо, На этом поле, сам с собой играя, На третий ряд бойцов своих сдвигая. И если конница противника к царю поскачет дважды, Ее слоном ты грозно должен встретить. Свети свечой: в том месте будет рыба, Под ней сокровища ты обретешь однажды.— Нужно спуститься на второй ярус, — Заубер показал рукой в дальний угол. — Там лестница, коммен зи битте!
— Слон меня смущает, — тревожно огляделся Нарышкин. — Были в Византии слоны? Думаю, пожалуй, только в виде слоновой кости.
— Скажи-ка, Терентий, в Греции есть слоны? — спросил он.
— В Греции все есть… — глубокомысленно отозвался дядька, трубно высморкавшись в воду. — Тут, какую штуку не загни, непременно сыщется.
— Нет, ты постой… Геракл со львом бился или Самсон? — поинтересовался у Заубера Сергей, пытаясь вспомнить уроки древней истории.
И не дав немцу ответить, Нарышкин продолжил рассуждения:
— Самсон не подходит. Он боролся с этой, как бишь ее? Далилой!
Геракл меня тоже смущает, потому, что он воевал с Гидрой!
Гидра, Сцилла и… Харбида, этих я помню, а вот слонов что-то не припоминаю. И еще как это: «Своих бойцов на третий ряд сдвигать и самому с собой играть»? Как играть, во что? Во что можно самому с собой играть, а, Терентий? — спросил Нарышкин, пытаясь размышлять вслух.
— Сказал бы, сударь, да срамно, ей богу.
— Я серьезно, старый ты охальник!
— Ну, так это… ежели в карты лупиться, то, пожалуй, даже в «дурня» сам-друг не сыграть. Вот, разве что, в «пьяницу», — подумав, выдал дядька.
— Иоганн Карлыч, ты, часом, в «пьяницу» не умеешь играть? — подначил Гроза морей.
— Найн, — серьезно ответил Заубер. — Я играть в шахматы. Это есть очень хороший тренировка для мозга…
— Ну, так… это же и есть…
— Думкопф! Старая дурная голова! Ну конечно! — немец в сердцах хлопнул себя ладонью по лбу. — Конечно же, шахматы! Конь ходить два раза по направление к королю, пешки есть бойцы, слон грозно встречает…
Это есть так просто! Теперь во втором ярусе нужно отсчитать от крайней колоны по восемь колонн влево и вправо, и разыграть на этом поле шахматный партия, нужная колонна будет отмечена рыбой! — воодушевился немец.
— Рыбой? А что, есть такое шахматное понятие? — Гроза морей скептически ухмыльнулся.
Они спустились на нижний ярус, значительно продвинувшись вперед по закоулкам и надводным переходам подземного лабиринта, но было совершенно непонятно, какую колонну, исходя из показаний манускрипта, следовало считать крайней. Отыскать знак рыбы тоже оказалось невозможно — базы скрывались под мутной водой, которой было почти по пояс.
Сергей разочарованно вздохнул, к тому же у него возникло странное ощущение постороннего присутствия. Нарышкин будто спиной ощутил чей-то недобрый взгляд из темноты и поежился. Надо было ворочаться ни с чем.
Глава девятая ПЕРЕПОЛОХ В ГАРЕМЕ
«Ужель в его гарем измена
Стезей преступною вошла,
И дочь неволи, нег и плена
Гяуру сердце отдала?».
(А. С. Пушкин, «Бахчисарайский фонтан»)Прощаясь, Прокопий склонился к руке священника. Главный клирик Византии теперь всецело был на его стороне. Оставалось еще убедить Никифора — распорядителя строительных работ в столице. С помощью его людей можно будет устроить надежный тайник в подземельях великого города. Никто не должен знать, для чего он предназначен. Ну да это не составит труда. Главный константинопольский строитель религиозен и во всем доверится патриарху. Однако надо спешить. После неудачного штурма, когда греки сбрасывали огромные каменные глыбы на осадные орудия крестоносцев, разнося их в куски и превращая в щепы, нападавшие разозлены сверх меры. Более того, отбившие приступ византийцы принялись во всю орать и вопить, стали снимать с себя одежду и со стен показывать воинам креста свои голые ягодицы. Понятно, что оскорбленные варвары этого не простят и снова пойдут на штурм совсем скоро.
Ослепленный небольшой победой Базилевс, сказал придворным: «Ну вот, поглядите, разве я не достойный император? Никогда у вас не было такого достойного императора! Разве я не хорошо это содеял? Отныне нам нечего опасаться; я всех их повешу и предам позору!». Глупец… глупец!
Прокопий ясно понимал, что для осуществления Замысла у него в запасе не более пяти дней.
Когда Катерину волокли на борт рыбацкой фелуки, она отчаянно сопротивлялась, визжала, царапалась и кусалась, а потому людям, решившим подзаработать на живом товаре, пришлось ой как не сладко. Одному из них, долговязому Жилдириму, девушка, брыкаясь, засветила босой ногой прямехонько в глаз, толстому Огузу прокусила руку, плюгавому Карадуману расцарапала нос, а предводителю нападавших, грозному на вид Бурхану, достался меткий плевок в лицо. Тем не менее, общими усилиями злоумышленники затащили девушку на судно, связали ей руки и привязали к мачте. В это же время двое туповатых крепышей — младшие братья предводителя, близнецы Атмаджа и Айчобан — отдубасили Степана, прыгнули в лодку, и фелука отчалила.
Катерина видела как с обрыва скатились к морю Нарышкин, Заубер и Моня, однако лодка отошла от берега уже довольно далеко, и спасти похищенную у них уже не было никакой возможности. Связанная Катерина рванулась от мачты к борту, веревка больно впилась в тело, и девушка бессильно опустилась на палубу.
Плавание продолжалось до самого вечера, и все это время Катерина просидела под навесом, привязанная к мачте. Она победила голод и отказывалась есть, но жажда оказалась сильнее, и воду из рук похитителей она все же приняла. Её слегка укачивало, но гнев не позволил проявиться слабости, и все путешествие «дочь снегов» испепеляющим взглядом прожигала матросов небольшого судна, вполне годившихся в команду к какому-нибудь Синдбаду-мореходу. Фелука выглядела так, будто была ровесницей легендарного персонажа «Тысячи и одной ночи». Впрочем, кто такой «Синдбад» Катерина не знала, сказок не читала за неграмотностью, а те из них, что слышала в детстве — про глупого помещика, про Горе-злощастье да про Липунюшку, мало походили на пряные истории Востока. За относительно продолжительное плавание девушка, хотя и не знала ни бельмеса по-турецки, успела понять и разобраться, как кого зовут.
Пока команда дремала, разморенная солнцем, а фелука проворно летела к своей цели, к Катерине, щеря редкие зубы, попытался подкатиться слюнявый и вертлявый Карадуман. Катя изловчилась и пнула похотливого турка в причинное место. От боли тот завопил на все Черное море, проснулся Бурхан и добавил Карадуману «на орехи». Предводитель отвесил сластолюбцу хорошую затрещину и разразился бранью. Катерина была удивлена, когда в потоке ругательств смогла различить знакомые выражения. Несколько раз она услышала слово «СЕРАЛЬ».
«Точно, он самый и есть, — с ненавистью подумала она, глядя на съёжившегося Карадумана. — Ох, горюшко горькое, вот ведь — занесла судьбинушка….», — Катя потихоньку заплакала.
Слегка отвлекшись, стоит сказать, что во времена, о которых идет речь в нашем повествовании, поставка девушек в гарем как промысел переживала период окончательного упадка. Повернувшаяся лицом к Западу и смотревшая ему «в рот» Порта, старалась перенимать у европейцев так называемые «прогрессивные обычаи». Рынка рабов в Стамбуле давно уже не существовало. Небольшие вливания живого товара в гаремы проходили как коммерческие сделки, причем с добровольного согласия обеих сторон, а потому такой поступок, как умыкание свободной девушки и превращение её в наложницу, мог быть строго наказан.
Однако из любого правила есть свои исключения. Команда, руководил которой Бурхан, занималась небольшими частными заказами стамбульских сластолюбцев. За такие дела, узнай об этом власти, по бритой голове не погладили бы, но занятие, несмотря на то, что постепенно хирело, продолжало худо-бедно кормить пёстрый сброд на борту фелуки.
Всё бы ничего, но в данном случае Бурхан понял, что просчитался, захватив эту светловолосую тигрицу. Невольница вела себя не по правилам. Ни малейших признаков покорности не подавала, и подступиться к ней было попросту опасно. Выглядела она по меркам рынка неважно. Под глазами у девушки появились темные круги, растрепанные и спутанные волосы красы, казалось, тоже не прибавили. Не могло быть и речи о том, чтобы при таком положении дел получить выгодный барыш. Так и случилось. Уже под покровом темноты судно пришвартовалось в одной из многочисленных гаваней Стамбула, затем все ещё связанную Катерину с опаской погрузили в крытую повозку и повезли в условленное место. По дороге девушка, которой неосмотрительно позволили размять конечности, изловчившись, едва не откусила нос Атмадже и до крови расцарапала лицо Айчобану. Когда прибыли на место, окончательно расстроенный Бурхан был вынужден сбыть вновь связанную Катерину по дешевке. Хитрый купец-перекупщик обвел-таки наивного пирата вокруг пальца, заплатив едва ли четверть обычной цены за белую рабыню. Пряча тощий кисет с монетами, Бурхан был мрачен, как туча. Садясь в повозку, в которой подвывал Айчобан и хлюпал носом Атмаджа, он подумал, что, пожалуй, стоит оставить опасное ремесло более удачливым людям и заняться чем-то менее хлопотным. Например, охотой на акул в Средиземном море. Суп из их плавников, что умеют готовить повара в ресторанах Перы, говорят, просто обожают эти чудаковатые иностранцы-гяуры.
Бедолага Бурхан был не ахти каким докой в женской психологии. Да и есть ли знатоки её? Очень хотелось бы взглянуть на человека, объявившего себя таковым. Как бы то ни было, но в доме у купца Катерину, которая непостижимым образом стала вдруг «шелковой», отмыли, нарумянили, на столик перед ней поставили таких яств, что оголодавшая Катя не смогла устоять. Подумала и стала кушать.
Служанки переодели девушку в восточный наряд, и зашедший на женскую половину хозяин дома зацокал языком, смекнув, что не прогадал.
— Гёркем, ихтизам… гёркем — великолепно, — сладко причмокивая, лопотал удовлетворенный работорговец, удаляясь.
Уже через два дня он удачно продал Катерину члену султанского дивана кадиаскеру Кылыч-эфенди, который покупал забаву для своего избалованного сынка Таркана.
Катерину поселили в харемлике вместе с женами и наложницами Кылыч-эфенди, но все знали, что новая рабыня предназначается старшему сыну и наследнику бея.
Вечером в комнату к девушке проникла кухонная служанка — пожилая турчанка, на деле оказавшаяся уроженкой Малороссии. Гюзель, которую прежде звали Галиной, рассказала, что её еще в детстве украли цыгане, вывезли в Бессарабию, оттуда переправили за Дунай, а там уже и в саму Турцию.
— Ты ж моя детонька, — сокрушалась Галина, слушая рассказ Катерины.
— О, це ж дьяволы! У тоби чоловик був? Ни? Жоних? Шукае тоби? Це добре, тильки зря… Зараз отдадуть тоби Туркану. Он парубок швыдкий, тильки заполошный трохи… Ой, доля, доля…
Слушая рассказ Гюзель-Галины о житье-бытье в гареме и приглядываясь к местным порядкам, Катя сделала для себя неожиданный вывод, что на самом деле в доме, казалось бы, патриархальных турок всем заправляли бабы. Вернее, самые проворные из них. Так, например, у Кылыч-эфенди верховодила молодая ещё черкешенка Мадина. Дочь Кавказа два года назад попала к кадиаскеру, сумела стать любимой женой и теперь вила из старика веревки. Единственно, кому еще потакал бей, так это сыну от старшей жены, но это пока Мадина не произведет на свет мальчишку. В прошлом году у нее родилась дочка, однако поговаривали, что Мадина своего добьется. Недаром любимая жена хозяина каждый месяц совершала паломничества к святым мавзолеям, а в дороге всякое может случиться… И всякий тоже…
Быстро усвоив обычаи, Катерина смиренно, на первый взгляд, принялась ждать, чувствуя на себе неприязненные взгляды всей женской половины гарема.
Исключение составляла только Галина, с которой удавалось иногда размолвить словечко. Мадина, явившаяся из своих отдельных покоев с одной лишь целью — увидеть новую наложницу, окинула Катю с ног до головы презрительным взглядом, заскрежетала зубами и удалилась, намеренно опрокинув по пути цветочную вазу.
— Це ж змеища! — оценила выходку Галина. — Зарежет зараз як того барана. Почикай, вона ж сама на сынка глаз положила.
— Не зарежет, мы еще поглядим, чья возьмёт, — вскинулась Катерина. — За мной придут, — с уверенностью добавила она. — Серёжа, сокол мой ясный, меня, поди, уж обыскался!
Таркан явился к своей новой наложнице на следующую ночь. Был он, как водится у турок, брит налысо, черноглаз, вертляв и тонок станом, словно девица. Стрюк да и только. На Катерину, привыкшую к изрядной стати Нарышкина, её новый «господин» не произвел должного впечатления. Более того, на юношу, ожидавшего встретить томную негу северной красавицы, обрушился настоящий ураган хотя и маленьких, но ощутимо лупящих в цель кулачков. От такой неожиданности в гордо выпиравшем естестве юного любовника произошли значительные перемены. Таркан насилу вырвался и с позором, поддерживая штаны, ринулся прочь из опочивальни. Дом огласили его крики.
После этого случая Катерину какое-то время не трогали. Таркан с исцарапанным лицом выглядел весьма плачевно. Утром он имел с отцом серьёзный разговор, после чего уехал поправляться на воды в Бюйюдере, где Кылыч-эфенди имел свой загородный дом.
Галина-Гюзель рассказала, что наследник наотрез отказался принимать отцовский подарок, и чересчур разборчивую рабыню решено было отдать в служанки Мадине, тем более что та сама настойчиво намекнула об этом хозяину.
Катя быстро сообразила, что такой оборот дела ей совсем не на руку. Презлющая черкешенка выказала явное желание сжить девушку со света.
Катерина тайком всплакнула, после чего упрямо вздернула подбородок.
«Ничего, подстилка турецкая, ты у меня сама ещё попляшешь», — мысленно пообещала она.
Случай выяснить отношения представился совсем скоро.
После пятничной молитвы младшая жена кадиаскера предавалась кейфу в отдохновенной тени садовой беседки, вокруг нее роем расположились служанки.
Когда по вызову Мадины Катя была вынуждена явиться в беседку, черкешенка, не поднимаясь с подушек, что-то зло сказала ей по-турецки.
Катерина промолчала, но дочь Кавказа принялась оскорблять её, причём в потоке ругательств замелькали и крепкие выражения, очевидно подхваченные у кубанских казачков. В ответ на это Катя попыталась уйти, однако Мадина вскочила как ошпаренная, поддала ногой поднос с яствами. Сладости и фрукты покатились по сторонам, а рассерженная фурия вцепилась в волосы строптивой сопернице. Катя вместе с изрядным пуком своих волос оторвала Мадину от себя, а потом со всего размаху, по-деревенски, как бывает, когда мужики ходят биться «стенка на стенку», врезала черкешенке кулаком под дых.
Мадина оплыла как прогоревшая свечка.
Служанки подняли визг и попытались защитить свою госпожу, но Катя, подхватив с земли тяжелый поднос, набросилась и на них, нанося удары направо и налево. Бабы кинулись врассыпную. На помощь турчанкам поспешили евнухи, но досталось и им. Округу огласил раскатистый медный звон: Катерина с размаху расплющила нос первому подбежавшему смотрителю гарема.
Справилась с разъяренной северной фурией только вооруженная охрана кадиаскера. Катерину свалили наземь и связали ей руки за спиной. Вопящих турецких баб тоже растащили кое-как по углам и стали отливать водой.
Кылыч-эфенди, бывший в то время на заседании султанского дивана, узнал о случившемся только ввечеру, когда новость о женской драке в доме военного судьи уже облетела добрую половину махалля. Бей сгорал от стыда.
К следующему дню слухами полнился весь район Бейоглу.
Строптивица провела весь этот день взаперти на воде и черствых безвкусных лепешках. Она смотрела через резные просветы мишрабийи на едва видневшуюся вдали синюю полоску залива и горько вздыхала:
— Ну, где же ты, Сережа, соколик?
А примерно в это же самое время на другом конце Стамбула её «соколик» в очередной раз слегка повздорил с Заубером.
— Знаешь, Иоганн, мне это «far niente», это моё бездействие, уже поперек глотки стоит, — почти кричал он. — Девчонку у меня из-под носа умыкнули, а я ничего-то и сделать не в силах. Только и могу, что сожалеть. Diable!
Нарышкин пнул ногой мягкую подушку, лежавшую на ковре.
— Мишель куда-то запропастилась, опять же — жара эта совсем с ума свела. Мечусь весь день, как угорелая кошка…
— От угару, Серьёжа, хорошо прикладывать к голова лист кислой капусты, — посоветовал Заубер, оглядываясь на Терентия.
— Ну, я же говорю, спелись, — досадливо махнул рукой Сергей, разглядывая запылённую одежду компаньонов.
— Мы хотя бы немного продвинулись? — спросил он, несколько смягчившись.
— Я знаю, как надо искать сокровищ, — выдал немец, победоносно поблескивая стеклами своих окуляров.
— Ты и в прошлый раз знал, — снова встрепенулся Гроза морей, — а мы только без толку по катакомбам пролазали, каменные деревья и так, и эдак считали, а что вышло? Нужного деревца, с рыбкой, так и не нашли!
— О найн, толк есть, — возразил Заубер, озаряясь, словно старое огниво, и, понизив голос, добавил:
— Теперь я имею твердый уверенность. Как известно, под катакомба есть еще один подземелий, еще один ярус, он соединен с системой…клоак. Ну, то есть, канализация. Если путь туда прочистить, вода спадет, и мы сможем найти нужная колонна спокойно, как «нечегонеделать» и «раздваплюнуть»!
— Канализация? — если Заубера можно было сравнить с огнивом, то Сергей походил сейчас, скорее, на тот персонаж из Андерсена, у которого глаза были, как мельничные жернова.
— Ка-на-ли-зация? — повторил Нарышкин по слогам. — И это ты называешь твердой уверенностью? Опять, стало быть, в дерьме возиться?! У себя в имении навоз месил, чтоб до клада добраться и тут такая же история выплясывается. Просто насмешка судьбы!
— Найн, нет, в фекалий лезть не надо. Просто под верхний ярус иметься такой же большой пустой пространство. — Иоганн Карлович изобразил полость, соединив пальцы рук. Часть вода раньше — кап-кап, уходить по труба вниз, вы понимайт? Я всё успел рассчитывать. Тот, кто прятать сокровище, придумывал один простой и гениальный вещь: заделал слив и скрывал знак рыбы под слоем вода. Рыба в воде — это есть очень… символично. Христианский знак, понятно?
— Куда уж нам этакие велимудрости постичь, — съязвил Гроза морей. — Тебе что-нибудь понятно, Терентий?
— Мудрено, — согласился дядька, — но скумекать можно.
— Хорошо, и как мы сможем этот слив раскупорить? — поинтересовался Сергей.
— Я пока не знайт, — развел руками немец. — Но узнавайт обязательно. Надо еще, немного… как это… поразведаться, да, Терентий?
— Тиколка в тиколку, — удовлетворенный своим учеником, отозвался дядька.
В этот же день вернулась Мишель.
— Передайте, что я нашла того, кого вы искали, — устало бросила она Зауберу по-турецки.
Иоганн Карлович перевел Нарышкину услышанное.
— Где её держат? — встрепенулся Сергей, не обращая внимания на выразительно-печальные глаза француженки.
Мишель взяла у Заубера перо с бумагой и как могла точно начертила план городской усадьбы старого кадиаскера, пояснив, что ей доводилось бывать там прежде вместе с мужем.
Гроза морей попытался неуклюже поблагодарить вдову за помощь, но та лишь скорбно усмехнулась и порывисто ушла, пряча в глазах слезу.
— Вот такая получается тарарабумбия, — вслед ей пробормотал Нарышкин.
— Вы будете нужны мне сегодня ночью, — добавил он, обращаясь к компаньонам.
План его, как обычно, оригинальностью не отличался. Состоял он в том, чтобы под покровом ночи забраться в усадьбу, а там уж — как бог на душу положит.
— Сумнительная диспозиция, — старательно проговаривая каждую букву и привычно оглядываясь на Терентия, выразил своё мнение Заубер. — Это есть большой авантюра!
Дядька одобрительно кивнул. Молодец, мол, «сумнительная» и есть.
— Да ведь мы не можем заявиться в усадьбу с парадного хода и предъявить свои права на Катерину, — запальчиво принялся объяснять Сергей. — Этот киоскер будет смеяться нам в лицо, да еще и полицию, пожалуй, позовет. У нас ведь даже бумаг никаких нет. Кто мы такие? Поди, докажи потом, что я — дворянского звания поручик, а ты Иоганн — инженер Мюллер. Даже если и к консулу обратиться, все одно скандал! А пока суд да дело, Катю отошлют куда подальше за город, и поминай, как звали. Да и Трещинский, чует моё сердце, на пятки нам вот-вот наступит…
Покряхтев, Заубер вынужден был согласиться, поразившись произошедшей в Нарышкине очередной перемене — от хмельного безделья к решительным действиям.
Глаза Сергея горели. Тронь его, казалось, — и из него посыплются электрические искры. Гроза морей стремительно мерил комнату большими шагами.
— Хорошо, я согласен, Серьожа, — сдался Иоганн Карлович.
— Стало быть, диспозиция принимается. Как стемнеет, полезем в усадьбу, — подвел итог военному совету Нарышкин.
До наступления темноты решено было прогуляться и, что называется, провести рекогносцировку местности. Неожиданно для компаньонов Нарышкин обрядился в мундир французского морского офицера, вооружившись приличного размера зрительной трубой.
— Откуда есть такой решпект? — поинтересовался Иоганн Карлович, оглядывая выправку новоявленного морского волка.
— Выиграл в карты у одного баклана, он здесь на этаже тоже комнаты снимает… снимал, — Гроза морей подмигнул Терентию. — Ну что, двинулись?
Усадьба кадиаскера располагалась в Топхане, здесь же, на европейском берегу, вдоль которого выстроились виллы придворных султана. Яркие резные фасады домов выходили к заливу, где у мраморных ступеней причалов мерно покачивались на волнах каики с дремавшими в них гребцами. За роскошными фасадами, на холмах, в тени высоких пиний располагались сады, откуда доносились чудесные ароматы, и слышалось журчание многочисленных фонтанов.
— Райское местечко, черт побери! — восхитился Гроза морей.
— Ишь, жиру нагуляли нехристи. Не уколупнуть, — по-своему отреагировал не чуждый красоте Терентий.
Дом Кылыч-эфенди, как и все богатые виллы побережья, гляделся на залив. А с трех других сторон его окружал высокий, в два человеческих роста каменный забор, за которым шумел сад и противно горланили павлины.
Поднявшись на холм несколько выше усадьбы, Нарышкин «лорнировал» её в трубу.
— Черт, плохо видно, но, судя по всему, гарем вон там, на втором этаже. Окна плотно закрыты ставнями…
Сергей дал взглянуть немцу, и тот согласился.
— Сделаем так: вы с дядькой отвлечете хозяев у парадного крыльца, а я, тем временем, поднимусь по фасаду на второй этаж… Хотя нет, не годится, — Нарышкин вспомнил недавнее происшествие в доме Мишель и слегка покраснел.
— Эти чертовы решетки снаружи не открыть. Тогда вот как: пользуясь темнотой я проникаю в сад, подбираюсь к дому и пробираюсь на второй этаж через черный ход.
— А там этакого раскрасавца, да еще при мундире, уже ждут, — критически откликнулся Терентий.
— Кто ждёт?
— Да этот самый старичок-женишок со своими слугами сидят и дожидаются. Еще, поди, и пловом угостят!
— Ты меня не путай, — раздраженно отмахнулся Нарышкин. — Мундир нужен для конспирации ну и вообще… не могу же я отправиться выручать любимую в обносках.
— Любимую? — переспросил Иоганн Карлович.
— Да что вы меня пытаете, ступайте оба к лешему, я и без вас уже окончательно перепутался, — раздраженно отмахнулся Сергей. — В общем, делаем, как я сказал. Риск есть, но вы же будете меня прикрывать…
— Каким Макаром прикрывать-то? — встрял старый моряк.
— Иоганн Карлович, ну придумай что-нибудь, ты же у нас башковитый!
— Что есть «башковитый»? — спросил Заубер, покосившись на дядьку.
— Это у которого по всем статьям — семь пядей во лбу, — пояснил Терентий.
— А-а-а, — протянул «инженер Мюллер».
Ожидание, во время которого решили совершить прогулку по заливу на каике, длилось долго. Компаньоны молчали, разглядывая красоты побережья в вечернем освещении. Сергей беспрестанно поигрывал желваками и думал, по-видимому, о своём.
Наконец на город спустилась темнота. Вода зазмеилась отражавшимися в ней огоньками и «заговорщики» вернулись к усадьбе. К её задней стене с внешней стороны примыкал крытый павильон-фонтан, отделанный мрамором. Ещё вечером здесь было людно, но мрак прогнал обывателей, и теперь тишину нарушало только журчание воды из кранов, пение цикад, да отдаленное мерное деревянное пощелкивание колотушки ночного сторожа.
— Пора! — решил Нарышкин. — Ждать дальше нет никакой возможности. А ну, подсадите меня!
Вскарабкавшись с общей помощью на декоративный арочный фриз фонтана, Сергей схватился за ветку, росшую прямо из трещины в стене, подтянулся, опираясь на неё, и, шумно сопя, захрустел по черепичной крыше павильона, а оттуда уже перелез на стену. Прислушался, и, не услышав ничего подозрительного, махнул в сад.
— О-ё-ё! — этот звук сопровождал его приземление.
— Что там? Что случилось? — тревожно оглядываясь, приглушенно окликнули своего предводителя компаньоны.
— Здесь куст… с розами! — сипло отозвался Гроза морей, добавив непечатное слово по адресу стамбульских садовников.
— Все в порядке, я пошел к дому, и вы ступайте уже!
Терентий и Иоганн Карлович торопливо обогнули усадьбу и подошли к затейливо украшенному порталу, окаймляющему парадный вход.
Они потоптались в нерешительности на месте, стараясь держаться подальше от освещенного фонарями пятачка на тротуаре.
— Так и будем сумерничать? — спросил Терентий, переминаясь с ноги на ногу.
— Ничего не приходить мне на ум, — признался Иоганн Карлович.
— Давай, сударь мой, кумекай, а то торчим тут, как два статуя!
— Мне как-то стыдно начинайт, — развел руками Заубер. — Надо что-то закричать. Но вот что — то есть вопрос.
— Стыдится, пока не обвисится! — с досадой бросил Терентий. — Как по-ихнему будет «пожар»?
— Я не знать, — ответил немец и неожиданно сдавленным голосом крикнул почему-то по-французски: «О сэкур! Алле ля полис!»[25]
— Вот! — подбодрил Терентий, принимаясь дубасить в дверь парадного, — Давай, могешь ведь. К чему, сударь мой, себя сокращать? Ори по-театрашному, в полное горло!
Иоганн Карлович набрал воздуха и закричал что есть мочи: «Au voleur! Au feu! Au secours!»[26]
В то же время Гроза морей пересёк сад и подобрался к затемненному дому. Неподалеку от того места, где, по его мнению, должен был находиться черный ход, сохло развешанное на веревках бельё.
«Очень кстати», — решил про себя Нарышкин, сорвал впотьмах какое-то покрывало и набросил на себя, укрыв голову и плечи.
— Ничего себе получилась одалиска, — хмыкнул он, заражаясь от собственной находчивости.
Дверь, к несчастью, была закрыта изнутри, однако Сергея это обстоятельство никогда не останавливало. Он хорошенько потянул затейливую дверную ручку на себя, но та с неожиданным скрипом вырвалась из креплений и осталась у него в руках.
— Проклятье! — выругался Нарышкин. — Вроде, живут не бедно, а ручки дверные как следует приделать не умеют!
Он поискал вокруг, ухватил шест, держащий веревки с бельём, и поддел его в дверную щель снизу, нажав на получившийся рычаг. Шест обломился, но и дверь, подавшись, пронзительно пискнула и раскрылась.
Сергей шагнул в темноту коридора, одновременно почувствовав, как большой дом, дотоле казавшийся мирно спящим, обретает движение. Затопали ноги, послышались голоса, в комнатах стал зажигаться свет. Мимо укрывшегося под лестницей Нарышкина, пробежали несколько встревоженных слуг с фонарями.
«Иоганн с дядькой начали действовать», — понял Гроза морей и стал осторожно подниматься на второй этаж. Здесь было все еще тихо, и Сергей, решив передохнуть и отдышаться, спрятался в какую-то неглубокую нишу за портьеру. Он простоял там с минуту, слыша, как шум в нижних покоях все усиливался.
Вдруг мимо него прошлёпали по мрамору пола босые пятки, на портьеру упал трепещущий свет свечи, и сонный женский голос недовольно произнес: «Чи шо вони там з глузду зъихали такой гай подымать?»
Нарышкин вынырнул из своего убежища и схватил руку, держащую свечу.
— Тихо ты, — прошипел он, другой рукой зажимая готовый взорваться криком рот. — Я ничего тебе не сделаю!
Женщина, а это была Галина-Гюзель, сдавленно охнула и испуганно закивала головой.
— Где русская девушка? Ты её видела? — Сергей постепенно убрал руки. — Только не вздумай кричать! Видела ты её?
— А як же, видала, — успокаиваясь, кивнула Галина и жестом пригласила Сергея следовать за собой.
Они прошли длинным коридором на женскую половину. Галину окликнули из-за полуоткрытой двери покоев, но та успокоительно ответила что-то по-турецки и потащила Нарышкина за рукав дальше.
У дальней двери женщина остановилась.
— Здесь вона, сердэнько! Под замком мается!
Сергей осторожно тронул дверь — заперто. Он отступил на шаг назад и со всего маху наддал плечом. Галина ойкнула, выронив свечу, замок с хрустом приказал долго жить, и дверь распахнулась.
Нарышкин порывисто шагнул вперед и… тут же получил сильный удар по голове. Перед глазами его поплыли разноцветные новогодние шары…
— Серёжа! Сергей Валерьянович! Очнись! — он почувствовал, что кто-то с силой трясет его за плечо.
— Катя… — выдавил из себя Гроза морей, пытаясь встать.
Его подняли четыре женских руки, и, пошатываясь, Сергей прислонился к дверному косяку, силясь в то же время сообразить, что такое с ним произошло.
— Как же это меня впотьмах угораздило Вас ушибить, — хлюпнула носом Катерина, под ногами у нее заскрипели осколки глиняного кувшина. — Думала, это сынок хозяйский сызнова…
— Что «сызнова»? — поинтересовался Нарышкин, потирая ушибленный лоб.
— Тикать вам трэба! — посоветовала Галина-Гюзель, сердобольно глядя на Катерину.
— Уходим, — Нарышкин и Катерина, поддерживая друг друга, бросились по коридору, но тут разом стало как-то очень шумно, возникло много света, и женская половина дома наполнилась вооруженными слугами. Они вели связанных Заубера и Терентия.
— Вуаля, — смущенно сказал Иоганн Карлович. — Песенка есть спета!
— Жён Пети проблем, — добавил дядька Терентий.
Появился и сам хозяин дома — мощный старец в халате нараспашку и съехавшей набок феске, с выпяченной, как у снегиря, седой грудью и аккуратно подстриженной седой же бородой. В одной руке кадиаскер держал обнаженную саблю. С удивлением Сергей заметил, что другая рука прижимала к боку потрепанный французский том собрания сочинений мсье Дюма. Точно такое собрание, правда, новое, с иголочки, стояло на книжной полке в имении Нарышкиных.
Кылыч-эфенди перебросился несколькими фразами с Галиной, после чего жесткое выражение лица его несколько смягчилось, но тяжелая складка все еще никак не хотела сойти с переносицы кадиаскера.
Нарышкин скинул с себя ненужную более маскировку, и его флотский китель засиял позументами в неверном свете свечей.
Хозяин дома хмыкнул и поглядел на непрошенного гостя уже, пожалуй, с некоторым уважением.
— Франк?
— Тебе-то какое дело! Ну что, Иоганн Карлович, попались мы с Вами, — попытался улыбнуться Сергей. — Всё, теперь наше дело — зиндан!
— Но зиндан, — перехватив фразу, внушительно произнес Кылыч-эфенди. — Но зиндан! Нё па туше, — добавил он с сильным восточным акцентом, не коверкающим всё же смысл фразы.
Вельможа еще больше выпятил седовласую грудь и ожесточенно потряс в воздухе томиком Дюма:
— Жё вудре дуэль![27]
— Ух ты, про монтекристов начитался, — сообразил Нарышкин. — Благодарю покорно, эфенди, я дуэлями еще в юности объелся.
— Но? — переспросил любитель Дюма и добавил, выразительно кивнув при этом в сторону улицы:
— Ля полис! Кавас!
— Если Вы отказаться, он вызовет местный полиция, — угрюмо пояснил Заубер.
— Да что этот престарелый Портос о себе думает? — взвился Гроза морей. — Тоже, дуэлянт записной выискался. Меньше книжек на ночь читать надо!
— Умом срешился человек, — печально констатировал Терентий.
Кадиаскер тем временем подозвал толстого евнуха и отдал ему какое-то приказание. Своих ночных визитеров эфенди широким, церемонным жестом пригласил следовать за собой.
Все спустились в сад, в котором расторопные слуги уже зажигали факелы и фонари. Вскоре евнух притащил две старинные шпаги, одна из которых была вручена Нарышкину.
— Отличная работа, — подумал Сергей, глядя на поблескивающий клинок.
— Ну и как будем биться? — спросил он.
Эфенди картинно сбросил халат, обнажив крепкий, мускулистый, сплошь поросший седой шерстью торс, и остался в одних шароварах и феске.
Он смерил противника с головы до ног и бросил несколько фраз по-французски, из которых Нарышкин понял, что биться предложено до смерти одного из участников поединка.
— Гладиатор, твою мать! — выругался Сергей, снимая китель и оставаясь в сорочке.
— Ангард! Аллах хай! — зычно крикнул кадиаскер и ринулся в бой.
Бился он напористо, чувствовалась прекрасная школа. Нарышкин, решивший поначалу поддаваться, вынужден был отступать и уйти в глухую оборону.
Уже в первую минуту боя острая шпага эфенди прочертила красный след на рукаве Сергея. Двор вельможи, наблюдавший за поединком, взорвался криками одобрения.
Гроза морей зарычал и принялся яростно вертеть оружием, пытаясь отразить петушиные наскоки и выпады престарелого дуэлянта. Делал это Нарышкин не так умело, и единственное, что могло спасти его, — то скорость движений и преимущество в возрасте. В бытность свою в армии, Сергей слыл недурным бойцом на саблях и эспадронах, но шпагой владел много хуже. Ему пришлось туго, очень туго. Вскоре еще одна легкая рана заалела у него на плече. Еще миг — Нарышкин едва успел увернуться, как шпага соперника со свистом рассекла воздух рядом с его головой и сбила висящий на ветке фонарь. На площадке стало темнее, и эфенди выхватил из рук слуги факел. Сергей невольно залюбовался своим противником. В пляшущем свете пламени сын Аллаха был поистине подобен разъяренному льву.
«А ведь проткнет, пожалуй, чертов янычар! Так и помрешь не за понюшку табака», — подумал Нарышкин, тоже хватая факел. Неожиданно, глядя сквозь танцующее пламя, он увидел в толпе дворни сжавшую руки, натянутую как струна Катерину, и это придало ему силы.
«Ладно, гад, сейчас я тебе Синоп устрою!», — мысленно пообещал Сергей и принялся яростно контратаковать, размахивая при этом одновременно и шпагой и факелом.
Эфенди не ожидал такого идущего против всяких правил фехтования напора и вынужден был отступить. Турок прогнулся назад, отражая яростные удары шпаги Сергея, и вдруг охнул, громко воскликнул: «А-а, шайтан!» и, выронив оружие, схватился за поясницу.
С воплями и причитаниями к поединщику подбежали жены.
— Что с ним такое? — удивленно спросил Нарышкин, опуская шпагу и подходя к компаньонам.
— Прострелило болезного, — обрадовано отозвался Терентий.
— Это есть «радикулит», — выразился Заубер по-ученому.
Так неожиданно начавшийся смертельный поединок внезапно и довольно нелепо закончился. Смущенного, скрюченного эфенди под руки увели жены во главе с Мадиной. Все четверо членов товарищества «Нарышкин & К» стояли в плотном кольце свирепых слуг с недвусмысленными выражениями физиономий.
— Живым не дамся, — решил Сергей, сжимая рукоять шпаги и стараясь заслонить собой компаньонов.
Гудящая как улей толпа надвинулась ближе, но тут вмешался толстый евнух, который, бесцеремонно расталкивая слуг, протиснулся к Сергею и неожиданно для последнего склонился перед ним в поклоне настолько глубоком, насколько позволял его изрядно выпирающий живот.
Обернувшись к слугам, он отдал им приказание, и вмиг из враждебной ставшая доброжелательной толпа расступилась. Чьи-то проворные руки потянулись к Терентию и Зауберу, и веревки, опутывающие обоих, упали в траву.
Евнух прочирикал что-то по-своему, заискивающе глядя в глаза Нарышкину.
— Что он там лопочет? — спросил Сергей, все еще тяжело дыша после поединка.
— Эфенди отпускает всех нас с девушкой на четыре сторона, — перевел Заубер. — Шпага должен остаться у Вас, Серьожа, как подарок от его хозяина за храбрость!
Глава десятая СОКРОВИЩА ЦИСТЕРНЫ ФИЛОКСЕНА
«Но горе тому, кто захочет однажды
Проникнуть к святыне, смертною жаждой
Страстей самовластных прибой и отлив
В сердце мятущемся не покорив!»
(Даниил Андреев, «Песнь о Монсальвате»)Город горел, наполняя улицы удушливым дымом. Бран, с окровавленной секирой в руке шел по скользким от крови каменным плитам, ведущим от дворца Буколеон к Ипподрому. Он шел, нагнув голову, словно борзая, взявшая верный след, и его ноздри трепетали от запаха крови, смешанного с гарью. Нужно было, во что бы то ни стало попасть на ипподром раньше рыцарей Пьера де Брешэля. Бран знал, кого он там встретит, и готовился к этой встрече. Он знал. Это была не его война, но упустить все выгоды, которые она сулила, означало быть глупцом. Бран глупцом не был.
Императоры в обреченном городе сменялись с неимоверной быстротой. С завидным постоянством очередной претендент на трон предавал действующего императора, чтобы в свою очередь тоже быть преданным. Еще вчера Византией правил Марзуфль, но сегодня в полночь он трусливо бежал, бросив осажденную крестоносцами столицу рушащейся империи. Базилевсом провозгласили Ласкера, но и этот еще до рассвета сел на галеру переплыл рукав Святого Георгия, и отбыл в Никею…
Навстречу Брану выскочил какой-то оторвавшийся от своих молодой оруженосец с выпученными, слезящимися от дыма глазами. На плече он тащил угловатый мешок, скорее всего с драгоценной посудой; при каждом шаге мешок немилосердно гремел металлом. Бран, не раздумывая ни секунды, обрушил оружие на голову незадачливого мародера. Хорошо поставленный удар раскроил голову парня до подбородка. Оруженосец, обливаясь кровью, рухнул на землю, из мешка его посыпались блюда и кубки, со звоном поскакал по мостовой серебряный тазик. Обычно в таких украшенных гравировкой сосудах константинопольские красавицы мыли свои прелестные ножки…
Опьяненный кровью, Бран не отдавал себе отчета, зачем он убил. Сейчас для него не было ни своих, ни чужих. Он не знал, кого презирал больше — грязных, озлобленных, пропахших потом пришельцев с крестами на плащах или византийцев, которые отсиживались в своих домах, трясясь от страха перед крестоносцами. Из ближайшего дома доносились отчаянные женские крики. Горе побежденным! Трусливые и ленивые греки, не пожелавшие защищать свой город, заслужили наказания. Теперь их жен и дочерей жестоко насилуют одуревшие от воздержания паломники.
Спасать несчастную не имело смысла и Бран поспешил к Ипподрому. Он был пуст, но стены и трибуны, казалось, еще хранили в себе вопли многотысячной толпы горожан, ржание лошадей и грохот конных квадриг. Прямоугольное поле ипподрома, поделенное на две части было украшено специально привезенными сюда древними памятниками. Бран, на секунду стряхнув с себя кровавый дурман, с удовлетворением оглядел бронзовую Змеиную колонну из Дельф — три исполинских медных змия, перевивавшиеся своими туловищами, и золотой треножник на их головах. Всякий раз, бывая здесь, он любил разглядывать скульптурные шедевры — Египетский обелиск из Карнака, коней Лисиппа… На этот раз Бран надолго задержал взгляд на четверке сытых, уверенных в себе бронзовых исполинов, профессионально оценивая работу гениального мастера.
— Бесподобно, — пробормотал он. — Бесподобно.
На одной из трибун он увидел знакомую одинокую фигуру и твердой походкой направился к ней.
— Я знал, что найду Вас здесь! — издали крикнул Бран.
Прокопий повернул голову и с удивлением посмотрел на приближающегося человека с секирой. Казалось, библиотекарь не узнавал его.
— А вы изменились, Бранислав, — сказал Прокопий, недоуменно глядя на окровавленное оружие и забрызганные кровью снятые с убитого крестоносца доспехи.
— Не называйте меня так. Теперь я — Бран, ясно?
Прокопий проигнорировал угрозу, слышавшуюся в его голосе.
— Ну, вот и все, — устало пробормотал он. — Город погиб… Вы странно выглядите для художника, Бранислав. Мне показалось, что мы с вами полностью рассчитались. Вы изготовили то, что я просил, я с вами щедро расплатился. Кроме того, помните, что вы дали клятву…
— Да, все пропало, — согласился Бран. — Скоро мародеры придут и сюда. Они заберут то, что хотят, и никто не сможет их становить. Никто!
Прокопий задумчиво кивнул головой.
— Вы теперь с ними? — спросил он прямо.
— Нет. Но я пришел забрать у вас реликвии. Их необходимо унести отсюда как можно дальше. Ни византийцы, ни крестовое воинство недостойно владеть ими, понимаете Вы!
Бран говорил сбивчиво, но чем больше слов вылетало из его уст, тем сильней он чувствовал, как крепнет стена отчуждения между ним и его собеседником.
— «Как можно дальше»… — повторил Прокопий. — И где же находится это укромное место, позвольте вас спросить?
— Оно находится на моей родине, в польской земле, Вы слышали о такой? Я унесу реликвии туда, где мой народ смог бы открыто поклоняться им. В самом сердце моего края, в городе на Вавельском холме, реликвии обрели бы подлинную силу, которая заключена в них. Если бы Копье попало в руки моего короля, весь мир узнал бы о его благородстве и милосердии. И тогда польский народ стал бы поистине великим и несокрушимым! Бран говорил, все больше распаляясь, а слова «благородство» и «милосердие», вырвавшиеся из его уст, прозвучали и вовсе угрожающе.
— Поздно, Бранислав, реликвии находятся в надежном месте, и я скорее умру, чем выдам Вам его, — печально улыбнулся Прокопий.
— Нет, ты скажешь, пес! Ты меня отведешь туда, сей же час! — визгливо крикнул Бран и в отчаяньи занес секиру над головой библиотекаря. — Говори или умри!
У входа на ипподром послышались крики и шум приближавшейся толпы крестоносцев.
— Нет, — твердо сказал Прокопий. — Никогда!
Бран дико взвыл, широко размахнулся, и секира со свистом опустилась на шею библиотекаря. Голова великого хартофилакса покатилась по ступеням к подножью трибуны, туда, где любили с триумфом проезжать перед ликующим народом увенчанные лаврами победители конных ристалищ. В ворота уже вбегали с обнаженными мечами члены крестоносного братства. Убийца дико посмотрел на укоротившееся тело, которое все еще содрогалось в предсмертных конвульсиях.
— Я все равно найду реликвии! — хрипло выкрикнул Бран и погрозил секирой небу. — Я разыщу их, будьте вы все прокляты!
Нарышкин, по правде говоря, вовсе не горел желанием донести до «тестюшки» радостную весть об освобождении Катерины. В последнее время Степан сделался невыносим, и все это чувствовали. Однако поведать отцу об освобождении из турецкого полона любимой дочери, как ни крути, следовало. Гроза морей подергал себя за вихры и отправился «докладать». К великому изумлению Нарышкина, его компаньона в доме вдовы не оказалось. Хмурая, опухшая с лица Мишель, глотая слезы и стараясь не глядеть на Сергея, сообщила о том, что Степан ушел в неизвестном направлении, о чем она нимало не сожалеет. В довершении рассказа она разревелась и швырнула в отставного поручика туфлей, отчего тот, весьма смущенный, поспешил как можно скорее ретироваться.
По возвращении первым, кого встретил Гроза морей, была заплаканная Катерина.
— Господи, да что они все сговорились? — Нарышкин сделал стремительный поворот, какой умеет делать на море разве что косяк кальмаров, в сердцах плюнул и спустился вниз к Перекакису, заказав себе бутылку вина и успевшую полюбиться «ишкембе». Здесь его и нашел Терентий.
— Худо дело, сударь, — пробормотал дядька, без приглашения усаживаясь за столик барина. — Степан-то Афанасич, похоже, того…
— Что «того»? — давясь требухой, осведомился Нарышкин.
— Отплавался, — с оттенком торжественной скорби объявил Терентий и перекрестил лоб.
Оказалось, что Степан возник в доме грека внезапно, как приведение. Когда несчастный отец увидел освобожденную дочь, он бросился ей навстречу, но вдруг пошатнулся, охнул и мешком осел на землю. Старика на руках внесли в комнату, пытались отпоить сильно разбавленным вином, терли виски уксусом, расстегнули ворот рубахи и распахнули окна, чтобы дать больному больше воздуха, но все безуспешно. Степан пришел в чувство, однако в разум так и не вернулся. Он лишь бессвязно мычал, и бессмысленно таращил в одну точку провалившиеся внутрь черепа глаза, не узнавая никого вокруг.
Напрасно Катерина, прижимая руки старика к груди, причитала: «Тятенька, это же я!». Напрасно Заубер пробовал отворить компаньону кровь и, подкладывая подушку тому под голову, пытался шутить: «Ну, Афанасьич, полно придуривайтся, постращать нас — и хватит. Мы еще с тобой будем повоевать!».
Степан хмурил брови, силился что-то вымолвить, но в результате издавал лишь слабые нечленораздельные звуки.
Поверхностно знакомый с медициной Заубер был вынужден констатировать апоплексический удар. Жизнь старика могла оборваться в любую минуту.
Узнав про такие дела, Нарышкин поднялся к больному и посидел у его изголовья, понимая, что ничего утешительного сказать не может.
— Ну, ты это… — пробормотал Гроза морей, стараясь придать своему голосу больше бодрости. — Ты давай, что ли, поправляйся. Чего еще придумал, в самом-то деле…
Ничего, впрочем, не менялось. Глаза Степана, глядевшие из глазниц, словно из дупла, бессмысленно пялились в потолок, исхудавшая грудь почти не подымалась в такт еле заметному дыханию, а руки повисли, будто обрубленные снасти бегущего такелажа. Нарышкин, многозначительно переглянувшись с Заубером, вышел вон и осторожно прикрыл за собой дверь.
Спустившись в таверну, он заказал еще вина и всю ночь беседовал со стаканом.
Катерина ночь провела у изголовья умирающего. Под утро Степан, казалось, пришел в себя. Катя растолкала задремавшего в остатках бараньего бульона Сергея и шепотом позвала его к постели отца: «Тятя зовет, рукой поманил!».
Сергей, морщась и утирая с лица налипший жир, приблизился к постели.
Степан слабым жестом попросил его наклониться.
— Покаяться хочу… — еле слышно прошептал старик.
— Сделаем, не беспокойся, дядька за попом отправлен. Должен же быть в этом басурманском городе хоть один наш поп?! Терентий — он из-под земли достанет! — обнадежил умирающего Сергей.
— Не… не то… не успею… перед тобой покаяться хочу, — каждое слово давалось Степану с трудом.
— Я Трещинскому… рассказал все об Вас… Наткнулся на него случайно, когда…по городу бродил. Я ему про катаконбу выложил все… Он обещал Катю… вызволить.
— Эх, дурень ты, дурень, — беззлобно сказал Нарышкин. — А ты-то сам как узнал про подземелье?
— Не мог у вдовы в доме, как прикованный, сидеть…ни часу. Удрал…сыскал вас а потом шел… следом…
Степан жадно, будто птенец червяка, попытался схватить порцию воздуха, и из груди его исторгся слабый стон. Последним усилием, холодеющими и квелыми пальцами он схватил Сергея за рукав.
— Теперь тот человек все знает… берегись, барин… прости. Бес попутал… Катю вызволить хотел… береги ее… — Степан повел взором в сторону дочери, попытался улыбнуться, но вышло криво, губы его дрогнули и вытянулись в струну, он откинулся на подушки и затих.
— Будь покоен, Степан Афанасич. Все сделаю! — глотая ком в горле, произнес Нарышкин.
Утренний покой таверны нарушил вой Катерины.
Похороны прошли назавтра же. Пригодился найденный Терентием священник. Степана отпели по православному чину и опустили в сухую, каменистую землю христианского участка кладбища на окраине Перы. В обмен на грубо сколоченную дядькой домовину земля исторгла на божий свет обломок античной капители и груду битых черепков.
— Забавно, — пробормотал Сергей, глядя на фрагмент колонны. — Ионический ордер… Мы когда-то точно такую в академии художеств рисовали. Он отвел увлажнившиеся глаза и огляделся. Тесно посаженные кипарисы создавали густую тень, но их зеленые кроны то тут, то там пропускали солнечный свет, скользящий по поверхности памятников. Высокие надгробные камни таинственно и торжественно мерцали белизной, и Нарышкину стало казаться, что он среди развалин сказочного разрушенного города. Сергей вспомнил, как он вместе со своей компанией бродил по Лавре в Петербурге в самом начале их приключений. И вот теперь окраина Стамбула…
Последнее пристанище Степана находилось в очень занятном месте, если только слово «занятно» допустимо применять к усопшим. Все здесь говорило об интернациональном характере населения города мертвых. Пришедших сюда со всех сторон окружали надписи и по латыни, и на современных языках — напутствия молиться за души усопших: образцы французской куртуазности, немецкой сентиментальности, итальянского красноречия, скупые английские перечисления дат рождения и смерти, возрастов и болезней. На армянских надгробиях, кроме дат, были еще высечены эмблемы рода торговой деятельности или ремесла усопшего.
Одни памятники поражали пышностью, другие отличались суровой простотой. Сергей обратил внимание и на цилиндрический постамент из песчаника, вокруг которого обвивались звенья корабельной цепи.
На надгробии был немного грубовато высечен православный крест. Фамилию усопшего и даты стерло время, но осталась надпись на русском: «Спи спокойно, дорогой товарищ!». И подпись ниже: «Экипаж клипера „Забияка“».
Погребение Степана обошлось недорого, но на простой деревянный гроб и крест, услуги могильщиков и батюшки были истрачены последние средства, оставленные Нарышкину страстной вдовой. Просить у Мишель других денег Сергей не решился. Его положение и так было двусмысленным, тогда как Перекакис, поначалу льстиво поджавший хвост, день ото дня становился все наглее и стал уже намекать, что если компания не заплатит ему за постой и стол, он обратится в местную полицию.
— Съезжать нам из таверны надобно, — с невеселыми думками обратился Сергей к Терентию, когда они тащились с кладбища. — А не то грек к кавасам побежит.
Он глубоко вздохнул и оглянулся на шедшую позади Катерину. Она больше не выла, не причитала, хлопоты, связанные с похоронами, не позволяли ей распуститься в истерике. Но, когда дело было сделано, Катю накрыла волна скорби: она села на могильный холмик и в отчаянье закрыла лицо руками. Сергею стоило больших трудов поднять девушку и заставить шагать вперед. Но идти было некуда, а ночевать на кладбище никто не хотел, памятуя недавнюю встречу с местными нищебродами…
— У вдовы клянчить денег неудобно, — посетовал Нарышкин, — но если и даст, то придется опять как-то выкручиваться. А это мне уже совсем не с руки, да и Катерину жалко. Я ж не султан какой-либо, чтобы двух баб по очередке пользовать.
Дядька деликатно обошел женскую тему.
— Тут, сударь, Моня наш объявился. Я покамест попа разыскивал, этого хитрована и повстречал. Земляков он тут сыскал. С ними уже и коммерцию обтяпал…
— А-а, я говорил, что Брейман и у турка на колу землячков себе найдет! Ну и что он, процветает? — заинтересовался Гроза морей.
— Он тут недалече. Чудодейственной землицей с могилы басурманского праведника торгует. Говорит, враз исцеляет от бесплодия и всяческих напастей. И бабы, и мужики здешние в охотку берут.
— Что, и впрямь помогает?
— Если бы! Так, слюногонка одна, — отмахнулся Терентий, скривив губы. — Да уж больно баклан этот складно втирает. Я, было, сам едва попробовать не покусился.
— Земли что ли? — хмыкнул Сергей. — Что-то ты крутишь! К чему ты мне Моню сватаешь?
— Я так думаю, что надоть к нему на откормление пойти, — поделился соображениями дядька.
— Ты что ж это, старый черт, совсем ожидовить нас хочешь? Я и так жалею, что с жульем этим связался, честь свою дворянскую замарал!.. …Едва не замарал, — слегка конфузясь, поправился Нарышкин.
— Что ж с ними поделаешь! Криво рак выступает, да иначе не знает, — резонно сказал Терентий. — Зато этот финтерлей темноголовый уже собирается контрабандой в Одессу ворочаться! И нам домой пора, а то видит бог — сгинем тут на чужбине.
Старый моряк кивнул на могильные плиты, тянущиеся вдоль дороги.
Сергей еще раз оглянулся на остатки товарищества, бредущие с кладбища. Катерина отстала и шла теперь рядом с немцем, который деликатно поддерживал ее под локоть.
— Ну что ж, — пробормотал Нарышкин, — денег нет, а есть хочется… Веди нас к евреям, что ли…
Пока Сергей пил вино в греческих тавернах, Заубер и Терентий обследовали подземелья Стамбула, а Катерина «томилась» в турецкой неволе, Моня Брейман развел бурную деятельность. Впрочем, иной он и не знал, ибо все, что ни делал, выходило бурливо, кипуче и имело шумные, не всегда приятные последствия.
Для начала Моньчик прошелся по городу, потерся на рынках, а затем отправился в Балат — еврейское гетто турецкой столицы. Жители района говорили на ладино, представлявшем из себя средневековое кастильское наречие с вкраплениями идиш и турецкого. Что и говорить, тарабарщина для непосвященного человека это была редкостная, и, тем не менее, Моня быстро нашел с аборигенами общий язык. Недолго думая, он заявился в синагогу Ахрида, кафедра которой была устроена в виде корабельного носа. Коренные жители Балата считали, что это нос одной из галер Баязеда, на которых изгнанные из Испании евреи добирались в Константинополь. Впрочем, были и такие, которые свято верили, что кафедра не что иное, как нос самого Ноева ковчега.
Вопросы веры и привели Моню в Балат.
К еврейскому счастью Бреймана, в саду синагоги как раз праздновалась свадьба, и, по его собственному выражению, «люди уже шуршали столом». Один почтенный балатский лавочник выдавал свою дочь за сына другого не менее почтенного торговца. К слову, все торговцы здесь считали себя почтенными или стремились таковыми стать.
Поскольку в Балате мирно уживались сразу четыре конфессии, то на торжество к евреям собрались и греки, и армяне, и мусульмане. То есть налицо было полное собрание нужных людей.
Коммерческая идея Мони, обдуманная еще в бытность его «паломником», базировалась на вере, надежде и любви. За основу была взята вера в то, что земля с могилы мусульманского святого способна исцелять от бесплодия женщин и наделять способностью к продлению рода мужчин. У людей приобретших атласные мешочки с могильным прахом должна была появляться надежда на то, что все так и получится, и любовный пыл не будет растрачен зря.
Идея была настолько хороша, что Моне удалось растолковать свой план даже на пальцах и плохом идише. Там же, в саду у синагоги, была составлена компания, не имевшая официального названия, но ее заинтересованными пайщиками стали Шлёма — лавочник, выдавший дочь замуж, и его соседи — рек и армянин.
Поскольку предприятие изначально попахивало шариатским судом, то в число официальных представителей стамбульские компаньоны войти не пожелали, и весь риск Моня брал на себя. На небольшой капиталец, предоставленный интернациональным сообществом, он снял лавчонку и принялся усиленно распространять слухи о чудодейственном средстве. Одновременно шустрый еврей организовал местное производство симпатичных атласных мешочков. Разумеется, наполнять их содержимое землей с настоящей могилы святого никто не собирался. А вот пыли на улицах Стамбула было предостаточно…
Самое удивительно, что дело пошло, причем покупать чудодейственное средство приходили не только мусульмане. Секрет заключался в том, что Моня изначально задрал цену. Прах продавался почти на вес золота. Старшим женам и богатым седеющим мужам и в голову не могло прийти, что их дурят за такие огромные деньги. Люди пожимали плечами, но мешочки покупали исправно. Строгого рецепта по применению стамбульской пыли Брейман не давал, полагаясь на вдохновение покупателя, поэтому кто-то посыпал ею голову, кто-то пробовал втирать в кожу, но чаще всего доверчивые турки использовали прах здешних мостовых как приправу.
— Такая интересная женщина и стесняется брать нужную вещь! — кричал Брейман турчанкам, потрясая заветным мешочком. — Я вас умаляю, разве это дорого! Вам несходно, мадам? Считайте, ше я и не предлагал! Не маячьте, отходите. Ступайте, купите себе глосиков и наешьтесь ими до икоты, может тогда живот у вас и вырастет!
Через неделю о предприятии Мони знал весь Стамбул. Через две Моня почувствовал себя состоятельным человеком и тут же сообразил, что дело надо сворачивать. И хотя грек с армянином каждый день до упаду пили за его здоровье, Моня стал подумывать о красивом отходе. На этот случай он зафрахтовал небольшой парусник и набил его контрабандным, хорошо расходившимся в Одессе товаром. Отплытие было назначено на утро, но вечером явился Нарышкин «сотоварищи» и спутал Брейману все карты.
— Ой, вы мне даже не говорите за ваши дела, у меня у самого такие дела, ше только бы успеть пятки салом смазать, — попытался отмахнуться Брейман. — Вы же видали рожи тех одесских херувимчиков, ше решили нам насорить своими червонцами? Их же можно выставлять в кунсткамере, и люди будут убивать, только за посмотреть и прослезиться. Эти хари не больше похожи на людей, чем бичок с арбузной гавани на предводителя одесского дворянства! Вы знаете за царя Ирода? Так вот то, ше он сделал за свою жизнь — то конфекты по сравнению с тем, ше они сделают с бедным евреем, если он не вернет с процентами тачку денег!
Моня ткнул себя в грудь:
— Нет, и не уговаривайте меня задержаться! Если у вас в кармане водится монет, я таки возьму вас до Одессы, но только завтра же…
Продолжить Моня не смог. Он хотел привести еще какие-то веские аргументы в защиту своей позиции, но получил от Нарышкина более серьезный довод в ухо и кубарем покатился в угол своей лавчонки.
— Значит так, тля ты библейская, слушай меня сюдой! — Гроза морей метал из глаз молнии. — Ты не только задержишь отправление своей поганой контрабанды, ты еще и с нами в катакомбы полезешь, чтоб не сбежал, а будешь артачиться, узнаешь, что такое шариатский суд в моем исполнении. Придавлю как клопа! Понял меня, червь ветхозаветный?
Сергей клубился, словно туча, над поверженным коммерсантом.
— Так бы сразу и сказали, ше вам сильно надо. Разве ж я имею что против старых друзей… — проблеял Моня в ответ.
На том и порешили.
Из лавчонки был второй выход во внутренний дворик. Оставив Заубера и Терентия сторожить притихшего Бреймана, Сергей и Катерина вышли на воздух. Пора было бы уже и объясниться.
— Ну вот и схоронили мы твоего батюшку, — пытаясь придать своему голосу как можно более участливости, сказал Сергей. — Как жить-то теперь будем, Катя?
Девушка ничего не ответила, только пожала плечами.
— Я так думаю, надо нам в Россию возвращаться, имение поправить, а там, глядишь, и заживем… — неуверенно продолжил Нарышкин. — Сыт я здешними красотами по горло.
Катерина все так же молчала.
— Но сперва нужно наше дело до конца довести. Если его не доделаем, то смерть отца твоего вроде как напрасной будет…
Говоря это, Нарышкин в большей степени убеждал сам себя.
После смерти Степана Сергей вдруг ощутил безразличие к цели своих приключений. Навалилась усталость. Призрачное сокровище Византии больше не манило его. Для себя он решил, что если назавтра не получится найти святые дары, он воротится на родину и возьмет Катерину замуж. Пора бы уже угомониться, остепениться… опять таки — сам давно уже не мальчик…
— Делай как знаешь, Сережа… — в ответ его мыслям тихо ответила Катя.
Чуть свет Моня с Нарышкиным отправились в порт, дабы задержать на время отплытие посудины контрабандистов. Велеречивый Брейман, капая слюной и боязливо косясь на Сергея, объяснил задержку рейса некими чрезвычайными интересами, сулившими исключительные выгоды. За отдельную плату капитан принял во внимание его доводы и согласился взять на борт еще четырех пассажиров. Через час после переговоров вся компания, включая Катерину, стояла у входа в цистерну Филоксена.
— Рабочий сегодня не будет, а сторож давайт храпака без задний нога, — с воодушевлением сообщил Заубер.
Построенная во времена императора Константина цистерна была вторым по величине водным резервуаром в столице. До прихода турок ее худо-бедно поддерживали в рабочем состоянии, после чего забросили, правда, в семнадцатом веке обширное подземелье использовалось в качестве мастерской по окраске шелковых нитей…
— И кто такой этот Филоксен? — поинтересовался Сергей у Заубера.
— О, это был такой человек из императорский совет, он как это… вдохновлять строительство, — ответил немец, спускаясь в подземелье первым.
— Был у него, значит, свой интересец, — с уверенностью решил Гроза морей. — Должно быть, расподлец последний, со строителей червонцы драл.
Сергей зажег фитиль лампы и на колонах заплясали причудливые тени.
— Это да. Это может быть. Тут каждый колонна подписан бригадир строительный артель, за этот право, вероятно, надо было заплатить, — отозвался Заубер.
— Башковитый ты, Иоганн Карлыч, — подал голос Терентий. — И откудова всех этих премудростев знаешь?
— Я читаль много умный книжки, и теперь все это храниться в мой голова, — честно ответил немец, осторожно, но уверенно ведя компанию к спуску на второй ярус.
— Ну хорошо, разумник ты наш книжный, а как мы в этот раз нужное место найдем? И потом, как нам воду-то спустить? — опять приступился к немцу Нарышкин.
— Правильно сударь, — поддержал барина Терентий. — А то так и рюматизм подхватить вся недолга.
— Есть одна идей, только надо будет потрудиться, — Заубер достал из заплечного мешка и развернул в руках план подземелья. — Дайте мне здесь свет!
Терентий наклонил к нему свою лампу, которая тут же бросила на каменные столбы зловещую тень.
— Смотрите, это есть чертеж второй ярус: двести двадцать четыре колонна в шестнадцать ряд по четырнадцать колонна в каждый. Так?
Нарышкин внимательно посмотрел на план. Каждая колонна в нем представляла собой небольшой кружок в центре квадратика — колонной базы. Эти кружки и квадратики выстраивались в ряды. Шестнадцать рядов по четырнадцать колонн…
— Скорее, это похоже на шашки, а не на шахматы, — поделился увиденным Гроза морей.
— Теперь смотреть здесь: если мы будем отсчитать по восемь колона с каждый угол, то получать как бы четыре шахматный поле. На каждый из них надо решать наш шахматный этюд.
Заубер, что-то бормоча себе под нос, стал проделывать загадочные пассы над планом подземелья.
— Ты, Иоганн, бросай свое шаманство. Рассказывай, что у нас там вытанцовывается, — буркнул Сергей.
Заубер повторил отрывок из манускрипта:
«На этом поле, сам с собой играя, На третий ряд бойцов своих сдвигая, И, если конница противника к царю поскачет дважды, Ее слоном ты грозно должен встретить. Свети свечой: в том месте будет рыба, Под ней сокровища ты обретешь однажды».— Так это есть несложно. Конь скакать к царю… цвай раз. Это есть ходы — айнс, цвай. Навстречу ему ходить слон.
— И кто кого из них съел? — полюбопытствовал Сергей.
— О, это не есть важно, — отмахнулся Заубер. — Главное, я подсчитать, что в место их рандеву получаться «d4». Мы отмечать такой колонна на каждый из шахматный поле. Получаем четыре колонна. Вот их нужно проверяйт, — удовлетворенный своими рассуждениями, Заубер заулыбался.
— Ну хорошо, и как проверять по пояс в воде? — возмутился Нарышкин. — Ведь ты сам сказал, что ее там выше колена.
— О, это отшень просто: нужно вокруг колонна сделать тюк-тюк-тюк ломиком. Там, где иметься пустота, звук будет другой, — невозмутимо парировал немец.
— Ну да, герр профессор! А вода? Через воду звуки совсем по-другому слышатся! Дайте-ка мне кирку.
Сергей снял висевший на плече у Заубера мешок, достал из него инструмент и занес над головой, собираясь показательно стукнуть им об пол.
В этот момент откуда-то с нижнего яруса донеслись приглушенные звуки ударов железа о камень.
Компания оторопела.
— Что это? — с дрожью в голосе спросила Катерина.
— Это не иначе, как наш старый «друг» Левушка Трещинский! — перейдя на шепот, предположил Сергей. — Опередить нас хочет, бестия.
Нарышкин отдал кирку немцу и выхватил из ножен подаренную кадиаскером шпагу.
— Терентий, ты, брат, останься с Катериной, а мы с Карлычем и господином Брейманом вниз пойдем.
— Как же, останусь я тут в темнотище! Хватит уже с меня, натерпелась. Ни на шаг теперь от себя не отпущу! — Катерина решительно двинулась вслед за Сергеем.
— Ладно, будь по-твоему, — согласился Гроза морей. — Пойдем вниз все вместе. Старайтесь не шуметь, надо посмотреть, сколько их там.
— Если говорить за меня, так я не полезу. Тоже, нашли адиета, — заартачился Моня. — Ше я с этого буду иметь?
— Полезешь за милую душу, — пообещал Нарышкин. — А иметь ты с этого будешь целый букет оплеух, я лично прослежу.
Нарышкин первым спустился на второй ярус и осмотрелся, загасив свою лампу.
В царившем полумраке сложно было определить расстояние до дальнего угла подземелья, откуда и доносились звуки. Однако было видно, что там при свете ламп и смоляных факелов вовсю шла работа. Шестеро турок по пояс в воде долбили кирками каменную кладку стены бассейна. Руководил работами стоявший на мостках европеец.
Дело спорилось, часть кладки уже была разрушена и вода из резервуара с шумом устремлялась куда-то в провал.
— Они отыскать место стока, — догадался немец.
— Отлично, половина работы за нас уже сделана. Теперь надо разогнать турок и прищучить негодяя Левушку, — у Сергея чесались руки поквитаться со своим бывшим однополчанином.
Заубер схватил его за рукав:
— Мы не должен спешить!
— Вы думаете за то, ше они побегут, как цуцики, от вашей шпырялки? — Моня указал взглядом на обнаженную шпагу. — Не делайте мне смешно!
— Хорошо, — согласился Сергей, мысленно пообещав себе прибавить к Мониному «букету» еще пару развесистых «бутонов». — Тогда придется покараулить да поглядеть, чем дело кончится. И тихо там! Сидим тише воды, ниже травы.
Через некоторое время кладка у стены была, по-видимому, окончательно разрушена, и Гроза морей скорее почувствовал, нежели углядел, как уровень воды стал понижаться. Турки вылезли на мостки и загалдели по-своему. Слов было не разобрать, но Сергей догадался, что речь идет о том, чтобы получить «бакшиш» за выполненную работу. Поскольку расчет требовал дневного света, то рабочие и их предводитель стали подниматься вверх по ближней к ним лестнице. Очевидно, имелся еще один вход в катакомбы…
Когда гортанные голоса стихли, Сергей обернулся к своим:
— Терентий, зажигай лампу, уходят! Этот чистоплюй, пожалуй, подождет, пока все здесь не просохнет. У нас мало времени, все за мной!
Воды в бассейне теперь почти не оставалось, она хлюпала под ногами, когда компаньоны спустились в скользкий резервуар.
— Черт, тут внизу что-то шевелится, — посетовал Гроза морей.
— Ой! — тихо взвизгнула Катерина.
— А что вы хотеть, это же небольшой подземный озеро. Нормально, что в нем кто-то обитать, — резонно ответил Заубер, считая колонны.
— Фу ты, нечисть! — выругался Терентий, отбросив от себя что-то ногой.
Нужную колонну, согласно расчетам Заубера, отыскали далеко не сразу. Знака не было ни в одном из четырех вариантов решения шахматной головоломки. Рандеву слона и «конницы» никак не могло состояться. Компания нервничала, то и дело поглядывая в сторону лестницы.
— Погоди, Иоганн Карлович, а с чего ты взял, что надо отсчитывать эти самые шахматные поля с углов, — наморщил лоб Нарышкин. — Почему бы не предположить, что все гораздо проще. Поле только одно, и находится оно в центре подземелья, греки ведь любили симметрию, это я еще, слава богу, по академии художеств помню.
— Точно так! — немец постучал пальцем себе по лбу. — Я есть гросс думкопф… глупый башка!
Он сделал пометку карандашом, нарисовав в центре подземелья квадрат со сторонами в восемь колонн.
Задача с «заблудившимися» слоном и лошадью, решенная на новом участке, выявила искомую колонну, однако знака рыбы на ней не оказалось.
— Тупик, — упавшим голосом сказал Иоганн Карлович.
Внезапно Сергей хлопнул себя по лбу, ибо в процессе подземных поисков это была, пожалуй, самая популярная часть тела.
— Да ведь в тексте сказано «свети свечой»!
— И что? — Заубер оторвался от созерцания колонн. — Что это означать?
— А то, что лампа дает слишком много лишнего света. Из-за этого контуры знака попросту не видны. Слабое освещение лучше выявит светотень. Нам в свое время так ставили свет, когда мы рисовали гипсы. Нужна свечка, понимаете?
— О да, рихтиг! — немец согласно закивал и оглянулся в растерянности. — Но где нам взять этот свечка?
— У меня есть, — Катерина извлекла из полы своего халата огрызок свечи. — Страшно было сидеть взаперти да еще в темнотище, вот я и пригрела к рукам. Думала, «авось сгодится», — пояснила она.
— Есть! — воскликнул Заубер. Свеча очертила на камне выбитый в нем знак рыбы. Он стоял чуть повыше базы колонны, и найти метку удалось, только отодвинув источник света на определенное расстояние.
— Вот оно! — не сдерживая восторга, воскликнул Иоганн Карлович. Осторожно простучали пол под знаком, и в одном месте звук выдал полое пространство.
Ковырнули плиту киркой, но с первого раза она не поддалась. Терентий приволок забытый турками ломик, и дело пошло шибче. Наконец плиту удалось извлечь из пола. Под ней обнаружилась кирпичная кладка. Несколько ударов кирки проломили и ее.
— Давайте, Серьожа! — Заубер дрожащей рукой подтолкнул Нарышкина к пролому.
— Может лучше ты, Иоганн? — неуверенно сказал Сергей.
Немец молча покачал головой и закрыл глаза. Его губы шептали: «Unser Vater in dem Himmel! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme…».
Нарышкин неуверенно опустился на живот и пошарил в проломе рукой.
«Отче наш, иже еси на небеси…», — зашептал и он, чувствуя странный жар во всем теле. На секунду, только на какое-то мгновение, ему показалось, что пальцы наткнулись на струю горячего упругого воздуха.
«…Und vergib uns unsere Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben…»
«…И прости нам долги наши, яко же и мы прощаем должникам нашим…»
— Есть! — радостно воскликнул Сергей и извлек из пролома тяжелый резной ларец.
В наступившей тишине раздался только один звук. Это судорожно дернул кадыком, проглатывая вставший поперек горла ком, Моня Брейман.
Один за другим Нарышкин стал извлекать наружу увесистые, усыпанные драгоценными камнями ларцы и покрытые искуснейшей резьбой деревянные киоты. На колоннах заиграли изумрудные, аметистовые и рубиновые всполохи.
— Шеб я так жил! — сказал Моня, с трудом удерживаясь на ногах. Катерина неожиданно разрыдалась.
— Успокойся, — Нарышкин прижал девушку к себе. — Вот мы и нашли его!
— Amen! — выдохнул Иоганн Карлович.
Глава одиннадцатая КЛИНКИ И РЕЛИКВИИ
«Я знаю, что ночи любви нам даны
И яркие, жаркие дни для войны».
(Н. С. Гумилев)Константинополь пал. Крестоносцы, по рассказам хронистов, разбивали раки, где покоились мощи святых, хватали оттуда золото, серебро, драгоценные камни, «а сами мощи ставили ни во что»; их попросту забрасывали, как писал Никита Хониат, «в места всякой мерзости». Разграбили и собор Святой Софии. Оттуда были вывезены «священные сосуды, предметы необыкновенного искусства и чрезвычайной редкости, серебро и золото, которыми были обложены кафедры, притворы и врата». Войдя в азарт, пьяные вояки заставили танцевать на главном престоле обнаженных уличных женщин и не постеснялись ввести в церкви мулов и коней, чтобы вывезти награбленное добро. От погромщиков, закованных в латы, не отставали грабители в сутанах. Католические попы рыскали по городу в поисках прославленных константинопольских реликвий. Сохранились имена некоторых из этих наиболее усердствовавших слуг Господних, словно в лихорадке предававшихся благочестивому воровству. Так, аббат Мартин Линцский, присоединившийся к банде рыцарей, совместно с ними разграбил знаменитый константинопольский монастырь Пантократора.
Гунтер Пэрисский в своей «Константинопольской истории» писал, что аббат Мартин действовал с величайшей жадностью — он хватал «обеими руками». Безвестный хронист из Гальберштадта передает, что, когда епископ этого города Конрад вернулся в 1205 года на свою родину, в Тюрингию, перед ним везли телегу, доверху нагруженную константинопольскими реликвиями.
В Западной Европе, отмечали современники, не осталось, вероятно, ни одного монастыря или церкви, которые не обогатились бы украденными раритетами. Русский очевидец константинопольского разгрома, автор «Повести о взятии Царьграда фрягами», также не мог обойти молчанием факты открытого надругательства «ратников Божьих» над религиозными святынями и их разграбления. «Церкви в граде и вне града пограбиша все, им же не можем числа, ни красоты их сказати», — писал он.
О грабежах своих соратников упоминал и Жоффруа Виллардуэн. Явно замалчивая или смягчая их бесчинства, даже вкладывая в уста баронов слова сожаления об участи города, «этих прекрасных церквей и богатых дворцов, пожираемых огнем и разваливающихся, и этих больших торговых улиц, охваченных жарким пламенем», Виллардуэн был не в силах удержаться от восхищения богатой добычей, взятой в Константинополе. Она была так велика, что ее «не могли сосчитать». Добыча эта заключала в себе «золото, серебро, драгоценные камни, золотые и серебряные сосуды, шелковые одежды, меха и все, что есть прекрасного в этом мире». Маршал Шампанский не без гордости утверждал, что грабеж этот не знал ничего равного с сотворения Мира. В сходных выражениях высказывался и простой рыцарь Робер де Клари, испытывавший восторг от того, что там были собраны «две трети земных богатств».
В городе завечерело. Ветер, пришедший со стороны Босфора, поднял пыль, в небесах погромыхивал гром. Петляя узкими улочками старого города, обретшие сокровище путешественники устремились к причалу, где их ждала шхуна с контрабандным грузом. На вместительной тележке, выкупленной у зеленщика, прикрытые старым грязным ковром погромыхивали ларцы. Моня, который лучше других освоился в этой части Стамбула, вел компанию наиболее безлюдными переулками и дворами, что было понятно, поскольку странная процессия, появись она на более оживленной улице, не могла бы не вызвать подозрение властей. Со стороны выглядело это так: впереди группы гяуров, воровато оглядываясь по сторонам, семенил вертлявый еврей. За ним, толкая скрипучую тележку, сопел плотный европеец в перепачканном французском мундире, при шпаге и с дамой, которая цепко держалась за его локоть. Далее еще двое подозрительных и грязных типов, тревожно озираясь, тащили за ручки зеленый от времени не поместившийся на тележке сундук. Вся компания находилась в состоянии крайнего возбуждения.
— Я до сих пор не верю в то, что мы Трещинского обставили, — говорил на ходу Нарышкин. — Помнишь, Терентий, как мы в имении навоз ворочали, а этот гад потом воспользовался и пробрался в схрон? Помнишь, как он у нас из-под носа добычу увел? Теперь, видать, наша очередь посмеяться…
— Auri sacra fames… проклятая жажда золота! — как гром среди ясного неба прозвучало на полутемной стамбульской улочке.
Навстречу компаньонам из-за угла выходил господин Трещинский, а за ним появились и стали придвигаться ближе три хмурые личности в фесках. Нарышкин обернулся и увидел, что в конце улочки показались еще несколько головорезов. Пути к отступлению были отрезаны.
— Это засада! — крикнул друзьям Сергей.
— Засада? — противно засмеялся Трещинский. — Пожалуй! А ты, Сережа, думал, что я такой же простофиля, как и ты? Неужели ты поверил, что я позволю тебе воспользоваться плодами моего труда? Хватит и того, что я дал вам проделать последнюю часть работы…
Ненавистный соперник, не сводя с Сергея колючих, прищуренных глаз, подошел к тележке и довольно бесцеремонно откинул ковер.
— Вот оно! — прошептал Трещинский, восхищенно трогая ларцы. — Долго же я искал его!
— Сокровище тебе не принадлежит, — упрямо сказал Нарышкин и потянул тележку на себя.
— Довольно пустых разговоров, — ухмыльнулся Левушка. — Пусть те два красавца поставят сундук на землю и могут убираться ко всем чертям. Все кроме тебя, моншер, свободны. Извини, но тебя я отпустить не могу. Слишком уж ты горяч и опасен. Irritabilis gens poetarum, раздражительно племя поэтов. Еще, чего доброго, опять кинешься за мной в погоню, станешь покушаться на мою жизнь. Мне эти волнения ни к чему.
— Сережа! Я никуда не пойду! — Катерина бросилась на шею Нарышкину.
— Как трогательно! Твоя подруга, кажется, снова захотела в гарем? Мои башибузуки могут все устроить, но это будет неправильно, сударыня, ведь я Вашему батюшке обещал избавить вас от плена.
— Ступайте все, тут уже ничего не поделаешь, их слишком много, — Нарышкин отстранил от себя девушку и вытащил шпагу.
— Стрелять эти бакланы не будут, сударь, это все лукавствие, — Терентий поставил сундук на землю и отцепил висевшую за спиной кирку. — Побоятся, здесь слишком людственно, полицию можно навлечь. Опять же, базар недалече, турки сбегутся…
— Да это есть верно, рихтиг, мы остаемся! — немец вытащил из-за пояса внушительный тесак, который на всякий случай позаимствовал на кухне у грека.
— Вы умные или конечно же дураки? — заюлил Моня, не спуская, однако, алчных глаз с тележки зеленщика. — Я имею сказать, ше надо быстро делать ноги, пока люди проявляют к вам состраданию. Если наскучило жить, оставайтесь, а я сюдой как-то не по делу зашедши.
— Давай, давай, двигай! Пропустите его! — приказал Трещинский.
Моня бочком-бочком обошел вдоль стены вставших на пути компании громил и со всех ног прыснул вниз по улице к пристани.
Турки молча достали ножи и ятаганы.
— Что, Лева, за спины этих нехристей решил спрятаться? У самого силенки маловато? — вызывающе спросил Нарышкин.
— Ладно, подождите, — Трещинский жестом остановил своих башибузуков. — Дам тебе последний шанс, — он распахнул полы флотского непромокаемого плаща, и стало видно, что на боку у него висит сабля.
Левушка бросил своим людям несколько фраз по-турецки, и те неохотно спрятали оружие.
— Хорошо, ты меня убедил, Сережа. В конце концов, я тоже офицер. Не могу я старого приятеля без сатисфакции оставить, тем более, когда он шпажонку с собой прихватил.
— Признаться, у меня тоже руки чешутся с тобой поквитаться, — хмуро сказал Нарышкин. Ангард?!
— К бою… — глухо отозвался Сергей, вставая в позицию.
Клинки со скрежетом скрестились, и поединок начался.
Трещинский оказался очень серьезным противником. Уступая Нарышкину в телесной массе, он брал свое стремительностью и резкостью движений. Польская школа сабельного фехтования недаром имела репутацию одной из самых сильных в Европе. Еще недавно сами турки всерьез утверждали, что исторической родиной сабли является… именно Польша — так велика была слава польских рубак.
Наиболее известным типом польской сабли стала знаменитая «карабель». Про шляхтичей в самой Речи Посполитой говаривали: «Без Бога — ни до порога, без карабели — ни с постели». Именно эта «игрушка» была теперь в руке у Трещинского, и он чертовски ловко с ней управлялся.
Чувствуя свое преимущество, Левушка не спешил сразу разделаться со своим соперником, предпочитая цинично знакомить его с приемами польской манеры фехтования. Всех тонкостей последней Нарышкин не знал, поэтому мгновенно взмок и отбивался с большим трудом.
«Да, это тебе не с престарелым турком сражаться. Резвый дьявол!», — пронеслось в голове у Нарышкина.
Карабель со свистом рассекла воздух, едва не коснувшись подбородка Сергея.
— Этот удар называется «голова». Мотай на ус, друг мой, — усмехнулся Трещинский.
Он снова сделал резкий взмах саблей, и Нарышкин еле успел прикрыть бок гардой своей шпаги. Полетели искры.
— А вот это — «референтский» удар, — прокомментировал Левушка.
Сергей сделал движение, пытаясь пронзить грудь соперника, но Трещинский с легкостью парировал и этот выпад. Кончик шпаги со звоном обломился.
Катерина ахнула. Терентий закрыл глаза. Исход боя всем сделался ясен.
Стремясь выиграть время и продать свою жизнь подороже, Нарышкин отступал, парировал выпады, пытался и сам наносить колющие удары, но каждый раз обломок его шпаги протыкал пустоту. Трещинский нагло улыбался на это и продолжал играть со своим противником как кошка с мышкой.
— Пора, наверное, заканчивать. А то, я вижу, ты утомился, — съехидничал он, знакомя Сергея с очередным приемом.
Шпага укоротилась еще на один обломок, и Нарышкин почувствовал, что еще немного, и ловкий поляк раскроит ему голову…
Он был еще жив только лишь потому, что Трещинский просто продлял себе удовольствие. Но долго так продолжаться не могло, Сергей с трудом отразил гардой очередной «референтский» удар.
В пылу боя никто из сражающихся не заметил, как Иоганн Карлович, прикрывшись тележкой, обследовал содержимое лежащих на ней ларцов и осторожно извлек на свет предмет, завернутый в ветхую ткань.
В это время Трещинский, картинно прищурившись и наклонив голову, готовился нанести свой решающий удар, размышляя: как бы сделать это с наибольшим эффектом.
— Господи, он убьет его, убьет! — простонала Катерина, в ужасе закрывая глаза.
Сергей отбросил в сторону все то, что осталось от его шпаги — помятую бесполезную гарду и, тяжело дыша, следил за своим противником.
— Держите, Серьожа! — крикнул Иоганн Карлович, метнувшись к Нарышкину.
В руке у Сергея оказался холодный металл. Еще не успев разглядеть предмет, казавшийся невзрачным черным куском железа, — Нарышкин схватил наконечник древнего Копья, который считался одной из главных христианских реликвий…
Могучий удар грома, подобный Иерихонским трубам, расколол небеса, как орех, и сотряс все вокруг. Сергею показалось, что окрестные дома зашатались под этим ударом. Пахнуло озоном. Вспышка молнии довершила громовой раскат, ослепив оглушенных, испуганных людей. На землю упали первые тяжелые капли дождя, и вместе с холодом этих капель Нарышкин почувствовал, как рука его, дотоле висевшая плетью, обретает силу. Он сжал Наконечник и, все еще оглохший, шагнул навстречу смерти, минуту назад казавшейся неминуемой.
Теперь все было по-другому. Копье, которое с соблюдением древнего ритуала, выковал для своих тайных целей третий первосвященник Финеес, это самое Копье было теперь в его руке!
Хриплое пение победных фанфар и кровавые реки были спутниками Копья с момента появления его на этом свете. Впитавшее кровь Спасителя, за время своего хождения по миру Оно повидало многое: крики невинных младенцев, убиваемых по приказу Ирода, и стоны воинов Аттилы, орды которого разгромил, сжимая реликвию в руках, король остготов Теодорих.
Священное Копье!
На Него опирался Иисус Навин, наблюдая, как рушатся стены Иерихона. Его метнул в юного Давида царь Саул, с Ним не расставался Карл Великий, Его хозяином объявил себя Фридрих Барбаросса…
С каждым новым владельцем Копье обретало все большую силу, и целые народы преклонялись перед этой силой, способной творить и великое добро, и невероятное зло.
И вот теперь Копье, не желая оставаться во мраке подземелья, вышло на свет, чтобы найти себе новую жертву. И не успело стихнуть рычание грома, как Оно нашло ее…
Трещинский смахнул с глаз капли дождя и взгляд его упал на холодный блик света, коснувшийся священного жала в руке Сергея. Этого оказалось достаточно для того, чтобы Левушка смертельно побледнел и отшатнулся, словно пытаясь увернуться от этого блика, от этого жала.
— Ты не должен! Оно мое! — закричал Трещинский, однако Копье уже сделало свой выбор.
Позже ошеломленный Нарышкин утверждал, что Наконечник сам вырвался из его руки. Как бы там не было, но Копье Гая Кассия Лонгина со свистом рассекло воздух и впилось в грудь человека, который так страстно хотел обладать бесценной реликвией, что шел к этому обладанию по трупам ни в чем не повинных людей.
Трещинский пошатнулся.
У Сергея в мозгу, словно выжженные каленым железом, стали всплывать когда-то слышанные слова и складываться в строчки.
«Но так как была пятница, Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его…».
Левушка снова пошатнулся и растянул тонкие губы в кривой улыбке, запекающейся на его белом как мел лице.
— Да воззрят… на того, Которого пронзили… — прохрипел он, булькая кровью.
— Не обольщайся, Лева, вечная жизнь тебе в отличие от Него не уготована, — сказал Сергей, почувствовав сострадание к умирающему врагу. — Но, как знать, может, Он тебя и простит?
Трещинский стекленеющими глазами посмотрел на торчащий из его груди наконечник и, усмехнувшись, отрицательно покачал головой:
— Иди ты… знаешь куда …моншер! — давясь кровью, выплюнул он, выронил саблю и показал холеным пальцем на мокрые булыжники мостовой, по которой неслись по направлению к Босфору потоки грязной воды.
— Моя сковородка…там, в самом низу…уже греется, — пробулькал он с мрачной иронией, коченеющими руками вырвал из груди Копье и бездыханный повалился на мостовую. Мощный поток подхватил его и вместе с грязью и мусором стамбульских улиц медленно потащил вниз. Еще ниже…
В конце улочки раздался истошный женский крик, наполненный болью и яростью. Это была «Анастасия Нехлюдова».
— Убейте их всех!
Схватка была недолгой. Нарышкин успел выхватить из мутного потока Наконечник и один из нападавших с рассеченным лицом тут же забарахтался в воде. Копье, испившее свежей крови, как будто само выбирало себе жертву. Нарышкина охватил священный трепет, который, похоже, передался и нападавшим. Во всяком случае, близко подойти те уже не рискнули, несмотря на крики разъяренной женщины. Посовещавшись, они повернулись и растворились в одном из боковых проулков. Сергей оглянулся. Тылы удачно прикрывали Терентий с Заубером. Дядька вовсю размахивал киркой, и подступиться к нему было опасно. Иоганн Карлович также успешно отбивался от двух нападавших. Видя бегство части своего воинства, головорезы сделали то же, что их приятели — развернулись и показали пятки.
— Стойте, трусы, куда вы? — в отчаяньи кричала Анастасия, но ее никто не слушал.
— Похоже, наша взяла, а, Карлыч? — с содроганием глядя на Копье и все еще не веря в то, что произошло, спросил Нарышкин.
Заубер обернулся, и в этот момент хлопнул негромкий выстрел.
Анастасия отбросила в сторону разряженный пистолет и, пошатываясь, последовала за убегавшими башибузуками.
Иоганн Карлович прислонился к стене и медленно сполз на мостовую. Поток тут же образовал возле него пенные буруны. Рука, которую Заубер почему-то прижимал к левому боку, вся оказалась в крови.
— Это есть шлехт. Простите, меня, кажется, задевайт, — виновато улыбнулся он.
К отплытию контрабандистов и Мони компаньоны все же успели. Нарышкин дотащил немца на себе. И хотя рана Заубера была перевязана сорочкой Нарышкина, он потерял много крови и был очень бледен.
— Нужно найти доктора! — Сергей был в замешательстве. Можно ли брать немца в море?
— Не надо доктора. Я справиться. Рана не есть глубокая. Просто крови немножко потеряль, — говаривал товарища Заубер. — Ты не сметь рисковать тем, что у тебя в тележка. Надо отплывайт немедленно.
Сергей, скрепя сердце, подхватил немца, дядька вкатил по сходням тележку, вслед за ними поднялась на борт и Катерина.
— Ну и ловкий же Вы человек, Сергей Валерианович, из всякой пертурбации выйдите. А я так сразу решил: побегу, чтоб паруса подымали, чтоб значит…
Договорить Моня опять не сумел, поскольку получил увесистую оплеуху.
— Да что Вы деретесь, как скаженный?! Нельзя Вам и слово сказать! Эй, там, отплываем! — заорал на подряженных контрабандистами моряков-греков Моня. — Отдать концы!
По камням пристани загрохотал экипаж. Из кареты выпорхнула рыжеволосая турчанка.
— Сергей! Серьёжа! — во весь голос закричала женщина и призывно замахала руками.
Но шхуна, медленно набирая ход, уже двинулась из гавани на север.
— Кто это? — сурово спросила Катерина у Сергея.
— Это одна знакомая француженка. Она… — договорить Нарышкин не успел: Катерина влепила «грозе морей», обладателю сокровищ и победителю в дуэли звонкую пощечину, а сама в рыданиях упала на сваленные на палубе мешки.
— О как! — констатировал Моня.
Шхуна, не зажигая огней, чтобы не привлекать внимания лишних глаз, выбиралась из теснин Босфора. Этому способствовала черная, смоляная ночь, которую лишь изредка озаряли далекие всполохи уходящей грозы. Зауберу стало как будто немного легче, и его уложили на палубе возле мачты, чтобы меньше качало. Перед тем как заснуть, Иоганн Карлович подозвал к себе Сергея.
— Где оно?
Нарышкин, поняв, достал из-за пазухи сверток с Копьем и с неохотой подал его немцу.
— Вы уже не расставаться с ним? — спросил Заубер, с тревогой глядя в глаза Сергею. Нарышкин отвел взгляд. Иоганн Карлович развернул сверток и взял в руки тускло мерцавший в темноте Наконечник. Красноватая капля, казалось, все еще дрожала на его острие.
— Сколько людей … — пробормотал немец, хмуро разглядывая темный металл. — Целые народы убивать друг друга с Его помощью.
— Ну, посмотрел и будет, — заволновался Нарышкин. — Ложись-ка лучше спать, утро вечера мудренее.
— Оно не станет больше делать зло, — почти торжественно сказал Иоганн Карлович и, прежде чем Сергей смог его остановить, размахнулся здоровой рукой и швырнул Священное Копье за борт. Наконечник сверкнул летучей рыбкой, напоследок мигнул кровавым бликом и бесшумно исчез в водах Босфора.
— Зачем Вы…ты… это сделал? — только и успел сказать Сергей.
— Так было надо, Серьожа, Вы потом будете понимать, — ответил Заубер, откинулся на соломенный тюфяк и забылся крепким сном.
Сергей просидел на корме до самого рассвета, наблюдая, как постепенно удаляются и гаснут в утреннем тумане огни Стамбула. Под утро он слегка задремал, но сон не шел. После того как Копье отправилось на дно Босфора, Нарышкин испытал странное, непонятное облегчение, однако где-то в уголке его души все еще свернулась клубком смутная тревога.
— Кара дениз! — сообщил шкипер, хмурый седоусый грек в пунцовой феске, которая каким-то чудом держалась на его голове, упорно не желая слетать под напором густых пепельных волос. Звали его Христо, фамилия была подходящая для управления посудиной — Капитанаки. Сергей посмотрел вперед. Берега расступались, и насколько можно было видеть в розоватой туманной дымке, все пространство вокруг занимала теперь водная ширь, украшенная пенными «барашками».
— Черное море! — с восторгом повторил Сергей. — Еще немного — и мы дома…
На просторе шхуну закачала крутая черноморская волна. Поднялся порывистый попутный ветер. Шкипер, скаля белые зубы, засмеялся и кивнул Сергею как старому приятелю.
— Хорошо! — крикнул он, снял феску и отбросил ее в сторону. Ветер сразу растрепал его седые кудри.
— Хорошо! — крикнул в ответ Сергей.
— Что только на себя не напялишь, лишь бы нехристи меньше в душу лезли, — пояснил грек, предупреждая вопрос Нарышкина.
— Это верно, — согласился Гроза морей, покосившись на свой грязный китель.
Шкипер отдал распоряжение трем босякам, составлявшим экипаж, те добавили парусов, и посудина побежала быстрее. За кормой показалось и постепенно стало приближаться темное пятнышко. Вскоре в нем можно было различить очертания парусника. Христо снова нахмурился и долго лорнировал судно в зрительную трубу.
— Это не таможенный корабль, — пробормотал он. — Какого дьявола ему от нас нужно?
На палубу выбрался заспанный но, довольный Моня. Вчерашние тумаки, которыми награждал его Сергей, похоже, не оставили следа в его памяти. Почувствовав запах наживы, Брейман лоснился, потирал руки и посматривал по сторонам с адмиральским видом.
— Добрейшее утро! — сказал он, по-хозяйски осматриваясь вокруг. — Ну что, берегите слюни, потому ше скоро они нам понадобятся. Будем подсчитывать крупные кипюры!
— А этому все как с гуся вода, — не скрывая своего отношения к торгашу, буркнул Нарышкин.
— Чудное утро, в воздухе полно озону! По курсу у нас Порто-Франко, одесские каштаны и девочки с Ришельевской. Скоро мы с вами будем там, где:
«Язык Италии златой Звучит по улице веселой, Где ходит гордый славянин, француз, испанец, армянин И грек, и молдаван тяжелый, И сын египетской земли Корсар в отставке Морали…»Моня продекламировал все это с самодовольной улыбкой, но вот взгляд его упал за корму, и улыбка тут же исчезла, как будто кто-то смахнул ее корабельной ветошью.
— Ше этот гад вытворяет? Откуда он взялся?! — самодовольство вмиг слетело с Бреймана, и он растерянно развел задрожавшими руками. — Надо что-то делать, а, господа?
Между тем, корабль за кормой стремительно приближался, так что у Сергея не оставалось сомнений относительно его намерений. Бухнула пушка, и ядро шлепнулось в воду прямо по курсу шхуны, недвусмысленно давая понять, что той следует лечь в дрейф. На палубу, привлеченные выстрелом, выбрались все, кто был на борту. Катерина, прижавшись к Нарышкину, спросила коротко: «Это они за нами?» Сергей кивнул, рассматривая стремительный красивый силуэт догонявшего их судна, его длинный бушприт, две слегка отведенные назад мачты.
— Это она, «Калифорния», и есть, — сообщил Терентий.
Яхта нагнала их и шла теперь параллельным курсом. В зрительную трубу хорошо были видны фигурки матросов, суетящихся на палубе.
— Если бы я не видел своими глазами смерть Трещинского, я бы подумал, что у него, как у кошки, девять жизней… — пробормотал Гроза морей.
— Это не есть Трещинский. — подал слабый голос Иоганн Карлович. — Это Анастасия. Сергею показалось, что он видит злодейку, стоящую на палубе со скрещенными на груди руками. «Должно быть, в этот миг она чертовски хороша…». Между тем, матросы на яхте открыли замаскированные для посторонних глаз орудийные порты.
— О, бог мой, да у них полно пушек! — всполошился шкипер. — Убираем паруса, ребята, не то один их залп и — «бона сера», привет рыбам!
Матросы кинулись исполнять его поручение. Грек, встретившись взглядом с Нарышкиным, потупился и развел руками — мол, ничего тут не попишешь.
— Иоганн, что будем делать? — Сергей наклонился к раненому. — Выходит, все прахом? Неужели эта змея так просто все заграбастает!?
— У меня нет идея, — поморщившись от боли, ответил немец и внимательно посмотрел в глаза Нарышкину. — Кто у нас есть «Гроза морей», я или Вы, Серьожа?
— Нашел тоже время выяснять! — разозлился Сергей. — Теперь эта пиратка завладеет всеми реликвиями! И Венец, и Риза Богородицы, и вообще все сокровище ей достанется?!
Заубер не отвечал, продолжая испытывающе глядеть на Сергея, словно пытаясь проникнуть в его душу.
— Стоп…погоди-ка, Риза… ты что-то рассказывал мне про то, как ее погружали в залив, и тогда…тогда поднималась буря! Ну да!
Сергей вскочил, пытаясь осмотреться и оценить ситуацию. Во время дрейфа суда немного развернулись по отношению друг к другу. Яхта покачивалась теперь боком к волне, прикрывая собой шлюпку, которую спускали с ее подветренного борта. Поддавшись внезапному порыву, вызванному неким странным наитием, Нарышкин кинулся в трюм.
— Чего это он, будто нахлестанный, мечется? — с тревогой спросила Катерина. — Я ведь его, вихрастого, и понять порой не умею. Как бы беды не натворил!
— О нет, найн, он все делать правильно! — странно улыбаясь, ответил Заубер.
— Шкипер! — крикнул Гроза морей, выскакивая на палубу. — Закрепи все веревки, паруса…что там у тебя есть?!
— Такелаж, сударь, — подсказал дядька Терентий.
— Ну да, это самое. Чем поправлять, лучше держи-ка меня крепче, старый дурень!
В руках у Сергея был бережно свернутый кусок некогда белой материи. Прижимая его к груди, Нарышкин свесился с борта шхуны к самой воде. Волна окатила его с ног до головы.
— Держи меня крепче! — крикнул Гроза морей, пытаясь расправить в воде Покров. — И вы все там, держитесь!
— Самое же время устроить постирушки, — возмущенно воскликнул Брейман. — Нет, ну как вам это понравится?!
— Держитесь! — отплевываясь от брызг, снова закричал Нарышкин. — Дядька, ты молитвы знаешь?
— Как не знать! — откликнулся Терентий, изо всех сил пытаясь удержать Сергея за ноги.
— Ну, так молись!
— Ох ты, мать честная! — заорал дядька, обхватив ускользающие ноги барина и одновременно стараясь не последовать через борт, вслед за ним. А дальше произошло то, чего никто не ожидал. Стремительно налетевший невесть откуда порыв ветра приподнял шхуну на особенно крутой волне и положил ее на борт.
— Шквал! — истошно завопил шкипер. — Помоги нам святой Николай!
Нарышкин, подброшенный волной, вылетел из воды и вместе с дядькой хлопнулся на палубу. Все покатились кувырком в пенном водовороте, в котором замелькали руки, ноги, испуганные лица… Больно ударившись плечом о мачту, Нарышкин обхватил ее руками, одновременно пытаясь затолкать Покров себе за пазуху. Некоторое время казалось, что шхуна опрокинется. Но вот водяной вал схлынул, оставив на мокрой палубе кучу беспорядочно копошащихся и отчаянно цепляющихся за снасти тел. Судно, будто размышляя о том, стоит ли ему жить или уйти в пучину, подрагивало всем корпусом и все еще кренилось на подветренный борт. Затем стало выпрямляться, пока наконец не закачалось мерно и спокойно на волнах, сразу ослабивших свой натиск.
— Все живы? — подал голос Сергей.
— Кажись, все! — отозвался дядька.
Нарышкин с трудом поднялся и, морщась от боли в плече, взглянул на товарищей. Они были здесь и, на первый взгляд, отделались только ушибами.
— Эх-ма, а где ж яхта? — оглядевшись по сторонам, удивился Терентий. Сергей посмотрел в ту сторону, где должна была находиться «Калифорния», и ничего не увидел. Только несколько обломков кружились в водовороте пены и гейзера воздушных пузырей, бьющего из воды.
— Бог мой, что Вы сделали? Я никогда такого не видел! — истово перекрестившись, спросил у Нарышкина перепуганный шкипер.
— Я помолился, — убирая со лба налипшие волосы, ответил Сергей. — Я просто помолился, — добавил он, чувствуя странное тепло за пазухой, там, где лежал, прильнув к его груди, невзрачный кусок светлой материи — Покров Богородицы.
Глубокой ночью Нарышкин, Катерина, Терентий и Заубер высадились в Балаклаве, куда шхуна завернула по настоянию Сергея. Причалили напротив руин генуэзской крепости, ориентируясь на маячный огонь, горевший на верхней площадке донжона. Едва не запутавшись в ставленых сетях, компания перебралась на берег. Стараясь не шуметь, на скалы перегрузили багаж. Прощаясь, Нарышкин дружески хлопнул шкипера по плечу и сухо кивнул Брейману:
— Желаю удачи. Впрочем, вашему брату ее, кажется, не занимать. Надеюсь, мы уладили все наши финансовые вопросы?
— Шеб беспокоиться за это, таки нет, с нашим почтением! — раскланиваясь, пропел Моня.
Резко повернувшись к нему спиной, Сергей взглянул вперед. Там, в извилистой тихой бухте крепко спал казавшийся вымершим городишко. Ни огня. Только сонно помаргивающий красноватый фонарь таможенного поста выдавал присутствие людей.
— Где это мы, Сережа?
В темноте Катерина отыскала локоть Нарышкина и боязливо стиснула его.
— Не волнуйся, — успокоил ее Гроза морей, — все плохое уже позади.
Сергей вдохнул аромат сухих крымских трав. Лицо его погладил прохладный ветерок, в котором, кроме благоуханий степного разнотравья, почудился запах костра, хвои и печеной картошки.
— Мы дома! — сказал он и улыбнулся.
Эпилог
В Одессе всю партию контрабанды Бреймана поначалу арестовали. К тому же со всех сторон к Моне приступили кредиторы. Для любого другого это кончилось бы долговой тюрьмой. Однако уже через пару дней хитрый малый был на свободе и открыто разъезжал по городу в новом экипаже. Впрочем, примерно через месяц его роскошной жизни пришел конец, потому что Моня все-таки «погорел» на одном неприглядном, с точки зрения местных порядков, деле. А именно: пытался продать правоверным одесским евреям некий продолговатый предмет, который старательно выдавал за посох Моисея. Такое кощунство крайне оскорбляло религиозные чувства, как жителей Молдаванки, так и обитателей Ярмарочной и Александровской площадей, Пересыпи, а также прочих районов города.
Большая и шумная толпа, долго гоняла Бреймана по Одессе, пока, наконец, он не был изловлен на углу Полицейской и Преображенской улиц. Моня был крепко бит и много плакал, клянясь, что посох подлинный. Ему, конечно, не поверили. По совету Фимы-американца, который два сезона плавал стюардом на пароходе «Арканзас», Моню судили судом Линча. То есть обваляли в смоле и перьях, привязали к вышеупомянутому посоху и в таком виде протащили несколько кварталов. Моня снова плакал, но стоял на своем. И тогда, в качестве еще одного аргумента убеждения, почитатели заветов Моисея сломали оный посох о спину лжеца.
После этого памятного события следы Бреймана в нашей истории теряются.
* * *
О Якове Ланжероне нам известно немногое. После шумного дела с дирижаблем он потерял интерес к воздухоплаванию и перекинулся на создание самодвижущих экипажей. Его до крайности воняющие нефтью коляски исправно пыхтели, сотрясались, отравляя воздух выхлопами, но трогаться с места отказывались. Несколько неудачных моделей охладили изобретательский пыл Якова Аркадьевича. Однако удачная встреча с миловидной матросской вдовой разожгла в нем иной пыл — любовный — и в корне изменила жизнь бывшего инженера. Ряд бессонных ночей, проведенных им в мастерской, родил венок удачных (по мнению Ланжерона) сонетов, посвященных вдове. Это расположило обоих к тому, чтобы закрепить удачу заключением семейного союза, весьма успешного, по соображению обитателей Арбузной гавани.
Изобретательство Ланжерон забросил совсем и занялся писанием стихов, а также совместным воспитанием своих сопливых отпрысков, число которых вскоре удвоилось.
* * *
Иоганна Карловича в Севастополе пришлось положить в госпиталь. Терентий остался при немце сиделкой. Средства на лечение, как и на последующее возвращение компаньонов из Крыма, щедро отсыпались из найденных в Стамбуле ларцов.
Поправившегося от раны Иоганна Карловича видели в Нижнем Новгороде. Немец, которого там все давно считали покойником, объявился тайно и внезапно, чем поверг в тихий ужас всю германскую диаспору. Выглядел «мертвец» помолодевшим на десяток лет — приключение явно пошло ему на пользу. Убоявшись роли соотечественника в «деле о сгоревшем театре», колбасники собрали кое-какие деньги и быстренько выпроводили неудобного земляка из города. Впрочем, Заубер и не сопротивлялся, тем более что его «безутешную вдову» смог таки утешить местный лютеранский пастор, который уже неплохо совмещал службу господу с управлением известной нам гостиницей. Уезжая из Нижнего, Иоганн Карлович обмолвился о некоем деле, сулящем огромный капитал, которое он затеял с одним отставным поручиком…
С той поры о беспокойном немце не было ни слуху, ни духу. Дела бывшей фрау Заубер к этому времени пришли в крайне плачевное состояние. Ее пастор перешел в мусульманство, стал многоженцем и переехал на жительство в Казань.
Шло время, и вот как-то, в канун Рождества, посыльный принес удрученной женщине пакет, раскрыв который «вдова» обнаружила там редкой красоты большой темно-зеленый изумруд. Поскольку никакой записки, сопровождающей камень, не было, фрау Заубер отнесла его появление к чудесам, которые, как известно, случаются иногда под Рождество с истинно верующими лютеранками…
* * *
От Балаклавы до средней полосы России Нарышкин решил добираться с шиком, что и стал делать в присущей ему манере. И если Севастополь позабыл о лукулловых пирах, которые Сергей закатил флотскому экипажу, то это объясняется теми грозными событиями, которые вскоре пережил город во времена его осады войсками англо-франко-турецкой коалиции.
Трогательно простившись с товарищами, Нарышкин продолжил свое триумфальное возвращение в Россию. Его передвижение в купленном по случаю дорогом, но чертовски комфортном экипаже продолжалось вплоть до одного из постоялых дворов в Малороссии. Здесь Гроза морей угощал всех и каждого, требовал подать то да се, «слегка», по собственному мнению, продулся в карты и дал хозяину корчмы такие чаевые, о размерах которых по всей округе еще долго ходили самые невероятные слухи.
Утром, когда Нарышкин пытался прогнать пивом последствия от местной гороховой горилки, выяснилось, что часть их с Катериной поклажи пропала вместе с одним из постояльцев — солидным с виду помещиком. Да и сам корчмарь тоже как в воду канул, бросив заведение и свою глухую или прикидывающуюся таковой корчмарку. Нарышкин почти не переживал, благо злодеи, забрав часть камней и золотых украшений, до главных реликвий так и не добрались.
Остальной путь до дома был куда как скромнее. Катерина взялась приглядывать за оставшейся кладью сама. На постоялых дворах уже не останавливались, и верстовые столбы, мелькавшие мимо окон, слились в сплошную черно-белую ленту. Катя настаивала на том, чтобы ехать без остановок, и Нарышкин, доверившись будущей супруге, согласился. Это и стало причиной того, что уже за Курском на опасном отрезке лесного пути, когда уставшим лошадям пришлось идти шагом, экипаж остановила ватага оборванных, вооруженных топорами и дубьем мужиков. Гроза морей бился как лев, положил троих; он и наемный кучер получили легкие ранения, но весь оставшийся багаж, который находился снаружи экипажа, был безвозвратно потерян. Уцелело лишь то, что Катерина сумела припрятать внутри кареты. Сергей к очередной потере отнесся философски и, утешая невесту, выразился в том смысле, что во всем этом есть определенная логика. Мол, с чего началось тем и закончилось. Катерину это, впрочем, мало утешило, и всю оставшуюся дорогу она проплакала.
В усадьбе дела оказались из рук вон плохи: последние крестьяне, страшась следствия, разбежались, земля запустела, дом окончательно обветшал. Мечта Катерины об уютном гнездышке в деревне рушилась на глазах. Нарышкин, видя такое дело, вошел в разум, кой-чего поправил сам, что-то сделали отловленные им мужички, и к зиме в доме было если и не совсем уютно, то, по крайней мере, тепло.
Привезенные из-за моря святые цареградские реликвии Сергей передал на хранение отцу Федору — настоятелю церкви соседнего села Троицкого. В этом храме Нарышкин и Катерина наконец-то обвенчались. Долгую снежную зиму коротали тем, что… А впрочем, и так ясно, что можно делать молодоженам в занесенной снегом усадьбе, когда в пятом часу на дворе уже темно.
За этими занятиями незаметно подступила весна, подкатило лето, а по осени Сергей получил загадочное письмо от Заубера. На послании стоял лондонский штемпель, и, взглянув в глаза супруга, Катерина все поняла. Уехал Сергей в один из хмурых октябрьских дней, когда мелкий дождь сеялся на багряные и желтые листья, облепившие крышу родительской усадьбы.
* * *
Вскоре после его внезапного отъезда на руках у молодой барыни появился розовощекий карапуз, как две капли воды похожий на Сергея. Мальчика назвали Алешей. Молодая мамаша оказалась весьма расторопной и поспевала приглядывать и за малышом и за дворней. Катерина… Екатерина Степановна.
Вдруг сразу же раздобревшая, как на дрожжах, хозяйка легко освоилась с ролью помещицы: возвратившихся крепостных удерживала в почтении к себе, самолично гоняла мальчишек, повадившихся таскать яблоки из барского сада и, круто обходясь с перекупщиками, твердо держала цену на зерно и скот. Через пару лет имение стало процветать, а еще через год к соломенной вдовушке начал подбивать клинья господин Дерябин…
* * *
В предместьях Севастополя на старом кладбище, среди сотен простецких матросских могил стоит массивный каменный крест. Фамилия покойного не сохранилась, на известняке осталось только почти стершееся имя: Терентий. Местные старожилы уверяют, что здесь похоронен моряк, памятник которому поставил какой-то заезжий барин. Дескать, служил когда-то у него покойный, вот тот его и почтил. Сам выбрал место для могилы — на косогоре, чтобы с этого места хорошо были видны медленно выползающие из бухты и уходящие к горизонту корабли.
P. S. Реликвии, переданные отцу Федору на хранение, так и остались в маленькой церквушке села Троицкое. Обломок креста и покров Богородицы были помещены в ларчик, искусно выполненный местным резчиком Семеном-хромым. Ларец этот вплоть до тридцатых годов следующего века стоял в алтарной части церкви. По большим праздникам ларь выносили к народу, и к резным крестам его прикладывался различный православный люд. Хотя никто даже не догадывался о том, что же на самом деле находится в дароносице, дела у богомольцев после этого шли на лад. Бабы исправно беременели, мужики брались за ум и прекращали пить, больные исцелялись, бедные справлялись с нуждой, а богатые щедро жертвовали на храм и раздавали милостыню нищим гораздо больше обычного.
Летом 1932 года такая благодать прекратилась — настоятель храма отец Леонид, опасаясь разграбления церкви воинствующими безбожниками, вместе с другой церковной утварью замуровал ларец под каменными плитами пола в левом притворе церкви, повесил на храм замок и скрылся в неизвестном для интересующихся им органов направлении. Местный балагур и весельчак Мишка по прозвищу «оторви и брось», будучи в то время комсомольским вожаком, решил превратить оставленный без присмотра храм в сельский клуб, для чего самолично полез на купол свергать крест. Но сверзился сам. Был ли тому виной выпитый для храбрости самогон, или нога у него подвернулась — не ясно, только грохнулся Мишка оземь на виду у всей своей безбожной ватаги. Жив остался, да только хребет сломал. В бессилии развел руками районный доктор. Отказали у парня ноги, и стал он стой поры действительно — «оторви и брось». Мишка жрал «в три горла» горькую и, как волк, выл по ночам по своей загубленной молодой жизни.
С той поры Троицкую церковь оставили в покое, и никто больше не решался устроить в ней ни мастерские, ни склад. А в сорок первом трех километров не дошли до Троицкого немецкие танки. Будто кто черту ровную по линии Мценск — Новосиль — Верховье — Ливны провел, и не прошли они дальше. Ни на метр не двинулись. В сорок втором, когда вышло от властей послабление для религии, возвратился в село отец Леонид, но ларец так и остался под полом. Запамятовал батюшка, под какой именно плитой реликвии скрыл, а наугад покрытие взламывать не стал, да и силы уже не те были. Решил, что святость — она теперь во всем храме обретается; раз в земле, так и над землей тож.
Когда же погнали немцев на Курской дуге, провел отец Леонид благодарственный молебен об избавлении от вражеского нашествия. Вещал старческим, осипшим в лагерях голоском немногочисленным своим прихожанам — бабам да ребятишкам — о том, что пока стоит храм посреди земли русской, и Россия стоять будет.
От авторов
Этот роман писался не скоро — шесть лет. А последние точки с запятыми были расставлены 14 октября 2009 года. В день Покрова Пресвятой Богородицы. Мы не старались подгадать, само собой так вышло…
Орел — Москва 2003–2009 годыПримечания
1
«МОЗОЛЬСКОЕ» — искаженное Мозельское, сорт белого полусладкого немецкого вина, делается большей частью из недозрелого винограда.
(обратно)2
несессер — происходит от франц. necessaire, что буквально переводится, как необходимый, это дорожный футляр или небольшой чемодан с предметами туалета
(обратно)3
кельнская вода — одеколон, eau de Cologne (фр)
(обратно)4
«живейный» извозчик — легковой, городской, дрожечный, разгонный, для отличия от ломового, рабочего.
(обратно)5
амбаркадер — фр. место, откуда пассажиры садятся в вагоны, на железных дорогах; то же, что дебаркадер
(обратно)6
гренада — граната, пушечное ядро с языками пламени
(обратно)7
Бутефал — (искаженное Буцефал) конь Александра Македонского
(обратно)8
гальюньщик — матрос, уборщик отхожего места на судне
(обратно)9
Vieille sotte — фр. старая дура
(обратно)10
Боже, как он громаден!
(обратно)11
Прошу прощения… сударь
(обратно)12
Как это по-московитски!
(обратно)13
мне нравится эта картина
(обратно)14
Tres bien? — Все хорошо?
(обратно)15
Oui! — Да.
(обратно)16
Je ne comprends pas — Я не понимаю.
(обратно)17
Mademoise lle, faites apporter… — Сударыня велите принести…
(обратно)18
de viande, un fromage, du raisin… — мясо, сыр, виноград
(обратно)19
S'il vous plait — Пожалуйста.
(обратно)20
Comment vous appellez-vous? — Как вас зовут?
(обратно)21
Je m'appelle — Меня зовут
(обратно)22
Je viens de Russie, et vous? — Я из России, а вы?
(обратно)23
Bon appetit — Приятного аппетита
(обратно)24
que ce beau — как это прекрасно!
(обратно)25
Помогите! Вызовите полицию!
(обратно)26
Держи вора! Пожар! Полиция!
(обратно)27
Не трогать… Я желаю дуэль!
(обратно)
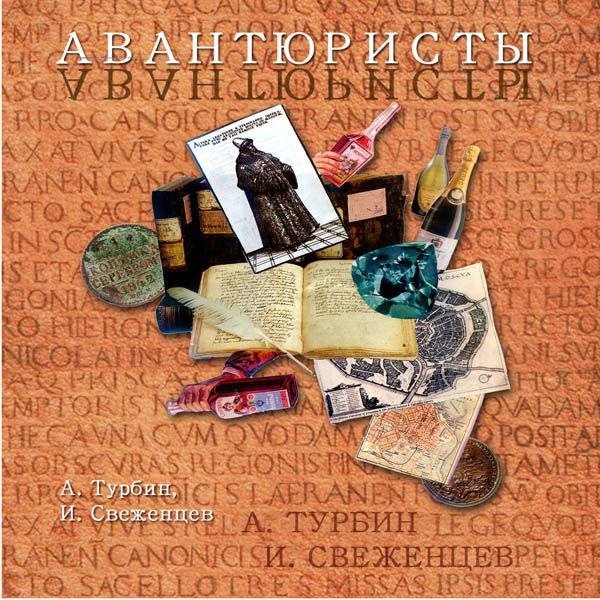



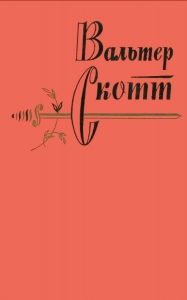

Комментарии к книге «Авантюристы», Андрей Турбин
Всего 0 комментариев