Перевод: Анатолий Тимофеев
Редакция: группа «Исторический роман»
Часть первая
Город Пушкин, 1941 год
Действующие лица:
Доктор Герберт Волтерс, ротмистр
Доктор Ганс-Хайнц Руннефельдт, зондерфюрер
Юлиус Пашке, унтер-офицер
Михаил Вахтер (Михаил Игоревич Вахтеровский), смотритель Янтарной комнаты
Яна Петровна Роговская, его невестка
Генерал Ульрих фон Кортте, командующий армейским корпусом
Генерал Джобс фон Хальденберге, командующий армейским корпусом
Генрих Мюллер-Гиссен, майор спецштаба в Розенберге
Генрих Браунфельд, группенфюрер СС, полицейская дивизия
Генерал Виталий Богданович Зиновьев, командир дивизии советских войск
Полковник Николай Михайлович Лимонов, командир бригады советских войск
Лев Семёнович Вехов, младший лейтенант
Виктор Янисович Золотвин, красноармеец
Доктор Йорг Панкратц, капитан медицинской службы
Доктор Ганс Филлип, младший врач
Фрида Вильхельми, старшая медсестра
Карл Блудеккер, санитар
Эрих Кох, гауляйтер Восточной Пруссии
Бруно Велленшлаг, руководитель администрации области
Доктор Вильгельм Финдлинг, директор музея в Кёнигсберге
Марта Финдлинг, его жена
а также:
Адольф Гитлер
Мартин Борман, один из руководителей рейха, шеф партийной канцелярии
и другие.
...
Её нельзя было назвать красивой. Сальные пряди черных волос закрывали ей лицо. На платье налипла засохшая грязь и солома, в старой ткани запутались жухлые и побуревшие дубовые листья… При первом взгляде это вызывало раздражение. Но если убрать эти космы с лица, то на вас устремлялся пристальный взгляд красивых, почти черных глаз.
Маленький нос, широкие скулы, намекающие на татарские корни, а губы с изящным изгибом сейчас были перекошены от страха и отчаяния и дрожали.
Младший лейтенант Лев Семёнович Вехов предпочел бы оказаться где-нибудь в другом месте, а не оценивать здесь ее достоинства. Он не вытер кровь с левого виска девушки, красной струйкой стекающую вниз по щеке до самого горла, просто не видел в этом необходимости — на девушке была немецкая шинель. А под шинелью, грязной, как и всё остальное, он заметил платье сестры Красного креста с заколотым круглой брошью воротом. То есть фашистскую форму, вызывавшую у Льва Вехова жгучую ненависть.
— Что скажете, товарищи? — спросил он, вынув из кобуры тяжелый пистолет и покачав его в ладони, будто оценивая вес. — Это же шпионка! Ведь на ней немецкая форма, так? И пряталась она в лесу, в этой норе, так? Разберемся по-быстрому и двинем дальше! Нечего тут рассусоливать.
Небольшой отряд советских солдат как нарочно сделал привал в этой части леса. Спецподразделение, состоящее из девятнадцати человек, вместе с десятью пустыми грузовиками направлялось к расположению третьей роты Второго гвардейского полка, чтобы спасти из дворцов под Ленинградом то, что еще можно было спасти за такой короткий срок. Прекрасным солнечным утром 22 июня 1941 года немецкая армия напала на Советский Союз — без объявления войны и по всей линии границы.
Пикирующие бомбардировщики, известные как «Штука» (от немецкого Sturzkampfbomber), с воем обрушились с голубых высот на деревни, города и людей, вся военная техника пришла в движение, какого мир ещё не видывал. Воспользовавшись шоком и парализующим ужасом, немецкие войска неудержимо вонзались вглубь советской земли, гнали советские дивизии и верили, как до этого в Польше, в очередную быструю победу. Их танки громили населённые пункты, а за ними нескончаемыми колоннами шла пехота, артиллерия расчищала ей дорогу через горящие посёлки и растерзанные колосящиеся поля.
Немцы уже находились на подступах к Ленинграду, их самолеты бомбили город и его окрестности. Тысячи людей — старики, женщины и дети — копали широкие рвы для противотанковых заграждений и глубоко эшелонированных линий обороны. По всему участку фронта наступление немецких войск разбилось о героическое сопротивление советских дивизий, и начальник Ленинградского штаба, генерал-майор Никишев, доложил начальнику Генерального штаба Красной армии, генералу Борису Михайловичу Шапошникову:
— У меня больше нет резервов. Даже самое незначительное наступление врага можно отразить только быстрым маневром отдельных подразделений.
Восьмого сентября маршал Георгий Жуков получил приказ Сталина прибыть в Москву, в Кремль.
Сталин принял его сразу же, протянул обе руки и сказал:
— Георгий Константинович, примите мои поздравления и моё глубокое уважение. Вы задержали фашистских агрессоров на центральном участке фронта. Это большой успех! Теперь немцы увидят нашу силу. Что вы намерены делать дальше?
— Вернусь обратно на фронт.
Жуков удивлённо посмотрел на Сталина. Его вызвали в Москву, чтобы поздравить? Только для этого? Любой, знающий Сталина так же хорошо, как он, не поверил бы.
На мгновение Жуков озадаченно замолчал. Но потом понял причину, по которой находится здесь, в Кремле, в самом сердце советской обороны.
— На тот фронт, куда вы меня направите, товарищ Сталин, — сказал он.
— Тогда немедленно вылетайте в Ленинград, Георгий Константинович. — Лицо Сталина посерьезнело, в черных глазах мелькнула печаль. — Там положение почти безнадёжно.
Девятого сентября маршал Жуков приземлился на аэродроме под Ленинградом. Над Ладожским озером его самолёт преследовали два немецких «мессершмитта», пока, наконец, не подоспели советские истребители, и тогда «мессершмитты» изменили курс. Маршал Ворошилов, главнокомандующий Северо-Западным фронтом, как называлась северная группировка советских войск, встретил своего преемника Жукова и трёх прибывших с ним генералов с написанным на лице разочарованием, прочитал письмо Сталина и грустно кивнул.
— Совсем я постарел, — устало сказал он. — Ну, раз надо, значит надо. Война теперь не чета гражданской. Сейчас нужна другая тактика, Георгий Константинович... Сталин хочет от меня избавиться?
— Вы его старый друг…
— Но я не справился...
— Дело не в этом… Просто немцы продвинулись быстрее. Вот и всё. Что станет с Ленинградом? Не знаю. Возможно, скоро я последую за вами, Климент Ефремович. Я буду действовать по-другому, но правильно ли, покажет время. Можно ли спасти город? Выдержим ли мы блокаду?
— Мы должны быть готовы к худшему.
Ворошилов подошел к окну своего большого рабочего кабинета и посмотрел на затянутое облаками небо. «Будет дождь, — подумал он. — Поля превратятся в болота, дороги станут непроезжими… Они ведь не знают Россию, а земля раскиснет и станет для них преградой. Лошади, машины, люди, техника — всё увязнет».
— Я начал вывозить величайшие произведения искусства из дворцов, — сказал он. — Скульптуры, картины, коллекции монет, ценную мебель, гобелены, хрусталь, украшения… Не смотрите на меня как на безумца, товарищ Жуков. Я получил из Кремля подробные инструкции.
— Картины! Гобелены! Мебель! Нам нужны все, способные держать оружие, а они хотят забрать старые боярские безделушки из стеклянных витрин!
— Но мне не хватает машин. — Ворошилов поежился, будто от холода.
«Он и правда старый, усталый человек», — подумал Жуков и даже почувствовал к маршалу жалость.
— Работа идет круглосуточно, в основном трудятся женщины. Чтобы упаковать и доставить сюда, в подвалы Исаакиевского собора, всё самое ценное из Екатерининского дворца в Пушкине. Уже вывезли почти двадцать тысяч предметов. Но если немецкое наступление продолжится, то фашисты окажутся в Пушкине раньше, чем мы успеем всё отправить. А главное, мы не спасем самое ценное. Янтарную комнату…
— Янтарную комнату? — заинтересовался Жуков. Он слышал об этом зале с мозаикой, картинами, зеркалами и фигурами, вырезанными из янтаря, но никогда не видел. Правда, ему попадалась фотография в газете, но статья его не заинтересовала. Жукову запомнилась только злость при мысли о том, как расточительно и преступно жили князья и цари на горбу у народа и крепостных крестьян, как нещадно их эксплуатировали.
— Не сумеете ее спасти?
— Немцы наступают на Пушкин, а мне не хватает грузовиков. К тому же экспонаты упаковывают простые бабы, а они больше переломают, чем смогут спасти. Я очень переживаю, Георгий Константинович.
— Я поручу генералу Попову направить в Пушкин спецподразделение для разборки Янтарной комнаты. — Заметив, что губы у Ворошилова дрожат, Жуков пожалел маршала еще сильнее. — Мы передислоцируем двенадцать дивизий из Прибалтики и сформируем Сорок вторую и Сорок восьмую армии. А потом сможем выделить небольшое спецподразделение.
— Если немцы до этого не захватят Пушкин.
— Этого я предугадать не могу. Знаю только, что мы будем драться за каждую пядь земли. Ленинград — это конец. Мы никогда не отдадим его немцам, хотя Сталин и говорит, что дело почти безнадёжное. Почти безнадёжное. Вот на это «почти» я и рассчитываю.
Однако уже на следующий день Жуков понял, что Янтарную комнату невозможно перевезти в Ленинград вовремя. Женщинам, работавшим в три смены в Екатерининском дворце в Пушкине, в бывшем Царском Селе, летней резиденции императоров со времён Петра Великого, велели уберечь драгоценную комнату от повреждений. Они установили вдоль стен из янтаря деревянные щиты для защиты от осколков и заклеили бумагой переливающиеся на солнце всеми оттенками золота панели, чтобы мозаика не пострадала от взрывов, а от панно не отвалились куски янтаря. Под конец женщины перенесли всё, что можно — янтарные фигурки, большой янтарный секретер, столы и изящные шкафчики — в последние грузовики, на которых в армию доставляли продовольствие, снаряжение, цемент и боеприпасы. Машины срочно перебросили для спасения драгоценных произведений искусства.
— Мне надо спасать сотни тысяч человек! — сказал через несколько дней Жуков генералу Зиновьеву, который во время совещания о положении дел на фронте с сожалением высказался о возможной потере произведений искусства. — Табакерка с драгоценными камнями стрелять не может! Беспокоиться нужно не о золотых стульях, а о людях.
— Фашисты всё вывезут. Они украдут неповторимые картины, скульптуры, книги. Когда мы выиграем войну, СССР обеднеет, — сказал Зиновьев.
Он достал из кармана кителя записку. Зиновьев был большим ценителем искусства и мог часами сидеть в музее перед картинами Рембрандта или бродить по бесчисленным залам Эрмитажа в Ленинграде. Один раз он провёл в Эрмитаже, сокровищнице произведений искусства со всего мира, сравнимой лишь с парижским Лувром, целых три дня, вживаясь в его великолепие. Домой он пришёл опьянённым от увиденной красоты.
— У меня есть данные разведки. Стоило немцам захватить города и дворцы, как сразу после войск появлялись так называемые спецподразделения и вывозили все призведения искусства. Немцы уже разграбили почти пятьсот музеев, полторы тысячи православных и больше двухсот католических церквей, семьдесят часовен, пятьсот синагог, триста школ и сорок тысяч библиотек. Всё вывезенное мы больше никогда не увидим.
— Разведчики хорошо поработали, — с насмешкой сказал Жуков. Он взял из рук Зиновьева записку, скомкал её и бросил под стол. — А что они узнали о численности немецких войск, их вооружении, намерениях, настроении и подлинных потерях?
Генерал Зиновьев промолчал.
«Маршал прав, — подумал он. — Не следует его раздражать. Кольцо вокруг Ленинграда сжимается, наши войска обороняются героически, это верно. Именно героически. Но немцы стремительно продвигаются вперёд. Через десять или четырнадцать дней они будут маршировать по улицам города, с флагами и музыкой, как до этого в Париже. И ограбят город подчистую, чтобы заполучить произведениями искусства со всего мира — из парижского Лувра и Эрмитажа, нашей сокровищницы. Я, наверное, здесь единственный, кто верит в Бога. Господи, не допусти этого! Защити наш Ленинград, пусть он и назван именем человека, назвавшего религию «опиумом для народа». Не забудь, Господи, что раньше город назывался Санкт-Петербургом. Это святой город. Протяни свои руки, Господи, и задержи немцев. Яви нам новое чудо».
— О чём задумались, Виталий Богданович? — вернул его к действительности голос Жукова. — У вас отсутствующий взгляд…
— Над вашими словами, товарищ маршал.
Генерал Зиновьев склонился над большой картой Ленинграда и окрестностей, очень подробной картой. На ней были видны каждый ручеёк, каждая фабричная труба, каждый пруд и каждая тропка. И Царское село, теперь город Пушкин, и Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
— Снабжение войск важнее, чем картины Тинторетто, — сказал он.
***
Двенадцатого сентября 1941 года небольшая колонна машин под командованием младшего лейтенанта Вехова остановилась на скользкой лесной дороге западнее Пушкина. Вехов так смачно выругался, что изумились даже красноармейцы. Молодой парень, а так ругается! Кто-нибудь слышал такое? Назвать поломанную заднюю ось усохшей шлюхой, которая трахается с чёртом, а совершенно невиновного водителя грузовика, ефрейтора Сливку, обозвать тупой обезьяной, анонирующей за рулем! Ну и выражения, товарищи! Но помогут ли они? Ось сломана, грузовик опрокинулся на левый бок, запчасти отсутствуют. Кто же мог предугадать, что эта железяка сломается? И на буксир не возьмешь, как ни ругайся. Никто не знал, что делать. Просто бросить машину и двигаться дальше или попросить помощь в ближайшей военной мастерской? До неё девять вёрст, а это значит, новую заднюю ось поставят только через несколько часов.
Вехов решил устроить в лесу привал, съесть кусок хлеба с луком и тушенкой, выкурить папиросу, а потом уже подумать, что делать дальше. Солдаты втайне радовались остановке. Что за удовольствие часами сидеть в узкой кабине, трястись по ухабистой дороге, когда от каждого толчка трещит череп. Кто расстегнул ширинки, а кто спустил штаны и присел на корточках под деревьями и кустами, чтобы облегчиться.
Красноармеец Виктор Янисович Золотвин, совсем молодой парнишка, краснел, когда другие смачно рассказывали, чем занимались на сеновале, в стогу или еще где-нибудь со своей Ольгой или Варварой, а эта свинья Никита — на большом столярном верстаке в отцовской мастерской. Виктор почувствовал позывы в животе и пошёл в лес, подальше от других, стесняясь показывать голый зад.
Медленно, уже расстёгивая ремень, он искал подходящее место за густым кустарником, как вдруг что-то бросилось ему в глаза.
Земля. Свежая земля, как будто недавно вскопанная. Она была разбросана вокруг в радиусе трёх метров, утрамбована и выровнена. Так разровнять выброшенную из норы землю не мог ни заяц, ни лиса, ни куница, ни норка, ни енот. Виктору было очевидно, что это дело рук человека. Но он не мог понять, кому понадобилось копать в лесной чащобе.
Позывы в животе сразу пропали. Виктор почуял опасность. Он хотел было побежать к младшему лейтенанту Вехову и поднять тревогу, но если окажется, что здесь нет ничего необычного, то его не только поднимут на смех, но Вехов еще и сорвёт на нём злость из-за поломанной оси.
«Ладно, отставить мандраж, — сказал сам себе Золотвин, — ты же не трус. Конечно, идёт война, но немцы ещё далеко… Что же это может быть?»
Конечно, Виктор не был трусом, но возможность проявить храбрость ему пока не представилась.
Он до сих пор не застрелил ни одного немецкого солдата, даже ни одного не видел. Пока он имел дело лишь с деревянными мишенями, так называемыми «фанерными товарищами», которые падали от его удачных выстрелов, за что он получал благодарности от офицера. Однако, по правде говоря, у него начинали слегка дрожать колени и скручивало живот, стоило лишь подумать, что простым нажатием пальца на спусковой крючок он лишит жизни живого человека. Только этого он в действительности и боялся, и потому втайне надеялся, что стрелять не придется, хотя произнести подобное вслух считалось трусостью и изменой. Им предписывалось избегать стычек с врагом и добраться туда, где ещё было тихо, не считая фашистских бомбардировок. Виктор Золотвин входил в состав спецподразделения, которое всегда появлялось перед наступлением немцев. Спецподразделение вывозило из монастырей, дворцов и музеев всё, что можно спасти за такой короткий срок. Три офицера-искусствоведа опережали их на несколько дней для поисков ценных экспонатов и брали их на заметку.
Теперь их целью был городок Пушкин, состоящий, собственно говоря, из Александровского и Екатерининского дворцов, обширных парков и искусственных водоёмов с каскадами фонтанов и гротов. Жилые дома вокруг дворцов не представляли интереса, и можно было отдать их немцам, как уже отдали сотни других городов.
Но только не Екатерининский дворец. Этот великолепный дворец с колоннами и кариатидами, с позолоченными луковицами куполов Дворцовой церкви и балконными решётками из кованого железа, с искусными французскими садами по образцу Версаля. Ценность всего собранного здесь не выразить в цифрах. И здесь же находилось единственное во всем мире произведение искусства, которое никто больше не воспроизведет: зал размером десять на одиннадцать метров из двадцати двух панелей с сотней мозаичных узоров, фигурок, гирлянд и гербов. И всё это из «камня», имеющего оттенки от светло-золотистого до сверкающего темно-коричневого. Янтарная комната. Дворец был творением архитектора Растрелли, любимого мастера императрицы Елизаветы. А зал в Екатерининском дворце, излюбленном месте отдыха всех царей, постоянно совершенствовали и украшали новыми работами из янтаря, картинами и плафонной живописью, ангелочками и многоцветными мозаиками из яшмы в янтарных рамах.
Янтарная комната.
Целый зал из «солнечного камня».
Кто хоть раз видел его, уже никогда не забудет. Красота сияет в бесчисленных лучах света, преломлённых в мозаиках и янтарных фигурках.
Три офицера Красной армии, эксперты-искусствоведы, уже два дня находились в Пушкине. Они постоянно докладывали по телефону генералу Зиновьеву, что немцы бомбят Пушкин и другие пригороды Ленинграда, но Зиновьев знал это и сам.
— Меня не интересует, что происходит на фронте, — крикнул он в трубку и от волнения ударил кулаком по столу так, что грохот услышали и в Пушкине. — Вы можете спасти Янтарную комнату? Докладывайте только об этом. Мы успеем?
— Едва ли, — ответил старший офицер, майор, работавший искусствоведом в Русском музее, где отвечал за двадцать второй, первый, двадцать первый и третий залы с ценными картинами, скульптурами и мебелью. — Можем обшить стены досками, чтобы защитить от повреждений. Когда мы приехали, эта работа уже началась.
— Что вам мешает демонтировать комнату? — взволнованно выкрикнул Зиновьев.
— Время, товарищ генерал.
— Но немцы еще не в Пушкине!
— Но через три-четыре дня будут здесь. За три дня комнату разобрать не удастся.
— У нас достаточно людей! — вспылил Зиновьев. Янтарная комната в руках немцев — от этой мысли у него заныло сердце. — Возьмите столько рабочих, сколько требуется.
— Все трудоспособные мужчины и женщины призваны на земляные работы. Нужно создать три пояса обороны.
— Я в курсе! — генерал Зиновьев вытер лоб и глаза. Последний разговор с маршалом Жуковым ещё был свеж в его памяти. — Хватайте любых баб на улице и направляйте в Янтарную комнату. Она должна быть спасена! Вы меня понимаете? Должна...
— А еще мне нужны восемнадцать, а то и двадцать грузовиков…
Зиновьев задержал дыхание. Двадцать грузовиков.
— Вы с ума сошли? — сказал он уже тише. — Вы же знаете…
— Чтобы вывезти комнату, потребуется двадцать грузовиков, товарищ генерал. Честное слово. Мозаику еще можно вывезти отдельно в мешках. Но распилить гирлянды, отколоть головы, вырезать картины из рам? И как разделить на части потолочную роспись? Панно надо вынуть целиком, двери, ангелочки, гирлянды, маски… А иначе это будет всё одно, что взорвать Янтарную комнату.
— Посмотрим, что можно сделать, — сказал генерал Зиновьев совсем тихо.
От сознания своей беспомощности он с трудом шевелил языком. Его гвардейские дивизионы зарывались в землю, поливая каждый метр святой русской земли кровью, но натиск немецких войск был слишком силен. Только в район Пушкина и Петергофа неудержимо двигались вперёд 28-й армейский корпус, 41-й танковый корпус, 96-я и 121-я пехотные дивизии, 50-й армейский корпус, части 16-й и 18-й армий Северной группы войск под командованием генерал-фельдмаршала Риттера фон Лееба, Первая танковая дивизия и, прежде всего, полицейская дивизия СС, наводящая страх везде, где вступала в бой. Пятнадцать дивизий Красной армии противостояли двадцати девяти немецким. Перевес сил был очевидным.
Ленинград был для Гитлера символом победы.
На центральном участке фронта немецкая лавина подкатывалась к Москве.
Генерал Зиновьев на мгновение закрыл глаза.
Этого не должно случиться, протестовала его душа. Нет, этого просто не должно случиться. В городе больше полумиллиона детей, почти для миллиона человек построены бомбоубежища, а полмиллиона может быстро укрыться в траншеях, но вдвое больше жителей Ленинграда надеялись на чудо… на чудо, но не от немцев. Зиновьев вспомнил генерал-майора Иванова. Когда Жуков спросил его, где проходит линия фронта вокруг Ленинграда, Иванов в отчаянии ответил: «Да не знаю я, где она проходит. Я вообще ничего не знаю!» Жуков сразу же снял его с должности. Маршал не знал пощады, он был человеком с решительным характером, который желал сделать невозможное. Со дня основания города в мае 1703 года Петром Великим Ленинград был неприступным, и должен таковым остаться.
Он станет примером для всего необъятного Советского Союза.
Зиновьев глубоко вздохнул и потёр рукой глаза. Когда Жуков узнает, что я сделал, то поступит со мной, как с Ивановым — выгонит с позором.
— Грузовики прибудут в Пушкин завтра, самое позднее — послезавтра.
— Сколько машин, товарищ генерал?
— Не знаю. Это спецподразделение, я уже неоднократно его использовал. Несколько солдат, которые уже спасли миллионы ценностей. Чёрт возьми, разбирайте Янтарную комнату!
Он положил трубку и остался сидеть за столом, подперев подбородок ладонями.
«Не успеем», — подумал он с грустью.
В последнем рапорте с фронта сообщалось, что кольцо окружения всё больше сжимается. Немецкие дивизии вот-вот захватят «жемчужное ожерелье», то есть пригороды Ленинграда с музеями Петродворца, Пушкина и Павловска, где находилась обширнейшая библиотека, и тогда богатейшая в мире сокровищница будет навсегда потеряна. Что же делать? Господи, помоги! Что же делать?
Зиновьев направил в Пушкин десять грузовиков без разрешения Жукова.
— Не останавливайтесь ни днем, ни ночью, — велел он стоящему перед ним навытяжку младшему лейтенанту Вехову. — Каждый час на счету! Если спасёте Янтарную комнату, то станете героями Пушкина. Поезжайте же!
И вот теперь у одного грузовика сломалась ось. Девятнадцать красноармейцев и вечно матерящийся Лев Вехов расположились на обочине лесной дороги, а молодой солдат Виктор Золотвин забрел в кусты, чтобы облегчиться, и обнаружил свежевыкопанный грунт.
Осторожно, оглядываясь по сторонам, как косуля, и напряжённо прислушиваясь к каждому шороху, он перебегал от дерева к дереву, прячась за ними в готовности закричать, если его вдруг схватят.
А что ему еще оставалось кроме крика? Его автомат лежал в пятом грузовике, пистолет был только у Вехова. У Золотвина был с собой только перочинный нож, складная безделица, которой можно отрезать кусок колбасы или хлеба, но она может превратиться и в крохотный кинжал. Ножу было лет двадцать, отец подарил его Виктору, когда тот надел форму, чтобы сражаться с немецкими захватчиками.
— Нож всегда пригодится, — сказал ему отец. — Можно что-нибудь отрезать, открыть банку, остриём проделать дырку или шуруп закрутить. Так что этот ножичек — на редкость полезная штука. Не потеряй его, сынок, он может спасти тебе жизнь.
Теперь Виктор достал отцовский нож из грязных солдатских штанов, легко открыл маленькое лезвие и присмотрелся к раскиданной земле. Метрах в сорока от дороги он обнаружил широкую землянку метра два глубиной. Она поросла кустарником, и свисающие со склона корни напоминали взлохмаченную бороду. А еще Виктор заметил там кучу сухих веток — довольно необычно для землянки, из которой несло сыростью и плесенью.
Золотвин сильнее стиснул рукоятку ножа, вытянул руку вперёд, как на дуэли, и расставил ноги. Ему не оставалось ничего другого. Он понял, что сухим хворостом что-то накрыто, а острые ветки защищают то, что там спрятано.
— Выходи! — крикнул он и удивился твёрдости собственного голоса. — Руки вверх, выходи! Нет смысла прятаться.
Он немного подождал, стоя за деревом и вытянув вперёд руку с ножом.
«Если это шпион, — думал он с колотящимся сердцем, — то понимает ли он меня? Знает ли он русский? Хотя немцы не такие идиоты, чтобы прятать здесь шпиона, не понимающего по-русски. А может быть, это штатский? Один из тех, о которых теперь всюду говорят? Пораженцы, предатели, члены пресловутой пятой колонны, коллаборационисты, агенты, работающие на немцев, а по ночам световыми сигналами указывающие немецким бомбардировщикам путь к наиболее важным объектам. Про одну женщину из Ленинграда рассказывали в качестве назидательного примера, что она написала в дневнике: «Станем ли мы наконец-то свободными? Даже если придут немцы, хуже не будет. Господи, прости меня…» Враг народа. Её расстреляли, эту предательницу. Кто же прячется в землянке?»
Он ещё раз резко крикнул:
— Выходи!
В глубине души ему хотелось, чтобы из землянки никто не вылез, чтобы можно было спокойно уйти отсюда и ни с кем не драться. Но Золотвину не посчастливилось.
Сухие ветки зашевелились и отодвинулись в сторону, освободив маленький, круглый вход в землянку, грязная рука отбросила хворост, потом показалась голова, и наружу вылезло худое тело.
Золотвин спрятался за дерево и ждал. Он отчётливо видел немецкую шинель, косматые волосы, заляпанную грязью одежду и немытое лицо с широкими скулами.
«Ну и ну, — подумал Виктор, и его страх исчез столь же неожиданно, как и появился. — Немецкий шпион! Настоящий, даже в форме. Как они уверены, что завоюют нашу землю, что даже в тылу ходят в форме. Но мы ещё здесь, ребятки, тут и останемся. Знаете, что сказал товарищ Сталин третьего июля в шесть тридцать утра по московскому радио? «Ни одного вагона, ни одного локомотива, ни килограмма зерна, ни литра бензина не должно попасть в руки врага. На захваченных территориях нужно организовывать партизанские отряды, чтобы обессилить врага, взрывать мосты и дороги, а склады, дома и леса предать огню. Мы будем гнать врага до его полного уничтожения…»«
— Руки вверх! — крикнул Золотвин. — И положи на затылок! Теперь подойди, медленно. Стреляю без предупреждения, понял? Без предупреждения…
Немец, кажется, его понимал. Даже поверил, что он вооружён. Со стороны дороги доносились удары молотков и громкий гул голосов. Вехов велел поднять машину со сломанной осью домкратом.
Немец медленно двинулся к Виктору, держа руки на затылке, вскарабкался вверх по склону землянки и остановился на краю. Золотвин энергично махнул ему.
— Ближе! Без церемоний, парень. Война для тебя закончилась… если останешься жив.
Немец кивнул, то есть явно понял, и подошёл ближе. Теперь Золотвин увидел, что у солдата под шинелью не штаны, а юбка, волосы у него до самых плеч, а лицо, закрытое волосами, тоже больше похоже на женское, чем на мужское.
Виктор вышел из-за дерева с ножом в руке, покачал головой и подождал, пока эта немецкая загадка не остановится в трёх шагах от него. Он ещё раз осмотрел человека сверху донизу и увидел платье в синюю полоску с когда-то белым передником, а также пристёгнутую у горла круглую брошь с красным крестом.
— Вы только гляньте! — сказал он и спрятал нож. — Извозилась, как свинья! И по-русски понимает! А одета-то как сестричка! Все вы — одна банда, немецкие шпионы!
— Я не шпионка, — сказала девушка на чистом русском языке.
Золотвин улыбнулся и закивал головой.
— И по-русски говоришь, как будто усвоила его с молоком матери. Что ты делаешь в этой норе? Почему пряталась?
— Жду немцев.
— Ага! Ага! — Золотвин был доволен этим признанием.
Он обнаружил и взял в плен шпионку. Всё прошло как по маслу, а он всего-то искал удобное место, чтобы облегчиться. Надо всегда смотреть, куда идёшь, товарищ. Теперь он получит благодарность, а может, орден или повышение в звании до ефрейтора. Зависит от того, насколько важной фигурой для Советского Союза окажется эта шпионка.
Когда Виктор вышел из леса с немецким солдатом, младший лейтенант Вехов вытаращил глаза и с криком «враги!» выхватил пистолет. Но потом, как прежде Золотвин, увидев платье и передник, понял, что это женщина, и ткнул в ее сторону кулаком.
— Это еще что? — буркнул он.
— Немецкая шпионка! — молодцевато доложил Золотвин. — Пряталась в землянке. Но я ее обнаружил...
— И она ещё жива, хрен собачий?
Можно ли было ожидать от Вехова чего-нибудь кроме ругательств?
Золотвин слегка покраснел и потупился. Пусть она и враг, но нельзя же так при девушке!
— У меня не было оружия, товарищ младший лейтенант, — сказал он. — Только перочинный нож.
— А этого что, недостаточно, пердун ты этакий?
Виктор покраснел ещё сильнее.
— Десятью пальцами можно запросто задушить, солдат Золотвин! Ходишь тут со шпионкой, ну и как это называется? Может, она решит удрать? — Он глубоко вздохнул, и, не обращая внимания на рану у девушки на виске, которую она получила, выбираясь из землянки, решительно произнес, доставая из кобуры пистолет: — Нечего тут рассусоливать…
— Я не шпионка, — повторила девушка. Круглыми от ужаса глазами она смотрела на дуло пистолета, направленное ей в лоб. Только лёгкое движение кончика пальца отделяло её от вечной тьмы. — Я хочу поговорить с офицером.
— С офицером! — передразнил её Вехов. — Просто с офицером, как будто его можно купить на базаре. Кого вам угодно, голубушка? Может, майора или полковника? Или даже генерала? Они все у нас тут, в коробочке. Готовы тебе услужить.
— Лучше всего генерала, — ответила она. — Отведите меня к генералу.
— Какое счастье, у нас тут как раз поблизости есть генерал, — холодно пошутил Вехов. — Может быть, шлюха хочет ещё лимузин на рессорах? — Повернись! Повернись, я сказал!
Девушка не шевельнулась. Повернись… и получишь пулю в затылок. Проверенный способ казни.
Она провела рукой по лицу, откинула волосы и увидела холодные, беспощадные глаза Вехова. Он выстрелит и в лоб, мгновенно поняла она.
— Я не немка, — сказала она громко, но от страха голос прозвучал приглушенно. — Я русская. Я не враг…
— Да неужели? — Вехов скривился от отвращения. — А я младший брат Сталина. Только он этому не верит, как и я тебе. Если уж врать, так правдоподобно. Повернись!
— Я иду из Пушкина, товарищи.
— В немецкой форме?! И тебя, предательницу, не оплевали? Мы едем в Пушкин, а ты, шпионка, идёшь оттуда и прячешься в лесу. Вот мерзкая тварь!
— Я выполняю задание! Отведите меня к генералу. Немедленно! Через два дня немцы займут Пушкин. Их артиллерия уже обстреливает город. Я всё объясню. Этот красноармеец, — она кивнула на Золотвина, — обнаружил меня случайно. Мне нужно к генералу!
— Мне лучше знать, что тебе нужно! — в голосе Вехова прозвучали стальные нотки. — Повернись! И закрой рот! Для меня шпион — не человек.
Генерал Виталий Зиновьев разговаривал по телефону с Пушкиным. Майор и другие искусствоведы докладывали, что в городе уже слышны выстрелы, а самолёты бомбят Екатерининский дворец, имеются значительные повреждения. Возможности разобрать и спасти Янтарную комнату нет никакой.
— Мы должны сегодня же покинуть Пушкин, — сказал майор сдавленным голосом. По телефону Зиновьев слышал взрывы гранат. Донесений с фронта не поступало, такое впечатление, что там все посходили из ума. — Фашисты неудержимо продвигаются вперёд. Прямо на Пушкин должна выдвинуться дивизия СС.
— Да знаю я! — Зиновьев бросил взгляд на развернутую на столе карту. Его ставка располагалась в небольшом дворце, в царские времена принадлежавшем богатому боярину, князю Владимиру Николаевичу Чепикову. Генерал знал, что придется оставить этот район самое большее через три дня. Штаб был готов к эвакуации. Генерал Попов, во главе срочно стягиваемых двенадцати дивизий оборонявший город, ждал его в Ленинграде. От Жукова поступил приказ о немедленном отступлении: для обороны города каждый человек на счету. Но организованное отступление стало бы своего рода небольшой победой, если бы в обозе дивизии на десяти грузовиках удалось отправить в Ленинград Янтарную комнату.
— К вам движется колонна грузовиков, товарищ майор.
— Слишком поздно, товарищ генерал.
— Никогда не поздно, — рявкнул Зиновьев. Прозвучало, как крик души. — Пушкин покинете за пять минут до вступления в город немецких войск.
— Мы не можем. Чтобы как следует разобрать комнату, требуется минимум для три или четыре. У нас нет для этого времени. Через три часа мы покинем Екатерининский дворец. У меня сердце обливается кровью, товарищ генерал, но этим я не могу остановить немцев.
Зиновьев положил трубку. Вошел его адъютант Ковалёв и доложил о посетителе.
— Девица какая-то, — сказал он и покачал головой. — На ней немецкая шинель и форма сестры Красного креста. Нашли в лесу, в землянке, говорит по-русски и требует, чтобы с ней поговорил генерал.
— Шпионка, Игорь Иванович? — генерал Зиновьев прижал подбородок к воротнику кителя. — Зачем её привели? Где она?
— Ждёт за дверью.
— Расстрелять!
— Поговорили бы вы с ней сначала, товарищ генерал. Она знает, что её ждёт, но…
— Ладно, пусть войдёт.
Там, в лесу, незадолго до того, как младший лейтенант Вехов хотел выстрелом разнести голову девушки, произошло нечто неожиданное. Шпионка лишь сказала: «Речь идёт о Янтарной комнате», и это короткое предложение полностью изменило ситуацию. Вехов опустил пистолет и несколько раз сглотнул, будто в горле пересохло. Потом покосился на Золотвина и других красноармейцев, столпившихся вокруг в ожидании казни, и решил не показывать слабости и прежде всего сострадания.
— Ну ладно! — хрипло сказал он. — Какая разница — сейчас или через пару часов? Тебя всё равно расстреляют! Золотвин и Никитин, доставьте её к командующему.
Он даже рискнул и выделил в их распоряжение грузовик, хотя за такое генерал Зиновьев мог и устроить нагоняй. Янтарная комната — эти слова подействовали, как заклинание. Если и правда шпионка как-то связана с Янтарной комнатой, то Зиновьев должен её выслушать, а потом решить, как с ней поступить.
— Если вздумаешь сбежать… — решил предупредить он, но девушка лишь покачала головой.
Рана на ее голове перестала кровоточить, на лбу запеклась красная корка.
— С какой стати мне бежать, товарищ?
— Я тебе не товарищ, шлюха! — выругался Вехов. — Ты вообще знаешь, что такое товарищ?! Это — честь! Не марай мою честь…
После этих слов он ударил девушку с такой силой, что ее голова мотнулась в сторону, и Золотвину показалось, будто она оторвётся от шеи. Показав этим ударом свою подлинную сущность, Вехов развернулся и подошёл к лежащей на боку машине со сломанной осью, приняв решение ехать в Пушкин. Эти восемь машин уже никому не были там нужны, но младший лейтенант Вехов об этом еще не знал.
Он приказал запустить моторы, сел в кабину первого грузовика, и после длинного гудка колонна двинулась в путь.
Вехов не знал о том неприятном факте, что едет прямо навстречу наступающим немецким частям.
Дверь рабочего кабинета Зиновьева открылась, адъютант Ковалёв кивнул, и девушка вошла. Выглядела она в точности так же, какой ее нашел Вехов — платье не стало чище.
Зиновьев презрительно поморщился и жестом велел ей не подходить ближе. Ему почудился запах плесени и гнили, но больше всего поразил вид этой девицы: шинель, платье сестры Красного креста, сальные космы волос, лицо с широкими скулами, ноги в толстых чулках и крепких ботинках. «Интересно, как она будет выглядеть, если её отмыть? — подумал он. — Снять с неё это кошмарное платье, причесать, может даже подкрасить? Наверняка из-под этой грязи появилась бы красавица».
— Что дальше? — спросил он не слишком дружелюбно. — Хотите сделать признание? Вы понимаете по-русски?
— Это мой родной язык. — Девушка посмотрела на Ковалёва. — Могу я снять шинель? Здесь очень жарко. Я её надела, потому что в землянке было холодно.
— Ты сотрудничаешь с немцами, верно?! — холодно спросил Зиновьев. — И хотела перейти к фашистам!
— Я хотела дождаться, пока они пройдут. Немцы будут здесь через пару дней…
— А, ты хорошо информирована. — Генерал повернулся к адъютанту. — Она хотела дождаться, пока они пройдут. Ещё один способ перейти на сторону противника.
Он снова посмотрел на девушку.
— И почему в таком случае ты здесь? Надеешься, что я тебя пожалею? Это глупо, ведь ты враг народа.
— Меня зовут Яна Петровна Роговская.
— Имя настоящее?
— Настоящее. Моего отца звали Пётр Борисович Роговский.
Генерал коротко, еле заметно вздрогнул. Он наклонился над столом и снова внимательно осмотрел девушку сверху донизу. «Маловероятно, — подумал он. — Это наверняка наглая ложь».
— Роговский? Эксперт по живописи девятнадцатого столетия в Эрмитаже?
— Да, это мой отец. — Она сняла шинель, бросила её на пол и стояла теперь перед Зиновьевым в одежде немецкой медсестры. Без грязной, бесформенной шинели она выглядела по-другому, даже в заляпанном платье. У неё была хорошая фигура со стройными бёдрами и отчётливо обозначенными выпуклостями под платьем и нагрудником передника. — Три месяца назад он умер от сердечного приступа. Не смог пережить нападения немцев на нашу страну.
Генерал Зиновьев сложил руки над картой Ленинграда и окрестностей. Конечно, он знал Роговского, и раза три виделся и разговаривал с известным специалистом. Один раз — когда он благоговейно сидел перед картиной Тициана, второй раз — в зале импрессионистов, а последний — перед Леонардо да Винчи. Они разговаривали о картинах и их гениальных мастерах. Разве в такой беседе может зайти речь о дочери по имени Яна?
— Продолжай, — сказал Зиновьев чуть мягче. — Чего дочь Роговского хочет от немцев?
— Я собираюсь выйти замуж за Николая Вахтеровского.
— Мне это имя ни о чём не говорит.
— Это сын Михаила Игоревича Вахтеровского.
— Я его не знаю.
— Его настоящее имя Михаил Вахтер. Он смотритель Янтарной комнаты в Пушкине.
Зиновьев подался вперёд и навис над картой, как для прыжка, под глазом дернулась мышца.
— Присматривал за Янтарной комнатой? — Голос генерала прозвучал громче обычного, и Ковалёв обратил на это внимание.
— Я должна всё вам рассказать, товарищ генерал.
Яна огляделась. У неё вдруг подогнулись колени, и она едва устояла на ногах.
«Он поверил мне, — подумала она, схватившись за Ковалёва. — Меня не расстреляют, я выживу и выполню свой долг».
Генерал, письменный стол, окна, лепнина на стенах и потолке закружились перед ее глазами. Прежде чем Зиновьев успел среагировать, она отпустила Ковалёва, потянулась к стоящему рядом позолоченному креслу, обтянутому красной парчой, и рухнула в него.
— Это длинная история, — сказала она, стараясь, несмотря на слабость, говорить отчётливо. — Наследие, которому уже двести двадцать пять лет.
— Рассказывайте, Яна Петровна. — Зиновьев подал знак Ковалёву. — Принеси водки и чего-нибудь закусить, быстро.
Ковалёв кивнул, развернулся кругом и вышел. «Что происходит? — задумался он, когда подозвал ординарца и передал ему поручение генерала. — Почему вдруг всё изменилось? Она была в немецкой шинели, пряталась в землянке. Да будь она хоть дочкой Сталина, если она перебежала к врагу, её нужно расстрелять».
— По нашему плану я должна была переждать немцев, — сказала Яна и прислонилась головой к обтянутой шелком спинке. — Николай уехал в Ленинград, чтобы защищать город. Ему двадцать три года…
— А вам, Яна?
— Девятнадцать. Мы познакомились два года назад, когда Николай с отцом осматривали в Эрмитаже янтарный шкаф. Мы сразу полюбили друг друга, и папа тут же согласился, когда узнал, кто такой Михаил Вахтер, отец Николая. Год мы прожили вместе в Пушкине, в боковом флигеле Екатерининского дворца, там со времён императрицы Елизаветы живёт семья Вахтеровских, такую фамилию они носят уже двести двадцать пять лет.
Она закрыла глаза. То, что её не расстреляют, потрясло Яну больше всего. Ей хотелось заплакать, но только дрожь во всем теле выдавала её состояние.
— А тут вдруг немцы оказались под Пушкиным. Отец Николая это предполагал, был уверен, уже когда немцы захватили озеро Ильмень и Новгород, прошли Лугу и повернули у Волхова на Ленинград. «Они не пощадят Пушкин, — сказал он тогда. — Утащат Янтарную комнату, и никто не узнает, куда она подевалась. Мы потеряем ее навсегда. Почему ее не вывозят?» Он звонил и трижды ездил в Ленинград, но там все были заняты спасением ценностей Эрмитажа и других музеев, которые прятали в подвалах Исаакиевского собора. Когда они приехали в Пушкин, было уже поздно. Немцы двигались быстрее. Успели вывезти только картины, скульптуры, мебель, книги, ковры и фарфор. На Янтарную комнату времени не осталось.
— Я знаю, — Зиновьев с нетерпением посмотрел на дверь. Где водка и еда? Это же не так сложно, принести что-нибудь съестное. — Я разговаривал об этом с маршалом Жуковым. Ему нужны люди, чтобы стрелять, а не спасать произведения искусства. Возможно, он прав, наверняка прав. Надо выстоять и отразить нападение немцев.
— Точно так же говорил отец Николая. — Яна справилась со слабостью, уже спокойно вдохнула и посмотрела на Зиновьева. — И тогда мы разработали план. Если немцы убьют Михаила Игоревича, некому станет присматривать за Янтарной комнатой. Кто всегда был бы рядом, сопровождал бы её в пути и не спускал глаз с немецких грабителей. Этим человеком могла бы стать только я... переодевшись немецкой медсестрой. Кто будет проверять медсестру? Я могла бы везде пройти, не вызывая подозрений. Таков и был наш план: я бы переждала продвижение немцев, укрывшись в землянке, а когда они уйдут дальше, пришла бы в Пушкин, как будто отстала от своей части. Потом вернулась бы к Янтарной комнате и не спускала с неё глаз. Это хороший план, товарищ генерал?
Она вздохнула и увидела, что ординарец принёс поднос с водкой, чаем и печеньем, а Ковалёв уже накрывает круглый стол в противоположном углу комнаты.
— Михаил Игоревич объяснил, что форму Красного креста и немецкую шинель добыл где-то под Лугой после нашего наступления. Потом мы поехали в лес, выкопали землянку, и я осталась там ждать. «Только четыре дня, Яночка, — сказал он мне, — а может, и меньше. Благослови тебя Господь, доченька. Если мы больше не увидимся, а Николай выживет в войне, будь ему хорошей женой. И никогда не упускай из виду Янтарную комнату, куда бы её ни увезли. Медсестра может везде пройти». Вот так всё и было, но потом меня обнаружил красноармеец Золотвин и отвёл к младшему лейтенанту Вехову. Он хотел расстрелять меня, как шпионку. — Яна окинула голодным взглядом накрытый стол. Чай дымился, а от выпечки пахло корицей и мёдом. Рот наполнился слюной. — Вы мне верите, товарищ генерал?
— Я вам верю, Яна. — Голос Зиновьева стал добрее и спокойнее. — Поешьте и выпейте немного, а потом расскажете про семью Вахтеров или Вахтеровских.
Так прошёл долгий день и долгая ночь. На следующее утро штаб дивизии тронулся в путь, а скромный дворец так и остался уныло стоять посреди парка. Колонны солдат спешно двинулись в сторону Ленинграда.
Яна на велосипеде вернулась в лес и опять спряталась в землянке.
Немецкие войска находились в девяти километрах.
Спецподразделение младшего лейтенанта Вехова, последняя надежда генерала Зиновьева, которому предстояло спасти хотя бы самые ценные части Янтарной комнаты, например, настенные панно, отправилось в Пушкин слишком поздно. Точнее сказать, младший лейтенант вообще не доехал до Пушкина. Восемь грузовиков с красными звёздами на бортах беззаботно въехали прямо к немецким войскам, навстречу Первой танковой дивизии.
Она стояла на окраине Пушкина. Самолёты бомбили дорогу, расчищая путь, и иногда попадали в большой зал Екатерининского дворца. От великолепного зала чудесной работы архитектора Растрелли больше ничего не осталось. Сильно пострадали и смежные помещения… Янтарная комната, защищённая от осколков деревянными панелями, сохранилась.
Увидев едущие навстречу немецкие танки, Вехов не думал ни о сопротивлении, ни о побеге. Приняв решение оставить машину со сломанной осью в лесу и отправить шпионку на грузовике с Золотвиным к генералу, он в глубине души ощутил, что для него война вот-вот закончится. У него было только одно горячее и искреннее желание: не попасть в руки СС. Рассказы о них вызывали ужас.
И вот это произошло, но лучше уж немецкий танк, а не СС. Вехов остановил колонну, вылез из кабины первого грузовика, остальные красноармейцы последовали примеру командира. Когда он поднял руки вверх, они поступили так же и остались стоять возле машин. На их лицах был написан страх, сердца колотились от неизвестности и надежды, что немцы будут обращаться с ними по-человечески, и они выживут в плену. Садисты и жестокие люди встречаются у каждого народа, но не все немцы такие.
— Ребята, — крикнул Вехов своим солдатам, вытянув руки к небу. — Кончилась для нас война. Ничего не поделаешь. Я бы охотно защищал вместе с вами Родину. Но это судьба, ребята. Против судьбы не попрешь. Сохраним хотя бы мужество в плену… мы всё-таки гвардейцы.
Рядом остановился первый немецкий танк, и Вехов с болью в груди подумал: «Сейчас они нас раздавят. Расплющат гусеницами. Может, броситься в лес? Они нас перестреляют, но всё же лучше, чем погибнуть под гусеницами».
Однако он остался стоять, сжав зубы и прищурив глаза. Когда надвигающаяся смерть с грохотом и скрежетом тормозов остановилась рядом и из люка высунулась голова командира, молодого лейтенанта, Вехов сделал глубокий вдох и ещё раз поблагодарил судьбу. «Спасибо, — сказал он беззвучно, — спасибо, судьба. Теперь я знаю, что чувствуешь, когда смотришь в глаза смерти. Я никогда этого не забуду, если выживу. Никогда».
Танкистам нет дела до пленных. Куда их девать? Взять с собой невозможно. Отправить назад под охраной нескольких солдат тоже нельзя — в экипаже танка нет лишних людей, каждый на своём месте и выполняет определённую задачу. Пока молодой лейтенант вылезал из башни, сзади подбежал какой-то штатский. Вехов посчитал его русским. Он был в кепке, мешковатом костюме, грубых ботинках и широкой синей рубахе навыпуск. Так наряжаются многие крестьяне по воскресеньям.
Вехов нахмурился и злобно посмотрел на соотечественника, но поднятые руки не опустил. Русский, которому было около шестидесяти лет, остановился в ожидании рядом с офицером. Немцы взяли его в качестве переводчика, потому что Степан Фёдорович Пивоянов — так его звали — понимал их язык. С 1927 по 1932 год он работал в одном имении в Восточной Пруссии и научился там не только говорить по-немецки, но и ругаться. Крестьяне Восточной Пруссии славились своей грубостью.
Вехов засопел и едва удержался от плевка в Пивоянова. Ведь тот сотрудничает с врагами, едет вместе с захватчиками, переводит, когда прикажут, предаёт Родину, братьев, матерей, отцов и сестёр только ради того, чтобы беззаботно жрать у немцев и, возможно, даже разжиться трофеями. Вот свинья! Предал всех. Вехов вспомнил о грязной шпионке из землянки и вздохнул.
— Ну, говори, крыса поганая, чего надо этому фашисту, — проворчал Вехов и посмотрел на лейтенанта так безобидно, как будто произнёс дружеское приветствие.
Лейтенант, конечно, ничего не понял, кроме одного слова — фашист. Это слово интернациональное. Он расставил ноги и сунул большие пальцы за ремень.
— Если он ещё раз произнесёт слово фашист, я засуну ему нос в задницу, — сказал лейтенант. — Давай, переведи!
Пивоянов выполнил приказ и перевёл эти слова на русский. Вехов разозлился, но сдержался.
— Переведи, — продолжил лейтенант. — Они теперь пленники и должны двигаться по дороге на юг. Немецкая пехота следует за нами в трёх километрах. У них и отметитесь. Убегать нет смысла, мы всё равно вас найдём. И не переодевайтесь в гражданскую одежду! Тогда вас примут за партизан и сразу расстреляют. А в форме, может, и выживете.
Пивянов старательно это перевёл. Вехов опустил руки и облизнул губы.
— А ты пойдешь с нами? — спросил он переводчика.
— Нет, я должен ехать с ними дальше.
— Жаль! Очень жаль! Мы бы тебя охотно повесили.
— Что он сказал? — подозрительно спросил молодой лейтенант.
— Он выполнит приказ, господин офицер. — Пивоянову вдруг захотелось побыстрее опять оказаться под защитой танкистов. — Его отряд пойдёт к вашей пехоте.
— Хорошо.
Офицер подал знак. Подошли трое танкистов с гранатами в руках. Вехов бесстрастно наблюдал, как они подняли капоты грузовиков, а потом быстро выпустили их и отскочили. Гранаты взорвались с глухим звуком. Капоты взлетели вверх, в воздухе закружились куски двигателей, а три машины загорелись. Солдаты Вехова бросились на землю и откатились на обочину. Седьмая машина горела с оглушительным треском, и на Вехова пыхнуло жаром.
Лейтенант снова подал знак.
— По местам! — скомандовал он танкистам.
Пивоянов опустил голову и пристально посмотрел на Вехова.
— Я тоже пленный, — сказал он, как будто извиняясь. — Они могут сделать со мной всё, что угодно. Мне что, застрелиться? У меня чудесная жена, девять детишек, три сыночка сейчас обороняют Ленинград. А мне что делать? Я уже старик, товарищ. Вот ты — другое дело. Считай, тебе повезло. Попадёшь в лагерь, там тебя будут кормить, а делать ничего не надо. Да тебе можно позавидовать.
— Пошёл к чёрту! — сказал Вехов и презрительно скривился. — Ты даже плевка не стоишь. Жаль, что я даже не могу на тебя нассать… Отличная советская моча, как раз для тебя.
Он отошёл на обочину и мрачно наблюдал, как немецкие танкисты залезли на свои стальные чудовища, закрыли люки, а Пивоянов вскарабкался на последнюю машину, где занял место рядом с пушкой. Потом загрохотали мощные моторы, танки тронулись с места и смели с дороги взорванные грузовики, окончательно уничтожив кузова. Когда Пивоянов проезжал мимо Вехова на последнем танке, их взгляды встретились. Во взгляде Вехова было столько ненависти, что Пивоянову хотелось зареветь от стыда. Но в нем не умирала надежда снова увидеть своих детей, прежде всего тех троих, что в окопах и блиндажах под Ленинградом ждали немцев, не желая сдавать город.
Вехов собрал свой отряд. Немецкие танки скрылись в лесу, слышался лишь грохот гусениц. С обеих сторон дороги полыхали грузовики, и у Вехова заныло сердце.
— Товарищи, — сказал он тихо и серьёзно. — Вы всё слышали. Немецкая пехота идет за танками и через час будет здесь. У нас достаточно времени, чтобы определиться. Кто хочет, может убежать и спрятаться. Свое задание мы больше выполнить не можем. Каждый волен поступать, как знает.
— Сбежать — хорошая мысль. — Сержант Емельян Зотов нерешительно потёр лоб обеими руками. — Но если нас найдут, то расстреляют. Как партизан. Наверняка. Командир, а как поступишь ты?
Вехов для себя уже всё решил.
— Пойду навстречу фашистам, — ответил он. — Живой русский, даже в плену, лучше, чем мёртвый герой. Наступит время и для мести. Я буду ждать.
— Тогда мы с тобой, дружище — Сержант Зотов ударил кулаком об кулак. — Это верно: лучше выжить, чем превратиться в гниющий труп. Возможно, когда-нибудь мы увидим Пивоянова и припомним ему работу на немцев. Он живёт где-то неподалеку. Будет легко найти предателя, с его-то девятью детьми. Тогда он заплатит по счёту. Пошли, ребята!
Бросив оружие, отряд во главе с Веховым отправился навстречу немецкой пехоте. Минут через сорок пять солдаты вышли из леса и оказались у широкого картофельного поля, над которым с карканьем кружилась стая ворон. Бледное солнце вытягивало из борозд влагу от последнего дождя.
Когда им повстречался первый открытый автомобиль марки «Фольксваген» в зелёную и коричневую полосу, Вехов поднял руки и остановился.
Машина притормозила, водитель наставил на них автомат, а на дорогу спрыгнули два офицера с пистолетами в руках.
— Руки вверх! — приказал Вехов, и как в балете, солдаты быстро подняли руки. Немецкий майор громко рассмеялся и опустил пистолет.
— Редко теперь встретишь героев, — сказал он второму офицеру, капитану. — Посмотрите только на эти физиономии! Если так пойдёт и дальше, через пару дней будем купаться в Неве.
Как и в случае с лейтенантом-танкистом, Вехов понял только одно слово. Но этого хватило.
Нева. Её рукава и каналы, пересекающие Ленинград, Северную Венецию. Он вспомнил неповторимо прекрасные мосты и мостики, дворцы прежних князей и царских любимцев, Зимний дворец, Адмиралтейство, церкви и соборы, Невский проспект, Эрмитаж, гранитные набережные с широкими лестничными спусками до самой воды, украшенные каменными львами, сфинксами, огромными вазами и постаментами с шарами. Представил Мраморный дворец, площадь Декабристов, очаровательную улицу Зодчего Росси с украшенными колоннами домами, где в 1738 году была основана русская балетная школа, Кировский театр, в котором пел легендарный бас Фёдор Шаляпин, а Чайковский впервые поставил балет «Лебединое озеро». Ленинград и Нева с их запечатлённой в камне красотой — гордость столетий. А сейчас какой-то немецкий офицер говорит о Неве, и это может означать только то, что он хочет завоевать город на Неве. Матушка Россия, защити себя.
— Вы никогда не войдёте в город! — сказал Вехов. — Никогда, пока в нём бьётся хоть одно сердце.
— Что сказал этот клоун? — Капитан бросил презрительный взгляд на Вехова.
— Не имею понятия. — Майор махнул рукой подъехавшей второй машине. — Забирайте их. Установите, из какого подразделения.
Из второй машины вышел фельдфебель и энергично махнул Вехову.
— Давай! — рявкнул он. — Нечего стоять тут размазней! Бегом, бегом!
Потом он выкрикнул на ломаном русском, чтобы его поняли наверняка:
— Дафай! Дафай! Бьешать!
Тяжело дыша, отряд Вехова с поднятыми руками побежал мимо колонны пехоты, пока кто-то не крикнул: «Стой!».
Теперь они стали пленными, для них война закончилась. Возможно, они смогут её пережить, но сейчас по их грязным лицам текли слёзы, а к горлу подкатил ком.
***
Из немецкой военной сводки:
Воскресенье, 14 сентября 1941 года.
На востоке в результате успешно проведённой операции наступление продолжилось.
После того как немецкие войска, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, прорвали оборону русских под Ленинградом, кольцо вокруг города смыкается.
Понедельник, 15 сентября 1941 года.
На востоке продолжаются наступательные операции.
Несмотря на мощные оборонительные сооружения войска вплотную приблизились к Ленинграду. Поддержанные тяжёлыми танками контратаки противника окончательно провалились.
***
Михаил Вахтер вылез из надёжного подвала глубиной в два этажа и пробирался через обломки и кучи камней. Кругом валялась разбитая мебель, с потолка свисали куски штукатурки, а в полу образовались огромные трещины. С колотящимся от волнения сердцем он добрался до зала под названием Янтарная комната.
Она выдержала бомбардировки без повреждений. Как только немецкие самолёты улетали, женщины, которых набрали по всему городу, выходили из подвала, чтобы продолжить спасение бесценных произведений искусства. В халатах, спрятав волосы под платки, они лихорадочно работали, прислушиваясь, не летит ли на город новая волна смерти.
Об эвакуации оставшихся в Екатерининском дворце произведений искусства уже нечего было и думать. Первая танковая дивизия стояла в нескольких километрах от Царского села и готовилась к решительному наступлению. Полицейская дивизия СС развернулась в северной части Пушкина, ее головные танки стреляли по городу. Уже ничего нельзя было спасти, только защитить сокровища от разрушения.
Женщины засыпали наборный паркет толстым слоем песка, наполняли большие китайские вазы водой, закрывали картоном обтянутые шёлком и парчой стены, натягивали матерчатые чехлы на историческую мебель, завешивали полки и шкафы неповторимой царской библиотеки. Советские офицеры при отступлении ненадолго остановившиеся в некоторых залах для поддержания телефонной связи с войсками, суетливо бегали между комнатами и выходом, готовые в любой момент запрыгнуть в ожидавшие их у крыльца машины и вернуться в Ленинград.
Тяжело вздохнув, Михаил Вахтер прислонился к закрытой деревянными щитами стенной панели Янтарной комнаты и посмотрел на женщин, разравнивающих песок на прекрасном полу.
Завтра. Или послезавтра. Не позже. И здесь появятся немецкие солдаты, будут глазеть на потолочные фрески и отдерут деревянные щиты, посмотреть, что под ними. Они будут молча стоять перед этим янтарным великолепием, возможно, на мгновение даже замрут от восторга, но потом начнётся грабёж, и в результате прекраснейший зал, которым до этого восхищался весь мир, будет уничтожен.
Вахтер был мужчиной среднего роста, немного тучным в неполные пятьдесят пять лет, с тёмно-русыми волосами без проседи. Он носил бело-голубую полосатую рубашку с закатанными до локтей рукавами. Когда он говорил по-немецки, звуки выходили четкими, как у многих уроженцев восточных областей, у которых вторым родным языком был русский.
Увлекшись осмотром потолочных фресок, он вздрогнул, когда кто-то спросил по-русски:
— Вы действительно хотите здесь остаться, Михаил Игоревич?
Вахтер молча кивнул. Перед ним стоял полковник Николай Михайлович Лимонов, командир бригады, прикрывающей отступление советских войск из Пушкина в Ленинград. Его бойцов уже списали со счетов — часть, укомплектованную лишь противотанковыми гранатами и ружьями, сильно потрепало в тяжёлых оборонительных боях против немецких танков. Люди против машин. Но все они знали, что только эта жертва может спасти город. Каждый день, каждый час был на счету. Сотни тысяч людей рыли в Ленинграде траншеи и противотанковые рвы, строили бункеры и огневые позиции для артиллерии, три оборонительных круга, которые должны были остановить немцев.
Пятнадцатого сентября 1941 года люди напряженно смотрели вверх и молча молили небеса послать дождь. Раньше обычного. Не нужно ждать до октября. От дождей дороги станут непроезжими, повозки застрянут в глубокой трясине, и танки на широких гусеницах будут только месить грязь и вязнуть. Тогда они остановятся, агрессор не сможет приблизиться к Ленинграду, а после дождей придёт зима, задуют метели и заморозят немецкую армию, которой придётся бороться с непобедимым противником — природой. Ленинград будет спасён… Пошли нам дождь, Господи, отвори облака, дай немцам напиться! Сейчас, пожалуйста, сейчас, а не в октябре. Помоги нам, Господи!
— Я должен, товарищ полковник, — ответил Вахтер и отошёл от стены. — Я должен остаться с Янтарной комнатой.
— Вас расстреляют без колебания.
— Почему? Я могу напомнить, что тоже немец.
— На службе у русских?
— Многие немцы в прошлые столетия служили царям. Генералы, адмиралы, исследователи, философы, врачи и политические советники были немцами… как и мои предки. В 1716 году мой предок Фридрих Теодор Вахтер приехал в Санкт-Петербург вместе с Янтарной комнатой. С тех пор Вахтеры всегда были р\дом с ней, следили за ней и оберегали. Но кроме этого задачи у них была и другая — произвести на свет сына. Так это наследие передавалось из поколения в поколение.
— И вы верите, Михаил Игоревич, что и вы, и Янтарная комната уцелеете? Это иллюзия. Вы будете последним Вахтеровским.
— Нет, Николай Михайлович. У меня есть сын. — Вахтер произнес это с гордостью. Традиция производить на свет сыновей ни разу не нарушалась, ее свято чтили. — Он сейчас в Ленинграде, охраняет произведения искусства, которые мы сумели эвакуировать, и будет участвовать в обороне города. Я горжусь им. Даже если меня расстреляют, рядом с Янтарной комнатой всё равно останется Вахтер.
Полковник Лимонов прислушался. Вдалеке грохотала артиллерийская канонада. Ему показалось, что пол под ногами слегка дрожит.
— Завтра немцы будут во дворце. — Лимонов разозлился на себя. Конечно, пол во дворце не дрожал, ему померещилось. Нервы! И у командира бригады есть нервы, только нужно уметь их контролировать. — Как вы поступите, Михаил Игоревич?
— Представлюсь командиру немецких войск. Уверен, он будет жить здесь, во дворце. Нет более красивого места в Пушкине. И буду просить, умолять защитить Янтарную комнату от вандализма.
— Вандализма? Вы правда хотите так сказать? Вахтеровский, вас будут избивать до тех пор, пока вы не пролепечете: «Немецкий солдат — не вандал». Вы никогда не служили в армии?
— Никогда. Мы, Вахтеровские, всегда находились на особом положении. Кто же будет заботиться о Янтарной комнате? Царь Петр Первый выдал нам собственноручно подписанный документ с печатью позволяющий членам семьи всегда находится рядом с Янтарной комнатой. Он висит под стеклом в моей квартире, его признавал каждый правитель России… даже Ленин и Сталин. Нет, я не был солдатом, как и никто из Вахтеров. Дело всей нашей жизни — Янтарная комната.
— Интересная история у семьи Вахтеровских. Рассказывайте дальше, Михаил Игоревич.
— Для этого у нас мало времени. Я должен спасать Янтарную комнату. Попозже, товарищ полковник.
— Вы верите в то, что сможете рассказать попозже?
— Можно ли жить без веры в будущее? — Михаил Игоревич вздрогнул. Где-то совсем рядом раздался такой мощный взрыв, что задребезжали оконные стёкла. — Вы возвращаетесь в Ленинград, товарищ полковник?
— Да.
Лимонов уставился вдаль с каменным лицом. Уже этой ночью его штаб должен эвакуироваться и оставить Екатерининский дворец.
— В город? — спросил Вахтер.
— Конечно, я буду в городе, когда поеду на совещание к генералу Зиновьеву и маршалу Жукову.
— Если у вас будет время, не могли бы вы заскочить к моему сыну? Он в Эрмитаже. Около спасённых ценностей из дворца. Если увидите его, то передайте, что я им горжусь. Очень горжусь. И буду сообщать о своих перемещениях, а где я — там и Янтарная комната. После войны мы снова увидимся. Так и скажите ему, пожалуйста.
— Я непременно передам, Михаил Игоревич. Всего вам хорошего. — Лимонов пожал Вахтеру руку, задержав ее в ладони, и спросил: — Что с вами будет, если немцы разорят Янтарную комнату?
— Я этого не переживу. Уже двести двадцать пять лет Янтарная комната и Вахтеры неразрывно вместе. Нас нельзя разлучить.
В эту ночь Екатерининский дворец покидали последние советские войска. Вахтер стоял под колоннадой с мраморными статуями выше человеческого роста на широкой лестнице, ведущей в парк, и смотрел вслед отъезжающим машинам. Ночь была светлая, ясная и влажная, чистый воздух наполняли ароматы тысяч цветов и пряный запах деревьев. Когда затих шум моторов, наступила тишина, полная тишина, как будто природа переводила дыхание, прежде чем утром снова начнут оглушительно рваться гранаты, а гусеницы танков станут перемалывать землю.
Женщины тоже покинули дворец и разошлись по домам. Там они дожидались прихода немцев, со страхом воображая первую встречу с захватчиками. Какие они, эти немцы? Правду ли о них рассказывали, писали в газетах? Они насилуют женщин, бьют головами об стену младенцев, убивают всех мужчин, поджигают дома? Так считали многие жители Пушкина и уходили вместе с отступающими солдатами. Женщины грузили самое необходимое в ручные тачки: пару кастрюль, постельное бельё, одеяла, одежду, тюки с вещами. Многие припрятали кресты из красного угла дома, иконы Богоматери или Христа. Счастливчики имели лошадей. Их могли запрячь в телегу, загрузить туда мебель и всё необходимое. Можно взять картошку и квашеную капусту, консервированные огурцы и связки лука, припасенный окорок или колбасу, даже целую заколотую свинью. Люди предчувствовали, что в Ленинграде наступит голод. Немцы надвигались со всех сторон, кольцо окружения сужалось. Как прокормить сотни тысяч людей? Это была самая важная проблема. Кто знает, как долго продлится блокада, прежде чем или город покорится, или немцев прогонят, или начнутся дожди и морозы… Подождём, наберёмся терпения. Этому нас учили сотни лет: ждать и терпеть.
Михаил Вахтер всю ночь просидел в Янтарной комнате на небольшой скамеечке, в полной темноте, наедине с сокровищами, которые в эту долгую ночь ещё принадлежали СССР.
Он вспоминал, как последний царь Николай II в 1916 году вместе с царицей, цесаревичем и четырьмя дочерьми сидели в этой комнате и оплакивали Распутина, демонического монаха, которого убил князь Юсупов с друзьями. Тогда ему, Вахтеру, было тридцать лет. Его отец принёс царевнам надушенные платочки, чтобы они могли вытереть слёзы. А в канун нового, 1917 года, через двести лет после того, как Янтарная комната прибыла из Берлина в Санкт-Петербург, император устроил здесь последний праздник. Тогда он наградил Игоря Германовича Вахтеровского орденом и поцеловал его по-братски, как будто предчувствовал, что февральская революция 1917 года сметёт последнего императора из династии Романовых с трона.
Потом, когда отец умер от воспаления лёгких и Михаил Вахтер в тридцать четыре года заступил на пост, дворец посетил Ленин. Он прошёлся по всем залам, остановился в Янтарной комнате, обвёл почти благоговейным взглядом сверкающее великолепие «солнечного камня» и сказал:
— Ненавижу царей-эксплуататоров, но увы, эти творения дарят им бессмертие.
А Вахтер ответил:
— Это подарок немецких королей, товарищ Ленин. Мы за ней только присматриваем.
— Будете присматривать за ней и дальше.
Ленин подал ему руку к удивлению окружавших его комиссаров, поскольку пожать руку Владимиру Ильичу Ульянову, отцу новой России, страны рабочих и крестьян, было большой честью.
С тех пор прошел двадцать один год. Не такой уж долгий срок, но сколько всего произошло! В 1918 году родился сын Николай, семнадцатого июля, как раз в этот день, около часа ночи, а в Ипатьевском доме в Екатеринбурге большевики расстреляли царскую семью, расчленили, сожгли и закопали в лесу. Это место называют урочище «У четырёх братьев». В честь царя он назвал своего сына Николаем, но никто об этом не знает, даже сын. Старая семейная традиция, мой мальчик, так заведено у нас, Вахтеров.
Давным-давно всё это было.
А что произшло в 1929 году? Здесь, в Янтарной комнате стоял Сталин, в высоких сапогах и галифе, в гимнастерке с широким ремнём. Всесильный Иосиф Виссарионович Джугашвили похлопал его по плечу и сказал:
— Мне рассказали вашу историю, Михаил Игоревич. Царь Пётр получил вас в подарок вместе с Янтарной комнатой. Пусть это так и останется. У вас есть сын?
— Ему одиннадцать.
— Где он?
— Спрятался. Где-то во дворце. Испугался, он же ребёнок.
— Испугался? Меня? — Сталин засмеялся, его густые усы задрожали, а тёмные грузинские глаза заблестели. — Найдите его. Хочу на него посмотреть. Испугался! Меня никто не должен бояться.
Николая искали по всему дворцу, но так и не нашли. В огромном Екатерининском дворце сотни уголков, закоулков и подвалов, где может спрятаться ребёнок. Николай Вахтеровский познакомился со Сталиным позже, в 1937 году. Николай превратился в долговязого девятнадцатилетнего юношу с русыми волосами — как у матери, Лидии Александровны, и её же лазурного цвета глазами. И здесь же, в Янтарной комнате, стоя перед вазой с золотистой мозаикой из янтаря, Сталин сказал:
— Ты теперь последний из Вахтеровских. В этот раз не стал прятаться? — Он не забыл тот случай, и Николая пронзило холодом. — Вот видишь, меня нет нужды бояться.
Пару дней назад Сталин расстрелял за шпионаж маршала Михаила Тухачевского и ряд высокопоставленных офицеров. Просто убрал с дороги неудобных людей.
А теперь Сталин возглавлял борьбу против немцев, сдерживал их натиск, пытаясь спасти Советский Союз и Ленинград, который должен превратится в гигантскую крепость.
Всего четыре года прошло с тех пор, воспоминания еще свежи. Тогда Сталин в последний раз посетил Янтарную комнату и восхищался её красотой.
В предрассветных сумерках загрохотала немецкая артиллерия. Снаряды щадили дворец, взрываясь в городе. Немцы бомбили улицы и дороги на подступах к Ленинграду, уничтожая отступающие советские войска. Танки Первой танковой дивизии двигались к Пушкину, к Екатерининскому дворцу. Не встретив сопротивления, они вошли на окраину города и оказались на широкой, красивой аллее, ведущей ко дворцу.
Михаил Вахтер покинул Янтарную комнату и опять стоял у входа с колоннами, как в ту ночь, когда провожал полковника Лимонова. При виде грохочущих серо-зелёные стальных колоссов и башен с чёрно-белыми крестами его сердце заныло. Командиры танков разглядывали сказочный дворец из открытых люков. Перед большой лестницей танки остановились, немцы спрыгнули на землю и двинулись на Вахтера с пистолетами в руках. Первый офицер остановился перед Вахтером и ткнул его дулом пистолета в грудь, остальные побежали прямо во дворец.
— Чего встал? — рявкнул ему офицер. — Где остальные? Где русские?
— Я не русский, герр капитан, — спокойно и без страха отозвался Вахтер. — Я немец, как и вы. Добро пожаловать в Царское Село.
Во второй половине дня залы и роскошные комнаты, хозяйственные помещения и комнаты для прислуги, императорские покои и библиотеки заполонили люди в немецкой форме. Они стекались отовсюду, чтобы поселиться во дворце, прекрасной достопримечательности, построенной еще в царские времена. Во дворце располагались и занимали роскошные залы в основном штабы с высокопоставленными офицерами. Солдаты молотками прибивали к резным дверям с позолотой рукописные таблички с наименованиями подразделений, стрелками налево-направо или именами офицеров. Например, «Канцелярия» или «ОиМ», что означало «Оружие и матчасть».
В Екатерининском дворце расположились пять штабов: 28-го армейского корпуса, 16-й армии, 41-го танкового корпуса и штабы 96-й и 121-й пехотных дивизий. Полицейская дивизия СС и Первая танковая дивизия уже двинулись дальше по пятам советских войск. Грохот орудий разносился над землёй как далёкий гром, в небе гудели немецкие бомбардировщики, летящие к Ленинграду.
Михаил Вахтер облегчённо вздохнул, когда дивизия СС миновала дворец и двинулась в северную часть Пушкина, где держали оборону последние красноармейцы. У этого жалкого заслона была только одна цель — выиграть время, ведь каждый час означал на одну траншею, на один бункер, на одну огневую точку больше в оборонительном щите Ленинграда.
Шестнадцатого сентября 1941 года Янтарная комната оказалась в руках немцев, но невредимой под деревянными щитами и картоном. Война покатилась дальше, а комната уцелела. В эти часы Михаил Вахтер был самым счастливым человеком.
Семнадцатого сентября в северной части Пушкина не осталось советских войск. Полицейская дивизия СС победным маршем прошла по городу, и её штаб собирался разместиться в Екатерининском дворце. Вахтер в ужасе уставился на форму с нашивками-черепами. Он в первый раз увидел офицеров и солдат СС элитной немецкой дивизии, о которой и до войны, и сейчас так много писали. Военные с черепами были самыми опасными, вооружены лучше всех в немецкой армии — сжатый кулак со смертельным ударом.
По ступенькам поднимался группенфюрер СС (это звание соответствовало званию армейского генерала), а у крыльца выстроились штабные машины.
Генерал СС не поднялся и до половины лестницы, как у входа показался командующий 28-го армейского корпуса и приложил ладонь к фуражке. В ответ группенфюрер вскинул руку в нацистском приветствии.
— Как я вижу, генерал, — довольно резко сказал командующий, — вы намерены разместить здесь свой штаб.
Группенфюрер СС остановился, бросил быстрый взгляд на внушительный фасад дворца и кивнул.
— Браунфельд, — представился он, — Генрих Браунфельд.
Командующий улыбнулся. Вот именно, Браунфельд, хоть и командир дивизии СС. И зовут его Генрихом, как его шефа, Генриха Гиммлера. Полный комплект.
— Фон Кортте, — сказал он ещё резче. — Сожалею, но вынужден сообщить, что у нас нет места ещё для одного штаба.
Группенфюрер СС Браунфельд снова оглядел фасад дворца и покачал головой. Чего хочет эта обезьяна с красными лампасами на брюках?
— Дворец достаточно большой. Вы же не хотите сказать, что ваш штаб занимает сотню комнат.
— Сейчас в Екатерининском дворце пять штабов. А ещё и общий обоз. Утром прибывают мастерские для двух танковых корпусов. Рекомендую разместиться в соседнем Александровском дворце. Там пока немноголюдно. — Генерал фон Кортте с сожалением пожал плечами. — Группенфюрер, мне жаль. Так распорядился нынешний хозяин дворца, командующий 16-й армией генерал-полковник Буш.
— Тогда я поговорю с Бушем! — Браунфельд чувствовал себя униженным.
«Он сказал просто «Буш», так неуважительно. Какой грубиян!», — отметил фон Кортте.
— Генерал занят, — ответил он холодно. — Пожалуйста, поезжайте дальше, к Александровскому дворцу.
— Вы отказываете в размещении штабу СС? — возмутился Браунфельд. — Герр фон Кортте, я этого так не оставлю. Я доложу лично рейхсфюреру! Неслыханное отношение к воюющей части! Вас поставят на место.
Группенфюрер СС Браунфельд повернулся и, не отдав честь, стал спускаться по лестнице. Кортте не разобрал слова, которые группенфюрер бросил своему начальнику штаба, стоящему у машины. Он только увидел, как штандартенфюрер СС поднял голову, бросил пронизывающий взгляд на Кортте и сел в машину. Браунфельд последовал за ним. Через десять минут площадь перед крыльцом с колоннами опустела. Осталось лишь большое масляное пятно — у какой-то машины подтекал маслопровод.
Когда фон Кортте собирался войти во дворец, Михаил Вахтер ещё стоял у входной двери.
— Благодарю вас, герр генерал, — сказал он по-немецки, запинаясь и заметно волнуясь.
Генерал фон Кортте удивлённо остановился.
— За что? — спросил он.
— Вы уберегли дворец от СС.
— Это вас не касается! — бросил фон Кортте. Он прищурился, как будто целится в Вахтера.
— Во дворце ещё немало свободного места, герр генерал.
— Не ваше дело!
— Конечно нет.
— Тогда чего вы хотите?
— Ещё раз вас поблагодарить за то, что спасли Янтарную комнату.
Генерал Кортте обернулся на ходу.
— Янтарная комната! В том обшитом фанерой зале, где вы постоянно торчите?
— Да, герр генерал.
— И все стены из янтаря?
— Все, герр генерал. Стены, фигуры, гирлянды, двери, рамы у картин, цветы и ветки… всё из янтаря.
— Чёрт возьми! — фон Кортте был поражён. — Вы должны мне её показать. Как вас зовут?
— Михаил Вахтер.
— Это же немецкая фамилия.
— Я немец, герр генерал.
— И работаете у большевиков?
— Уже двести двадцать пять лет, герр генерал.
— Чёрт возьми! — в голосе фон Кортте прозвучали насмешливые нотки. — А выглядите не таким уж старым. — Он смеялся над своей собственной шуткой ровно три секунды и снова стал серьёзным. — В вопросах искусства я полный невежда, — признался он. — Янтарная комната… Я никогда о ней не слышал. Она известна в художественных кругах?
— Это самое крупное и ценнейшее произведение искусства. Она неповторима. Больше никогда не создадут ничего подобного.
— И вы думаете, что о местонахождении комнаты ничего неизвестно? Что ваши укрытия из досок имеют смысл… сейчас, когда Пушкин в наших руках и навсегда останется нашим? Пройдёт немного времени, и сюда прибудет комиссия экспертов, снимет доски и воскликнет: «Ага! Ого!» Начнутся звонки Гитлеру, рейхсляйтеру Борману, министру иностранных дел фон Риббентропу, рейхсмаршалу Герингу, рейхсляйтеру Розенбергу — вам знакомы эти имена?
— Только Гитлера и Геринга. Здесь, в Пушкине, мы жили замкнуто. Нас мало интересовала Германия. Мы работали во дворце, следили за многочисленными залами, мебелью, полом и коврами, кое-что чинили при необходимости, ухаживали за садом… Какое нам дело, что происходит за стенами Екатерининского дворца?
— Это весьма распространённая ошибка, ходить в шорах и смотреть только в одном направлении.
Генерал фон Кортте вернулся в великолепный вестибюль с мраморными фигурами, чудесной лестницей, потолочной лепниной и единственным в своём роде наборным паркетным полом.
Вахтер последовал за ним. От слов фон Кортте ему не стало спокойнее, напротив, его забота о комнате приобрела новое направление, и на сердце стало тревожно.
— Вы думаете, герр генерал, что Гитлер, Геринг или еще кто-нибудь...
— Я ничего не думаю. — Фон Кортте остановился и подождал Вахтера. — Да и вообще, моё мнение не играет роли. Имеет значение только мнение фюрера.
— И как Гитлер поступит с Янтарной комнатой?
— Если она и правда единственная в своём роде, как вы сказали, Вахтер, то это ценный военный трофей. В рейхе достаточно музеев, куда ее могут отправить. Вы пробудили во мне интерес. Когда я смогу осмотреть комнату без досок?
— Я завтра открою одну панель.
— Очень хорошо. — Генерал фон Кортте кивнул, когда два молодых офицера пробежали через вестибюль и отдали ему честь. — Хочу спросить вот еще что: где персонал дворца? Вы же не в одиночестве здесь работали.
— Убежали, герр генерал.
— Убежали от нас? — удивился фон Кортте. — От нас убегать нет необходимости!
— Женщины боялись, что их изнасилуют.
— Мы? Наши солдаты?! — Голос генерала стал громким и резким. — Немецкий солдат — порядочный человек! Мы же не монголы Чингизхана. Женщины должны вернуться и поддерживать во дворце порядок.
Не дожидаясь ответа, фон Кортте развернулся и стал подниматься по мраморной лестнице туда, где разместился его штаб. Он выбрал Китайский зал, замечательную комнату с расписными стенам, дверями и резной азиатской мебелью. Солдаты узла связи, похоже, не обращали на эту красоту никакого внимания. В стены они забили скобы для телефонных проводов, а в соседние помещения просверлили дыры. Здесь располагалось ведомство квартирмейстера, Один-А и Один-Б, а также спальни штабных офицеров.
Михаил Вахтер проводил генерала взглядом и вытер лоб правой рукой. Он не мог его понять. Иногда с ним можно разговаривать, то вдруг он становился резким и холодным, как мраморная статуя. Однако генерал не допустил во дворец эсесовцев. Уже за один этот смелый поступок его стоит поблагодарить.
На следующее утро всё изменилось.
Ночью с фронта вернулись две роты пехоты. Грязные, уставшие, изнурённые наступлением солдаты. Их сменили новые, свежие роты. Солдат расквартировали во дворце, где они заняли все свободные комнаты.
Вахтер не слышал, как они пришли, потому что спал в своей квартирке во флигеле, на двери немцы прибили картонную табличку с надписью «Администрация». Квартиру оставили Вахтеру, его никто не беспокоил. Он с удивлением отметил, какое чудо может сотворить эта маленькая табличка. Никого не заботило, что происходит за дверью, достаточно было таблички. Вот что значит бюрократия. Настоящий немец относится к официальным табличкам с уважением и не задает вопросов.
Оказавшись в Янтарной комнате, Михаил Вахтер растерянно остановился и неподвижным взглядом уставился на чудесную дверь. К ней прибили картонную табличку с надписью крупными буквами «Занято 2 Кр». Ее приколотили к позолоченной гирлянде простыми гвоздями.
Дыхание у Вахтера участилось, он рывком открыл дверь и ворвался в зал. Два солдата как раз отдирали деревянную обшивку, чтобы посмотреть, что скрывается за ней. Остальные лежали, где попало — спали на стоящих в комнате или принесённых креслах и кушетках. Валялись прямо в грязных сапогах с засохшей глиной на парчовой и шёлковой обивке, курили и бросали окурки на песок, покрывающий бесценный паркет. Те двое отодрали со стен фанеру и потрясенно уставились на сияющую стену.
В мозаичной раме с вырезанными из янтаря листьями, переливающимися от солнечного золотистого до тёплого коричневого цвета, висела картина с пасторальным пейзажем — римские колонны, развалины арок среди живописных холмов вроде той, что можно встретить в Тоскане. Воплощенная в живописи ода Вергилия.
— Вот это да! — восторженно выдохнул солдат. — Прихвачу горсть для моей Эрны. Это же янтарь! Вот что я нашел!
Он отстегнул штык, воткнул его в мозаику, провернул и выломил из стены здоровенный кусок. В три длинных прыжка Вахтер набросился на солдата, когда тот с усмешкой сказал:
— Эрне всегда нравился янтарь. Да его здесь как в золотой жиле!
— Назад! — заорал Вахтер. Он вырвал у солдата штык, откинул его в сторону, схватил солдата за плечи и оттащил от янтарной панели.
— Эй, ты что? — ошеломлённо выпалил тот. Сначала он понял лишь, что его кто-то схватил, а штык валяется на песке посредине зала. Потом увидел, что его оттолкнул штатский, какой-то старик в поношенном костюме.
— Свихнулся, дедуля? — выкрикнул он, по-боксерски сжав кулаки. — Сейчас получишь…
Но бить он не стал. Два солдата за спиной Вахтера размахнулись и ударили невесть откуда взявшегося безумца по голове прикладами, а остальные вскочили с кресел и кушеток.
Второго удара Михаил Вахтер уже не почувствовал. Острая боль пронзила его сзади до самых кончиков пальцев. Проваливаясь в темноту, в которой больше не было мыслей, он успел лишь подумать, что умер.
***
Яна Роговская ждала в землянке появления немцев. Велосипед она спрятала в густом подлеске. Она получила его от сбитого с толку адъютанта генерала Зиновьева, который не мог понять, почему шпионку не расстреляли, а дали велосипед и позволили уехать. Однако спрашивать генерала о смысле его приказа он не стал… Да и кто бы осмелился?
И к тому же все в уютном охотничьем дворце были заняты эвакуацией штаба. Немецкая артиллерия обстреливала отступающих красноармейцев, танковые атаки пробивали огромные бреши в оборонительных сооружениях, новые противотанковые орудия немцев подавляли контратаки советских танков Т-34. «Штуки» и «Хейнкели» сбрасывали смертоносный груз на деревни и города, полыхали пожары, а небо потемнело от дыма.
Генерал Зиновьев больше ничего не слышал об отряде по спасению произведений искусства, связь с младшим лейтенантом Веховым прервалась. Он больше не ждал новостей, поняв из донесений с фронта, что маленькая колонна могла наткнуться на авангард немецких танков. Обозначенные на карте вражеские позиции показывали, что у Вехова не было возможности их избежать. Кроме того, из Ленинграда поступил приказ отойти к внешнему оборонительному поясу. Там тысячи женщин, пионеров и стариков по-прежнему копали траншеи, воздвигали новые противотанковые ограждения, укрепляли бункеры и блиндажи. Подростки таскали мешки с песком и камни, балки и доски для оборонительного вала против агрессора.
В Ленинград прибыл сталинский протеже и член Политбюро Андрей Жданов и, как новый руководитель ленинградской парторганизации, возглавил оборону. В своём воззвании он объявил:
— Или мы выроем фашистам могилу под Ленинградом, или рабочий класс Ленинграда будет порабощён, а его лучшая часть уничтожена. Поэтому все жители города должны взять в руки оружие. Должны научиться обращению с ручными гранатомётами и тактике уличных боёв. Каждая улица, каждый дом должны превратиться в крепость, чтобы обескровить врага. Если немцы всё же захватят Ленинград, то только пролив море своей крови.
Семнадцатого сентября маршал Жуков приказал всем командующим советскими армиями, которые принимают участие в обороне Ленинграда, не уступать фашистам ни пяди земли. «Любое отступление я буду рассматривать как измену родине, — говорилось в приказе. — Это бесчестье будет караться смертной казнью».
Везде, и прежде всего на юге города, где грозила самая большая опасность после захвата Пушкина, устанавливали проволочные ограждения и строили бетонные бункеры, которые прозвали «ворошиловскими отелями». Немецкие самолёты сбрасывали на город фальшивые продовольственные карточки и деньги, а также листовки с призывом убивать командиров и сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь. Военные патрули прочёсывали улицы, и если заставали кого-нибудь с такой листовкой в руках, могли расстрелять на месте. Полтора миллиона человек готовы были грудью преградить путь немцам.
Рано утром семнадцатого сентября Яна услышала грохот немецких гусениц. Это приближался передовой отряд 4-й танковой группы под командованием генерал-полковника Хёпнера. Кольцо окружения вокруг Ленинграда замкнулось.
Ещё два дня Яна оставалась в укрытии. Потом она вылезла наружу, как следует умылась в ручейке и стряхнула с одежды грязь. Шинель она свернула и кинула в землянку. Вытащив из кустов велосипед, она направилась к дороге. Это был самый опасный этап плана, но ей повезло. На дороге не оказалось ни одной немецкой машины и ни одного солдата. Стояла тишина, как бывает в прекрасном осеннем лесу под лучами еще тёплого солнца. Повязав голову платком медсестры и повесив на руль коричневую клеенчатую сумку, она села на велосипед и поехала по дороге, где недавно проезжал Вехов.
Обратно в Пушкин. Обратно в Екатерининский дворец. В голове кружились разные мысли. Жив ли Михаил Игоревич? Кто теперь живёт в прекрасных залах? Поверят ли её рассказу, устроится ли она работать в ближайший госпиталь? Что с Николаем, её возлюбленным? Он покинул Царское Село с последним грузовиком, нагруженным вазами, драгоценностями, мебелью и коврами, картинами двух последних столетий и разными императорскими безделушками. Этот груз он должен был со всеми предосторожностями доставить в Ленинград. Добрался ли он до города или погиб под немецкими бомбами и снарядами? Что об этом известно Михаилу Игоревичу? Если, конечно, он жив. Что с Янтарной комнатой?
Она крутила педали вот уже два часа, когда её догнало первое немецкое подразделение. Пехотный батальон перемещался на новую позицию. Командиры рот ехали верхом. Впереди, в открытом кюбельвагене [1], — майор, командир батальона, вместе с адъютантом и доктором, капитаном медицинской службы, а за ними грузовики с канцелярией, полевой кухней и прочим имуществом. Они чувствовали себя так уверенно, что даже не послали вперед разведку.
При виде длинной серой колонны немецких солдат у Яны заныло сердце. Она испугалась и, пригнувшись к рулю велосипеда, сильнее нажала на педали. Пульс бешено скакал. Остановят ли её? Спросят ли, откуда она едет?
Яна ехала по правой стороне дороги, и поравнявшись с ней, машина майора замедлила скорость. Шофёр широко улыбнулся и послал девушке воздушный поцелуй. Доктор удивленно посмотрел в её сторону. Майор дотронулся до его рукава.
— Не дергайтесь доктор! — рассмеялся он, взглянув на крутящую педали Яну. — Оставьте эту пропахшую карболкой мышку в покое. У нас нет времени.
Капитан обернулся и покачал головой.
— Откуда она здесь взялась, герр майор? — спросил он недоверчиво. — Чёрт возьми, откуда она едет? Впереди нет госпиталя, только передовой перевязочный пункт.
— Стало быть есть.
— Никак нет! Во фронтовых подразделениях работают только санитары и врачи. Санитарки Красного Креста работают лишь на пункте сбора раненых, а он позади нас. Она же едет на велосипеде, как будто направляется к ближайшему госпиталю.
— Доктор, вы просто ищете причину с ней познакомиться. Я запрещаю останавливаться. — Майор опять рассмеялся и махнул Яне рукой, когда они проехали мимо. — Чёрт возьми! И правда симпатичная мышка…
Яна махнула в ответ, улыбнулась и ещё сильнее нажала на педали. Проезжающие мимо солдаты свистели и улюлюкали.
— Сестра, у меня триппер, — различила она голос из общего хора. — Сестрёнка, где у тебя шприц, а то у меня так чешется, так чешется… Иди сюда и посмотри сама…
Когда с ней поравнялась полевая кухня, сидящий впереди повар помахал длинным деревянным половником и прокричал:
— Меняю порцию супа на один перепих!
— Обратите внимание, герр майор, — встревоженно произнес доктор. — У неё грязное платье! Немецкая медсестра себе такого не позволит! Никогда! Нужно осмотреть ее повнимательней...
— Ах, вот оно что, доктор! Личный осмотр и всё такое. Что там под юбкой… — Майор опять рассмеялся. — Ничего не поделаешь, мой дорогой — всем хочется секса. У вас, у врачей, всё же больше возможностей, чем у нас, фронтовых бедолаг.
В конце концов немецкий батальон проехал мимо, и Яна продолжила свой путь по дороге в сторону Пушкина в одиночестве. Издалека до нее доносилось пение солдат — так они боролись с усталостью. Пополнение с касками у пояса, в расстёгнутой пропотевшей и пыльной форме шло вперед, чтобы сомкнуть кольцо окружения вокруг Ленинграда.
С лёгкой дрожью в коленях Яна слезла с велосипеда, потянулась и глубоко вздохнула. По грунтовой дороге ехать было непросто — после пяти дождливых дней образовались глубокие рытвины.
Переночевала она в наполовину сгоревшей крестьянской избе. Яна накидала соломы между обугленными бревнами у стены главной комнаты с развалинами кирпичной печи. Она вдыхала резкий запах гари и ещё какой-то незнакомый сладковатый запах.
Только утром она обнаружила, что совсем рядом, за обгоревшей стеной, лежали три трупа — две женщины и мужчина, с обугленными лицами. От запаха разложения Яну стошнило прямо на закопчённую стену. Она снова села на велосипед и выехала на разбитую грунтовку.
Через некоторое время к ней вернулся аппетит. Присев под деревом на обочине, она положила коричневую сумку на колени и стала грызть семечки. Потом разрезала большую луковицу и съела её с двумя кусками чёрствого хлеба и колбасы. Колбаса уже начала портиться, но Яна не раздумывая ее проглотила. Воду она хранила в пивной бутылке, которую наполнила, когда умывалась в лесном ручье. Немного утолив жажду, она вылила остатки воды на руки, умылась, достала из сумки расчёску, привела в порядок волосы и посмотрелась в зеркальце в чехле из коричневого дерматина. Она осталась довольна своим видом: платок медсестры, широкие скулы, ясные глаза, полные губы… Яна в полной мере осознавала свою привлекательность.
К вечеру второго дня она добралась до Пушкина и дворцов в Царском Селе.
Немцы теперь были повсюду и едва обращали на неё внимание. Ничего не выкрикивали и не делали жестов, какими мужчины часто сопровождают симпатичную девушку в форме сестры Красного Креста. Её присутствие не вызывало ни у кого подозрений. Как раз за день до того в Пушкин передислоцировался полевой госпиталь.
Девять врачей и четырнадцать санитаров заботились о раненых и больных, которых на санитарных машинах доставляли с фронта. На передовых медпунктах их латали на скорую руку, и теперь они лежали в пропитанных кровью бинтах, с «санитарными записками», гласящими:
«Сопроводительная записка для раненого или требующего хирургического лечения».
Две красные полосы означали «нетранспортабелен»
Одна красная полоса — «транспортабелен».
Отсутствие красных полос — способен передвигаться.
Ниже стояли имя, звание, воинская часть и вид ранения.
Для многих это было свидетельством о смерти, сопроводительным билетом в вечность. На всех записках имелся крупный, бросающийся в глаза штамп: «Дезинсекция произведена».
С госпиталем в Пушкин прибыли три медсестры. Почему бы кому-нибудь из них не поехать на велосипеде в Екатерининский дворец? Ведь там располагалось столько комендатур и штабов, и всегда могло что-нибудь произойти. Именно на это и надеялась Яна. Она свободно проехала по знакомой дороге, пересекла парк и прекрасные сады и оставила велосипед у стены. Из открытых окон доносился стук пишущих машинок и гул голосов, пахло сигаретным дымом.
Без спешки, не привлекая внимания, она отправилась дальше пешком, через боковую дверь вошла во флигель, где раньше жил обслуживающий персонал и находилась квартира Михаила Вахтера. Попадающиеся на пути офицеры улыбались ей, некоторые окидывали нахальными взглядами, а один капитан остановил и схватил за руку.
— Куда это вы, моя сладкая? — спросил он. — Вы не меня ищете?
— Конечно нет. Мне нужно к генералу.
О генерале она сказала просто так, для надёжности. Во дворце наверняка был генерал, а как его зовут — не имеет значения.
— К генералу… С ним я тягаться не могу, — двусмысленно заявил капитан. — Комната семнадцать, но не здесь. Там, в главном здании. Желаю хорошо порезвиться.
Она остановилась перед дверью квартиры Михаила Вахтера, где висела табличка «Администрация», и постучала.
Никто не откликнулся, хотя Яна постучала три раза. Тогда она потянула за ручку. Дверь оказалась незапертой и распахнулась с тихим скрипом. Яна огляделась. В коридоре никого не было, и она быстро проскользнула в комнату.
Сразу почувствовался сильный запах карболки. Остановившись в прихожей с прижатыми к груди руками и парализованная ужасным предчувствием, она громко крикнула:
— Михаил Игоревич, где вы? Вы здесь?
Она даже не заметила, что кричит по-русски. Ей повезло, что в комнате никого не было.
По тупой боли в голове Михаил Вахтер осознал, что ещё жив. Он почувствовал мерзкий запах карболки, ощутил тяжесть в голове, услышал через окно голоса и шум моторов, но так и лежал с закрытыми глазами, удивляясь тому, что находится в своей кровати. То, что это кровать из его спальни, он понял, поскольку звуки доносились слева, то есть оттуда, где на широкую садовую дорожку выходило окно.
«Перенесли», — промелькнуло в голове, но он не помнил, как это произошло. Он восстановил в памяти события: Янтарная комната, солдат, отдирающий обшивку и втыкающий в мозаику штык, словно грабитель всаживает нож в грудь. Он защитил от него янтарь, выбив штык из рук… Да, это Вахтер помнил. Также он вспомнил ухмыляющуюся рожу солдата, а потом его ударили по затылку и в глазах всё потемнело.
Янтарная комната! Он резко открыл глаза и вздрогнул, услышав крик.
— Михаил Игоревич! — раздался женский голос. — Михаил Игоревич! Вы очнулись... вы живы...
Потом она заплакала, и рыдания заглушили слова. Перед его глазами появилось лицо в слезах, обрамлённое чёрными волосами и платком медсестры. Женщина наклонилась над ним и поцеловала в лоб и в щеки.
— Михаил Игоревич, лежите спокойно, не двигайтесь, вы ранены. Хотите пить?
— Говори на немецком, — сказал он, еле ворочая языком. — Яночка, ты немецкая медсестра. Никогда не забывай об этом! Никогда! Ты родилась в Восточной Пруссии… В Восточной Пруссии…Около озера Мазур.
— Да, Михаил Игоревич, — ответила она сквозь слезы.
— Яна!
— Я знаю, — теперь она говорила на немецком с восточным акцентом. — Полежите спокойно, герр Вахтер.
— Мне надо в Янтарную комнату, сестра. — Он попытался подняться, но в голове словно разгорелся пожар. Он откинулся обратно на подушку и закрыл глаза. — Мне надо в Янтарную комнату.
Яна укрыла его одеялом до самого подбородка и жестом велела лежать.
— Вы живы, и это сейчас самое главное.
Хотя они находились в комнате одни и никто её не видел и не слышал, Яна продолжала играть запланированную роль: она немецкая медсестра, а он — незнакомый ей сотрудник администрации дворца в Царском Селе. Они никогда прежде не встречались. Любое русское слово могло погубить их и разрушить план.
Беспокойство Вахтера росло. Он крепко сжал Янину руку, когда она хотела поправить ему подушку. Яна поразилась его силе.
— Я должен ее увидеть, — сказал он. — Понимаешь? Должен знать, что сделали с комнатой, после того как меня ударили. Двести двадцать пять лет никто не прикасался к стенам, за которыми присматривали Вахтеры, ведь кто-то из нашей семьи всегда там находился… А теперь они выламывают мозаику… для Эрны, «в память о Пушкине». Яна, помоги мне встать. Пожалуйста…
— Вы останетесь в постели, Михаил Игоревич.
— Яна.
— Вы останетесь в постели, герр Вахтер, — исправилась она. — Я схожу туда и посмотрю, что с Янтарной комнатой. Медсестра везде может пройти. — Она наклонилась и погладила небритую щеку. — Это была хорошая идея, Михаил Игоревич, — прошептала она ему на ухо.
— Яна!
— Нас никто не слышит.
— Не поэтому. Ты должна привыкнуть к тому, что меня не знаешь. Сегодня мы впервые познакомились.
В дверь постучали, и вошёл высокопоставленный офицер. Увидев у постели Вахтера медсестру Красного Креста, он остановился, но затем подошёл поближе.
— Вендлер, — важно представился он. — Я врач. Как вы себя чувствуете, герр Вахтер? Как голова? Я вижу, за вами хороший уход.
Он пристально посмотрел на Яну. Она потупилась и повернулась к полковнику медицинской службы 28-го армейского корпуса спиной.
— Это вы сделали мне перевязку, герр доктор? — спросил Вахтер. — Что с моей головой?
— Рваная рана средних размеров… Череп не поврежден. Слава богу. А перевязку вам сделал санитар.
Доктор Вендлер откашлялся, наклонился над головой Вахтера и проверил повязку. Она выглядела безукоризненно.
— Вы похожи на мусульманина, — попытался пошутить он. — Тюрбан вам идет. Правда ведь, сестра?
— Да, — коротко ответила Яна.
— Я должен выполнить одну просьбу. — Доктор Вендлер, похоже, относился к разряду любителей порисоваться. — Генерал фон Кортте просит прощения за отвратительное поведение своих солдат. Виновные будут наказаны. Как минимум, не получат отпуск. Генерал просил передать свои искренние сожаления.
— Спасибо, герр доктор.
— Генерал хочет вас навестить.
— Что с Янтарной комнатой?
— Не знаю. — Доктор пожал плечами. Янтарная комната интересовала его меньше симпатичной медсестры у кровати Вахтера. Яна сделала вид, что не замечает, как доктор пристально ее разглядывает. — А что может произойти с комнатой?
— Может, её уничтожили... разграбили…
— Подождите-ка, нахмурился доктор. — Что вы только что сказали, Вахтер? Немецкий солдат ничего не разрушает и не грабит. Ваше мнение о нашей пехоте...
— Простите, герр доктор, — перебил полковника Вахтер. Он уже понял, что ничего подобного произносить нельзя. Хороший немец никогда не станет критиковать армию фюрера. Это падение морального духа. Удар по обороноспособности. — На меня напали, когда я хотел помешать солдату выломать кусок из янтарной панели.
— Подумаешь, всего лишь небольшой сувенир… И не заметишь при таком-то количестве янтаря. Вы правда первым напали на солдата?
— Да. Он ковырял штыком…
— Ладно, ладно! — нетерпеливо махнул рукой доктор Вендлер. — Мы проведем расследование. Для этого и существует военно-полевой суд.
— Военно-полевой суд? — протянул Вахтер. Боль в голове усилилась. Военно-полевой суд означает, что будет слушание дела и солдата наверняка оправдают, поскольку он оборонялся. О выломанном янтаре даже и не упомянут. — Это обязательно, герр доктор?
— Решение будет принимать генерал. — Доктор Вендлер снова взглянул на Яну и облокотился на изголовье кровати. — Как вы сюда попали, сестра?
— Из госпиталя. Из штаба позвонили и попросили помочь, — молниеносно отреагировала она. Яна подняла голову и посмотрела доктору Вендлеру в глаза холодно и бесстрастно. — Я приехала во дворец на велосипеде. Можете проверить, он прислонен к стене.
— Ну и ну! Как будто здесь недостаточно санитаров! В госпиталь с фронта поступают тяжелораненые, за которыми нужен тщательный уход, а кто-то вызывает сюда сестру, чтобы ухаживать за штатским! Идиоты!
— Обратитесь, пожалуйста, к генералу, герр полковник, — холодно сказала Яна. Её сердце бешено колотилось, но внешне она была спокойна. — Кто-то позвонил из штаба…
— Я это уже слышал. — Доктор Вендлер отодвинулся от стены. — Как долго вы пробудете во дворце, сестра?
— Пока во мне будут нуждаться.
— Как вас зовут?
— Яна Роговская.
— Звучит очень по-русски...
— Я родилась в Мазуре. Город Лык в Восточной Пруссии.
— Я знаю, где находится Мазур! — вскинулся доктор Вендлер. — Сражение у Мазурских озер. Гинденбург разгромил русскую армию… В 1914-ом, в Первую мировую. Яна Роговская, видимо, у вас есть пара капель русской крови.
— Ни капли. — И тут Яна сказала то, чего Вахтер от неё не ожидал. — У меня есть документ с генеалогическим древом. С 1680-го года. Мои предки были бранденбургскими поселенцами. Хотите посмотреть? Он у меня с собой…
— Спасибо! Спасибо! — Доктор Вендлер махнул рукой, еще раз кивнул Вахтеру и вышел, поскрипывая сапогами.
Вахтер некоторое время лежал не двигаясь, но потом сел в постели.
— Потрясающе! Кто тебе подсказал идею с документом о генеалогии?
— Пожалуйста, не вставайте, герр Вахтер. — Глаза Яны светились от радости. — Как-то я прочитала в «Правде», что немцы сходят с ума по родословным. Каждый хотел доказать, что он истинный ариец и в его семье никогда не было евреев. Я вдруг об этом вспомнила.
— Ты…. Извините… Вы чудесная девушка, Яна. И были бы еще чудеснее, если бы позволили мне встать и сходить в Янтарную комнату.
Через несколько минут он стоял уже в зале, опираясь на плечо Яны. От потрясения Вахтер потерял дар речи, на его глазах выступили слёзы. Во многих местах деревянные щиты были оторваны, в янтарных панелях зияли ужасные дыры, декоративные розетки и гирлянды отсутствовали — при виде такого у него разрывалось сердце. Но зал был пуст. Немецкие солдаты ушли. После них осталась лишь грязь на обивке кресел и кушеток, следы сапог на полу, куча бумажек, банок и бутылок, а на одной обнажённой женской фигурке из янтаря висела табличка с надписью «Руками не трогать!»
— Немецкий солдат ничего не разрушает… — тихо повторил Вахтер слова доктора Вендлера. — А мы всегда гордились своим немецким происхождением. Теперь мне стыдно.
Он потупился и закрыл глаза. Яна не мешала ему переживать эту боль и молча стояла рядом, стиснув зубы. Да и что тут скажешь? Идет война, а завоеватели во все времена вели себя одинаково.
Оба вздрогнули, когда за их спиной хлопнула дверь. Они тут же обернулись и увидели входящего в зал генерала фон Кортте. Тот окинул взглядом зал и разочарованно пожал плечами.
— Я к вам заходил, герр Вахтер, — сказал он, — но вас не оказалось в квартире. Я решил, что наверняка найду вас в Янтарной комнате, и оказался прав. Я знаю, что вы хотите сказать… хоть мне и неловко, но должен извиниться за моих солдат. Вам от этого легче не станет, выломанные куски уже не вернешь, четверых солдат ждет наказание, а в отношении остальных ничего не доказано… Война не обходится без потерь.
Генерал фон Кортте обошёл зал, внимательно рассматривая янтарные панели, фигурки, картины, гирлянды и снова подошёл к Михаилу Вахтеру и Яне Роговской.
— Я мало в этом смыслю, — сказал он. — Музеи всегда вызывали у меня отвращение. Коллекция мёртвых предметов… Я предпочитаю иметь дело с живыми людьми. Но теперь вижу: здесь находится бесценное сокровище. Это произведение искусства никого не оставит равнодушным. — Немного подумав, он добавил: — Как я вам уже говорил, в рейхе, кажется, с этим согласны.
— Что… что вы имеете в виду, герр генерал? — В голосе Вахтера послышались тревожные нотки. — Что вы узнали?
— Завтра к нам прибывают две специальные комиссии, спецотряд АА, как его называют в Министерстве иностранных дел, и люди из «специального штаба Розенберга». Все они искусствоведы, реставраторы, разбирающиеся в искусстве люди. Эксперты, одним словом. Почему все они устремились в Пушкин, причем именно в Екатерининский дворец?!
— Это простая загадка, герр генерал. — Вахтер сильнее опёрся на плечо Яны, почувствовав, как слабеют колени. — А мне что делать?
— Ничего.
— Это очень мало.
— Ничего другого вам предпринимать не следует, герр Вахтер.
Генерал фон Кортте вопросительно посмотрел на Яну. Медсестра из Красного Креста ухаживает за штатским… Кто позаботился о таком роскошном уходе? Но он не стал задавать вопросов, как и все остальные, для которых присутствие медсестры было обычным делом.
— Я могу чем-нибудь вам помочь?
— Не пускать во дворец спецотряды, герр генерал.
— Как вы себе это представляете? Мне об этом сообщил командующий 18-й армией, генерал-полковник фон Кюхлер. Я же не могу сказать генерал-полковнику: «Отправьте их обратно!»
— Почему не можете?
— Такой вопрос может задать только штатский. Во-первых, я не могу давать указания генерал-полковнику, а во-вторых, спецотряды не подчиняются армии, только своим министерствам. Я же не идиот, чтобы обращаться к Риббентропу или Розенбергу.
Генерал фон Кортте открыл дверь и собрался уходить. Но в резном, позолоченном дверном проёме он обернулся.
— Не делайте глупостей, — сказал он серьёзно. — Человека можно заменить, а такое сокровище — никогда. Не имеет значения, где оно будет находиться. Ваша семья длительное время образцово выполняла свои обязанности. Теперь в этом нет необходимости.
***
В ставке фюрера «Волчье логово» в Восточной Пруссии, близ Растенбурга, рейхсляйтер Мартин Борман, шеф партийной канцелярии и один из немногих доверенных людей Гитлера, готовился к обязательному обеду у фюрера.
Хотя Гитлер ел мало и преимущественно вегетарианскую пищу, это никоим образом не снижало ежедневной напряженности, предшествующей этому мероприятию. За столом Гитлер произносил бесконечные монологи с размышлениями о будущем, о своих целях и надеждах, о взглядах на искусство и науку, на стратегию и мировую политику, на экономику и национал-социалистическую правовую реформу, на внешнюю политику и архитектуру. Эти разговоры день за днём всё больше обнажали сущность фюрера, задумавшего изменить весь мир.
В этот день двадцать второго сентября 1941 года стало ясно, что Ленинград захватить не удастся и преимущественным направлением военных действий становится движение на Москву. Кольцо окружения замкнулось, началась блокада с целью заморить голодом полтора миллиона человек. Все лишние на этом участке фронта войска перебросили на московское направление, прежде всего Четвертую танковую группу генерала Хёйпера. В это решение не поверили ни Сталин, ни Жуков, посчитав его отвлекающим манёвром. Но когда Четвертая танковая группа появилась на севере Москвы, стало ясно, что немцы не будут штурмовать Ленинград, его жителям суждено умереть от голода.
Мартин Борман внёс пару правок в блокноте, сунул его под мышку и вошёл в столовую незадолго до прихода Гитлера. Обсуждение текущих событий уже закончили, рапорты с фронтов порадовали Гитлера, хотя немецкие армии наступали медленно, а сопротивление Советов день ото дня росло. Но великая цель — парад немецких войск в Москве — становилась всё ближе. Фюрер вскоре сможет продемонстрировать немецкому народу и всему миру то, что не удалось Наполеону — впервые в истории по столице СССР пройдёт европейская армия.
Сегодня Гитлер был доволен собой, своим окружением и генералами. Можно было поговорить и о приятном, например, об искусстве. Борман знал Гитлера, его настроение и слабости едва ли не лучше всех остальных. Он почти всегда верно чуял, что заинтересует Гитлера помимо положения дел на фронте, и часто переводил разговор на ту или иную тему, которую считал важной.
Обед проходил как обычно. Гитлер ел мало, выпил на десерт чашку чая, перебросился парой фраз со своим врачом, доктором Мореллем, а потом обратился к Борману. Длинный монолог закончился. Гитлер, к радости Бормана, рассказал, что после окончания войны планирует построить в Линце на Дунае гигантский музей — этот город ему особенно дорог. Архитектор Альберт Шпеер уже работал над проектом. Гигантское сооружение по размерам должно превзойти все созданные до сих пор, по сравнению с ним дом партийных съездов в Нюрнберге покажется карликовым. В этом музее соберут самые ценные произведения искусства со всего мира, в этой гигантской Валгалле, пантеоне славы, искусства, заполненном скульптурами и картинами, коврами и гобеленами, работами мастеров по золоту и фарфору, мебелью и книгами, иконами и гравюрами по дереву. Бесценное культурное достояние всей Европы за всё время существования человечества на грядущие тысячелетия превратится в достояние немцев. Наследие для сотен поколений. Ведь Европа будет принадлежать Германскому рейху, в этом Гитлер не сомневался. Экспонатами этого музея станут прежде всего потрясающие сокровища из Советского Союза, из монастырей и церквей, из царских палат, из княжеских и дворянских дворцов.
Уже в начале войны было издано распоряжение, согласно которому все произведения искусства на завоёванных территориях осматривали и сортировали эксперты. Всё самое лучшее и ценное после победы должны были доставить в Линц. Это распоряжение называли «проект музея фюрера». Он лично занимался всем относящимся к искусству последних двух тысяч лет.
Сегодня, двадцать второго сентября, Гитлер более подробно рассказал доверенным собеседникам про свою мечту о музее в Линце. Из захваченных территорий на востоке приходили длинные списки с изъятыми ценностями, Гитлер просматривал их с воодушевлением. Он бросил взгляд на Бормана и откинулся на спинку стула, сложив руки на животе.
— Вы хотели о чем-то доложить? — спросил он, кивнув на красную папку, лежащую рядом с Борманом. — Слушаю вас.
— Мой фюрер, — Борман открыл папку и быстро пробежал глазами донесения. — После того, как кольцо окружения вокруг Ленинграда замкнулось, рабочая группа «Гамбург» из спецотряда АА находилась в расположении 18-й армии. Она прислала рапорт. Наибольшее число ценных предметов искусства из городов Пушкин, Гатчина, Павловск и Петродворец, бывший Петергоф, спасены и в основном остались без повреждений. Среди них в Екатерининском дворце в городе Пушкин находится ценнейший раритет — Янтарная комната. Для неё стоило бы выделить отдельный зал в Линце. Вот фотография. Взгляните, мой фюрер.
Борман протянул Гитлеру большие фотографии, на которых Янтарная комната была показана со всех сторон, вместе с расписным потолком и инкрустированным полом. Эти фотографии сделали еще до войны, поэтому на них была видна вся мебель, янтарные шкафы и конная статуя Фридриха Великого на высоком пьедестале, в окружении воинов. Были видны китайские вазы, инкрустированные янтарём столики и прекрасный янтарный секретер.
Гитлер долго рассматривал фотографии, потом вернул их Борману и кивнул.
— В Линце я отведу Янтарной комнате центральное место. Отдайте необходимые распоряжения. Надо действовать с величайшей осторожностью. Кого вы хотите назначить руководителем?
— Я думаю, доктора Герберта Волтерса или доктора Ганса-Хайнца Руннефельдта. Они оба — эксперты, и прежде всего по янтарю.
— Лучше всего обоих. — Гитлер с довольным видом глотнул чая и потер руки. — Приступайте немедленно. Как дела с остальными ценностями?
— Как и Янтарную комнату, их сохранят целыми и невредимыми. — Борман опять взглянул на записи. — Во дворцах Пушкина и Павловска имеются редкие книги четвёртого века… около пятидесяти тысяч томов. Там же обнаружено ценное собрание икон. Их тоже было бы хорошо разместить в Линце, мой фюрер.
Гитлер опять кивнул.
— Позаботьтесь и о них, — сказал он. — Иконы… в них живёт русская душа.
Он начал очередной длинный монолог об иконах и огромном влиянии христианских ценностей на средневековое искусство.
Борман извинился и покинул столовую. Он был один из немногих, кому разрешалось вставать из-за стола раньше Гитлера.
Двадцать шестого сентября командующий сухопутными войсками получил предписание от адъютанта вермахта при Гитлере.
«После доклада рейхсляйтера Бормана фюрер назначил доктора Ганса-Гейнца Руннефельдта, руководителя управления государственными музеями, в настоящее время зондерфюрера по произведениями искусства в Таллине, ответственным за обеспечение сохранности поступающих в его распоряжение произведений искусства из таких районов, как Царское Село, Петергоф и Ораниенбаум, а в дальнейшем и из Петербурга».
«Немецкое золото Балтики», как с давних пор называл янтарь Гитлер, величайшее сокровище — Янтарная комната из Пушкина — вошла в список прерогатив фюрера, гигантского музея, где соберут все мировые ценности, здание в Линце на Дунае, которое простоит века.
Обе комиссии экспертов, спецотряд АА и подразделение штаба Розенберга, прибыли в Екатерининский дворец с разницей в два дня. Они представились генералу фон Кортту и предъявили предписание генерал-полковника фон Кюхлера, командующего 18-й армией, замкнувшей кольцо окружения вокруг Ленинграда. Город Пушкин входил в административную область, которой он руководил. Фон Кортте прочитал предписание и сделал широкий жест рукой.
— Осматривайтесь, господа, — сказал он. — Я не могу ничего изменить.
Руководитель спецотряда АА, прибывшего в Пушкине первым, вежливо пропустил мимо ушей сарказм генерала.
— Доктор Герберт Волтерс, — представился он. — Я действую по поручению министра иностранных дел рейха, герра фон Риббентропа, и имею специальные полномочия партийной канцелярии.
— Об этом я только что прочитал в ваших бумагах, герр капитан, — недружелюбно отозвался фон Кортте. — Я принял это к сведению.
— Ротмистр, герр генерал…
— Что вы сказали? — ледяным тоном переспросил генерал и нахмурился.
— Я ротмистр, герр генерал.
— Это разве не то же самое, что и капитан? — теперь тон генерала стал совсем резким. — Я не нуждаюсь в ваших уточнениях. Я был ротмистром, когда вы ещё в школу ходили.
— Прошу прощения, генерал.
— Ладно, — кивнул фон Кортте. — Ординарец покажет вам дворец. С чего начнёте?
— У меня есть план здания. — Доктор Волтерс похлопал по кожаному портфелю, который держал под мышкой. — Начну с Янтарной комнаты.
— Я так и думал. — Фон Кортте подошёл к телефону на столе, набрал номер и коротко распорядился:
— Фибиг, зайдите ко мне.
В комнату тут же вошёл молодой лейтенант, как будто ждал за дверью.
— Герр генерал? — спросил он, вытянувшись по стойке «смирно».
— Герр ротмистр из АА, — фон Кортте особенно чётко и с наслаждением выделил слово «ротмистр», — хочет осмотреть Янтарную комнату, а потом и весь дворец. Проводите его.
Доктор Волтерс на прощание молодцевато кивнул и вскинул руку в нацистском приветствии. Фон Кортте впервые наблюдал, чтобы офицер отдавал честь таким образом, а не рукой у козырька. Он воздержался от повторного замечания и повернулся к доктору Волтерсу спиной, молча давая понять, что разговор окончен.
Михаил Вахтер охранял Янтарную комнату, как обычно, сидя на своей скамеечке. Он наскоро починил деревянные и фанерные щиты, подмел песок на полу и попытался очистить грязь с шелковой обивки мебели.
Ему помогла Яна. Она по-прежнему оставалась во дворце и поселилась у будущего свекра — если Николай переживёт осаду Ленинграда и войну.
Недавно она сняла с головы Вахтера повязку. Теперь на его макушке красовался большой кусок пластыря, как шапочка на тонзуре — волосы ему выстригли по кругу. Некоторые остряки за это прозвали его «отцом Микаэлусом» и напрашивались на исповедь. Вахтер им подыгрывал: главное, что больше его ни о чем не спрашивали и смотрели как на неотъемлемую часть дворца.
Доктор Волтерс остановился в центре зала и осмотрелся. Наборный паркет можно разобрать, подумал он. Большие янтарные панели, фигурки воинов и богов, прежде всего, маски умирающих воинов на верхнем фризе, предположительно руки знаменитого скульптора своего времени Андреаса Шлюттера, тоже можно перевезти без каких-либо сложностей. Его беспокоил лишь расписной потолок. Стало понятно, что расписную штукатурку так запросто не снимешь.
Доктор Волтерс знал эту комнату до мелочей, и не только по фотографиям. Ещё в 1937 году его пригласил погостить руководитель городского музея в Ленинграде. Волтерс был поражён выставленными в зале сокровищами, а потом они съездили в Пушкин, в Екатерининский дворец. С молчаливым восторгом и трепетом он купался в золотистой игре света Янтарной комнаты.
— Добрый день! — громко поздоровался Вахтер.
Когда доктор Волтерс молча вошёл в зал, он как будто бы не заметил сидящего на скамеечке человека, но теперь бросил взгляд в его сторону, словно собирался плюнуть. Не ответив на приветствие, он надменно спросил:
— Кто вы такой?
— Вам следовало бы меня узнать, — ответил Вахтер, не вставая со скамейки.
— Мне — вас? Откуда мне вас знать?
— Однажды вы уже здесь были. С директором городского музея Ленинграда. Году в 1937… Точно не помню. Но я не забыл ваше лицо.
— Вы помните лица всех посетителей Янтарной комнаты? — со смехом поинтересовался доктор Волтерс.
— Нет. Только некоторых, и ваше в том числе. Тогда вы сказали: «Это самое прекрасное изделие из янтаря на земле!» Вы стояли точно на том же месте. Я это помню.
— Вы один из сотрудников музея?
— Смотритель Янтарной комнаты. Мой предок Фридрих Теодор Вахтер получил задание от короля Фридриха Вильгельма I и вместе с Янтарной комнатой прибыл в Санкт-Петербург к царю Петру I.
— Последний из династии слуг. Ну надо же! — Высокомерию доктора Волтерса не было границ. — Потомки будут благодарны вам за хороший уход за Янтарной комнатой.
— Что теперь произойдет с Янтарной комнатой? — поинтересовался Вахтер. Надменность доктора Волтерса не произвела на него ни малейшего впечатления. Возможно, его отец Игорь Германович взорвался бы и выгнал этого человека из зала. Но каков будет результат? Только раздражение, арест, продолжительный допрос и выдворение из города, отправка на штрафные работы в Германию, могут даже и на фронт отправить, в его-то пятьдесят пять лет, ведь он немец… Так что будь умнее, разыграй смирение.
— А вам какое дело? — Доктор Волтерс снова начал разглядывать потолочную роспись. Без повреждений не разобрать, размышлял он. Потом придется тщательно реставрировать. В крайнем случае, потолок можно расписать по имеющимся образцам. Но не всё получится воспроизвести, поэтому нужно получить согласие каждого эксперта.
— Моя обязанность — оставаться рядом с Янтарной комнатой.
— А фюреру, похоже, так не кажется. Но вы можете подать заявление. Хотя это уже не моё дело. Маловероятно, что вас возьмут в Линц.
— Комнату отправят в Линц? — сдавленным тоном спросил Вахтер.
— После окончательной победы. Война продлится недолго...
— Где находится Линц?
Доктор Волтерс посмотрел на Вахтера, как на хрюкающую обезьяну. Как такое возможно? Он не знает, где Линц? Где это видано? И этот невежда присматривал за самым главным сокровищем в мире? Такое возможно только у большевиков.
— Линц расположен на Дунае, — выдавил из себя доктор Волтерс. — В бывшей Австрии, которая теперь входит в великий немецкий рейх. Вы разве не знаете, что фюрер присоединил к Германии свою родину? Вы что, проспали 1938 год? Линц станет столицей всего мирового искусства. У фюрера гигантские планы. Хотя зачем я вам всё это рассказываю… Вам этого не понять.
— Да, я не понимаю. — Вахтер положил руки на колени и еще больше встревожился. — Я вообще ничего не понимаю.
— Оно и видно. — Доктор Волтерс повернулся к молодому ординарцу, ждущему у открытой двери.
Во взгляде офицера читалось отвращение к доктору. Янтарная комната лейтенанта вообще не интересовала, дело было в отталкивающих манерах доктора Волтерса. «Какая надменная свинья, — думал он. — Воображает, что если он из АА, то какой-то особенный. Не задирай нос, ротмистр, а то еще свалишься с лестницы».
— Пойдемте в другие залы и в подвал, — молодцевато сказал Волтерс. — Моим людям необходимо провести инвентаризацию. Замечательно, что русские всё здесь оставили. — Он отрывисто рассмеялся. — Мы наступали слишком быстро. Слава богу, можно сказать...
Вахтер переждал десять минут после ухода доктора Волтерса, и только убедившись, что эксперта уже нет поблизости, покинул Янтарную комнату. Прибежав к себе, он плотно закрыл дверь на задвижку и тяжело дыша прислонился к косяку. Яна с тревогой посмотрела на него. Лицо Вахтера не предвещало ничего хорошего. С помощью мыльного раствора она пыталась очистить от пятен гобеленовую обивку кресла. Ничего кроме мыла у неё не было.
— Оставь это! — крикнул Вахтер и упал на диван. — Прекрати! Лучше всё разрезать, разорвать…
— Что… что случилось, Михаил Игоревич? — испуганно спросила она.
Вахтер пару раз глубоко вздохнул, успокоился и обеими руками вытер глаза.
— Всё кончено. Они хотят разобрать Янтарную комнату, — выдавил он. — Её хотят перевезти в Линц. В музей. Линц находится на Дунае, доченька. Очень далеко отсюда. Гитлер непременно хочет заполучить Янтарную комнату. Теперь я точно это знаю. Господь, не позволь этому свершиться, сотвори чудо…
— Когда начнут разбирать комнату?
— Я этого не знаю, Яночка. Скоро, так он сказал. И никому не удастся это предотвратить.
— Вы могли бы её сопровождать.
— Они меня выгонят! Им ничего не стоит меня расстрелять. Ты не видела его глаза… ледяные... и каменное выражение лица.
— Они вас не убьют, Михаил Игоревич. Скорее просто оставят здесь.
— Разве этого мало? Это всё равно, что умереть...
— Я останусь при комнате и на новом месте, как договаривались, — сказала Яна и попыталась улыбнуться, чтобы его успокоить. — Оставьте меня вместо себя. Я глаз с неё не спущу.
— Они и тебя прогонят, Яна.
— Нет. На мне форма медсестры Красного Креста, для немцев я неприкосновенная. Сяду в первый грузовик и поеду вместе с комнатой, куда бы её ни увезли. Никто даже не спросит, почему я еду с ними.
Вахтер покачал головой. Безумие, думал он. Даже если она считает, что форма медсестры её спасёт… это всё равно безумие. Он печально посмотрел на Яну и ужаснулся её решимости.
— Это очень опасно, Яна.
— Я не боюсь.
Доктор Волтерс и его спецотряд АА уехали с обещанием вскоре вернуться, а через два дня в Екатерининский дворец прибыли эксперты спецштаба рейхсляйтера Розенберга, сокращенно называемого СРР. Его руководитель, эксперт и искусствовед в звании майора прибыл к генералу фон Кортту. Дежурный офицер позвонил генералу, а фельдфебель проводил их в Китайский зал.
Фон Кортте произнес прямо с порога:
— Господа, вы могли бы не торопиться. Представители Министерства иностранных дел вас опередили. Вы опоздали на два дня. Всё самое ценное уже переписали. Желаете немного коньяка для успокоения?
Майор, представившийся Генрихом Мюллер-Гиссеном, не скрывал своего разочарования. Он кивнул и сказал:
— Очень вам благодарен, герр генерал! Мы не знали, что господа из отряда АА уже побывали здесь.
— Ага! И много здесь еще толчется подразделений, чтобы обеспечить сохранность произведений искусства? Нужно было скоординировать свои действия, а не играть в кошки-мышки.
Майор Мюллер-Гиссен пропустил шутку мимо ушей, однако решил в очередном докладе Розенбергу об этом сообщить. В конце концов, Розенберг — новый рейхсминистр, в чьё ведение входили завоеванные восточные области, именно его спецштабу в первую очередь надлежало наполнять гигантский музей в Линце лучшими произведениями искусства. По предложению Розенберга Гитлер предоставил все права по сбору ценностей его штабу, и все организации, обеспечивающие сохранность произведений искусства, переходили к его ведомству.
— Мы всё-таки хотели бы осмотреть дворец, герр генерал, — настаивал Мюллер-Гиссен. — Следует выполнить приказ высшего командования.
— Пожалуйста, не буду мешать. — Генерал фон Кортте сделал широкий жест рукой, как до этого и перед доктором Волтерсом. — Регистрируйте, считайте, оценивайте… Что может быть лучше? Двойной шов будет крепче держаться.
В этот раз Вахтера в Янтарной комнате не оказалось. Когда Мюллер-Гиссен со своими специалистами вошёл в зал, там находилась Яна, с удивлением посмотревшая на людей в серо-зелёной униформе.
— А, влюблённая в искусство сестричка! — сказал Мюллер-Гиссен, у которого вдруг поднялось настроение. Как и у многих солдат к медсёстрам из Красного Креста у него был чисто мужской интерес. — Весь дворец — это настоящее чудо, правда? Но здесь, в Янтарной комнате, просто высший класс. Увы, вы сейчас не видите всего. Полное великолепие мы покажем в Линце после победы. Вам стоит обязательно побывать в Линце.
— Я обязательно побываю в Линце, обязательно… Если Янтарная комната окажется там.
Улыбка Яны мгновенно очаровала Мюллера-Гиссена. Он был профессором искусствоведения чуть старше пятидесяти, и дома его ждали немолодая толстая жена и дочь-учительница.
В пятьдесят лет улыбка симпатичной медсестры бьет в самое сердце. Мюллер-Гиссен попробовал старый трюк.
— Вы попали в плен к искусству, сестричка? — спросил он с обаятельной улыбкой. — Позвольте мне ненадолго стать вашим тюремным надзирателем? Я расскажу обо всех сокровищах Екатерининского дворца. Вы будете поражены. Что вы делаете сегодня вечером?
— Занята на дежурстве. — Яна улыбнулась ещё ярче. Интуиция подсказывала ей, что этот мужчина в офицерской форме — очень важный человек.
— А завтра?
— Вы надолго в Пушкине?
— В Пушкине? Дней на пять. Нам надо ещё посетить другие музеи и всё там переписать. — Мюллер-Гиссен ощутил приятное покалывание на затылке. То же самое было 29 августа 1940 года, когда он осматривал во Франции собор фон Хартера и познакомился с Люсиль Дамброус. С этой очаровательной девятнадцатилетней блондинкой с волосами до плеч он всей душой расслаблялся по ночам. Он осыпал её шоколадом, вином, коньяком и маленькими презентами, которые брал в церквях и музеях «на сохранение». Теперь перед ним стояла черноволосая красавица, и кожа на его голове снова начала зудеть.
— Тогда до завтра, до вечера, — заявил Мюллер-Гиссен. — Сестричка, я покажу вам всё,что пожелаете.
Другие мужчины из его группы, все без исключения искусствоведы, широко улыбнулись. Да, майор смельчак… в настоящем смысле этого слова.
Михаил Вахтер сидел в своей комнате на любимом диване в стиле бидермайера, который притащил из Оранжерейного зала. Диван был не очень ценным — во дворце имелась мебель в сотни раз дороже, но Вахтер чувствовал себя уютно. На диване можно было вытянуться или удобно устроиться на высокой и упругой спинке. Вахтер листал старый каталог с произведениями искусства
Екатерининского дворца еще тех времен, когда всё Царское Село было одним огромным, известным всему миру музеем. Теперь, когда советские войска отступили, здесь ещё оставалось достаточно много предметов, при взгляде на которые любой специалист-искусствовед затаил бы дыхание.
Когда в комнату вошла Яна, Вахтер поднял взгляд.
— Вы здесь, Михаил Игоревич, — сказала она и упала в кресло.
— Яна!
Она поморщилась.
— Герр Вахтер… я знаю. Ими руководит один старый, похотливый офицер. Завтра вечером он хочет встретиться со мной и всё показать. Я знаю, что именно он хочет показать!
— Ты, конечно, не пойдёшь. — Вахтер внимательно на неё посмотрел. — Или?..
— Я спрячусь. — Она взяла со столика большую чашку и глотнула холодного чая. Вдруг лицо у нее перекосилось, а дыхание перехватило. — Там же водка!
— Да. Плеснул чуть-чуть.
— Так мало, что горло горит!
— Доченька…
— Герр Вахтер! — она погрозила пальцем и рассмеялась.
— Госпожа Роговская… Такой чай успокаивает нервы. Мне это сейчас необходимо. — Вахтер положил каталог на диван. — Что вы узнали?
— Завтра утром они нучнут разбирать Янтарную комнату.
— Они так и сказали?
— Я слышала, как один офицер шепнул другому: «Как нам не повредить потолочную роспись?» Это значит, её разберут и увезут.
Вахтер поднялся с дивана и накинул на рубашку легкую куртку.
— Взгляну на неё ещё разок, — хрипло произнес он. — Вдруг нам посчастливится, и две эти банды нацистских грабителей переругаются между собой из-за добычи. А пока они будут договариваться, кто знает, что может произойти. Каждый день что-то меняется.
Он вышел из комнаты и медленно направился по коридору во дворец. Пробегающие мимо немцы, в основном офицеры штаба, не обращали на него никакого внимания. Из двух обустроенных под жилье залов раздавался смех, гул голосов и тянуло запахом сигарет. По дороге ему встретился адъютант генерала фон Кортте, который дружески его поприветствовал. В дверях Вахтер некоторое время стоял молча, наблюдая, как эксперты спецштаба рейхсляйтера Розенберга снимают обшивку со стен и изумленно на них взирают. Впервые они видели Янтарную комнату не на фотографиях.
Мюллер-Гиссен почувствовал, что кто-то смотрит ему в спину, как будто на затылок направили солнечный луч через лупу. Он повернулся и бросил на Вахтера сердитый взгляд.
— Кто вы такой? — спросил он резко. — Как вы сюда попали?
— Через дверь, герр майор.
— Оставьте ваши дурацкие шуточки! — выкрикнул Мюллер-Гиссен. — Вон отсюда! Стойте! Не двигаться! Почему штатский разгуливает по дворцу?
— Я и дворец — единое целое. Я живу здесь.
— Давно?
— С рождения.
— Ах вот как! — голос зазвучал протяжно и воинственно. — Вы русский?!
— Нет, я немец. — Вахтер обвел широким жестом зал. — Я смотритель Янтарной комнаты.
— С каких пор?
— С 1716 года…
Лицо Мюллер-Гиссена вытянулось, как будто он глотнул уксуса. Он заорал, а это он умел превосходно, как певец используя дыхание диафрагмой.
— Идиот! Что вы себе позволяете?! Кривоногий мужлан! Я вас отучу издеваться над людьми! Кто ваш начальник?
— У меня нет начальника.
— У вас нет… А на что вы живете? У кого состоите на службе?
— В настоящее время я живу на ничейной земле.
— Вы живёте в Германии! — закричал Мюллер-Гиссен, и его лицо побагровело от злости. — Везде, где мы находимся — Германия! Пора это усвоить. — Он глубоко вздохнул. — Вы были смотрителем Янтарной комнаты? Хорошо, я с этим разберусь. В ближайшие дни комнату демонтируют.
— Кто?
— Не ваше собачье дело!
— Я знаю кто, герр майор: спецкоманда АА…
Удар попал в цель. Точно в солнечное сплетение Мюллер-Гиссена. Все остальные повернулись и с интересом следили за спором начальника с плохо одетым штатским.
— Вы уверены? — буркнул Мюллер-Гиссен.
— Так сказал сам ротмистр Волтерс.
— Волтерс. Опять этот Волтерс! — закричал Мюллер-Гиссен. На это имя у него была аллергия. Даже скручивало живот. Уже семь раз доктор Волтерс опережал его и всегда имел при себе распоряжение рейхсляйтера Мартина Бормана. Против Бормана никто выступать не решался, и меньше всего Розенберг. Среди высших партийных руководителей существовала определённая иерархия, которую всегда учтивый Борман неизменно соблюдал: перед Розенбергом стоял Йозеф Геббельс. Но сейчас, в Янтарной комнате, Мюллер-Гиссен хотел стать победителем. Ему нужно было несколько грузовиков, двадцать или двадцать два, но… именно эту проблему он пока не мог решить. Но и у АА тоже наверняка не было грузовиков.
Заполучить двадцать грузовиков было так же трудно, как и демонтировать расписной потолок.
— Что ещё вам рассказал Волтерс? — Мюллер-Гиссен произнёс это имя с таким отвращением, как будто его сейчас стошнит.
— Ничего.
— Сроки?
— Нет. Только: как можно быстрее.
— Это «как можно быстрее» меня несколько успокаивает. Он тоже не волшебник.
— Люди Риббентропа имели при себе предписание из ставки фюрера. Согласно распоряжению Бормана…
— Дерьмо! Дерьмо! — Мюллер-Гиссен сжал кулаки. Остальные потупились. — В восьмой раз состязание двух групп экспертов? Как там говорил Ричард III при битве под Босвортом? «Коня! Коня! Полцарства за коня!» Мне не нужен конь… мне нужно двадцать грузовиков! Господа, нам нужно раздобыть для фюрера двадцать грузовиков!
Как оказалось, Мюллер— Гиссен недооценивал положение дел.
Уже у генерала фон Кортте он потерпел неудачу. Когда Мюллер-Гиссен сказал генералу, что срочно нуждается, именно срочно, подчеркнул он, в двадцати грузовиках, фон Кортте с сочувствием посмотрел на него и постучал себя по лбу.
— Герр майор, вы в своём уме, — сказал он, как отрезал.
— Ведь в вашем корпусе найдётся двадцать машин.
— Для перевозки боеприпасов, продовольствия, пополнения, для быстрой передислокации войск на фронте, для транспортировки раненых… но не для янтаря.
— Речь идет о Янтарной комнате для фюрера!
— Тогда я должен получить приказ лично от фюрера.
— Герр рейхсляйтер Розенберг…
— Мне отдает приказы командующий армией и главнокомандующий вермахта.
— Вас ясно уведомили о нашем спецзадании, герр генерал.
— Я не могу этого решить. Обратитесь к командующему 18-й армией, генерал-полковнику фон Кюхлеру. Если кто и выделит вам грузовики, то только по его распоряжению.
— Это значит, что вы не хотите?
— Я не могу. — В голосе фон Кортта слышались нотки иронии. В душе он был рад тому, что Мюллер-Гиссен уедет, как и надменный доктор Волтерс. — Как ученый, вы должны понимать разницу между «мочь» и «хотеть». Сожалею, герр майор.
Мюллер-Гиссену ничего не оставалось. Он встал на вытяжку, отдал честь и, кипя от ярости, покинул Китайский зал. В широкой прихожей, где дожидались другие члены группы, он дал волю гневу.
— Какой фат! — воскликнул он. — Это же саботаж! Как будто мы куча дерьма! Я доложу об этом рейхсляйтеру. Этот Кортте получит по заслугам! Им займутся кому положено. Ха! Он нас ещё не знает.
Махнув рукой, он сказал:
— Пойдёмте, господа. — Оглянувшись, он заметил, что Вахтер, сопровождавший его до двери генерала Кортта, исчез. — Где этот русско-немецкий штатский?
— Ушёл. Он должен был подождать, герр майор? — пожал плечами эксперт в звании старшего лейтенанта. — Мы не знали, что…
— Хорошо. Нам нужно срочно в штабквартиру 18-й армии. На этот раз мы должны быть первыми!
Но и к генерал-полковнику фон Кюхлеру они прибыли слишком поздно. Доктор Волтерс там уже побывал. Так же, как и ему, фон Кюхлер передал Мюллер-Гиссену через адъютанта, что во время сражения под Ленинградом все машины будут использоваться исключительно для военных целей.
— Ну, теперь началось! — воинственно воскликнул Мюллер-Гиссен.
***
В замке под Кёнигсбергом гауляйтер Кох обустроил собственную Восточно-Прусскую область. Этот замок был единственным местом, где он мог жить и работать.
Бывший маляр и нынешний гауляйтер Восточной Пруссии, а также рейхскомиссар Украины больше всего любил три вещи: власть, женщин и роскошь. Именно в такой последовательности. Власть у него была — он правил, как король, в Восточной Пруссии и на Украине. При его жестоком правлении тысячи мужчин, женщин и детей были убиты и исчезли в концентрационных лагерях. Он разрушал, жёг и стирал с лица земли деревни. Его власть и ненависть к «славянским недочеловекам» была настолько сильной, что Розенберг и шеф полиции на Украине, обергруппенфюрер СС Ганс Прютцманн, жаловались на него фюреру. Но без последствий. Кох оказался сильнее.
Получать отпор от женщин гауляйтер не привык, но не потому, что был красавцем. Среднего роста, с большими, слегка оттопыренными ушами, с широким носом и короткими усиками, точь-в-точь как у обожаемого им фюрера Адольфа Гитлера, он мог выпить столько, как будто вместо желудка у него был бездонный бурдюк. Его успехи в постели объяснялись тем, что женщины боялись оказывать ему сопротивление. Женщин он принципиально называл бабами, или, когда был в хорошем настроении, «похотливыми виляющими задницами», или «сиськами с ногами». В Кёнигсберге и в других местах у него были разбросаны оборудованные «домики для утех». Самым роскошным было старое, благородное дворянское поместье «Наша Польша» между Варшавой и Назильском. Здесь в спальне у Коха имелись зеркальные стены, и даже над широким балдахином под потолком было вмонтировано огромное зеркало. Куда ни бросишь взгляд во время любовных утех, везде увидишь себя со всех сторон: комната, заполненная сплетённым парами. Здесь Эрих Кох чувствовал себя хорошо, здесь он был австрийским «королём-солнце». Бабы — вот это жизнь!
К третьей своей страсти, роскоши, у него было особое отношение. Его планы как настоящего властелина окружить себя ценными произведениями искусства выполнялись лишь частично и редко. После захвата новых территорий многие бросились собирать картины, гобелены, мебель, ковры, драгоценности, книги и фарфор. Геринг грабил для своих шикарных поместий Каринхалл в Шорфхайде, Розенберг — для Гитлера и задуманного им музея в Линце, Гиммлер — для своей виллы в Оберзальцбурге, Риббентроп отбирал коллекционные предметы для Гитлера, генерал-губернатор Франк — для собственных домов. Только Мартин Борман не проявлял особого интереса к произведениям искусства, зато все остальные страстно увлекались собирательством. Борман постоянно ругался из-за вывоза ценных предметов, занесенных в список «прерогатив фюрера», требовал неукоснительного соблюдения приказа фюрера и заявлял всем представителям верхушки рейха, что прекрасно обо всём осведомлен и от имени фюрера будет принимать решительные меры.
Гауляйтер Кох очень сожалел о том, что не мог удовлетворить свою страсть — ему доставались лишь крохи с барского стола. Конечно, их хватало, чтобы украсить дом великолепными произведениями, но это были, так сказать, второсортные вещи, что в высшей степени ранило гордость Коха. Здесь, на востоке, он был первым номером, Восточная Пруссия считалась красивейшей из всех территорий рейха. Кому должно причитаться всё самое прекрасное из захваченных дворцов, библиотек, монастырей и музеев?
19 сентября 1941 года, когда кольцо блокады вокруг Ленинграда замкнулось и генерал-фельдмаршал Риттер фон Лееб, главнокомандующий группой войск «Север», приказал деморализовать население города восемнадчатичасовым артиллерийским обстрелом — восемнадцать часов город поливал дождь из снарядов, — гауляйтер Кох пригласил выпить по бокалу своих доверенных лиц — руководителя администрации области Бруно Велленшлага и директора городского музея Кёнигсберга доктора Вильгельма Финдлинга.
Доктор Финдлинг, серьёзный и тихий человек, предпочитающий заниматься наукой, а не попойками, плотно поел и проглотил таблетку магнезии.
— Опять будет пьянка! — сказал он жене. — Звонил Кох.
Тем вечером они сидели в глубоких креслах, потягивали французский коньяк и слушали разглагольствования Эриха Коха. Тот не сообщил ничего нового или примечательного: хвалил активность фюрера, победившего Россию небывало быстрым наступлением. «Восточная провинция», как называл Кох захваченную территорию, будет житницей и овощной грядкой рейха. Вдруг он прервался и наклонился к доктору Финдлингу.
— Вы знаете город Пушкин? — спросил он.
— Да. Это бывшее Царское Село, герр гауляйтер.
— Дворец на дворце, не так ли?
— Прежде всего, два: Екатерининский и Александровский.
— Вы там были?
— Три раза, герр гауляйнер.
— Тогда вы знаете и Янтарную комнату.
— И прекрасно. Ничего подобного нигде нет и не будет. Самое крупное произведение искусства из янтаря. Как говорит фюрер, немецкое золото Балтики. Сотни лет его называют также «солнечным камнем».
Доктор глотнул коньяка. Он восхищался янтарём так же, как Кох красивыми женщинами. Знаменитая кёнигсбергская коллекция янтаря хранилась в его музее. Это были великолепные работы из янтаря и одна бесценная вещь: книжный шкаф с двустворчатой дверью и выдвижными ящиками, весь в сверкающей янтарной мозаике. Доктор написал несколько восторженных книг и с тех пор считался крупным специалистом по янтарю.
— Я знаю, герр гауляйтер, — продолжил он, — о чём вы думаете.
— Именно о ней, доктор Финдлинг. — Кох был в хорошем настроении. Коньяк отменный, а Бруно Велленшлаг привез ему новую женщину. Она ждала в замке, в дальней комнате, которую Кох называл залом для скачек.
— Янтарная комната. Вы могли бы заполучить ее в Кёнигсберг…
— Мог бы? Да она должна быть здесь, в этом замке и нигде больше! Доктор Финдлинг, вы только представьте — Янтарная комната здесь, у нас в замке!
— Невероятная мысль, герр гауляйтер.
— Ничего невероятного! Я хочу, чтобы это стало былью! Я этого добьюсь.
— Все самые ценные произведения искусства занесены в список «прерогатив фюрера». Комната наверняка тоже там.
— Ну, тогда… я поговорю с Борманом. Я имею на это право. Разве не я позаботился о том, чтобы третьего мая 1933 года издали закон о защите янтаря?
— Это было эпохальное событие, герр гауляйтер.
Доктор Финдлинг был честен. Когда речь заходила о янтаре, он больше ни на что не обращал внимания, даже собственные политические взгляды не имели значения. Он не был ни членом партии, ни какой-либо другой организации, за исключением национал-социалистического союза служащих, и то лишь для того, чтобы сохранить за собой место директора музея и не допустить, чтобы фанатичные гитлеровцы растащили ценности. У него не было звания, он никогда не носил форму, не считая формы унтер-офицера Первой мировой войны, хотя все твердили ему, что он делает глупость, отказываясь стать офицером. Он охотнее смотрел на Ван Гога, чем на автомат, а с такими взглядами никогда не станешь солдатом. Даже в кайзеровской армии. С Кохом его связывало только то, что гауляйтер устроил в замке свою резиденцию и так же очень любил янтарь. Финдлинг старался держаться подальше от этой пьяной компании, но понимал, что частые отговорки могут вызвать у Коха подозрения.
Услышав громкий голос Коха, доктор Финдлинг вздрогнул.
— Поезжайте в Пушкин и проследите, чтобы никто не прибрал нашу Янтарную комнату к рукам.
Он произнёс «нашу Янтарную комнату» так обыденно, как будто она уже была его собственностью.
— Но меня не пропустят в Пушкин. — Доктор Финдлинг опять глотнул коньяка. — Это прифронтовой район. Туда никого не пропускают, тем более штатских. Меня арестуют при первой же проверке.
— Я позабочусь о том, чтобы вы попали в Пушкин. — Эрих Кох поднялся, взял с другого стола ведёрко со льдом и бутылками и покачал головой, когда Бруно Велленшлаг вскочил, чтобы ему помочь. Во время подобных встреч Кох отказывался от услуг ординарца. Он предпочитал проводить без лишних глаз и ушей эти встречи, так же как и любовные утехи, когда он пыхтел, посматривая в зеркала. — Я позвоню Борману, или еще лучше — поеду прямо в ставку фюрера. В «Волчьем логове» для меня всегда открыты двери. А насчёт музея фюрера, доктор Финдлинг? Конечно же, фюрер получит от нас Янтарную комнату для своего гигантского музея в Линце. Я смогу убедить его, что величайшее произведение искусства из янтаря принадлежит тому месту, где добывают янтарь, то есть Восточной Пруссии, Кёнигсбергу!
— Вы знаете, что понадобится для перевозки, герр гауляйтер?
— Говорите, доктор Финдлинг.
— По меньшей мере двадцать грузовиков.
— Они у нас есть! — Кох рассмеялся и откинулся в кресле. — Может у кого-то их нет, а у меня есть! Соберу «колонну машин Коха», и вперёд! — Он откупорил первую бутылку «Рюдесхаймера» из коллекции 1931 года, понюхал горлышко, плеснул на донышко бокала, потом понюхал пробку и вино в бокале, отхлебнул маленький глоток и подержал во рту. — Божественный вкус, — сказал он с восторгом. — Что самое чудесное в жизни? Сладострастные женщины, хорошее вино и...
— И достаточная потенция! — вставил Велленшлаг.
— Бруно, у меня когда-нибудь её не было?! — Кох наполнил бокалы и пнул Велленшлага кулаком в бок. — Ты просто завидуешь. После первой ты уже храпишь. А я только после четвёртой прихожу в норму! За потенцию! За нашу Янтарную комнату!
Они подняли бокалы и чокнулись. Доктор Финдлинг незаметно вздохнул. Он не переносил подобные разговоры и считал их вульгарными и непристойными, но приходилось терпеть, если хотел ладить с Кохом. Даже племяннице гауляйтера не удавалось избежать двусмысленных намёков и вульгарных выражений, которыми Кох унижал всех женщин за способность рожать. Он считал это замечательным.
Попойка длилась до трёх часов утра.
Доктор Финдлинг на ощупь, по стеночке, добрался по коридорам до своей квартиры. Ему с трудом удавалось держаться в вертикальном положении, страшно хотелось упасть и ползти дальше на четвереньках. Однако он благополучно, без царапин и шишек добрался до своего жилья, упал на кровать рядом с женой, и, не имея сил даже на то, чтобы раздеться, пробормотал:
— Если все удастся… если всё получится... — и мгновенно уснул. Лишь счастливая детская улыбка застыла на его лице.
Бруно Велленшлаг проводил гауляйтера до комнаты, где его уже несколько часов ждала женщина. Полуголая красотка с рыжеватыми волосами уже заснула.
— Ты настоящий специалист, Бруно, — сказал Кох. Он снял китель, спустил подтяжки и начал расстёгивать штаны. — Замечательный десерт. А теперь скройся, сутенёр!
Велленшлаг быстро удалился. Он не обиделся. Кто постоянно работал у Коха, тот разучился обижаться. Так было спокойнее, ведь того, кто много знает, не увольняют. Только смерть могла прервать эти отношения, а это для гауляйтера было раз плюнуть.
Голый Кох стоял перед спящей женщиной и раскачивался на цыпочках. Он чувствовал себя чертовски хорошо, а изрядное количество алкоголя превратило его в неутомимого любовника.
Но даже гауляйтер Кох не достиг особых успехов со «своей» Янтарной комнатой. Мартина Бормана он не застал ни в Растенбурге, ни в партийной канцелярии. Позвонить ему на виллу в Оберзальцберге, где Борман жил на горе с великолепным видом, рядом с Герингом и Гиммлером, Кох не осмелился.
Лишь 22 сентября, после громких споров с адъютантом по телефону Коху удалось доложить Мартину Борману о своём предложении. Борман, который как раз собирался на обед к Гитлеру, похоже, встретил предложение Коха с пониманием.
— Фюрер уже интересовался музеями в Ленинграде и его окресностях, — сказал он. — Все находящиеся там произведения искусства нужно сохранить. В соответствии с пожеланием фюрера генерал-фельдмаршал Кейтель направил указание в группу войск «Север», чтобы демонтировали фонтан с бронзовой статуей Нептуна в верхнем парке дворца Петергофа. Эту статую в семнадцатом веке создал нюрнбергский скульптор, и фюрер верно заметил, что она принадлежит Нюрнбергу! Ее демонтируют вместе со знаменитой статуей Самсона и другими фигурами Большого каскада. Янтарная комната… хм, я поговорю об этом с фюрером. Ждите дальнейших указаний, гауляйтер.
У Коха появилась надежда. Он не услышал однозначного «нет», а это уже почти «да». Розенберг, Риббентроп, Геринг и все остальные заинтересованные лица, похоже, останутся не у дел. «Король Восточной Пруссии» был доволен разговором со ставкой Гитлера.
Между тем майор Мюллер-Гиссен был очень зол и с трудом примирился с разочарованием. Вместе со своей группой он занял пару комнат в летней резиденции императора Александра, искупался и взял у денщика почищенную форму, съел яичницу из четырёх яиц и выпил полбутылки красного вина. Он решил, что набрался достаточно сил, чтобы провести время с симпатичной медсестрой и, как они договорились, показать ей всё, что она пожелает. Его окрыляли воспоминания о французском романе.
Но в Янтарной комнате медсестры не оказалось. Мерзкий штатский, этот русско-немецкий Вахтер, дожидался его на своей скамеечке. Мюллер-Гиссен резко остановился.
— Что вы здесь делаете? — сердито спросил он. — Вас освободили от обязанности присматривать за комнатой!
Михаил Вахтер не стал спорить с Мюллер-Гиссеном. Он поднялся со скамеечки и вежливо ответил:
— Меня просили передать, герр майор, что медсестра Яна прийти не сможет.
— Ах, вот в чём дело! — просопел Мюллер-Гиссен. — А она не могла мне это сама сказать?
— Тогда она была бы здесь.
— А где она?
— Я не знаю. Она сказала, что ей срочно нужно в госпиталь.
— В какой?
— Этого она не сказала. А я не спросил, герр майор, потому что она сильно торопилась.
— Дерьмо! — Мюллер-Гиссен прошёлся по Янтарной комнате взад-вперёд, пытаясь успокоиться, потом резко повернулся и не прощаясь вышел из зала. В замке он разузнал, где в штабе дивизии расположился полковник медицинской службы, и обратился к нему с вопросом.
— Сколько госпиталей в Пушкине?
— Непосредственно в Пушкине или в окрестностях?
— В близлежащем районе, герр полковник.
— Ой-е! Не могу сказать так сразу. Учитывая отставшие перевязочные пункты, места сбора раненых и полевые лазареты, их в районе Пушкина будет не меньше девятнадцати. — Полковник с удивлением посмотрел на Мюллер-Гиссена. — А почему это вас интересует?
— Меня интересует, есть ли госпиталя во дворцах, где находятся ценные произведения искусства, — достаточно правдоподобно ответил Мюллер-Гиссен. Он был крайне разочарован. Не менее девятнадцати… В поисках медсестры все не обойдешь. А известно лишь её красивое имя. Яна — оно ей очень подходит. Яна…
— Врачей и санитаров интересуют только раненые, а не картины и антиквариат, — начал раздражаться полковник. Мюллер-Гиссен понял, что не имеет смысла продолжать расспросы.
Всё кончено, с горечью подумал он. Всё кончено, так и не начавшись. Послезавтра надо быть в Петродворце, где зондерфюрер доктор Ганс-Хайнц Руннефельдт демонтирует фонтан Нептуна. Он-то получил от 18-й армии необходимые грузовики… без всяких проволочек, ведь это приказ фюрера.
— Спасибо, герр полковник, — вежливо попрощался Мюллер-Гиссен и вышел. Лишь в прихожей он громко произнёс своё любимое слово: «Дерьмо!» — и покинул Екатерининский дворец. Его машина стояла у крыльца. Шофёр, унтер-офицер, читал солдатский иллюстрированный журнал «Вермахт», в котором военные корреспонденты со всех участков фронта описывали происходящие там события, публиковали фотографии и схемы. Как только на лестнице появился Мюллер-Гиссен, водитель отложил журнал на соседнее сиденье.
— Обратно в Александровский дворец! — приказал Мюллер-Гиссен. Он плюхнулся на заднее сиденье и откинулся на спинку. — Нет… Поехали в город. Остановимся на Большой площади. И побыстрей, уже скоро стемнеет.
Ночь он провёл с пышнотелой крестьянской девкой, которую подобрал по дороге в Пушкин. Она его особенно не возбуждала, просто лежала, как доска, с закрытыми глазами и ждала, когда потный немецкий офицер закончит своё дело. Мюллер-Гиссен не получил никакого удовольствия. Он отблагодарил девушку тремя плитками шоколада, двумя пакетами печенья и консервной банкой паштета. Она была счастлива, поцеловала Мюллеру-Гиссену руку и убежала. Всё только ради еды, подумал Мюллер-Гиссен, смывая её запах. С Яной всё было бы по-другому. Непередаваемый восторг. Но обойти девятнадцать лазаретов — это немыслимо!
— А завтра, — во весь голос произнес он, — я достану двадцать грузовиков! Я лично поговорю с Кюхлером!
Какое наивное желание. Генерал-полковник Кюхлер его даже не принял.
— Он ушёл, — сказал Вахтер, потирая руки. — Только сопел, как разъярённый бык. Он больше не вернётся.
Когда Вахтер вернулся в комнату, Яна сидела перед маленьким радиоприемником. Она убавила звук и слушала, склонившись к громкоговорителю. Шла передача из Ленинграда, в которой звучали призывы к жителям, сообщения о мероприятиях по защите города и событиях на фронте. Ничто не приукрашивалось и не смягчалось. Жители Ленинграда знали, что их ожидает во время блокады: голод, смерть, бомбы со снарядами и наступающая зима с морозами. Но никто не поднимет руки и не сдастся. Ленинград останется советским.
Она выключила радио, выпрямилась и провела руками по волосам, как обычно делала, когда была чем-то взволнована.
— Спасибо, герр Вахтер, — сказала она послушно. Ей хотелось вскочить, подбежать к нему и обнять.
Три дня Яна не выходила из квартиры Вахтера. Лишь когда оказалось, что Мюллер-Гиссен со своим спецштабом рейхсляйтера Розенберга, СРР, больше не появится в Пушкине, Яна осмелилась ходить по Екатерининскому дворцу в платье медсестры Красного Креста.
Как и ожидалось, никто не обращал на неё внимания. Никто не спрашивал, откуда она здесь появилась и что делает. Её лишь спрашивали, есть ли у неё время… Офицеров волновало в основном лишь то, как бы скрасить скучные вечера. Но при всей приветливости и очаровательной улыбке Яна оставалась неприступной и даже стала объектом пари в офицерском казино. Кому удастся затащить в постель эту сладкую сестрёночку? Кто будет победителем при штурме её нижней части тела? Она ещё девственница? И что за врачи суетятся около такого ангелочка? Друзья, шпаги наголо...
С двадцать восьмого сентября во дворце менялся хозяин.
Генерал фон Кортте прощался с Вахтером, как с хорошим другом. Его корпусу предстояло передислоцироваться в восточную часть кольца окружения. А в Екатерининском дворце разместится штаб 50-го корпуса.
— Желаю вам всего хорошего, — сказал фон Кортте на прощание. — Возможно, мы ещё встретимся… где-нибудь… Вас легко будет найти. Где Янтарная комната — там и вы.
— Если мы выживем в войне, герр генерал. — Голос Вахтера звучал неуверенно. — Я благодарен вам за всё. Если молитвы помогут, я буду за вас молиться. Может, Господь проснётся… а пока он спит…
— Потише, Вахтер. За пораженческие настроения расстреливают. Думайте и говорите лишь об окончании войны, тогда останетесь в живых. Янтарная комната нуждается в вас. — Фон Кортте похлопал Вахтера по плечу. — У вас нет детей, наследников?
— Нет, герр генерал. — Вахтер попытался улыбнуться. — Но ещё не поздно… мне всего пятьдесят пять.
— Тогда поспешите, мой дорогой, поспешите!
Фон Кортте засмеялся и протянул Вахтеру руку.
— А кто разместится здесь?
— 50-й корпус. Командир — генерал Джобс фон Хальденберге.
— Вы с ним знакомы?
— Немного. С ним можно говорить. Я сообщил ему о вас. Это серьёзный, но приятный человек. Вы сумеете его убедить в необходимости сохранить Янтарную комнату, как убедили меня…
Вечером к Екатерининскому дворцу подъехала длинная колонна машин штаба 50-го корпуса. Генерал Джобс фон Хальденберге занял для рабочего кабинета Китайский зал, как и генерал фон Кортте, а спальню устроил в опочивальне Екатерины II. Эта комната видела небольшую армию любовников царицы, её стены могли бы рассказать о самых необычных любовных утехах.
На следующее утро Вахтер представился генералу фон Хальденберге. К удивлению адъютанта, командующий не заставил его долго ждать. Хальденберге не любил, когда его беспокоили по пустякам.
— Мне о вас уже сообщили, герр Вахтер, — сказал генерал. При этом он не протянул Вахтеру руку, как это делал фон Кортте. Он считал рукопожатие фамильярностью. — У меня есть полчаса времени. Вы могли бы показать мне легендарную Янтарную комнату.
Там уже находилась Яна, она пришла познакомиться с генералом фон Хальденберге, но он не обратил на неё внимания. Медсестра, которая в свободное время рассматривает произведения искусства… Что в этом особенного?
— Феноменально! — сказал фон Хальденберге, когда Вахтер показал ему открытые панели и фигурки. — Ничего подобного я прежде не видел. Ничего удивительного, что фюрер хочет сохранить её для рейха. Это неповторимо.
— Фюрер? — сдавленно переспросил Вахтер.
— Да. Вам Кортте не рассказал? — Генерал фон Хальденберге рассматривал великолепный расписной потолок. — Мы получили приказ фюрера… От генерал-фельдмаршала Риттера фон Лееба и генерал-полковника фон Кюхлера он поступил ко мне, как к новому хозяину Пушкина. Он так и сказал — «хозяин Пушкина». Вахтер поёжился, будто от озноба. — Через два-три дня во дворец прибудет подразделение «Гамбург» спецотряда АА.
— Ротмистр Волтерс?
— Вы уже с ним знакомы? Да, он тоже в этой группе. Руководит отрядом доктор Руннефельд, если я правильно запомнил его имя. Этот Руннефельд, или как там его, имеет особые полномочия от фюрера. Об этом сказано в приказе из ставки фюрера. Этот отряд, как сообщил генерал-полковник фон Кюхлер, должен демонтировать Янтарную комнату. — Фон Хальденберге посмотрел на пол. Наборный паркет из пальмового дерева и палисандра розового и чёрного цветов, вперемешку с сияющими золотом янтарными фрагментами, вызвал у генерала восторг.
— Непостижимо! Какой паркет! Какие же это были мастера, герр Вахтер! У них было время создавать такие произведения, и они не халтурили.
Он вышел из зала, так и не взглянув на Яну, и в коридоре снова задумчиво посмотрел на Вахтера. Видимо, фон Кортте его обо всём проинформировал, потому что генерал вынул из кармана листок и развернул его, помахав в воздухе, одновременно приставляя к левому глазу монокль.
— Чтобы показать вам, какие серьёзные события произойдут в ближайшие дни, я зачитаю этот документ. Это запись в журнале боевых действий 18-й армии, в которую входит мой корпус. Здесь записано следующее: «28 сентября 1941 года, 16:00. Ротмистр Волтерс, которому высшим командованием вермахта поручен учёт произведений искусства в царских дворцах, просит об охране дворца в Пушкине. Он незначительно пострадал от бомбёжек, но может пострадать от неосторожного обращения. Для этого командованию армии поручить службе снабжения предоставить в распоряжение ротмистра Волтерса рабочих и грузовики для эвакуации ценных произведений искусства».
Фон Хальденберге сложил листок.
— Думаю, вам всё ясно? Уже сегодня дворец очистят от армейских подразделений, здесь останется только штаб. Из подразделений снабжения я выделю человек двадцать. Или сколько потребуется. У меня нет только лишних грузовиков, но это мы организуем.
Фон Хальденберге засунул бумагу обратно в карман. Заметив кислую мину Вахтера, он посочувствовал ему, но помощи не предложил. Приказ верховного командования вермахта не обсуждается, потому что за этим приказом стоят Борман и Гитлер. Приказу можно только подчиниться.
— И поскольку дело находится под контролем Гитлера, — добавил он, — вся операция будет проходить под личным наблюдением доктора Руннефельдта, специального представителя Бормана.
— Вы… вы хотите украсть Янтарную комнату… — глухо выдавил Вахтер.
Генерал фон Хальденберге поднял брови и с ужасом посмотрел на него.
— Да что вы такое говорите? — прошептал он. — Не желаю этого слышать! Янтарная комната возвращается домой, в рейх… она принадлежит Фридриху Вильгельму I. Её создали немецкие мастера по янтарю! Именно так надо это рассматривать. И именно так на это смотрит фюрер.
Вахтер кивнул и замолчал. Он подумал о судьбе семьи Вахтеров за прошедшие двести двадцать пять лет, записях своего предка Фридриха Теодора Вахтера: «Король подарил Янтарную комнату царю Петру I! Он, видимо, был пьян. Единственное утешение в том, что мы будем сопровождать комнату до Петербурга. Это нам обещал король. Что с нами будет?» Да, что с нами будет? Что станет с нами без Янтарной комнаты?
— Очень жаль, что приходится вам об этом говорить. — Фон Хальденберге похлопал Вахтера по плечу. Он прекрасно понимал его переживания, но не мог их смягчить. — Здесь вам и генерал фон Кортте не смог бы ничем помочь. Впрочем, кто знает, что с нами будет. Но во всяком случае, Янтарная комната уцелеет. Это должно стать для вас большим утешением.
Вахтер опять молча кивнул. Он подождал, пока генерал уйдёт, и вернулся в Янтарную комнату. Яна испуганно посмотрела на него и, позабыв обо всех предосторожностях, бросилась к нему и обняла.
Он плачет. Михаил Игоревич плачет!
Он вздрагивал, слёзы катились по его щекам.
— Они… они придут… — сказала она, обнимая его.
— Да.
Яна тоже заплакала. Прижавшись друг к другу лбами и обнявшись, как пьяницы, они искали друг у друга утешения и не могли успокоиться.
***
— О нет, нет, опять! Моя голова до сих пор как в тисках. — Доктор Финдлинг взял у ординарца записку от гауляйтера Коха. Его снова приглашали на вечернюю встречу. Предстояла очередная пьянка. — Я отказываюсь. Я болен. У меня грипп. Ты должна пойти туда и извиниться за меня, Марта.
— Я? Одна к Коху? Никогда! — Марта Финдлинг взмахнула руками. — Кох твой друг, и ты должен сам улаживать с ним отношения, Вильгельм.
— Он мне не друг, я тебе уже говорил!
— Но выглядит именно так.
— Если начну огрызаться на Коха, то меня уволят и через сутки отправят на фронт. Это называется боевым испытанием! Кох патологически заносчив и злопамятен. Убедить его может только болезнь.
— Нет! Нет! Нет! С меня хватит и последнего раза! Он облапал мою грудь!
— Я об этом ничего не знаю. Ты мне ничего не говорила! Вот развратник!
— А что бы ты сделал, если бы я тебе рассказала? Ничего! Кох всесилен.
Марта Финдлинг не преувеличивала. Кох был действительно всесилен.
Когда доктор Финдлинг с унылым видом пришёл к Коху, его закадычный друг Бруно Велленшлаг был уже там. На извинения доктора о том, что у него грипп, Кох весело воскликнул:
— Тогда сначала выпейте тройную порцию, доктор! Я так всегда делаю. Полощу горло коньяком, и все бациллы дохнут! А потом, когда я скажу, зачем вас позвал, вы запляшете как негр. Но сначала тройную порцию…
Доктор Финдлинг мужественно выпил большую рюмку коньяка. Кох и Велленшлаг, хоть и не болели гриппом, составили ему компанию. И тогда Кох с видом победившего гладитора сообщил первую радостную новость.
— Я установил контакт с генерал-полковником Кюхлером и с 18-й армией. Они с радостью приняли транспортную колонну Коха, и всё идёт как по маслу. Она доставит боеприпасы и продовольствие на фронт, освободив армейские машины для быстрой передислокации войск, а чтобы не возвращаться порожняком, будет ждать моих указаний.
— Прекрасно, — сказал доктор Финдлинг. Голова у него гудела, а желудок сопротивлялся вторжению большой порции коньяка.
«Гауляйтер, — подумал он, — если меня стошнит на твой ковёр, сам будешь виноват». Что означает сообщение Коха, до него ещё не дошло.
Кох подмигнул своему приятеля Валленшлагу, который сидел развалившись в глубоком кресле.
— Вторая новость, — воодушевлённо воскликнул Кох и потёр руки. — Я был в «Волчьем логове» и разговаривал с Борманом. Объяснил ему, где самое лучшее и безопасное место для хранения Янтарной комнаты, пока она не понадобится фюреру в Линце после окончательной победы. Она должна находиться там, где её создали. Борман понял, что это Кёнигсберг. Здесь, в замке! В ваших руках, доктор Финдлинг!
Финдлинг ошеломлённо смотрел на гауляйтера. Боль в желудке исчезла, голова просветлела, алкоголь улетучился как лёгкий газ.
— Боже мой… — пробормотал он. — У меня… Боже мой…
— При чём здесь Бог? — Кох взмахнул руками, как будто разгонял осиный рой. — Он нам не помогал. Это сделал я! Как и говорил. Я!
— Это великолепно, гауляйтер, — сказал Велленшлаг. Он слишком хорошо знал, насколько Кох тщеславен, и не польстить ему значило бы подписать себе приговор. — Просто великолепно! Теперь все, от Берлина до Берхтесгадена, будут плеваться!
Верный Бруно Велленшлаг зааплодировал, как будто Кох исполнил арию Вагнера.
— Когда? — спросил доктор Финдлинг. Ему надо было сесть. От этой новости у него ослабли колени. — Когда, герр гауляйтер?
— Колонна уже в пути. Восемнадцать грузовиков с лучшими водителями. Из Плексау отправились эксперты спецподразделения «Гамбург» из АА, с поручением фюрера. Ротмистр Волтерс и зондерфюрер Руннефельдт будут руководить операцией. Командир 50— го армейского корпуса генерал фон Хальденберге должен предоставить столько людей, сколько потребуется. Самое позднее через две недели Янтарная комната будет здесь, в замке… — Кох налил себе полный бокал коньяка и выпил залпом. — Что вы на это скажете, доктор Финдлинг?
— Ничего...
— Ничего?
— Мне больше нечего сказать, герр гауляйтер. Я потрясён. — Финдлинг говорил это от чистого сердца. Мысль о том, что через две недели в его музее окажется крупнейшее произведение искусства из янтаря, захватывала дух. — Может, мне съездить в Пушкин?
— Не нужно. Разборкой и транспортировкой будут заниматься военные, поэтому генерал-полковник Кюхлер в этом отказал. А еще из-за Розенберга, который всегда начеку, как чёрт над душой кардинала. Мы будем спойоны, только когда Янтарная комната прибудет в Кёнигсберг, а вы её разгрузите. — Эрих Кох несколько раз прошёлся по комнате взад-вперёд, заложив руки за спину. — Вам надо подумать о том, где вы ее разместите.
— Её можно разместить на третьем этаже южного флигеля, неуверенно предположил доктор Финдлинг. Его сердце только начало биться ровнее. — Когда разберут одну стену, мы можем получить из Пушкина приблизительные размеры.
— А сейчас там что?
— Картинная галерея. Выставлены работы Либермана, Модерзон-Беккер и Коринта.
— Выродившееся еврейское искусство! — буркнул Велленшлаг. — Не искусство, гауляйтер, а комната ужасов.
— Всё выкинуть! — Кох, как кинжалом, ткнул в доктора Финдлинга указательным пальцем. — Почему эта мазня всё ещё здесь? Почему вы ее не сожгли?
— Так ведь и в Доме немецкого искусства в Мюнхене есть зал с картинами и скульптурами вырожденцев. Таково желание фюрера. С целью устрашения и для сопоставления со здоровым народным искусством. Настоящее искусство можно понять только в сравнении с таким уродством.
— Вы правы, доктор Финдлинг, — закивал Кох. — Фюрер в этом разбирается, он ведь сам художник. Тоже рисовал. И как вы поступите с этой еврейской мазнёй?
— Отправлю её в подвал, герр гауляйтер.
Доктор Финдлинг облегчённо вздохнул. Он только что избежал катастрофы. К счастью, ему вовремя пришла в голову мысль о Гитлере. В критических ситуациях надо всегда на него ссылаться, подумал он. Вряд ли можно найти лучшее прикрытие.
Кох резко остановился перед доктором Финдлингом и наклонил голову. При этом у него появлялся двойной подбородок, придавая лицу обманчиво добродушное выражение.
— Вам надо написать статью в газету, доктор, — сказал он. — О возвращении Янтарной комнаты в родной дом.
— Как пожелаете, герр гауляйтер. — Доктор Финдлинг был готов на всё, лишь бы это сокровище оказалось в музее замка. Это величайшее событие в его жизни, мечта, ставшая явью. Он уже мысленно смотрел на нее и гладил янтарную мозаику, фигурки и гирлянды. Неповторимое чувство! У него опять перехватило дыхание. — Только разбирать её нужно осторожно, очень осторожно… с чувством, так сказать.
— Об этом позаботится доктор Руннефельдт. — Гауляйтер Кох упал в кресло и вытянул ноги. Сегодня он был в форме, в широких галифе и в блестящих, будто лакированных сапогах. — Рейхсляйтер Борман не мог порекомендовать никого лучше.
— А потом мы выставим Янтарную комнату для широкой публики?
Доктор Финдлинг протянул Велленшлагу бокал. Теперь алкоголь был для него лекарством — внутри всё горело.
— Почему же нет? — Кох поднял брови. — Именно для этого мы её и забираем! Сначала в Кёнигсберге, потом в Линце… если мне не удастся переубедить фюрера, чтобы она осталась здесь. Как символ «немецкого золота».
Старая истина о том, что вор не должен хвастаться добычей, больше не действовала. Завоеватели гордились разбойничьими набегами, все должны были видеть их добычу и восхищаться. Это воодушевит народ-победитель.
Почёт для грабителей.
Кто ещё сомневается в окончательной победе?
Только пораженцы… Но они казнены.
***
Первого октября маленькая колонна спецподразделения «Гамбург» Министерства иностранных дел прибыла в Пушкин. Дорогу до Екатерининского дворца они уже знали, и колонна остановилась перед парадной лестницей. Все вылезли из машин, разминая закоченевшие после долгой езды спины и ноги. У лестница поставили в аккуратный ряд чемоданы.
— Это они… — сказал Михаил Вахтер.
Вместе с Яной он наблюдал из окна небольшого зала, отделанного бело-голубыми изразцами, который называли «табакеркой». Здесь стоял лишь здоровенный диван в восточном стиле. На нём, как и в соседней спальне, императрица Екатерина II принимала любовников и удовлетворяла ненасытное сладострастие. После страсти следовал перекур, именно потому комнату и прозвали «табакеркой».
— Точно. Это доктор Волтерс, — ответила Яна. — Мне надо спрятаться. Он не должен меня видеть. У него очень странный взгляд.
— Подождём.
Вахтер наблюдал за разгрузкой машин. Из дворца вышел ординарец генерала фон Хальденберге и заговорил с мужчиной в форме офицера СС, на его серебристых погонах галун был уже, чем обычно.
— Это, должно быть, и есть доктор Руннефельдт, — сказал Вахтер и судорожно сжал ладони. — Почему… почему он в форме СС? Я думал, он из Министерства иностранных дел? Яна, это очень плохо…
— Что вы намерены делать, Михаил Игоревич? — Она посмотрела на него тёмными глазами, пытаясь разгадать чувства, но его лицо застыло, как неподвижная маска. — Вы уже ничего не исправите.
— Я буду им помогать, — глухо произнес Вахтер.
— Помогать?
— Помогу снять защитную обшивку. Упаковать… Погрузить…Чтобы не повредить больше ни кусочка. Комната уже и так достаточно испорчена.
— Если вам это позволят…
— Я поговорю с доктором Руннефельдтом. Генерал сказал, что по положению он выше доктора Волтерса. — Он снова посмотрел на машины и на человека в форме СС, который широко расставив ноги и подняв голову рассматривал прекрасный фасад дворца. По выражению его лица было ясно, что увиденное его поразило. — Думаю, с ним можно разговаривать. У него добрый взгляд.
— Но он офицер СС!
— Некоторых тигров можно гладить. — Вахтер отошёл от окна «табакерки». — Пойду их поприветствую. Все должны усвоить, что я неотделим от Янтарной комнаты, как фигурка или розетка.
Вахтер надел куртку, погладил побледневшую Яну по щеке и вышел.
Генерал фон Хальденберге в это время принимал прибывшее подразделение АА, пробежал глазами по их документам и предложил присесть на бесценные, отделанные перламутром китайские стулья.
— Мне о вас уже сообщили из штаба армии, — сказал он. — Но так скоро я вас не ожидал. Вы прилетели на пушечном ядре, как Мюнхаузен?
Доктор Руннефельдт рассмеялся. Доктор Волтерс промолчал. Как человек без чувства юмора, он усмотрел в этой шутке коварный намёк на его звание ротмистра. Сначала фон Кортте, теперь этот Хальденберге… все генералы на одно лицо.
— Каждый день на счету! — сказал он с серьёзным видом. — Пушкин находится во фронтовой зоне, всякое может случиться.
— Очень правильное и своевременное замечание.
Фон Хальденберге предложил им сигареты. Волтерс отказался, а доктор Руннефельдт взял с нескрываемым удовольствием.
— Точно. Там, где стреляют, всякое случается.
Это была явная насмешка над Волтерсом.
— Приступите прямо сейчас?
— С утра, герр генерал.
— Сколько человек вам потребуется?
— Не много. — Доктор Руннефельдт сделал три глубокие затяжки, задержал дыхание и резко выдохнул. — Иначе будут только путаться под ногами. Шесть, самое большее десять человек. Люди с чуткими руками. Работа очень тонкая, нужны люди аккуратные. У вас в армии есть художники?
— Надо проверить. И в лазарете спросить. Наверняка найдутся и художники. Но на это потребуется не один день.
Волтерс хотел спросить, почему на это потребуется не один день, но доктор Руннефельдт его перебил.
— Но мы немедленно снимем со стен Янтарной комнаты фанерные щиты. Для этого не нужны специалисты. — Он покосился в сторону. — Вы что-то хотели сказать, герр ротмистр?
— Нет!
Волтерс задрал угловатый подбородок. Он был оскорблён. Что себе воображает этот зондерфюрер? Зондерфюрер… даже не офицер! Это звание придумали, чтобы сотни штатских могли надеть форму. Оскорбление для офицерства. Для каждого бывшего кадета. И он хочет здесь командовать? Важничает и надувается, как индюк?! Правда, он таскает в кармане приказ фюрера, который даёт ему право проводить одобренную свыше операцию, но не даёт право обращаться с ротмистром, как с пастухом!
Ординарец принёс на подносе кофе и печенье. Серебряные кофейники, изящный мейсенский фарфор, начищенные до блеска серебряные столовые приборы. Имущество императрицы Елизаветы… во дворце полно было такого добра.
Доктор Волтерс взял кофейную ложку и стал пристально ее разглядывать. Потом перевернул чашку вверх дном и увидел скрещенные мечи. Действительно, настоящий Мейсен.
— И кофейники сделаны лучшими петербургскими мастерами по серебру, — насмешливо произнес фон Хальдерберге и приставил к глазу монокль. — Принадлежали ещё царю Петру Великому.
«Это мы тоже заберём, — подумал Волтерс, не обращая внимания на замечание генерала. — Всё заберём: иконы, серебро, коллекции драгоценных камней, люстры из золота, хрусталя и драгоценных камней в роскошных залах. Ничего здесь не оставим. Мой дорогой генерал, я точно знаю, какое огромное богатство находится в Екатерининском дворце. Доктор Руннефельдт не знает этого, вот и хорошо.Несколько самых старых и лучших икон будут потом висеть в моём рабочем кабинете… И мне не будет стыдно».
Услышав слова генерала Хальденберге, он прервал приятные размышления и вернулся в реальность.
— Ординарец проводит вас к герру Вахтеру, — сказал тот.
— Кто такой Вахтер? — удивился доктор Руннефельдт.
— Один сумасшедший, — небрежно махнул рукой доктор Волтерс. — Он ждёт в Янтарной комнате... Уже больше двухсот лет, по его словам. Семейная традиция. Воображает себя ее хозяином. Можно не обращать на него внимания.
— Но всё же я хотел бы с ним познакомиться. — Доктор Руннефельдт поднялся и потушил сигарету в позолоченной пепельнице императора Александра II. — Возможно, он даст нам ценные советы.
— Советы? Служащий музея — все равно что лакей, — надменно заявил Волтерс.
— Я буду рад любому совету. Служащий музея иногда знает о вверенных ему сокровищах больше директора. У меня был один смотритель зала, который обнаружил подделку. Мы, солидные эксперты, приняли её за подлинник и уже собирались подписать акт экспертизы.
Они молча попрощались, фон Хальденберге на короткое время поднёс пальцы ко лбу — не то отдал честь, не то еще что-то. Жест был явно двусмысленным. Дожидаясь ординарца в коридоре, они не разговаривали.
В Янтарной комнате сидел пожилой мужчина. Ординарец молча развернулся и ушёл.
Доктор Руннефельдт протянул руку, а доктор Волтерс демонстративно подошел к открытой янтарной панели и стал ее рассматривать, насвистывая песенку: «Так мы живём, так мы живём, так мы живём всё время…»
— Вы и есть герр Вахтер, верно? — дружелюбно спросил доктор Руннефельдт. — Герр генерал рассказывал о вас. Вы неразлучны с Янтарной комнатой?
— Да, — кивнул Вахтер и поинтересовался: — А вы — доктор Руннефельдт?
— Да.
— Из СС?
— Нет. Почему?.. Ах, это. — Он посмотрел на свою форму. Я руководитель международного отдела государственного музея в Берлине. Фюрер дал мне особое поручение. Я не солдат и не офицер, и до этого не носил форму. Теперь мне придали облик офицера СС и сделали зондерфюрером. — Доктор Руннефельдт пожал плечами. — Только поэтому я в форме.
Доктор Волтерс засвистел громче. Неслыханное дело, возмущался он про себя. Дружеский разговор с каким-то служащим. И его поставили командовать мной, ротмистром! А этот Вахтер! Его проверяли? Кто его проверял? Где его личное дело? Этот субъект может без зазрения совести наговорить что угодно, а на самом деле окажется советским агентом! Двести двадцать пять лет на службе у русских… И за эти годы он сам не стал русским? Кто в это поверит? Если на этого человека нет личного дела, надо как следует ему врезать, и тогда он расскажет всю правду про своё прошлое! Может, когда мы узнаем, кто он такой, у нас глаза на лоб полезут!
— Вы хотите разобрать Янтарную комнату и увезти? — спросил Вахтер. Он немного успокоился. Раз это не офицер СС, может, он не заберет комнату как трофей и она не исчезнет бесследно.
— Да, — ответил доктор Руннефельдт. — Завтра и начнём. Мы разберём комнату на отдельные панели, упакуем в специально приготовленные ящики и перевезём в другое место. Для этого нам выделят восемнадцать грузовиков. — Доктор Руннефельдт посмотрел в спину доктора Волтерса, который всё ещё свистел. Теперь это был парадный марш. — Вы нам поможете, герр Вахтер? — спросил он громко.
— Если это необходимо...
— Если кто и знает Янтарную комнату, как самого себя, так это вы.
— Самого себя я знаю меньше всего, герр доктор.
— Вы правы. Многие в отношении самих себя совершенно слепы.
Это был выстрел в сторону доктора Волтерса. Он понял это сразу, стиснул губы, и свист превратился в шипение.
— И куда вы повезёте комнату? — спросил Вахтер безо всякой надежды.
Однако доктор Руннефельдт откровенно ответил:
— В Кёнигсберг.
Мозг Вахтера лихорадочно заработал. Кёнигсберг. Восточная Пруссия. Янтарная комната останется на востоке! Есть маленькая надежда… поехать в Кёнигсберг вместе с ней. Доктор Руннефельдт не такой человек, который сразу же откажет. С ним можно договориться. Его напряженные отношения с доктором Волтерсом могут оказаться дверцей в будущее.
— Потом, после победы, её разместят в самом большом в мире музее. — Доктор Руннефельдт сделал широкий жест руками. — Янтарная комната будет его основной частью. Музей, который фюрер построит в Линце, станет храмом искусства на тысячу лет…
— Я уже слышал об этом. Линц на Дунае, в Австрии.
— В Остмарке, мой дорогой Вахтер. Но этот нюанс вы не знаете. — Доктор Руннефельдт широко улыбнулся. — Ваша семья всё это время служила русским… Почему вы не обрусели?
— Таково было указание короля Фридриха Вильгельма I. Где бы ни оказалась Янтарная комната, при ней должен находиться Вахтер, который всегда должен оставаться немцем и заботиться о ней.
— И вы теперь последний из Вахтеров?
— Да, — ответил Вахтер после секундной паузы. — Да, герр доктор. Мне не удалось зачать ребёнка. Моя жена умерла очень рано. Я её очень любил и не захотел жениться снова. Я знаю, что совершил ошибку. За двести двадцать пять лет у всех Вахтеров были сыновья, и только я не выполнил указание короля.
Некоторое время он молчал, вспомнив о Николае, который в эту минуту, возможно, находится в Эрмитаже, в Ленинграде. Будет большим счастьем, если он переживет эту убийственную войну. А если нет… тогда он сейчас не соврал. Собрав всё мужество, Вахтер посмотрел доктору Руннефельдту в глаза. Добрые глаза, снова подумалось ему. Но форма офицера СС делает его опасным.
— И поэтому… поэтому у меня к вам просьба, — сказал Вахтер и глубоко вздохнул. — Как у последнего из Вахтеров… Может, я ещё пригожусь? Могу ли я сопровождать комнату в Кёнигсберг?
Доктор Волтерс повернулся на каблуках. Подошвы его сапог заскрипели по наборному паркету.
— Невозможно! — возмущенно рявкнул он. — Что этот человек о себе возомнил?! Пусть охраняет пустой дворец и гоняет здесь крыс, клопов и тараканов.
Он резко замолчал — ему стало ясно, что он совершил крупную и не предвещающую ничего хорошего ошибку.
Доктор Руннефельдт среагировал без промедления.
— Я буду о вас ходатайствовать, герр Вахтер, — сказал он. — Я отвечаю лишь за доставку комнаты в Кёнигсберг. А там всё решает доктор Финдлинг. Между нами — доктор Финдлинг очень приятный человек и прежде всего главный эксперт по янтарю.
— Я могу надеяться?
— Без надежды жизнь была бы бессмысленной.
— А вы… вы возьмёте меня в Кёнигсберг?
— Я ещё не знаю. — Доктор Руннефельдт положил руку на плечо Вахтеру. Этот жест можно было расценить, как молчаливое обещание. — Во всяком случае, приготовьтесь.
Сразу после этого разговора Вахтер вбежал в свою комнату, обнял и расцеловал Яну, и, как молодой и пылкий возлюбленный, закружил её по комнате, сияя от счастья.
— Я поеду с ней, доченька! — воскликнул он. — Поеду в Кёнигсберг… с моей комнатой… Я останусь при ней… пока Николай не вернётся с войны и у вас не родится сын. Возможно, даже лучше, что её увезут из дворца. Она будет спасена и не погибнет от бомб и снарядов. Яна, доченька, судьба нам благоволит!
***
В этот день в книге учёта боевых действий 50-го армейского корпуса дежурный офицер сделал следующую запись:
1.10.1941 г., Красногвардейск.
Для изъятия произведений искусства, находящихся в районе дислокации корпуса, высшим командованием назначены ротмистр доктор Волтерс и зондерфюрер доктор Руннефельдт.
В этот вечер — и это можно понять — Михаил Вахтер впервые за многие годы напился. Последнюю бутылку водки он прятал в спальне императрицы Марии Фёдоровны, в кровати из кленового дерева.
Запись в книге боевых действий 50-го армейского корпуса:
14.10.1941 г., Красногвардейск.
Вывоз под руководством искусствоведа, ротмистра Волтерса, и зондерфюрера доктора Руннефельдта изъятых в Пушкине произведений искусства, в том числе настенных панелей Янтарной комнаты из дворца в Пушкине (Царское Село), в Кёнигсберг.
Прошло две недели, и все это время Михаил Вахтер так много работал, что валился от усталости на походную кровать и три часа беспокойно спал прямо в Янтарной комнате. Походную кровать из спальни Александра I ему принес солдат из тех, что разбирали комнату. До этого кровать стояла в спальне в стиле барокко — довольно спартанское место отдыха царя-воина.
Доктор Руннефельдт требовал, чтобы у его помощников были чувствительные пальцы, и потому происходило всякое.
Например, состоялся примечательный диалог, когда старший фельдфебель построил свою роту, прибывшую в Пушкин с фронта на отдых.
— Всем внимание! — скомандовал фельдфебель Макс Химмерих и оглядел строй. — Среди вас есть люди, связанные с искусством?
Никто не отозвался. Солдаты хорошо знали Химмериха. Если кто-нибудь отзовётся, то может последовать: «Ты кто? Скульптор? Шагом марш в сортир срубать засохшее дерьмо со стен!».
— В чём дело? — проворчал Химмерих. — В моей роте нет ни одного человека, связанного с искусством? Одни невежды? Все, кто имеет отношение к искусству — шаг вперёд!
Немного помедлив, из строя вышли три человека. Фельдфебель Химмерих прищурился. Трое — это уже что-то.
Он подошёл к первому добровольцу и смерил его взглядом. Эти трое не походили на людей искусства, хотя Химмерих и сам не представлял, как они должны выглядеть.
— Вы кто? — проскрипел он.
— Стрелок Эберхард Гнайзл, герр фельдфебель.
— Я спросил, кто вы, — прорычал Химмерих, — а не ваше звание!
— Импрессионист.
— Ага! — Химмерих нахмурился. Импремист? Что это? Наверняка что-то неподходящее.
— Встать в строй! — скомандовал он. Второй «искусствовед» широко улыбнулся, когда фельдфебель шагнул к нему.
— А вы?
— Гончар, герр фельдфебель.
У Химмериха перехватило дыхание.
— Идиот! — заорал он, побагровев. — Делает горшки и называет себя художником!
Третий со смешанным чувством ожидал вопроса фельдфебеля и встал по струнке, когда Химмерих остановился перед ним.
— А вы? Тоже какой-нибудь художник-пачкун?
— Нет, герр фельдфебель. Глазуровщик.
Химмерих оторопел. Он совершенно не знал, относится ли это к искусству, как он себе представлял. Не пианист, не певец, не художник, и даже не маляр. Ну что за свинская рота!
— Встать в строй! — буркнул он и посмотрел на длинный ряд солдат. — Мне нужен человек с чуткими пальцами.
— У меня такие, герр фельдфебель! — раздался голос из середины строя.
— Шаг вперёд!
Из строя вышел ефрейтор.
— Профессия? — спросил Химмерих.
— Портной, герр фельдфебель.
Химмерих громко вздохнул. Портной! Портной без чутких пальцев ни на что не годен! Иначе зачем все портные носят напёрстки? То, что нужно!
— Через полчаса жду в канцелярии с вещами, — с облегчением в голосе сказал Химмерих. — Отправитесь на работу в царский дворец. Рота, разойдись!
Довольный, он широким шагом направился в канцелярию. Всего один человек, но всё же честь роты спасена. Люди искусства встречаются так редко. Чёрт знает, куда их отправляют служить.
Тем временем во дворец из Пушкина прибыли десять человек с чуткими пальцами, их представили доктору Руннефельдту. Надеясь на то, что в армии четко выполняют приказы, он не стал расспрашивать каждого, а собрал всех в Янтарной комнате. С янтарных панелей уже сняли три фанерных щита, и они проявились во всём великолепии. Все восторженно их рассматривали.
— Это Янтарная комната, — тихо произнес один из этого десятка.
Доктор Руннефельдт пристально на него посмотрел.
— Вы о ней знаете?
— Только по фотографиям, но они не передают всего. Эта красота ошеломляет.
— Кто вы по профессии?
— Скульптор, герр зондерфюрер.
— Вот и замечательно. Во время отсутствия ротмистра Волтерса или меня будете старшим. Как вас зовут?
— Людвиг Гронау, герр зондерфюрер.
— Хорошо, Гронау. Будете подчиняться мне. — Он кивнул на Вахтера, который смотрел на скульптора критическим взглядом. — Это герр Вахтер. До сих пор именно он заботился о Янтарной комнате и неотделим от неё. Если у вас будут вопросы, обращайтесь к нему. И ещё: если герр Вахтер что-то предложит, расценивайте это как приказ. Он знает каждый камешек на стенах.
Доктор Волтерс держался теперь в стороне от доктора Руннефельдта. Он целыми днями занимался регистрацией оставшихся в Екатерининском дворце произведений искусства. С каждым часом он волновался всё больше. Количество ценных предметов во дворце превосходило все ожидания. С колотящимся от предвкушения сердцем он снова и снова просматривал длинный список. В нём было записано:
Свыше двухсот произведений искусства, среди которых известные в кругу искусствоведов весенние букеты из позолоченной филиграни и драгоценных камней;
огромная коллекция саксонского (мейсенского) и французского фарфора;
коллекция Екатерины II из пятидесяти икон, некоторые в золотых окладах с драгоценными камнями;
единственная в мире коллекция Петра I, основателя Петербурга. Только в ней одной было шестьсот пятьдесят икон. В коллекции были представлены все школы иконной живописи от зарождения иконописи. Их преподнесли в дар царю церкви и монастыри;
сорок пять потолочных росписей итальянской школы, а под ногами — бесценный паркет.
В роскошных комнатах висели огромные люстры из горного хрусталя и драгоценных камней, а в личных покоях Екатерины II обнаружились уникальные непристойности: резные позолоченные стулья с ножками в виде возбуждённых пенисов, деревянные подвесы для гобеленов в виде мошонок и спинка дивана с изображением вагины.
Доктора Волтерса поразило это изобилие произведений искусства. О них знал и Мюллер-Гиссен, ведь именно он все их зарегистрировал.
— Всё заберу! — пробормотал Волтерс себе под нос. — Всё! Ни один предмет не пострадает.
Конечно, фюрер в своём музее в Линце не будет выставлять резные пенисы, а Гиммлер или Розенберг, или ещё кто-нибудь — ах да, Геринг — их не получат, с восторгом размышлял Волтерс. Это я оставлю себе… ведь я могу это себе позволить. У меня большой дом. Почему бы там не устроить комнату Екатерины? Прекрасные непристойности будут поднимать настроение. И всё это бесценно.
Вечером он ужинал вместе с доктором Руннефельдтом в офицерском клубе штаба корпуса, съел половину цыплёнка, выпил лёгкого вина и чувствовал себя превосходно. Его не заботили мысли о солдатах, которые в тридцати километрах отсюда засели в траншеях и блиндажах и несли большие потери. Советские войска предприняли контрнаступление… их 42-я и 45-я армии штурмом пытались прорвать кольцо блокады. 23-я армия пыталась укрепиться на южном берегу Ладожского озера, чтобы обеспечить снабжение города по озеру. В Ленинграде начался голод…
— Когда прибудут грузовики? — спросил он доктора Руннефельдта, обгладывая куриную косточку. У него было хорошее воспитание, в отличие от английского короля Генриха VIII, который бросал обглоданные кости через плечо.
— Двенадцатого, — коротко ответил доктор Руннефельдт.
— Мы успеем к этому времени?
— Должны! Транспортная колонна Коха в нашем распоряжении на очень короткое время. Она предназначена для снабжения 18-й армии.
— Должен признаться, мне это не нравится. — Доктор Волтерс положил кость на тарелку и вытер жирные пальцы бумажной салфеткой. — Зачем Кох суёт в это дело свой нос? На каком основании?
— Янтарную комнату нужно доставить в замок Кёнигсберга, а там командует гауляйтер Кох. Это приказ фюрера. Вы подозреваете фюрера в дилетантизме?
— Слава богу, нет! — Доктор Волтерс наклонился вперёд. — Честно и между нами, доктор Руннефельдт, вы доверяете Эриху Коху?
— Меня волнует только Янтарная комната, — холодно отозвался Руннефельдт. — Критиковать гауляйтера Коха мне не положено.
Доктор Волтерс сменил тему. Ему не удалось ловить доктора Руннефельдта на слове.
Разборка Янтарной комнаты была утомительной работой, требующей много времени. Массивные панели нужно было осторожно снять со стен и разделить по стыкам швов, а розетки, гирлянды, фигурки ангелочков и головы воинов — аккуратно вытащить. Очень тонкая работа, и ни один фрагмент мозаики не должен был пропасть. Уже в первые дни после того, как немецкие войска вошли в город, стены дворца сильно пострадали. Солдаты выковыривали куски мозаики на сувениры. Всюду зияли дыры, несколько фигур, к которым прислоняли штыки, поцарапались или были повреждены. При взгляде на них у Вахтера заныло сердце.
— Позор, — несколько раз повторил Людвиг Гронау, увидев ужасные дыры. С Вахтером у него установились дружеские отношения. В его ловких руках ничто не пострадало при разборке. Он будто гладил янтарь, прикасаясь к нему. — Мне стыдно за моих товарищей.
— То же самое сказал и генерал фон Кортте. Ничего не поделаешь… — Вахтер разочарованно пожал плечами. — После войны всё отреставрируют, если доктор Финдлинг не займётся этим сразу. Во всяком случае, большая часть будет спасена.
— Если мы победим, Михаил.
— Ты в это не веришь?
— Ты смотрел хоть раз на карту России? От западной границы до мыса Дежнева на краю Сибири. И мы хотим её завоевать… эту бескрайнюю землю? Даже если мы займём Москву, Советы отступят за Урал. Затем в болота, в тайгу, в сибирские горы, в тундру и степь, до самой границы с Китаем. Генералы должны показывать Гитлеру карту всей России, а не ее часть. Там нас ждёт смерть, уже у Енисея, не говоря о Лене, куда мы никогда не доберемся.
— И что тогда будет с Янтарной комнатой? — спросил Вахтер подавлено.
— Ты получишь её назад. Не теряй надежду. Мы переместим её в другое место, чтобы защитить от разрушений. Рядом фронт, наступление остановилось. Посмотрим, что дальше будет…
— Если это кто-нибудь услышит, тебе конец, Людвиг.
— Я говорю это только тебе, Михаил. Вспомнишь мои слова, когда запахнет жареным.
Позже, в своей квартире, Вахтер обсудил этот разговор с Яной. Она всё ещё пряталась и лишь по ночам стояла у открытого окна и дышала свежим воздухом. В квартире ей не грозило наткнуться на Волтерса или Руннефельдта, им здесь нечего было делать.
Только один раз Вахтера посетил генерал Хальденберге, и Яна спряталась в туалете. К счастью, генерал пробыл не более четверти часа и удивился, насколько скромно живёт Вахтер, когда вокруг такая роскошь.
— Мы скоро закончим, — сказал Вахтер, наливая себе чашку чая и макая в неё твёрдое печенье. — Уже сколачиваем ящики. Доктор Руннефельдт столкнулся с одной проблемой — невозможно достать древесную стружку для упаковки. Обе пилорамы в Пушкине не работают.
— Может, её привезут на грузовиках.
— Это последняя надежда, доченька.
На следующее утро чуть было не произошла катастрофа.
По приказу генерала во дворец прибыла бригада мойщиков, чтобы протереть большие окна. На толстых веревках они спускались с крыши и по пути сбивали повреждённые бомбами и снарядами части фасада. Фон Хальденберге отдал такой приказ после того, как рухнул огромный кусок карниза и чуть не убил одного полковника.
Ефрейтор Вилли Шмидт оказался перед окном квартиры Вахтера и заглянул в комнату. Яна, как всегда в форме медсестры, сидела на диване и читала Толстого. К счастью, невозможно было разглядеть, что это русская книга.
— Какой мышонок! — восхитился Шмидт. — Просто прелесть!
Он встал на карниз и постучал по стеклу. Яна от неожиданности подскочила, и книга с грохотом свалилась на пол. Вилли Шмидт радостно помахал рукой и вытянул губы трубочкой.
— Поцелуйчик! — воскликнул он. — Всего один поцелуйчик! Открой окошко, красавица… это неутомимый Вилли!
Яна на мгновение растерялась, а потом к ней вернулось присутствие духа. Она с соблазнительной улыбкой подошла к окну, но открывать не стала.
— Катись отсюда, обезъяна на верёвочке! — крикнула она через стекло.
Вилли Шмидт широко улыбнулся, сделал недвусмысленный жест и снова постучал по стеклу.
— Открой, сокровище! — крикнул он и прижался лбом к стеклу. — Таких ты еще не встречала, это точно! У меня так встал, что штаны вот-вот лопнут…
— Придется спросить полковника Райнерса, моего любовника, — крикнула Яна в ответ.
— Вот дерьмо… вечно эти офицеры и врачи! — Вилли Шмидт повис на канате, помахал Яне на прощание и скрылся из вида, соскользнув вниз. Не чувствуя под собой ног, Яна вернулась на диван. Что теперь будет? Расскажет ли он остальным? Не придёт ли кто-нибудь и не поинтересуется, что делает во дворце медсестра из Красного Креста?
Она ждала, разложив на столе марлевую повязку, пластырь, ножницы и бутылочку с дезинфицирующей жидкостью, как будто собиралась обработать рваную рану на голове Вахтера, хотя та уже давно зажила. Но никто так и не пришел.
Вилли Шмидт промолчал. Не потому, что получил отпор и товарищи стали бы над ним издеваться, просто он по собственному опыту знал, каково это — заглядываться на любовниц офицеров. Однажды он всю неделю провалялся с поносом в госпитале под Соколово в Польше, и как-то сказал приятелю по палате: «Послушай, я ничего не могу поделать… это не остановить». Незадолго до выписки из госпиталя он познакомился с Ирмой и сумел только потискать ее за грудь, а дальше дело не продвигалось. Но и этого оказалось достаточно. Их застукал заведующий отделением, доктор Мутезиус, любовник Ирмы, он страшно разозлился и позаботился о том, чтобы Шмидта опять направили на фронт, не предоставив отпуск для выздоровления. После этого случая Вилли стал осторожнее вести себя с офицерскими любовницами.
Вахтер очень встревожился, когда вечером Яна рассказала ему о случившемся.
— Нужно плотно закрывать шторы, — сказал он. — Лучше сидеть в полутьме, как в келье. Всего никогда не предусмотреть. Кто бы мог подумать, что кто-то полезет по фасаду?
На следующий день никто не пришёл в квартиру Вахтера с проверкой, и они вздохнули с облегчением.
Транспортный отряд Коха из восемнадцати грузовиков прибыл в Пушкин двенадцатого сентября. По гравийной дорожке машины подъехали к боковому входу и остановились. Старший лейтенант, командир колонны, доложил о прибытии адьютанту корпуса, а потом доктору Руннефельдту.
— Превосходно, — сказал доктор Руннефельдт и подал старшему лейтенанту руку. — По-немецки обстоятельно. Вы привезли стружку?
— Конечно. Гауляйтер Кох предусмотрел, что с ней у вас возникнут трудности. В каждом грузовике есть несколько мешков стружки.
— Фантастика! Хоть кто-то об этом позаботился.
Однако заинтересованность Коха показалась Руннефельдту подозрительной. Что он задумал? Как намерен поступить с Янтарной комнатой? Правда, есть приказ «О прерогативе фюрера», и Борман не спускает глаз с Янтарной комнаты... но Кох способен на всё. Хотя он выглядит безобидно, на самом же деле он редкостный мерзавец. Хорошо, что есть доктор Финдлинг…
Старший лейтенант направился в офицерский клуб, чтобы после долгой поездки поесть и выпить что-нибудь стоящее, а также позаботился о тридцати шести водителях — в каждой машине их было два. Он подошёл к повару в солдатской столовой и потребовал:
— Давай-ка вылезай и тащи сюда всё самое лучшее. Мы прибыли по поручению самого фюрера.
Доктор Руннефельдт отправился в Янтарную комнату, чтобы сообщить новость. Здесь уже стояли двадцать заполненных ящиков, в которых не хватало только древесной стружки. Шесть столяров сколачивали остальные ящики.
— У нас есть стружка! Сколько нужно! — радостно выпалил Руннефельдт. Всё идёт как по маслу! Герр Вахтер, можете больше не беспокоиться!
— Скоро всё закончится, — сказал вечером Вахтер Яне. — Если Руннефельдт действительно возьмёт меня в Кёнигсберг, что будет с тобой? Нам придется расстаться… и когда мы снова увидимся? Что бы со мной ни случилось, ты должна пережить войну, доченька.
Яна кивнула. Она готовила Вахтеру ужин и обдумывала план, которым была занята уже четыре дня. Она не рассказывала об этом Михаилу Игоревичу, он бы ее отговорил, да еще и отругал.
Доктор Волтерс был поглощен упаковкой произведений искусства. Для каждой бесценной иконы (многие принадлежали к известной новгородской школе) он приказал сделать коробки из толстой бумаги или картона. Потом разобрали и уложили по ящикам люстры. Трудности возникли только с кроватью Екатерины II и стульями с пенисами… Доктор Руннефельдт пообещал Волтерсу только два грузовика. Янтарная комната прежде всего. Если останется место, тогда пожалуйста. Насчёт мебели от Верховного командования не было никаких распоряжений, а о резных позолоченных пенисах вообще никак не упоминалось. Всё это не входило в приказ «О прерогативе фюрера». Подобные предметы ценил лишь любитель женщин Йозеф Геббельс.
— Надо забрать двадцать тысяч книг, — сказал Волтерс. — Это рукописи из монастыря под Мюнхеном. Заглавные буквы написаны кобальтом, пурпуром и золотом! А к библейскому тексту сделаны иллюстрации. Доктор Руннефельдт, мы должны это забрать. Обязательно нужно найти место.
— Главное — Янтарная комната, — в который раз повторил доктор Руннефельдт. — Возможно, вам и повезет, доктор Волтерс.
Ранним утром тринадцатого октября началась погрузка. Двадцать семь больших ящиков были заполнены фрагментами Янтарной комнаты. Прежде чем их погрузить, доктор Руннефельдт написал на крышке каждого свою фамилию. Ящики оказались очень тяжёлыми, и ему пришлось обратиться к генералу фон Хальденбергу за помощью.
Недалеко от Пушкина располагался сапёрный батальон из резерва командования, откуда в Екатерининский дворец прибыл взвод с передвижным краном и лебедкой.
— Осторожно! — попросил доктор Руннефельдт молодого лейтенанта, который командовал взводом. — Очень осторожно! В ящиках хрупкие предметы. Нельзя ни трясти, ни ронять — иначе будет катастрофа.
— Мои ребята — настоящие специалисты.
Лейтенант окинул взглядом окна разрушенных залов. Прямо из окна протянули толстую консольную балку и закрепили. Сработала солдатская смекалка: сапёры просто прибили толстые стальные скобы в подоконник, а внутри помещения — к голым стенам. Большую лебедку закрепили на конце балки.
Но и у специалистов бывают трудные минуты. Неприятность случилась не при спуске ящиков, а когда кран разворачивался к грузовику. Одна стропа порвалась, доктор Руннефельдт от ужаса схватился за голову, лейтенант выругался… но предотвратить падение не удалось. Ящик №19 выскользнул и с грохотом рухнул ребром на гравий.
— Ну вот! — в ярости выпалил доктор Руннефельдт. — Теперь в ящике одни осколки.
— Попрошу заметить, — хладнокровно произнёс лейтенант, — это не мы обвязывали ящик. Ответственность лежит на вас.
— Я разве вас упрекаю? — Оказалось, что голос доктора Руннефельдта тоже может быть громким, чего от него никто не ожидал. — Я лишь констатирую, что содержимое ящика придётся выкинуть!
— Это выяснится, когда вы его откроете и осмотрите. Может, вам и повезет. Ящик заполнен стружкой, а высота падения была небольшой.
— Но вы же не знаете, что внутри.
— Я и не хочу знать. — Лейтенант шагнул к ящику, который как раз спускали на лебедке, и оставил доктора Руннефельдта в одиночестве.
Погрузку закончили во второй половине дня. Для Янтарной комнаты понадобилось десять машин. Восемь грузовиков остались пустыми. Доктор Руннефельдт отправился во дворец и обнаружил доктора Волтерса в одном из полуразрушенных залов.
— Вам повезло, доктор Волтерс, — сердито сказал он. — В вашем распоряжении восемь грузовиков… Вы довольны?
— Еще бы! — Доктор Волтерс быстро вспомнил, что он решил оставить, когда рассчитывал только на два грузовика. — Тогда я заберу иконы и картины из дворцовой часовни и церкви. Вы видели этот прекрасный иконостас? Резные позолоченные оклады с драгоценными камнями и иконы известных школ.
— Да. Видел.
— Дайте нам всего один день, доктор Руннефельдт. Я прикажу работать всю ночь, чтобы его разобрать.
— Завтра утром мы выезжаем. Успеете? Мы не имеем права менять расписание транспортировки без согласования с армейским командованием. Вы сами знаете. Генерал-полковник Кюхлер будет недоволен.
— Я успею.
Нервы доктора Волтерса были на пределе. Восемь полных грузовиков… подарков для фюрера… Если за это из «Волчьего логова» не последует благодарности, это будет вопиющая несправедливость. А пять, или, скажем, десять икон из этого изобилия можно и себе прибрать. Никто не обратит внимания на десять пропавших икон из семи сотен.. А эти резные, позолоченные пенисы… их нет ни в одном списке, ни в одном документе об изъятии.
— Когда вы планируете отправляться?
— Думаю, часа в три.
— Могу я взять десять специалистов и сапёров?
— Спросите у лейтенанта, доктор Волтерс.
— Герр Руннефельдт, мы же делаем общее дело...
— Верно… но каждый — свою часть.
Волтерс сердито посмотрел вслед Руннефельдту, когда тот направился назад к грузовикам. Вот свинья, подумал он со злостью. Мерзкая задница. Я всё напишу в секретном отчёте и доложу Риббентропу. Этот доктор Руннефельдт никому не нужен, ему не поможет даже знакомство с Борманом и фюрером. В ставке фюрера настроение меняется быстро.
Он покинул развороченный зал и широким размашистым шагом направился по длинному коридору в дворцовую церковь.
Доктор Руннефельдт застал Михаила Вахтера сидящим на своей скамеечке посреди опустошённой Янтарной комнаты.
— Мы всё закончили, — устало сказал Вахтер. — А этот прекрасный пол вы не заберёте?
— Не сейчас… В следующий раз — непременно.
— Вы хотите приехать в Екатерининский дворец ещё раз, герр Руннефельдт?
— Обязательно, герр Вахтер. — Доктор Руннефельдт посмотрел наверх. — Нужно придумать, как снять потолочную роспись и не повредить её. Тогда и наборный паркет заберём.
— Когда вы уезжаете?
— Рано утром.
— Я бы хотел присутствовать и попрощаться с Янтарной комнатой.
— Ах, да… — Доктор Руннефельдт снова перевёл взгляд на расписной потолок, чтобы Вахтер не смог заглянуть ему в глаза. — Нам нужно выехать ещё до отправления колонны. Доктору Волтерсу, мне и вам.
Вахтера как будто ударило током. Он вздрогнул и прижал ладони к груди. Только бы не упасть, молил он. Сердце, успокойся… Выдержи это, пожалуйста, пожалуйста, будь сильным. Не подведи меня, сердце.
— Я правда еду с вами?.. В Кёнигсберг? Вы берёте меня, герр доктор? Я могу остаться с Янтарной комнатой?
— До Кёнигсберга — наверняка. Что будет там, не мне решать. Это зависит от доктора Фидлинга и гауляйтера Коха. Я вам об этом уже говорил. Вы готовы к отъезду?
— Да, герр доктор. — Вахтер глубоко и с хрипом вздохнул. — Всё уже упаковано. Три чемодана, вот и всё, что я возьму. Всё остальное принадлежит дворцу.
— Подумайте о том, что вы уже никогда не вернётесь в Пушкин. — Разве что после окончательной победы, если Екатерининский дворец сохранится.
— Я не переживаю о дворце, герр доктор, хотя мы, Вахтеры, прожили здесь больше двухсот лет.
— Я знаю. Вы и Янтарная комната принадлежите друг другу. Я надеюсь, что и доктор Финдлинг смотрит на это так же.
Доктор Руннефельдт втянул подбородок в воротник кителя, чтобы не показывать чувств. Увидев, что глаза Вахтера заблестели от нахлынувших слёз, он развернулся и быстро покинул разграбленную комнату.
***
Десять грузовиков выстроились вдоль дороги, ведущей в Екатерининский дворец, строго придерживаясь плана. Кабины водителей были закрыты. У дворцовой церкви стояли восемь машин, туда продолжали грузить произведения искусства, которые забирал доктор Волтерс. Десять специалистов и взвод сапёров работали без перерыва: разбирали иконостас, снимали люстры, выносили китайские вазы и обитую парчой мебель в стиле барокко, складывали завёрнутые иконы и картины, гобелены и ковры. Доктор Волтерс стоял у двери и тщательно помечал вынесенные вещи в своём списке. Одна маленькая галочка. Выносите! Россия этого больше никогда не увидит.
Унтер-офицер Юлиус Пашке, уроженец берлинского района Веддинг, по профессии трубочист, сидел на подножке седьмого грузовика. Он был в карауле. Доктор Волтерс не хотел оставлять драгоценный груз без присмотра ночью, даже заколоченные ящики не помеха для солдата, если он захочет что-нибудь стащить. Каждые два часа караульные сменялись, но Юлиус Пашке задержался дольше. Его назначили командиром колонны с шестого по десятый грузовик и в придачу командиром караула.
Он сидел на подножке и курил сигарету за сигаретой, мечтал о бутылочке пива, которое из-за цвета прозвали «уринолом» или «писсолином», и предавался тягостным размышлениям. Он думал о своей жене Йоханне, красотке с упругой грудью и соблазнительно округлой задницей. С тех пор как Пашке ушёл на фронт — а его призвали в первый день наступления на Польшу — его постоянно мучил вопрос: что она сейчас делает? Одна ли она этой ночью в постели? На родине осталось много мужчин, рабочих военных заводов, например «Сименса», и они считали своей обязанностью не дать заскучать жёнам воюющих товарищей. Может, Йоханна одна из таких жен?
В последний отпуск Пашке пытался сделать ей ребёнка, но безуспешно. Почему — этого Пашке не знал. Все две недели он неутомимо трудился и вернулся на фронт, так и не отдохнув. В письме Йоханны говорилось: «Ничего не вышло, Юлиус. С польками ты совсем ослаб!» Это звучало одновременно и как упрёк, и как насмешка. И теперь лежит она под каким-нибудь мужиком, оставшимся по брони, и дышит ему в лицо. Господи, поскорее бы закончилась эта дерьмовая война…
Он вздрогнул и резко поднял голову. Перед ним стояла женщина в форме медсестры. Она подошла совершенно бесшумно, без шороха, как будто прилетела по воздуху.
— Вот это чудеса! — сказал Юлиус Пашке, отбросил сигарету и раздавил её мыском сапога. — Чего изволите? Измерить давление, пульс или провести дезинфекцию? Всё что угодно, сестрёнка. В штанах у меня точно повышенное давление…
— Я хотела вас кое о чём попросить. — Яна немного помедлила и села рядом с Пашке на подножку. Лёгкий запах духов напомнил ему о публичном доме в Риге. О-го-го… и как нарочно сейчас! Караульному нельзя ни с кем разговаривать. Девочка, я же попаду под трибунал — чёрт знает, что я делаю!
— Ну, красавица, говори, что тебе нужно? — произнёс он и покосился на Яну. Его взгляд остановился на её груди, и Пашке нервно почесал нос. Вот бы там пристроиться.
— Завтра утром вы едете в Кёнигсберг?
— Об этом уже все знают? Да, мы едем в Кёнигсберг.
— Это далеко?
— Отсюда? — Пашке прищурился и посмотрел на блеклое небо. Завтра будет дождь, подумал он. Поездка будет трудной. На русских дорогах можно все кости переломать.
— Если по прямой, то восемьсот километров. А по дорогам — девятьсот с гаком. Одно мучение… А если зарядят дожди, то засядем в грязи по самые оси. Так что…
— Мне надо в Кёнигсберг, — сказала Яна без фальши в голосе. Прозвучало очень правдоподобно. — В госпиталь №2. Меня туда перевели.
Существует ли вообще госпиталь №2, и как вообще именуют немецкие госпиталя, она не знала. Она просто набралась смелости и сказала всё это.
— Кенигсберг — красивый город! Он тебе понравится, сестрёнка. Купание на Куршской косе точно не забудешь, помяни мое слово!
— Вы возьмёте меня с собой?
— Я? В Кёнигсберг? С этими чертовыми ящиками?
— По железной дороге неудобно. Отсюда до Плескау, потом на Розиттен, дальше на Мемель… Я узнавала.
— А санитарный поезд в Кёнигсберг не идет?
— Нет, завтра рано утром нет ни одного санитарного поезда в Восточную Пруссию. А мне надо выехать утром. Крайний срок. Почему я не могу поехать с вами?
— Потому что это запрещено, красавица. У нас спецотряд, понимаешь? Любым штатским с нами нельзя.
— Я не штатская. Я же медсестра из Красного Креста.
— Это не имеет значения.
Юлиус Пашке ещё раз оглядел Яну. Вот милашка, решил он, но почувствовал угрызения совести.
— Девочка, я не могу...
— Пожалуйста. — Она положила ладонь на его руку и слегка погладила. К горлу Пашке подступил комок, сердце опять заколотилось, как тогда, в публичном доме в Риге, когда он стоял перед рыжеволосой Айной и показывал в качестве входного билета упаковку презерватива. — Меня никто не увидит и не обнаружит. Я спрячусь в кузове за ящиками.
— Это в лучшем случае займёт три дня… и может пойти дождь.
— Я выдержу.
— А если тебе захочется штруллен [2]?
Яна не поняла значение этого слова. В её лексиконе такого слова не было. Надо будет спросить у Михаила Игоревича. Однако она смело ответила:
— Я не захочу.
— Три дня? — Пашке посмотрел на неё с сомнением. — Это будет чудо медицины. Даже если с этим ты сможешь потерпеть, то как насчет абпротцен [3]?
— Как-нибудь. — Яна соблазнительно улыбнулась Пашке. — Так вы возьмёте меня с собой?
— Не знаю, не знаю… если заметят, меня пинком под зад отправят в рядовые. Дай мне время подумать, девочка. Приходи завтра рано утром, еще затемно. Я буду сидеть здесь на подножке.
Яна положила руку на плечо Пашке, поцеловала в лоб и сказала:
— Спасибо! Спасибо! Спасибо! — И исчезла так же беззвучно, как и появилась. Как будто даже гравий не шуршал под её ногами.
Пашке смотрел ей вслед, пока она не исчезла за тёмной стеной. Как растворившаяся в воздухе тень. Надо подождать, решил он. Вряд ли появится такой же удобный момент. Уж точно не во время поездки в Кёнигсберг и не там, в госпитале, где её перехватят офицеры. Вот чёрт! Он достал новую сигарету, глубоко затянулся и снова захотел выпить целый ящик «писсолина».
Наступила ночь, когда Михаилу Вахтеру и Яне предстояло расстаться. Они долго стояли обнявшись, потом трижды, на русский манер, расцеловались в щёки. В такой момент никакие слова не шли в голову. После этого Вахтер простёр обе руки над головой Яны.
— Доченька, — сказал он торжественно. — Благослови и сохрани тебя Бог. Ты слышишь меня, Боже? Не оставляй, оберегай мою доченьку и сына Николая. Если понадобится, забери меня к себе. Господи, помилуй нас… Аминь.
Молча в полной тишине они собрали клеёнчатую сумку Яны. Она взяла с собой очень мало вещей: две смены нижнего белья и толстые чулки — наступала зима, а Вахтер предрек, что она будет суровой. Скворцы и аисты улетели на юг раньше обычного, дикие утки тоже уже собрались, и бобёр в дальнем конце парка сделал запасы на долгие зимние месяцы.
— Ты остаёшься здесь? — спросил Вахтер, когда сумка была собрана.
— На некоторое время, Михаил Игоревич. Пойду в госпиталь, он в школе имени Горького. Как-нибудь я постараюсь оказаться рядом с вами. А после войны сразу же поеду в Ленинград, к Николаю.
Вахтер смотрел, как она натягивает чепец медсестры, застёгивает воротник круглой брошью и надевает серое пальто. Господь меня вознаградил, что у моего сына такая жена, подумал он. Вахтеры всегда были счастливы в браке. Только прадед Пётр Германович имел троих внебрачных детей, слава богу, девочек. Каждый проступок прадеда сходил ему с рук, даже рискованная связь с кухаркой царицы Василисой. Ей хотелось стать второй женой Вахтеровского, но когда она родила от прадеда ребёнка, то строгая императрица сослала её в качестве тюремной кухарки в Петропавловскую крепость.
— Что означает слово «штруллен»? — неожиданно спросила Яна.
— Мочиться.
— А «абпротцен»?
Вахтер посмотрел на неё с удивлением.
— Где ты услышала эти слова?
— Один солдат спрашивал… через окно.
— Солдаты говорят «абпротцен», когда им надо сходить в кусты, присесть на корточки…
— Ах, вот оно что.
Яна взяла сумку. Вахтер почувствовал, как к горлу подступил комок. Миг прощания, последние минуты, последние слова, последние взгляды. Возможно, это навсегда…
— До свидания, Михаил Игоревич.
— До свидания, доченька. Сохрани тебя Бог.
— И вас, Михаил Игоревич. Мы скоро увидимся.
— Непременно увидимся.
Он открыл дверь и после ухода Яны быстро закрыл. Долгое прощание — нескончаемая мука. С поникшей головой Вахтер вернулся в комнату, сел на диван и уставился на три чемодана.
Кёнигсберг. Майн кёниг [4]… Вахтеры до сих пор исполняют свои обязанности. Они твердо вам это обещали.
***
Юлиус Пашке сидел на той же подножке и ждал красавицу-медсестру. Он все-таки решил ее взять. Под брезентом, за ящиками, час назад он оборудовал для неё лежанку: принёс три одеяла, а в углу поставил ведро, которое ночью можно будет опорожнять. Проблема заключалась только в его напарнике, ефрейторе Хайни Долле. Он родился в Кёльне и требовал, чтобы его называли Доллем [5]. Когда он травил анекдоты, то живот от смеха болел ещё четверть часа. Это с одной стороны. Но с другой стороны, он был ярым национал-социалистом. Его отец был политическим деятелем в Кёльне, работал в пропагандистском отделе районного комитета Кёльн-Митте и верил всему, о чём врал Геббельс в еженедельной колонке газеты «Рейх». Если Долль обнаружит «зайца», это может плохо кончиться.
Яна появилась перед Пашке так же бесшумно, как и в прошлый раз. Просто вынырнула из тени. Пашке засопел и кивнул на сумку.
— Это всё?
— Да. В Кёнигсберге я получу всё необходимое.
— А фото жениха в рамке?
— У меня нет жениха.
— В мире, видимо, полно слепцов. — Он откинул расшнурованный брезент у заднего борта и бросил сумку в кузов. — Иди, я помогу тебе забраться. Через полчаса начальник придёт проверить, всё ли готово.
— Как тебя зовут? — спросила Яна, тоже переходя на «ты».
— Юлиус. Юлиус Пашке. Из Берлина. Трубочист. Обожаю что-нибудь скрести. Он сцепил руки в замок у живота, чтобы подсадить Яну, и кивнул. — Милости прошу в мою машину. А как зовут тебя?
— Яна. Яна Роговская. — Она подняла ногу, поставила на сцепленные замком руки, опёрлась о плечо Пашке и запрыгнула в грузовик. Её стройные ноги оказались перед лицом Пашке. «Этого Йоханна никогда не поймет, — подумал он. — И она ещё гордится своими ногами. Вот это настоящие ножки!»
— Спрячься! — произнёс он хрипло. — И веди себя тихо. Я поставил там для тебя ведро.
— Штруллен и абпротцен…
— Крошка, всё будет в порядке. Ты всё правильно делаешь. Давай, ползи дальше. Когда будет можно, я шепну, чтобы ты вылезала. Поняла?
Яна кивнула, перекинула ноги и поползла вдоль стенки на приготовленное для неё место. Когда глаза привыкли к темноте, она увидела в углу ведро, а рядом с тремя одеялами обнаружила «неприкосновенный запас» Пашке, то есть продуктовый паёк солдата, который он может использовать только в случае крайней необходимости, и на каждом построении обязан его показывать, как и презервативы. Унтер-офицера Пашке никто не проверял, он сам проверял водителей и их напарников.
Она улеглась между ящиками, подложила под голову сумку и закрыла глаза. Только сейчас она почувствовала дрожь в теле от нервного напряжения и попробовала успокоиться. Всё идёт хорошо, сказала она себе. И дальше тоже всё будет хорошо. Просто успокойся, Яна. Сохраняй спокойствие, это сейчас самое главное. Голова должна быть ясной. Ничего с тобой не произойдёт… форма медсестры тебя защитит.
Немного позже снаружи раздались голоса. Пашке громко доложил:
— Всё в порядке, герр ротмистр.
Потом послышался голос доктора Руннефельдта:
— В случае необходимости мы остановимся и подождём вас. Когда будем заправляться?
— Все машины полностью заправлены, герр зондерфюрер. Топлива должно хватить на четыреста километров.
— Если так… Поехали, ребята.
— Счастливого пути, герр зондерфюрер.
Она услышала, как загудели моторы и под колёсами зашуршал гравий. Счастливого пути, Михаил Игоревич… Я еду вместе с вами. Она снова улеглась на сумку и одеяла, прижав ухо к деревянной перегородке кабины, когда ефрейтор Долль уселся за руль. На первом отрезке пути машину предстояло вести ему, поэтому он выспался. Теперь отдыхал Пашке, он уютно устроился на сиденье.
— Послушай, я тут недавно услышал анекдот! — сказал Долль. — Заходит учительница в класс, садится за стол, а трусики не надела. Маленький Франц с первой парты заглянул ей под юбку и начал широко улыбаться. «Франц — спрашивает учительница, — в чём дело? Почему ты улыбаешься?» А пацан отвечает: «Никогда ещё не видел трусы из кротовьего меха…» Неплохо, да?
— Трогай! — скомандовал Пашке. — Пропусти всех, мы будем замыкать.
— Почему? Раньше...
— То было раньше, а сейчас другое дело! Мне велели смотреть, чтобы никто не отстал. А в этом случае лучше всего ехать последним. Понял?
Так лучше всего, решил Пашке. Сзади никого не будет, и малышка сможет подышать воздухом, никто не увидит. Ещё по школе известно, что лучше всего скрываться на последней парте. Умнее надо быть, ефрейтор Долль.
Наконец мотор заурчал, Долль включил передачу, и машина тронулась, раскачиваясь и разбрасывая гравий. По днищу как будто стучали железные шарики.
«Кёнигсберг, мы едем, — подумала Яна. — Янтарная комната возвращается… и Вахтеры тоже».
Покачивание кузова и монотонный гул мотора убаюкали её, вскоре она заснула с улыбкой на губах.
Когда она проснулась, уже наступил день, шёл дождь, капли стучали по брезентовому верху. Рядом с Доллем с открытым ртом спал Юлиус Пашке и громко храпел. После полудня они поменяются, получат фасолевый суп в банках и разогреют его на спиртовке. Потом Долль отомстит ему ужасным храпом.
Яна подползла к стенке кабины и немного приподнялась. Ей хотелось пить, но Пашке об этом не позаботился и не оставил фляжку. Стоя на коленях, Яна ощупала ящик возле себя, отковыряла щепку и начала жевать. Слюна заглушила чувство жажды. Это был старый, проверенный способ: жевать, всё равно что, лишь бы жевать… и жажда отступит, хотя бы ненадолго.
Проникающий через прорехи в брезенте свет позволил ей прочитать надписи на ящиках, сделанные доктором Руннефельдтом.
На ящике, из которого она выдернула щепочку, было написано: «№ 23, четыре ангела, голова воина и скульптурная композиция из ваз». А потом уже другим карандашом доктор Руннефельдт дописал: «Янтарная мадонна из спальни императрицы Елизаветы Петровны».
Яна наклонилась, поцеловала ящик и имя императрицы и перекрестилась. Богородица, помоги, пусть всё пройдет хорошо. И прошу тебя, позаботься о Михаиле Игоревиче.
Машина доктора Руннефельдта, открытый внедорожник марки «Адлер», не подходил для местных дорог. Брезентовая крыша защищала от дождя сверху, но не сбоку. К кузову она прилегала неплотно. Кроме того, дул сильный боковой ветер, и дождь хлестал через щели. Рядом с водителем сидел доктор Волтерс. Он ясно дал понять, что не хочет сидеть сзади, рядом с Вахтером, которого зря взяли с собой. Доктор Руннефельдт не возражал и поменялся с ним местами. Как раз там в откидной крыше была большая дыра. Правая сторона кителя Волтерса начала промокать. Материал впитывал воду как губка, а ведь форму он сшил на заказ, из лучшего аахенского сукна.
— Дерьмо, а не машина! — возмутился он и повернулся к доктору Руннефельдту и Вахтеру.
На них тоже капал дождь через пару щелей, но вполне терпимо. Доктор Руннефельдт заткнул широкую щель носовым платком и усмехнулся Волтерсу с некоторым пониманием.
— Кто подсунул вам это старьё? — спросил Волтерс.
— Для лета открытая машина идеально подходит, — парировал доктор Руннефельдт.
— Тогда от пыли невозможно будет дышать. А зимой? Дрожать от холода?
— Зимой я буду сидеть в своей конторе в Берлине.
— И не будете заниматься произведениями искусства на занятых территориях?
— Нет. Мой дорогой герр Волтерс… Как известно, войны начинаются летом или осенью, когда зерно стоит налитое, поля колышутся, улицы и дороги сухие и твёрдые. Вы когда-нибудь слышали, чтобы война начиналась зимой? Даже много веков назад. И посмотрите на нашу войну: Польша — первого сентября, Франция — десятого мая, Советский Союз — двадцать второго июня… всегда в самое благоприятное время. А до зимы мы еще успеем заняться конфискованными произведениями искусства.
— Да, но когда наступит зима…
— Это меня не пугает. Если мы в этом году захватим Москву, то не сможем эвакуировать ценности до весны. Понадобится время, чтобы всё зарегистрировать. Один только Кремль чего стоит.
Вахтер удержался, чтобы не задать вертящийся на языке вопрос: вы действительно верите, что немцы захватят Москву? Через три, максимум через четыре недели наступит зима со снегом и холодами. Придёт «генерал Мороз», как его называют со времён нашествия на Москву Наполеона. Кто-нибудь из вас знает, что такое русская зима? Знаете ли вы, что когда над землей завоет вьюга, то вы станете беспомощными, несмотря на всю технику, несмотря на танки и самолёты? Вы все замёрзнете и окоченеете… Не поможет и приказ Гитлера идти только вперёд и ни шагу назад. Русская зима сильнее... Это она сделает с вами всё, что захочет, а не вы. Хотите захватить Москву несмотря на генерала Мороза? Мы подождём. Разве войска под Москвой уже не остановились?
Ротмистр Волтерс молчал. Ему осточертели нравоучения, на которые не скупился доктор Руннефельдт. Но он достал из кармана носовой платок и заткнул им щель впереди, хотя это мало помогло — вскоре и платок насквозь промок. Вода лилась, как из крана.
— Можно хоть чем-нибудь заткнуть эту чёртову дыру? — возмущенно воскликнул он. — Я уже насквозь промок.
— Сзади вполне терпимо. — Доктор Руннефельдт с удовольствием потянулся. — Вы сами захотели сесть спереди.
Доктор Волтерс стиснул зубы. Даже если я здесь поплыву, меня не заставишь поменять мнение, подумал он со злостью. То, что этот полурусский тащится с нами, просто наглость.
В полдень они остановились отдохнуть на каком-то крестьянском хуторе. Хозяйка с двумя детьми, дочерью и сыном лет четырнадцати, и дед при наступлении немцев не убежали. Они переждали, пока серая лавина пронесется мимо, пережили то время, когда немецкая артиллерия и самолеты бомбили линию Сталина, которая считалась неприступными оборонительными сооружениями Красной армии, и решили, что лучше умереть под обломками собственного дома, чем спасаться бегством. Недалеко находился город Псков, который теперь назывался Плескау. Двести лет назад этот хутор крестьянин Ермила Константинович Грималюк получил в награду за службу от князя Михайлова. После отмены крепостного права дом и земля достались Грималюку, и он, довольный жизнью, ездил на Чудское озеро ловить рыбу, воздавая хвалу Господу за его милость.
Сейчас хозяин хутора, Илья Владимирович, воевал где-то на фронте снайпером. От него не приходило никаких известий, ни писем, ни открыток — да и как иначе, если его родные места были оккупированы. Никто не знал, жив ли он вообще.
Его жена Прасковья с детьми и Трофим, еще бодрый старик, примирились с судьбой. Они жали зерно, копали картофель, собирали овощи на грядках, чтобы сделать запасы на зиму, а лишнее продать оккупантам. При этом их два раза подло обманули — немцы купили свинью с поросенком и расплатились немецкими банкнотами.
— Это деньги, — сказал им солдат. — Немецкий рубль, понимаешь? Получишь в комендатуре. Таушен, капирт? Меньять… чего смотришь, старый болван!
Дед Трофим взял банкноты, через три дня поехал в комендатуру под Островом и предъявил немецкие рубли. Над ним посмеялись и выпроводили вон, ведь он выложил на стол старые немецкие лотерейные билеты фонда «Зимняя помощь 1940 г.».
Когда машина доктора Руннефельдта подъехала к дому, Прасковья стояла на крыльце в выцветшем переднике и держала над головой мешок, чтобы защититься от дождя. Дети сплющили носы, прижавшись к стеклу, а Трофим приготовился отказаться от лотерейных билетов.
Доктор Волтерс посмотрел на хозяйку и старый дом сквозь ветровое стекло. Дождь лил как из ведра. Дворники не справлялись с потоками воды.
— Здесь? — спросил он и обернулся.
— Да, — ответил доктор Руннефельдт.
— В этой развалюхе? В этом клоповнике? Посмотрите на эту бабу… До неё только кусачками можно дотрагиваться…
— Мы не собираемся до неё дотрагиваться, дорогой Волтерс. Нам надо передохнуть и перекусить.
— Я здесь ни к чему не притронусь. У меня нет никакого желания подцепить желтуху.
— По крайней мере, у здешних крестьян хороший и свежий творог, — сказал Вахтер и удостоился сердитого, пронизывающего взгляда. — Молоко, соленые огурцы, лук, собственноручно испеченный хлеб, а может, и колбаса.
— Гадость! Мы разве не можем доехать до какой-нибудь воинской части? Ведь где-то здесь должны стоять немецкие подразделения! Лучше скверная полевая кухня, чем эта жратва для свиней.
— Надо подождать колонну. — Доктор Руннефельдт надел фуражку, оценил расстояние от машины до дома — метра три, можно промокнуть и придется скакать по раскисшей земле. — Мы-то добрались, а как это удастся грузовикам в такую скверную погоду? Это меня беспокоит больше, чем еда. Я успокоюсь только тогда, когда все машины будут здесь.
Он открыл дверцу, выскочил из машины и большими прыжками побежал под дождём к Прасковье. Вахтер последовал за ним. Брюки сразу забрызгались грязью, а к ботинкам налипли комья глины.
Водитель молча посмотрел на доктора Волтерса.
— Дело дрянь, — обреченно произнёс ротмистр. Он резко открыл дверцу, выскочил из машины и помчался к дому. Прасковья уже многое выяснила про немцев и опознала старшего офицера. Она сняла с головы мешок из-под картошки и накинула его на плечи Волтерсу. Он тут же отшвырнул его под дождь, в грязь.
— Вы это видели? — возмутился он, когда вошёл в избу, где доктор Руннефельдт и Вахтер уже столкнулись с дедом Трофимом. — Эта старая карга накинула мне на голову свой вонючий мешок!
Он внезапно замолчал, потому что дед отчётливо произнёс:
— Гутен таг… Никс нейме лоттери…
— Чего ему надо? — Волтерс внимательно посмотрел на бодрого старика. — Совсем сдурел что ли?
— Позвольте мне. — Вахтер кивнул старику и произнёс несколько фраз по-русски. Трофим удивленно вытаращил глаза, облизнул жёлтые от табака зубы и молча его выслушал.
Это опасно, решил он. Ох, как опасно. Этот человек говорит по-нашему. Видимо, он предатель, лижет немцам задницу и пресмыкается. Надо быть осторожнее с этой сволочью.
— Мы здесь проездом, — сказал Вахтер, — и хотим переждать ливень. У вас найдется что-нибудь поесть? Каша или еще что? Свекла или соленые огурцы, или горшочек топлёного сала? Молоко есть?
Дед выпятил нижнюю губу, как верблюд, когда собирается плюнуть. Но не плюнул, потому что хотел ещё пожить и дождаться возвращения с войны любимого сына Ильи.
— У нас уже всё забрали, всё, — ответил он, когда Вахтер замолчал. — Поросёночка и телёночка, бочку масла, муку, крупу — всё. И заплатили за всё твои новые друзья бесполезными бумажками.
— А как вы тогда живёте? — спросил Вахтер.
— У нас есть немного картошки. Супчик, да несколько луковиц… нам хватает. Тяжёлые сейчас времена.
— Что там болтает старик? — спросил доктор Волтерс.
Он снял промокший до нитки китель, подошёл к печке из речного камня и повесил форму на натянутую верёвку. Печь протопилась и была горячей.
Вахтер с удовольствием подумал, что зима будет ранней. Крестьяне лучше понимают природу и начинают топить печи, чтобы камень прогрелся до наступления холодов.
Дед Трофим ошеломлённо уставился на офицера. Штаны Волтерса держались на подтяжках — широких, ярких, с кожаными петлями. Вот чудо невиданное! Трофим не мог оторвать от них глаз и жалел, что не может обменять их на курицу. Он спрятал в сарае семь кур, немцы пока что их не нашли. Но эти удивительные подтяжки...
— Несколько крошек я смогу наскрести, — сказал Трофим, не отрывая глаз от Волтерса. Ротмистр сел на скамейку у печки, прислонился мокрой спиной к теплому камню и удивился тому, что в комнате пахнет не потом, а кислым молоком.
Прасковья стояла у двери и ждала. Дети спрятались в соседней комнате, где стояла большая деревянная кровать с соломенным матрасом. Здесь спал под теплым одеялом дед, из-за ревматизма, несмотря на бодрость, он не мог залезть на лежак печи, где спала зимой вся семья.
Вахтер дружелюбно кивнул.
— Поскреби по сусекам, старик, — сказал он. — Может, ещё что-нибудь найдётся.
Трофим оторвал взгляд от подтяжек, цокнул языком и потёр верхней губой кончик носа.
— Можно обменяться, — сказал он и подмигнул Вахтеру.
— На что? — удивился тот.
— Вкусную еду на одну вещицу. Всего на четверть часика. Честный обмен, товарищ. Что такое четверть часа в человеческой жизни? А мне в радость.
— Что ты хочешь обменять, старик?
— Сейчас покажу. — Дед хитро подмигнул. — Это подтяжки герра офицера…
Не сказав ни слова, Вахтер бросил взгляд на доктора Волтерса. Ротмистр сидел у печки, расслабившись от приятного тепла, и ждал, когда подадут еду.
— Из ума выжил, старик? — поразился Вахтер. — Я не могу просить ротмистра, чтобы он одолжил тебе подтяжки. Даже на четверть часа. Невозможно.
— Спроси его, братишка. Ни пятнышка я на них не оставлю, ни пылинки.
Вахтер потер по лицо и повернулся к доктору Руннефельдту.
Тот стоял в красном углу и рассматривал икону. Грубая роспись краской для пасхальных яиц, худые фигуры с вытянутыми лицами и большими круглыми глазами. Примерно 1600 год, подумал он. И никто не осознаёт, какая это ценность. Надо забрать её с собой, здесь ей не место.
Но вдруг он заметил тревожный взгляд Прасковьи. Эта икона — единственное, что осталось от их веры. Деревянное распятие разбили о стену красноармейцы, которые останавливались у них по пути к сталинской линии обороны. И лампады разбили.
— Повесьте там Сталина! — проворчал сержант. — Лицемерные боголюбы.
Но икону с изображением Петра и Павла в боярских одеждах они не тронули.
Ладно, пусть останется, решил доктор Руннефельдт и отвернулся от иконы. У нас почти пятьсот икон. Будем считать, что эту я никогда не видел.
— Герр доктор, — тихо позвал его Вахтер, чтобы не услышал Волтерс. — Старик обещает найти что-нибудь съедобное, если доктор Волтерс позволит ему немного поносить подтяжки. Несколько минут…
— Вот так шутка! — удивился доктор Руннефельдт.
— Нет, герр доктор. Вы не могли бы попросить об этом доктора Волтерса?
— Но это же смешно!
— Небольшой обмен: хорошая еда на… — он сглотнул. — Иначе нам предложат только соленые огурцы. Мы никогда не найдём их тайник с припасами.
— Какая глупость! — Доктор Руннефельдт подошёл к Волтерсу и внимательно осмотрел дурацкие подтяжки. Волтерс приободрился, а одежда на нём почти высохла.
— В чем дело? — спросил он. — Я же говорил, что это свинарник и я ни к чему здесь не прикоснусь.
— Вы не одолжите свои подтяжки на несколько минут?
— Что? — Волтерс с ужасом посмотрел на доктора Руннефельдта. — И часто у вас такие припадки?
— Старик хотел бы их немного поносить… в обмен на хорошую еду.
— Да это же… — Волтерс чуть не задохнулся от возмущения. — Неслыханно! — Он сердито посмотрел на старика. Трофим по-дружески и с надеждой улыбнулся в ответ. — И эту глупость говорите мне вы, доктор Руннефельдт!
— Я считаю, это хороший обмен.
— Он не оставит на них ни пятнышка, ни пылинки, — добавил Вахтер. — Но от этого старик будет счастлив…
— Мы здесь на войне или для того, чтобы осчастливить каждого? — рявкнул Волтерс.
— Именно для этого, — нанёс сокрушительный удар доктор Руннефельдт . — Как сказал фюрер, мы пришли сюда, чтобы освободить славян от большевизма. То есть сделать их счастливыми. Здесь наше будущее, в этой огромной стране на востоке. Расширение великого германского рейха.
Доктор Волтерс молча встал с тёплой скамейки, отстегнул подтяжки и бросил Трофиму. Старик ловко их поймал, повернулся и проворно, как юноша, скрылся в соседней комнате.
Вскоре он снова появился. Поверх синей крестьянской рубахи на нём были пёстрые подтяжки, которые держали поношенные и грязные тёмно-серые штаны. С сияющим и гордым видом он прошёлся по комнате, остановился перед снохой, засунул большие пальцы под подтяжки и щёлкнул ими, потом прошагал обратно с высоко поднятой головой. Дети из соседней комнаты с удивлением смотрели на деда, который промаршировал как на параде от печки до двери и обратно. От счастья он позабыл даже про ревматизм.
С тем же видом он вышел из комнаты и скрылся в своей спальне, открыл дверь широкого шкафа и нащупал потайную дверцу. Семь спрятанных курочек радостно закудахтали и вытянули шеи, выпрашивая зёрнышки.
— Такова жизнь, мои дорогие! — торжественно объявил Трофим. — Я обещал, а Грималюки держат слово.
Дед выбрал самую жирную и пожал плечами.
— Лидочка, пришёл твой черёд. Будь умницей.
Сняв со стены топор и сложив в два счёта лидочкины крылья, он подошёл к чурбаку и отрубил курице голову. Чтобы не забрызгать подтяжки кровью, он отодвинул птицу подальше от себя, подождал, пока вытечет кровь, и вернулся через шкаф обратно.
Доктор Волтерс посмотрел на часы.
— Время идёт! — сказал он. — Это неслыхано, что здесь со мной вытворяют. Почему вы не отдали свои подтяжки, доктор Руннефельдт?
— Во-первых, у меня нет таких пёстрых подтяжек. А во-вторых, я ношу ремень. Ну вот, дед уже вернулся.
Трофим вошёл в комнату. В правой руке он держал подтяжки, а в левой — зарезанную курицу. Прасковья глубоко вздохнула. Как нарочно Лидия, самая лучшая несушка! Дед совсем рехнулся.
Доктор Волтерс забрал подтяжки и сразу же их надел.
— Дед действительно зарезал курицу! — сказал он.
— Вот и поменялись. — Доктор Руннефельдт ободряюще кивнул старику. — Это была хорошая сделка, герр Волтерс. Мы все благодарим вас за замечательный обед, который нас ожидает.
В доме поднялась суматоха. Прасковья выпотрошила курицу, а дети её ощипали. Трофим предложил всем табак — грубо порезанную махорку, для которой надо иметь лужёное горло, и достал из-под половицы в сенях бутылку настойки из крыжовника.
— Скажите хозяйке, — обратился доктор Руннефельдт к Вахтеру, — что курицу надо порезать на сорок кусочков. Нас трое, водитель, и тридцать шесть человек в колонне. Суп будет не очень наваристый, но хотя бы всем достанется.
Прасковья поставила на плиту большой котёл, налила воды и оставила закипать. В этом котле обычно готовили еду для свиней, но немцы этого не знали. Догадался только Вахтер, но никому не сказал.
Правда, суп получился густой, потому что Прасковья, порезав курицу на маленькие кусочки, добавила в кипящую воду несколько горстей крупы и четыре больших луковицы. Суп вышел больше похожим на кашу. Трофим потянул носок, как поросенок, принюхиваясь к аппетитному запаху, и довольно произнёс:
— Вкусно, как у моей матушки!
Подобные слова семидесятилетнего старика равносильны самой большой похвале.
Через четыре часа из завесы дождя появилась колонна грузовиков. Забрызганные грязью по самый верх, они проделывали в дороге глубокие борозды и скользили в грязи юзом, как бесформенные пьяные исполины. Больше всего доставалось Юлиусу Пашке, как последнему в колонне, ему приходилось ехать по совершенно разбитой колее.
— Так невозможно! — пару раз возмутился Долль. — Дурацкая идея — ехать последними! Они разбивают дорогу, а я тащусь сзади по уши в дерьме! После остановки мы снова поедем впереди…
— Останемся сзади, — сказал Пашке. — Мне лучше знать.
Он беспокоился о Яне, которую швыряло в кузове. У неё красивые ноги, он ещё ни разу их не погладил.
— Ну и дерьмо же ты!
Восемнадцать грузовиков подъехали к избе, длинной вереницей. Из первого грузовика передали, что машина шефа стоит во дворе. Пашке отдал приказ остановиться на перекус.
Водители выскочили из машин и побежали к дому. Серозелёная волна быстро заполнила комнату, завоняло промокшей одеждой и прочим. Старик мирно сидел на скамейке около печки рядом с доктором Волтерсом и с интересом разглядывал солдат. Волтерс снял китель с верёвки и быстро надел.
— Спецподразделение «Гамбург» прибыло! — доложил Пашке и щёлкнул каблуками. — Без происшествий.
Доктор Руннефельдт кивнул. Пашке расслабился. Запах куриного супа ударил ему в нос.
— Как дорога? — спросил доктор Руннефедьдт.
— Так себе, герр зондерфюрер. Но если она и дальше будет такой… До Кёнигсберга ещё целых шестьсот километров.
— В рейхе начнутся хорошие дороги, Пашке. Вы голодны?
— Так точно, герр зондерфюрер.
— Тогда доставайте котелки. Для вас готова каша с курятиной.
— Как хорошо, когда всё ладится, как говорил мой беззубый дедушка. — Пашке развернулся. За его спиной толпились тридцать пять водителей. — Приготовиться к приёму пищи!
Спустя двадцать минут каждый солдат получил по полному черпаку каши. Они стояли, прислонившись к стене, или сидели на полу в сенях. Какое-то время слышался только стук ложек.
Доктор Руннефельдт, Волтерс и Вахтер сидели за столом и ели из керамических тарелок. Прасковья, дети и Трофим молча смотрели на них. Сегодня Трофим был счастлив — он носил самые красивые на свете подтяжки.
Пашке съел немного каши и сказал чавкающему Доллю, внимательно ковыряющему луковицу:
— Я схожу отлить. Может, найду где-нибудь сухой уголок…
Он вышел.
Пригнувшись, он побежал к своей машине, запрыгнул на бампер и быстро перемахнул через борт. Эти несколько метров он пробежал, как сквозь водопад.
— Это я, девочка, — сказал он в полутьме. — Не бойся. Всё идёт как по маслу. Твои кости целы? Я принёс тебе немного поесть. Каша с курятиной. Выглядит не очень аппетитно, но на вкус лучше, чем я думал.
Он протиснулся между ящиками и подошёл к Яне.
Она сидела, прислонившись спиной к кабине, и протянула правую руку. Пашке подал ей котелок.
— Хороший ты человек, — сказала она.
Слова Яны его немного смутили.
— Я уже ел этой ложкой. — сказал он. — Но можешь не беспокоиться. У меня нет сифилиса.
Он облокотился на ящик с Богородицей и головой ангела и некоторое время смотрел на Яну. Она съела всего несколько ложек и вернула ему котелок.
— Спасибо, Юлиус…
— Можешь всё съесть, Яна.
— А ты?
— Я себе ещё возьму. Тебе не понравилось?
— Я сыта, Юлиус.
— Моя морская свинка и то ест больше. Я держу дома морскую свинку. Её зовут Эмма. Как мою тёщу. Сначала Йоханна, моя жена, очень обиделась на это. Но потом купила канарейку и назвала её Кларой. Как мою маму. Так она со мной расквиталась.
Он взял котелок и доел остатки каши. Потом протянул Яне фляжку.
— Чай, — сказал он. — С лимонным порошком. Но вкусно.
Яна с жадностью пила, наполняя рот так, что раздувались щёки. И только после этого проглатывала. Три глотка. Когда фляжка опустела наполовину, она вернула её Пашке.
— Ты отличная девушка, — сказал он. — Что только война с вами делает.
— Она скоро закончится, Юлиус.
— Ты так думаешь? Я не знаю. Посмотрим.
Он бегом вернулся в дом, промокнув до нитки, и встал рядом с Доллем у стены.
Доктор Руннефельдт пару раз подходил к окну и смотрел на дождь. Не было никакой надежды на то, что он скоро закончится.
— Ничего не поделаешь, — обратился он к доктору Волтерсу. — Надо ехать. Несмотря на дождь. Мы ведь не сахарные. В Литве будет лучше. Там хорошие дороги. — Он повернулся к солдатам и хлопнул в ладоши. — Ребята, едем дальше! Мы не капитулируем перед русскими дорогами. Отдохнём в Кёнигсберге…
Последними избу покидали Волтерс и доктор Руннефельдт. Вахтер уже занял место на заднем сиденье, а водитель прикрыл порванный верх машины обрывком мешка из-под картошки.
— Не хотите поменяться местами? — спросил доктор Руннефельдт. — Вы сзади, а я спереди?
— Нет! — бросил Волтерс.
— Или Вахтера посадим вперед…
— Я останусь на своём месте! — Волтерс втянул голову в плечи, подбежал к машине, открыл дверцу и уселся впереди. Доктор Руннефельдт протянул Трофиму руку. Старик так удивился, что его рука на ощупь оказалась вялой, как тряпка.
— Будь здоров, дед, — сказал доктор Руннефедьдт, отпрянув от Прасковьи, которая пыталась поцеловать ему другую руку.
Как хорошо, что они сегодня уезжают! Не шарили по дому, ничего не забрали, только Лидией пришлось пожертвовать, но это невысокая цена за доброту немецких офицеров. Они даже разрешили дедушке надеть подтяжки. Это ведь такое событие в его жизни. Почему же нельзя отблагодарить старым способом?
— И береги свою икону…Шестнадцатый век. Потом, после войны, построишь новый дом, — сказал доктор Руннефельдт.
Трофим, конечно, ничего не понял, но по голосу уяснил, что сказали что-то хорошее. Он предусмотрительно кивнул, проводил доктора Руннефельдта до машины и долго смотрел вслед колонне, которая сквозь дождь медленно продвигалась по дороге.
***
В этот день дежурный офицер внёс в журнал боевых действий 50-го армейского корпуса следующую запись:
16 октября. Красногвардейск.
Ротмистр Волтерс и зондерфюрер Руннефельдт окончательно завершили работу (изъятие произведений искусства) в штабе генерального командования 50-й дивизии.
Так было задокументировано величайшее в истории похищение произведений искусства.
***
Они ехали два дня и три ночи: девятьсот тридцать километров по дождю, грязи, скользкой глине и вязким болотам. Три машины сломались, их с трудом дотащили до Каунаса, где имелись мастерские. Командир третьей роты обеспечения, старший фельдфебель, определил, что поломаны две рессоры, коробка передач и треснула ось.
— Ремонт займёт три дня, — доложил он. — Для этого машины придется разгрузить.
— Ремонт должен занять не более трёх часов! — приказал доктор Волтерс. — И с грузовиков не снимут ни пылинки!
Ротмистр проявил себя в этой ситуации лучше, чем горе-офицер зондерфюрер. Волтерс побывал у командира батальона обеспечения, предъявил бумаги и подождал реакции. Капитану понадобилось много времени, чтобы прочитать.
— Задание фюрера! — сказал Волтерс. — Мы не можем ждать три дня. В штаб-квартире фюрера ждут мой доклад о выполнении. А я должен доложить, что задержался в Каунасе из-за чьей-то нерасторопной задницы?
Капитан вернул документы и сдержанно посмотрел на Волтерса. «Вот напыщенная обезьяна, — подумал он. — Даже фюрер не сможет заменить ось на полностью загруженном грузовике».
— Мы постараемся всё сделать, — сказал он холодно. — Будем работать всю ночь.
— Я так и предполагал.
Волтерс попрощался и покинул расположение батальона, чувствуя себя победителем. В мастерскую распоряжение поступило по телефону. Одна машина уже стояла на подъемнике. Юлиус Пашке, заботясь о Яне, семенил рядом с доктором Руннефельдтом и уговаривал его:
— Остальные пятнадцать грузовиков могут ехать дальше! А ещё лучше, если четырнадцать машин поедут в Кёнигсберг, а я останусь здесь и догоню вас вместе с оставшимися тремя. Ничего страшного не случится. — Он искренне заглянул в глаза доктору Руннефельдту. — Я вам обещаю.
— Мы останемся все вместе, Пашке. — покачал головой доктор Руннефельдт. — Одним днем больше или меньше — никакой разницы. Герр ротмистр зря поднял шум…
«А как быть с Яной, — с ужасом подумал Пашке. — Она не сможет высунуться наружу, и я не смогу ей ничего передать, это сразу же заметят. И без того ей было рискованно вылезать по ночам. А здесь, во дворе мастерской… где столько глаз. И что теперь делать?»
Он попытался ещё раз убедить доктора Руннефельдта, что лучше ехать, чем ждать. Тем более опять начался дождь.
— Я справлюсь, герр зондерфюрер, — заверял он. — Мне грязь не страшна…
— После Каунаса дорога улучшится, Пашке. Будет так, как я сказал: мы останемся вместе.
Не было смысла настаивать.
Пашке вышел из мастерской, побродил среди вереницы грузовиков и забрался в кузов своей машины. В этом не было ничего странного, ведь и раньше унтер-офицер Пашке каждый день проверял груз, чтобы ничего не выпало и не повредились ящики.
— Это я! — сказал он в полутьме кузова. — Всё очень плохо, девочка…
Он протиснулся мимо ящиков и опять прислонился к ящику с Богородицей. Яна сидела на полу и смотрела на него широко открытыми глазами. В углу стояло ведро, которым она ещё не пользовалась.
— Придется здесь задержаться, — беспомощно пожал плечами Пашке. — Я хотел ехать дальше, но ничего не вышло. Что теперь делать?
— Остановка надолго? — спокойно спросила Яна, стараясь не показывать волнение.
— Кто же знает? На ночь наверняка. Я принесу тебе поесть, это не вызовет подозрений… но с туалетом… не получится. Придётся пользоваться ведром, девочка, нельзя вылезать из машины даже ночью. Здесь кругом полно солдат.
— Всё получится, Юлиус, — сказала Яна. Это не ей следует успокоиться, а скорее встревоженному Пашке.
— Сколько ещё до Кёнигсберга?
— Километров сто семьдесят.
— Примерно день в пути.
— Где тебя высадить?
— Где-нибудь в Кёнигсберге. Возможно, на окраине, когда вы остановитесь передохнуть.
— Чтобы тебя увидели? Нет! Это надо сделать ночью…
— Тогда перед Кёнигсбергом, Юлиус.
— Поговорим об этом, когда уедем отсюда. — Пашке достал из кармана шинели два бутерброда с сыром и бутылку минеральной воды. — Это всё, что мне удалось раздобыть в столовой. Может, смогу ещё организовать порцию супа. Теперь всё значительно усложнилось, девочка. Слишком много глаз вокруг.
Он вылез из кузова, проверил ещё три машины для вида, забрёл назад в мастерскую и посмотрел на механиков, которые в яме и на подъёмнике ремонтировали полностью нагруженный грузовик. Ротмистр Волтерс и доктор Руннефельдт уехали на своей машине в офицерский клуб батальона обеспечения, чтобы освежиться и прилично поужинать. Но прежде между ними произошла небольшая стычка.
— Мы возьмём этого Вахтера с собой? — надменно поинтересовался Волтерс. — Он штатский, ему не место в офицерском клубе.
— Но он наш гость, герр Волтерс.
— Ваш гость. В этом разница, если говорить откровенно. Какой-то музейный работник в офицерском клубе. Вы не знаете меры, герр Руннефельдт.
— Вахтер может оказаться нам очень полезен. Доктор Финдлинг будет доволен.
— С какой стати?
— Вахтер вырос рядом с Янтарной комнатой. Если кто-то до малейших деталей ее и знает, так это он, и при восстановлении её в Кёнигсберге или в Линце это может очень пригодиться. Стоит об этом позаботиться.
— Благодарю за разъяснения! — Волтерс всем своим видом показывал недовольство. Он не сказал Вахтеру ни слова и первым вошёл в клуб, демонстрируя, что он, как ротмистр, старше по званию.
Ремонт трёх грузовиков длился не так долго, как предполагал начальник мастерских. Уже на следующий вечер старший фельдфебель доложил:
— Ремонт закончен.
— Самое время! — проворчал Волтерс.
— Это был исключительный случай, герр ротмистр. Откуда у вас это старьё? Все детали еле держатся и проржавели.
— Лично от гауляйтера Коха.
— Тогда я ничего не говорил. — Старший фельдфебель поднял руки, но при этом широко улыбнулся. — Это замечательные машины, в прекрасном состоянии. Неприятность может произойти и с самой надёжной машиной…
— Уезжаем сегодня! — Доктор Руннефельдт пожал руку начальнику мастерской, а Волтерс посчитал это ниже своего достоинства. — В Кёнигсберг мы прибудем примерно в час ночи.
— Вы хотите поднять гауляйтера Коха из постели?
— Вряд ли он будет спать. — Доктор Руннефельдт сдержанно засмеялся. — Я уже коротко переговорил с ним по телефону и сказал о нашем отъезде. Насколько я знаю Коха, эту ночь он проведёт не в постели, даже если кто-нибудь будет его там ждать…
Волтерс с удивлением посмотрел на доктора Руннефельдта. Что за разговоры! Потом взглянул на часы.
— У нас ещё есть время для ужина?
— Конечно.
— В клубе сегодня рулет с капустой. — Волтерс поднял брови. — Этот музейный работник опять идёт с нами?
— Герр Вахтер должен палец сосать, по-вашему?
Волтерс проглотил ответ, и старая игра продолжилась. Он первым вошёл в офицерский клуб, за ним следовал Вахтер и лишь потом Руннефельдт. Водители грузовиков ужинали в столовой при мастерской и заправлялись супом с мясом и лапшой. Пашке удалось дважды заполнить на кухне котелок.
С наступлением темноты он опять пробрался к грузвику и передал Яне котелок с дымящимся супом. Она уже воспользовалась ведром, и под брезентом пахло мочой.
— Извини, — уныло сказала Яна, — но я не могла больше терпеть.
— Я же ничего не говорю. Природа сильнее. Я потом вынесу ведро. Сначала поешь. Около полуночи мы прибудем в Кёнигсберг. Тогда твои мучения закончатся.
— Как мне тебя отблагодарить, Юлиус?
— Я подумал вот о чем. — Взгляд Пашке скользнул по фигуре Яны и остановился на выпуклостях в верхней части. — Но так не пойдёт. Я навещу тебя потом в госпитале. Где тебя найти?
— В городской больнице, — ответила она не задумываясь. — Я должна там зарегистрироваться. Куда меня направят, я не знаю.
— Я тебя найду. — Пашке взял ведро и вылез из кузова.
Он выплеснул содержимое ведра в ближайшую канаву и ополоснул его водой из-под крана в мастерской. Первый раз в жизни я ношусь с женской мочой, думал он. Но чего только не сделаешь ради любви. Любви? Ну, скажем, симпатии. Дома ждёт Йоханна. Тоже небось не одна… после войны всё опять будет нормально. Всё забудется. И приключение с Яной.
Незадолго до того, как доктор Рунефельдт и Волтерс вместе с Вахтером уселись в машину, Пашке ещё раз залез под брезент к Яне и забрал фляжку. Солдат без фляжки — это половина солдата. Вот что на войне важно: чтобы пережить её, нужна удача, а чтобы защищаться — чувство сытости в животе. Солдат на войне может многое потерять, но только не котелок, побрякивающий на ремне и бьющий по ягодицам.
— Мы отправляемся, — тихо сказал он. — В Кёнигсберге я постучу по стенке кабины. Тогда ты должна мухой вылететь, поняла? Тогда будет благоприятный момент. Всего хорошего, девочка! А в Кёнигсберге я найду тебя, не сомневайся.
Яна кивнула. Неожиданно она приблизилась к заднему борту, обняла ошеломлённого Пашке и поцеловала в губы. Он стоял как столб, глупо вытаращив глаза, а Яна вернулась обратно. В его голове, в висках, в сердце, во всём теле всё гудело, как пчелиный улей.
— Ты даже не представляешь, какой ты молодец, Юлиус! — сказала она. — Я тебя никогда не забуду. Храни тебя Бог…
— Тебе… тебе тоже всего хорошего, — пробурчал Пашке, потёр глаза и застегнул брезент. Уже на улице он встряхнулся, как мокрая собака, и глубоко вздохнул. Его губы как будто обожгло огнём. Какая она горячая, подумал он, приходя в себя. Юлиус, если она и в постели такая, то у тебя все кости размякнут. Вот так-то, парень…
Он забрался в кабину и сел рядом с ефрейтором Доллем. Вместо приветствия тот встретил его приглушённой отрыжкой.
— Свинья! — буркнул Пашке.
— После супа с лапшой у меня всегда так. Пардон, месье. — Долль завёл двигатель, офицерская машина уже тронулася с места. — Мы снова последние?
— Да.
— Почему? Теперь ведь дорога лучше. Может, хватит уже дерьмо хлебать? Мне уже надоело.
— Хорош уже болтать.
Пашке откинулся назад. Он снова ощутил этот поцелуй. Прикосновение её груди. Я этого тоже не забуду, девочка. И когда потом меня будет целовать Йоханна, я буду представлять, что это ты! Переживи и ты эту войну, Яна, и пусть Господь тоже будет с тобой…
Когда они последними тронулись с места и затряслись по булыжной мостовой, Пашке понял, что разговаривал с Яной в последний раз и никогда больше её не увидит. Он смотрел сквозь стекло кабины в ночь, вспоминал девушек, с которыми встречался, и удивлялся тому, что так тяжело переживает это расставание.
С Йоханной было по-другому. Тогда он рассмеялся и сказал:
— Я вернусь, когда расправлюсь с полячками.
Но после Польши была Франция, а теперь Россия… А что потом?
— О чём думаешь, Юль? — спросил Долль.
— О борделе в Кёнигсберге.
— У меня есть один хороший адресок, — засмеялся Долль. — Слушай, мне тут рассказали анекдот. Тюннес и Шёль идут по площади Буттермаркт и…
— Заткнись! — грубо оборвал его Пашке.
— Сзади за нами кто-то бежит с ведром и машет рукой.
— С чем бежит?
— С ведром…
— Дави на газ! — Юлиус Пашке втянул голову в плечи. — Вокруг полно сумасшедших.
***
Гауляйтер Эрих Кох пытался быть терпеливым, но у него плохо получалось. После звонка доктора Руннефельдта из Каунаса уже в следующую минуту с триумфом в голосе он сообщил об этом доктору Финдлингу и своему доверенному лицу и компаньону по выпивке, руководителю округа Бруно Велленшлагу.
— Срочно приходите! Сегодня ночью прибудет Янтарная комната!
Доктор Финдлинг прощался с женой, как будто ему предстояла дальняя поездка
— Вы опять непременно выпьете! — довольно элегантно сказала она.
— Непременно, Марта, непременно. Янтарная комната у нас. Это событие Кох должен обмыть.
— А утром у тебя опять будет раскалываться голова и болеть желудок!
Немного подумав, она добавила:
— Прежде чем идти к Коху, выпей немного растительного масла...
— Что выпить? — ужаснулся доктор Финдлинг.
— Стаканчик растительного масла. Оно смажет стенки желудка и нейтрализует алкоголь.
— Меня от него стошнит!
— Это тоже полеэно, Вильгельм. Масло — это старый домашний рецепт. Ещё мой дедушка выпивал стакан перед собраниями. Я никогда не видела его пьяным.
— Этот фокус можно провернуть, когда привыкнешь. Он мог пить как бык. — Доктор Финдлинг, стиснув губы, смотрел, как Марта пошла на кухню, налила масло в стопку для водки и принесла ему. — Сорок семь лет назад, когда я был маленьким, мне каждое утро приходилось принимать ложку рыбьего жира. С тех пор не переношу запах рыбы. Марта, это обязательно?
— Да. Вот увидишь, это поможет.
Доктор Финдлинг мужественно выпил стопку масла, с усилием проглотил и удивился, что его сразу же не вырвало.
— Ужасно! — произнёс он.
— Посмотрим, что из этого получится. Ты вернёшся к завтраку?
— Думаю, что нет.
— К обеду?
— Вероятно, тоже нет. Я хочу сразу распаковать Янтарную комнату и всё зарегистрировать. На её монтаж в тридцать седьмом зале потребуется несколько недель. Всё опять нужно собрать так же, как в Царском селе при императрице Елизавете. Надеюсь, что при разборке пронумеровали настенные панели и фризы.
— Доктор Руннефельдт и доктор Волтерс — всемирно известные искусствоведы.
— Но смогли ли они пронумеровать правильно… посмотрим.
Он окинул скептическим взглядом стопку, которую Марта держала в руке, поцеловал жену в лоб и вышел.
Как и следовало ожидать, Бруно Велленшлаг был там, они с Кохом уже выпили по бокалу коньяка. В ведёрке со льдом охлаждалась бутылка французского шампанского. Гауляйтер Кох хотел достойно встретить Янтарную комнату
— В полночь она будет здесь! — приветствовал его Кох широким жестом. — Мой дорогой, вы должны лопнуть от счастья.
— Этот день будет самым прекрасным в моей жизни, гауляйтер. — Доктор Финдлинг с отвращением выпил первый бокал коньяка и его чуть не вырвало прямо на сапоги Коха. Но желудок быстро успокоился, жжение, которое всегда возникало от алкоголя, не появилось. Масло действительно помогло.
— Мы все думаем так же. Прежде всего потому, что утащили это сокровище из-под носа у Розенберга. Разве позволил бы Розенберг разместить комнату здесь? Здесь, в замке Кёнигсберга, которому она принадлежит! Я постараюсь убедить в этом фюрера. Почему Янтарная комната должна находиться в Линце на Дунае? Янтарь, солнечный камень, золото Германии, находят у нас, на берегу Балтийского моря… и самое главное произведение искусства из него должно остаться в Восточной Пруссии. Каким идиотом был прусский король, когда подарил эту драгоценность русскому царю. Фридрих Вильгельм I, видимо, был сильно пьян. Мы с вами, Финдлинг, вернули её Германии! Янтарная комната вернулась на родину. Об этом нужно сообщить прессе.
— Не забывайте о «прерогативе фюрера», гауляйтер. — Доктор Финдлинг уселся в глубокое кресло. — Борман тоже будет настаивать, чтобы комната переехала в Линц.
— Я поговорю с Борманом, — отмахнулся Кох, хотя знал, какая предстоит борьба. Он не любил Бормана, и это чувство было взаимным. «Королек Восточной Пруссии» был Борману в высшей степени противен.
— Это будет неприятная встреча, гауляйтер, — озабоченно заметил Велленшлаг.
— Бормана можно убедить серьёзными аргументами… в крайнем случае, я поговорю лично с фюрером. К моему мнению он всегда прислушивается.
Они стали ждать. Тянулись мучительные минуты. Когда чего-то ждёшь с нетерпением, вечно возникают вопросы. Проклятие, где они сейчас? Почему так долго шатаются? Не произошло ли чего-нибудь в дороге? Почему доктор Руннефельдт не звонит?
Что-то произошло… они не приехали и в полпервого ночи.
Беспокойство Коха передалось доктору Финдлингу и Велленшлагу. Они стояли у окна и смотрели во двор замка, потом спустились по лестнице, чтобы взглянуть на ворота, потом вернулись, пожимая плечами. Кох ходил расхаживал взад-вперед по кабинету, заложив руки за спину, опустив подбородок и втянув голову в плечи — как бык, готовый выскочить на арену.
— Как же я ненавижу непунктуальность! — воскликнул он с раздражением. — От Каунаса до Кёнигсберга всего-то пустяк! И дороги хорошие, не такая грязь, как в России. Что-то не так! С ними что-то случилось!
Однако ничего необычного не произошло, всё шло нормально, не считая небольшой задержки у железнодорожного вокзала. Подъезжая к нему, Юлиус Пашке толкнул ефрейтора Долля в бок и глухим голосом произнёс:
— Остановись здесь.
— Зачем?
— Мне надо отлить.
— Здесь? Перед вокзалом? Здесь же кругом люди.
— В каждом вокзале есть туалеты, ты разве не знаешь? Я терпел сколько мог, но больше не могу. Остановись.
Чтобы придать своим словам больше выразительности, он три раза ударил по стенке кабины. Это был знак для Яны. Вылезай, девочка. Приехали. Всего хорошего, малышка. Я тебя не забуду...
Он дождался, когда Долль подрулит к главному входу, и выскочил из кабины.
— Штаны уже намочил? — засмеялся Долль.
— Что?
— Брюки мокрые…
Пашке махнул рукой и побежал к кузову. Брезент был откинут и хлопал на ветру. Юлиус тихо позвал Яну по имени, но ответа не получил. Кузов был пуст — она выскочила, как только Юлиус постучал по стенке.
Пашке в отчаянии огляделся. Ему хотелось хоть еще разок взглянуть на неё или на её исчезающую тень, но он ничего не заметил. Около вокзала стояли солдаты и суетились несколько штатских. У входа дежурили трое полицейских, которых называли «цепными псами», потому что на шее у них висел блестящий значок на цепочке. Они проводили выборочную проверку, останавливали солдат и проверяли паспорта, отпускные билеты и командировочные предписания.
Не торопясь Пашке зашёл в здание вокзала, нашёл туалет, постоял рядом с другим у писсуара, выдавил пару капель, и ему показалось, что он остался в полном одиночестве.
Когда он вернулся к грузовику, то увидел рядом офицерскую машину. Вся колонна ждала, поскольку вперёд доложили о том, что последняя машина остановилась.
— Что случилось, унтер-офицер? — сердито спросил Волтерс через стекло. Пашке встал по стойке смирно.
— Я захотел в туалет, герр ротмистр, — доложил он, отдал честь и забрался обратно в кабину. Взглянув на Долля, он приказал:
— Поехали…
Долль запустил мотор.
— С ней всё в порядке? — спросил он как бы между прочим.
— С кем? — Пашке съежился от неприятного предчувствия.
— С медсестричкой. — Долль широко улыбнулся. — Она проворная…
— Как ты догадался, Долль?
— Юль, у меня же есть зеркало заднего вида.
— Ты всё знал?
— Конечно. У меня ведь не помидоры вместо глаз. Мне только хотелось узнать, чем всё закончится… Вижу, что закончилось хорошо…
— Ты ничего не видел, Долль, ничего! Понял?
— Я же водитель, смотрю только на дорогу. — Долль снова улыбнулся Пашке, и они тронулись. Мимо в голову колонны промчался офицерский внедорожник. — Но послезавтра я получу от тебя бутылку шаубау…
— Что-что?
— Бутылку шнапса, дружище.
Пашке кивнул и снова откинулся назад. Он думал о Яне, на душе было тяжело. Он так и не понял, зачем она много дней тряслась в кузове грузовика, вместо того чтобы поехать на поезде.
Наконец, около часа ночи к замку Кёнигсберга подъехал внедорожник. Дежурный офицер, молодой лейтенант, получивший ранение в Польше, проверил документы, которые протянул ему через стекло Волтерс. Ротмистра раздражала обстоятельность лейтенанта.
— Вы думаете, что мы везём на восемнадцати грузовиках динамит, чтобы взорвать замок? — заорал он. — Или вы не умеете читать?
— Что в грузовиках? — коротко спросил офицер.
— Двадцать семь ящиков с парижанками! — начал выходить из себя Волтерс. — Да чтоб ты провалился! Нас ждет гауляйтер. Вам разве не передали приказ?
— Там сказано: прибудет несколько машин. Но восемнадцать грузовиков?
— Вот что я предлагаю, герр лейтенант. — Волтерс задержал дыхание. — Вы нас пропускаете, а я не буду ходатайствовать, чтобы вас отправили на фронт.
— Меня комиссовали по ранению. В Польше меня тяжело ранили. Пуля застряла в лёгком. Вы тоже получили ранение, герр ротмистр?
Вопрос сопровождался лёгкой улыбкой. Волтерс вырвал из рук лейтенанта бумаги, откинулся назад и не стал отвечать.
— Теперь мы можем проехать в замок, герр лейтенант? — вежливо осведомился доктор Руннефельдт.
— Конечно. — Лейтенант отдал честь, отошёл в сторону, а охрана освободила проезд. — Я просто выполняю свои обязанности…
Когда внедорожник с грохотом вкатил во двор замка, стоящий у окна Велленшлаг непринуждённо, как будто и не ждал несколько часов, сказал:
— Она приехали.
Гауляйтер Кох и доктор Финдлинг подскочили в креслах как ужаленные. Кох первым делом нахлобучил на голову фуражку. Потом схватил ремень. Когда он его застёгивал и расправлял формуь, в свете хрустальной люстры на левой стороне кителя блеснули ордена. Дрожащим от волнения голосом он провозгласил:
— Давайте выпьем в честь прибытия по бокалу шампанского! Больше добавить нечего. Сколько мы ждали!
Он откупорил бутылку, и пробка с тихим щелчком прыгнула к потолку. Потом Кох налил полные бокалы и поставил бутылку обратно в ведерко.
— За нашу Янтарную комнату! — произнёс он и поднял бокал. — За то, чтобы она навсегда осталась здесь, на своей родине.
Велленшлаг и доктор Финдлинг подняли бокалы вслед за гауляйтером.
— Благодарю вас, гауляйтер, — сказал доктор Финдлинг с неподдельным волнением. — Будущие поколения вас никогда не забудут. К богатству Кёнигсберга добавилось ещё одно сокровище.
Молча, залпом, они опутошили бокалы, а потом, следуя примеру Коха, со всего маха по старому славянскому обычаю швырнули их в угол, где они разбились о дорогие обои.
— А теперь к нашему сокровищу! — Гауляйтер Кох подбежал к двери и распахнул её. — Заблудшая дочь вернулась домой.
— Почему дочь? — спросил доктор Финдлинг у бегущего рядом Велленшлага.
— У Коха всё красивое и привлекательное женского рода, — рассмеялся Велленшлаг и хлопнул доктора Финдлинга по спине. — Вам следовало знать.
Во дворе замка восемнадцать грузовиков построились в открытое каре, как на параде, внедорожник впереди. Волтерс, доктор Руннефельдт и Вахтер вышли из машины и ждали, пока последний грузовик с Пашке и Доллем займет своё место. Бамперы и радиаторы машин были выровнены до сантиметра. Неожиданно во дворе появились несколько человек в жёлто-коричневой форме политического отдела гауляйтунга. Ординарец побежал во флигель гауляйтера и натолкнулся на Коха, который как раз открыл дверь.
— Герр гауляйтер, — начал ординарец.
— Я вижу! — отмахнулся Кох, остановился у двери и посмотрел на колонну. Никогда его не видели таким взволнованным.
— Отправьте сообщение генерал-полковнику фон Кюхлеру: груз из Пушкина прибыл в Кёнигсберг. От имени фюрера благодарю вас за участие в этом историческом деле. Кох.
— Есть, герр гауляйтер.
Руководитель политотдела убежал выполнять приказ.
Кох выпрямился, выпятил колесом грудь, принял авторитетную позу и посмотрел на трёх человек, стоящих перед внедорожником. Несмотря на более низкий ранг, доктор Руннефельдт шагнул вперёд, остановился в трёх шагах от Коха и приложил руку к фуражке.
— Герр гауляйтер, — произнес он и заметил, как заблестели глаза Коха, — докладываю, что Янтарная комната по приказу высшего командования вермахта и министра иностранных дел рейха доставлена. Без чрезвычайных проишествий.
— Спасибо, доктор Руннефельдт. — Кох протянул ему руку, посмотрел на доктора Волтерса и кивнул ему.
— Вы доктор Волтерс, не так ли?
— Так точно, герр гауляйтер.
Волтерс щёлкнул каблуками.
— А вы? — Кох бросил взгляд на штатского, стоящего рядом.
Руннефельдт ожидал этого вопроса.
— Герр гауляйтер, позвольте вам представить Михаила Вахтера. Герр Вахтер до последнего дня заботился о Янтарной комнате в Пушкине. Этой семейной традиции уже двести двадцать пять лет.
— И поэтому вы взяли его с собой. Интересно! — Кох кивнул Вахтеру и слегка улыбнулся. — Мы еще поговорим об этом, герр…
— Вахтер, герр гауляйтер.
Вахтер с огромным интересом рассматривал мужчину среднего роста в жёлто-коричневой форме. Это и есть Кох. Тиран Восточной Пруссии и завоёванных областей. Рейхскомиссар. Демон, чья подпись может даровать жизнь или смерть. Новый хозяин Янтарной комнаты. И моей дальнейшей судьбы.
Он отошёл в сторону, чтобы пропустить Коха вперёд, и двинулся за ним вместе с Волтерсом и доктором Руннефельдтом. Кох медленно вышагивал у заляпанных грязью машин, как вдоль строя почётного караула, останавливался около каждой и отдавал честь. У последнего грузовика, рядом с которым, как два памятника, замерли Долль и Пашке, он остановился.
— Вы старший колонны? — спросил Кох командным тоном.
— Так точно, герр гауляйтер, унтер-офицер Пашке.
— Вы хорошо справились со своими обязанностями. — Он посмотрел на грудь Пашке, на которой ничего не было. — У вас нет Железного Креста?
— Нет, герр гаауляйтер. Я всё время служу водителем, с начала войны. В транспортной колонне Коха.
— Я представлю вас к Железному Кресту второй степени, унтер-офицер.
Кох отдал честь и пошёл обратно. Пашке покраснел, всё тело зачесалось, как будто по нему бегали муравьи. Железный Крест… Йоханна будет гордиться.
— Две бутылки шаубау… — послышался рядом шёпот Долля. — Поздравляю.
Кох вернулся ко внедорожнику и остановился около доктора Финдлинга и Велленшлага.
— Это доктор Финдлинг, директор музея в Кёнигсберге.
— Мы знакомы, — сказал доктор Руннефельдт. Они Финдлингом обменялись крепким рукопожатием. — Ваша книга о янтаре входит в список обязательной литературы каждого искусствоведа.
— Благодарю вас, — смущённо ответил Финдлинг.
— Руководитель администрации Велленшлаг.
Мужчины кивнули друг другу, но рук не подали. Велленшлаг другого и не ожидал — придворного шута представили, и этого достаточно, он им не ровня.
— Водители могут идти, — довольно сказал Кох. — Начальник караула позаботится о них. А вас, господа, прошу быть моими гостями.
Они направились в замок, у машин выставили охрану. Фельдфебель посмотрел на группу из тридцати шести человек, столпившуюся неподалеку.
— От вас несет как от стада козлов! — сказал он. — Сейчас вам покажут жильё, а потом как следует вымойтесь.
— А когда нам дадут поесть? — выкрикнул кто-то из толпы.
— Завтра утром в семь часов. Не опаздывать.
— Вот чёрт!
— Вы теперь снова находитесь среди цивилизованных людей. Привыкайте.
— Кто здесь цивильный? Я ношу форму! И вообще… кто ты такой?
Пашке и фельдфебель смерили друг друга взглядами. Назревала буря. Наподдай ему, Юлиус! Этой тыловой крысе…
— Я исполняю обязанности дежурного унтер-офицера. — Фельдфебель повысил голос. — И когда я говорю…
— А когда я говорю, — перебил его Пашке, — что мы все сейчас получим кофе или по бутылке пива, то мы это получим. Или я пойду к гауляйтеру и скажу: «Партайгеноссе, там один ссыкун хочет меня запугать… Как думаешь, что потом будет?
Фельдфебель оказался человеком неглупым. Он не пошёл на стычку с Пашке и лишь проворчал:
— Сейчас же всем мыться! — и двинулся впереди, чтобы показать им жильё.
В комнате Коха собравшиеся отмечали событие французским коньяком. Гауляйтер был в прекрасном расположении духа, Велленшлаг не мог припомнить, когда видел Коха таким расслабленным и радостным. Он не был таким, даже когда в замок приводили особенно красивую женщину.
— Завтра мы её распакуем, — сказал доктор Финдлинг. — Я не могу дождаться.
— Как женщину, которая понравилась! — Кох громко засмеялся. — Держитесь, доктор Финдлинг.
«Опять он про женщин, — подумал доктор Финдлинг. — Только о них и думает…»
Доктор Руннефельдт избавил его необходимости отвечать.
— Вам известно, что будет с Янтарной комнатой дальше?
— Что будет дальше? — Кох допил коньяк. Его глаза заблестели. — Она останется здесь! Я попрошу фюрера передать её Управлению государственных замков и садов. Так надёжнее. А доктору Финдлингу я предложу возглавить Управление культурных сокровищ Кёнигсберга. Мы обо всём позаботились.
Весёлая мужская компания расползлась около пяти часов утра. Немного пошатываясь, но не такой пьяный, как обычно после гулянок у Коха, доктор Финдлинг вернулся в свою квартиру. Марта проснулась и сидела в кровати. Финдлинг сел на край и опрокинулся в кровать прямо в одежде.
— Твой дедушка — просто молодец, — сказал он, с трудом ворочая языком, и закрыл глаза. — Растительное масло — прекрасное средство. Остальные — в стельку пьяны. Один я… я устоял…
— Я уж вижу! — с сарказмом произнесла Марта.
Но доктор Финдлинг этого уже не слышал, он спал.
Счастливый человек. Он был в восторге от того, что помогает грабежу.
***
Как только по стенке кабины трижды постучала, Яна подползла к заднему борту и подняла уже расстёгнутый брезент. Уже не в первый раз она перелезла через борт и спрыгнула на дорогу. Прижав сумку к груди, она огляделась. Ей показалось, что сотни глаз видели, как она выпрыгнула из машины. Однако, как оказалось, никто этого не заметил, и она побежала на вокзал, как будто опаздывает на поезд, а там прислонилась к столбу, чтобы перевести дыхание. Она ожидала, что кто-нибудь её остановит и проверит документы, однако никто не обратил на неё внимания, кроме нескольких солдат, возвращающихся из увольнительной. Они с улыбками прошли мимо, прижимая заботливо приготовленные матерями или жёнами пакеты с провизией.
Яна постояла у столба несколько минут, чтобы сердце немного успокоилось. «Сюда добраться удалось. Я в Кёнгсберге!» Она посмотрела в сторону перрона, где у каждого пассажира проверяли документы «цепные псы», и обрадовалась, что не поехала поездом. Без документов она не смогла бы покинуть перрон. У штатских должны быть билеты, а у военных — удостоверения. Считается ли платье медсестры формой? Этого она не знала. «Надо уходить отсюда, — подумала она. — Спрятаться, как в Пушкине. Кёнигсберг — большой город, кишащий людьми, и где-нибудь в этом море домов найдется укрытие и для меня».
С сумкой в руках она прошла через большой зал вокзала и остановила железнодорожного служащего с надписью «Справка» на фуражке.
— Куда вы направляетесь, сестра? — спросил служащий. Он был старше Михаила Вахтера. — На восток или на запад?
— Мне надо в городскую больницу.
— Надо ехать на трамвае. Первая линия. Но трамвай только в пять утра. Сейчас около часа ночи.
— А пешком?
— Вы и так давно в дороге. И ещё с такой тяжёлой сумкой. Вас может подбросить какая-нибудь военная машина. Я помогу найти.
— Спасибо.
— Пожалуйста, сестра.
Она подождала, пока служащий исчезнет в толпе, прочитала указатели и решила идти по стрелкам, которые указывали направление в зал ожидания.
Их оказалось два: первого класса и второго. Она посмотрела сквозь широкую стеклянную дверь в первый класс и увидела за столом офицеров и несколько штатских. Тогда она решила идти во второй класс. Здесь было безопаснее навести справки, чем у офицеров.
В зале ожидания второго класса скопилось много пассажиров. Естественно, в ночное время все столы и стулья были заняты. У стен на полу сидели солдаты, а некоторые даже несмотря на шум спали лежа, подложив под головы ранцы. Все заметили, что в зал ожидания вошла медсестра Красного Креста, но никто не встал и не предложил ей стул. Почти пять часов стоять у стены? Пожав плечами, Яна нашла свободное место у стены, поставила сумку у ног и прислонилась к стене. Солдат, который сидел рядом на полу и курил страшно вонючую самокрутку, посмотрел на неё снизу вверх.
— Тебе куда, сестра? — спросил он. Это был пожилой мужчина с серебристой нашивка за ранение на левом рукаве. Орденская полоска в петлице указывала на то, что он награждён Железным Крестом второй степени.
— На трамвае в город. Но первый трамвай будет только в пять.
— И ты хочешь всё это время простоять здесь?
— А что мне еще остается?
— В первом классе тоже много народа?
— Там слишком много офицеров.
— Ах, вот оно что. — Солдат понимающе улыбнулся. — А почему ты не пошла в вокзальную миссию?
— В вокзальную миссию? — удивилась Яна.
— Никогда не слышала про неё? Вас, видно, плохо учили. Ускоренный курс, а потом, раз-два, и в госпиталь, так? Тебе надо в вокзальную миссию. Они принимают всех медсестёр, в особенности «коричневых» [6].
— Спасибо. — Яна подняла сумку, кивнула солдату на прощание и покинула зал ожидания.
В общем зале она осмотрелась, нашла указатель «Вокзальная миссия» и остановилась перед дверью, через которую непрерывно сновали девушки в незнакомой одежде медсестёр, сопровождая легкораненых. «Правильно ли я поступаю? — спрашивала она себя. — Что они у меня спросят? Поверят ли тому моему рассказу?»
Собравшись с духом, она стиснула ручку сумки и вошла вслед за солдатом с забинтованной головой в первое помещение. В нос ударил запах горохового супа. В углу стоял большой эмалированный котёл, медсестра разливала черпаком суп в подставленную посуду. К котлу выстроилась очередь раненых, которые перебрасывались шутками.
Сестра бросила взгляд на нерешительную и беспомощно оглядывающуюся Яну и показала черпаком на дверь.
— Иди туда…
— Спасибо.
Она открыла дверь, вошла в большую комнату, где за длинными столами сидели раненые. Они пили кофе или чай и жевали бутерброды с колбасой. С четырех многоярусных кроватей у задней стенки доносился громкий храп. «Коричневая» медсестра подошла к Яне и удивлённо уставилась на неё.
— Ты откуда? — спросила она.
— С фронта из-под Ленинграда, — вполне правдиво ответила Яна.
— Ого! А теперь в отпуск на родину?
— Нет. Мне надо отметиться в городской больнице. Могу я у вас остаться на четыре часа? Первый трамвай пойдёт только в пять утра.
— Конечно. Тебя никто не может подбросить? От вокзала до города много машин ездит.
— Я ещё не спрашивала. И мне удобнее ехать на трамвае.
— Из-за вечных приставаний, да? — засмеялась медсестра. — Кто-то привыкает, кто-то нет. Я лично уже привыкла. А что делать, когда приятный молодой лейтенант хватает за ляжки?
— С пожилыми хуже.
— Конечно! У тебя, видимо, уже достаточный опыт, да? — «Коричневая» сестра подала Яне руку и показала на боковую дверь. — Иди туда… там у нас контора. Там тебе будет удобнее и никто не будет отпускать мерзкие шуточки. Надо же, с Ленинградского фронта! Как там дела?
— Много раненых.
— Понятно. Сами видим, когда санитарные поезда проходят мимо. В газетах и по радио об этом молчат И это хорошо. Мы все равно победим.
— Верно, — согласилась Яна, но к горлу подступил комок.
— Фюрер позаботится.
— Какое счастье, что у нас есть фюрер…
Яне с трудом далось это предложение. Она взяла свою сумку и пошла в контору. У стены стояли два кресла, в которых крепко спали две усталые медсестры. Они не проснулись при появлении Яны. После десяти часов на ногах спишь как убитый.
Она села рядом с письменным столом, заваленным бумагами, подпёрла голову руками и задумалась над тем, как поступить. Возможности было две: где-нибудь спрятаться и жить нелегально, рассчитывая на форму медсестры, или отметиться в больнице и устроиться официально. «У меня только двести марок, — подумала она. — Их хватит ненадолго. Надо платить за жильё и ещё на что-то жить. Я же не могу всё время ходить от одного общежития к другому, как будто собираюсь уезжать. Такая игра долго не продлится. И что дальше?»
Её взгляд остановился на пачке бумаг. Слева лежала стопка бланков, и Яна прочитала жирный заголовок:
«Свидетельство об участии в боевых действиях».
Её как током ударило. Она окинула взглядом двух спящих медсестёр, пододвинула бумаги поближе и увидела, что документ не заполнен. Подпись и печать там стояли, осталось списать только фамилию и дату.
Она быстро прочитала текст. То, что надо. Фамилия, дата рождения, домашний адрес, номер паспорта и служебные отметки. Такой документ снял бы все вопросы, с ним она могла чувствовать себя в безопасности.
Яна торопливо вытащила один лист из стопки, снова посмотрела на спящих медсестёр и специально пошуршала, но они не проснулись. Она взяла авторучку и заполнила документ печатными буквами. Пишущую машинку она использовать не решилась, чтобы не разбудить спящих.
Она сложила заполненный документ и засунула в сумку. Облегчённо вздохнув, она откинулась на спинку стула и ненадолго закрыла глаза.
В таком положении, с откинутой головой и закрытыми глазами, и застала её заведующая миссией, когда заглянула в контору.
— Устала? — спросила она. — Ты давно в дороге?
— От Пушкина до Кёнигсберга три дня и ещё полночи.
— За твоей спиной стоит электрочайник, кувшин с водой и пакет кофе. Настоящий зерновой кофе. Завари себе покрепче. Это не какой-нибудь мукефук [7].
— Спасибо.
«Что такое «мукефук»? — подумала Яна. — Ещё одно слово, которого я не слышала».
Заведущая снова ушла в зал для прибывающих раненых и закрыла за собой дверь. Обе медсестры так и не проснулись. Яна не стала делать кофе, а подождала, когда в контору зашли две медсестры, поздоровались с ней и заварили полный кофейник. С жадностью и огромным удовольствием она выпила две чашки.
— Да, это не мукефук! — схитрила она.
Одна медсестра кивнула и осторожно отпила глоток.
— Его делают из ячменя, а не из кофейных зёрен — сказала она. — Деньги нужны на оружие. После войны мы будем купаться в кофе.
— Это точно! — кивнула Яна. Значит, мукефук — это заменитель кофе. Из обжаренных злаков. Об этом надо знать, раз теперь я стала немкой. — А откуда у вас кофейные зёрна?
— Связи… — молодая медсестра засмеялась и сделала еще один глоток. — Связи решают всё. Надо только всё устроить.
Яна засмеялась, как будто всё поняла. Надо еще кое-чему научиться — находить связи, то есть доставать из-под полы, потому что обычным способом этого больше не достать. Мукефуком они называют заменитель кофе, а слабое пиво называют «уринолом» или «писсолином». Этих слов нет ни в одном немецком словаре. Но знать их надо, иначе пропадёшь. Сколько ещё таких слов придется выучить?
Время шло быстро. Несмотря на крепкий кофе, Яна задремала, а потом и крепко заснула, сидя на стуле. Лишь когда кто-то начал её трясти, она вскинула голову. Перед ней стояла знакомая «коричневая» сестра.
— Можешь опоздать на трамвай, — засмеялась она. — Первый трамвай скоро отправится. Если хочешь на него успеть, то беги… Остановка напротив главного входа.
— Спасибо! — Она вскочила и схватила сумку. — Ваш кофе я запомню надолго.
Она помедлила, поцеловала медсестру в щёку и побежала.
Трамвай был пуст. Только в передней части вагона сидела группа рабочих, они курили, обсуждали военные сводки за предыдущий день и заключали пари, когда захватят Ленинград и Москву. Лишь один из них сказал «Никогда!», и все остальные его освистали.
Остановка «Городская больница».
Яна вышла и долго смотрела на стены и окна больницы. К своему приключению она готовилась основательно. Михаил Вахтер где-то достал «Руководство для медсестёр» на русском языке, которое она тщательно прочитала, выучила наизусть основные понятия и перевела на немецкий.
Сначала она овладела теорией, а потом упражнялась на Вахтере, изображающем тяжелобольного. Она научилась ухаживать за лежачими больными, знала как подкладывать утку, менять повязку, мыть раненого, проверять пульс, а на своей старой кукле научилась делать уколы.
— Этого должно быть достаточно, — сказал позже Вахтер. — Большего от тебя не потребуется. Тебя не будут привлекать к работе в качестве операционной сестры. Ты будешь раздавать таблетки, менять постельное бельё, делать уколы в задницу, в вену их делают врачи или старшие медсёстры, помогать больным делать первые шаги, разносить еду, кормить тяжелораненых, измерять температуру… Для тебя это не составит труда. И говори как можно больше на немецком, Яночка… Некоторые выдают себя словами больше, чем делами. Гляди в оба. Ты должна учиться, учиться, всё время учиться, и станешь как настоящая медсестра.
Она сделала над собой усилие, перешла улицу и оказалась у въезда санитарных машин. Дверь приёмного отделения освещали лишь две мутные лампочки. Всё здание было погружёно в тишину.
Дверь была закрыта, слева в стене виднелась кнопка звонка. Яна нажала, ничего не услышала и нажала ещё три раза. В большом зале приёмного отделения загорелся свет, к двери подошел заспанный санитар, широко зевая.
— Что там еще? — проворчал он. — Иду, иду! У вас что, Кох в «санке»?
Потом он увидел медсестру из Красного Креста, симпатичную куколку, лакомый кусочек для врачей.
«Санка, — сразу подумала Яна. — Что это означает?»
— Я не санка! — сказала она смело.
— Уж конечно не санка. — Санитар улыбнулся, шагнул в сторону и позволил Яне войти. — Было бы жалко, если бы ты выглядела, как санитарная машина.
Значит, «санкой» называют санитарную машину. Ещё одно важное слово. Яна подождала, пока санитар закроет дверь, и осмотрелась.
Голые стены, чистый пол, покрытый линолеумом, запах дезинфекции, ряд дверей, носилки на колёсах вдоль стен, две смотровых, два кресла-каталки.
Санитар отошёл от двери и улыбнулся Яне.
— Ну-ну, натрахалась, а теперь тайно крадёшься через заднюю дверь. Хорошо провела время? — Он засмеялся, когда Яна посмотрела на него ничего не понимающим взглядом, и обнял её за плечи. Она не знала, терпеть ли это, или оттолкнуть его. — И не хлопай глазками, как невинный ангелочек. Беги скорей в кровать, пока тебя ночной дежурный не застукал.
— Я должна отметиться у старшей сестры, — произнесла Яна заученный текст.
— Сейчас? В полшестого? — Он внимательнее оглядел Яну и заметил у неё большую сумку. — О господи, так ты новенькая? И должна отметиться?
— Да. Сразу после прибытия.
— Откуда ты приехала?
— С фронта. Из-под Ленинграда.
— Ну и дела! Ленинград? Прямо с передовой?
— Да. С главного перевязочного пункта.
— А почему к нам?
— Я болела. Тиф. Здесь я должна немного поправиться… и, конечно, поработать. Мне выдали командировочное предписание.
— Понятно. — Санитар взял Яну под руку и повёл в свою комнатенку. — Меня в Польше ранило. Выстрел в пятку, а когда я дёрнулся, второй выстрел попал в левое плечо. Раздробило ключицу. С тех пор я здесь. Вот, это дежурное отделение. Присядь на кушетку, девочка. Как ты относишься к пиву? Расскажи, как сейчас на фронте. У нас есть время до восьми, пока начальство не появится. А старшая сестра Фрида придет только в полдевятого. Фрида Вильгельми здесь главная. Даже врачи стоят по стойке смирно. Всё ее указания всегда правильные и и обязательны к выполнению. И никак иначе! Мой первый совет: покажи себя перед Вильгельми с хорошей стороны. Правда, это будет нелегко… Потому что ты симпатичная девчонка. Она знает, что будет. Все врачи станут бегать за тобой, как кобели за течной сукой. Так она и скажет.
— Всё так плохо?
— Что? Разве тебя ещё ни один врач не уложил в постель?
— На фронте у нас были другие проблемы. Груды разорванных на куски тел… Как тебя звать?
— Карл Блудеккер… Глупая фамилия, да? Но родителей не выбирают. А тебя?
— Яна Роговская.
— Настоящая восточно-прусская дворянка, да? — Блудеккер ухмыльнулся, протянул Яне пиво, но она отказалась.
— Спасибо, Карл. Не хочу, чтобы от меня несло пивом, когда буду разговаривать с Фридой Вильгельми.
— Фрида сама пьёт. Втихую. Я-то уж знаю. Ну, раз не будешь… — Он поднял бутылку и произнёс: — Выпьем за моря!
Он сделал большой глоток, поставил бутылку, рыгнул и сел рядом с Яной на кушетку, положив руку ей на колени.
— Почему за моря? — спросила она.
— Ты не знаешь? — Блудеккер постучал по бутылке. — Когда выпьешь пол-литра «писсолина», можешь шиффен [8] литр мочи.
— Или штруллен… — сказала она.
— Ага. Так говорят только воспитанные люди. Девочка, всё будет в порядке!
Около восьми Блудеккер проводил её до кабинета старшей медсестры. Фрида Вильгельми ещё не пришла. Яна послушно села на стул в углу и стала ждать.
Ровно в полдевятого дверь открылась и в кабинет въехал танк в форме медсестры, увенчанная головой в очках. Светло-голубые глаза коротко взглянули на подскочившую Яну, потом танк покатился к письменному столу и из него выдвинулись руки, которые упёрлись в стол. Одного её взгляда было достаточно, чтобы Яна затряслась от страха. С этой женщиной никто не мог тягаться, ее ничто не могло выбить из колеи, она привыкла командовать и ожидала только повиновения.
— В чём дело? — спросила она.
Яна вздрогнула и посмотрела на эту гору мяса. Какой голос. Какой приятный, глубокий и певучий голос. С закрытыми глазами можно даже ей довериться.
— Какое отделение?
— Пока никакое, старшая сестра.
— Это как?
— Мне надо здесь отметиться. — Яна вынула из сумки документ, который сама заполнила, и протянула его Фриде Вильгельми. Её рука слегка дрожала, но она старалась скрыть волнение. «Сейчас всё решится, — подумала она. — Теперь мне может помочь только Господь Бог… если он сможет побороть Фриду». — Я прибыла с фронта. Из-под Ленинграда.
— С фронта! — Фрида Вильгельми опять окинула Яну пронизывающим взглядом. Фрида взяла документ, пробежала глазами и швырнула его на стол. — А остальные бумаги?
— У меня только это удостоверение.
— У вас должны быть ещё бумаги. Удостоверение сотрудника немецкого Красного Креста, командировочное предписание…
— Ничего нет, старшая сестра. В перевязочный пункт попало три тяжёлых снаряда, один из них — прямо в казармы. Всё сгорело. Это произошло за час до моего отъезда. Осталась только сумка, которая всегда при мне.
Фрида Вильгельми взяла со стола документ, ещё раз прочитала и пожала массивными плечами.
Яна мысленно вздохнула с облегчением. Пожатие плечами — уже наполовину капитуляция.
— Вас уже куда-нибудь назначили? — спросил «танк», бросив документ обратно на стол. — Вы уже были в администрации?
— Нет. Хотела сначала отметиться у вас, старшая сестра.
Фрида кивнула. Ответ девушки ей понравился. Она опустилась на широкий стул, скрывшийся под её телом.
— Тогда сходите туда, сестра Яна. Иначе у вас не будет денег. — Опять этот пытливый, проникающий вглубь взгляд. — Куда мне вас направить? Вы были на главном перевязочном пункте? Тогда вам надо в хирургию. У вас есть о ней представление. У нас здесь, как в большом госпитале. Потом я отведу вас к главврачу, доктору Панкратцу. Капитану медслужбы Панкратцу. Он давно уже сокрушается, что у него нет квалифицированной сестры. Сходите в администрацию, а потом обратно ко мне.
— Хорошо, старшая сестра.
Фрида Вильгельми посмотрела Яне вслед. «Симпатичная девушка, — подумала она. — Хорошо воспитанная. С открытым взглядом и нераспущенная. Это сразу видно. Надо за ней присмотреть, чтобы ее не затянуло под колёса. Я сама о ней позабочусь. Яна Роговская. Родилась в Лыке, в Мазурии, рядом с русской границей. Надо дать по рукам врачам и прочим типам, если начнут к ней приставать. Я присмотрю за тобой, Яна».
В администрации, в отделе кадров, сидел, вытянув вперед правую ногу рыжий молодой мужчина. Яна не сразу поняла, что вместо ноги у него протез. Мужчина кивнул и чуть привстал.
— Франция, — пояснил он. — Штурм линии Мажино, осколок снаряда. Раздробил кости выше колена. — Он протянул руку и взял документ. — Вы хотите у нас работать?
— Меня сюда откомандировали. — Яна почувствовала себя уверенней. — Старшая сестра Фрида направила меня к вам. Я буду работать в хирургии. Мы всё прояснили, и об отсутствующих документах тоже. Я прибыла с Ленинградского фронта.
— Ага! — рыжий рассматривал Яну, как телёнка на ярмарке. — Если Фрида так сказала, значит всё в порядке.
Он повертел в руках документ.
— Это всё, что у вас есть?
— Этого недостаточно?
— Нетрудно догадаться. Но если Фрида согласна… Хорошо, я внесу вас в список персонала. Рыжий положил документ в синюю папку. Но позаботьтесь донести отсутствующие бумаги.
— Как только появится возможность. — Она потопталась ещё некоторое время у стола, но, как оказалось, приём на работу на этим закончился. — Что вы думаете о старшей сестре Фриде? — спросила она.
— Вы помните дракона, которого убил Зигфрид? К сожалению, мы не можем убить Фриду, ведь у нас нет Зигфрида.
— Всё так плохо?
— Без участия Фриды здесь ничего не происходит. Она всё видит, слышит и решает. Если она говорит, что вы приняты, то этого достаточно! Я поостерегусь принять другое решение, хоть у вас отсутствуют бумаги. Желаю удачи, сестра, — иронично добавил он. — Лучше неделю провести в окопе, чем один день рядом с Фридой. Но с другой стороны, больница работает образцово.
Через полчаса Яна снова постучала в кабинет старшей сестры. Ворчливое «да» означало «войдите».
Фрида Вильгельми подняла голову и кивнула на стул перед её столом. Когда Яна села, она почувствовала себя грешницей на Страшном Суде.
— Дитя моё, — снова раздался тёплый, совершенно не подходящий этой горе мяса голос, и это «дитя моё», почти с материнской заботой, которую Яна почувствовала всем телом. — Прежде чем пойдём к главному врачу доктору Панкратцу, я должна вас предупредить: в моём доме я не потерплю никаких любовных интрижек.
Она сказала «мой дом», тем самым дав понять, что от неё ничего не скроешь. Яна послушно кивнула.
— Со мной этого не произойдёт, старшая сестра.
— Ах, господи, вы все так говорите. Я обручена, я не ищу мимолётных приключений, чтобы об этом потом пожалеть, и так далее, и тому подобное. А когда попадаете в руки доктора Филиппа, обо всём забываете.
— Вы предупреждаете меня о докторе Филиппе?
— И о нём тоже. Это для примера. Все мужчины сходят с ума, увидев девушку вроде вас.
— Старшая сестра, вы можете обращаться ко мне на «ты».
Это был ловкий ход. Фрида посмотрела Яне в глаза и сразу заулыбалась.
— Твои родители ещё живы? — спросила она.
— Нет. Мама умерла в 1938-м от рака, а отец… — Яне удалось изобразить печаль. — Отец… пропал во Франции. Но я чувствую, что он не вернётся. Я чувствую.
— Ты умеешь печатать на машинке?
— Очень плохо, старшая сестра.
— Этому можно научиться. Всему можно научиться, если захочешь и есть немного смекалки. Будешь учиться печатать на машинке.
— Слушаюсь, старшая сестра.
— Прямо сейчас. Здесь, у меня. — Фрида показала на массивную пишущую машинку фирмы «Адлер» с широкой кареткой. — Надо упражняться и упражняться! — «Танк» ещё раз посмотрела на Яну почти по-матерински и ткнула пальцем в машинку. — Садись туда, дитя моё, и начинай.
— Но… старшая сестра… — Яна села за машинку и беспомощно уставилась на клавиши. — Я только два раза… двумя пальцами… только чтобы доставить удовольствие папе…
— Ерунда! Каждый может печатать на машинке! Сегодня двумя пальцами, завтра четырьмя, через месяц всеми десятью. Упражняться… упражняться… — Фрида Вильгельми одобрительно кивнула Яне. А потом сказала то, отчего положение Яны полностью переменилось. — Я передумала направлять тебя в отделение. В хирургии достаточно помощников и сестёр. Ты останешься у меня и займёшься всей писаниной. Раньше этим занималась девушка из секретариата. Она будет тебе помогать, пока ты не сможешь работать самостоятельно. Согласна, дитя моё?
— Конечно, старшая сестра.
— Вставь лист бумаги и начнём — Фрида подождала, пока Яна вставит бумагу, и начала медленно диктовать: — Докладная записка. Для больничной аптеки. Установлено, что в отделениях номер два, шесть и семь недостаточно игл и шприцов. Во время стерилизации для использования остаётся очень малое количество. Несмотря на просьбы отделений, до настоящего времени ничего не сделано. Немедленно доставьте новые шприцы, в противном случае невозможно гарантировать должное лечение пациентов. Фрида Вильгельми.
Яна продвигалась с трудом, делала опечатки на каждом третьем слове, нервно искала букву за буквой, начинала слова то с большой, то с маленькой буквы, а после того, как Фрида закончила диктовать, безвольно опустила руки на колени. Она выглядела так, как будто вот-вот расплачется.
Фрида поднялась, заглянула Яне через плечо и буркнула:
— По крайней мере, прочитать можно. А теперь, дитя моё, напечатай ещё раз начисто. Вот увидишь, завтра выйдет лучше.
— Хорошо, старшая сестра. — Яна выдернула лист из машинки. — Позвольте мне упражняться здесь, в вашей комнате… во внеслужебное время? Я… я не хочу вас разочаровывать.
— Конечно, тренируйся.
Похоже, дверь к сердцу Фриды Вильгельми стала приоткрываться. Мощной и тяжёлой рукой она погладила Яну по голове, хмыкнула и вернулась за стол. — Можешь спать не в общежитии для сестёр, а в соседней комнате. Это нечто вроде склада, там есть ванная.
— Спасибо, старшая сестра, — послушно произнесла Яна. Комната без посторонних глаз, подумалось ей. Не надо работать в хирургии. Скоро все будут знать, что я работаю у старшей сестры. Может, будут мне завидовать, но тень от её авторитета будет падать и на меня. Никто не сможет меня контролировать. Я буду находиться под её защитой. Господи, ты мне действительно помог.
***
Во втором хирургическом отделении царило напряженное ожидание. После того как Яна покинула администрацию, рыжий позвонил в хирургию и попросил позвать доктора Филиппа. Доктор Ганс Филипп, выглядевший моложе своих двадцати восьми лет, с русыми волосами и спортивной фигурой, как на фото в журналах — именно таких рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер хотел вывести как новую немецкую расу по специальной программе Лебенсборн, «Источник жизни» — был любимчиком госпиталя. Его приключения переходили все границы. Не только сёстры из хирургии, у которых блестели глаза от одного его взгляда, но и из терапии, гинекологии, педиатрии проклинали и ненавидели его, но втайне были влюблены. Старший врач из отделения рентгенологии один раз ударил Филиппа, коллега из гинекологии пошёл ещё дальше и вызвал его на дуэль на пистолетах, которая должна была состояться на песке Куршской косы. Но дуэли в третьем рейхе были запрещены, как и студенческие дуэли на саблях, а все студенческие объединения, одобряющие поединки распустили. Так что стычка между врачами не состоялась. На предложение провести дуэль тайно доктор Филипп отмахнулся:
— Если меня и ранят, то только на фронте! А не из-за какой-то девчонки!
Доктор Филипп, занимающий должность младшего врача, с интересом выслушал сообщение рыжего.
— Что она собой представляет? — бодро спросил он. — Картинка, говорите? Чёрные волосы и такие же глаза? И кое-что приличное под блузкой? Прибыла с фронта под Ленинградом? Спасибо, Роберт… Значит, малышка имеет опыт ближнего боя. Она сейчас у Фриды? Спасибо за намёк. Вдобавок я получу и звание убийцы дракона.
Главврач хирургии, капитан медслужбы доктор Панкратц, в больнице отсутствовал. Он оперировал весь предыдущий день до полуночи. Прибыл военно-санитарный поезд, и девять санитарных машин привезли тяжелораненых, половине пришлось оказать срочную помощь. Они прибыли с Ленинградского и Волховского фронтов без промежуточных остановок, с пропитанными кровью бинтами, гноящимися ранами, высокой температурой. Девять машин с истерзанными телами.
В ожидании новенькой доктор Филипп сварил крепкий кофе, разложил на столе шоколадное печенье и достал из книжного шкафа бутылку данцигской водки «Золотая вода». У него был богатый опыт. От сочетания кофе, шоколадного печенья и «Золотой воды» у девушек открывается не только сердце…
Он прождал целый час, сделал круг по отделению и посетил трёх тяжелобольных, мимоходом ущипнул сестру Ангелику за задницу и позвонил от нетерпения в администрацию по внутреннему номеру 009. Рыжий — это был его номер — сильно удивился.
— Что? Она ещё не у вас? Ничего не понимаю. Может, она заблудилась?
— На целый час?
— Спросите тогда Фриду, доктор Филипп.
— Лучше я воздержусь. Вы когда-нибудь будили спящего льва?
— Нет.
Доктор Филлип подождал ещё час, посчитал всё это странным и вызывающим недоумение и совершил геройский поступок: направился в администрацию и к старшей сестре Фриде Вильгельми. Надо ведь выяснить, куда пропала новая сотрудница.
Рыжий в администрации ничего не знал, симпатичную медсестру больше не видел и тоже посчитал странным её исчезновение.
— Может быть, малышка не смогла обойти скалу Фриды, — осторожно предположил он. — Достаточно одной глупой фразы, и всё, конец.
— Разве не позор, что мы с этим смирились?
— Вот и измените положение, герр доктор, — смущённо улыбнулся рыжий. — Попробуйте. Во Франции во время танковой атаки я стоял в окопе и не боялся. Дожидался удобного момента, выскакивал, снимал магнитную мину с предохранителя, крепил ее к танку и снова прятался в укрытии. Танк взрывался. Но когда в дверь входит Фрида, у меня сердце колотится как бешеное.
Доктор Филипп приказал себе не трусить и отправился в кабинет старшей медсестры. Он постучал в дверь и вошёл. Фрида Вильгельми восседала за письменным столом, читала какой-то документ и бросила пронизывающий взгляд на врача. Рядом за пишущей машинкой сидела молодая черноволосая медсестра в форме Красного Креста и перепечатывала что-то двумя пальцами с черновика.
Это она, сразу определил доктор Филипп. Точно как описал Роберт. Самая красивая из тех, кого я видел до сих пор. Жемчужина, а не девушка. Что она делает здесь, у Фриды, за пишущей машинкой? Его юное лицо, обрамлённое русыми волосами, засияло. Зигфрид, сияющий герой, бесстрашно шагнул ближе.
— Что случилось? — спросила Фрида и убрала документ.
Яна с удивлением посмотрела на нее. Голос совершенно изменился, вместо тёплого и материнского стал холодным и пронизывающим, как ветер в тоннеле. Похоже, доктору Филиппу этот тон был знаком. Он остановился.
— Старшая сестра, в хирургию сообщили о новой сотруднице. Но она до сих пор не появилась. Что-то не так? — спросил доктор Филипп.
— Я изменила решение. Это всё.
— Было бы хорошо, если бы об этом узнали в хирургии.
— Доктор Панкратц на месте?
— Нет.
— Тогда закройте рот! — Слова прозвучали, как пушечный выстрел, а для доктора Филиппа — как звонкая пощёчина. Красавица-медсестра оторвала взгляд от пишущей машинки. Их взгляды встретились только на секунду, но этого хватило, чтобы доктор Филипп почувствовал дрожь. — Я доложу об этом главврачу.
— Старшая сестра…
— Что вам ещё надо?!
Каждое слово звучало как удар. Каждый звук доктор Филипп воспринимал болезненно. Ему хотелось ответить резко, но что это изменит? Против этой глыбы, осознающей свою власть, выступать бесполезно. Доктор Панкратц попытался в начале своей деятельности. В результате Фрида Вильгельми перестала замечать хирургию и распределяла сестёр в терапию и гинекологию, не обращая внимания на его протесты. Это продолжалось довольно долго, пока доктор Панкратц не пришёл к Фриде с извинениями. Фрида приняла скрытую капитуляцию, и режим работы хирургии вернулся в норму.
— Позвольте спросить, можно ли решить вопрос с новой сотрудницей в ближайшее время? — произнёс доктор Филипп сдавленным тоном. Он с трудом сдерживал ярость после такого унижения.
— Нет! Можете на это не рассчитывать. Вы разве не слышали? Я изменила своё решение.
Этим она дала понять доктору Филиппу, что разговор окончен. Он повернулся, бросил взгляд на Яну, которая смотрела на него большими чёрными глазами и, не попрощавшись, вышел. Замок громко щелкнул, как будто доктор не удержал дверь.
— Грубиян! — громко сказала Фрида.
Доктор Филипп был уже в коридоре и этого не слышал.
— Кто это был? — спросила Яна и смущённо улыбнулась. Теперь она понимала, что имел в виду санитар Блудеккер, когда говорил о том, что в больнице все боятся Фриду Вильгельми.
— Доктор Филипп. Пользуется дурной славой. Этот тип живёт иллюзией, что мужчина — венец творения. — Фрида снова занялась бумагами. — Упражняйся дальше, дитя моё. Не думай о нём. А когда он начнёт на тебя охотиться, сразу скажи мне. Ни одна юбка не может перед ним устоять.
Яна кивнула и продолжила печатать, искать буквы, с трудом набирая текст упражнения. Она понимала исходящую от доктора Филиппа опасность. Отныне он будет ее обхаживать, следить за ней и преследовать. С сегодняшнего дня она в безопасности только рядом с Фридой Вильгельми. Теперь всё зависит от неожиданных материнских чувств и загадочной расположенности старшей медсестры Вильгельми. Это дверь, через которую можно проникнуть в тёплую и укромную пещеру, чтобы выжить.
Теперь в соседней комнате у неё есть кровать, шкаф, стул, стол и торшер. Она не будет голодать и мерзнуть зимой, и у неё есть заступница. Если ничего не изменится, то можно дождаться окончания войны.
Через несколько дней она может увидеться с Михаилом Игоревичем. Сейчас он в замке, рядом со своей Янтарной комнатой, верный клятве, которую дали королю его предки — где Янтарная комната, там и Вахтеры.
Господи, позволь Николаю выжить в Ленинграде. Мы тоже должны произвести на свет сына. Пока существует Янтарная комната, рядом с ней должен находиться Вахтер.
Голос Фриды вывел её из задумчивости.
— О чём ты задумалась, дитя?
— Мне не понравился доктор Филипп, старшая медсестра.
— Повторяй это себе постоянно. — Фрида Вильгельми посмотрела на настенные часы. Близился обед, важное время для неё и всего персонала в больнице. — И не думай больше о нём… Он и правда не заслуживает внимания.
***
Уже на следующий день в десять утра состоялось первое совещание между гауляйтером Кохом, доктором Финдлингом, доктором Руннефельдтом и доктором Волтерсом. Как всегда присутствовал и Бруно Велленшлаг, он сидел за столом и молча слушал. Свидетель, которого Кох привлекал сознательно, чтобы застраховаться перед Гитлером, Борманом, фон Риббентропом и Розенбергом. Правда, со штаб-квартирой фюрера было достигнуто соглашение, что Янтарная комната останется в Кёнигсберге, но достаточно одного намёка Бормана, и её увезут.
Доктор Финдлинг прибыл на совещание бледный и явно усталый. Растительное масло погасило изжогу и тошноту, но тяжесть в голове не прошла. Остальные выглядели так же, кроме Коха, который был бодр и свеж, как будто пил только воду и проспал больше двенадцати часов. Он переночевал в своей квартире в замке и не поехал на роскошную виллу, вызывающую негодование населения. Конечно, безмолвное, сдержанное негодование, иначе Кох расценил бы его как вызов и немедленно принял самые жёсткие меры. «Король Восточной Пруссии» не терпел возражений.
Кох открыл совещание с принципиального вопроса к доктору Финдлингу:
— Сколько времени вам понадобится, чтобы смонтировать Янтарную комнату в замке, доктор Финдлинг?
— От пяти до шести месяцев, герр гауляйтер! — сразу ответил тот.
Он был готов к этому вопросу и предвидел реакцию Коха. Поэтому он не удивился, когда Кох уставился на него, и не уступил, даже когда Кох заорал:
— Да вы сошли с ума?! Шесть месяцев?! Я даю вам шесть недель.
— Это невозможно.
— Нет ничего невозможного! Доктор Руннефельдт, сколько времени длился демонтаж в Пушкине?
— Шесть дней.
Доктор Руннефельдт бросил ободряющий взгляд на доктора Финдлинга.
— А вы, Финдлинг, болтаете о шести месяцах? — в ярости завопил Кох. — До сих пор не протрезвели?!
— Я должен согласиться с моим коллегой доктором Финдлингом. — Доктор Руннефельдт не боялся Коха, поскольку он выполнял поручение Гитлера, Бормана и министра иностранных дел, гневные взгляды Коха его не смущали. — Разбирать значительно проще, чем собирать. За несколько часов можно разрушить дом, а новый не построишь. Это я к тому, что панели не так-то просто установить. Комнату нужно воссоздать очень тщательно. Панель к панели, фигурка к фигурке. И нужно исследовать и внести в каталог каждую деталь. Над комнатой работали мастера различных эпох, от резчика по янтарю Готфрида Волфрама и данцигских мастеров Эрнста Шахта и Готфрида Турова в 1707 году, до Растрелли в 1760 году в Царском селе, когда комнату установили там при императрице Елизавете. А с 1763 года над янтарными панелями работали пять резчиков по янтарю из Кёнигсберга, Фридрих и Иоганн Роггенбух, Клеменц, Генрих Вильгельм Фридрих и Иоганн Вельпендорфы. Мы должны зарегистрировать каждый предмет, прежде чем начнём снова собирать Янтарную комнату.
— Наши суперспециалисты! — Кох почесал нос и погладил усы. — А вы что скажете по этому поводу, доктор Волтерс?
— Я соглашусь с предложением коллеги, господин гауляйтер, — осторожно ответил ротмистр. — Я вижу в нем единственную возможность досконально исследовать Янтарную комнату и дать ее художественно-историческую оценку.
— Иметь дело с учеными — сущее наказание! — Кох снова обратился к доктору Финдлингу: — Все работы нужно закончить как можно скорее. Иначе мы успеем победить, прежде чем установим в замке Янтарную комнату. Вы же знаете, что комнату могли отправить в Линц, в Австрию. Я добивался, чтобы это единственное в своём роде сокровище осталось здесь, в замке… навсегда! Если она останется разобранной, её будет легче вывезти, а если ее уже установят, то побоятся разбирать и снова повредить. Поторопитесь, доктор Финдлинг. А кто вырезал фигурку — мастер Такой или мастер Сякой, это без разницы!
— Но не для науки, господин гауляйтер, — смело заявил доктор Руннефельдт.
— Говорю же, вы, учёные, сущее наказание. — Кох треснул кулаком по столу, так что задрожали кофейные чашки, принесенные ординарцем. — Когда я смогу хотя бы взглянуть на янтарные панели? Это мне позволено?
— Мы откроем один ящик и вытащим одну панель. Правда, пока положим ее на пол, господин гауляйтер.
— Как вам угодно. — Кох резко поднялся.
Первое совещание по Янтарной комнате на этом было закончено. Остальные тоже вскочили.
— Когда? — спросил Кох.
— Я постараюсь сегодня после обеда.
— Постарайтесь, доктор Финдлинг. — В голосе Коха прозвучала грубая насмешка. — Куда мне прийти?
— Я предлагаю одну панель разложить на полу тридцать седьмой комнаты, где мы будем устанавливать Янтарную комнату.
— И когда мне приходить?
— Я сообщу вам, господин гауляйтер.
— Ну ладно! — Кох подошёл к двери в сопровождении своей тени, Бруно Велленшлага. — Не забудьте, что в семь вечера я ужинаю…
Он вышел. Как только дверь за ним закрылась, все облегчённо вздохнули. Доктор Руннефельдт посмотрел на доктора Финдлинга — тот побледнел и прислонился к краю стола. Доктор Волтерс жевал нижнюю губу.
— Непросто вам теперь придётся! — сказал Руннефельдт. — Конечно, вы правы но вы не боитесь его мести?
— Стоило выразиться дипломатичнее, а не так откровенно, — вставил доктор Волтерс. — Мы ведь знаем, какой гауляйтер обидчивый. Этот разговор будет иметь последствия, доктор Финдлинг.
— Речь не обо мне, а о Янтарной комнате. — Финдлинг отошёл от стола. — Даже гауляйтер должен научиться терпению, когда имеет дело с таким произведением искусства. — Он подошёл к окну и посмотрел во двор замка на восемнадцать грузовиков под охраной пяти солдат. — Вы долго здесь пробудите, коллеги?
— Послезавтра мне надо вернуться в Ригу, — ответил доктор Волтерс. — Предполагаю, что придется еще съездить в Павловск. Там только что приступили к учёту ценностей дворца.
В это время Кох остановился на широкой лестничной клетке и ткнул пальцем в грудь Велленшлагу.
— Ты это слышал, Бруно? Учёные мальчики вздумали мне указывать!
— Какая наглость, гауляйтер. — Велленшлаг лучше всех знал характер Коха и понимал его душевное состояние. — Но…
— Что но? Этот Финдлинг у меня еще будет скакать, как лягушка! А ты будешь охотится на него, как аист!
— Откровенно говоря, его не в чем упрекнуть, гауляйтер.
— Не болтай чепухи, Бруно. — Кох двинулся дальше. — Ты кое-что смыслишь в пьянках, но ничего в управлении людьми. Этот Финдлинг — такой же лакей, как и все вокруг. А лакей должен делать то, что приказано, и молчать в тряпочку.
Внезапно он остановился. По лестнице навстречу поднимался пожилой мужчина, которого Кох уже где-то видел. Он попытался вспомнить, но безрезультатно. Мужчина в поношенном костюме приближался. Что делает этот человек в запретной зоне?
Мужчина на секунду замешкался и поднял правую руку в нацистском приветствии.
— Хайль Гитлер, господин гауляйтер! — произнёс он, но прозвучало это не очень натурально.
— Кто вы? — спросил Кох, не ответив на приветствие. — Откуда я вас знаю? Мы где-то уже встречались…
— Сегодня в час ночи, господин гауляйтер. Меня зовут Михаил Вахтер. Я прибыл сюда вместе с Янтарной комнатой.
— Хранитель! — воскликнул Велленшлаг. — Музейный работник из Пушкина, гауляйтер. С родословной в двести двадцать пять лет.
— Точно! — Кох шагнул ближе и пристально посмотрел на Вахтера. — Вы из тех немногих, кто знает Янтарную комнату, как свои пять пальцев?
— Возможно, даже единственный, господин гауляйтер. Я знаю каждый фрагмент мозаики, потому что вырос в этой комнате, она часть моей жизни.
— Пойдёмте со мной! — повелительно махнул Кох. — Давайте это обсудим. Какие у вас планы?
— Планы? — не понял Вахтер.
— Комната теперь останется здесь… Чем вы хотите заняться? Вам же надо где-то работать.
— Я думал, господин гауляйтер, что мог бы пригодиться. Как раньше…в качестве хранителя Янтарной комнаты. Как работник музея. Нет никого, кто-бы…
— Я знаю. Знаю! Янтарная комната заменила вам молоко матери.
— Почти так, господин гауляйтер.
— Как думаете, сколько потребуется времени, чтобы восстановить комнату здесь, в замке?
— Несколько месяцев.
— И этот туда же, Бруно! — Кох кивнул в сторону лестницы. — Пойдёмте, Вахтер. У меня есть к вам несколько вопросов. Я подумаю над тем, чтобы принять вас на работу в качестве хранителя. Мне нужен достойный доверия человек.
— Спасибо, гсподин гауляйтер. — Вахтер сглотнул. К горлу подступил комок, дыхание перехватило. — Для меня будет большой честью работать в замке.
Они вошли в просторный зал, вдоль стен стояли рыцарские доспехи, а в центре — стеклянная витрина со старинным оружием. Короткие мечи, булавы, алебарды. В левом углу находился диван с креслами, выглядевший чужеродным предметом в средневековом окружении.
Кох сел и пригласил Вахтера сесть рядом.
— Почему русские не заставили вас отказаться от немецкого подданства? — начал он разговор, больше похожий на допрос. — Почему хранителями Янтарной комнаты стали именно немцы?
— Так говорилось в договоре 1716 года, господин гауляйтер.
Вахтер был начеку. Он тщательно обдумывал каждое слово, прежде чем его произнести. Любая ошибка, малейшая невнимательность могут означать конец, это он прекрасно понимал.
— 1716 года… — Кох откинулся на спинку, сложил руки на животе и опять пристально посмотрел на Вахтера. — Сталин тоже придерживался этого договора?
— Все придерживались, господин гауляйтер. Все цари и царицы, а также Керенский, Ленин и Сталин.
— А теперь вы ждёте того же от фюрера…
— От вас, господин гауляйтер. Фюреру безразлично, кто будет смотреть за Янтарной комнатой. Пока она находится в Кёнигсберге, ответственность за неё лежит на вас.
— Она останется в Кёнигсберге навсегда! — воскликнул Кох.
Этот человек, как там его… Вахтер, произвёл на него хорошее впечатление. Прежде всего он мог стать его глазами, присматривать за доктором Финдлингом и обо всём докладывать. С Янтарной комнатой не произойдет ничего без участия Вахтера. Это и впрямь нужный человек.
— Где вы жили в Пушкине, Вахтер?
— В Екатерининском дворце, недалеко от Янтарной комнаты.
— Здесь будет так же. Вы получите квартиру в замке.
— Это значит, что я… Господин гауляйтер, я могу остаться? Я должен и дальше заботиться о комнате? Я…
Кох кивнул. Ему было неприятно смотреть на слёзы, неожиданно выступившие на глазах у этого человека. Он считал это недостойным мужчины, хотя сам довёл его до этого.
— Возьмите себя в руки! — грубо, без всякого сочувствия, сказал Кох. — И обо всем мне докладывайте. У вас есть семья?
— Моя жена уже давно умерла.
— Детей нет?
— Только сын. Его звали Николаус. Он погиб в аварии. Разбился на мотоцикле, господин гауляйтер. Перелом черепа.
— Гнал, как дурак, да?
— Как вся молодёжь, — Вахтер пожал плечами. — Хорошо, что его мать этого не видела. Я возлагал на него большие надежды. Теперь вместе со мной умрёт фамилия Вахтер.
— Сколько вам лет, Вахтер?
— Пятьдесят пять, господин гауляйтер.
— На десять лет старше меня! Вахтер, это ещё не старческий возраст. Можно ещё произвести на свет сына… с молодой, темпераментной женой! Подумайте над этим. Мужчина всегда может…Смелее! — Кох засмеялся. Когда разговор касался его любимой темы, он становился дружелюбным. — Вы же не хотите, чтобы цепь преемственности длиной в двести двадцать пять лет прервалась? В мужчинах заключено бессмертие Германии. Оглянитесь вокруг, Вахтер, Кёнигсберг кишит одинокими, голодными женщинами.
— Я подумаю над этим, герр гауляйтер.
Кох положил ногу на ногу и снял фуражку. Вахтер насторожился. «Значит допрос не закончен, — подумал он. — Так быстро Коха не убедить».
— Расскажите мне что-нибудь из истории Янтарной комнаты, — попросил тот уже не приказным тоном.
— Это займёт несколько дней, герр гауляйтер.
— Ну и что? У нас есть время. Сейчас час… а завтра продолжим. Например, что сказал Ленин, когда впервые увидел комнату?
— Что она построена на горбах трудящихся!
— Это на него похоже! — Кох раскатисто засмеялся. — Продолжайте, мой дорогой Вахтер. Продолжайте.
***
Через три дня Яна научилась довольно бегло печатать двумя пальцами. Правда, она тренировалась непрерывно, по десять часов просиживая за пишущей машинкой, и запомнила расположение букв на клавишах. Она сразу попробовала печатать с закрытыми глазами, но ничего не вышло. Вечером третьего дня она нарисовала на большом листе картона клавиши машинки. Фрида Вильгельми ознакомилась с рисунком, когда вернулась после обхода. Как обычно, это вызвало немалый шум. Трубный голос Фриды раздавался во всех коридорах, несколько сестёр с плачем убежали. Она считала, что для пользы дела иногда надо поддавать пару. Для работы машины требуется пар. Без пара всё остановится.
— Для чего это, дитя? — спросила она и отложила картонку в сторону. — Тебе так легче будет запомнить буквы?
— Нет, но так я смогу везде тренироваться.
— Умница — Фрида посмотрела на Яну почти с нежностью. — У тебя нет желания прогуляться на свежем воздухе?
— Идёт дождь, старшая сестра.
— Как ты смотришь на то, чтобы сходить в кино? В «Уфа-Паласт» идет фильм с Сарой Леандер. Он называется «Путь к свободе». А в «Тифоли» — «Еврей Зюсс»… Тебе надо обязательно посмотреть, дитя моё.
— Если мне можно…
— Конечно, тебе можно. Ты же не в тюрьме. Вне рабочего времени можешь делать всё, что пожелаешь. Само собой, в рамках приличия и морали.
— Я бы охотно посетила музей в замке, старшая сестра. — При этом Яна смотрела на пишущую машинку, чтобы Фрида Вильгельми ни о чём не догадалась. — Мне нравятся картины и скульптуры. На фронте во время своего кратковременного отпуска я сразу поехала и осмотрела замок в Петергофе. Я была по-настоящему поражена.
— Так посети и здешний музей, дитя моё.
— Он открыт только днем, когда я занята.
— Это верно. — Фрида ненадолго задумалась. — Завтра я даю тебе свободный день.
— Правда, старшая сестра? Ох, спасибо… спасибо…
Она хотела вскочить и обнять Фриду, но снова опустилась на стул и потёрла глаза.
— Только не вой! — сказала грубо Фрида, но не прежним трубным тоном. — Тебе полагается один свободный день. Сходи завтра в музей, а потом расскажешь, на что там стоит посмотреть. Я бы пошла с тобой, но я не могу покинуть больницу. А послезавтра вечером мы посмотрим на Сару Леандер.
В эту ночь Яну потревожили. Сквозь сон она услышала стук, и ей сразу пришла мысль: «Как хорошо, что я закрыла дверь на ключ».
Еще не зная, кто стучит, она уже догадалась, кто у двери.
— Да? — крикнула она, подражая Фриде. В коридоре за дверью кто-то закашлял. Потом приглушённый голос произнёс:
— Откройте. Пожалуйста…
— Кто это? — спросила она, хотя уже обо всем догадалась.
— Ганс…
— Я не знаю никакого Ганса.
— Ганс Филипп.
— Ах, это вы, герр доктор? Что-то случилось? Но я не работаю ни в одном отделении, вы же знаете.
— Да, случилось, сестра. Откройте дверь.
— Нет.
— Не ломайтесь.
— Я же дева.
— Что, простите?
— Я Дева по зодиаку.
— Да вы с юмором! Это мне нравится. Нам надо познакомиться поближе, не через дверь.
— Не думаю, что в этом есть необходимость.
— Я мог бы вас убедить, если вы меня впустите.
— Даже тогда вы меня не смогли бы меня убедить.
— Это зависит от опыта, сестра Яна. Редко можно наткнуться на то, с чем никогда не сталкивался.
— Я как раз принадлежу к такой редкости, герр доктор. Пожалуйста, дайте мне поспать. А почему вы в это время в больнице?
— У меня ночное дежурство. Откройте же. Я принёс две бутылки пива.
— Писсолина?
Молчание. Доктор Филипп озадаченно моргал глазами. Что это? — спрашивал он себя. Неприступная малышка и вдруг такое слово. Да она себе на уме. И уж точно не недотрога. Просто играет, как кошка с мышкой.
— Девочка, — сказал он и прижался губами к дверной щели. — Ты чертовски хороша. Поверни ключик…
— Нет. Спокойной ночи, герр доктор.
Яна опять легла и укрылась одеялом с головой. Она больше ничего не слышала и не знала, как долго доктор Филипп дёргал ручку двери, уговаривал, умолял и заманивал. В конце концов он сдался, первый раз не соблазнив женщину. Для него это было совершенно неизвестное чувство и он, полный разочарования, пошёл в свой кабинет в хирургии. «Ну, ладно. Сегодня не получилось, — подумал он. — Еще есть время. Когда-нибудь и получится. Кто там дежурит ночью? Сестра Вероника. Врони. С кругленькой задницей. Лучше, чем ничего».
Он засунул пиво в карманы халата и пошёл в третье отделение, в палату пробуждения после наркоза.
— Привет, Врони, — сказал он упитанной девушке, наклонился к ней, поцеловал и потискал за грудь.
— Давай устроимся поудобнее. Чтобы не заскучать ночью.
И сестра Врони расстегнула халат.
Около десяти часов утра Яна вошла в музей замка Кёнигсберга. Она купила билет, но не осмелилась спросить, где хотят установить Янтарную комнату. Никто, кроме нескольких посвященных, не знал о прибытии этого сокровища. Кассирша, продающая билеты, наверняка вообще ничего не знала.
Чтобы не бросаться в глаза, Яна переходила из зала в зал, останавливалась около некоторых картин, поднялась на второй этаж, но нигде не заметила пустого зала или деятельности, указывающей на распаковку Янтарной комнаты.
Когда она решила подняться на третий этаж, дорогу перегородила толстая верёвка с табличкой «Закрыто». А на лестнице была прикреплена табличка: «Проход закрыт».
Яна остановилась и внимательно прислушалась. Комната точно там. Там должен быть и Михаил Игоревич. Что он скажет, когда неожиданно ее увидит? Она услышала удары молотка, обрывки речи, потом что-то проволокли по полу, и ясный голос произнёс:
— Карл, помоги! Осторожно, дурень! А сейчас подними повыше!
Яна приподняла верёвку, пролезла под ней и стала подниматься по лестнице. В углу широкого коридора она услышала отчётливые удары молотка. Двое мужчин у бокового прохода повернулись и посмотрели на медсестру Красного креста.
— Как вы сюда проникли, сестра? — спросил один из них. — Сейчас здесь не на что смотреть.
— Там внизу разве нет таблички? — спросил второй.
— Я здесь по службе. В больницу поступил звонок. Я не знаю, что здесь случилось.
— Наверное, кто-нибудь придавил себе палец этим чёртовым ящиком, — весело произнёс первый.
— Надо надеяться, ничего серьезнее не произошло, — засмеялся второй. Он махнул в боковой коридор. — Можете идти, сестра. И осторожней с пальцем...
Громко рассмеявшись, они скрылись в одной из комнат. Яна на мгновение замешкалась, потом поджала губы и пошла дальше. Перед широкой дверью, где висела табличка с цифрой тридцать семь, она остановилась. Из-за двери раздавалось стаккато молотков и гул голосов. Яна собралась с духом, открыла дверь и вошла в большой пустой зал.
На паркетном полу лежала сложенная панель Янтарной комнаты, два человека в офицерской форме рассматривали ангела из янтаря, которого один из них держал на вытянутых руках, за их спиной трое забивали крюки в голую стену, а четвёртый с чертежом в руках размечал толстым карандашом новые отверстия.
Около лежащей на полу панели на коленях стоял Михаил Вахтер и исследовал с большой лупой в руке мозаику из отполированного и сверкающего янтаря.
Первым обратил внимание на Яну доктор Руннефельдт. Он с удивлением перевёл взгляд с ангела на неё. Доктор Финдлинг заметил это и обернулся. Он тоже удивился.
— Вы заблудились, сестра, — вежливо сказал доктор Руннефельдт.
— Не понимаю. Кто-то позвонил в больницу и сообщил, что здесь произошёл несчастный случай. — Присутствие духа у неё было исключительное. При этом она посмотрела на панель, около которой стоял на коленях Вахтер. Я здесь, Михаил Игоревич! Не надо обо мне беспокоиться. У меня всё хорошо.
Уже при первых её словах Вахтер вздрогнул, хотел обернуться и вскочить, но, оценив ситуацию, остался стоять на коленях и только втянул голову в плечи. Яна, это Яночка… это её голос. Яна тоже в Кёнигсберге.
Медленно, не теряя самообладания, он обернулся. Когда Яна посмотрела на него, ему пришлось взять себя в руки и удержаться от желания ее обнять. Моя доченька. Господи, моя доченька. Мы опять вместе. Как у тебя дела? Где ты спряталась? Откуда ты узнала, что я в замке? Он поднялся с колен, отряхнул пыль с брюк и прижал обе руки к сердцу. Доченька, я приветствую тебя.
Тем временем доктор Руннефельдт покачал головой.
— Несчастный случай? Здесь, у нас? Я ничего не знаю. А вы, доктор Финдлинг?
— Нет. Здесь никто не пострадал. Может быть, внизу, у машин?
— Мы ничего такого не знаем. — Доктор Руннефельдт подошёл ближе к Яне. В его голосе прозвучало сожаление. — Видимо, кто-то глупо пошутил, сестра.
Вдруг в его глазах вспыхнуло удивление. Слегка наклонив голову, он снова внимательно посмотрел на Яну.
— Мы не знакомы?
— Нет. Точно нет.
— Мы раньше нигде не встречались? До сих пор я никогда не ошибался. У меня хорошая память на лица. Где-то я вас видел…
— Может быть, на фронте? Я работала на главном перевязочном пункте. Под Ленинградом. — Она произнесла это так уверенно, что ни у кого не могло возникнуть сомнений. — Вы были на фронте?
— Нет. Я первый раз в жизни ошибаюсь. Извините, сестра. Моя фамилия Руннефельдт.
— Финдлинг, — с лёгким поклоном представился доктор Финдлинг. — Как уже было сказано, здесь не происходило никакого несчастного случая.
— Это действительно была чья-то плохая шутка. — Она бросила быстрый взгляд на Вахтера и прижала к себе сумку. — Как теперь мне выйти отсюда? В этом замке можно точно заблудиться.
— Нет проблема, сестра. — Вахтер шагул вперёд, но смотрел больше на доктора Руннефельдта, чем на Яну. — Я покажу вам дорогу. Пойдёмте.
— Спасибо. Простите за вторжение, но я в этом не виновата. — Она повернулась и вышла из зала, следуя за Вахтером. В коридоре они остались одни. Вахтер быстро взял её за руку, потянул в зал с картинами Либермана и Паулы Модерзон-Беккер, и со всхлипом обнял.
— Доченька… — запинаясь произнёс он. — Ох, доченька. Теперь все трудности позади Где ты живёшь? Где укрылась? Проголодалась? У тебя есть деньги? У тебя новое платье. Откуда ты его взяла? Ох, доченька, как я счастлив…
Некоторое время они стояли обнявшись, рядом с картинами Либерманна, после первых сбивчивых слов не произнося больше ни звука, и были счастливы. Их разлука длилась всего несколько дней, но путь Михаила Вахтера после расставания лежал в неизвестность и встреча не предвиделась. А теперь они снова вместе, Яна была здесь, в Кёнигсберге, в замке, настоящее чудо, внезапное и безмолвное.
Как только Вахтер перевёл дух, Яна освободилась из его объятий и сказала:
— Михаил Игоревич, я устроилась в хорошем месте. Здесь, в городской больнице. Работаю секретаршей у старшей сестры. Это отличное место. У меня есть комната, я получаю жалование и питание, старшая сестра оберегает меня, как коллекцию икон, я учусь печатать на машинке, могу везде свободно передвигаться, ходить в кино, в театр, в кафе, в рестораны — в общем, живу, как нормальная немецкая бюргерша… Форма медсестры избавляет меня от всякого контроля. Это нормальная форма, не украденная, как первая. У меня есть аусвайс, пропуск, продовольственная карточка, табачная карточка, спецпаёк, — она широко раздвинула руки и повернулась кругом. — Я полноценный человек. А вы, Михаил Игоревич?
— Гауляйтер и директор музея доктор Финдлинг оставили меня при Янтарной комнате. Я буду и о нейи заботиться.
— Значит, ничего не изменилось!
— Только место, доченька. Только место… но эта перемена создаст нам много сложностей. Кто знает, как закончится война?! Здесь все говорят только о победе немцев…
— Но вы ведь тоже немец, Михаил Игоревич.
— Да, верно. Я пруссак, как и мои предки… но я не такой немец, как многие, которые называют себя сейчас немцами. Которые верят в окончательную победу, кричат «хайль», поклоняются Гитлеру, сверхчеловеки, для них все остальные — лишь недочеловеки, и прежде всего вы, славяне, народы, живущие на востоке. Всё это я услышал здесь за последние дни. Доченька, неужели людям не стыдно быть такими?
На короткое мгновение Яна вспомнила про Юлиуса Пашке и покачала головой.
— Но есть и другие, Михаил Игоревич. Возможно, их много. Мы просто мало об этом знаем.
— Однако почти все верят в победу. В уничтожение России. Они стоят под Москвой, под Ленинградом, захватили Крым, двигаются на Кавказ…
— Но скоро наступит зима… об этом они не думают. И перед ними лежит Урал, потом бескрайняя Сибирь, Амур, китайская граница, Камчатка, Владивосток и дальше Тихий океан… Никто, даже немцы, не сможет завоевать Россию. Наша обширная земля — гарантия вечного существования.
— Ты правильно всё говоришь, доченька. Поглядим — увидим, чем порадует нас генерал Мороз.
Им хотелось поговорить о многом, но долгое отсутствие Вахтера показалось бы подозрительным. Он осторожно приоткрыл дверь, высунулся в коридор и только потом вывел Яну из зала Либермана. Проводив её до лестницы, он кивнул ей, подождал, пока спустится, и вернулся в Янтарную комнату.
Доктор Финдлинг, доктор Руннефельдт и доктор Волтерс не обратили внимания на его отсутствие. Они стояли около разложенной на полу настенной панели и сравнивали ее с фото из старого музейного каталога Екатерининского дворца. Лицо доктора Финдлинга выражало растерянность.
— Если все панели выглядят, как эта, — как раз произнёс он, — нас ждут неприятности. Здесь отсутствует верх замыкающего настенного фриза, орнамент между фризом и потолочной росписью, который, конечно, остался в Пушкине. В панелях не хватает многих фрагментов мозаики. Мне это кажется странным. Ведь это всё было в наличии, когда вы демонтировали комнату, господа! Или нет?
— У меня в портфеле ничего нет! — оскорбился доктор Волтерс. — Мы разбирали то, что там имелось.
— Там было всё, что над настенным фризом! Янтарная комната стояла в зале в таком виде. — Доктор Руннефельдт прошёлся вокруг разложенной панели. — Ничего не пропало! Могу поклясться! Нам бы бросилось в глаза… Голые стены на метр высоты! И отсутствие орнаментов между фризом и потолком было бы заметно! Нет, комната выглядела неповрежденной.
— Спросим Вахтера. Если кто и знает, так это он…
Тут как раз вернулся Вахтер и слышал последние слова.
— Они бесчинствовали, как варвары, — громко сказал.
— Кто? — доктор Фндлинг повернулся к Вахтеру, не услышав, как он вошёл.
— Солдаты…
— Мы так и думали. Эта русская солдатня… — Доктор Волтерс сжал кулаки. — Для них нет ничего святого…
— Немецкие солдаты, герр ротмистр, — сказал Вахтер.
Волтерс качнулся, как будто Вахтер подставил ему подножку.
— Какая наглость! — закричал он, побагровев. — Ваши слова можно расценить как подрыв оборонной мощи! За это предусмотрена смертная казнь, если я о них доложу. Если я о них доложу! Немецкий солдат — это носитель культуры, ясно вам?!
— Не очень...
— Вы… вы предатель! — доктор Волтерс задохнулся от возмущения. — Вы обвиняете наши передовые части в вандализме?! Просто слов нет!
— Вам было бы интересно кое-что узнать. — Вахтер не видел предупреждающие жесты доктора Финдлинга и доктора Руннефельдта. Замолчите, Вахтер! Ради всего святого, не говорите больше ничего! Вы не представляете, к чему это приведёт! Если Волтерс разозлится, мы не сможем вам помочь. Никто не сможет… даже сам гауляйтер Кох.
— Какую? — взревел Волтерс. — Сделайте милость!
— Я могу представить вам одного свидетеля, герр ротмистр, которому можно доверять: генерала фон Коррте. Он лично видел, как солдаты бесчинствовали в Янтарной комнате. В грязных сапогах, облепленных комьями глины, они валялись на драгоценной мягкой мебели, штыками ковыряли мозаику и кусками выламывали из стены, чтобы оставить на память или отправить в качестве подарка жёнам, своими сапогами они испоганили бесценный наборный паркет. Я попытался предотвратить вандализм… И что они сделали? Ударили так, что я потерял сознание и чуть не умер, эти мерзавцы…
— Довольно! — вышел из себя Волтерс. — Описывать наших героических солдат, как бандитов… Господа, вы все это слышали! Будете моими свидетелями!
— Мы можем засвидетельствовать, что герр Вахтер, когда мы прибыли в Пушкин, носил на голове повязку. Также от генерала фон Кортте мы узнали о том, что после этого инцидента он приказал освободить Янтарную комнату, и войска разместились в другом месте. — Доктор Руннефельдт пожал плечами. — К сожалению, всё это правда, дорогой коллега… и вы это знаете. Вы тоже там были. Наши солдаты вели себя в Янтарной комнате, как в каменоломне.
— Не приувеличивайте, Руннефельдт! — Доктор Волтерс прошёлся несколько раз вокруг сложенной на полу настенной панели. — Я почти ничего не заметил.
— А я заметил значительно больше. — Вахтер не позволил себя запугать. Он был прав, за плечами у него лежала безупречно прожитая жизнь, и он был честен до конца. — Я находился там, хотел это предотвратить и меня в ответ чуть не убили.
— Наши пехотинцы не могли украсть весь настенный фриз.
— Верно.
— А речь сейчас идёт как раз об этом, а не о нескольких выковыренных камешках. Настенный фриз не был повреждён. Это так?
— Да.
— Тогда закройте рот, Вахтер и не превращайте мелкие проступки в клевету на немецких солдат! Прозвучало так, будто наша доблестная армия представляет собой свору грабителей произведений искусства!
— Нет… это случилось только один раз. Одно подразделение.
— Ну вот! Зачем делать из мухи слона? Нам безразличны ваши стоны…
Волтерс не замечал, что строевым шагом торопится в ловушку. Доктор Финдлинг и доктор Руннефельдт уже распознали двойной смысл слов. Они с интересом посмотрели на Михаила Вахтера, ожидая дальнейших событий, а Руннефельдт затаил дыхание, когда понял, что ротмистр не осознает готовящийся удар.
— Давайте оставим эту тему, господа, — предложил Руннефельдт. — Мы должны довольствоваться тем, что привезли из Пушкина. Кроме того, не все ящики ещё открыты.
— Но это же просто свинство! — возмутился Волтерс. — Из грузовиков ничего не могло пропасть, мы все это подтвердим. Если в Янтарной комнате что-то отсутствует, то эти фрагменты остались в Пушкине. Как такое возможно? Где эти ящики? Или, чтобы было понятнее: кто их украл?
— Если ящики исчезли здесь, то мы этого никогда не узнаем, коллеги. — Доктор Руннефельдт сел на край стоящего у стены открытого ящика. — Мы можем только отметить, что произошло. А после окончательной победы мы восстановим всё исчезнувшее по фотографиям. Задействуем самых известных резчиков по янтарю. Это не проблема… Но что меня раздражает, так это наглая изощрённость, с которой нас обманули!
— Это сделали не простые солдаты, — сказал Вахтер совершенно спокойно. — У них просто не было возможности.
— Увы, мы можем распрощаться с кое-какими важными фрагментами, господа, — вмешался доктор Финдлинг. — Из трёх бесценных дверей, резных и покрытых сусальным золотом пропали две! Прибыла только одна. Почему?
— Чёрт побери! — доктор Волтерс сжал кулаки. — Если сам за каждым винтиком не присмотришь...
— Две огромные двери трудно не заметить, — зло вставил директор музея. — При распаковке отдельных частей я сразу обратил на это внимание. Надо немедленно позвонить в Пушкин.
— Нам вряд ли предоставят линию для частного разговора. — Доктор Руннефельдт покачал головой. — Пушкин расположен в зоне боевых действий, а после приказа фюрера об окружении Ленинграда там проходит передний край линии фронта. Поэтому связь только для военных. Если удастся воспользоваться телефоном, мы должны поговорить с начальником службы снабжения 18-ой армии. Только он может найти эти двери и, возможно, настенные фризы, если они там, и отправить в Кёнигсберг.
— Ну так попробуйте, господа! — доктор Финдлинг обвёл рукой пустой зал. — Иначе как нам заполнить все эти пробелы?
— Гауляйтер должен помочь, — прошептал Руннефельдт.
— Да, гауляйтер. — Вахтер с надеждой кивнул. — Теперь он может показать, действительно ли имеет такую власть, как об этом говорят.
— Кто-нибудь может призвать этого старика к порядку? — раздражённо воскликнул Волтерс. — Теперь он критикует гауляйтера. Послушайте, во всём только ваша вина. Вам велели заботиться о Янтарной комнате еще двести двадцать пять лет назад, как вы сами заявляете! Вы обязаны были заметить пропажу! Почему же не заметили?!
Когда начальник чувствует себя загнанным в угол, он обвиняет подчинённых. Элегантным и всегда безопасным способом он возлагает вину на беззащитных. Клятвы обвиняемых не имеют значения. Прежде чем покатится его собственная голова, ее должны лишиться другие. Жертвенный агнец должен умереть. Но Вахтер не собирался становиться жертвенным животным. Одним предложением он сбросил ротмистра с коня.
— Как я мог это сделать? — спросил он спокойно и с сожалением пожал плечами. — Вы выгоняли меня из Янтарной комнаты десятки раз, пока занимались разборкой, герр ротмистр. Я не мог больше заниматься своим делом...
— Ага! — только и произнёс доктор Финдлинг. Больше ничего, но этого оказалось достаточно, чтобы Волтерс снова взорвался. Он выпрямился, приосанился и бросил уничижительный взгляд на доктора Финдлинга.
— Ваше замечание совершенно излишне! — заорал он. — Я беру на себя ответственность за всё, что произошло в Пушкине! Этого достаточно?!
— В принципе, да. — Доктор Финдлинг покачал головой, что, в сущности, противоречило этому «да». — Но дверей и фризов это не вернет...
Тем временем на лестнице произошла роковая встреча: спускавшаяся вниз Яна наткнулась на поднимавшегося гауляйтера Коха. Она его никогда раньше не видела, но опознала по форме с золотым галуном и описанию внешности. Коренастый мужчина среднего роста смотрел на всё оценивающим холодным взглядом, над его верхней губой топорщились усики, нос с широкими ноздрями. Его широкие брюки-галифе выглядели как крылья и придавали значимость невысокой фигуре. Это наверняка он, мгновенно решила Яна. Уж больно похож.
Кох, как и все люди небольшого роста, стремился компенсировать этот изъян через власть, решительность, грубый приказной тон и жуткую несговорчивость.
Гауляйтер никогда не проигрывал и не капитулировал. Его ужасные и беспощадные методы оправдывали преувеличенную самоуверенность и льстили параноидальному стремлению быть великим, недосягаемым и всегда правым. Его окружению всегда было жарко… все дрожали от страха, а Кох считал это высшим достижением.
Яна и Кох резко остановились на лестнице и посмотрели друг на друга. Гауляйтер оказался на две ступеньки ниже Яны, это был определённый недостаток, ведь смотреть сверху вниз лучше, чем снизу вверх. Эта ситуация была для него непривычна.
— Ого, кто это?! — восторженно воскликнул Кох. Он окинул Яну наглым, раздевающим взглядом, исследовал её фигуру от стройных ног до чёрных волос, вернулся к груди, обтянутой платьем медсестры, и остановился. — Какая чудесная сестричка пришла к нам в замок! Здесь кто-то заболел? Кому понадобилась ваша помощь? Какая мука для пациента… теперь у него появится новая болезнь: повышенное давление и учащённое сердцебиение!
— Ложная тревога, герр гауляйтер. Никто не болен.
— Вы меня знаете? — кокетливо спросил Кох, хотя был уверен, что в Восточной Пруссии его знает каждый. Его нельзя сравнить с другими гауляйтерами: ни с Мучманом в Заксене, ни с Грое в Кёльне, ни с Вагнером в Вестфалии. Они тоже известны, но такой сомнительной популярности, как у Коха, не достигнут никогда.
— Кто же вас не знает, герр гауляйтер? — ответила Яна. Она не стала подходить ближе и осталась на той же ступеньке, глядя на Коха сверху вниз. Он тоже не стал подниматься, его вполне устраивала текущая позиция.
— Даже если, как вы сказали, тревога была ложной, она сделала доброе дело: я встретил вас. Иначе этого никогда бы не случилось… к большому сожалению. Как вас зовут, сестричка?
— Яна Роговская, герр гауляйтер.
— Это звучит по-восточнопрусски.
— Я родилась в Лыке.
— Это в Мазурии?
— Да, герр гауляйтер.
— Яна, быть мазурской девушкой — значит всегда быть верной долгу и обещаниям…
— Как это понимать, герр гауляйтер?
— Мазурская девушка в любви пылкая и ненасытная, рай и ад в одном лице. Ты пылкая, Яна?
Само собой разумеется, он перешёл на «ты» после первых же слов и продолжил нагло и обстоятельно разглядывать её фигуру. При этом он улыбался… это должно было подбадривать, но Яна стала ещё более осторожной. Как ему ответить? Как повели бы себя другие женщины? Если улыбнуться, это можно расценить как согласие. Покачать головой — это спровоцирует его на новые вопросы. С любым другим можно было бы поступить просто — оставить его без ответа и уйти, но можно ли так поступить с гауляйтером? С тираном вроде Коха? Она решила уклониться от прямого ответа.
— Я не знаю, герр Кох, — сказала она и отлично изобразила смущение.
Коху это жеманство очень понравилось. Его раздевающий взгляд стал требовательнее, и Яна буквально почувствовала, как его руки скользят по её коже.
— С тобой так никто не говорил?
— Нет.
— Нужно проверить эту народную примету. Пылкость можно определить только тогда, когда её вызовешь. Не разочаровывай мазуров, Яна. Когда у тебя свободный день?
— Это определяет старшая сестра Вильгельми.
— Глупости! Это определяю я! — Кох поднялся на две ступеньки вверх, но все равно оказался на несколько сантиметров ниже Яны. Это его не удивило — все женщины, побывавшие в его постели, обычно были выше. Да и какое это имеет значение? Среди подушек он был гигантом.
Он попытался обнять Яну за талию, и она, молчаливо защищаясь, отступила вверх по лестнице, что для Коха стало неожиданностью. Большинство женщин, которых он «завоёвывал», считали за честь, если такой мужчина клал руку им грудь, когда прицеплял орден.
— В чём дело? — спросил сердито немного сбитый с толку Кох. Глаза Яны сверкнули, и он ждал объяснений.
— До меня ещё не дотрагивался ни один мужчина, герр гауляйтер, — сказала она почти жалобно.
— Этого не может быть! Ты что, до сих пор жила среди слепых?
— Все вокруг за мной присматривали. Дома — отец и старший брат, в общежитии — заведующая, в больнице — старшая сестра.
— Правда?
Кох подошёл ближе, вытянул вперёд руки, растопырил пальцы и неожиданно прижал их к груди Яны. Она оцепенела и стиснула кулаки, ей нестерпимо захотелось треснуть Коха по широкому носу. Но это, как она ясно понимала, означало бы для неё конец. Высылка из Кёнигсберга в рабочий лагерь для восточных рабочих. А если раскроется, кто она на самом деле, то в концлагерь или сразу смертный приговор. У Коха для этого достаточно власти. Ни один «независимый» судья не осмелится пойти против него. Незаменимых судей нет…
— В среду у тебя будет свободный день! — сказал Кох и сжал её груди. От этого прикосновения его глаза жадно заблестели. — И мы отпразднуем мазурский праздник любви.
— Я… я не знаю.
— Я знаю, и этого достаточно. В среду вечером, Яна. Я заеду за тобой. Поедем в чудесный охотничий замок… Он тебе понравится.
— Если старшая сестра меня отпустит.
— Не сомневайся. Как зовут этого дракона?
— Фрида Вильгельми, городская больница.
— Ну, тогда до среды, Яна.
— Да, герр гауляйтер.
Кох ласково похлопал её по щеке, и, когда она спускалась по лестнице, долго смотрел ей вслед, пленённый раскачивающимися бёдрами, которые пробуждали в нём дикие фантазии. Какая женщина! Проклятье, что за женщина!
С великолепным настроением он вошёл в зал номер тридцать семь, как раз когда доктор Волтерс воскликнул:
— Надо немедленно связаться с Пушкиным! Если там побывал спецторяд Розенберга, мы можем позабыть о пропавших предметах.
— Что там с Розенбергом? — спросил Кох. Его резкий голос застал учёных врасплох, как воров на месте преступления. Хорошее настроение Коха как ветром сдуло. Достаточно услышать имя Розенберга, и весь день отравлен.
— Герр гауляйтер… пропало несколько вещей из Янтарной комнаты. — Доктор Финдлинг показал на разложенную на полу янтарную панель. — Верхний фриз, орнамент, соединяющий потолочные росписи, и две из трёх дверей. По всей видимости, их забыли погрузить.
— Какое свинство! — возмутился Кох и топнул правой ногой. Он подсмотрел это у фюрера и заметил, что это производит сильное впечатление. — Забыли! Как можно было забыть? Кто отвечал за погрузку?
Доктор Волтерс сглотнул, посмотрел на Вахтера, но тот молчал. Смело заглянув в разгневанные глаза Коха, он произнёс:
— Я взял эту ответственность на себя, герр гауляйтер. Доктор Руннефельдт руководил разборкой Янтарной комнаты, а я — упаковкой и погрузкой. Сличившееся с фризом — просто загадка… Но две двери мы точно забыли.
— А еще, как вы сказали, в Екатерининском дворце побывал Розенберг?
— Да. Руководит ими майор Генрих Мюллер-Гиссен. Мы дважды его опережали… но всё оставленное там можно считать потерянным. Всё исчезнет. У меня надежда только на двери. Герр гауляйтер, по возможности как можно скорее свяжитесь с дворцом в Пушкине. По крайней мере, мы могли бы спасти двери…
— А если их там уже нет, я буду знать, у кого они! Как и фриз…
— Это еще не точно, — осторожно высказался Волтерс. — Во дворце достаточно предметов, представляющих интерес для Розенберга. Китайский зал, покои Екатерины Великой, множество картин… И когда спецотряд Розенберга всё это упакует, никто не спросит о том, нет ли среди этого забытых нами ящиков! Разборку дверей трудно не заметить. Поэтому надо уведомить об этом 18-ю армию. И генерала Джобса фон Хальденберге, командующего 50-м корпусом. Он со своим штабом расположился во дворце.
— Попробуем. — Кох посмотрел на разложенную на полу панель. — Шедевр! — прошептал он. Все присутствующие молча наблюдали за Кохом. Выглядело ли это восхищение странным?
Руннефельдт провёл параллель: Гитлер уничтожил сотни тысяч евреев, но свою овчарку Блонди любил безумно и плакал бы, если бы с ней что-нибудь случилось. Мы никогда не поймём человеческую природу и никогда не изучим её.
— От такой красоты захватывает дух… — тихо продолжил Кох. — Немецкие мастера по янтарю… через двести тридцать лет… и эта исключительная в своём роде вещь оставалась в России? Фюрер вечно будет мне благодарен, что я спас эту драгоценность в Кёнигсберге.
Руннефельдт и Вахтер поступили разумно и не напомнили Коху, что в нынешнем виде Янтарную комнату создал придворный архитектор императрицы Елизаветы, граф Бартоломео Франциско Растрелли, по собственному проекту. Он усовершенствовал резьбу по янтарю, создал и настенные фризы И в результате получилась эта симфония красоты, ослепительная роскошь, которая делала Янтарную комнату действительно неподражаемой. Этот гимн янтарю был работой итальянца Растрелли, а не восточно-прусских мастеров. Но кто осмелится сообщить это гауляйтеру Коху?
— Если Борман не заставит перевезти её после войны в музей в Линце. Прерогатива фюрера! — Доктор Руннефельдт прервал размышления Коха. — А судьбу подобных произведений искусства будет определять один Борман. Вы это знаете, гауляйтер.
— Я буду бороться за эту комнату! Она останется здесь, в замке Кёнигсберга! — голос Коха звучал решительно. — Буду бороться, господа!
— И против Бормана?
— И против него! У Бормана есть уязвимые места. Даже Зигфрид имел маленькое уязвимое место между лопаток, и Хаген сумел его в это место поразить. — Кох указал сжатым кулаком на лежащую перед ним панель. — В борьбе за этот шедевр я мог бы стать Хагеном!
Ученые молча кивнули, но без восхищения. Все знали, что Кох боится Бормана, они ненавидели друг друга, и после войны начнётся борьба за власть, сравнимая со смертельными интригами герцогов, Пап и кардиналов эпохи Возрождения.
— Я постараюсь связаться с Пушкиным или с 18-ой армией. Я хорошо знаю генерал-полковника фон Кюхлера.
— Было бы отлично, гауляйтер, — просиял ротмистр Волтерс.— На следующей неделе я должен вернуться в Ригу и мог бы съездить в Пушкин, чтобы проконтролировать демонтаж дверей.
— Неплохая идея, — смягчился Кох. — Вы сможете всё исправить?
— Так точно, гауляйтер!
— Тогда вперёд! Позвоним фон Кюхлеру или фон Хальденберге в Екатерининский дворец.
Кох вскинул руку в гитлеровском приветствии, решительно развернулся на каблуках и покинул зал номер тридцать семь. Все за исключением Вахтера также вскинули руки и не опускали их, пока Кох не вышел.
***
Старшая сестра Фрида ждала Яну в своей комнате, как заботливая мать — дочь, которая первый раз пошла гулять одна. Когда вошла Яна, она вздохнула с облегчением.
— Ну и как? — спросила она. — Ты была в музее замка? Что посмотрела?
— Очень много, старшая сестра. — Яна села, сняла чепец и встряхнула чёрным локонами. — Но это было неправильное решение.
— Почему? — Мясная башня наклонилась немного вперёд. — Что тебе не понравилось в музее?
— Я познакомилась с гауляйтером Кохом. В среду он хочет поехать со мной в охотничий замок.
— Вот ведь мерзкая свинья! — засопела Фрида. — Ты останешься здесь!
— Гауляйтер хочет поговорить с вами…
— Он обязан! — Фрида Вильгельми выпрямилась во весь рост. — Все трясутся перед этой свиньей, но только не я!
— Он могущественнее вас, старшая сестра!
— Он дурак! Примитивная обезьяна! — Она подняла брови и сердито посмотрела на Яну. — А может, ты сама хочешь к нему в постель? Стать одной из его шлюх? Через две недели он вышвырнет тебя вон. Тебя куда-нибудь отправят, чтобы ты больше не попадалась ему на глаза.
— А если я откажусь… тоже. Старшая сестра, я боюсь.
С беспомощным видом она сидела на краю кровати. Есть только один выход: бежать. Опять где-нибудь спрятаться. Только так можно остаться рядом с Михаилом Игоревичем и Янтарной комнатой.
— Подождём, дитя. — Фрида не испугалась. Когда она сердилась, то рушила все преграды на пути, никто не мог ее укротить. Помогало только отступление. И все врачи без исключения это усвоили.
— Она незаменима, — сказал однажды главврач доктор Панкратц на совещании. — Без Фриды здесь бы царил хаос… Но в то же время она — настоящий дракон.
— В среду? — сказала она задумчиво. — Нас в это время здесь не будет. Мы будем сидеть в кино и смотреть фильм с участием Сары Леандер. А сейчас, дитя, завари-ка мне крепкий кофе, я опять раздобыла целый фунт.
***
В среду вечером за Яной заехал не Кох, а его доверенное лицо Бруно Велленшлаг, руководитель администрации. Он подъехал к больнице на неприметной машине фирмы «Адлер» и направился к вахтёру. Чтобы не привлекать внимание, он был в штатском.
— Я хотел бы забрать сестру Яну, — сказал Бруно.
— Яну? Я её не знаю. Из какого отделения? — Вахтёр посмотрел на список телефонов. — У нас здесь много сестёр…
— Она работает у старшей сестры.
— У Фриды? Вы не могли ничего полегче спросить?! — Вахтёр посмотрел на посетителя. Велленшлаг выглядел неплохо. Около сорока, немного попахивает алкоголем, розовое лицо, хитрые маленькие глазки, полные губы — явный сластолюбец. А Яне, наверное, не больше двадцати. Любовь слепа. Во время войны выбор не такой уж большой… все мужчины на каком-нибудь фронте, от Ледовитого океана до Африки. — Я попробую позвонить. Но если трубку возьмёт Фрида, передам трубку вам. А сейчас помолчите.
Вахтёр набрал номер кабинета Фриды, подождал, внимательно послушал, пожал плечами и положил трубку.
— Никого.
— Это невозможно. Сестра Яна знает, что за ней должны заехать.
— Но у Фриды никого нет.
— Может, она где-нибудь в другом отделении.
— В это время — нет. Там только дежурные сёстры. — Вахтёр широко улыбнулся. — Кажется, девочку кто-то увёл…
— Это совершенно невозможно, — высокомерно заявил Велленшлаг. — Обзвоните всех…
— Пожалуйста, пожалуйста… если вы так уверены…
— Да, я уверен.
Велленшлаг усмехнулся. Если бы ты знал, старый осёл, что я здесь по поручению гауляйтера, ты бы вёл себя по-другому. Давай, найди мне Яну!
Вахтёр сделал всё возможное. Он обзвонил все отделения, даже комнату врачей — может, она задержалась там — и положил трубку.
— Вы ошибаетесь. Ни Фриды, ни Яны нет в больнице. Очень жаль. Видимо, у вас будет скучный вечер.
— Не могу поверить. — Бруно подумал о Кохе и представил ярость гауляйтера. За всё время, пока он находился при Кохе, это был первый случай, чтобы женщина уклонилась от встречи. Кох привык получать согласие, а не отказ. Что ж, дорогая Яна, тебя ждут осложнения. Эрих тебе этого никогда не забудет! У тебя начнётся очень трудная жизнь.
— Ничего не поделаешь, — сказал Велленшлаг и пожал плечами. — Бабы есть бабы! До скорого…
— Что значит до скорого?
— Я вернусь, это же ясно. Завтра, послезавтра — я ещё не знаю! Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Вахтёр смотрел вслед Велленшлагу, пока тот не скрылся за дверью. Ничего не поделаешь, любезный, решил он. Если Фрида взяла Яну под своё крыло, лучше отстань. Безнадёжно.
Это было странный и для Велленшлага совершенно новый случай, потому что Эрих Кох не разъярился, как раненый бык. Он спокойно выслушал доклад Бруно и сказал:
— Хорошо. Можешь идти домой, Бруно. — И Кох снял китель. Но потом кое-что добавил, таким спокойным тоном, что Велленшлаг понял, насколько он опасен: — Я хочу знать всё об этой Яне… принеси мне её личное дело.
Велленшлаг кивнул и покинул раскошную виллу гауляйтера.
«Если бы я вел учет личных дел, — подумал он, — можно было бы напротив имени Яны поставить галочку, отметив как погибшую».
Может быть, гауляйтер боялся лично поговорить со старшей сестрой Фридой Вильгельми и этим открыто показать свой интерес к Яне? Странно для Коха, ему ведь было плевать, что люди о нём думают, пока они исполняют приказы. Или он выдумал другой трюк, чтобы увидеться с симпатичной медсестричкой? Для Велленшлага спокойствие Коха стало загадкой и приводило в замешательство.
Четверг, пятница и суббота прошли без каких-либо действий со стороны Коха. И с Пушкиным не удавалось связаться. Три раза с большими трудностями и множеством переключений они звонили в штаб 50-го армейского корпуса, но уже после первых слов связь снова обрывалась. Явно что-то нечисто, и доктор Волтерс расценивал это как саботаж, ведь все знали, что хочет дозвониться. Тут явно замешаны люди Розенберга. После третьего обрыва связи Кох понял, что телефонисты не идиоты, просто на фронте под Ленинградом идёт дождь. Всё увязло в иле и болоте, связь между ротами и батальонами прерывалась, оперативные группы поиска тонули в грязи. Передвигаться приходилось только пешком, машины проехать на могли. Другими словами, ничего нельзя сделать!
— Тогда надо написать письмо, — сказал доктор Финдлинг. — Вероятно, почта сработает лучше телефона. Какое-то безумие.
В списке сотрудников штаба 18-ой армии было указано имя ответственного лица: майор Питчманн, начальник службы снабжения 18-ой армии. От имени гауляйтера Коха доктор Финдлинг написал ему, чтобы столяры со всей осторожностью демонтировали оставшиеся две двери бывшей Янтарной комнаты в Екатерининском дворце Пушкина, потом их нужно упаковать в древесную стружку и бумагу и отправить в музей Кёнигсберга.
Чтобы придать письму большую важность, он добавил: «Эти двери являются произведением искусства и в целях их защиты от уничтожения по приказу фюрера должны быть демонтированы и спасены. Я сообщил об этом фюреру. Руководитель миссии, герр ротмистр Волтерс, через несколько дней прибудет в Пушкин, чтобы лично проконтролировать эвакуацию дверей».
— Хорошо сформулировано! — похвалил письмо доктор Волтерс, после того как Финдлинг зачитал его вслух. — Приказ фюрера… это точно привлечет внимание!
— К тому же это правда.
— Завтра утром я выезжаю.
— Почему так быстро, доктор Волтерс? — Руннефельдт неопределенно махнул рукой. — Мы ещё не все ящики распаковали. Вы не хотите подождать, пока…
— Я ценю время, дорогой Руннефельдт. А теперь, из-за дверей, ещё больше. Надо спешить! До Риги я доберусь без особых трудностей, а в там я попробую получить место в курьерской машине и добраться до 18-ой армии. Благодарю небо, что Пушкин находится не в другой галактике и до него можно добраться!
На следующий день доктор Волтерс на армейском поезде отправился на восток. Прощание было очень коротким — рукопожатие с доктором Руннефельдтом и с доктором Финдлингом и пренебрежительный взгляд на Вахтера. Когда за ним закрылась дверь, все облегчённо вздохнули, но никто не произнес свои мысли вслух.
***
Письмо майор Питчманн получил 17 января 1942 года, 20 января двери были демонтированы и 25 января прибыли с Ленинградского фронта в Кёнигсберг на санитарном поезде. Все тыловые службы показали себя превосходно.
К дверям была прикреплена маленькая записка от доктора Волтерса. Короткое, ни к чему не обязывающее приветствие и сообщение, что у него всё хорошо.
Это была последняя весточка от доктора Волтерса. Гарнитур из покоев Екатерины Великой больше никто не видел, как и серию икон новгородской школы, картины, изделия из золота и серебра, ковры и гобелены.
И ящики с забытыми фризами из янтаря, главная работа Растрелли, остались ненайденными.
Когда доктор Волтерс покинул Екатерининский дворец, за ним до Риги следовали три грузовика. Что находится под брезентом, никто не контролировал и не интересовался. В районе боевых действий у людей были другие заботы. Наступила зима, в войсках не хватало теплой одежды, шарфов, шапок, перчаток и почти полностью отсутствовали валенки или меховые сапоги. Всё сковали мороз и снег. В лесах за линией фронта партизаны нападали на немецкие подразделения, взрывали рельсы и поезда, разрушали мосты и перерезали пути снабжения продовольствием и боеприпасами. Кто будет обращать внимание на ротмистра с тремя грузовиками, тем более, что на дверях приклеены таблички «Оперативная группа «Гамбург» отряда особого назначения МИД».
Кто будет спрашивать командировочное предписание? И без того понятно, что отряд особого назначения Министерства иностранных дел, находящегося в Берлине, возвращается с фронта.
Никто не знает, пережил ли войну доктор Волтерс, жив ли он до сих пор, безвестный старик, воздвигнувший себе обелиск из икон и картин, гобеленов и спального гарнитура Екатерины Великой с резными и позолоченными пенисами.
А янтарные фризы работы Растрелли бесследно исчезли...
***
Три дня гауляйтер Кох, не называя своего имени, звонил в городскую больницу и требовал к телефону сестру Яну. Все три раза он попадал на Фриду Вильгельми, которая кричала в трубку:
— Чего вы хотите от Яны? Кто вы?
Не проронив ни слова, Кох клал трубку.
«Крепкий орешек, — думал он со злостью. — Но я расколю его. До сих пор я всегда получал желаемое».
— Опять эта свинья! — поморщилась Фрида после третьего звонка. — Если позвонит ещё раз, я ему скажу: только после меня… герр гауляйтер! Тогда он подожмёт хвост!
— А если он так и сделает? — Яна весело засмеялась — что за абсурдная мысль?
— Что? — не поняла Фрида.
— Только после вас…
— И это говоришь мне ты?! — Фрида приподняла свою массу со стула. — Ты просто волк в овечьей шкуре! Какая же ты легкомысленная! Хамелеон… и можешь менять окраску в зависимости от среды, чтобы стать невидимой!
— Может быть. — Яна вдруг стала серьёзной. — Я хотела бы стать невидимой. Вот бы мой чепец медсестры стал шапкой-невидимкой
«Он такой и есть, — подумала она. — Он и есть шапка-невидимка. Под ним я живу невидимой среди вас… никто не знает, кто я такая, Яна Петровна Роговская. Так что ты сказала правду, Фрида… я буду всё время менять окраску, чтобы быть ближе к Михаилу Игоревичу и к Янтарной комнате».
В понедельник Коху пришла в голову другая идея. Он позвонил в больницу, попросил соединить его с главным врачом, назвавшись Бруно Велленшлагом, руководителем отдела в музее замка, сообщил, что один упаковщик поранил руку, и попросил прислать медсестру.
— И лучше всего сестру Яну, — сказал Кох. — Она уже здесь была и хорошо ориентируется.
— Я немедленно направлю к вам санитара! — ответил доктор Панкратц.
— Спасибо. Но медсестра Яна, как я сказал, здесь хорошо ориентируется.
— Будет лучше, если вы привезёте раненого сюда.
— Из-за пустяковой царапины? — Коху прикладывал неимоверные усилия, чтобы не заорать. Панкратц. Капитан медслужбы Панкратц. Я позабочусь о том, чтобы вас как можно скорее направили на фронт. Вам осталось не так уж много времени греть свою задницу на батареях в больнице!
— Всё не так просто. Если это был ржавый гвоздь, то может произойти заражение крови, столбняк, гангрена. Я наблюдал подобные случаи в полевом лазарете…
— Спасибо! — сказал Кох и положил трубку. Потом ударил кулаками по столу и плюхнулся в кресло.
Этот Панкратц уже был на фронте и, кажется, имеет тяжёлое ранение, после которого может служить только в тылу. Отправить на фронт трудно, а вот перевести в какую-нибудь заштатную больницу — другое дело. В Роминтен или в Лык. Там, на Висле, замечательно — будет там перевязывать лис, а зимой выть вместе с волками. А Фриду Вильгельми отправим старшей сестрой в психушку. Пусть там командует, сколько влезет. Яна, мазурская волчица, ты от меня не ускользнёшь.
Кох потянулся в кресле, снова взял трубку и позвонил Велленшлагу. Как обычно, тот подобрался, когда Кох с ним разговаривал, даже если тот его не видел, это можно было определить по голосу.
— Бруно...
— Гауляйтер…
— Ты как-то мне говорил, что в «Кауфнаусе», в отделе тканей, видел симпатичную продавщицу.
— Так точно, гауляйтер. Эмми Зоннеман…
— Ещё одна такая глупая шутка, и ты отправишься на фронт!
— Я не знал, гауляйтер, что малышку зовут так же, как и жену рейхсмаршала Геринга. Её действительно зовут Эмми Зоннеман.
— Тогда это будет двойное удовольствие! — Кох громко рассмеялся и хлопнул себя по бедру. — Приведи ее ко мне сегодня вечером.
Он прыснул он смеха и положил трубку.
Надо будет рассказать об этом Герингу. Что я переспал с Эмми Зоннеман. Жаль, толстяк совсем не понимает шуток.
***
Вечером Яна надела тёплое зимнее пальто и шерстяную шаль. Совершенно неожиданно холодный восточный ветер принёс в Кёнигсберг холод. Снега ещё не было, но по ночам стояли сильные морозы, скользкая наледь покрыла улицы, стены и крыши домов. Пешеходы неуверенно ступали или скользили на дороге, машины буксовали. Холода наступили так быстро, что к ним не подготовились.
— Куда ты собралась? — спросила Фрида, когда увидела Яну в пальто, шали и вязаных перчатках.
— В театр, старшая сестра. На оперетту «Продавец птиц».
— Я почтальонша Кристель, — вдруг пропела Фрида.
Яна вздрогнула и удивленно посмотрела на неё.
— Что с вами, старшая сестра?
— Это песня из оперетты, дитя. «Продавец птиц». Я смотрела оперетту шесть раз. Последний раз — театре «Метрополь» в Берлине. С Иоанном Хеештерсом в главной роли. Когда в Ти-и-и-роле дарят ро-о-о-зы…
На сцене сейчас обрушились бы кулисы, но лицо Фриды сияло от счастливых воспоминаний. Она втайне восторгалась многими артистами, от Сары Леандер и Фердинанда Мариана, от Хайнца Рюмана и Вернера Крауза до Генриха Георга и Кете Голд, от Густава Грюндгенса до Бригитты Хорней, но всё это скрывалось за её панцирем.
— Ты идёшь в театр одна? — спросила она недоверчиво.
— Конечно. Я как раз хотела купить абонемент. Вам тоже купить, старшая сестра?
— Спасибо, нет, дитя. Он же на определённые дни, а я не хочу себя связывать. — Это была её тайна, её жизненное кредо: не связывать себя! Неважно, с чем. Стремление к свободе у Фриды было всеобъемлющим.
— Когда ты вернёшься? — спросила она.
Яна пожала плечами.
— Я не знаю, сколько идет оперетта.
— Ну, скажем, два часа. — Фрида оценивающе посмотрела на часы. — Сейчас семь. В восемь начнётся оперетта, в десять закончится. В одиннадцать ты будешь здесь! Если придёшь позже, мы поругаемся.
— Понятно, старшая сестра.
— Я хочу тебе только добра, деточка.
— Я знаю. Приятного вечера, старшая сестра.
— Тебе тоже… Охотно бы я женщин целовал… Ах, вздор, это из Паганини…
Сопровождаемая взглядом Фриды, Яна вышла из комнаты, а потом через боковую дверь приёмного отделения покинула больницу. В комнате дежурного по отделению скорой помощи опять сидел санитар Карл Блудеккер и махнул ей рукой.
— Давно не виделись, сестра! — крикнул он. — Куда идёшь? На улице чертовски скользко. Держитель крепче за своего кавалера.
— Я иду в театр, одна. На «Продавца птиц».
— Эта там, где кто-то поет «С птицами я вырос»?
— Блудеккер, какой вы невежда! — Яна покачала головой. — Стыдитесь.
— Если б я мог... — Блудеккер широко улыбнулся. — Всего хорошего, сестричка. Кстати, вас как-то спрашивал унтер-офицер из Берлина.
— Юлиус Пашке.
— Да, так он назвался. Потрясающий субъект.
— Что вы ему сказали?
— Что сестра, сказал я ему, работает у Фриды, и ему сначала придётся взломать бункер. Иди к Фриде, но не забудь прихватить огнемёт. Он исчез.
— Я вернусь в одиннадцать.
— Хорошо. У меня ночное дежурство. Можешь приходить в любое время, сестричка. Ещё раз всего хорошего.
В театральной кассе Яна купила абонемент на четыре оперы, две оперетты и три спектакля, но не стала покупать билет на «Продавца птиц». Она вернулась в замок и нажала на звонок у боковой двери. Три коротких и один длинный… это звонок Михаил Вахтер знал по прежним временам.
Через некоторое время в двери повернули ключ, но открыл её не Вахтер, а другой пожилой мужчина. Похоже, его оторвали от ужина — он что-то жевал.
— В чём дело? — спросил он недовольно. — Сестра из Красного креста? Что-то случилось? У кого-то запор?
— Надеюсь, не у вас! — парировала Яна.
— Почему же? — жующий мужчина скорбно посмотрел на неё. — Попробуйте по десять часов водить экскурсии по музею! У вас чепчик слетит, сестричка. А посетители? Сейчас у нас в девятом зале выставлена картина. «Леда и лебедь». Работы Бороми Мартини. Великолепно! И вот веду я группу солдат по музею, и что сказал один из них, посмотрев на «Леду»? «Не для меня, приятель… Слишком большие сиськи!» И такие выходки приходится молча терпеть… И вы ждете от меня вежливости?
— Мне нужен герр Вахтер.
— Он заболел?
— Нет, хочу передать ему привет.
Угрюмый мужчина отошёл в сторону и показал на каменную лестницу.
— Наверх, второй этаж, первый коридор налево. Он живёт там. У него на одного огромная квартира. Хоть на роликах катайся из одной комнаты в другую. И ведь он только что приехал. Специально для него выделили и обставили квартиру. Видимо, дело серьёзное, раз Вахтер живет там один.
— Спасибо, — сказала она, прошла мимо, и уже на лестнице оглянулась. — Не сердитесь. Война и так доставила нам много забот.
— Кому вы это говорите, сестричка! — мужчина провел двумя руками по изборождённому морщинами лицу. — У меня три сына на фронте. Первого схватили англичане. В Африке, у Марса-Матруха. Он-то хотя бы переживёт эту дерьмовую войну.
— Надеюсь, все трое переживут.
Михаил Вахтер удивлённо поднял голову, когда в дверь его квартиры постучали. Он как раз читал в газете сообщение о наступлении ужасных холодов в России, парализовавших немецкие армии под Москвой. Замерзая от мороза, немецкие войска вынуждены окапываться, в то время как русские дивизии, лучше подготовленные к холодам, непрерывно наступают на немецкие укрепления. Гитлер повторяет поражение Наполеона под Москвой?
Вахтер отложил газету и открыл дверь.
— Доченька! — радостно произнёс он, потянул Яну в комнату и обнял её. — Как часто в последние дни я о тебе думал. Заходи, снимай пальто, давай я согрею чай или грог… Сегодня очень холодно, но будет ещё холоднее.
Он повесил её пальто на вешалку в прихожей и провёл в квартиру, оказавшуюся действительно огромной. Большие комнаты с высокими лепными потолками, которые обогревались кафельной печью, раздвижные двери и натёртый воском паркет на полу.
Антикварная мебель принадлежала музею. Несмотря на просторные помещения, квартира была уютной и аристократической, или, как говорят в народе, барской.
Когда Вахтер приготовил из рома грог, они уселись напротив друг друга в глубокие, широкие кресла, и Яна рассказала о своих переживаниях в последние дни.
— Я должен познакомиться с Фридой Вильгельми! — воскликнул Вахтер. — Должен её обнять! Лучшего места ты нигде не смогла бы получить.
— Я часто думаю о Николае, Михаил Игоревич. — Яна осторожно отпила маленький глоток дымящегося грога. — Как сейчас в Ленинграде? Они голодают и мёрзнут. Тысячи человек умрут… Как у нас всё хорошо получилось, и как тяжело сейчас Николаю. Может быть, его направили на оборону города?
— Кто знает, Яночка? Когда-нибудь мы это узнаем, война не будет длиться вечно. Я каждый день молюсь о встрече с Николаем. Пока у нас всё хорошо. — Они говорили по-русски, находя в родном языке утешение. В чужой квартире и среди чужой мебели они чувствовали себя почти как дома — ведь Янтарная комната спасена.
— Янтарная комната. — Яна откинулась на спинку кресла. — Вы должны рассказать мне всё про комнату, Михаил Игоревич. Это большая ценность, но для вас она значит значительно больше, чем просто произведение искусства. И Николай думает так же.
— Верно, доченька. Как могли бы прожить Вахтеровские без Янтарной комнаты? Почему… ох, это долгая история. Её стены пережили чудовищную судьбу, пропитались кровью и слезами, любовью и ненавистью, страданием и счастьем. Эта комната хранит всё, что жизнь может дать человеку. Её стены дышат… Мы, Вахтеровские, это чувствуем. Мы смотрим на стены и видим их двухсотлетнюю судьбу.
— Рассказывайте, Михаил Игоревич, рассказывайте...
— Это надолго, Яночка.
— Теперь у нас есть время. Я буду приходить к вам каждый вечер. Я хочу узнать всё про Янтарную комнату… Мы с Николаем когда-нибудь примем её от вас. Сядьте поудобнее, Михаил Игоревич, выпейте глоток грога и расскажите мне о королях, царях, царицах и их буйной жизни.
И Михаил Вахтер стал рассказывать.
Часть вторая
Фридрих Вильгельм I
Действующе лица:
Пруссия:
Фридрих Вильгельм I, король Пруссии
София Доротея по прозвищу Фикхен, королева Пруссии
Фридрих, кронпринц
Карл Людвиг фон Пёллнитц, друг прусского короля
Генерал Иоганн фон Швайниетц, военный инспектор
Полковник Людвиг фон Раммштайн, командир гвардейцев
Людвиг Фридрих, граф фон Бюлов, финансовый советник короля
Генерал-лейтенант Фридрих
Вильгельм фон Грумбков, друг короля
Леопольд фон Ангальт-Дессау, друг короля
Ганс Гоппель, фельдфебель гвардейцев.
Фридрих Теодор Вахтер, управляющий
Аделе Вахтер, его жена
Юлус Вахтер, их сын
Русские:
Пётр Алексеевич Романов, русский царь, называемый Петром Великим
Князь Семён Борисович Нетяев, квартирмейстер царя
Генерал Александр Иванович Одоевский, военный наблюдатель
Наталья Емельяновна Петерс-Газенкова, фаворитка
Левон Усков, карлик и придворный шут
...
Все кругом суетились. Спешка и брань, мытьё и чистка, скобление и натирка воском до ломоты в спине и мозолей на ладонях. Дворецкий кричал на всех — он был единственным из дворцовых слуг, кто после вступления на престол короля в 1713 году сразу не пал жертвой перемен. На кухне ощипывали фазанов и кур, резали травы и варили овощи, полировали серебряные подносы, проверяли посуду и столовые приборы.
Больше всех волновалась София Доротея, королева Пруссии. Она сновала между кухней, залом приёмов и кабинетом короля. В конце концов она без сил рухнула в кресло в кабинете повелителя Пруссии.
— Какое спокойствие! — произнесла она, переводя дух. — Ваше спокойствие… до чего же оно меня раздражает! Я должна обо всём беспокоиться, а чем заняты вы?! Стоите у окна и любуетесь, как маршируют гренадеры.
— Потому что это необходимо! Гренадёры второго батальона должны чувствовать расстояние! Они маршируют, как хромые утки. Направление не выдерживают. Чулки в складках! Командир второго батальона должен это замечать! Ленивая свинья! Выгоню его к чёрту! В Восточную Пруссию, там ему самое место. Пусть хоть овощи ставит в строй и занимается строевой подготовкой с курами.
Фридрих Вильгельм всего в двадцать восемь лет был полным и осанистым, с круглым лицом, сильными руками и крепкими ляжками. Выплеснув гнев, он отошёл от окна. Он побагровел, в глазах отражалась вспыльчивость и решимость.
Когда воскресным вечером 25 февраля 1713 года скончался его отец, Фридрих I, и кронпринц Фридрих Вильгельм взошёл на престол, вся остальная Европа понимала, что в Пруссии грядут перемены. Английский двор уже озвучил свое недовольство, назвав грубый тон кронпринца по отношению к дипломатам подобающим лишь унтер-офицеру, а во Франции с озабоченностью косились на Берлин, поняв, что политика нового короля будет коренным образом отличаться от политики его отца.
Фридрих I был правителем жизнерадостным, с французскими манерами, привык к роскоши, обжорству и любовницам. С приходом на трон его сына над Пруссией задул другой ветер: армия и финансы, семья и скромность стали краеугольным камнем его жизни. Французский посол описал это так: «Новый король не признаёт никакой другой манеры поведения, кроме командования и строгой дисциплины и упорно и беспощадно стремится к своей цели, состоящей прежде всего в формировании армии. Он намерен создать новый тип офицеров и служащих и выступает за полную милитаризацию страны».
Первое обращение Фридриха Вильгельма I к министрам достаточно ясно показало, что их ждёт. Голландский посол Линтело присутствовал на этом мероприятии и написал в своём докладе:
«Король совершенно серьёзно и достаточно энергично обратился ко всем, в том числе и ко мне: «Мой отец находил удовольствие в великолепных зданиях, драгоценностях, серебре, золоте и внешнем блеске. Я же получаю его от создания превосходной армии». Без всякого сомнения, мы имеем дело с королем, который будет править по-другому.
Он не советуется со своими министрами и администрацией, выдаёт приказы резким командным тоном и не терпит возражений. Нам следует ожидать от нового прусского короля много неожиданностей».
Голландский посол правильно оценил положение дел и предвидел, что Фридрих Вильгельм сначала наведет порядок в собственном доме. Известно, какими были его начинания. Он сразу сократил поглощающий миллионы штат придворных и больше не устраивал роскошных дворцовых праздников, за некоторым исключением, например, когда государство посещали иностранные принцы или во время свадеб родни.
Затем он упразднил большую часть придворных должностей, пажей сделал кадетами, лакеев переодел в солдатские мундиры, сильно урезал расходы на кухню и кладовую. За год экономия составила четыреста тысяч талеров, эта сумма направлялась на увеличение армии. Но помимо этого он сократил всем жалованье. Министры и служащие, генералы и другие офицеры стали получать меньше, а сэкономленные деньги пошли на армию. Все скрежетали зубами от возмущения.
Фридрих Вильгельм был озадачен и поражен, когда после смерти отца обнаружил секретный сундук, где хранились золотые и серебряные монеты на сумму в два с половиной миллиона талеров. Он сразу взялся за подсчёт, суммировал унаследованное богатство с будущим доходом и вызвал в городской дворец фюрста Леопольда фон Дессау, своего старого друга, которого знал двенадцать лет и называл «старина Дессауер».
— Фюрст, — сказал ему Фридрих Вильгельм, когда тот изучил строчки с подсчетами, — я богаче, чем думал… Этих талеров достаточно, чтобы увеличить армию на шестьдесят тысяч человек.
И фюрст Ангальт-Дессау ответил:
— Неплохое наследство. Я помогу вам, ваше величество, создать в Пруссии непобедимую армию.
Это был момент рождения «короля-солдата». Лейтмотивом его жизни стала экономия.
Фридрих Вильгельм лично служил примером, и Софии Доротее это совершенно не нравилось. В ещё недостроенном берлинском дворце, спроектированном известным зодчим Андреасом Шлютером, а затем придворным архитектором Еозандером, король жил по-спартански. Уволенный Еозандер уехал в Швецию, великий Шлютер в 1713 году отправился в Петербург и больше не вернулся. Литейный завод мастера Иогана Якоби, при Шлютере отливший конную статую курфюрста Фридриха Вильгельма, дедушки нового короля, теперь вместо памятников отливал пушки.
София Доротея, которую Фридрих Вильгельм нежно называл Фикхен, жившая в одиночестве посреди почти голых стен стукнула кулаками по подлокотникам кресла. Это была красивая, гордая, но вдобавок расчётливая и волевая женщина, не боявшаяся своего супруга-короля, особенно после того, как в 1712 году она родила ему наследника, кронпринца Фридриха. И сейчас она злилась на то, что короля больше заботит плохая строевая подготовка второго батальона.
— Вы меня слышите? — воскликнула она. — Все просто потеряли рассудок.
— У кого его нет, тому нечего терять. В чем причина такой суеты?
Король остановился около неё, его взгляд смягчился. При взгляде на Фикхен он осознавал, как счастлив с ней.
— В чем причина? — возмутилась она. — Когда нас удостаивает посещением царь…
— Ты знаешь, чего он хочет, Фикхен? Думаешь, он приедет для того, чтобы съесть жирного каплуна, выкурить трубку и опустошить кружку пива? Он приедет, чтобы втянуть меня в Северную войну. И хочет попросить помощи против шведского короля Карла XII. Ему будет всё равно, ест он щи или фазана, спит на деревянной кровати или на шелках. Тому, кто от меня чего-нибудь хочет, придется подстроиться под мой образ жизни!
— Пруссия опозорится! Завтра это увидит весь мир.
— С такой армией, — король махнул рукой в сторону окна, — мне совершенно плевать, что обо мне думают другие правители. Они больше думают о фаворитках, чем обо мне. Они будут с удивлением взирать на Пруссию и бояться её. Шикарный обед для царя? Я должен экономить! Помнишь нашу свадьбу? Мой отец хотел показать всему миру, каков он, сколько у него денег и что он не завидует двору в Версале. — Король прошёлся по бедно обставленной комнате, тяжело ступая и заложив руки за спину. — Мы поженились 14 ноября 1706 года, Фикхен. Отец раскошелился, и придворные в шелковых нарядах танцевали, ели и пьянствовали до Рождества. Балеты, оперы, концерты, комедии, маскарады, праздничное освещение и фейерверки. Но я помню все цифры. На нашу кухню крестьяне со всех окрестностей должны были доставить в качестве «подарка» семь тысяч шестьсот кур, тысячу сто две индейки, тысячу уток, шестьсот пятьдесят гусей и шестьсот сорок телят. И всё это было обглодано. Но у меня такого не будет, Фикхен! Я не промотаю государство, я — его первый слуга. Российский царь спасает душу в церкви, а все остальные должны спасать её у меня!
София Доротея смотрела на это по-другому, но сегодня не стала возражать королю. Сейчас он высказал свой первый девиз. Второй звучал так: люди уважают богатство. А третий выражал цель его жизни: я укреплю суверенитет, и королевство будет держаться прочно, как скала. По этому поводу дискутировать с ним не стоило. Невозможно было в принципе иметь другое мнение, Фридрих Вильгельм ясно дал понять — что-либо значит только его слово. В своей знаменитой речи при вступлении на престол он бросил министрам в лицо: «Каждый из вас должен знать — кто будет интриговать, будет наказан так изощренно, что он сам удивится. Запомните: я нуждаюсь не в советах, не в иедях, а в повиновении!»
— У нас даже нет плана мероприятий, — осторожно высказалась София. — Министры в отчаянии, у генералов нет вашего приказа, придворные готовы разрыдаться, ведь потом их во всем обвинят.
— Чем больше слез, тем меньше будут валять дурака.
София Доротея выпрямилась. Что за манеры!
— Вы должны что-нибудь показать царю. Надо определить программу…
— Этому петербургскому медведю будет на что посмотреть. Мне кое-что пришло в голову.
— Да? Занятия по строевой подготовке, парад гренадёров и стрелков, кавалерии и артиллерии. Ваша гвардия будет топать, как стадо быков…
— Фикхен, оставь в покое моих гренадеров. — Король потянулся. На своих гвардейцев-гренадёров он никому не позволял нападать. От какой-либо критики он отмахивался или ругался так, что никто больше не осмеливался об этом говорить.
Фридрих заговорил об этом лишь один раз — в тесном кругу табачной коллегии в Потсдаме, пользующейся дурной славой, не в последнюю очередь из-за своего названия, в восьмиугольном павильоне с высоким шпилем, который он приказал построить на острове в озере Фаулен. Находясь в сугубо мужской компании друзей и генералов, он пристально посмотрел на министра финансов армии, генерал-лейтенанта фон Грумбкова, и произнёс: «Гренадеров я содержу на свои карманные деньги для удовольствий, потому что во всем мире не найдется для меня большего удовольствия, чем хорошая армия!»
— Царю этого будет достаточно. Кроме того, он торопится и остановится у нас ненадолго, проездом во Францию и Голландию. Дай ему что-нибудь пожевать и выпить, представь наших детей, извинись, что у нас не как в Версале, где вокруг бегает общество надушенных любовниц… Об остальном я позабочусь сам.
Кто-то постучал, потом открылась дверь и в кабинет вошла принцесса Вильгельмина. За руку она тянула четырёхлетнего кронпринца Фридриха, который робко защищался, упирался ножками в паркет и пытался вырваться от старшей сестры. Это ему не удавалось. Семилетняя Вильгельмина была сильнее. Об этом худом, симпатичном мальчугане с голубыми глазами и пухлым ротиком Фридрих как-то сказал: «Придёт в коллегию курить трубку, там мы и сделаем из него мужчину! Кронпринц Пруссии должен быть воином!»
— Какое недостойное зрелище! — громко произнёс Фридрих Вильгельм. — Кронпринц позволяет женщине себя тащить. Почему ты не сопротивляешься?!
— Она моя сестра, папа.
— А я кто? — закричал король.
— Простите… отец.
Малыш вырвался из рук сестры и поспешил к сидящей в кресле матери.
— Он боится! — воскликнула принцесса.
— Заткнись! — выругался король. — Кронпринц ничего не боится.
— Он боится царя, отец.
— Фриц...
— Отец! — малыш плотнее прижался к матери, стиснул губы и посмотрел на строгое отцовское лицо.
— Ты должен бояться только Бога, больше никого. Царь — не Бог, хотя русские часто изображают его Богом.
— О нём рассказывают страшные вещи, отец. От этого Фрицу и страшно, — смело сказала принцесса. — Это всё правда?
— О чем это ты?
— Что царь есть руками… разбрызгивает соус… вытирает рот руками. Когда он ест курицу или фазана, то бросает обглоданные кости через стол, и в кого он попадёт, тот должен встать, низко поклониться и сказать: «Великий царь, благодарю тебя за орден». Он может плеснуть холодными сливками на грудь женщинам, а князю Трубецкому он своими руками набил полный рот желе с фруктами и потом проталкивал их пальцами, чтобы быстрее проходили. Он чуть его не задушил…
София Доротея всплеснула руками. Король поманил дочь пальцем, и маленькая Вильгельмина подошла ближе.
— Кто это всё рассказал?
— Я не знаю, отец. Несколько человек стояло рядом, и я слышала их разговор.
— Ты подслушивала?
— Да, отец.
Быстрым двжением Фридрих Вильгельм схватил всегда лежащую рядом буковую трость и взмахнул ею в воздухе.
— Мой ребёнок подкрадывается незаметно и подслушивает чужие разговоры. Принцесса Пруссии! И она верит всему, что услышит! Ты заслужила порку?
— Да, отец.
— И если завтра царь сядет за стол голым, мы не обратим на это внимания. Он взрослый человек и может делать всё, что захочет.
София Доротея обняла кронпринца, а другой рукой притянула к себе принцессу.
Король положил трость на стол.
— Царь — хороший солдат. Да пусть хоть срыгнёт на стол!
Утром следующего дня походная колонна Петра I въехала в Берлин. Он путешествовал, как часто бывало, только с небольшой свитой — впереди десять всадников в зелёной форме Преображенского полка, затем в простой, но крепкой карете царь с сопровождением, за ней несколько экипажей с лакеями, пажами, его любимым арапом Абрамом Петровичем Ганнибалом и карликом Левоном Усковым. Завершала процессию закрытая карета, где вместе с двумя горничными сидела нынешняя любовница царя, красавица Наталья Емельяновна Газенкова, армянка с пламенным взором, ее мужа Петр I назначил управляющим на склад боеприпасов в Петропавловскую крепость.
Совсем небольшая свита для царя, самого могущественного человека в мире.
Когда гость подъехал к дворцу, Фридрих Вильгельм вышел из двери, как хозяин дома, и ненадолго задержался перед роскошным почётным караулом с барабанами и фанфарами, перед развевающимися знамёнами и склонившимися министрами и хихикающими девушками из благородных семей, перед стеной лакеев и придворных.
Фридрих Вильгельм стоял в одиночестве, лишь его друг, барон фон Пёллнитц, за спиной, в простом сюртуке, опираясь на буковую трость, в тёмно-коричневом парике с завитыми локонами на висках.
Русский кучер подкатил карету точно ко входу во дворец и осторожно остановил лошадей, чтобы они не дернулись и не потревожили царя. Однажды, полгода назад, у него это не получилось, лошади по неизвестной причине занервничали, карета дёрнулась, и царь из неё вывалился. Тогда он размахнулся тростью и так избил кучера, что тот три месяца лежал в постели, прежде чем опять смог сесть на козлы.
Едва карета остановилась, к ней бросились два лакея, открыли дверцу и встали навытяжку. Царь спустился из кареты.
Ему пришлось низко наклониться в дверном проеме, но он не заказывал подходящую под его рост карету с одной стороны из экономии, а с другой стороны, памятуя о собственном изречении: «Склонить голову не стыдно даже царю, правда, только перед Богом».
Фридрих Вильгельм заметил, кто пожаловал к нему в гости, и очень обрадовался.
Петр I был ростом под два метра, крепким, мускулистым, широкоплечим — настоящий гигант, которого Фридрих Вильгельм охотно взял бы гренадером.
Лицо царя было загорелым, над чувственным ртом выделялись узкие усы, глаза смотрели повелительно. Каштановые вьющиеся волосы были коротко подстрижены, несомненно, в связи с поездкой и посещением короля, потому что он редко позволял прикасаться ножницами к своим локонам, а носить парик не любил.
Кроме того, прусский король почувствовал в нем собрата, когда увидел, что царь опирается на крепкую бамбуковую трость, похожую на ту, которой Фридрих Вильгельм правил Пруссией.
После царя из кареты вышли князь Нетяев и генерал Одоевский. Из ближайшего экипажа уже шли вперевалку карлик Левон Ганнибал, любимый арап царя.
«Каждый человек сходит с ума по своему, — подумал прусский король и сделал навстречу Петру два шага. — У него арап и карлик, у меня гренадеры, французский король распоряжается целой армией любовниц — каждому своё».
— Приветствую вас в Берлине, — сказал Фридрих Вильгельм и протянул руку. Как всегда, он произнёс это повелительным тоном, что означало: здесь Берлин! Имей это в виду!
Петр пожал и потряс руку, стиснув как тисками, так что Фридрих Вильгельм заскрежетал зубами, чтобы не вскрикнуть от боли. «Неплохо, — подумал он. — Он силён как бык. У него большие, твёрдые и мозолистые руки, как у рабочего. Моему отцу он бы не понравился — царь, который производит впечатление подёнщика, да и живет так же».
— Как доехали? — спросил король, сопровождая царя во дворец. Щебечущие в зале придворные дамы, а также София Доротея, слева от неё кронпринц Фридрих, справа — принцесса Вильгельмина, поклонились. Они были в нарядных шёлковых платьях с вышивкой по парче и являли собой полную противоположностью королю, предпочитающему простой сюртук и гамаши. Царь тоже был одет просто: жилет из грубой ткани, уже заношенный, выгоревший темно-зелёный сюртук с поблекшей синей подкладкой и большими латунными пуговицами, на голове шляпа без ленты, на ногах — старые чулки и стоптанные башмаки. В Версале такого типа выпроводили бы из дворца или арестовали.
— В Пруссии хорошие дороги. — Петр I поклонился дамам, окинул взглядом знатока на юную графиню фон Доннерсмарк, бесцеремонно подмигнул ей и двинулся к королеве широкими шагами и размахивая руками. Кронпринц не сводил глаз с гиганта, рассмотрел бородавку на правой щеке, заметил нервное подёргивание лица царя и плотнее прижался к матери.
— Какая радость видеть вас такой цветущей! — громко воскликнул царь, без промедления крепко обхватил её голову, потянул к себе и дважды поцеловал застывшую и захваченную врасплох королеву в лоб.
Стоящий за его спиной король весело наблюдал, как его жену охватил ужас. Вот он какой, этот царь. Совсем простой. Парень с манерами сибирского лесоруба. Петр Алексеевич, мы могли бы понять друг друга и стать друзьями, если бы ты не вёл войну и не держал бы рядом с собой шлюх. У тебя есть хорошая жена, Екатерина, которая почти каждый год беременеет. Что тебе ещё надо?
Пётр отпустил голову королевы и ждал того, что приготовлено по протоколу. Но протокола не было. После 1713 года гофмаршала и главного казначея, главного герольдмейстера, главного церемониймейстера и других придворных льстецов уволили, и план мероприятий для гостей король составлял вместе со своими офицерами. На кухне королевский кухенмейстер, старший повар, командовал сокращённой бригадой поваров — то, чем питался король и его семьи, могли приготовить даже в крестьянских домах.
— Поездка была долгой, — сказал Фридрих Вильгельм, — и вы, наверное, устали? Хотите отдохнуть? Я провожу вас в ваши покои. О вашей прислуге также позаботятся. Или выпьем сначала по бокалу?
— Выпьем! — Пётр I потёр руками. — И выкурим по трубке. Я взял с собой голландские фарфоровые трубки. — Он дернулся, энергично махнул и, как всегда, тотчас появился арап Ганнибал со шкатулкой в руках. — Пойдёмте…
Они остались вдвоем в скромно обставленном кабинете короля с обтянутыми белой тканью стенами, без единого ковра или гобелена — Ганнибал сразу вышел, а любимому карлику Левону не разрешили заходить в комнату, поэтому он сидел на полу за дверью. Выглядел он как большая жаба в одежде.
Пётр огляделся и несколько раз кивнул.
— Как и у меня. К чему роскошь? Конечно, в Москве есть великолепный Кремль, дворцы в Петербурге, красивее Версаля, замки в летней резиденции Царское село, построенные лучшими в мире мастерами, расписанные лучшими художниками, украшенные лучшими скульпторами и серебряных дел мастерами, именно так должно быть у царей, но я, мой дорогой друг, предпочитаю жить в большом деревянном доме, а не среди шёлка, парчи и пурпура.
Он подошёл к столу, на который Ганнибал поставил шкатулку, открыл замок, поднял крышку и позволил Фридриху Вильгельму заглянуть внутрь. На зеленом бархате лежали фарфоровые трубки разной формы и длины, прямые и изогнутые. Снаружи трубки были расписаны, чаши набиты табаком, рядом лежала лучина для розжига.
— Я живу в маленькой комнате с прочной мебелью и сплю на жёсткой кровати, как и вы. — Петр выбрал одну трубку, потом взял из бархатного зажима другую, изогнутую, и протянул её королю. — Возьмите эту. Это самая лучшая. Она охлаждает дым, чтобы он не обжигал горло.
— Сейчас узнаем. — Фридрих Вильгельм с довольным выражением смело взял трубку, хотя мундштук был сильно закопчён и выглядел не совсем чистым. — Что будем пить?
— Что обычно пьёте вы, король Пруссии.
— Густое, терпкое пиво.
— Неужели? — Пётр скривился. Резкая судорога пробежала по его лицу, исказив гримасой, голова дёрнулась взад-вперёд, крепкое тело немного согнулось, глаза расширились. Приступ был коротким, но увидевший его посторонний человек испугался бы до смерти. Король не испугался, поскольку знал о внезапно наступающей судороге, от которой Петр страдал с детства и не поддающейся лечению.
Царь вытащил из кармана заляпанного жилета янтарную табакерку, достал неё щепотку порошка и с трудом проглотил его.
— Это единственное, что помогает, — сказал он и закрыл табакерку. — Один шаман приготовил. Порошок из желудка и крыльев сороки. Все врачи — идиоты. Если бы я нашёл того, кто меня излечит, он стал бы самым богатым человеком в мире. Выпьем токайского?
Король подошёл к двери, открыл её, наткнулся на сидящего на корточках карлика Левона и приказал ожидающим лакеям:
— Токайского!
Он вернулся в комнату, показал Петру на его трость и стукнул своей буковой по паркету.
— Интересная у вас трость, — сказал Фридрих Вильгельм. — Прекрасная вещь.
— Как часть меня самого. — Пётр взмахнул тростью в воздухе. Шелест слабого ветерка долетел до короля. — Хороший испанский тростник. А набалдашник из слоновой кости я вырезал сам. Свою трость я называю дубиной. Человек — странное существо. Его надо наказывать, иначе он станет ленивым и глупым! Вы видели моего арапа Ганнибала? Я люблю его. Когда он ко мне попал, ему было одиннадцать лет, мой посол Толстой купил его в Константинополе и подарил мне. Я его крестил и воспитал, он обучился токарному ремеслу, спит в моей мастерской и везде меня сопровождает. Но раз в неделю я колочу его этой дубиной. Нет, не потому, что он этого заслужил, я бью его из любви. Это награда.
Он опять достал янтарную табакерку, взял немного порошка и посмотрел на резной камень.
— Солнечный камень, — сказал он задумчиво. Золото Балтики.
— Золото Пруссии, царь Пётр. — Это прозвучало гордо и уверенно. Любая дискуссия на эту тему не имела смысла.
— Ваш отец во время моего последнего посещения показывал здесь, во дворце, комнату полностью из янтаря.
— На четвёртом этаже, угловая комната. Наш кабинет из янтаря. — Фридрих Вильгельм кивнул. — И на эту глупость у него находились деньги. Одиннадцать лет над ней работал мастер по янтарю. Одиннадцать лет вкладывали деньги в роскошь, созданную не для жизни. В 1712 году отец установил её здесь, в городском дворце.
— В этот год я её и увидел. На пути к моей армии в Померании…
— Я это хорошо помню. Тогда устроили большой праздник. Отцовская фаворитка, зеленоглазая и рыжая графиня Кольбе фон Вартенберг, я её называл великой распутницей, понравилась и вам. Её декольте было таким глубоким, что открывало почти всю грудь. Правильно? Ох уж эти Вартенберги. Была такая городская девушка, барышня Кати Риккерс, которую мой отец выдал замуж за этого болвана Вартенберга. Знаете, что она сделала? Пришла ко мне, потрясла грудью и задницей и предложила лечь с ней в постель. А мне в это время было всего четырнадцать.
Царь громко рассмеялся и ударил тростью по столу.
— В четырнадцать лет и отказаться от пылкой красотки! Мой дорогой Фридрих Вильгельм, в четырнадцать я уже начал счёт своим возлюбленным! Придворные дамы, горничные, служанки, жёны министров, князей и доярки… от меня никто не убежал. Напротив, они все этого хотели. Вы многое упустили, кузен.
— Я счастлив с моей Фикхен, — сдержанно произнес король и поменял тему. — Вам понравилась Янтарная комната?
— Это неповторимое произведение искусства! Целая комната из слёз солнца, как говорят славяне. Разве есть что-нибудь прекраснее? Я ещё не видел ничего, что могло бы сравниться с этой комнатой.
— Хотите осмотреть её ещё раз?
— Она ещё здесь?
— Туда никто не ходит. Мне тоже не нравится туда заходить, я сержусь, когда вижу отцовскую страсть к пустым тратам. — Король зажал трость под мышкой, опять направился к двери, открыл её и махнул ожидающему лакею.
— Подойди! — приказал он, и когда лакей подбежал, выхватил буковую трость из-под мышки и ударил его. — Где токайское? — властно закричал он. — Подойти, каналья! Ближе! Я что, должен за тобой бегать с тростью?! Ты должен стоять так, чтобы я мог достать тебя, только подняв руку!
Карлик Левон кубарем откатился в сторону и посмотрел на своего царя и его трость. Он тоже ударит? Два раза взмахнет государь дубиной и... настанут новые времена.
— Давайте посмотрим Янтарную комнату, Пётр, — довольно сказал Фридрих Вильгельм. Он ещё раз стукнул взвывшего лакея по спине. — Дорога свободна. Пойдёмте на четвёртый этаж.
Ругань и удары короля смели всех из коридора и лестницы. Фридрих и Петр дошли до угловой комнаты, король открыл дверь, и Петр вошёл в удивительную комнату.
Солнце светило через два угловых окна, одно из которых выходило в декоративный парк, а второе — на площадь перед дворцом. Петр замер, как будто ослеплённый золотистыми оттенками янтаря, этим сиянием пойманного солнца, мерцанием лучей, отраженных от мозаики и фигур, розеток и растительных орнаментов, от выразительных скульптурных портретов и восьми посмертных масок. Царь рассматривал одну панель за другой.
Хотя сам царь жил скромно, он был одержим искусством, пытаясь превратить свой любимый Петербург в самый красивый город западного мира. Уже в 1714 году, через два года после того, как он первый раз любовался Янтарной комнатой, он основал в Петербурге Кунсткамеру и издал указ повсюду собирать произведения искусства и разные редкости и доставлять их в Кунсткамеру. В Эрмитаж свозились необъятные сокровища.
— Какое чудо, — прошептал Пётр так тихо, как будто находился в церкви. — Фридрих Вильгельм, я вам завидую. У вас есть такое сокровище. Это единственное, в чем я вам завидую...
— Она вам нравится, Пётр?
— Если бы я был один, то встал бы на колени и целовал эти стены.
— Нам надо ещё многое обсудить. — Фридрих Вильгельм, как и Пётр, не был любителем дипломатических хитростей и всегда шел прямо к цели. Он спокойно наблюдал, как царь переходит от одной панели к другой, а всего их было двенадцать, они составляли ряд четырнадцать метров длиной. Петр наклонялся, чтобы рассмотреть резьбу по янтарю, кончиками пальцев нежно гладил мозаику и орнамент, восхищенно качая головой. — Пётр, мне нужна Передняя Померания. Она принадлежит Пруссии, а не Швеции. Что вы думаете о союзе России и Пруссии?
— Я желаю его уже четыре года. — Пётр выпрямился и повернулся к королю. — Ваш отец отказал мне в 1712 году, когда пытался его заинтересовать таким союзом. «Я не хочу стрелять, хочу танцевать», — рассмеялся он тогда мне в лицо.
— И привёл Пруссию на грань банкротства. Пётр, я готов к установлению нового порядка. Сильная, непобедимая армия, воспитание и дисциплина, желание работать и любовь к отечеству, повиновение вплоть до смерти. Человека надо воспитывать, иначе он останется блеющей овцой! Будущее принадлежит силе!
— Союз между Пруссией и Россией только укрепит нашу дружбу. — Царь нарисовал тростью на пыльном полу подобие карты. Пол здесь протирался только раз в неделю, а не два раза в день, как в остальных помещениях. Кому нужна эта Янтарная комната на четвёртом этаже? — Это запад России, Восточная Пруссия, Польша, Померания, Бранденбург, Пруссия. — Пётр ткнул в пыльную карту и несколько раз кивнул.
— Это Передняя Померания, Фридрих Вльгельм. У меня к ней нет интереса. Конечно, она может принадлежать и Пруссии. Надо только победить Швецию. Вдвоём мы это сумеем.
— Благодарю вас, Пётр. — На мгновение он вспомнил о Софии Доротее, с которой говорил совсем о другом. Но он отбросил эти мысли. Женщины и политика? Они должны рожать детей и радовать мужей, вот их главная задача. О судьбе народов будут думать мужчины. Такие как Пётр и я. Настоящие мужчины!
— Забирайте Янтарную комнату.
— Это плохая шутка, Фридрих Вильгельм!
— Никаких шуток. Я вам её дарю.
— Я не могу принять такой подарок. — Царь выглядел озадаченным, что случалось с ним нечасто. Он всегда был первым, лучшим, самым умным и смелым, всё умеющим и неотразимым. — Нет, я не могу. Это неповторимый шедевр...
— Передняя Померания для меня ценнее и важнее. — Король ударил тростью по кнопке бриджей. — Я прикажу её разобрать и доставить на границу, в Мемель. Там её смогут забрать ваши люди.
— Это так неожиданно, друг мой. — Пётр подбежал к Фридриху Вильгельму, хотел его обнять и поцеловать, но король, вспомнив о медвежьей силе царя, не имел желания получить несколько сломанных рёбер после этих объятий. Поэтому он выронил буковую трость и наклонился за ней. Этим он элегантно избежал болезненных объятий, а когда выпрямился, то порыв нежной благодарности Петра уже прошёл.
— Пойдёмте за стол! — сказал король и покачал тростью. — Если токайское ещё не подали, я научу эту каналью бегать!
— Что подадут на стол? — спросил царь.
— Не знаю. Это забота королевы. У моей Фикхен хороший вкус.
— Я довольствуюсь малым. Щи, каша, холодное жаркое с солёными огурцами, немного овощей, но на десерт никакого сладкого, это вредно для желудка. Можно фрукты и лимбургский сыр.
— Этого у нас нет, — рассмеялся Фридрих Вильгельм. — Иначе я пришлось бы наказать моего повара. Как мы с вами похожи, Пётр. Для меня кружка пива тоже лучше французского шампанского. И на деревянной табуретке я сижу охотнее, чем на подушке. Моей заднице всё равно.
Царь последовал за королём и в дверях остановился. Долгим, сияющим взглядом он посмотрел на отливающие золотом стены Янтарной комнаты.
— Теперь она действительно принадлежит мне? — спросил он, как ребёнок, получивший неожиданный подарок.
— Поступайте с ней, как пожелаете.
— Непостижимо. Я никогда этого не забуду, Фридрих Вильгельм.
— Не забудьте о Передней Померании, она мне дороже сотни Янтарных комнат, Пётр.
Они покинули угловую комнату и спустились в большой зал, где их ждали гости, приглашённые на праздничный обед. На лестнице король остановился и дёрнул царя за рукав.
— Там стоит одна женщина, от которой у меня мурашки по коже! — сказал он. — Посмотрите на эту полную ожидания красавицу. Вы уже чмокаете в предвкушении удовольствия. Кто она?
Взгляд Фридриха Вильгельма остановился на даме с глубоким декольте и пышным бюстом, в длинном завитом парке и сверкающем шёлковом платье. Она стояла рядом с князем Нетяевым. Фридрих показал на неё пальцем, и все посмотрели на красавицу. Царь широко улыбнулся, его усы заплясали над верхней губой.
— Это Наталья Емельяновна, — сказал он непринуждённо. — Моя фаворитка во время поездок. Я знаю, что вы об этом думаете, кузен, но не только желудок тоскует о еде и напитках, не только душа ищет интересную беседу, но и у сердца есть свои требования. В постели Наталья просто огонь.
— Мой отец сошёл бы с ума. — Король грузно шагнул на последнюю ступеньку лестницы. — Я разрешаю вашей Наталье сидеть за моим столом, раз она вас сопровождает.
Начался праздничный обед, о котором в берлинском дворце помнили ещё долго.
Царь сел справа, рядом с Софией Доротеей, фаворитка Наталья — слева от него, а король должен был сесть рядом с ней. Но Фридрих Вильгельм изменил порядок, занял стул рядом с Фикхен, а графу фон Булову приказал сесть с «белыми шарами», как он назвал декольте Газенковой. Как на эту замену отреагирует Пётр, ему было безразлично.
Он был хозяином дома, а дом короля Пруссии — обитель нравственности, без девиц лёгкого поведения, без любителей мальчиков и скользких подхалимов. Рядом с Фикхен, на подушках сидел кронпринц Фридрих, чтобы он мог видеть уставленный яствами стол. Вдоль стен выстроились лакеи, в глубине зала оркестр тихо играл музыку Генделя, Скарлатти и Шютца. При дворе знали, что на официальных обедах царь любит музыкальное сопровождение.
Пётр I имел прекрасный аппетит. Как и ожидалось, он мог не обратить внимания на салфетку из тонкого шелка, с ножом и вилкой обращался очень неловко, пролил соус и облизывал пальцы. Когда на его жилет брызнул сок из жаркого, он не смутился, а просто потер его большим пальцем и сунул палец в рот.
— Превосходный вкус, мадам, — сказал он Софии Доротее. — Фазан нежный, как женская грудь. Откусишь и чувствуешь во рту блаженство.
Он произнёс это так громко, что услышали все сидящие за столом. Принцесса Вильгельмина опустила голову и захихикала. Она сидела достаточно далеко от отца, иначе Фридрих Вильгельм ударил бы её через стол тростью.
Однако король всё-таки рассердился на слова царя, их можно было произнести в мужской компании, а не при дамах. Фридрих Вильгельм не привык сдерживать свой гнев и находил кого-нибудь, на ком можно отыграться. Его взгляд остановился на лакее, стоявшем у стены напротив него и прислуживал генералу Одоевскому. Бокал генерала был пуст, и это оказалось достаточным поводом, чтобы наказать лакея.
Когда царь садился за стол, его удивило, что рядом с приборами короля на столе лежат два пистолета, он даже хотел спросить, не боится ли король покушения во время еды. Теперь Петр с пораженно увидел, как король подскочил, схватил пистолет, вскинул его и прицелился в побледневшего и задрожавшего лакея.
— Подлец! — заорал Фридрих Вильгельм. — Не видит пустой бокал. Спит стоя.
Прогремел выстрел, но из ствола вылетела не пуля, а облако грубых кристалликов соли. Они попали бедному лакею прямо в лицо, оцарапав кожу. Он отвернулся, выбежал из зала и уже за дверью зарыдал.
Царь довольно оглядел сидящих за столом. Когда Фридрих Вильгельм сел и положил пистолет рядом с тарелкой, русские гости были поражены, а пруссаки не показывали эмоций и равнодушно продолжали есть. Им это знакомо, догадался Пётр. Одна из многих причуд прусского короля — надо взять её на заметку.
Князь Нетяев и генерал Одоевский обменялись быстрыми взглядами. Царь опять кое-чему научился, как делает это всегда и везде: он валил деревья, пилил доски, вырезал по слоновой кости, ковал подковы и выдёргивал зубы. Потом, в Петербурге, он вдруг начнет стрелять солью и будет радоваться при виде скачущих лакеев и пажей. Господи, защити Россию, ведь в пистолет может быть заряжена и пуля вместо соли.
После десерта король встал, и обед закончился. Дамы присели перед царем в низком книксене и покинули зал, мужчины остались и под предводительством короля перешли в курительную комнату, где их ждали коньяк, пиво и венгерское красное вино.
По знаку Петра в зале осталась его фаворитка Наталья Емельяновна, и взгляды всех мужчин остановились на её глубоком декольте. Фридрих Вильгельм выпятил нижнюю губу. Такому гостю не скажешь, что девице лёгкого поведения не место в кругу мужчин при дворе прусского короля.
— Ваш выстрел солью был впечатляющим, — сказал Пётр и засмеялся. Он обнял фаворитку за стройную талию и без стеснения шлёпнул её по заднице. — Это показывает вашу власть над людьми, вашу независимость и силу. У меня тоже есть жест, который всем понятен. Смотрите-ка, дорогие друзья…
Он схватил со стола серебряное блюдо, поднял его, обхватил обеими руками и начал закручивать — без какого-либо усилия, как бумагу. Газенкова захлопала, король, не отрывая глаз, смотрел на согнутое блюдо, и царь протянул ему эту серебряную трубку, как скипетр.
— На память, — улыбнулся он. — Теперь вы понимаете, почему малышка Наталья всегда со мной? Куда мне девать столько сил?
Он и впрямь как сибирский крестьянин, подумал Фридрих Вильгельм. А я наоборот, достойный глава семейства. Чёрт возьми, он грубее меня. Теперь это поняла даже Фикхен. Это утешает…
— Теперь к трубкам и коньяку, — скомандовал повеселевший Фридрих Вильгельм. Двое слуг распахнули двери в курительную комнату. — Позволим себе насладиться, дорогие господа, после этого будет смотр войск.
В декоративном парке построился Первый батальон Первого гвардейского полка. Гренадеры ждали короля и его гостя, царя из России. Для этого парада они тренировались неделями, унтер-офицеры и фельдфебели ругались и лупили солдат тростями, если они не шли строго по прямой или сбивались с ритма строевого шага, когда повороты вялыми, а боевые упражнения выглядели как игры с детским деревянным оружием. Командир гвардейцев, полковник фон Раммштайн, каждый день инспектировал войско и в течение часа наблюдал за муштрой.
Всё получалось превосходно, но он никогда не был доволен. Командир не должен быть довольным, от этого солдаты становятся безответственными и ленивыми. Следуя этому девизу, фон Раммштайн кричал на офицеров, они орали на фельдфебелей, а те ревели на гренадеров, как быки на бойне, и лупили их.
Теперь Первый батальон стоял на огромном строевом плацу в декоративном парке и ждал царя и короля. Эта демонстрация прусской военной подготовки была настолько важным мероприятием, что главный реформатор прусского войска, ещё в 1713 году произведённый королём Фрдрихом I в фельдмаршалы и этим поднятый на высшую ступень прусского общества, за день до приезда царя в Берлин лично провёл специальную проверку.
— Речь идёт не только о репутации! — сказал при этом старина Дессауер полковнику Раммштайну. — Мы должны произвести впечатление, что непобедимы. И что всё принадлежит нам — стоит только захотеть. Каждый должен исполнить свой долг. И с радостью. От этого зависит всё.
Полковник Раммштайн ответил:
— Вы правы, герр фельдмаршал!
Он намеревался передать это изречение Дессауера офицерам как новый девиз.
Леопольд фон Ангальт-Дессау ввел в армию много нового. Печально известная и пользующаяся дурной славой прусская муштра была его работой.
В армии всё должно подчиняться порядку, так он обосновывал муштру. От приказов командиров до передвижения ровным и парадным шагом и калибра оружия. Строевая подготовка — это когда солдаты стоят в шеренгах, как части единого механизма, и в этом надо упражняться, всегда и без устали, до тех пор, пока солдат не станет настоящим военным.
Краеугольный камень такой армии с полным подчинением и марширующими солдатами был заложен. Солдат не должен думать, только подчиняться. Он всего лишь корм для молоха войны.
Уже в 1698 году Дессауер сделал важное изобретение. Для оружия, которое заряжалось порохом и свинцовыми пулями со стороны дула, использовался деревянный шомпол, и часто во время боя он ломался. Тогда солдаты не могли стрелять. Когда Дессауер это подметил, его озарила простая до гениальности идея, ведь многие гениальные идеи просты. Он изобрёл металлический шомпол. Он не ломался, позволял быстрее заряжать оружие и повысил скорострельность.
«Хорошо стрелять, быстро заряжать, неустрашимость и смелое нападение — это и есть настоящая солдатская жизнь», — говорил Дессауер войску, и оно день за днём упражнялось, солдат ругали и погоняли палками.
Старина Дессауер проверил всё, что должны были показать царю, и одобрительно кивнул полковнику Раммштайну.
— Это произведёт впечатление, — сказал он. — Я доволен. Думаю, король тоже будет доволен.
Фельдфебелю Гансу Гоппелю он приказал приблизиться. Это был широкоплечий, усатый парень родом из Восточной Пруссии, внушающий страх всем новобранцам, которые попадали в его руки. Из его легких вырывался поразительный рык. Кроме того, он во всем был впереди, никогда не уставал и орал на всех обессилевших:
— Что я могу, то и вы сможете, канальи! Нужно только захотеть!
Закон старины Дессауера.
— Завтра вы показываете с двенадцатью специально отобранными гренадёрами особое представление? — спросил Дессауер, когда Ганс Гоппель вытянулся перед ним по струнке. — Будете демонстрировать ближний бой?
— Так приказано! — браво отрапортовал Гоппель. — Нападение и уничтожение противника всеми видами оружия.
— Будьте внимательнее, фельдфебель! — Дессауер предупредительно поднял руку. — Не показывайте царю слишком многое из нашей тактики. Иначе он её скопирует. Покажите только пару маневров: атака, удар, укол. Этого достаточно. Непобедим тот, чьё оружие неизвестно. Всего хорошего, фельдфебель.
Трудно придумать более высокую честь. Престиж Ганса Гоппеля вырос настолько, что он даже испугался.
Появление генерала Иоганна фон Швайница, армейского инспектора, свидетельствовало о приближении короля и царя. По рядам Первого батальона прокатилась короткое нервное движение, потом гренадеры, все — ростом не ниже метра девяносто, в высоких, как башни, киверах, делавших их ещё выше, застыли, как статуи с гигантскими телами и головами, от вида которых всякий нормальный человек придёт в ужас, ощутив рядом с ними свою незначительность.
Король прошёл по строевому плацу, а сбоку от него (гренадёры, увидевшие это искоса, не могли поверить) шагал раскачивающейся походкой моряка, которые всегда вместо земли под ногами чувствуют море, двухметровый гигант вроде них, без парика и шёлковой одежды, в грубых штанах и башмаках, зато его зоркий взгляд проникал прямо в душу.
Пётр остановился перед Первым батальоном и посмотрел на Фридриха Вильгельма сверху вниз. За ними, отступив на два шага, остановились сопровождающие: старина Дессауер, генерал-лейтенант фон Грумбков, генерал фон Швейниц, генерал фон Ренкендорфф, барон фон Пёллнитц, князь Нетяев, генерал Одоевский и карлик Левон Усков. Перед таким сборищем гигантов он должен был чувствовать себя жуком.
— Поздравляю, — сказал царь. — Я никогда не видел такого войска. Везде о них говорят, во всех странах, а теперь я вижу это собственными глазами. Какого роста самый низкий?
— Метр девяносто, ваше величество, — сказал генерал фон Швайниц.
— Отличный рост! — Царь обернулся. — Я мог бы тоже у вас служить, Фридрих Вильгельм.
— Вс бы я сразу произвел в фельдфебели! — Король засмеялся и показал тростью на неподвижную шеренгу в мундирах. — Пройдёмте вдоль шеренги, дорогой друг.
Их величества пошли вдоль строя, и полковник фон Раммштайн скомандовал звонким, пронзительным голосом:
— Внимание! На крааа-ул!
Ряд гигантов вздрогнул, ружья взметнулись в воздух, попали точно в левую руку на уровне груди, раздался один громкий хлопок. Руки остановились на одной высоте, приклады, стволы, макушки киверов и носки башмаков выровнены. Линия не могла быть ровнее. Старина Дессауер, стоявший позади короля, довольно кивнул. Это наверняка поразит царя! Вот она, прусская основательность.
Полковник Раммштайн отдал приказ, поставил длинное офицерское ружье со штыком на землю перед царём и отдал честь. Офицеры, стоявшие перед своими подразделениями с ружьями, поставленными на землю, сдернули левой рукой с голов высокие кивера и остались в белых париках.
Фридрих Вильгельм гордо шагал вдоль строя, совершенно забыв о госте. Он находился на вершина блаженства. Пройти вдоль строя гренадеров, посмотреть каждому в лицо и дать каждому почувствовать: я ваш отец, я всех вас люблю, мерзавцы и канальи!
В конце строя король встрепенулся. Он ткнул тростью в землю и поднял сияющий взгляд на царя.
— Как они выглядят, так и воюют! — сказал он с гордостью. — Они вам продемонстрируют, что против них нет оружия. Всему, что умеет моя гвардия, обучена и остальная армия.
В то время как внизу, на плацу, начался показ боевых действий, наверху, на четвёртом этаже, у углового окна Янтарной комнаты стояли двое мужчин и наблюдали за происходящим. Один из них носил простой, длинный синий сюртук, второй — в ливрее дворецкого.
— Неужели то, что вы услышали, правда? — спросил человек в сюртуке и посмотрел вниз на царя, сидящего в широком кресле и наблюдающего за манёврами двенадцати гренадёров под командованием фельдфебеля Гоппеля. Они демонстрировали атаку и захват вражеских укреплений.
— Из первых рук, Вахтер. Королева сама сказала это генеральше фон Кнобельсдорфф: «Представляете, король подарил Янтарную комнату царю». Я стоял в метре от них и хорошо всё слышал.
— Король не мог подарить Янтарную комнату. — Голос Вахтера дрожал.
— Почему же не мог… Она принадлежит ему.
— Подарить её России… Для Пруссии она будет навек потеряна. Он не должен этого делать.
— Король вправе сделать всё… Кто ему помешает? — придворный Карл Урбан схватил Вахтера за руку. — Я решил сразу сообщить вам об этом, чтобы вы не рухнули в обморок от ужаса, когда об этом скажет сам король.
— Вы настоящий друг, Урбан. — Вахтер опять посмотрел на царя, тот захлопал в ладоши, когда гренадёры Гоппеля продемонстрировали, как саблей срубить голову противнику. — Я поговорю с королём.
— Поговорите? Вы хотите стать калекой после побоев палкой, Вахтер? Подарок обратно не заберешь! Лучше молчите, Вахтер. Примите это, как волю Господа. Король найдёт вам другое место. Есть еще много других дел. Прошу вас, это судьба, склонитесь перед ней…
Вахтер резко кивнул и опустил голову, как будто она отяжелела. Потом он похлопал Карла Урбана по плечу, повернулся, бросил блуждающий взгляд на залитую солнцем Янтарную комнату и не поднимая головы вышел.
Царь, ставший другом короля и восхищенный армией Фридриха, путешествовал еще долго. Как раз когда он рассказывал об этом чуде в Париже, в квартиру Фридриха Теодора Вахтера пришёл слуга и передал приказ короля срочно к нему явиться.
Вахтер выглянул в окно. Наступили сумерки, королевская семья обычно в это время уже закончила ужин. Теперь король сидит за бумагами, подсчитывает военные расходы, читает доклады счётных палат и делает пометки на полях. Он был неутомимым тружеником и лично занимался всем: от торговых пошлин до возделывания заболоченных земель, от военной формы солдат до мира в домах граждан. Иногда он появлялся с неизменной буковой тростью посреди семейной ссоры, если во время поездок по Берлину слышал ругань.
— Когда? — удивлённо спросил Вахтер.
— Немедленно.
Вахтер надел синий сюртук, жена протянула ему каштановый парик. В глубине комнаты, у канделябра с шестью свечами, их десятилетний сын Юлиус читал школьный учебник.
— Чего король от тебя хочет? — озабоченно спросила Адель Вахтер. — В такой-то час? Может быть, Урбан, этот подхалим, который советовал тебе помалкивать, передал королю твои слова? Тогда тебе,Фриц, наверняка грозят побои. Может, он бросит тебя в тюрьму или отправит в солдаты… Почему ты не промолчал?
— Посмотрим, Дайхен. — Он поцеловал жену, застегнул сюртук и последовал за лакеем в кабинет короля.
Когда Вахтера впустили в кабинет, Фридрих Вильгельм действительно работал, сгорбившись над длинным списком. Человеку такого низкого чина полагалось дожидаться у двери. Король поднял голову и посмотрел на него.
— Подойди ближе, — сказал он спокойно. Тон был, как всегда, приказным, но без гнева. — Подойди ко мне. Ещё ближе… Ты что, боишься?
— Нет, ваше величество.
— Это ты правильно сказал. Короля Пруссии не надо бояться, его надо любить. Даже когда ты почувствуешь на спине палку, это для твоего же блага. Ты знаешь, что я подарил Янтарную комнату царю? Тебе уже передали?
— Да, ваше величество.
— И что же, Вахтер?
— Это для меня горе, ваше величество.
— Ты не понимаешь, в чём дело, потому что ты ничего не знаешь о политике. Да и не должен знать того, чего не можешь понять. Вахтер, ты ведь хранитель Янтарной комнаты? Я помню, ты два раза мне докладывал.
— Три раза, ваше величество.
— Не учи меня, каналья! — Фридрих Вильгельм нахмурился. — И давно ты присматриваешь за Янтарной комнатой?
— С 1707 года, ваше величество. Цокольные и настенные панели были закончены, дальнейшие работы производили мастера по янтарю Эрнст Шахт и Готфрид Туров из Данцига. Отец вашего величества, Фридрих I, назначил меня пожизненно хранителем Янтарной комнаты. — Вахтер замолчал, а потом тихо добавил: — Прошло только двенадцать лет.
— Ты думаешь, каналья, что я не умею считать? — Король ударил кулаком по столу. — Теперь Янтарная комната отправляется в Петербург. Что означает пожизненно, Вахтер? Твоя жизнь теперь связана только с ней?
— Почти, ваше величество. У меня сердце разрывается от того, что Янтарная комната уезжает в Россию.
Фридрих Вильгельм замолчал и долго буравил его взглядом.
«Сейчас он решает как со мной поступить, — подумал Вахтер. Палка, тюрьма, отправка в солдаты или просто объявит вне закона. Как это всегда бывает… Ведь моя жизнь ничего не стоит». Король неожиданно заговорил, и Вахтер вздрогнул.
— Ты верный слуга королю и короне. Я доволен тобой. Поверь, я избавляюсь от Янтарной комнаты с такой же охотой, как от глистов. Повторю ещё раз: ты ничего не понимаешь в политике. Речь идёт о величии Пруссии. Я не хочу, чтобы меня называли, как отца — королём в Пруссии, я хочу быть королём Пруссии. А для этого мне не хватает Передней Померании, которая находится под шведами. Она должна принадлежать Пруссии! Тебе ясно, Вахтер?
— Да, ваше величество. Договор с русским царём…
— Хватит болтать! — Король энергично взмахнул рукой. — А что касается тебя.... Ты жил ради Янтарной комнаты, так оно и останется. Вахтер, ты поедешь с Янтарной комнатой в Петербург и и будешь находиться при ней до самой смерти. Я напишу об этом царю. У тебя есть сын?
— Да, ваше величество. — Вахтер почувствовал комок в горле и не смог произнести ни слова. В Петербург… с Янтарной комнатой к царю… Я останусь там. Только бы сердце не выскочило из груди… Мы покинем Берлин и будем жить в Петербурге, этом восточном Версале. — Юлиусу десять лет, ваше величество.
— А твоей жене?
— Будет тридцать один.
— А тебе?
— Уже сорок три.
— И только один ребёнок? Вахтер, ты крепкий мужчина, жена молодая — и только один сын?! Не разочаровывай меня, когда будешь жить в Петербурге, сделай своей жене ещё несколько детей, ещё сыновей. Один не может служить гарантией, он может умереть. Я даю тебе задание, потому что, несмотря ни на что, любил своего отца. Вахтер, поклянись мне, подними руку и поклянись именем Господа…
Король поднялся со стула и вытянул три пальца вверх. Выглядело это так торжественно, что Вахтер опустился на колени и тоже поднял пальцы.
— Клянись перед Богом, — начал король, как проповедник в церкви, — что ты никогда не оставишь Янтарную комнату и будешь её оберегать, как собственный глаз и собственного ребенка, будешь хранить её от всех опасностей не щадя своей жизни и заботиться о ней до конца своих дней. И твой сын примет на себя эту обязанность по наследству, и его сын, из поколения в поколение и во все времена до конца света, пока жива Янтарная комната.
— Клянусь, ваше величество. — Вахтер опустил голову и руку. По его щекам текли слезы.
— Не будь бабой! — воскликнул Фридрих Вильгельм и шлёпнул Вахтера по опущенному лбу. — Мужчины не плачут. Впрочем, ты можешь сказать, что плачешь от счастья.
— Я плачу от счастья, ваше величество.
— Тогда быстрее проваливай отсюда, пока тебя не догнала палка. Завтра тебе выплатят сто талеров. В Петербурге ты должен выглядеть не как пугало, а как доверенное лицо короля Пруссии. Ты будешь представлять нашу страну, почти посол. Тебе ясно? И горе тому из твоих потомков, кто забудет о моём поручении. Через сто или двести лет… моё проклятье их покарает! Ты, Вахтер, с сегодняшнего дня и навеки веков получил обязанность производить на свет сыновей и заботиться о Янтарной комнате. А теперь иди, я и так слишком долго с тобой болтал.
— Позвольте задать один вопрос, ваше величество.
— Какой?
— Когда комнату разберут и отправят в Петербург?
— В этом году, Вахтер. Или в январе следующего. Так что поспеши… ты и так достаточно бездельничал. Не провоцируй меня, а не то накажу.
Вахтер низко поклонился, вытер слёзы и вышел из кабинета. Король с довольным видом вернулся за стол, сел на простую деревянную табуретку и потянулся за трубкой.
Разборка Янтарной комнаты потребовала больше времени, чем предполагал король — нужно было снять со стен тяжёлые резные панели, орнаменты, фигурки, скульптуры и мозаики. Комнату могли разбирать только специалисты, которых в Берлине не оказалось. Вахтер запросил мастеров из Данцига и Кёнигсберга, три раза ссорился с королём, а тот ругался, что все эти поездки, питание и жалованье стоят очень дорого, и если бы он знал об этом заранее, то оторвал бы чёртову солнечную комнату от стен хорошим зарядом пороха. А когда Вахтер осмелился сказать ему, что это «дорогой подарок», то почувствовал на своей шкуре буковую трость. Но боли он не почувствовал, ее пересилила радость от того, что он это сказал.
Три раза король поднимался на четвёртый этаж, останавливался около двери и критическим взглядом наблюдал, как мастера из Кёнигсберга осторожно разбирают Янтарную комнату. На бережную разборку каждой янтарной панели уходило полдня. Миллиметр за миллиметром её отделяли от деревянной основы, которую уже проела плесенью, она крошилась и пришла в негодность.Снятые со стен детали снова укладывалось на массивные, пропитанные маслом деревянные панели. По словам Вахтера, они сохранятся сотни лет.
— Для этого к комнате и приставили Вахтеров! — сказал Фридрих Вильгельм. — И горе тем из них, кто забудет свои обязательства! Даже через пятьсот лет! Когда ты закончить, мезавец?!
— Не знаю, ваше величество. Не в этом году.
— Жена не забеременела?
— Пока трудно сказать...
— Но ты спишь с ней?
— Как приказало ваше величество.
— Продолжай в том же духе, заботься о Янтарной комнате и делай детей. Вахтер, ты должен показать свои старания, одними обещаниями не отделаешься.
За три дня до Рождества Адель Вахтер забеременела. Акушерка это подтвердила. Фридрих Теодор Вахтер немедленно сообщил об этом королю.
— Теперь молись, чтобы родился мальчик, — сказал король. — Если будет девочка, продолжай стараться, Вахтер. Пока не будет двух мальчиков в запасе!
— Мне это нетрудно.
— Я надеюсь! — рассмеялся Фридрих Вильгельм. — Настоящий мужчина вынослив, как волк зимой.
Адель Вахтер была не так довольна. Не тем, что ей ещё несколько раз придётся стать матерью, а тем, что он охотнее бы исполняла пожелание короля в Берлине. Но в Петербурге? У русских? У этих дикарей, какими все их считают? Которые едят сырой лук и пукают за столом, зимой спят на кирпичных печках и там же, рядом с детьми, делают новых детей. Алёша, подвинься к стене, маме надо ноги пошире раздвинуть… О господи, теперь придется так жить всегда?! Неужели это необходимо?
А Вахтер рассказал о своей клятве и под конец решительно произнес:
— Да, это необходимо, Дайхен. На земле повсюду живут разные люди, белые или мавры, узкоглазые или с плоскими носами, но пока мы остаёмся людьми, нас везде будут любить и принимать по-братски. Петербург — самый красивый город после Парижа. Он станет нашей родиной, родиной всех наших потомков, до тех пор пока там будет находиться Янтарная комната. Давай смотреть на это так, как будто нам крупно повезло. Ты научишься любить русских, а следующие семь лет ты в любом случае будешь рожать.
К Рождеству король выделил Вахтеру ещё двести талеров, невиданное богатство для простого человека, который мог позволить себе только жидкий суп, тушёные овощи, в воскресенье кусочек мяса и иногда, как на этот святой праздник, тощего гуся или старого жёсткого петуха. Двести талеров для Петербурга, чтобы купить одежду и мебель. Боже милостивый, какая забота!
Ход работ по разборке Янтарной комнаты уже можно было оценить. Вахтер обязался самое позднее до 20 января 1717 года подготовить для упаковки все ценные предметы. Сколотили огромные ящики, приготовили опилки и даже гусиный пух, чтобы доставить эту драгоценность в Петербург неповреждённой.
— Пока всё идёт прекрасно, — сказал король Вахтеру. — Ты проделал хорошую работу. Теперь позаботься о перевозке. Я тебе обещаю, если мне сообщат, что в Петербург доставили обломки, я сяду в карету, найду тебя в России и прибью.
— Я не отвечаю за перевозку, ваше величество.
— Отвечаешь, Вахтер! Тебе нужен приказ? Ты его получишь. Все будут тебе подчиняться. На заставы, через которые проедет обоз, будет передан приказ, чтобы тебе оказывали всяческую помощь. Ты теперь доволен, мерзавец?
— Очень доволен, ваше величество.
— Я напишу царю, он сейчас в Голландии, что в конце января ты прибудешь с комнатой в Мемель, и там Пруссия официально передаст её России. Правильно?
— Да, ваше величество. — Вахтер, который уже несколько недель размышлял над картой, чтобы добраться до Мемеля лучшей дорогой, задумчиво подбирал каждое слово. — Мне нужен корабль.
— С ума сошёл? Зачем тебе корабль?
— По воде до Мемеля самый удобный и безопасный путь. Всё время вдоль берега, без хлопот и забот из-за разбитых дорог, непроходимых лесов, перекрытых мостов, сломанных колёс, повреждений от бури и снега, обморожения и других мучений. От Мемеля дорогу определят русские.
Фридрих Вильгельм сердито взглянул на Вахтера.
— Хочешь получить корабль? Ты что, Вахтер, хочешь разорить своего короля? Прусские дороги славятся хорошим состоянием. Сам царь их похвалил. А для тебя они недостаточно хороши, да?!
— Речь идёт о сохранении Янтарной комнаты, ваше величество. Я отвечаю за неё головой и не хотел бы потерять.
— Ясно, Вахтер. Я подумаю, что можно сделать.
***
17 января 1717 года царь Пётр I написал письмо своей супруге Екатерине из Амстердама.
«Дорогая Екатерина!
Помимо множества новостей, о которых уже сообщалось, посещение Берлине доставило мне огромную радость. Король Пруссии подарил мне Янтарный кабинет, подобного больше нет во всём мире. Я хочу установить его в Петербурге, в Зимнем дворце на Неве. Он тебе понравится, это удивительная красота».
А в Петербург он направил приказ:
В конце января направить в Мемель специальную миссию под командованием оберхофмаршала. Там ему следует принять колонну повозок короля Пруссии, главный там Фридрих Теодор Вахтер из Берлина, и доставить груз в целости и сохранности, с величайшими предосторожностями в мой город. Разгрузить в Зимнем дворце и ждать моего возвращения из Голландии. Охранять днём и ночью.
Это была гонка со временем. Разборку Янтарной комнаты почти закончили, резьбу и мозаику прикрепили на новые деревянные панели, готовые ящики стояли в столярной мастерской, из Щецина до Мемеля комнату собирались доставить на корабле с вместительным трюмом, но началась зима с метелями и морозами, так что Вахтер сказал королю:
— Ваше величество, я не осмеливаюсь при такой погоде отправлять повозки в Щецин.
Фридрих Вильгельм принял это к сведению.
— Видишь, как беспомощен человек против природы. Подожди до лучших времен, — ответил он с пониманием. — Как твоя нога?
Вахтер пожал плечами. По пути в столярную мастерскую он подскользнулся на льду и упал так неудачно, что сломал левую ногу. Его лечил военный врач гвардейцев, перед которым дрожали даже гренадеры. Он зажал ногу между двумя дощечками и наложил повязку. Теперь Вахтер везде ковылял с костылём, часто с гримасой боли на лице. Врач сказал, что он, возможно, навсегда останется хромым, потому что перелом был очень сложным, кости срослись неправильно и левая нога стала короче правой.
— Терпимо, ваше величество, — ответил Вахтер.
— Радуйся, что у тебя не одна нога, как у многих моих солдат после сражения. Это не помешает тебе следить за Янтарной комнатой, да и детей делают не ногами! Ты настоящий мужчина.
Адель Вахтер в это время занималась покупками. Она уже упаковала все вещи, но осталось еще семьдесят талеров Их сын Юлиус изучал карты, гравюры и описания Петербурга и России и дрался со сверстниками, которые уже обзывали его «русским». Адель чувствовала себя неважно, её часто тошнило, вынашивание второго ребёнка доставляло ей много хлопот. Она ела много яблок и вишню в сахарном сиропе, и акушерка, женщина опытная, внимательно посмотрела на неё и сказала: «Будет девочка. Точно девочка. Видно по лицу».
Наступил апрель.
Живот жены Вахтера округлился, её положение стало заметным, а Вахтер уже ковылял без костылей и шины. Он и правда стал немного прихрамывать, но был доволен своим состоянием. Доктор заявил ему: «У вас хорошие кости. И здоровая кожа. Вы поправились раньше, чем я думал».
Когда через двор берлинского дворца проскрипела колонна повозок, стояла чудесная весенняя погода. В восемнадцать массивных ящиков в опилки и пух были уложены янтарные панели, орнаменты, фигурки, маски, карнизы и цоколи.
Самый ценный груз, который когда-либо перемещался из одной страны в другую. Восемнадцать повозок сопровождали две кареты с домашней утварью Вахтеров, там же сидели Адель Вахтер, её сын Юлиус и пёс Мориц, живущий в семье уже шесть лет, удивительная помесь шпица, левретки и легавой с умными голубыми глазами и коричневыми пятнами на белой шерсти. Все знали о подвиге пса — во время строевых занятий он цапнул фельдфебеля Ганса Гоппеля за правую икру. Гоппелю стоило большого труда удержаться и не разрубить его саблей пополам.
Вахтер в последний раз оказался перед королём и, сам того не желая, опять не сумел удержаться от слёз.
— Вахтер, не реви! — строго сказал король. — На небесах я снова всех увижу… моих гренадеров и тебя! Счастливого пути и хорошо служи царю, присматривай за Янтарной комнатой, как поклялся, и думай о том, чтобы Господь простёр над тобой свою длань.
Потом он по-отечески стукнул Вахтера буковой тростью по левому плечу, в знак своего расположения и Вахтер воспринял этот удар почти как посвящение в рыцари.
— Храни вас Бог, ваше величество, — выдавил он, низко поклонился и вышел из королевского кабинета.
Через час колонна была готова к отъезду. Светило яркое весеннее солнце, все сто восемь лошадей — в каждой повозке по шестерке сильных, хорошо откормленных, выносливых и проверенных на пушках лошадей — ржали, как будто прощались. Четверка, запряжённая в карету, пританцовывала. Фридрих Теодор Вахтер забрался на серого в яблоках коня, осмотрел колонну и жестом подал знак к отъезду.
Фридрих Вильгельм стоял у окна кабинета и, оперевшись на трость, провожал обоз взглядом. «Получу ли я Переднюю Померанию? — думал он. — Сделаю ли я Пруссию самым сильным государством в Европе? Окупится ли подарок? Счастливого пути, Вахтер, и удачи тебе в Петербурге. Король будет вспоминать о тебе».
Пётр Алексеевич
Действующие лица:
Пётр Алексеевич Романов, царь Пётр I Великий
Екатерина Алексеевна, царица, вторая жена Петра
Александр Меншиков, фаворит царя
Пётр Шафиров, фаворит царя
Левон Усков, карлик и придворный шут
Алексей Петрович, цесаревич, сын Петра I
Фридрих Теодор Вахтер, хранитель Янтарной комнаты
Адель Вахтер, его жена
Юлиус Вахтер, его сын
Князь Долгоруков, советник Петра I
Граф Владимир Викторович Кубасов, дворецкий
Доктор Бенджамин ван Рейн, второй придворный врач царя
...
1717 год начался с сильных холодов. В России леса, поля, дома и дороги лежали во льду и снегу. Телеги стояли в сараях, а сани, запряжённые маленькими лохматыми лошадёнками с колокольчиками на сбруе, слишком маленькие для груза и слишком большие для людей, хрустели и скрипели на плотном снегу.
В Пруссии дела обстояли по-другому. Здесь уже началась весна — в этом году, правда, неторопливо. Колёса вязли в раскисшей земле, поэтому по дороге от Берлина до Кольберга, где должен был ждать корабль на Мамель, часто приходилось звать из домов и полей крестьян, чтобы помогли вытащить колёса из грязи.
Получив строгий приказ, лейтенант Иоганн фон Штапенхорст со своим отрядом кирасиров сопровождал колонну с драгоценным грузом, постукивая длинной ореховой тростью в подражание королю. Фридрих Вильгельм предоставил всадников в блестящих металлических кирасах для охраны, хотя Вахтер не видел в этом необходимости.
— Ты слишком хорошо думаешь о людях! — сказал ему король. — Запомни раз и навсегда: воров на дорогах больше, чем паломников, да и паломники не против при случае украсть или обмануть. Будь осторожен, Вахтер! Кругом один сброд.
Отряд кирасиров ждал колонну за воротами дворца. Таким образом, вместе с запряженными в повозки ста восемью тяжеловозами, одной серой в яблоках под Вахтером, шестеркой, запряженной в карету и тридцатью под кавалеристами, на восток направилось сто сорок пять лошадей. Лейтенант фон Штапенхорст, как оказалось, не знал, что охраняет, и сразу после приветствия спросил Вахтера:
— Что мы везём в Кольберг? Это ценный груз?
Ответ Вахтера был коротким:
— Спросите у короля, лейтенант. Я ничего не могу вам сказать.
До Кольберга ехали без происшествий, за исключением суматохи на каждой заставе, где колонна останавливалась на ночлег. Начальник заставы с ужасом воспринимал необходимость позаботиться о ста сорока пяти лошадях, шестидесяти шести мужчинах, одной женщине, ребёнке и собаке, и всё это из запасов на складе. Но как только Вахтер показывал письменный приказ короля, всё нужное тут же находилось, даже для Морица, этого монстра с пятнистой шкурой и голубыми глазами. Когда повар одной заставы бросил ему кость с запашком, пес обнюхал ее, поднял голову, уставился на повара, потом прыгнул на него и впился зубами в левое бедро. Не помогли ни крики, ни удары.
— Я прибью тебя, бестия! — кричал укушенный. — Подожди, только до ножа дотянусь. Я был забойщиком скота!
— Вы дали ему тухлую кость! — строго сказал Вахтер. — Вот пес и возмутился.
— Может он хочет жареную курицу? — заворчал повар.
— Было бы неплохо. Тогда бы он лизнул вам руку. У моего Морица человеческая душа.
Эти слова быстро разлетелись по заставе. Вечером, когда офицеры собрались в своём кругу, командир заставы в звании полковника спросил лейтенанта фон Штапенхорста:
— Кто этот Вахтер?
— Доверенное лицо короля… надо полагать. У него огромные полномочия. Лошадь из королевской конюшни. Тёмная личность.
— Король что, вдруг полюбил чудаков?
— Полковник, нас приучили не спрашивать, а подчиняться.
— Верно, лейтенант. Всё верно. Я часто сам себя спрашиваю: к чему это приведёт, когда весь народ должен думать в точности, как он. — Полковник махнул рукой, когда увидел входящих офицеров. — Посмотрим, что из этого выйдет. Господь милостиво не позволяет нам заглянуть в будущее.
В своём жилье, чаще всего это была комната в казарме, которую на одну ночь предоставлял фуражир, Адель Вахтер, тяжело дыша, сразу ложилась на кровать, измученная, усталая и бледная. От остановки к остановке ей становилось всё хуже, и иногда она долго лежала с закрытыми глазами, положив руки на круглый живот и не проронив ни слова.
Вахтер садился рядом, гладил по лицу, тоже клал руки ей на живот и больше ничем не мог её утешить.
— Скоро всё закончится, Дельхен, — говорил он с нежностью. — В Кольберге, на корабле, ты сможешь отдохнуть. Эта неровная дорога, с тряской и толчками…Я понимаю, как тебе тяжело. Стисни зубы и потерпи, Дольхен.
— Ребёнок пинает меня, как будто хочет выпрыгнуть из живота. С Юлиусом было не так. — Она обняла мужа за шею и приложила его голову к своему животу. — Слышишь, Фриц? Он борется, не хочет умереть в утробе.
— Он не умрёт, Дельхен. Уж конечно, не умрёт и появится на свет в Петербурге. Думай только об этом.
Примерно на полпути до Кольберга Вахтер изменил график. Он стал чаще делать остановки, укладывал Адель на мешок соломы в повозке с ящиками, чтобы она могла вытянуться, а Юлиус, которому скоро исполнялось одиннадцать лет, бежал в поле и искал на лугах и берегах рек свежую траву, которую Вахтер прикладывал к животу Адель. Это успокаивало и освежало её, заглушало тянущие боли и придавало сил.
В конце концов они добрались до Кольберга — маленького, красивого и чистого города на берегу Балтийского моря, последний раз остановились в казарме, а лейтенант фон Штапенхорст отправил посыльного в Берлин с докладом о благополучном прибытии в Кольберг.
На следующий день Вахтер вместе с Адель и Юлиусом отправился в порт, чтобы осмотреть корабль, на котором им предстояло плыть до Мемеля.
Корабль оказался небольшим, корвет с одной мачтой и без пушек. Вместо этого в широком корпусе находился трюм и пристройка с каютами для капитана, гостей и кубрик для команды. На носу развевался прусский флаг.
Вахтер, Адель и Юлиус поднялись по сходням на борт, а Мориц, привязанный на берегу к карете, жалобно скулил и громко лаял, обнажая клыки.
На палубе, несмотря на безветрие, они сразу ощутили небольшую качку. Первый раз в их жизни пол под ногами двигался, и это вызвало неприятное чувство неуверенности. Вахтер понял, почему матросы и на суше ходят вразвалку и широко расставив ноги, в точности как царь, любивший выходить в море.
Капитан «Вильгельмины II», так назывался корабль, подошёл к ним вразвалку, бросил взгляд на большой живот Адели и протянул руку Вахтеру.
— Вы прибыли с королевской колонной?
— Я её возглавляю, капитан.
— Добро пожаловать на борт. — Он пожал Вахтеру руку. — Когда будем грузить?
— Утром. Восемнадцать больших ящиков и багаж. Покажите, где их разместят. Они не должны получить ни малейших повреждений. Я доложу об этом королю. Если что-то пойдет не так, королевская трость короля охотно пройдётся по спинам, а в тюрьмах темно, сыро и много паразитов.
— Всё будет сделано, как прикажите. Мы закрепим ящики толстыми канатами. — Капитан сделал широкий жест рукой. — Но морю мы не можем приказывать. В апреле бывают шторма, тут уж ничего не поделаешь.
Они прошли в каюту капитана, выпили горячего чаю с ромом, погрызли сухари и сухие булочки. Капитан рассказывал о штормах и встречах с кораблями-призраками, от чего Адели стало плохо, а у Юлиуса загорелись глаза. Вахтер со смехом воскликнул:
— Хватит матросских баек, капитан! Пойдёмте, познакомимся с кораблём поближе.
Корабль оказался старым, но крепким. Корпус из прочного дерева, швы наглухо заделаны варом, а трюм, где будут размещены ящики, был очень сухим. На его стенах было достаточно железных крюков, чтобы прочно закрепить ящики с Янтарной комнатой.
— Мы будем на корабле одни? — спросил Вахтер. — Никакого другого груза?
— Никакого. Приказ короля… — Капитан поморщился, как от боли. — Вы знаете графа фон Бюлова?
— Да. Это финансовый советник короля.
— Душегуб, между нами говоря. Прислал мне письмо: «Сколько вы возьмёте за доставку груза из Кольберга до Мемеля по заданию короля?» «О Господи, сам король!», подумал я и назвал цену значительно ниже обычной. И что пишет мне граф Бюлов в ответ? «Вы с ума сошли? Его величество указывает…» И называет сумму почти в половину от моей цены. Как лучше поступить? Затопить корабль или согласиться на условия короля? Я согласился, но теперь не ждите, что вам будут подавать жаркое или жирных каплунов. Будем питаться капустой и овощами, селедкой и лепёшками. И не удивляйтесь, если матросы будут на вас коситься — ребята получат лишь две трети обычного жалованья. Я же не могу нести убытки в одиночку. Такие вот дела…
На следующее утро к причалу перед «Вильгельминой II» подъехала колонна из восемнадцати повозок и трёх карет. Лейтенант фон Штапенхорст предоставил для сопровождения только десятерых кирасиров — миссия закончилась. Он был военным, а не охранником колонны с ящиками.
Погрузка громоздких, тяжёлых ящиков стала проблемой. Их успешно сняли из повозок на причал, но перенести их на корабль оказалось почти невозможным. Груз с таким весом и таких размеров ещё никогда грузить не приходилось. Когда ящики обвязали цепями и подняли с помощью блоков, стало сомнительно, удастся ли в целости и сохранности погрузить их на борт.
Но всё получилось. На толстых канатах и с помощью металлических блоков ящики сантиметр за сантиметром затащили на палубу, опустили в трюм и надёжно закрепили. Чтобы разместить все восемнадцать ящиков, ушел целый день, и когда довольный Вахтер кивнул, капитан с облегчением крикнул:
— Теперь каждому можно и по глотку пропустить. Вы будете, Вахтер?
— Почему бы нет?
Крепко выпив, они упали на койки и забылись коротким сном. Около шести часов утра на корабле подняли парус, убрали сходни и отдали швартовы.
Лейтенанта Штапенхорста Вахтер больше не видел. Он попрощался с кучерами, которые с облегчением вздохнули, что наконец-то избавились от ценного груза.
— Будьте счастливы в Петербурге, — пожелал старший кучер Вахтеру, когда они пожали друг другу руки. — Скажу вам честно: я не завидую вашей новой жизни…
Стоя у поручня на палубе, Вахтер смотрел на покидающие порт повозки и кареты. Он ещё раз махнул им рукой вдогонку и понял, что с отплытием простится со страной и никогда больше не увидит Пруссию. Адель, Юлиус и Мориц стояли рядом. Парус наполнился ветром, над палубой прозвучали команды капитана, и корабль медленно заскользил в открытое море. Качка стала сильнее, и чтобы устоять на ногах, приходилось крепко держаться за канат поручня и расставить ноги. Юлиус весело махал в сторону скрывающегося города, Мориц лаял и вилял пушистым хвостом, скалился и вцепился в канат поручней, то ли от озорства и радости, то ли сопротивляясь качке.
Только Адель страдала, от качки ее тошнило. Она прижалась к Вахтеру, обхватив его за пояс — ей стало плохо, как только они вышли из спокойных вод порта. Море встретило их приветливо, небольшим волнением, но Адель хватило и этого. Вахтер проводил её в каюту, уложил на койку, поставил рядом ведро, положил мокрое полотенце на лоб и снова поднялся на палубу. Капитан стоял рядом с рулевым у огромного штурвала.
— Вы уложили жену? У неё морская болезнь?
— Эти сложности из-за ребёнка.
— А вы сами ничего такого не чувствуете?
— Нет, всё нормально.
— Посмотрим, что будет, когда пойдём дальше на север. Вот где ветер начнет завывать.
Значит, будет ещё гораздо хуже. На третий день плавания на них обрушился такой шторм, что корабль танцевал на гребнях волн, его бросало из стороны в сторону, как крохотный мячик; огромные волны перекатывались через палубу; пенящиеся массы воды с грохотом сметали на своём пути всё, что плохо закреплено.
Основной парус убрали, лишь штормовой парус хлопал на ветру, его пытались закрепить на железных кольцах два матроса. Когда на смену приходила новая вахта, то предыдущая шаталась так, словно у них переломаны все кости. В кубрике они вливали в себя новую жизнь из бутылки с ромом. Когда корабль шёл вдоль Куршской косы, становилось всё холоднее, ветер с востока, из России, ударил по ним, как кулаком.
— Те земля, куда вы едите, очень неуютная, — сказал капитан в последний день плавания. Они сидели за столом, ели суп из солёных бобов, черный хлеб, копчёную ливерную колбасу и маринованные огурцы. Адель, как всегда, смело села рядом, хотя и чувствовала отвращение перед каждым приёмом пищи.
— Никакая земля не может быть хуже, чем этот корабль, — сказала она запинаясь, ей стало плохо от одного вида накрытого стола. — Ноги моей больше не будет ни на одном корабле. Клянусь!
Потом на горизонте появился Мемель, красивый и гордый Мемель с башнями и кирхами. В порту теснились корабли, на набережной стояли повозки с товаром — выгруженным или ожидающем погрузки, и «Вильгельмина II» гордо, как подобает арендованному прусским королём кораблю, подошла к месту стоянки.
Здесь её уже ждал отряд из шести всадников под командой вахмистра. Стоило кораблю причались, как просигналил горн в знак приветствия. Здесь причаливали корабли из Берлина.
Уже через час Вахтер стоял перед комендантом крепости Мемель, генералом Шарлем де Брионом, и был принят не совсем доброжелательно.
— Ну наконец-то! — грубо сказал генерал. — Специальная миссия царя уже давно вернулась в Петербург. Придется отправить курьера на границу. Что там у вас за распоряжение?
Вахтер протянул бумагу, генерал де Брион внимательно её прочитал и с удивлением посмотрел на Вахтера.
— У вас генеральная доверенность? — спросил он немного приветливее. — Что нужно предоставить в ваше распоряжение?
— Мне нужны, и как можно быстрее, крепкие повозки и люди.
— Вы всё получите.
Два дня ушло на разгрузку ящиков с корабля и погрузку на повозки. Корабль прибыл в Мемель, который литовцы называли Клайпеда, 30 апреля 1717 года , и уже 2 мая Вахтер опять забрался в седло, Адель, Юлиус и Мориц сели в карету, колонна ждала сигнал к отправлению. На ящиках не было заметно повреждений, а как перенес шторм груз внутри них, понять было невозможно. Это станет ясно только в Петербурге.
— Итак, мы направляемся в Россию, — сказал Вахтер командиру отряда сопровождения. — До курляндской границы не очень далеко. Какие там дороги?
— А какие вы ожидаете? — пожал плечами вахмистр. — Чем дальше на восток, тем хуже. А там, на русской земле, говорят, они такие же, как при сотворении мира.
— У нас получится. — Вахтер выпрямился в седле. — Если царь выезжает из своей страны, значит и мы сможем проехать.
Он опять проскакал в голову колонны, поднял руку и подал знак трогаться. На восток, в Россию, в полную неизвестность. На новую родину. Да поможет нам Бог!
2 мая генерал Шарль де Брион направил королю Пруссии отчёт.
«Докладываю Вашему королевскому величеству, что Янтарный кабинет позавчера в хорошем состоянии, насколько я мог заметить и согласно разъяснениям сопровождающих его лиц, отправили в сторону границы. Для смены лошадей три заставы, на каждой готово по сто восемь перекладных лошадей».
Для доставки Янтарной комнаты в Россию также использовали восемнадцать крепких повозок для ящиков, каждую тянула шестерка лошадей.
До русской границы было три почтовых станции, но на местных ухабистых дорогах кареты раскачивались и подпрыгивали так, что пассажиры ударялись спинами. Адель сильно от этого страдала, но терпела и только после второй станции сказала Вахтеру:
— Ребёнок этого не вынесет, Фриц. Он родится мёртвым. Я чувствую. Родится прежде времени и мёртвым.
Третья станция, на границе, оказалась укреплённым постом с большим отрядом гренадёров под командованием полковника. Вахтер приказал колонне двигаться дальше, к границе, без остановки в казарме. Сигнал трубы возвестил об их прибытии, и они остановились у шлагбаума, на противоположной стороне их ждала русская делегация. В её составе было две сотни казаков под предводительством гетмана Григория Семеновича и девять карет для квартирмейстера, князя Семёна Борисовича Нетяева, с которым Вахтером познакомился, еще когда царь приезжал в Берлин.
Снова начались хлопоты с перегрузкой ящиков на русские повозки. Возле телег стояли сани, но не потому, что из-за суровой зимы снег еще лежал до самого Петербурга, а потому, что при потеплении лучше скользить по грязи и болотам на санях, колеса увязли бы в раскисшей земле.
Князь Нетяев приветствовал Вахтера и Адель, как представителей прусского короля. Он плохо говорил по-немецки, но понять его можно было.
— От имени его величества царя добро пожаловать в Россию, — сказал князь. — Кабинет не повреждён?
— Надеюсь. Узнаем, когда откроем ящики.
— С этого момента с ним ничего не случится. Я за это отвечаю.
— У меня приказ короля — доставить Янтарную комнату в целости и сохранности в Петербург, за это в ответе я, князь Нетяев.
Вахтер протянул ему бумагу с подписью Фридриха Вильгельма, но Нетяев отодвинул её.
— Король может вам приказывать, но теперь вы в России. Здесь действуют только приказы царя. Спрячьте бумагу, она вам больше не понадобится. Теперь вы подчиняетесь царю. Привыкайте, пока вам это не объяснили с помощью плётки.
Вахтер молча пошёл назад к большим деревянным саням, в них на кипе шкур лежала Адель, а Юлиус влажным полотенцем охлаждал ей лоб. Мориц уже заслужил у русских уважение — он рычал на каждого, кто заглядывал в сани, а если незваный гость не уходил, то перед ним возникала разверстая пасть с острыми клыками. Этого было достаточно, чтобы любопытные спасались бегством.
— Что там, Фриц? — тихо спросила Адель. — У тебя недовольный вид.
— Теперь я — пусто место… Мне только что это показали. Теперь мне остается лишь сидеть в санях рядом с тобой. Князь Нетяев взял ответственность на себя. Со мной обращаются, как с лакеем.
— Мы ещё можем вернуться, Фриц. Всего несколько метров назад, и опять окажемся в Пруссии. — Она неожиданно схватила его за руки и поднесла их к своим губам. — Фриц, давай вернёмся. Это последняя возможность.
— А Янтарная комната?
— Она в России. Ты свободен…
— Но не от клятвы королю. От клятвы за всех потомков…
— Ты хочешь пожертвовать своей жизнью ради Янтарной комнаты?
— Да!
— И моей жизнью? И жизнью твоих детей?
— Мы все принадлежим Янтарной комнате, сегодня, завтра, пока существует мир, как сказал король. Я поклялся в этом, Дельхен… и даже если мне придётся чистить стены Янтарной комнаты языком, я буду это делать.
***
Вахтер впервые оказался так близко от царя, почти лицом к лицу. Он мог рассмотреть бородавку на его щеке, неожиданное подёргивание лицевых мускулов, выражение глаз, когда царь говорил, нетерпение в его пальцах, он слышал дыхание широкой груди это огромного, энергичного организма. Пётр I выглядел немного бледным — в Амстердаме тяжелая форма гриппа с болью в почках и мочевом пузыре уложила его в постель, потом он прошёл курс лечения в Бад-Пирмонте, но последствия болезни ещё остались. К этому прибавились заботы о сыне, цесаревиче Алексее Петровиче, который из страха перед своим властным отцом сбежал в Австрию и скрывался в Вене.
Алексей. Когда царь думал о нём, то иногда печалился, а иногда кипел злобой, которая всякий раз вызывала приступ.
Цесаревич был хилым, и к тому же пьяницей и распутником. Его жене, Шарлотте фон Вольфенбюттель, приходилось силой затаскивать его в постель, чтобы произвести на свет наследника. Однако он предпочитал забавляться с любовницами, и прежде всего с женщинами низкого положения, с крепостными служанками, которые были счастливы ему отдаться. Когда Шарлотта родила наследника трона Петра Алексеевича и 22 октября 1715 года, после девятидневной агонии, умерла, цесаревича больше ничто не сдерживало. Он напивался до потери сознания и распутничал.
На письма отца он отвечал с рабской покорностью, но когда Пётр I предъявил ему ультиматум, в котором велел вести себя, как подобает наследнику престола, тот сбежал в Вену. Оттуда постоянно приходили тревожные новости. Речь шла о заговоре, даже об убийстве царя, которое сын открыто приветствовал. Он жил вместе с девушкой по имени Ефросинья. Это была упитанная, некрасивая батрачка, но такая похотливая, что цесаревич не представлял себе жизни без неё.
Всё это отражалось на лице царя.
Вахтер стоял напротив Петра I и с испугом смотрел на богатыря, задрав голову.
— Я прочитал письмо твоего короля, — сказал царь поразительно добрым тоном. — Он подарил мне не только Янтарный кабинет, но и тебя! Вместе с женой и ребёнком. Ты должен заботиться о Янтарной комнате до самой смерти, а потом — твои наследники из поколения в поколение. Ну ладно. Я исполню пожелание короля Пруссии. Ты останешься при мне, получишь денежное содержание, жильё, карету с двумя лошадьми, одни сани и должность императорского смотрителя. Ты доволен?
— Я тронут до глубины души, ваше величество. — Вахтер низко поклонился. — Вы очень добры.
— Теперь о тебе. Пока будешь должным образом заботиться о Янтарной комнате, у тебя не возникнет оснований почувствовать на своей шкуре мою испанскую трость. Тебя зовут Фридрих Теодор Вахтер?
— Да, ваше величество.
— Ты и твои потомки теперь будут всегда жить в России. Тебе надо иметь русское имя, а не прусское. Я делаю тебя русским, следовательно, с этого момента тебя звать Фёдор Фёдорович Вахтеровский. Как зовут твою жену?
— Адель, ваше величество.
— Теперь Адель Ивановна. А сына?
— Юлиус…
— Теперь Юлиан Фёдорович. Дай мне руку и поклянись, что будешь хорошим русским.
Вахтер нерешительно протянул царю руку. Он не осмелился ему противоречить и сказать, что он пруссак и хочет им остаться. Он видел испанскую трость, знаменитую «дубину», стоявшую в углу, и у него не было никакого желания ощутить её на своей спине или голове. От крепкого рукопожатия царя он вздрогнул, ему на мгновение показалось, что у него сломаны все пальцы. Царь внимательно посмотрел ему в лицо, увидел сдержанную гримасу боли и остался доволен.
— Поклянись мне в преданности, Фёдор Фёдорович.
— Клянусь жизнью, ваше величество.
— Можешь заходить ко мне в любое время, когда понадобится. А если тебя не будут пускать, скажи: «Царь приказал». Тебя пропустят.
Похоже, на этом разговор закончился. Но Вахтер, решил воспользоваться благосклонностью царя и не ушел.
— Ваше величество, разрешите один вопрос? — сказал он.
Пётр I удивлённо посмотрел на него.
— Что ты хочешь спросить?
— Где будет установлена Янтарная комната?
— Здесь, в Зимнем дворце. Для неё освободят один зал. Мне нужны размер, высота…
— Мне понадобятся специалисты, ваше величество. Мастера, которые умеют обходиться с янтарём, чтобы исправить повреждения и подогнать панели. А также столяры, чтобы сколотить несущие перегородки.
— Ты всё получишь. — Царь широко улыбнулся. — Потребуй людей у дворецкого, когда понадобятся.
Вахтер вышел от царя довольным и вернулся в дом для придворных, где по приказу из Зимнего дворца его семье предоставили четыре комнаты. Он медленно шёл к флигелю, где его семье предстояло обрести новую родину. Первое впечатление от Зимнего дворца было разочаровывающим. Двухэтажное деревянное строение имело два флигеля для прислуги и придворных. Никакого монументального здания, похожего на дворец, его фасад отличался от других богатых домов на южной набережной Невы только тем, что над въездными воротами развевался флаг императорского флота.
Все дома на Неве рядом с царской резиденцией выглядели настоящими дворцами: дворец генерал-адмирала Апраксина, дома министра юстиции Ягушинского, вице-адмирала Круза, однако и они смотрелись хижинами по сравнению с дворцом князя Меншикова. После победы над шведам под Полтавой Петр подарил своему фавориту Васильевский остров в дельте Невы. На нём немецкий архитектор Фридрих Шедель возвел трёхэтажный дворец из массивного камня, с крышей из сверкающих, покрытых красным лаком металлических листов и таким огромным главным залом, что теперь все большие праздники и балы в Петербурге проходили только там. Дворец Меншикова вплоть до самой смерти Петра оставался самым большим зданием города и становился всё более прекрасным.
Роскошные дворцы его придворных шли только на пользу Петру. В своем «зимнем дворце» он едва ли мог устраивать приемы... Чтобы не прерывать симметрию набережной, по его приказу построили деревянный дом той же высоты, что и соседние дома, и на всех этажах были просторные помещения с высокими потолками. Двухметровый гигант страдал спацеофобией и чувствовал себя комфортно, пожалуй, только в невысоких помещениях, с которыми познакомился в Голландии, когда работал плотником на судоверфях.
В «Первоначальном дворце», где он раньше жил, во всех комнатах оставили более низкое междуэтажное перекрытие... здесь часто в пространстве между настоящим и фальшивым потолком на деревянных настилах лежали его шпионы и подслушивали разговоры посетителей, ожидающих в двух приемных аудиенции с царем. Так Петр I узнавал правду или мнения, которые никто не решался высказать ему в лицо.
Янтарная комната в деревянном доме? В доме, который может вспыхнуть, как сухой хворост?
Вахтер почесал затылок, вошёл в служебный дом и увидел Адель, занятую распаковкой баулов и сундуков. Ей помогали две горничные, предоставленные лично дворецким. Весть о том, что царь покровительствует новым немцам, разнеслась среди придворных с быстротой молнии. Начался подхалимаж и, конечно, зависть.
— Какой город, — сказал Вахтер и уселся на диван в гостиной.
Комнаты были полностью обставлены красивой мебелью, какую Адель видела в Берлине только у придворных дам, перед которыми всегда приседала в низком реверансе. Теперь она сама будет жить в подобной роскоши. С колотящимся сердцем она переходила из комнаты в комнату, гладила мебель и обивку, гобелены и шелка. В прихожей лежали хорошие ковры, на деревянных стенах висели иконы и картины с образами Христом. И на кухне нашлось всё необходимое хозяйке, от горшков для воды до черпаков.
— Какая квартира, Фриц, — радостно воскликнула она.
— Где Юлиус?
— Играет с Морицем в саду. — Она покружилась, как танцовщица, и это выглядело бы грациозно, если бы не выпирающий живот. — Всё такое огромное, такое широкое и высокое…
— Как и эта страна, Дайхен. Бескрайняя земля под высоким небом. Петербург когда-нибудь может стать красивее Парижа, если царь продолжит строительство в том же духе. Будет разбивать сады, большие парки, широкие улицы и соборы, Дайхен, дворцы в честь Бога, каких мир ещё не видел! Мы никогда не пожалеем, что покинули Берлин.
— Давай молиться об этом, Фриц. — Она села рядом с ним на диван и обняла мужа. — Ты знаешь, как они меня теперь зовут?
— Да. Адель Ивановна… — Вахтер засмеялся, когда она вопросительно посмотрела на него, поцеловал её в переносицу и радостно произнёс: — Да, теперь это твоё имя. Моя прекрасная, моя единственная Аделюшка… Как это звучит! Аделюшка… Аделинка…
— Я вижу, ты становишся русским, Фриц.
— Только внешне, Аделинка. Только внешне. В душе мы, Вахтеры, навсегда останемся пруссаками.
Прошло два дня. Ящики с Янтарной комнатой всё ещё стояли в конюшне, и Вахтер направился к дворецкому.
Граф Владимир Викторович Кубасов не был похож на гофмаршала, князя Нетяева, который на курляндской границе отстранил Вахтера и взял ответственность за Янтарную комнату на себя. Путь по снегу, слякоти и грязи из Мемеля до Петербурга был тяжёлым. Погибли три лошади, сломались сани и три повозки сломались, потому что Нетяев приказал спешить, как на скачках. Впервые Вахтер с ужасом понял, что в России крепостной или человек низкого положения ценится не выше животного. Когда ломались сани или в раскисшей земле увязали полозья и колёса, удары плёток сыпались не только на ржущих от боли лошадей, но и на спины, плечи и головы кучеров и возниц. Многие из них сидели на козлах в крови, но никто не осмелился даже пикнуть. Вахтер понял, что Нетяев мог бы забить человека до смерти или посадить на кол.
Кубасов встретил Вахтера, как друга — покровительство царя высоко его вознесло. С чего начинал Меншиков? Был конюхом. Теперь он князь, осыпанный разными титулами и огромным богатством, генерал-губернатор Петербурга, самый близкий друг царя, его боятся больше, чем самого Петра.
Кто знает, кем может стать этот немец? При дворе и во всей стране много генералов, камергеров и других и выдающихся людей, например архитекторов и врачей, астрономов и физиков, прибывших из-за границы, причем в основном из стран, где говорят на немецком.
— Где разместится Янтарная комната? — переспросил Кубасов. — Где? Какие, вы сказали, у нее размеры?
— Четыре семьдесят пять в высоту и четырнадцать метров по периметру. Она состоит из двенадцати стенных панелей полтора метра на восемьдесят сантиметров, плюс цоколь. Еще там должны быть две двери во всю высоту панелей.
Казалось, от цифр у Кубасова закружилась голова.
— Царь об этом знает? — спросил он озадаченно.
— Он видел комнату в Берлине и пришёл от неё в восторг.
— Что же делать? Во всём дворце нет такого помещения! Придется устроить серьезную перепланировку, соединить комнаты и поднять потолки.
— Придется. Так повелел царь.
Граф Кубасов не дал Вахтеру договорить. Если он сказал, что этого хочет царь, то это приказ. Императорское хозяйство состоит не только из дворцовой мебели, но и из множества ушей повсюду. О полномочиях Вахтера граф знал уже до этого разговора.
— Посмотрим, что можно сделать, — сказал он. — Где лучше поставить Янтарную комнату?
— Недалеко от царских покоев.
Кубасов вздохнул, понимая, сколько проблем ему предстоит решить, и повёл Вахтера по дворцу. Они нашли две комнаты, которые Вахтер счел подходящими для подарка короля Пруссии — на первом этаже, в каждой по два больших окна с видом на Неву. В них было столько света, что янтарь мог бы сверкать на солнце и раскрыть всю свою красоту. Стены можно легко убрать, а потолок поднять на необходимую высоту, убрав промежуточное перекрытие.
— Здесь! — сказал Вахтер и пару раз крутанулся, чтобы ещё раз всё внимательнее осмотреть. — Она сюда войдёт.
— Рядом с покоями царицы? — Кубасов покачал головой. — Шум от перепланировки…
— Это продлится только пару недель. Ради такой красоты царица может потерпеть.
Уже через день начались работы. Кубасов поговорил об этом с царицей Екатериной. Она появилась в выбранных комнатах, долго и внимательно осматривала низко склонившегося перед ней Вахтера и дала разрешение.
Это была упитанная, полногрудая женщина, с чувственными губами и курносым носом. На полных розовых щеках играл румянец, а крепкое телосложение способствовало успешным родам.
При осаде Мариенбурга, находящегося в руках шведов, ее заметил генерал Шереметев. Она была служанкой саксонского пастора Глюка, тот собирался отправиться в Москву. Своей фамилии она не знала, как не знала и своего отца.
— Как меня зовут? — переспросила она Шереметева, когда тот спросил её имя. — Меня называли то Екатериной Василевской, то Екатериной Трубачёвой. Мне всё равно, как меня зовут на самом деле. Разве это важно для работы? Я мою, готовлю еду, пеку, наливаю и обслуживаю, убираю и глажу бельё, поддерживаю порядок в саду и ухаживаю за скотиной.
— И каждую ночь с мужчинами… — произнёс генерал.
— Такого не было. Поэтому я и убежала из Мариенбурга. Шведские солдаты шли через город и хватали каждую попавшуюся девушку. — Она посмотрела на генерала умоляющим взглядом и добавила: — Позвольте нам ехать в Москву, господин. Я буду вести там хозяйство пастора.
Но она прибыла не в Москву, а в Петербург. Генерал Шереметев взял её с собой, чтобы она гладила его рубашки.
Так Екатерина Василевская — этим именем она решила теперь называться — дочь неизвестного литовского крепостного и служанки, оказалась в Петербурге. Там её и увидел всемогущий Меншиков. Она стояла на лестнице и мыла окно. Меншиков, знаток женщин, сразу обратил внимание на её фигуру, ноги и икры, талию и пышную белую грудь, а она кокетливо ему улыбнулась.
Чтобы остаться в хороших отношениях с Меншиковым, Шереметев решил подарить ему Екатерину. Теперь она, военный трофей генерала, гладила рубашки князю, мяла по ночам его простыни, и не было женщины более красивой, прелестной и дерзкой.
У князя Меншикова её увидел царь. Без лишних слов он взял служанку себе, а когда Меншиков через две недели попросил Петра вернуть её, царь сказал, что Екатерина починила и погладила так много рубашек, что он решил ее оставить.
После того как Пётр I женился на ней, Екатерина стала могущественной царицей, которая была, возможно, единственным человеком, который осмеливался иметь другое мнение, имела светлый ум и давала разумные советы. Она лично вязала для мужа шерстяные чулки, никогда не требовала от него ничего необычного, жила вместе с ним в деревянном дворце, сушила промокшую от морской воды одежду Петра, выходила с ним в море возле Петербурга и оставалась всё такой же простой, даже став царицей.
Однако была и другая Екатерина — в шёлковых платьях с жемчугом и драгоценными камнями, с придворным штатом, состоящим из княгинь, графинь и просто очень красивых придворных дам. Она сияла на праздниках, и когда во дворце Меншикова проходили роскошные приёмы, а в саду запускали чудесные фейерверки, которые Пётр очень любил, князь склонял голову перед своей бывшей служанкой, признавая её царицей.
Царица появилась перед Вахтером в скромном платье, которое обычно носила, когда не выполняла официальных обязанностей. Она выглядела, как обычная женщина из рабочей семьи, немного располневшая от родов, с внимательным, всё замечающим взглядом.
— Собираешься всё здесь перестроить?— спросила она Вахтера. — Оборудовать Янтарный кабинет? Царь рассказывал мне об этой комнате. Как она выглядит?
— Это трудно объяснить, надо видеть, ваше величество. Этого не передать словами.
— Так красиво?
— Как солнце, отражённое в тысячах золотых камней.
— Тогда установи её, — кивнула Екатерина. — О красоте можешь рассказывать в любое время.
На четвёртый день работ, когда снесли стену и рабочие приступили к разборке деревянных перекрытий между этажами и начали обшивать стены деревом, появился царь. На нём были рабочие штаны в пятнах, рубаха из грубой ткани и кожаный фартук, тоже весь в пятнах. В руках он держал рубанок и пилу. За пояс фартука были заткнуты три молотка, маленькая линейка и отвес круглой формы.
— Какие же лентяи здесь работают! — воскликнул он громовым басом. — Я покажу вам, как должен работать плотник. Поучитесь сначала в Голландии, прежде чем прикасаться к доске! Фёдор Фёдорович…
— Я здесь, ваше величество.
Вахтер подошёл к царю.
— Ты здесь старший. Показывай, что мне делать! — Он положил инструменты на пол и потёр руки. — Не церемонься и дай мне задание. Я сейчас опять Питер, плотник. Бог свидетель, как это прекрасно!
Две недели, по три часа каждый день, царь работал вместе со всеми, устанавливая Янтарную комнату. И трудился не хуже, чем самые хорошие петербургские столяры. Вместе с инструментами он приносил и внушающую страх трость из испанского тростника с вырезанным своими руками набалдашником из слоновой кости. Трость часто прогуливалась по спинам других столяров, если Петр замечал искривлённый гвоздь, косую доску, невертикальные стыки или неровные угловые соединения.
— В Голландии вас всех утопили бы, как слепых котят! — ворчал он на них. — И такие идиоты строят мой город? Да он обрушится, теперь я уверен! Вы все закончите свою жизнь на виселице, на колу, на колесе, под кнутом.
Это была тяжёлая работа, но уже через одиннадцать дней комнаты перестроили так, что получился один зал с нужными для Янтарной комнаты размерами. Стоящие в конюшнях огромные ящики открыли, панели, фигурки, цоколи, карнизы и орнаменты осторожно разложили и осмотрели. Как ни странно, ничего не сломалось, несмотря на тяжелый путь от Берлина до Петербурга.
— Осторожно! — предупреждал Вахтер всякий раз, когда бесценные панели переносили из конюшни во дворец. — Осторожно! Внимательнее, не будьте болванами…
— Это и ко мне относится? — спросил Пётр I. Он один нёс на плечах огромный фрагмент цоколя, такой обычно доверяли троим. Петр был очень силен.
— Ваше величество… — Вахтер умоляюще сложил руки. — Конечно же нет! Только к другим!
— Говори прямо, если я делаю что-то не так. — Царь двинулся дальше с цоколем на плечах. — Если будешь врать, получишь кнута!
Вечером усталый Вахтер пришёл домой. Из кухни доносились запахи кислой капусты и окорока. Адель с закрытыми глазами привалилась к стене. Мориц, этот Цербер, тихо повизгивал перед ней.
— Адьюшка, что с тобой? — За несколько недель Вахтер достаточно изучил русский язык, чтобы говорить целые предложения. Прежде всего он научился ругаться, когда слышал, как они ругаются между собой во время работы. Он обнял Адель, погладил и понял, что она совсем ослабела.
— Это было слишком для меня, Фриц, — произнесла она почти шепотом. — Море, сани…— Она положила руки на выпирающий живот и умоляюще посмотрела на Вахтера. — Ребёнок… я его больше не чувствую… он не шевелится… во мне всё стихло… Я боюсь...
Страх охватил и Вахтера, когда он увидел состояние жены.
— Я позову врача! — сказал он, не находя слов утешения. — Приляг, Дольхен и лежи спокойно. Может, всё не так плохо.
Придворного лекаря Бенджамина ван Рейна из Амстердама, которого Пётр I привез из последней поездки в 1716 году, рекомендовали Вахтеру, как хорошего врача. Он был очень предупредительным, зная, что царь наделил немца особыми привилегиями.
Когда Вахтер вернулся в свою квартиру, Адель лежала на кровати с температурой и распухшим языком. Казалось, она уже не понимает, что происходит.
Юлиус сидел рядом с широко раскрытыми, полными страха глазами и молча молился.
— Мама, — тихо произнёс он, когда в комнату вошли Вахтер и врач. — Мама…
Адель была права, когда опасалась, что ребёнок в её теле умер и трупный яд уже проник в её кровь. Доктор ван Рейн сел на край постели и посмотрел на Вахтера.
— Теперь ей может помочь только Бог, — сказал он.
— Здесь нет Бога, но есть вы. Сделайте что-нибудь! Спасите её! Зачем вы учились, если можете только сидеть и сетовать. Спасите её!
Доктор ван Рейн кивнул.
— Мне нужны полотенца. Много тёплой воды, большие миски и ведро. Но получится или нет, я не знаю.
Три часа они вместе боролись со смертью. И Юлиус, несмотря на свои одиннадцать лет, со слезами на глазах смело им помогал: носил воду, убирал окровавленные полотенца, мыл миски и с надеждой смотрел на мать, как будто взглядом мог прогнать смерть.
На то, что делал доктор, было страшно смотреть, но это была единственная возможность спасти Адель. Длинными щипцами он по частям вынимал мёртвого ребёнка из её чрева. Это оказалась девочка, как и предсказывала акушерка в Берлине.
Он откачал зараженные околоплодные воды, вскрыл вену и пустил кровь, растирал потерявшую сознание Адель холодным шершавым полотенцем и развел в бутылке какую-то микстуру.
— Пусть пьет это, — сказал врач и без сил опустился на стул. — Пять раз в день, по пятьдесят капель на стакан воды. Он посмотрел на жену Вахтера, всё ещё находившуюся без сознания.
Её лицо побледнело, щёки и глаза ввалились. Тело покрывали влажные полотенца, вся комната пропахла спиртом — в конце процедур доктор ван Рейн натёр Адель крепкой водкой.
— Больше я ничего не могу сделать. — Он устало посмотрел на Вахтера. — Теперь нам действительно надо надеяться только на Бога…
— И нет никакой надежды?
— Могу лишь сказать, — доктор ван Рейн вытер лицо, — что я делал такую операцию впервые.
На следующий день приступили к установке янтарных панелей. Царь опять оделся как плотник ис воодушевлением принялся за работу. «Чудо из янтаря», разложенное перед нам на полу, поразило его до глубины души. Он единственный здесь радовался. Столяры и мастера по янтарю боялись его гнева и косились на испанскую трость, стоящую в углу. Вахтер, усталый и с покрасневшими глазами, с трудом двигался и иногда отсутствующим взглядом смотрел в окно.
— Что с тобой? — спросил Пётр I. — Ты заболел? Плохо выглядишь. Глаза, как у кролика, двигаешься еле-еле.
— Моя жена очень больна, ваше величество… Она потеряла ребёнка…
— Я знаю. Ничего, ещё родит.
— Ребенок умер в ее утробе и отравил её. Врач извлек дитя.
— Какой врач? — неожиданно громко спросил царь.
— Придворный врач, доктор ван Рейн.
— Сюда его! — сердито приказал Пётр I. — Сюда, немедленно! — Он распахнул дверь и крикнул лакеям, ожидавшим в коридоре: — Приведите придворного врача! Сюда, в Янтарный кабинет!
Через десять минут в дверях показался доктор ван Рейн. При нём был кожаный саквояж с медикаментами, поскольку он решил, что царь поранился. Но когда к нему приблизился царь, кипящий от злости, как бушующий вулкан, он понял свою ошибку.
— Ты что натворил? — накинулся на него Пётр I. — Оперировал и не сказал мне ни слова? Ты не знаешь о том, что знают во всех больницах города? Не знаешь о моём приказе приглашать меня на все необычные операции, чтобы я ассистировал? Ты разве не слышал, что я привез из Голландии самые лучшие хирургические инструменты?! Ты, мерзавец, этого не знал?
— Ваше величество. — Доктор ван Рейн опустил голову. Он хотел упасть перед царём на колени, но это рассердило бы Петра ещё больше. Человек на коленях, вымаливающий милости, вызывал у него отвращение. — Надо было спешить…
— Не настолько, чтобы не сообщить мне об этом! Ты сделал операцию и не позвал меня. В моём дворце! Знаешь, чего ты заслужил?
— Ваше величество!
— Двадцать ударов кнутом! Иди к экзекутору, или мне самому оттащить тебя к нему? Пшел вон! А потом вернись и покажи мне свою окровавленную спину!
Доктор ван Рейн вышел из Янтарной комнаты на ватных ногах, прислонился к стене и разрыдался. К нему подошел лакей — крики царя были слышны и в коридоре.
— Не плачьте, доктор, — с сочувствием сказал лакей. — Что такое двадцать ударов? Их можно вытерпеть. Пойдёмте, я провожу вас в судебную палату. Вам повезло, что царь не будет бить вас лично.
В Янтарной комнате воцарилась тишина. Пётр стоял у окна, его лицо опять вздрагивало и от нервной судороги превратилось в застывшую гримасу. Вахтер не мог объяснить, откуда набрался смелости, но он подошёл к царю сзади и тихо сказал:
— Почему врач наказан? Может быть, он спас жизнь моей жене.
Царь не повернулся. Глядя в окно он проворчал:
— Успокойся, Фёдор Фёлорович! Ты не так давно в России. И должен знать, что здесь слово царя — закон! Разве у твоего короля по-другому?
— Нет, ваше величество.
— Тогда покорись и не противоречь своему царю.
После этого Петр отправился в квартиру Вахтера. Адель пришла в сознание и лежала в кровати, но была так слаба, что не могла произнести ни слова. Когда она увидела склонившегося над ней царя, то широко открыла глаза, а уголки губ у нее задрожали. Юлиус стоял с другой стороны кровати, не сводя глаз с царя, и держал в руках мокрые полотенца, которые как раз собирался заменить.
— Она выживет, — сказал Пётр I. В его голосе звучали отеческие нотки. — Я видел умирающих. Они выглядят иначе. Наберитесь мужества и верьте.
Адель пошевелила головой — она кивнула. Царь выпрямился и посмотрел на Юлиуса, который всё ещё стоял неподвижно, прижимая к себе полотенца.
— Это твой сын, Фёдор Фёдорович? — спросил он.
— Да, ваше величество. Пока единственный. Второго ребёнка забрала у меня Янтарная комната.
— Хороший мальчик. Кем он потом станет?
— Моим наследником и смотрителем Янтарной комнаты.
— Он будет достойным наследником, Вахтеровский. — Царь засунул руку в карман рабочих штанов, но там не оказалось ничего, кроме гвоздей и скоб, никаких монет. — Ты получишь от меня десять рублей, — сказал Пётр I. — Завтра их тебе принесёт отец. Как тебя звать?
— Юлиус… — тихо произнёс мальчик.
— Юлиан Фёдорович, ну да. Я забыл. Десять рублей. Что ты с ними будешь делать?
— Куплю книгу по медицине.
— Дьявол! Хороший ответ. — Царь повернулся к Вахтеру и с такой силой хлопнул его по плечу, что тому показалось, будто у него треснула ключица. — Ты можешь гордиться своим сыном. Останься с женой. Янтарные панели мы и без твоей помощи прикрепим к стене.
— Их надо прикреплять к основанию осторожно, ваше величество.
— Я корабли строил, плавал по всем морям. А ты не доверяешь мне крепить панели?!
Петр кивнул Адели, бросил благосклонный взгляд на мальчика и вышел. Когда дверь за ним закрылась, Юлиус стал беспокойно оглядываться.
— А где Мориц? — спросил он.
— Под кроватью. — Вахтер тихо засмеялся. — Даже он боится царя.
— А я не испугался! — сказал Юлиус. — Он такой грозный… но на меня смотрел, как друг. — Он поднял простынь и посмотрел на отца. — Папа, надо поменять полотенца.
Адель Вахтер выжила. Помогло ли ей чудо или врачебное искусство доктора ван Рейна? Через пять дней она впервые встала, покачиваясь и хватаясь за Юлиуса, прошлась по комнате и снова легла в постель, дрожа от слабости. Но ее лицо обрело нормальный цвет. Она поела, очень медленно глотая наваристый суп на говяжьем бульоне с тонкой лапшой, который принёс придворный повар.
Когда Адель первый раз встала, как раз зашел царь, он пожурил ее, поскольку она попыталась присесть в реверансе и свалилась бы, если бы её не удержал Юлиус.
— Оставьте эти глупости, Адель Ивановна! Я сейчас не царь, а плотник Пётр Алексеевич. На улице уже весна, зацветают деревья, прилетели дикие гуси и аисты, а море блестит серебром. Когда вы окрепнете, я пришлю за вами карету, чтобы вы съездили за город и погрелись на солнце. — Он помедлил и добавил: — Врача из Амстердама я наградил. Он стал моим личным медиком. Вы довольны?
— Ваше величество… — пролепетала Адель, крепко опираясь на сына. — Как мне вас отблагодарить?
— Просто забудь всё это и роди нового ребенка. Ты сильная и красивая женщина…
Через неделю, когда Янтарную комнату почти установили, от дворца отъехала царская карета. Впереди сидел кучер в ливрее, а на запятках стояли два лакея. Как будто в карете ехала княгиня.
Петербург весной... сказка, ставшая реальностью.
Адель плакала от счастья и от умиления, глядя на залитый солнцем город с берега Невы, на крыши, дворцы и дома, каналы и широкие улицы. Она обняла Юлиуса и сказала:
— Мой мальчик, это теперь наша родина. Никогда этого не забывай.
Освящение вновь оборудованной Янтарной комнаты царь проводил один. В этот раз с ним не было шутов и карликов, которые обычно присутствуют на праздниках, где они танцуют и кувыркаются, поют, декламируют стихи и шутят над гостями. При дворе было около шестидесяти таких шутов. Царь их любил и баловал, а они под руководством царского любимца, карлика Левона Ускова, веселили приглашённых. Но они занимались не только этим. Прежде всего, они были его соглядатаями и шпионами, выведывали все слабости и ошибки, растраты, ложь и воровство высокопоставленных придворных, а потом рассказывали об этом в виде шутки, царь же тем временем внимательно наблюдал за теми, о ком в этих шутках упоминалось.
Сейчас он молча сидел совершенно один на резном позолоченном стуле посреди «солнечной комнаты», уставившись в пространство, и вспоминал события своей жизни: вечную войну со шведами, в которой уже погибло триста тысяч человек, обезглавленных, колесованных или посаженых на кол, умерших под пытками и искалеченных, скользких фаворитов и сладострастных фавориток. Цесаревич сбежал в Австрию, чтобы пьянствовать и развратничать, и теперь его использует в качестве инструмента в тайном заговоре против отца. Возможно, царь вспоминал о прекрасном времени, проведённом в Голландии и Франции, где он пнабрался опыта, но подхватил триппер, от которого лечился у немца, доктора Блюментроста, и англичанина, доктора Паулсона. А также о диких попойках с проститутками, он устраивал их так часто, что доктор Блюментрост как-то сказал:
— Ваше величество, поберегите себя. Оставьте такую необузданную жизнь.
А Пётр заорал:
— Осёл! Все вы ослы!
После третьего предупреждения он поколотил Блюментроста и Паулсона тростью так яростно, что после этого они лишь молча и озабоченно наблюдали за течением его болезней: распухшими ногами, больными почками, камнями в мочевом пузыре, повторяющимися судорогами. Его медвежья сила чередовалась с приступами слабости с постельным режимом.
В этот час уединения, сидя в новой Янтарной комнате, царь думал и о своей жене Екатерине. Она была когда-то служанкой, а теперь, в отличие от остальных бывших любовниц, стала центром спокойствия в его жизни, он любил ее и сделал царицей, и она хранила ему верность, в этом Петр не сомневался. Рядом с ней он чувствовал себя человеком, а не только внушающим страх царём.
Что еще приготовила ему судьба?
Иногда он поднимал голову, и его взгляд скользил по янтарной мозаике, цоколям, резным деталям, фигуркам, маскам, бордюрам и карнизам. Они переливались под лучами солнца от светло-жёлтого до почти коричневого цвета. Царь расслабился и решил, что комната может стать его тайной исповедальней. Здесь, в окружении тысяч падающих солнечных лучей, он мог быть откровенным перед самим собой.
Прошло около часа, прежде чем царь открыл дверь и подозвал ожидавшего снаружи Вахтера.
— Запомни, — сказал он очень серьёзно, — что это только моя комната. Никто другой не должен в неё заходить. Только если я разрешу.
— А царица, ваше величество? — спросил Вахтер.
— Она может… Нет, и ей нельзя. Только я и ты, и я отправлю тебя к волкам в Сибирь, если сюда войдёт кто-то другой.
Царь подошёл к окну, посмотрел на Неву, на каналы и острова, на прекрасный город, построенный его трудами на болотистой земле, и тихо сказал:
— Я окружён подхалимами, лицемерами, интриганами, предателями, ворами, убийцами, карьеристами и честолюбцами. Это ужасно…
— Прогоните всех, ваше величество.
— И что потом? Те, кто придет им на смену, будут не лучше. Это гидра, у нее отрубишь одну голову, а вырастет две новых! Есть ли у меня друзья? Меншиков мне друг? Шафиров? Долгоруков? Трубецкой? Ромодановский? Не знаю. Каждый может меня предать, если почует выгоду. Не предавай меня хоть ты, Фёдор Фёдорович.
— Не предам, ваше величество. — Вахтер подошёл к окну и встал рядом с царём. — Можете отрубить мне голову, если заподозрите подобное.
— Ты хороший человек. Ты и твоя семья. Я хотел бы иметь такого же сына, как у тебя. Но судьба подарила мне пьяницу и предателя. Вахтеровский, будь моим тайным другом. Я знаю, ты от меня ничего не требуешь: ни должности, ни титула, ни дворца, ни войска, ни женщин… Ты живешь только для Янтарной комнаты. И я хочу, чтобы ты жил и только для меня. С тобой я хочу говорить о том, что не должны слышать другие. Здесь, в этой комнате. Ты станешь человеком, которому я могу открыть душу. И горе тебе, если хоть одно слово станет кому-нибудь известно. Даже своей жене ничего не говори.
— Я утоплю ваши заботы в своей душе, ваше величество. Они умрут вместе со мной.
Царь кивнул, обнял Вахтера, поцеловал в обе щёки и вышел. В коридоре он опять стал ругаться на придворных. В Петербурге было два царя: Пётр Великий, самый могущественный властитель Европы, и Пётр Алексеевич Романов, обычный человек, великан, который судил сам себя в Янтарной комнате.
Об этой двойственности мир никогда не узнает.
Прошёл год. Адель снова была на сносях, Георг Торфельд, преподаватель из Ганновера обучал Юлиуса, тот с горящим взором читал книги по медицине и часто сопровождал доктора ван Рейна к больным.
Жизнь стала бы ещё спокойнее, если бы 21 января 1718 года сбежавший в Австрию цесаревич Алексей не вернулся в Россию. Царь выманил его из его убежища письмом, в котором обещал сердечный прием, поскольку он теперь был наследником. Царь также гарантировал сыну, что позволит ему жениться на своей фаворитке Ефросинье. Одно только желание увидеть возлюбленную царицей рассеяло все сомнения Алексея. Он оставил Ефросинью в Венеции и радовался предстоящей встрече с простившим его отцом.
Правду он узнал, как только пересёк российскую границу. Казаки окружили его обоз и доставили всех в Тверь, где сообщили, что царь желает встретиться с сыном в Москве.
Перед поездкой в Москву царь целый час провел в одиночестве в Янтарной комнате, разговаривая сам с собой. Затем он позволил Вахтеру войти, обнял его и тихо сказал:
— Мне предстоит трудный шаг. Меня будут называть чудовищем, но я делаю это для блага России. Я один отвечаю за мой народ!
Третьего февраля 1718 года во время большой аудиенции в московском Кремле в присутствии высокопоставленных сановников империи состоялся первый процесс над цесаревичем и его друзьями. В коротком предварительном приговоре царь обещал сыну помилование, если он назовёт поимённо изменников и участников заговора. Иначе — и об этом было ясно сказано — его будут пытать вплоть до смерти.
Алексей, слабохарактерный человек, пьяница, игрок, блудник и предатель, сразу сломался, со слезами бросился царю в ноги и стал называть имена… много имён, известных имён, начиная от сводной сестры Петра Марии Алексеевны до князя Василия Долгорукого, от князя Юрия Трубецкого до сибирских князей. Он не пощадил даже собственную мать, бывшую царицу Евдокию.
Остальных подвергли допросу, темницы заполнились арестованными, которые признавались в связях с Алексеем под суровыми пытками. Этого царю хватило, чтобы 22 марта огласить приговор.
26 марта 1718 года на Красной площади перед Кремлёвской стеной состоялась казнь, на которой царь присутствовал лично.
Около трехсот тысяч зрителей собралось на этот чудовищный спектакль, чтобы посмотреть, как будут обезглавливать и вешать, колесовать и сажать на кол, забивать до смерти плетьми и жечь раскалённым железом. От этой казни содрогнулся весь мир.
Сразу после казни Пётр вернулся в Петербург. Цесаревича Алексея он взял с собой, и теперь тот покорно сидел в санях рядом с отцом, благодарный ему за то, что избежал наказания, в отличие от друзей и матери, которую царь велел высечь и отправил в отдаленный монастырь.
— Свершилось! — сказал царь, когда спустя два дня после казни в Москве он снова сидел в Янтарной комнате и искал в окружении тепла от солнечного камня душевное успокоение. — И это, Фёдор Фёдорович, только начало. Ты помнишь мои слова о том, есть ли у меня друзья? Мой единственный сын достоин виселицы. Но могу ли я так поступить? Если я отправлю его в монастырь, новые предатели и чернь постараются его освободить. Никогда мою страну не оставят в покое. Господи, как мне поступить?
15 апреля 1718 года в Петербург приехала Ефросинья, возлюбленная цесаревича. Он жаждал её обнять, но вместо этого её отвезли в Петропавловскую крепость и заперли в темнице. В сундуке с одеждой нашли два письма, которые Алексей писал из Неаполя. Они были адресованы Сенату и архиепископам. Эти письма ясно подтверждали, что цесаревич ждал свержения своего отца, чтобы стать новым царём.
Царь читал эти письма с каменным выражением лица. Он снова в одиночестве сидел в Янтарной комнате, перечитывал строки из письма своего сына и беспомощно прижимался лбом к настенной панели, как будто янтарь сквозь свои миллионы лет жизни мог дать ему совет.
14 июня 1718 года в зале заседания Сената состоялось богослужение, после которого царь начал судебное разбирательство против своего сына. Сто двадцать семь сановников образовывали светский суд; три митрополита, пять епископов, четыре архимандрита и большое число служителей церкви составляли суд духовный. Царь сам вёл обвинение и допрашивал цесаревича.
— Обращайтесь с Алексеем, как с одним из моих подданных! — велел царь всем присутствующим. — Обращайтесь с ним по установленной форме и со всей строгостью.
Все в зале замерли, зная, что означают эти слова. Пытки! Пытки для цесаревича!
19 июня состоялся первый допрос. В коляске, вместе со своим любимцем князем Меншиковым, царь въехал во двор Петропавловской крепости и спустился в специально для цесаревича оборудованную камеру пыток. Он остановился у стены, подал знак, и слуги ввели цесаревича. Обнаженный по пояс долговязый бледный мальчишка, увидев отца и инструменты для пыток, сразу заплакал. Четыре опытных палача схватили его, подняли и привязали к дыбе, вывернув руки. К нему подошёл помощник палача, держа в руках не обычную плётку из дублёной кожи, а из сваренной в молоке коровьей шкуры, которая резала плоть, как сталь. Он посмотрел на царя, ожидая приказ. Царь кивнул.
Уже при первом ударе, который разорвал кожу на спине цесаревича, он дико закричал от боли. После второго удара его тело изогнулось и искривилось, а после третьего удара на спине повисли первые лоскуты мяса.
По знаку царя начался допрос. Алексей, неспособный говорить, на все вопросы лишь мотал головой. Предлагал ли ему австрийский кайзер военную помощь? Должны ли войска, размещённые в Мекленбурге, поднять мятеж? Хотел ли он во главе войска двинуться на Петербург и свергнуть царя? Сколько денег он получил от Австрии?
Цесаревич молчал. Двадцать пять ударов плётки обрушились на него, разрывая его плоть до костей. Кровь текла рекой, но царь, увидев вопросительный взгляд палача, лишь глухо произнёс:
— Продолжай!
Алексей во всём признавался, кричал от боли, всхлипывал в перерывах между ударами и просил о пощаде.
После этих ударов к царю подошёл врач и предложил остановить допрос, поскольку цесаревич уже был не в состоянии что-либо понять.
— Он ещё не всё сказал! Он лжёт! — сурово сказал царь. — Палач, продолжай.
Ещё двадцать ударов плёткой из вымоченной в молоке кожи обрушились на цесаревича. Рваные раны образовывали кровавое месиво, и теперь, после сорокового удара, цесаревич произнёс то, что хотел услышать Пётр.
— Да! Да! Да! Я хотел отцовской смерти!
Царь оттолкнулся от стены и вышел из пыточной. Цесаревича отвязали, бросили на пол, а потом унесли. Лекарь последовал за ним, чтобы осмотреть раны, предполагая, что допрос на этом не закончится.
Ночью двадцатого июня Вахтер увидел из окна своей спальни свет в Янтарной комнате. Он быстро оделся и побежал в Зимний дворец, куда его пропустили без вопросов. Все уже знали его полномочия.
Царь опять сидел в кресле, молитвенно сложив руки и, откинувшись назад, неподвижно смотрел на вырезанную из янтаря скульптором Шлютером маску умирающего воина. Лицо с открытым ртом, искажённым от боли. Последние секунды перед вечностью.
— Чего тебе? — недовольно произнёс царь. — Убирайся!
— Я увидел свет, ваше величество. Моя обязанность…
— Обязанность! Фёдор Фёдорович, есть обязанности, от которых можно умереть. — Царь закрыл глаза, повернул голову к Вахтеру и снова открыл их. Его взгляд был полон сожалений и страдания. — Что бы ты сделал, если бы сын желал твоей смерти?
— Не знаю, ваше величество. Это было бы печально.
— Но его желание никуда не денется! Значит, прощённый всё равно будет помышлять об убийстве. Друг мой, у царя нет выбора, он должен принять решение. Решить по закону и перед Богом. Уходи! Оставь меня! Я не хочу никого видеть, и тебя тоже.
Вахтер тихо вышел из Янтарной комнаты, сел на скамейку в углу вестибюля и стал ждать. Он знал о страданиях царя, ведь за процессом над цесаревичем наблюдал весь мир.
Почти час просидел Вахтер на скамейке перед дверью Янтарной комнаты, как собака, охраняющая хозяина. Когда, наконец, Пётр I вышел из кабинета, он остановился около Вахтера. Глаза у царя покраснели, как будто он долго плакал, а лицо выражало покорность судьбе.
— Ты всё ещё здесь! — сказал он сурово. Голос был почти беззвучен от скорби и печали.
— Пока кто-нибудь находится в Янтарной комнате, я тоже должен присутствовать поблизости, ваше величество.
— Даже когда я прикажу тебе уйти?!
— Тогда я должен напомнить вашему величеству о моей клятве никогда не оставлять Янтарную комнату.
— Ты удивительный человек, Фёдор Фёдорович. У тебя не страха перед царём! Единственный из отродья, который меня окружает. День за днём я вижу только скулящих собак, только слизняков! Батюшка, говорят они мне, а при этом думают: «Когда ты сдохнешь наконец? Почему он не умирает от всех своих болезней? Почему встаёт с кровати и становится ещё сильнее прежнего?» И цесаревич думал так же, Вахтеровский! Он желал смерти своему отцу. Австрийский кайзер дал ему денег, чтобы он собрал армию и уничтожил меня! Мой единственный сын стал негодяем, предателем, убийцей в душе, разрушителем России. Мой сын, пьяница и бабник, слуга своей монгольской проститутки Ефросиньи, попавший в зависимость от подхалимов… и который хотел стать царём России! Что стало бы тогда с моей прекрасной, богатой, трудолюбивой страной? Фёдор Фёдорович, как бы ты поступил с таким сыном?
— Пощадил бы, ваше величество. Отправил бы в отдалённый монастырь и предал забвению.
— Ты думаешь прямо как царица. — Пётр прислонился к стене, и взгляд его стал неподвижным. — Пощадить! А кто пощадит меня самого? Я не знаю, что делать. Иди к жене, Вахтеровский. Я тоже так поступлю. И не думай, что царь подобен дьяволу…
Тёплым вечером 24 июня 1718 года в последний раз на суд собрались сто двадцать семь сановников со всего государства, они заслушали признания цесаревича и зачитали его показания, которые Алексей под пытками написал собственноручно. Заканчивались они словами: «…ничто бы не остановило меня в осуществлении желания…» То есть в покушении на жизнь царя.
После короткого совещания, во время которого царь неподвижным взглядом сердито смотрел на судей, они единогласно вынесли ожидаемый приговор, без малейшей попытки найти в деле смягчающие обстоятельства. Никто не осмелился возразить царю. Приговор гласил:
«24 июня 1718 года, мы, нижеподписавшиеся министры, сенаторы, общественные деятели, офицеры и гражданские лица, собравшиеся в зале Сената Санкт-Петербурга, после тщательного размышления и вдохновлённые нашей христианской верой в силу святых заповедей Старого и Нового Заветов, Святого Писания Евангелистов и Апостолов, правил и уставов отцов Церкви, в права римских, греческих императоров и других христианских властителей, в силу русского права, единогласно и без возражений решили, что цесаревич Алексей за свою вину и бунт против властителя и отца, в равной степени как сын и как подданный его величества, заслуживает смерти».
С тяжёлым сердцем и слезами на глазах — как об этом говорилось позже — они приговорили цесаревича к смерти за тайный заговор и план отвратительного двойного отцеубийства — отца страны и кровного отца.
При провозглашении приговора цесаревич потерял сознание, его пришлось вынести из зала.
Царю потребовалось почти два дня, чтобы подписать приговор. Он опять закрылся в Янтарной комнате, ходил от стены к стене, прижимался лбом к холодному солнечному камню, молился и стучал себя кулаками в грудь. Смерть от палача или помилование и ссылка монахом в Сибирь, что означало прижизненное погребение? Кто я прежде всего: царь России или отец плохого сына? Какова моя обязанность перед Отечеством, Богом и остальным миром? Кто мне поможет? Мне, всемогущему царю, который теперь один, совсем один — и плачет?
В ночь на 26 июня Вахтер опять стоял в вестибюле около Янтарной комнаты и ждал царя. Он снова увидел свет и полный плохих предчувствий прибежал во дворец. Постучавшись, он не услышал ни ответа, ни окрика. Доносился только топот громких шагов, когда царь беспокойно ходил взад-вперёд, и глухие удары, происхождения которых Вахтер не мог понять. Это царь колотил себя кулаками в грудь.
В четыре часа утра царь открыл дверь и вышел. Выглядел он ужасно: утомлённое лицо, бледный, с дрожащим ртом и неподвижным взглядом. Его снова одолевали судороги, оставив след на лице.
— Ты опять здесь! — произнёс Пётр устало. — Я от тебя никогда не отделаюсь?
— Только если обезглавите меня, ваше величество.
— Возможно, когда-нибудь так и будет. — Царь прислонился к стене. — Чего тебе здесь надо? Я знаю, я знаю… Ты увидел свет. Но ты же знал, кто здесь, и всё же пришёл!
— Меня привела забота, ваше величество.
— Забота о ком? Обо мне или о цесаревиче?
— Об обоих, ваше величество. Только это.
— Если скажешь еще хоть слово, твоя голова уже сегодня слетит с плеч! — закричал царь. — Прочь!
— Будь по вашему, ваше величество. — Вахтер глубоко вздохнул. — Все знают про приговор цесаревичу. Все смотрят на Петербург. Как поступит царь?
— Как он поступит? — Пётр сжал кулаки. — Он одинок. С ним только Бог! Он один на один со своей совестью! Один на один со своим долгом! Никто не может мне ничего посоветовать! Никто не осмелится сказать хоть слово. Я — самый одинокий человек на земле… Мне придется принять решение, которое не примет за меня никто другой, такое ни приходилось делать еще никому. Я царь, Вахтеровский, стоящий голым на сибирском морозе.
— И нет никого, кто подал бы вам шубу?
— Нет!
— Позвольте мне, ваше величество?
— Нет! Держись подальше, Фёдор Фёдорович. Твоё сочувствие может стать смертельным. А я этого не хочу. Все, кто ползает вокруг меня — птичий помёт, вызывающий отвращение. Что за день! Ни я, ни кто-либо в мире никогда его не забудем.
В восемь часов утра 26 июня 1718 года в Петропавловскую крепость прибыли царь, князь Меншиков, князь Долгорукий, адмирал Апраксин, канцлер Головин, вице-канцлер Шафиров, генерал Бутурлин и другие — все, кто подписывали приговор. Они быстро вышли из карет и исчезли в тёмном входе Трубецкого бастиона, двери за ними плотно закрылись. Сразу после этого, как рассказывали рабочие, стоящие неподалёку новую башню, из зарешеченного окна раздался крик, который мог принадлежать только Алексею Петровичу. Но он умолк очень быстро, и над Трубецком бастионом нависла гнетущая тишина.
В одиннадцать часов ворота крепости открылись, из них вышел царь вместе с сопровождающими, и они без каких-либо признаков волнения, скорби, ужаса или озабоченности расселись по каретам и разъехались. Царь выглядел как обычно — неукротимый гигант в простой рабочей одежде, с холодным взглядом и раскачивающейся походкой моряка.
Вернувшись в Зимний дворец, царь с аппетитом пообедал, выпил стакан кваса и два стакана анисовой водки. Обед был обычным: щи из кислой капусты, холодное жаркое с огурцами и грибами, пирожки с капустой и в конце — любимый лимбургский сыр, размер которого царь проверял циркулем, подозревая, что повар Вайтен тайно лакомится этим чудесным, дурно пахнущим сыром. В этот день после кваса и анисовки он выпил ещё два стакана токайского, поцеловал в глаза царицу Екатерину и ушёл в свой кабинет. Всю вторую половину дня он работал там, давал распоряжения по запланированному на следующий день торжеству по случаю годовщины славной победы под Полтавой, определял порядок благодарственного богослужения, в хорошем настроении обсудил некоторые политические дела и потом удалился в Янтарную комнату. Никто не спрашивал его ни о чём. Даже Екатерина лишь молча наблюдала за ним во время обеда и пыталась прочитать по его лицу ответы.
Вахтер, как обычно, был в Янтарной комнате и протирал влажной кожаной тряпкой складки на вырезанной из янтаря голове.
— Убирайся отсюда! — мрачно буркнул царь. — И не вздумай мне мешать! Я не хочу никого видеть… даже Бога…
Низко поклонившись, Вахтер вышел из с озабоченным видом.
В шесть часов вечера от коменданта крепости и врача стало известно о смерти цесаревича Алексея Петровича. Это произошло неожиданно, он умер от апоплексического удара. Сразу после того, как в царь покинул его в одиннадцать часов утра, с ним случился глубокий обморок, и он уже не очнулся.
Волна ужаса прокатилась по Петербургу, а позднее по всей России и династиям Европы. Кто же поверит в апоплексический удар? Что произошло между восемью часами утра и шестью часами вечера в Трубецком бастионе? Посвящённые молчали, в ужасе затаившись. Но вскоре появились слухи, из которых нельзя было понять, где правда, а где вымысел.
Австрийский посланник Плейер через три дня после смерти цесаревича доложил в Вену, что Алексея зарубили саблей или топором, якобы царь лично нанёс сыну смертельный удар.
Голландский посланник Якоб де Бай писал в рапорте, что палач вскрыл цесаревичу вены, и тот истёк кровью в присутствии царя.
Камеристка Екатерины, немка Анна Крамер, рассказывала, будто цесаревичу по приказу царя и в его присутствии перерезали горло. И одна женщина из Нарвы потом искусно пришила отрезанную голову, чтобы цесаревича можно было положить в открытый гроб. А широкая и повязка на горле скрыла разрез.
Распространялся и ещё один слух: Алексея задушили подушкой четыре гвардейских офицера. Один из них, по фамилии Румянцев, рассказал об этом перед смертью — но кто ж ему поверит?
Но домысли возникали снова и снова. Был ли цесаревич задушен? Отравили ли его ядом? Бил ли его отец кнутом до тех пор, пока он не умер от этой ужасной пытки? Чем можно объяснить ужасный крик сразу после того, как царь и его сопровождение вошли в Петропавловскую крепость? Был ли ещё цесаревич жив после отъезда царя в одиннадцать часов утра?
Кто осмелится спросить? Кто хочет подвергнуться гонениям? Кто хочет оказаться на виселице?
Цесаревич был мёртв — это единственное было известно наверняка. Всё остальное было лишь предположениями, которые никогда не подтвердятся.
В этот вечер, 26 июня 1718 года, Пётр I остался в Янтарной комнате в одиночестве, а Вахтер стоял снаружи, прогоняя всех, кто хотел поговорить с царём. Он запретил тревожить царя самому Меншикову и вице-канцлеру Шафирову, на что Меншиков ему пригрозил:
— Запомни хорошенько: ты, лакей, тоже смертен.
Прежде чем уйти, они передали Вахтеру свиток, и Шафиров сказал:
— Передай это царю! Здесь то, о чём он просил. Ему надо поставить подпись. Дело спешное.
Опять Вахтер до самого утра сидел на скамейке перед дверью Янтарной комнаты и ждал. Один раз к нему пришла Адель и принесла корзинку с фруктами и холодными блинчиками, кружку пива и трубку с табаком.
— Тебе надо немного поесть, — шепнула она. — Будь осторожен, Фриц. Он собственноручно убил сына?
— Я этого не знаю.
— По всему Петербургу об этом шепчутся. Он до смерти забил его плёткой, а потом отрезал голову!
— Об этом будут еще много болтать. А сейчас ступай и оставь меня с царём. Он очень одинок… но никто этого не видит.
Утро ещё только начиналось, когда открылась дверь Янтарной комнаты. Царь распахнул её, согнувшись от боли, с дергающимся лицом и перекошенным ртом, из уголка стекала слюна. Его скрутил новый приступ, ему было так тяжело, что Пётр в эту минуту поверил в свою смерть. Сначала цесаревич, теперь он… Бог наказывает Россию.
— Фёдор, — прохрипел он, увидев Вахтера. — Фёдор, помоги мне. Я умираю… я умираю… Бог покинул меня… Моя бедная Россия…
Он опёрся о плечо Вахтера, но потом выгнулся, борясь со своей болезнью, и всей тяжестью гигантского тела навалился на спину Вахтера. Тот широко расставил ноги, чтобы удержать этот вес, и почувствовал, как сгибается под ним, как трещат его кости. Из последних сил он прислонил царя к стене, прижимая плечом.
— Вы должны жить, — прохрипел он.
— Зачем? Зачем я должен жить?
— У вашего величества много планов, чтобы сделать Россию самой сильной в мире. Вам надо их выполнить.
— А если я не смогу, Фёдор Фёдорович?
— Сможете, ваше величество. Вы — как скала… и смерть цесаревича вас не сломает.
Давление на плечо Вахтера уменьшилось, царь выпрямился, приступ проходил. По лицу Петра струился пот, рот был перекошен. Опираясь на стену дрожащими руками, он вернулся в Янтарную комнату и с глубоким вздохом упал в кресло, вытянув ноги.
— Что тебе известно о смерти моего сына? — спросил Пётр I.
— Ничего… только то, что он мёртв.
— И ты не хочешь меня об этом спросить?
— Я хочу, как и вы, остаться в живых, ваше величество. — Он вынул из кармана свиток и протянул его царю. — Это мне дали князь Меншиков и канцлер Шафиров. Нужна только ваша подпись.
— Меншиков, Шафиров! Они были здесь?
— Да, я не пустил их к вам. Я знал, что ваше величество хочет побыть в одиночестве.
— Ты правильно сделал. Я тебя отблагодарю.
Царь развернул свиток и начал читать красиво написанный текст. Следы приступа прошли, и судороги прекратились. Спокойно, как и в обычные дни, с наморщенным лбом и немного поджатыми губами, он закончил чтение письма и посмотрел на Вахтера.
— Ты умный человек, я это знаю, — сказал царь. — Слушай, что я хочу сообщить миру:
«При вынесении приговора нашему сыну, мы, его отец, колебались между естественным состраданием с одной стороны и заботой об обеспечении мира в империи с другой. Мы не могли принять решение в таком мучительном и серьёзном деле. Но всемогущий Бог в своей доброте захотел освободить нас от сомнений и защитить наш дом и нашу страну от опасности и позора. Вчера, 26 июня, он прервал жизненную нить цесаревича Алексея, который стал приступа, случившегося с ним во время оглашения смертного приговора и перечня его преступлений против нас и государства.
Болезнь началась с апоплексического удара. Потом сознание снова вернулось к нему, он исповедался, принял последнее причастие и попросил нас, забыв его преступления, действовать от имени наших министров и сенаторов. Он откровенно признался во всех преступлениях против нас, много плакал и получил прощение, которое мы, его отец и государь, должны были ему дать. 26 июня около шести часов вечера он умер, как христианин».
— Хорошо написано, Фёдор Фёдорович?
— Умно составлено, ваше величество… но никто этому не поверит.
Царь вскинул голову, в его глазах загорелся опасный огонь.
— Почему? Это же правда!
— Даже если это правда, никто не захочет в неё верить. Звучит слишком просто.
— Но я же написал: «он прервал жизненную нить…». Я написал: «… с апоплексического удара…». И я был рядом с ним до одиннадцати часов. Что здесь неправда?!
— Вы всё свалили на всемогущего Бога. Он всё урегулировал и освободил вас от решения. Ваше величество, это звучит так, как будто вы прикрылись Богом.
Царь пристально посмотрел на Вахтера, словно тот его ударил. В первый раз в жизни с ним так разговаривали. Никто не осмеливался обвинять его во лжи. Если кто-нибудь до этого говорил о царе что-нибудь плохое,его били плетьми, вешали, рубили голову или колесовали. Царь всегда прав — всё, что он делает, угодно Богу.
— В народе тоже так думают? — спросил он.
— Боюсь, что да, ваше величество.
— И ты говоришь мне это прямо в лицо?! Вахтеровский, ты разве не боишься, что тебя могут посадить на кол?
— Я полностью в вашей власти, ваше величество. Судите меня… я обещал вам всегда говорить правду.
Царь отложил документ и посмотрел на игру света от на янтарных стенах. Его губы задрожали, но новый приступ не начался. Тихим, сдавленным голосом он произнёс:
— Скажи, будут ли меня сравнивать с Иваном IV? С Иваном, которого назвали Грозным? Он и правда убил своего сына, цесаревича Ивана, ударил его железным посохом. Это произошло в 1582 году… Станут ли теперь говорить, что в 1718 году царь Пётр стал Грозным?
— Вас всегда будут называть Петром Великим.
— Даже если я действительно убил своего сына?! — воскликнул царь.
— Вы всё равно останетесь Великим. Вы привели старую Россию в современную эпоху и сделаете её ещё сильнее. Кто вспомнит после этого об Алексее Петровиче? Дорога к свету всегда орошена кровью. Смерть цесаревича, ваше величество, вы будете всегда помнить. Будете переживать в одиночестве. Только Богу известно, что у вас на душе.
— А ты философ, философ из народа. Какое счастье, что ты у меня есть! Всё, что ты сейчас сказал, стоит сотню смертей. Фёдор Фёдорович… я могу тебя сделать графом.
— Вот всё, что у меня есть, ваше величество. — Вахтер поднял обе руки ладонями вверх. — Окажите мне и честь, позволив остаться при Янтарной комнате и заботиться о ней. Что мне от графского титула без Янтарной комнаты? В России много бояр, графов и князей, а Янтарная комната только одна.
— Даю тебе тысячу рублей… и моё доверие.
— Благодарю, ваше величество. — Вахтер опустил руки и поклонился. — Это больше, чем быть князем или митрополитом.
— Тогда за работу! — Царь поднялся, огромный и здоровый как бык. — Сегодня у нас праздник в честь победы под Полтавой. С пушечной канонадой, звоном колоколов, богослужением, парадом кораблей, музыкой и танцами. И с огромным фейерверком, чтобы видел весь мир!
— Нам одеться в траур?
— Нет! Почему? — Царь строго посмотрел на Вахтера. — Цесаревич умер по своей вине.
Оставив Вахтера, царь широкими шагами прошёл мимо и вскоре стало слышно, как он ругает лакеев на лестнице и прогоняет ожидающих.
Праздник прошёл так, как приказал Пётр. Все сидели за роскошными столами в крытом зале Летнего сада, присутствовали все члены дипломатического корпуса. Царица сидела за столом задумчиво и молчаливо, а Пётр пребывал в хорошем настроении и много шутил. Князь Меншиков, записал в своём дневнике: «После кушаний все спустились в сад его величества, где вели светские беседы».
В безоблачном ночном небе Петербурга взрывались ракеты, крутились колёса фейерверка, падал звёздный дождь и снопы света. Огненные каскады озаряли небо, со всех сторон гремел гром, всё вокруг сверкало. Это был самый большой фейерверк, устроенный Петром, а в это время в Трубецком бастионе тело цесаревича омыли, одели и уложили в обитый чёрным бархатом гроб.
За этими действиями наблюдал священник и молился об отпущении грехов, в то время как в небе трещали ракеты и весь Петербург смеялся и танцевал.
— Весь горизонт светится, — воскликнул царь, размахивая бокалом, и все ликовали вместе с ним. Никто не осмеливался выглядеть серьёзным или печальным.
Только Вахтер, сидя вместе со своей женой Адель и сыном Юлиусом в углу крытой галереи, сказал с грустью:
— Мне страшно, когда я вижу, на что способны люди…
После этого он закрыл глаза, потому что не мог смотреть на фейерверк. Достаточно было и грохота.
Всё произошло так, как и предсказал Вахтер: за прошедшие годы Россия стала мировой державой, и никто больше не вспоминал о цесаревиче Алексее. Реформы Петра, жёстко осуществлённые железной рукой, изменили картину мира. Екатерину официально короновали, были основаны гимназии и университеты, армия набрала гигантскую силу, и европейская политика не могла больше обходиться без влияния России. Шведы были побеждены, Турция и султанаты заключили с Петром мир, Петербург становился одним из самых красивейших городов Европы. Из «медведей» и «варваров», как раньше называли русских, они стали союзниками и лидерами, несмотря на то, что народ страдал от налогов и кнута. Однако несколько столетий назад жизнь была совсем другой.
Петра I называли Великим не только из-за двухметрового роста, но и за его дела, как государя. Однако на вершине славы он стал совершенно больным человеком. Ослабевшему великану всё чаще приходилось лежать в постели, ездить на лечение, его изматывали судороги, но он мог есть и пить непомерно много, жить, как простой крестьянин, и менять любовниц, как рубашки, хотя любил только жену, свою Екатерину. Она родила ему двенадцать детей: шесть мальчиков и шесть девочек, но остались живы только дочери Елизавета и Анна, ее выдали замуж за Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского.
Петр был царем, появившимся как из сказки, из какой-то дали. В России мечтали о более добром царе, который относился бы к народу по-отечески и свой путь к успеху не обрамлял виселицами, колёсами, кольями и отрубленными головами. Но разве на Руси был когда-нибудь такой царь? Каждого государя гигантской империи народ ненавидел: миллионы крестьян и крепостных, мастеровые и ремесленники. Пётр I был своего рода светлым образом, его называли «батюшкой», отцом новой России.
У Фридриха Теодора Вахтера и его жены Адель в эти годы родились три ребёнка: двое умерли почти сразу после рождения, а дочь утонула тёплым летним днём 1723 года в Неве, никто не помог ей, когда она звала на помощь. Прыгнуть? В Неву? Что за глупость! Кто попал в эту воду, сам виноват в своей беде. Так у Вахтера остался только Юлиус, первенец, о котором царь часто говорил своему тайному доверенному лицу:
— Фёдор Фёдорович, хорошенько присматривай за своим сыном! Заботься о наследнике. Он хороший мальчик, правда? О нём говорят только хорошее.
— Он хочет стать медиком.
— Запрещаю! Он принадлежит Янтарной комнате!
— Я ему об этом говорил, но у него другие планы, ваше величество.
— Врач! — Пётр махнул рукой и поморщился. — Ты знаешь, что я думаю о врачах? Все они болтуны, латинское дерьмо, шарлатаны, всезнайки без знаний, знахари. Ты знаешь, сколько их у меня? Я и сам не знаю, но они кишат вокруг, как муравьи. Доктора немецкие, английские, французские, русские, голландские, австрийские, даже перс среди них есть. Но помогают ли они мне? Облегчили ли мои боли? Об излечении я уже и не говорю! Они мне дорого обходятся, тысячи рублей, а они стоят вокруг моей кровати, таращат глаза, и у каждого своё мнение о моей болезни! Каждый готовит своё снадобье. А в действительности они совершенно ничего не знают. Вахтеровский, твой сын не будет медиком!
В 1725 году, после Рождества, во время которого царь вместе с друзьями, продолжая Рождественские песнопения, объезжал дом за домом и с петухом в руках собирал деньги, которыми его щедро одаривали, Юлиусу Вахтеру исполнилось девятнадцать лет.
Он был влюблён в дочь камергера Кондратия Михайловича Куракина, красавицу Софью Кондратьевну, тайком изучал под руководством царского врача, немца доктора Блюментроста, анатомию, искусство делать операции и описание болезней, которое называлось диагнозом. В то же время, отец учил его ухаживать за Янтарной комнатой.
— Папа, — спросил однажды Юлиус, — почему врач не может и смотреть за комнатой? Для этого остаётся достаточно времени.
— А почему хранитель комнаты не может быть врачом? — ответил Вахтер. — Потому что правильно можно служить только одному делу — медицине или янтарю! Делать и то, и другое — значит каждое дело делать только наполовину. А половины, сынок, для янтаря недостаточно.
Новогодний праздник закончился грандиозным фейерверком, который царю очень понравился. Во время Крещения он погрузился в прорубь на промерзшей Неве, но больше не был тем царём, который мог согнуть серебряное блюдо или размахивать молотом в кузнице, или на маленьком, быстром корабле выйти в Балтийское море и проклинать шторм.
Теперь это был больной человек, который не хотел ничего знать о своей болезни и противился всему, что его разъедало, и, вероятно истерзанный воспоминаниями, почти каждый день устраивал праздники, вёдрами пил водку и спирт, обжирался медвежатиной, олениной, говядиной и зайчатиной. В качестве алкогольного близнеца австрийской «Табачной коллегии» Фридриха Вильгельма он учредил «Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор», на котором после избрания «князя-папы» подавали жареных волков, лисиц, кошек и крыс, и каждый должен был откусывать по очереди, а царь — первым.
За этим буйством скрывалась правда. Она стала очевидной, когда 16 января Пётр I слёг в постель и больше уже не вставал.
О его болезни доктор Блюментрост знал уже давно, но не мог ничем помочь. Воспаление мочевого пузыря в первый раз поразило его во время персидского похода летом 1722 года и явилось следствием воздействия убийственной жары. Четыре врача объясняли болезнь камнями в почках, а затруднение мочеиспускания — воспалением мочеиспускательного канала вследствие неоднократных заболеваний триппером во время безумных утех с фаворитками — от крестьянских девушек до придворных дам. Летом 1724 года боли в мочевом пузыре буквально свалили царя. Он кричал от боли, его изнуряли судороги, и весь мир казался ему сплошным страданием.
Доктор Блюментрост, личный врач царя, понимая всю свою ответственность и беспомощность, как и его коллега доктор Бенджамин ван Рейн, пригласил в Петербург английского хирурга Хорна, и он провёл всестороннее обследование царя.
— Это неизбежно, — сказал доктор Хорн и с сочувствием посмотрел на Петра. — Нам нужно ввести катетер для мочеиспускания. Сейчас самое важное — отвести мочу.
Операция проходила мучительно. Доктору Хорну не удавалось ввести катетер до мочевого пузыря, хотя он безуспешно пытался сделать это несколько раз. При этом вытекло немного крови и гноя. После очередной попытки ему наконец удалось достичь устья пузыря и вывести полный стакан мочи. Всего лишь стакан.
Царь отказался от обезболивания и вместо этого крепко держал за руки доктора ван Рейна и доктора Дюпона. Как бы он себя ни сдерживал, боль была слишком сильной, и он кричал, стискивая руки врачей. Когда, наконец, вышел самый большой камень, доктор ван Рейн был почти в обморочном состоянии — царь сдавил его руку, как стальными тисками.
Сейчас, 16 января 1725 года, Пётр I катался из стороны в сторону на кровати и кусал кулаки, задыхаясь от боли. Его бил озноб, и, несмотря на теплое одеяло и медвежьи шкуры, царь не мог согреться. Он ругался, проклиная врачей, придворных и даже свою любимую Катериночку, свою «маленькую сердечную подружку», как он её нежно называл — но от этого теплее не становилось. Некоторые даже шёпотом предлагали положить рядом с ним молодую и горячую восточную женщину, чтобы она согрела его своим теплом, но врачи отвергли это предложение, как абсолютно бессмысленное.
Впервые доктор Блюментрост понял, что не может одолеть болезнь. Снова вернулась старая инфекция, к тому же из почек стал выходить песок, начиналось отравление организма из-за нарушения циркуляции, а главное, доктор Блюментрост опасался гангрены.
Курьеры на самых лучших лошадях мчались от станции к станции в Берлин, к доктору Шталю, в Голландию, в Ляйден, к доктору Бёрхаафе, с письмами , в которых доктор Блюментрост в отчаянии просил помощи или совета.
Но было уже поздно, слишком поздно. Царю снова пришлось пережить страшные муки, когда 23 января английский хирург доктор Хорн по совету итальянского врача Лацаротти проколол мочевой пузырь и опорожнил его. Свидетель этой операции, французский посланник Кампредон, который хотел порекомендовать некоторых парижских врачей, записал в дневнике: «У него откачали четыре литра мочи. Она страшно воняла, и в ней были частички ткани».
Это конец?
Нет. Избавившись от мочи, царь съел несколько ложек овсяной каши, час поспал, проснулся посвежевшим и даже сказал несколько слов герцогу фон Гольштейну.
— Скоро я окончательно поправлюсь, и мы вместе съездим в Ригу, — сказал он, как ни в чем не бывало.
Екатерине, днями и ночами сидевшей у его постели, засыпавшей в кресле, вытиравшей ему лицо, удерживавшей его, когда начинались судороги, плакавшей и вздыхающей, когда он извивался от боли и много раз падающей в обморок, когда ему делали операцию, он сказал:
— Катенька, моя душечка, моё счастье… не плачь. Моё время умирать ещё не пришло. Смотри, у меня всё хорошо…
Все в комнате застыли от ужаса. Пётр I поднялся, крепко ухватился за доктора ван Рейна и встал с постели. Великан стоял на колоннообразных ногах, которые выглядели ещё мощнее, распухнув от застоя жидкости, и попытался сделать шаг. Внизу у него всё горело, но ни один мускул не дрогнул на его лице.
— В Янтарную комнату, — произнёс он. — Я хочу...
— Это невозможно, ваше величество.
Врачи побледнели и с тревогой посмотрели на царя. Екатерина крепко держала его за ночную рубашку. Принцессы Анна и Елизавета громко ахнули. Меншиков, который, как всегда, тоже присутствовал, выжидая, как лис на охоте, регистрируя каждое движение, замечая каждую неловкость, преградил ему путь.
— Это глупо, — сказал он. — Ложись в постель, Пётр Алексеевич.
— Кто здесь царь?! — привычно загрохотал Пётр. — Кто? Всё ещё я! Я ещё жив! И проживу дольше всех вас вместе взятых.
Он хотел идти дальше, но чуть не упал, если бы доктор ван Рейн и доктор Блюментрост его не подхватили. Царь опустил голову.
— Позовите его ко мне, — сказал он слабым голосом. — Я хочу увидеться с Фёдором Фёдоровичем. С хранителем Янтарной комнаты. Приведите его и оставьте нас наедине. Я сказал — наедине. Ни медиков, ни тебя, мерзавец Меншиков, ни тебя, Екатерина. Наедине.
Приказ царя летел из уст в уста, от лакея к лакею, пока не дошёл до Янтарной комнаты.
— Царь зовет! — сказал лакей Вахтеру, который, как всегда, протирал янтарные панели куском замши. — Срочно!
Когда Вахтер вошёл в комнату больного царя, все с удивлением его оглядели, как редкого зверька, ведь мало кто его знал, да и то — лишь как тихоню, обитающего где-то в Зимнем дворце. Все вышли, а Екатерина, выходившая последней, внимательно посмотрела на этого странного человека, который оказался самым близким другом её мужа.
Царь подождал, пока закроется дверь, и сделал знак Вахтеру приблизиться. Сам он тяжело дыша сел на край кровати, сжимая правой рукой одеяло. Боль буквально жгла его изнутри.
— Недолго осталось, — с трудом произнёс он. — Фёдор Фёдорович, я хочу попрощаться. Я знаю своё состояние, но ввожу всех в заблуждение. Я вижу в их жадных взглядах вопрос: кто будет новым царём? Кто унаследует мою империю? Кто останется фаворитом при царском дворе? Кто будет предан анафеме? Кто будет с жадностью загребать деньги? Всё это — дерьмо, всё дерьмо! Вахтеровский, что будет после меня с Россией? Ты знаешь ответ? Что будет… вот моя единственная забота, а смерть меня не пугает. Кому ещё я могу доверять? Меншикову? Он самый отъявленный негодяй из всех. Толстому? Подхалим! Апраксину? Этот думает только о карьере. Головину? Это волк, который лижет мне руку. Я не должен умирать, мне надо жить вечно, жить для России, но Господь рано или поздно всех призывает к себе. Мне ещё рано умирать, но ничто уже не поможет. — Он снова от боли стиснул пальцами одеяло, его взгляд стал рассеянным. — Скажи мне правду, как всегда, Фёдор Фёдорович: я правда должен умереть?
— Да, ваше величество. Врачи вам уже ничем не помогут. Мой сын Юлиус такого же мнения.
— Он всё-таки стал медиком за моей спиной?
— Ещё не выучился. Он учится у доктора ван Рейна, смотрит, как тот работает, помогает. Простите его, ваше величество.
Царь кивнул. От приступа боли он несколько минут не мог говорить. Потом, с хрипом вздохнув, сказал слабым голосом:
— Янтарную комнату я больше не увижу. Мой самый любимый кабинет, моя исповедальня, место, где я мог разговаривать со своей душой. Никогда больше! Вахтеровский...
— Да, ваше величество. — Вахтер подошёл ближе и теперь стоял совсем рядом с задыхающимся царем.
— Осмелишься ли ты на необыкновенный поступок, если твой царь этого пожелает? Не прикажет… а просто пожелает. Повредишь ли ты Янтарную комнату?
— Я… я не знаю, — запинаясь ответил Вахтер. Мысль о том, чтобы нанести ущерб Янтарной комнате, ему никогда не приходила в голову.
— Я хочу иметь какую-нибудь частичку. Маленький кусочек. Отколи мне что-нибудь от стены. Гирляндочку, голову, листик… что-нибудь. Я хочу положить это себе на грудь, когда буду умирать. Маленькую частичку моей комнаты… лучик солнечного камня.
— Я исполню ваше желание, ваше величество, — сказал Вахтер с дрожью в голосе. — На четвёртой панели есть головка ангела… Я принесу её вам.
— Ангел! — Царь стал заваливаться на спину. Вахтер подбежал к нему, помог улечься и аккуратно укрыл одеялом. — Ангел улетит вместе со мной в вечность. Фёдор Фёдорович, мир никогда этого не узнает. Ни Меншиков, ни Апраксин, ни Бутурлин, ни Толстой, ни Шафиров, ни другие марионетки. Только ты, мой верный друг. Благослови Бог тебя и твою семью…
Вахтер наклонился к царю, поцеловал его руки, заглянул в его серо-зелёные глаза и в их глубине увидел смерть.
Когда Вахтер открыл дверь, мимо него в комнату вбежали Екатерина и Меншиков. Потом прошли врачи. Никто даже словом не обмолвился с Вахтером, он молча стоял у двери и смотрел на них.
«Волки устремились к своей жертве, — подумал он. — Падальщики собираются в стаю. Слишком долго умирает царь. По чуть-чуть, час за часом, и это длится слишком долго. Бедный царь, ты прав, когда спросил: что же будет с Россией?»
Он вышел и направился наверх, в Янтарную комнату. Достав из ящика с инструментами маленький молоток, тонкий резец, щипцы, острый нож, он посмотрел на головку ангела на четвёртой панели и начал осторожно её отделять.
Царь не получил ангела. В тот же день, вечером, он снова кричал от боли, исповедался и принял причастие. Он взял Екатерину за руку и застонал:
— Как тяжело. Как тяжело. Как-будто дом давит на грудь… Катериночка, сними с моей груди этот дом.
Он промучился ещё три дня, и врачи не могли ему помочь. Они знали только одно: мочевой пузырь воспален, нижняя часть живота заполнена гноем, пузырь стал твёрдым, как каменный замок, и больше не пропускал ни капли. Царь гнил изнутри, но он мог ещё говорить и в минуты облегчения диктовал, раздавал помилования и прощения, неоднократно причащался.
Что будет после меня с Россией?
26 января, когда в Петербурге были открыты все церкви и тысячи людей молились за царя, звонили колокола и взывали о помощи Господа, у царя началась такая судорога, что он чуть не упал с кровати, но Екатерина и её дочь Анна крепко держали его. В это время во дворце собрались все министры, сенаторы, генералы и знатные горожане, чтобы услышать сообщение о смерти царя. Меншиков, Толстой и Бутурлин сидели в соседней комнате и хладнокровно обсуждали, кто будет наследником Петра I. Им не должен стать Пётр, сын казнённого цесаревича Алексея, хотя по закону — это его право. Трон займёт Екатерина, вдова Петра I. Она гарантировала, что все фавориты останутся при дворе.
В ночь на 28 января дыхание царя стало хриплым и тяжёлым. Изо рта потекла слюна, лицо перекосила ужасная гримаса. Тело билось в конвульсиях, но царь еще сопротивлялся этому: император, великан, медведь. Его воля вставала на дыбы, и он продолжал бороться против непобедимого врага. Исповедник Феофан Прокопьевич осенил его крестом и сказал:
— Я надеюсь, что Бог простит тебе все грехи за те добрые дела, которые ты сделал для своего народа.
Екатерина молилась и плакала, а Меншиков, Бутурлин и Апраксин готовили новую тронную речь для императрицы.
28 января 1725 года Пётр I приподнялся, глубоко вздохнул и упал назад на подушку. Его искажённое лицо расслабилось.
Царь умер в шестом часу утра.
Екатерина упала на колени перед его постелью, сложила руки в молитве и громко закричала, так что услышали бы и на небе:
— О Господи, прошу тебя, открой врата рая, забери его великую душу!
Умер не только царь, умерла целая эпоха.
Меншиков вышел из комнаты, чтобы известить ожидающих о смерти бессмертного. Он прошёл мимо Вахтера, который уже три дня стоял у двери, ожидая, что царь ещё раз найдёт в себе силы и позовёт его. На бархатной подушечке лежала головка янтарного ангела. Вахтер держал подушку в руках с таким почтением, как будто на ней лежала корона Российской империи.
Царь умер. Да здравствует царица Екатерина I!
Господи, что будет с Россией после меня...
Часть третья
Кёнигсберг, 1945 год
Действующие лица:
Михаил Вахтер, хранитель Янтарной комнаты
Доктор Вильгельм Финдлинг, директор музея
Марта, его жена
Эрих Кох, гауляйтер Восточной Пруссии
Петер Хассельманн, штабс-ефрейтор, водитель грузовика вермахта
Йозеф Зельх, унтер-офицер, водитель грузовика вермахта
Яна Петровна Роговская
Доктор Йорг Панкратц, штабс-врач в Кёнигсберге
Фрида Вильгельми, старшая медсестра
Ганс Лейзер, капитан
Сильвия Ааренлунд, шведская студентка
Бруно Велленшлаг, руководитель администрации
...
10 января 1945 года выдалось хмурым, пасмурным и туманным. Снег прекратился, пронизывающий ледяной ветер с востока успокоился, превратив Восточную Пруссию, Кёнигсберг и залив Фрише-Хафф в обледенелый причудливый ландшафт. По дорогам на запад — в Эльбинг, Алленштайн, Ортельсбург и Данциг — потянулись первые обозы беженцев, затёртые между двигающимися с фронта и на фронт, в неизвестное будущее, армейскими колоннами. Только бы прочь отсюда, безразлично куда, только бы в безопасное место, только бы выжить, убежать от уничтожения.
На телеги и тачки люди грузили всё самое необходимое: постельные принадлежности и одеяла, кастрюли и посуду, стулья и столы, дедушкины напольные часы или ковёр, мешки с капустой и картошкой, дрова и торфяные брикеты, старую плиту и бельё, одежду, обувь и другие ценные вещи, нужные для жизни или особенно близкие сердцу. Среди ящиков и мешков, мебели и прочего хлама сидели люди, закутанные от холода в одеяла или шали, со впалыми глазами, голодные, но живущие надеждой, что доберутся до безопасного запада Германии. Женщины и дети, старики и младенцы. У кого не было повозки или лошади, шли пешком, привязав тележки веревкой к поясу. В ход пошли даже детские коляски, в которых везли скарб через заснеженную страну. Тысячная, бесконечная, тёмная вереница людей, гонимых страхом по загруженным дорогам.
На границе Восточной Пруссии стояли советские войска. Все еще ждали того великого дня, когда немецкие войска развернутся для зимнего наступления. Со всех сторон на Германию двигались войска американцев, англичан, французов и русских. Из великой Германии страна превратилась в мешок, который с каждым днём затягивался всё туже. Геббельс провозгласил тотальную войну, войну до полного уничтожения. Всех мужчин с пятнадцати лет, не задействованных на важных для войны предприятиях, призвали в народное ополчение, фольксштурм, жалкое подобие армии, они своими телами должны были образовать вал перед натиском вражеских дивизий.
Плохо вооруженные, они подбадривали себя лишь лозунгами, из которых каждый мог понять лишь одно: наступает конец, рейх надо защитить. Война обрушилась на Германию. Многие города после воздушных налётов и бомбардировок были разрушены. Люди жили в подвалах и среди руин, в развалинах домов или бункерах. И всё же для беженцев из Восточной Пруссии разбомблённый запад стал последним спасением, последней возможностью выкарабкаться и выжить.
В главной ставке Гитлер, как всегда при обсуждении положения дел на фронтах, стоял у длинного стола, склонившись над картой, и внимательно рассматривал новые линии фронтов. Генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Йодль и генерал-полковник Гейнц Гудериан докладывали о последних событиях на фронте. После покушения, устроенного 20 июля 1944 года графом фон Штауффенбергом, Гитлер сильно осунулся, превратился в развалину, всё чаще с ним случались нервные припадки, день ото дня он становился всё менее разговорчивым. Чем ближе фронт со всех сторон подходил к Германии, тем больше он походил на человека, находящегося на краю гибели. Сейчас он выслушал доклад Гудериана, не проронив ни слова.
Всё выглядело безнадёжно. Наступление генерал-фельдмаршала фон Рундштедта в Арденнах остановилось; в Венгрии продвигались вперёд русские; в Италии наступали британцы. С 10 января 1944 года, после захвата Риги советской армией, вся группа армий «Север» попала в окружение; у границы Восточной Пруссии полукругом стояли три фронта Красной армии, готовые к наступлению; бомбардировщики американцев и англичан почти беспрепятственно летали над рейхом и систематически разрушали города, мосты, железные дороги и фабрики. Число погибших от бомб насчитывало сотни тысяч.
Гитлер молчал. О чем он сейчас думал? О беженцах среди снежной пурги, о невозможности сдержать силы противника, о бессмысленных жертвах сотен тысяч солдат? О том, что он сам сбежал? Любимую главную ставку «Волчье логово» у Ратенбурга в Восточной Пруссии ему пришлось оставить — Красная армия подошла слишком близко. Теперь его ставка расположилась в Цигенберге под Фракфуртом, он слышал вой сирен, когда бомбардировщики союзников крушили и жгли в огне города Германии. О чём он думал?
Гудериан быстро это заметил, закончил доклад, достал из папки список и серьёзно посмотрел на Гитлера.
— Мой фюрер, — сказал он решительно. — Для понимания ситуации необходимо сравнить новое соотношение сил. У меня здесь самые свежие данные…
— Меня не интересует числа! — Гитлер бросил короткий взгляд на Гудериана. — Зачем они мне?
— Мой фюрер, мы должны решить, на какой фронт двинуть резервы. Арденнская операция стоила нам много сил и средств, боеприпасы на исходе, горючее отсутствует, и многие танки бездействуют, из-за воздушных налётов нет возможности обеспечить снабжение. Мы должны точно определить...
— Мы?! — перебил его Гитлер. Его голос стал громче, резче, истеричнее. — Мы? Кто это — мы? Вы, Гудериан?!
Гудериан оставался спокойным.
— В соответствии с самыми свежими данными будет ошибкой перебрасывать войска с Восточного фронта на Западный.
— Ошибкой?! — Голос Гитлера зазвенел еще громче. — Вы обвиняете в ошибке меня?! Кейтель, вы слышали?! — Затем последовал приступ бешенства, которого все боялись и против которого больше не имело смысла бороться. — Не учите меня, Гудериан! — закричал Гитлер. — Я пять лет руковожу немецкими войсками на поле боя и за это время получил такой практический опыт, который господа из Генштаба никогда не получат. Я в курсе всего лучше вас!
Бывший ефрейтор расшумелся,и генералы опустили головы. Лишь на Гудериана это не произвело впечатления. Он подождал, когда Гитлер умолкнет, чтобы набрать в лёгкие новую порцию воздуха, и спокойно продолжил читать бумагу:
— Из абвера, из отдела иностранных армий востока, получено сообщение, что русские в середине января готовят общее наступление по трём направлениям: на Восточную Пруссию, на Вислу и на Украину. То есть по общему фронту нашей группы войск «Центр» и «А». Русские по пехоте превосходят наши войска в одиннадцать раз, по танкам — в семь раз и в двадцать раз по артиллерии… — Гудериан сделал небольшую паузу, чтобы обратить внимание на следующее предложение, — а превосходство русской авиации не подлежит сомнению! — Это был пинок в сторону рейхмаршала Геринга, но он на этом совещании не присутствовал. — В цифрах, мой фюрер, положение выглядит следующим образом: на Восточном фронте протяжённостью тысячу двести километров, от Балтийского моря до озера Балатон в Венгрии, в нашем распоряжении имеется сто сорок пять дивизий, боевых групп и бригад, к этому можно добавить шестнадцать подвижных подразделений, двенадцать танковых дивизий и триста восемнадцать танков, шестьсот шестнадцать артиллеристских орудий и семьсот девяносто три противотанковых пушки. В районе группы «А», как сообщает генерал-полковник Гарпе, на фронте протяжённостью семьсот километров на один километр приходится сто тридцать семь пехотинцев. Красная армия может на километр фронта выставить полторы тысячи пехотинцев. Резервы генерал-полковника Гарпе состоят лишь из четырёх танковых дивизий, одной мотопехотной дивизии и одной механизированной боевой группы в составе бригады. Это остатки разбитой Десятой танковой дивизии.
Гудериан замолчал и посмотрел на Гитлера. Лицо фюрера было безучастным и неподвижным, похожим на маску. Опираясь на обе руки, он неотрывно смотрел на лежащую перед ним карту, как будто ничего не слышал, его мысли витали где-то далеко. Он стоял молча и неподвижно. Гудериан нанёс последний удар.
— Мой фюрер, абвер в связи с этим сообщает: нашим ослабленным подразделениям со стороны советского Восточного фронта противостоят пятьдесят пять хорошо оснащённых армий, шесть танковых армий, тридцать пять танковых и механизированных корпусов и шесть миллионов двести восемьдесят девять тысяч солдат. Шесть миллионов, фюрер! Советские подразделения имеют в своём распоряжении сто пятнацадцать тысяч орудий, пятнадцать тысяч танков и самоходных орудий, сто пятьдесят восемь тысяч автомобилей. Количество реактивных установок «Катюша», которые у нас называют «Сталинским оргáном», не указано...
Имя Сталина вывело Гитлера из прострации. Его голова вздрогнула, откинулась назад, он поднял руки и прижал их к груди.
— Цифры! — закричал он. — Цифры! Ничего, кроме цифр. Немецкий солдат в десять раз сильнее русского! У нас есть «Тигры», «Пантеры» и «Королевские тигры». У нас есть новая штурмовая винтовка 44, лучшие автоматы в мире — МГ-42. Есть штурмовые орудия и героизм немецкого солдата, который знает, что должен защитить свою страну, жену и детей, матерей, отцов и будущее рейха! А что такое цифры?! И вообще, откуда вы их взяли, Гудериан?!
— Из отдела абвера «Иностранные армии востока», мой фюрер. Сообщение составлено генералом Геленом!
— Гелен! Гелен! Опять этот нытик! Жонглирует своими утопиями! Я скажу вам, как отношусь к этим цифрам: это самый большой обман со времён Чингисхана! Как можно обращать внимание на эту глупость? Принимать за правду? И Гелен попадает на этом впросак! А я, Гудериан, не попадаю! Но скажите, что вы предлагаете?
— Освободить Курляндию и открыть котёл, в котором находится группа армий «Север», создать оборонительные рубежи в районе Литцманнштадта и Гогензальца, усилить Восточный фронт от Восточной Пруссии до Украины, перебросив туда подразделения из Норвегии и Западного фронта, спрямить дугу фронта между Радомом и Кильце. Советское наступление имеет целью взять в клещи и окружить Восточную Пруссию, Польшу и Померанию.
— Это сказал Гелен?! — закричал Гитлер.
— Об этом говорит обстановка, мой фюрер.
— Нет! Нет! Нет! — Гитлер топнул сапогом, его лицо задрожало, а глаза заполыхали яростью, но генералы к этому уже привыкли. Только Кейтель сердито посмотрел на Гудериана. — Вы все не знаете правду! Восточный фронт держится! На Западном фронте нужно сделать заслон! На Западном! Ни один солдат не сдвинется с Западного фронта! Я что, единственный, кто правильно оценивает обстановку?!
— Как прикажете, мой фюрер. — Гудериан положил документы в папку, отдал честь нацистским приветствием и вышел. Он был единственным начальником Генерального штаба, который осмеливался говорить Гитлеру правду.
Сообщение вермахта от 10 января 1945 года было коротким:
«На Восточном фронте важных событий не произошло».
Такой была обстановка, когда Яна Петровна вышла из городской больницы, чтобы встретиться с Михаилом Вахтером. Старшей медсестре Вильгельми она сказала, что хочет ещё раз посмотреть фильм Файта Харлана «Кольберг» с несравненным Хорстом Каспаром в роли Гнейзенау и актёром Генрихом Георге.
Вахтер теперь жил в подвале вытянутого северного флигеля Кёнигсбергского замка, рядом с подвальными помещениями ресторана «Кровавый суд». Эти помещения арендовал винный оптовый торговец Давид Шиндельмайсер, перестроил их и ресторан прославился во всей Европе. Раньше подвалы служили рыцарскому ордену тюрьмой, судом, камерой пыток и местом казни, о чём и напоминало название «Кровавый суд». Шиндельмайсер превратил их в ресторан, которому отдавало предпочтение восточнопрусское дворянство, у помещиков здесь были постоянные комнаты, со всех стран сюда приезжали путешественники, чтобы с тихим ужасом поесть и выпить в этих подвалах, где когда-то люди кричали от пыток, когда на дыбе им вырывали суставы. Гауляйтер Кох с удовольствием заходил в «Кровавый суд», пил крепкое красное вино и произносил напыщенные речи.
Замок Кёнигсберг… больше не существовал.
Всё началось с того, что весной 1944 года на третьем этаже произошёл пожар. Там Кох вместе с генерал-фельдмаршалом фон Кюхлером открыл выставку антисоветской пропаганды. Образ славянского «недочеловека» должен прочно укорениться в головах немцев. И хотя замок днём и ночью охраняли солдатаы, а при нём даже имелась пожарная часть, проверяющая все внутренние помещения замка, неизвестному противнику нацизма удалось сразу после открытия выставки сжечь её.
Кох бушевал. Он сразу позаботился о том, чтобы охрану немедленно отправили на фронт, вызвал к себе директора музея доктора Финдлинга, Михаила Вахтера и коменданта города.
— Это безобразие! — кричал Кох. — На моих глазах в охраняемом замке резвятся террористы! Но клянусь, теперь будем разговаривать другим тоном! Теперь они спляшут под мою дудку!
После часа ругани комендант удручённо вышел из кабинета гауляйтера. Доктор Финдлинг и Вахтер остались и ждали, пока Кох погасит свой гнев хорошим глотком коньяка.
Пожар, начавшийся на третьем этаже, не повредил собрание картин и Янтарную комнату этажом выше. Когда Кох, сразу после пожара вместе с Финдлингом и Вахтером осматривал эти помещения, то увидел лишь белый налёт на стенах. Вахтер во время пожара, как всегда, находился в Янтарной комнате, надышался дымом и теперь сильно кашлял.
— Этот налёт можно легко стереть, гауляйтер, — сказал он и потёр рукавом мозаику. — Это следы от дыма. Как нам повезло.
— Ничего страшного не произошло, — успокаивал доктор Финдлинг Коха по пути на четвёртый этаж, и облегчённо вздохнул, только войдя в комнату. — Но не надо всё время полагаться на удачу. Не знаю, кто это сказал, но он прав: удача — продажная девка!
— Возможно, это сказал я! — усмехнулся Кох. — На что вы намекаете, доктор Финдлинг?
— Германия после наступлений перешла к обороне…
— Финдлинг, не надейтесь на то, что я постоянно буду пропускать мимо ушей ваши слова. — Кох по-дружески, но неодобрительно посмотрел на доктора Финдлинга. — На войне всегда так: то наступают, то отступают. И так до окончательной победы! Вспомните Фридриха Великого. После поражения под Кунерсдорфом все полагали, что Пруссии пришёл конец. А что потом? Лейтен! И Пруссия стала сильнее прежнего! Почему? Потому что Фридрих никогда не сдавался! Вот и наш фюрер… он никогда не сдаётся. Поражения делают его ещё сильнее, и у нас будет свой Лейтен и окончательная победа!
— Тем не менее, гауляйтер, воздушные налёты с Запада могут распространиться и на Восточную Пруссию, — осторожно произнёс Финдлинг.
— Если появятся самолеты, мы их будем сбивать.
— Но несмотря на это, они будут сбрасывать бомбы. А если бомба попадёт в замок, в этот флигель на четвёртом этаже…
Кох пристально посмотрел на Финдлинга. Он сразу всё понял и представил весь ущерб, который нанесло бы такое попадание. Вахтер вдруг оцепенел, у него сдавило горло.
— Янтарная комната, — тихо произнёс Кох. — И все картины. Безвозвратно.
— Если мы их не спасём, гауляйтер.
— Что вы предлагаете, Финдлинг?
— Я мог бы снова разобрать Янтарную комнату, уложить в ящики и поместить их в безопасном подвале южного флигеля. После окончательной победы... — Финдлинг сделал многозначительную паузу, — после окончательной победы её можно легко установить обратно, если ее не перевезут в Линц, в музей фюрера.
— Она останется здесь! — Кох ткнул указательным пальцем в пол. — Здесь, в Кёнигсберге. Я буду за неё драться с Борманом и Гитлером. — Он посмотрел вокруг, повернулся кругом, в его глазах вспыхнула гордость. — Будем разбирать, Финдлинг?
— Да. Все настенные панели сейчас закреплены так, что их легко снять. Гирлянды и цоколи тоже. Разборка в Пушкине была значительно труднее. Растрелли прикрепил их к стене очень прочно.
Кох повернулся и показал пальцем на Вахтера.
— А вы какого мнения, Вахтер? Вы ведь и сами уже как будто кусок янтаря… Может, и вас поместить в подвал?
— Чтобы уцелеть… конечно, господин гауляйтер.
— Так мы и сделаем. Доктор Финдлинг, приказываю переместить Янтарную комнату в безопасное место, которое вы считаете самым подходящим.
Это было правильно решение.
Все великолепные настенные панели, резьба, цоколи, фигуры, маски, мозаику, головы ангелов и фризы поспешно сняли и упаковали в двадцать пять ящиков. Ответственность за работы возложили на Вахтера, он смотрел за тем, чтобы ничего не повредили. Доктор Финддлинг каждый день приходил в зал и подолгу рассматривал сокровища. Однажды он сказал:
— Повреждения, который нанесли комнате наши войска, мы подремонтировали, Михаил. — Он уже привык обращаться к Вахтеру по имени, хотя и на «вы», и эта близость показывала, какого высокого мнения он о Вахтере и как сплотила их общая любовь к Янтарной комнате. — Вы знаете, как нас взбесил этот, скажем откровенно, вандализм немецких солдат. Это позор. Но кое-что не выходит у меня из головы, и мы, как ни странно, никогда об этом не говорили: на четвёртой панели отсутствует головка ангела. Припоминаете, Михаил? И когда я рассматривал под лупой старые фотографии, то увидел, что это пустое место было всегда. Никто не пытался вырезать новую голову ангела и поставить её на место. Ни вы, Михаил, ни ваш отец. У вас есть этому объяснение?
— Её никогда не заменяли, доктор. И когда я увидел, что вы вырезали голову ангела и поставили её на это место, я ничего не сказал, потому что меня как будто парализовало.
— Михаил! Что с вами?! — Доктор Финдлинг тревожно посмотрел на Вахтера. — Вы сильно побледнели.
— Это маленькое пустое место на четвёртой панели — наша реликвия. Для нас, Вахтеров, и только для нас. Мой предок Фридрих Теодор Вахтер, первый хранитель Янтарной комнаты, снял головку ангела, чтобы положить её в гроб Петра Великого. Это произошло 28 января 1725 года в Санкт-Петербурге. Таким было последние желание царя: положить кусочек янтаря из комнаты ему на грудь и уйти с ним в вечность. Царь умер прежде, чем мой предок принёс ему эту головку. Через два дня после смерти царя он закопал её на берегу Невы, в том месте, где Петр I любил смотреть на свой прекрасный город.
Вахтер опустил голову, а доктор Финдлинг был потрясён. Они молчали довольно долго, пока доктор Финдлинг не произнёс:
— Михаил, этого никто не знал. Обещаю, что когда мы снова установим Янтарную комнату, я уберу копию головки ангела. «Пятно царя», назовём его так, должно остаться.
— Спасибо. — Вахтер вытер глаза рукой. — Спасибо, доктор Финдлинг. Вы один из немногих, кто это понимает.
Насколько своевременным оказался демонтаж Янтарной комнаты, стало понятно в ночь с 29 на 30 августа 1944 года.
Бомбардировщики англо-американских Воздушных сил появились в небе над Кёнигсбергом. Началась страшная бомбардировка. Город полыхал, зенитные пушки и ночные истребители напрасно пытались противостоять налёту. С ночного неба лились смерть и разрушение. Фугасные бомбы, авиационные мины, зажигательные бомбы и фосфорные бомбы превратили город в горящий ад. Утром 30 августа 1944 года старого Кёнигсберга больше не стало.
Замок рыцарского ордена, гордость города, за одну ночь был почти полностью разрушен. От него остались лишь дымящиеся руины, осыпающиеся стены, развалившиеся башни и флигели… замок Кёнигсберга превратился в кучу почерневших, обуглившихся и неровных обломков.
В сообщении вермахта звучало:
«30.08.1944 г.
Ночью британская авиация, снова нарушив государственную территорию Швеции, провела массированные налёты на города Штеттин и Кёнигсберг.
Силы противовоздушной обороны сбили восемьдесят два четырёхмоторных бомбардировщика».
И всё. Несколько общих фраз об уничтожении города, о страданиях тысяч людей, смерти женщин, детей и стариков, об истерзанных телах и о людях, задохнувшихся в подвалах, сожжённых или умерших от разрыва лёгких.
Гауляйтер Кох выбрался из надёжного бункера и приказал немедленно ехать в замок, к южному флигелю, полностью разрушенному. Он искал Финдлинга с Вахтером и нашёл их во дворе замка в окружении солдат и поляков, пригнанных на принудительные работы.
— Янтарная комната! — воскликнул Кох, как только вышел из машины. — Что с Янтарной комнатой, Финдлинг? Скажите мне правду!
Город ещё горел, дома обваливались, спасательные команды искали среди развалин выживших. В больницах, школах и спортзалах лежали стонущие и умирающие, а врачи и санитары, медсёстры и добровольцы боролись за каждую жизнь.
— Она уцелела, гауляйтер. — Доктор Финдлинг с перемазанным сажей лицом кивнул Коху. — Подвалы выдержали.
— Это ваша заслуга, Финдлинг! Я этого никогда не забуду. — Кох помедлил, потом протянул Финдлингу обе руки. — Я благодарен вам.
— Янтарная комната — часть моей души, гауляйтер.
Финдлинг повернулся к Вахтеру. Польские рабочие как раз подняли из подвала первый ящик, сопровождаемые криком Вахтера:
— Осторожно! Повыше! Больше влево, ребята! Левее…
— Что вы собираетесь делать? — громко спросил Кох.
— Я приказал перенести ящики в северный флигель, гауляйтер. Там надёжнее. Хотя подвалы южного флигеля достаточно глубокие, но своды северного флигеля крепче. Подвалы рядом с «Кровавым судом» — самые надёжные во всём замке. Их не пробьют ни фугасы, ни мины. И там не произойдет пожар.
— Делайте, что считаете правильным, Финдлинг. — Кох посмотрел на первый ящик, который теперь стоял на усеянном обломками дворе замка. — Я доверяю вам самое ценное сокровище в мире. После окончательной победы я представлю вас фюреру… он будет вам очень благодарен.
Кох попрощался, сел в машину и уехал назад в горящий город. В ставку фюрера он отправил сообщение: «Прошу сообщить фюреру и рейхсляйтеру Борману, что Янтарная комната цела».
Само собой разумеется, что Вахтер после переезда Янтарной комнаты под своды северного флигеля тоже перебрался туда. Его прежняя квартира была разрушена до основания, он не нашёл там ничего, кроме маленькой, трехстворчатой латунной иконы для поездок, которую царь Пётр I в 1720 году подарил своему тайному другу Фридриху Теодору Вахтеру.
С тех пор она передавалась из поколения поколению по наследству и устанавливалась в красном углу на деревянную полочку, где также висело распятие. Юлиус Вахтер, сын Фридриха, врач и хранитель Янтарной комнаты во время правления трёх цариц — Анны, Елизаветы и Екатерины II, выгравировал на обратной стороне иконы: «Пусть благословение освещает и хранит всех нас, пока на этой земле день будет сменяться ночью. 20 мая 1766 года, во время правления великой Екатерины».
Благословение осталось… Вахтер нашёл икону под обломками шкафа, закрытую лоскутами одежды, как будто её туда положила рука Бога.
Комната в подвале была надёжным укрытием от бомб, но холодной. Толстые стены пахли затхлостью столетий. Вахтер притащил три нагревателя, широкую кровать с толстым пуховым одеялом, стол, четыре стула, умывальник, шкаф, зеркало, печку на углях, для которой четыре дня делал отверстие в стене, чтобы установить вытяжную трубу, несколько кастрюль, посуду и столовые приборы, несколько стаканов, ковёр из кокосового волокна, подвесную лампу и две настольные. Всё это ему выдали со склада снабжения, но только потому, что он предъявлял записку гауляйтера: «Михаилу Вахтеру предоставлять всяческую помощь».
Когда польские рабочие привезли на тележке диван, это стало настоящим праздником. Как и диваны в миллионах немецких комнат, она была обита зелёным плюшем и имела резную спинку. Это был подарок от Бруно Велленшлага, друга Коха, который не только возглавлял администрацию района, но и отвечал за распределение мебели среди пострадавшего от бомбёжки населения. Вместе с диваном Велленшлаг прислал также две картины для украшения комнаты. Одну — известный портрет Гитлера, где фюрер, в форме и плаще с поднятым воротником, уверенным взглядом смотрит в будущее, а вторую — репродукция картины Менцеля: концерт для флейты с оркестром в Сан-Суси.
Sans souci… — беззаботность. Какая горькая ирония!
«Куда же её повесить? — спрашивал себя Вахтер, стоя перед большим портретом фюрера. — Туда, на стену? Он тогда всегда будет перед глазами, день и ночь, при каждом движении, во время любой работы? Он завладеет всей комнатой. Куда же его?»
Манцеля он повесил над диваном. Фюрера прибил снаружи на дверь. Когда доктор Финдлинг первый раз посетил его в подвале и с сарказмом спросил: «Здесь главная ставка фюрера?», Вахтер ответил:
— Мне доставляет удовольствие смотреть на него снаружи. Остальные должны думать, что я его последователь. Каждому своё…
В этот день, 10 января 1945 года, Вахтера навестила Яна.
Счастливая, радостная, ликуя до небес и готовая обнять весь мир, она вбежала в подвал, бросилась Вахтеру на шею, поцеловала и закружилась с ним по комнате. Целый день она работала в больнице, писала списки и отчёты, заполняла формуляры и вместе со старшей сестрой Фридой Вильгельми делала обход отделения. Пишущей машинкой она овладела в совершенстве, печатала быстро, даже не глядя на клавиши. Когда она набирала письма или сообщения, то строчила, как из пулемёта.
Фрида, эта гора мяса с человеческим лицом, так привыкла к своей материнской роли, что полюбила Яну, как родную дочь. Вся ее материнская любовь, которую она никому не могла передать, излилась на Яну. После того как шустрый доктор Ганс Филлип прижал Яну в чулане и порвал на ней платье, Фрида бушевала, как гром, и позаботилась о том, чтобы из Кёнигсберга его перевели в Эльбинг. После угрозы всё бросить и уехать с «доченькой» в Берлин руководству больницы ничего другого не оставалось. Это произошло в 1943 году, и с тех пор больше никто к Яне не приставал. Даже начальник отдела кадров молчал, что она единственная медсестра без документов. По сути, она была фантомом, которого учитывали в платёжной ведомости.
В 1943 году у Яны появилась подруга по имени Сильвия Ааренлунд, родом из Швеции. Она изучала в Уппсале истории искусства, прежде всего её интересовало восточноазиатское. В 1943 году она, гражданка нейтральной страны, прибыла в Кёнигсберг, чтобы продолжить обучение в университете как вольнослушательница.
Первый раз Яна и Сильвия встретились в замке, в картинной галерее, а потом в Янтарной комнате, которую доктор Финдлинг тогда открыл для свободного посещения. Яна обратила внимание на то, что эта блондинка осматривает Янтарную комнату не как все посетители, двигаясь вдоль стен. Она часто останавливалась, внимательно рассматривала отдельные мозаики и даже садилась на стул. Вахтер, сопровождавший группу школьников с учителем, рассказывал им историю Янтарной комнаты и не обратил на неё внимания. Он лишь удивился, заметив боковым зрением, что Яна разговаривает с какой-то молодой посетительницей.
— Вас заинтересовала комната? — спросила Яна девушку.
На хорошем немецком Сильвия ответила:
— Она мной завладела. Вы понимаете, о чем я? Я не просто очарована этим неповторимым произведением искусства… это слишком слабо сказано. Она… она проникла мне в сердце.
— Со мной происходит то же самое. Иногда эта красота меня ошеломляет.
— Вы медсестра, судя по вашей одежде?
— Да. Я работаю в местной больнице.
— Вы родом из Прибалтики? Ваш немецкий резковат.
— Я родилась в Мазурии. — Старая ложь была надёжной защитой. — В небольшой деревушке под Лыком.
Так началась их дружба. Сильвия и Яна сразу понравились друг другу, стали ходить в кино, и Яна, как положено, однажды привела новую подругу в больницу и представила её Фриде Вильгельми.
— Приятная девушка, — сказала Фрида вечером, когда они, как всегда, ужинали. — Я рада, что у тебя наконец появилась подруга и ты не будешь гулять одна или сидеть здесь. Но это не значит, — Фрида подняла указательный палец, — что вы теперь будете везде ходить вдвоем и кружить мужчинам головы. Я буду присматривать за тобой, дочка.
Это были прекрасные недели. Летом они ездили на косу, купались в Балтийском море, брали напрокат лодку и ходили под парусом по заливу. Как оказалось, Сильвия была опытной яхтсменкой и справлялась с любым ветром. Зимой они катались на коньках по стадиону, по замёрзшему заливу или по берегу реки Преголи, пили суррогат глинтвейна, делились друг с другом бутербродами, причём у Сильвии нарезка была всегда лучше уложена, потому что она получала пакеты с едой из Швеции. Они были как выросшие вместе сестры, казалось, что у них нет тайн друг от друга.
Всё изменилось летом 1944 года.
Яна, у которой был ключ от маленькой квартиры Сильвии, расположенной в пригороде Кёнигсберга, как-то вечером неожиданно пришла к ней в гости. Когда Фрида отпустила её, она села на трамвай, доехала до дома, тихо открыла ключом дверь, чтобы поразить Сильвию, и вошла. Несколько секунд Яна, окаменев, стояла в двери. Сильвия сидела в кресле, склонившись над небольшим ящичком, лежащим у неё на коленях. От чёрного ящика с несколькими кнопками и выключателями кабель тянулся к наушникам на ее голове. Она внимательно прислушивалась, потом переключилась и средним пальцем нажала на клавишу. Раздались тихие сигналы — короткий, длинный, короткий, короткий, и кто-то принимал эти сигналы.
— Добрый вечер, Сильвия… — громко произнесла Яна.
Сильвия вздрогнула от ужаса, выключила прибор, сорвала с головы наушники, схватила что-то сбоку и быстро вытянула руку вперёд. В руке у неё был пистолет, направленный Яне в грудь.
— Яна, Боже мой, Яна, ты не должна была приходить, — хрипло прошептала она. — Яна… теперь… теперь мне придется тебя застрелить… Не двигайся! Яна, почему ты не постучала?
— Я хотела тебя поразить.
Яна не отрывала глаз от пистолета. Ствол бвл направлен ей прямо в сердце.
— Тебе это удалось. Но… я должна тебя убить. Я должна…
— Это радиоприёмник, Сильвия…
— Да.
— Ты слушаешь новости…
— Да.
— Ты шпионка…
— Это вы так говорите. Я борюсь против твоей Германии, против фашизма, против войны, против вашего сумасшедшего фюрера… я борюсь за свободу и мир…
— И тебя … тебя зовут не Сильвия Ааренлунд…
— Почему же. Это моё настоящее имя. Но причём здесь имена? — Она всё ещё направляла пистолет Яне в грудь, держа палец на спусковом крючке. Одно движение, и Яны больше не будет. — Мы — небольшая группа антифашистов. Я сообщаю им, что здесь происходит, а передают новости из России. Наша группа имеет непосредственный контакт с НКВД в Ленинграде. — Она вздохнула, подняла пистолет выше и прицелилась. — Теперь ты всё знаешь, Яна… я должна тебя застрелить. Пойми, я должна!
— Ты застрелишь свою подругу, Сильвия...
— Я должна! — в отчаянии крикнула Сильвия. — Я не могу иначе. Я не имею права оставлять свидетеля.
— А соратницу… это тоже запрещено? — Яна прошла в комнату, ствол пистолета отслеживал каждое её движение. — Не смотри на меня так недоверчиво, Сильвия. У тебя своя тайна, у меня — своя… и обе они означают смерть! Я не медсестра Красного креста.
— Это ты только сейчас говоришь! — Сильвия снова прицелилась, а Яна обеими руками провела по волосам, сорвала с головы колпак медсестры и бросила его на пол. — Это тебя не спасёт.
— Я родилась не в Лыке, а в Ленинграде. Я русская, и меня зовут Яна Петровна Роговская.
Сильвия начала медленно опускать оружие.
— Как … как ты это докажешь? — сдавленным голосом произнесла она.
— Ты знаешь русский язык?
— Да.
— В платье медсестры Красного креста я ждала под Пушкиным, пока пройдут немцы, и с тех пор стала немкой, — сказала Яна по-русски. — Никто меня ни о чём не спрашивал… формы медсестры было достаточно. Я имею отношение к семье хранителей Янтарной комнаты… Заведующий, Михаил Вахтер, мой будущий свёкр. Его сын, Николай, сражается в Ленинграде против фашистов… Николай Михайлович Вахтеровский. Когда началась блокада Ленинграда, он работал в Эрмитаже. Я не знаю, жив ли он, пережил ли он эти девятьсот дней голода и смерти, девятьсот дней ада, пока Красная армия не прорвала блокаду и не освободила Ленинград. У меня нет от него новостей, понимаешь? Сильвия, я живу здесь по чужой личиной, как и ты… Ты мне веришь?
— Да. — Сильвия опустила пистолет. — Я тебе верю. Боже мой, я тебя застрелила бы, должна была застрелить… свою лучшую, единственную подругу.
— Я всё понимаю, Сильвия.
— В какое жестокое время мы живём!
Она отложила радиоприёмник на кресло, вскочила, обняла Яну, прижала её к себе и трижды расцеловала в щёки на старый русский манер. Нервное напряжение спало, и она неожиданно расплакалась. Мысль о том, что она действительно могла застрелить Яну, её подкосила.
С этого дня ничто не могло разделить Сильвию и Яну. Иногда Яна сидела рядом с подругой, когда та вела радиообмен со своей группой и передавала информацию о воинских частях, покинувших Кёнигсберг или прибывших в него. Таким образом в Ленинграде становилось известно о всех передвижениях немецкой армии, о её оснащении, числе орудий и танков, об эшелонах, которые доставляют в город продовольствие и боеприпасы. Яна помогала ей, передавая то, что услышала от раненых о событиях на фронте, о нехватке боеприпасов и горючего, о настроениях в армии, о слухах, которые солдаты называли «брехнёй», но в них всё же была крупица правды.
Из этой мозаичной информации, приходящей со всех сторон, в Москве составляли общую картину положения дел в Германии. Почти полную картину медленной, но безостановочной гибели великого германского рейха. Поражение Гитлера. Конец нацистского господства. В Москве знали больше, чем большая часть немецкого народа. Знали правду, а кто знал ее в Германии?
Правду о Сильвии через несколько дней узнал и Вахтер. Он отнёсся к этому очень осторожно, проверял эту симпатичную блондинку, говорил с ней по-русски, один раз принял участие в радиообмене со шведами, читал полученные сообщения до того, как Сильвия их сжигала.
— Скажи им, — обратился он как-то вечером к Сильвии, — что Янтарная комната не пострадала и за ней хорошо смотрят. Они должны передать это дальше в Ленинград, директору Эрмитажа. И ещё у меня есть большая просьба, — он заговорил по-русски, — просьба отца. Спроси их, видели ли они моего сыночка, знают они, жив ли он ещё или погиб, умер от голода. Сражался ли он на фронте или замёрз на улице, как сотни тысяч ленинградцев. Если он жив... то где он? Сильвия, ты можешь это спросить? Помоги облегчить сердце отца от мучающих его сомнений и отчаяния. Яна тоже беспокоится о Николае. Спроси их… спроси их… пожалуйста…
Сильвия спросила, но Ленинград молчал. Прошли недели, месяцы, и на вопрос Яны она лишь пожимала плечами. Это было изнурительное ожидание, пока Вахтер не сказал:
— Они его не нашли… это тоже ответ. Доченька, пора признать, что мы не можем больше обманываться. Николай, как и тысячи неизвестных, похоронен в Ленинграде. Он умер, как герой, и мы будем им гордиться.
Он зажёг маленькую круглую свечку в металлической чашке из снарядной гильзы, которую немцы называли «гинденбургским светильником», поставил перед складной иконой своего предка Фридриха Теодора и помолился с Яной о спасении души Николая. Каждый день он менял свечку, не позволяя маленькому мерцающему огоньку погаснуть.
А когда на Восточную Пруссию обрушился поток беженцев, когда тысячи телег, двухколёсных тачек, нагруженных вещами детских колясок с запряжёнными в них женщинами и стариками, сколоченных из досок санок и волокуш потянулись по заснеженным улицам на запад, застревая в снежной пурге, когда люди тысячами замерзали и оставались лежать на обочине, потому как бессмысленно было тащить с собой трупы, когда умирали прежде всего младенцы, дети, больные и старики, Вахтер, как пострадавший от бомбежки, получил в администрации по письму гауляйтера три полных ящика «гинденбургских светильников», на которые Бруно Велленшлаг установил лимит: для каждой семьи по двадцать штук в неделю.
Три ящика… теперь их хватит до конца войны. Конец уже приближался, был где-то на границе Восточной Пруссии, а на западе простирался от Венгрии до побережья Северного моря. Гигантские клещи, сжимающие Германию. Теперь это уже не была война Гитлера, это было уничтожение собственного народа.
Гауляйтер Кох собрал в зале администрации области всех важных чинов своего штаба, всех командующих воинских частей, откомандированных в Кёнигсберг и окрестности. Доктору Финдлингу и Вахтеру он приказал тоже присутствовать.
Широко расставив ноги и с гордо поднятой головой, он стоял перед огромным, во всю стену растянутым знаменем со свастикой, в сшитой по фигуре форме и в широких галифе. К своим сатрапам он обратился с проникновенной речью о гении фюрера, а в конце воскликнул:
— Кёнигсберг останется немецким! Восточная Пруссия никогда не будет отдана врагу! Борьба до последнего человека — наш долг! Да здравствует наш фюрер Адольф Гитлер! Зиг хайль!
Присутствующие вскинули правые руки и подхватили:
— Зиг хайль! Зиг хайль! Зиг хайль!
Вахтер тоже поднял руку и кричал вместе со всеми. «Простите меня, — думал он при этом. — Не осуждайте меня, я делаю это ради Янтарной комнаты. Победа настанет. Она стоит у двери, уже слышно её дыхание».
На улицах Кёнигсберга, на всех свободных стенах, на остатках домов, на щитах и кузовах грузовиков, на транспарантах и во всех газетах были размещены новые призывы к населению. Лозунги, которые говорили больше, чем сообщения вермахта, статьи Геббельса в журнале «Рейх» или каждая программа по имперскому радио. Эти лозунги говорили о закате, который отрицали и не хотели замечать правители.
«Фюрер ждёт от тебя жертву для вермахта и ополчения».
«Одень свою гордость,
Своего ополченца в форму.
Освободи свой шкаф и сундук.
Неси всё нам».
«На священную народную войну за немецкую родину и наше будущее».
«Наша непреклонная воля:
никогда не быть рабами у англо-американского капитализма,
никогда не быть большевистскими подневольными работниками в Сибири!»
«Гитлер, приказывай... Мы следуем за тобой!»
Люди пробегали мимо этих изречений, не обращая на них внимания. На лицах отражался страх за свою жизнь. Есть ли ещё спасение? Что сделают русские, когда захватят Кёнигсберг? Всё уничтожат, как утверждает пропаганда? Этот вопрос задавал себе и доктор Финдлинг. С 3 января он жил один в подвале «Кровавого суда», поскольку, воспользовавшись связами, посадил жену на пароход из Кёнигсберга на Данциг. На прощание он сказал ей:
— Марта, не плачь, я тоже уеду, обещаю. Уезжай из Данцига в Берлин и жди меня там. Если в Берлине станет небезопасно, уезжай к своей кузине Луизе в Ганновер. Где-нибудь мы снова увидимся, а я как-нибудь выберусь отсюда, когда узнаю, что станет с Янтарной комнатой.
— Янтарная комната! Янтарная комната! Везде только Янтарная комната! Проклятая Янтарная комната! — Вздрагивая от рыданий, она прижалась к нему и обхватила его голову обеими руками. — Поехали вместе, Вильгельм. Поехали вместе, умоляю тебя. Ты хочешь пожертвовать собой из-за этой проклятой комнаты?
— Это не жертва, Марта. Это просто моя обязанность.
— Ты готов умереть из-за нескольких янтарных досок? Это же бессмысленно, Вильгельм! Вы украли Янтарную комнату у русских…так пусть они заберут её назад.
— Ты ничего не понимаешь, Марта.
Он проводил её до парохода, а потом помахал вслед, когда она поднималась по трапу на борт. В прошлом это был прогулочный пароход, совершавший увеселительные поездки вдоль побережья Балтийского моря. С трёхдневной остановкой для купания на острове Узедом. На прекрасных морских курортах в Герингдорфе или Мистрое. Смех сквозь слёзы… Теперь его перекрасили в серый цвет и использовали как вспомогательное судно.
— Мы снова увидимся, любовь моя… — тихо произнёс Финдлинг, когда она вся в слезах стояла у поручней. Такая маленькая и нежная, какой он её никогда еще не видел. — Счастливого пути, любимая… Теперь ты в безопасности.
Доктор Финдлинг никогда не узнает, что двумя днями позже севернее Рюгенвальда советская подводная лодка выпустит по кораблю две торпеды и потопит его. Никто не спасётся.
Но в этот день, 10 января 1945 года, Яна ликовала, смеялась, плакала и всхлипывала у Михаила Вахтера на шее, кружилась с ним по комнате и повторяла дрожащим голосом одно и то же:
— Он жив! Он жив! Он жив! Николай жив! Он передал нам весточку и привет! Привет! Он сейчас в Ленинграде. Он жив… он жив… он жив… — Потом она упала как подкошенная. Вахтер поднял её и уложил на старый плюшевый диван.
Николай жив. С ним всё хорошо. Боже, о Боже, как мне отблагодарить тебя?! У меня снова есть сыночек. Я упаду перед Тобой на колени, Великий Боже, как ты милостив к нам…
Он действительно опустился на колени перед складной иконой из латуни, рядом с которой в «гинденбургском светильнике» мерцал тоненький огонёк пламени, сложил руки и молился. Теперь он был и счастлив, слёзы бежали по его лицу, а сердце, казалось, от радости забилось с новой силой.
— Николай, мой сыночек, жив. О Господи, сколько милости ты нам даришь.
***
Приказ маршала Черняховского,
командующего третьим Белорусским фронтом,
от 12 января 1945 года
Мы прошли две тысячи километров и увидели уничтожение всего, что строили двадцать лет. Теперь мы стоим перед преисподней, из которой фашистские захватчики на нас напали. Мы остановились после того, как очистили от них нашу страну. Пощады не будет никому, как и у них не было пощады к нам. Нет необходимости требовать от солдат Красной армии проявлять милосердие. Они переполнены чувством ненависти и мести. Страна фашистов должна стать пустыней, как и они превратили в пустыню нашу страну. Фашисты должны быть уничтожены, как они уничтожали наших солдат.
Призыв советского писателя Ильи Эренбурга в листовке, которая распространялась среди русских солдат:
«Убей! Убей! Нет ничего, в чём не были бы виновны немцы, ни живущие, ни ещё нерождённые! Следуйте указанию товарища Сталина и растопчите фашистское животное в его логове. Сломайте силой высокомерие германских женщин! Берите их, как по праву заслуженную добычу». [9]
***
Гауляйтер Кох снова собрал своих верных соратников, как он их называл. В дрожащих руках он держал перед собой бумагу, а когда заговорил, его голос от возбуждения дрожал.
— Генерал Гелен из отдела абвера «Иностранные армии Востока» передал нам этот призыв еврейского болвана Ильи Эренбурга. Об этом уведомлены все лица, связанные с вермахтом. Гитлер приказал, чтобы каждый знал эту мерзкую брехню и ясно видел, что нас ждёт, если мы не проявим свой героизм и не противостоим этому красному полчищу убийц.
Кох зачитал вслух призыв Эренбурга, как актёр читает драматический текст. О приказе маршала Черняховского он промолчал. Когда он закончил доклад, то бросил лист на пол и наступил на него сапогом. Он не замечал ни застывшие выражения лиц стоящих перед ним, ни молитвенно сложенных рук Вахтера. Руководитель администрации нервно повернулся к своей своре. Бруно Велленшлаг несколько раз сглотнул, как будто у него в горле что-то застряло.
— Вы слышали! — кричал Кох, побагровев. — Это призыв к убийству! Это приказ насиловать наших женщин! Большевистские твари так и поступят! Вонючая еврейская свинья хочет порвать нам задницу! Речь не идёт больше о том, чтобы защитить часть страны. Мы должны спасти наших женщин и детей! Мы будем сражаться до последней калли крови. Зиг хайль!
Прежде чем все покинули зал с огромным знаменем со свастикой, Кох поманил рукой доктора Финдлинга и Вахтера. Когда они остались одни, маска борца за Гитлера и народ спала с его лица. С перекошенным ртом, поглаживая свои усики, он подошёл к ним.
— Со дня на день начнется масштабное наступление советских войск, — сказал он. — Сегодня, завтра или послезавтра… не дольше. Мы доверяем нашим смелым солдатам, и превосходство врага нас никогда не пугало. Ни в 1870-1871 годах, ни во время Первой мировой войны, ни тем более сегодня. Но всё же… Финдлинг, можно перебазировать мою Янтарную комнату?
Кох действительно сказал «мою Янтарную комнату». Доктор Финдлинг пристально посмотрел на него, как будто не поверил своим ушам.
— Конечно, это было бы неплохо, но куда? Для дальней перевозки её надо бы снова и получше упаковать.
— Я подумал об этом. — Кох отошёл от доктора Финдлинга. Три шага в сторону, три шага назад. — Я также переговорил с гауляйтером Мучманом из Дрездена. Он считает, что саксонская Швейцария недостаточно надёжна. Реальная безопасность — в Тюрингии или соляных рудниках под Гёттингеном, в шахтах Граслебен или Меркес. Также были бы надёжны соляные штольни в Остмарке, в окрестностях Дахштайна есть гигантские пещеры, вход в которые можно взорвать, спрятав там ценности. Никто бы не узнал, куда спрятали Янтарную комнату… кроме нескольких посвящённых. Вы, доктор Финдлинг, вы, Вахтер, я и, конечно, фюрер с рейхсминистром Борманом. Ну, и ещё несколько человек, которые займутся перевозкой. Что вы на это скажете?
— Вы думаете, что русские захватят Кёнигсберг, гауляйтер? — спросил доктор Финдлинг.
— Послушайте, не задавайте глупых вопросов! — Кох сердито посмотрел на Финдлинга. — Не важно, что я думаю. Важно лишь спасение неповторимого культурного достояния. Спасение перед лицом возможной угрозы… возможной угрозы, говорю я, а вы слушайте внимательнее! Янтарную комнату, коллекцию икон, русские картины, библиотеку царя Петра и всё серебро, всё, что прибыло к нам из Пушкина, я намерен вывезти из Кёнигсберга! В безопасное место в рейхе! Сколько вам потребуется времени, чтобы подготовиться к перевозке?
— Несколько дней, гауляйтер. — Доктор Финдлинг откашлялся. — А Гитлера не поставят в известность?
— Конечно, да. Конечно, я спрошу у фюрера. Мы также определим точное место. Важно, чтобы вы, — он внимательно посмотрел на доктора Финдлинга и Вахтера, — сразу же приступили к работе.
Но тут наступил черёд Красной армии.
12 января, перед восходом солнца, началось самое масштабное наступление всех времен. Вопреки всем ожиданиям, люди и техника прорвались не на восточно-прусском направлении, а значительно южнее, на Вислинском плацдарме под Барановым. Первый Украинский фронт под командованием маршала Конева, состоящий из семи армий, в том числе трёх гвардейских, после серьезной артиллерийской подготовки с использованием «Катюш» начал наступление на слабо укреплённые позиции немцев. Шестьдесят пехотных дивизий и восемь танковых корпусов покатились на Запад и как лавина смяли позиции Четвёртой танковой армии.
Её командующий, генерал Грайзер, в своём сообщении в ставку фюрера был краток: советская армия прорвала фронт. Одновременно на Восточную Пруссию неожиданно, как удар грома, обрушился многочасовой и разрушительный артиллерийский обстрел. Советские штурмовые отряды силами батальона наступали на немецкие позиции, но это ещё не был уничтожающий всё ураган. Это было прощупывание врага и одновременно напоминание: мы здесь.
Верховное командование вермахта сообщало:
13.01.1945 года на Висловском фронте началось давно ожидаемое зимнее наступление большевиков. После чрезвычайно сильной артиллерийской подготовки противник начал наступление западнее Барановкого плацдарма силами многочисленных стрелковых дивизий и танковых соединений. Идут ожесточённые бои. Атаки южнее Вислы и в северной части Барановского плацдарма были отбиты. В восточно-прусском приграничном районе Роминтер Хайде вёлся ожесточённый артиллерийский огонь по нашим позициям. Многочисленные атаки Советов силами батальонов были отражены.
Какие скупые слова о смерти и закате!
В ставке Гитлера с трудом оправились от потрясения, когда услышали новости, генерал Гелен немедленно доложил, но Гитлер отмахнулся от его рапорта, как от величайшего обмана со времён Чингисхана: утром 13 января русский великан поднялся. Восточная Пруссия будет растоптана. Третий Белорусский фронт под командованием маршала Черняховского в составе шести армий, двух гвардейских танковых корпусов и с помощью ураганного огня артиллерии прорвался через немецкие позиции. Его цель была ясна: разгром Третьей немецкой танковой армии и захват Куршского лимана. При этом Кёнигсберг будет отрезан с севера.
В этот же день, в субботу 13 января 1945 года, рухнули преграды на двух плацдармах на реке Наура: Второй Белорусский фронт под командованием маршала Рокоссовского хлынул в страну. Шесть армий, два танковых корпуса, инженерный корпус и знаменитый гвардейский кавалерийский корпус перемололи немецкие позиции Второй армии под командованием генерал-полковника Вальтера Вайса. Целью Рокоссовского был захват Эльбинга. Если прорыв удастся, то Восточная Пруссия окажется в большом котле.
Потом последовал еще один удар: 14 января, в воскресенье, вступил в бой против немецкой Девятой армии гениальнейший русский полководец, маршал Жуков с Первым Белорусским фронтом, состоящим из пяти полностью укомплектованных армий, в том числе Первой польской армии. Здесь, на Висле, на Магнушевском и Пулавском плацдармах, началось главное наступление Красной армии: прорыв на запад и северо-запад, разгром группы армий «А», отвоёвывание Польши и вступление на немецкую землю.
Главная цель: марш русских армий на Берлин.
Фронт Девятой немецкой армии был растоптан, и советские подразделения устремились на запад.
От этого «величайший обман со времён Чингисхана» спина Гитлера стала ещё круглее, дрожь в руках усилилась, лицо побледнело и опухло. Генерал-полковник Гудериан не испытывал радости, лишь жалость к «величайшему фюреру всех времён».
На карту поставлена судьба Германии.
Шесть миллионов русских солдат замахнулись для ответного удара.
В Кёнигсберге шли лихорадочные сборы.
Началась большая, на этот раз официально организованная эвакуация населения. Пробил час для Военно-морского флота. Возглавлявший высшее морское командование «Ост» генерал-адмирал Кумметц принял на себя руководство транспортировкой беженцев, несмотря на то, что гауляйтер Кох любой транспорт на запад называл предательством фюрера. Все торговые суда, пароходы, плавучие транспортные средства, лодки и баржи, которые могли быть использованы, получили приказ прибыть в Кёнигсберг.
Даже пассажирские пароходы, которые до этого использовались под жилье, и военные корабли всех рангов прибыли из портов Пиллау, Данциг, Гдинген и Кольберг, чтобы принять на борт сотни тысяч беженцев и спасти их. Двадцать четыре флотилии и триста пятьдесят малых военных кораблей под командованием контр-адмирала Бутова конвоировали переполненные пассажирские и торговые суда. Те, кто не получил место на судне, тащились по дороге, образуя нескончаемую вереницу из людей и машин, в зиму, в мороз, который не щадил никого, ведь ночевать приходилось под открытым небом, со скудным питанием, под артиллерийским огнём СССР, под пулями и бомбами низко летящих самолётов. Танки, грузовики, орудия или машины с пехотой, брошенные в сужающуюся горловину фронта, спешили в Кёнигсберг или из него, вытесняя людей в придорожные канавы или в поле.
Гауляйтер Кох беспокоился лишь о «своей» Янтарной комнате. Прежде всего он был занят подготовкой к собственному бегству, а освобождение Восточной Пруссии, потеря своей вотчины на Украине, непрерывное продвижение Красной Армии, потеря людей и танков, казалось, не имели для него значения, ведь из глубины страны на фронт всё ещё бросались новые резервы.
— Куда, гауляйтер? — спросил доктор Финдлиг. — Куда мы ещё можем поехать? Если русские продвинутся дальше, нам будет отрезан путь на запад!
— Ставка фюрера переехала! Она теперь в Берлине. Я не могу связаться ни с фюрером, ни с Борманом. Финдлинг, у нас нет другого выхода, кроме как вывезти сокровища без приказа фюрера! Сначала в Тюрингию.
В тот же день Кох изменил свой план. Он сообщил Финдлингу по телефону, что намерен отправить сокровища не в Тюрингию, а в Захсен, в Ваксельбург под Рохлицем и в крепость Крибштайн. Гауляйтер Мучман уже подготовил там место. В их распоряжении триста квадратных метров хорошо проветриваемого и защищённого от бомб подвального помещения.
— Как ваши дела? — спросил Кох.
— Хорошо, гауляйтер. Сегодня вечером мы будем готовы. Мы изготовили двадцать пять больших ящиков. Этим занимались десять человек под руководством столяра Манна и слесаря Вайса. Поработали очень хорошо. Более крепких ящиков не сыскать. Настенные панели, головки, гирлянды, карнизы и цоколи защищены от тряски и закутаны в одеяла, подушки и перины. Ящики уже стоят во дворе замка. Ночью уложим картины, иконы и библиотеку царя Петра. Утром будем готовы к отъезду. Если не будет нового воздушного налёта...
— Транспортная команда тоже готова. — Кох энергично запыхтел. — Но я никак не могу связаться с фюрером, и Бормана не застать в партийной канцелярии. Но вы, Финдлинг, не бойтесь… я ежечасно получаю сообщения с фронта. Мы не даём возможности русским продвигаться на Кёнигберг…
— …но нам всё сложнее спасти Янтарную комнату.
Вахтер почти полностью освободил свою квартиру в подвале, оставив лишь кровать. Для него было само собой разумеющимся, что он будет сопровождать транспорт, куда бы тот не поехал. Доктора Финдлинга вот уже восьмой день как зачислили в ополчение, он носил старую военную форму, но оружия ему не выдали. Ходила такая шутка: «Кто такой ополченец? Это три человека, один носит стальную каску, другой — ремень, а третий — фаустпатрон». По всей видимости, доктор останется в Кёнигсберге, как и гауляйтер Кох, до последнего человека…
С собой Вахтер взял только самое необходимое: два костюма, бельё, туфли, рубашки и складную икону в кожаном футляре, обшитым внутри бархатом. В последние ночи он ложился в кровать не раздеваясь, в любой момент готовый к отъезду.
Военные госпитали и больницы Кёнигсберга были заполнены ранеными. Рассказы солдат о фронте соответствовало тому, что Сильвия по радио передавала в Швецию, и чего не было в сообщениях вермахта. Войска маршала Черняховского на широком участке фронта преодолели немецкую линию обороны. Оборона Третьей немецкой танковой армии, в одиночку противостоящей шести советским армиям, которые находились в лучшем состоянии и имели превосходное обеспечение, была во многих местах разорвана.
Уже был потерян Гумбиннен, Инстенбург находился под непрерывным огнём, Гольдар и Лотцен тоже был захвачены, Краупишке сдался, с юга двигался Рокоссовский и занял Николайкен и Ортельсбург.
Сотни тяжёлых танков Т-34 и Т-42 неудержимо шли к Алленштайну и Вартенбургу. Кольцо вокруг Кёнигсберга замыкалось… Был ещё свободен путь по морю и узкая полоса земли на Данциг через Хайлигенбайль, Браунсберг и Эльбинг. Одна железнодорожная линия и несколько дорог, переполненных обозами с беженцами и подразделениями вермахта, под обстрелом истребителей и дождем из бомб.
Тяжёлые немецкие танки «Тигр» и «Королевский тигр», которые могли бы противостоять натиску Красной Армии, уже несколько дней беспомощно стояли на месте и даже закапывались в землю, как маленькие крепости. Горючее было израсходовано, новое не поступало, снаряды на исходе. Обозы с боеприпасами и бензином загадочным способом исчезали в никуда. Полковник Вирзинг, главный интендант Второй армии, которая сдерживала главный удар шести армий Рокоссовского, отслеживал по докладам со станций маршрут движения поезда с горючим, так необходимого для танков. Поезд проследовал до города Дойч-Илава в районе отчаянно сопротивляющейся Второй армии и неожиданно исчез, как будто по мановению волшебной палочки. Полковник Вирзинг ещё раз проверил маршрут поезда, но ниоткуда не мог получить ответа.
Учительница Эльзбет Лангенбах из немецкой школы под Униеком, которую нацистское руководство «забыло» в безумном бегстве, проскакала верхом на лошади сорок километров через позиции выдвинувшихся вперёд советских танков, пока не добралась до линии обороны Второй армии. Когда её доставили в штаб, она услышала об отчаянных поисках поезда с горючим и растерянно посмотрела на полковника, когда тот закончил разговор по полевому телефону и разочарованно произнёс:
— Как будто поезда никогда не было. Поезд-призрак. Чем теперь мы будем заправлять танки?
В эти дни прорыва немецкого Восточного фронта было всё возможно. В то время, когда на стенах домов плакаты кричали о сплочении, в ночь с 21 на 22 января тайком составили «спецпоезд гауляйтера», чтобы доставить Коха и видных партийных деятелей, сбежавшихся в Кёнигсберг со всей Восточной Пруссии, в безопасное место по единственному участку железной дороги в Эльбинг и дальше в Данциг. «Борцы до последней капли крови» подготовились к бегству.
22 января Коху наконец-то удалось связаться по телефону с партийной канцелярией в Берлине. Гитлеру в новой ставке было не до разговоров, а Борман, вернувшийся из Бертехсгадена, где он осматривал подземные сооружения, разговаривал с Кохом, как всегда, коротко и резко.
— Естественно, фюрер дал разрешение спасать бесценное культурное достояние! — сказал он. — Почему вы до сих пор этого не сделали? Почти все художественные ценности из музеев, находящихся под угрозой, перевезли ещё в 1944 году. И из ваших музеев, гауляйтер. Вы сами этим занимались. Почему Янтарная комната и другие предметы из Царского села всё ещё в Кёнигсберге? Это безответственно, гауляйтер!
«Вот это мне нравится, — озлобленно подумал Кох. — Выговор без всякой причины».
— На это были основания, господин рейхсляйтер, — сердито ответил он. — Во-первых, я не хотел вызвать у населения подозрений, вывозя сразу все художественные ценности. Во-вторых, я верил и верю в окончательную победу фюрера!
Борман некоторое время молчал, видимо, от удивления после последних слов Коха. Возразить было нечего.
— Позаботьтесь о немедленной эвакуации, — продолжил он. — На Эльбинг, Данциг, Щецин, Берлин, Веймар и дальше на Рейнхардбрунн. В замке Рейнхардбрунн позаботятся о том, куда отправить Янтарную комнату на хранение. Это промежуточная база. Окончательное место хранения определят там.
— Это фюрер приказал направить ценности в Рейнхардбрунн?
— Да.
Борман резко положил трубку. Кох вытер лицо рукой. Приказ об отправке Янтарной комнаты в Рейнхардбрунн ему не понравился. Этот замок был ему не знаком, хотя он знал, что СС, и прежде всего Гиммлер, спрятали там множество ценностей. Известие о том, что «его Янтарная комната» будет находиться рядом с сокровищами СС, его не устраивало. Даже сообщение Бормана, что это лишь промежуточная база, его не успокоило.
«Почему не Тюрингия? — подумал он. — Почему не Гёттинген? Безопасные соляные шахты глубиной шестьсот метров были бы наилучшим местом, чтобы спасти сокровища. Взорвать входы, и никто, кроме нескольких доверенных лиц, не узнает, что лежит под землёй. Бомбоустойчивое, хорошо законсервированное, с постоянной температурой… лучшее место на тысячелетия, а в данном случае — всего на несколько лет. Ходят слухи о новом чудо-оружии, бомбе с делением атомного ядра, над которой непрерывно работает секретная команда исследователей под руководством Вернера фон Брауна, создателя ракет Фау-1 и Фау-2, теперь ежедневно обрушивающихся на Лондон, и эта бомба уничтожит всех врагов на земле в огненном шаре и даровало бы победу Германии».
В ночь на 22 января 1945 года, когда советские войска захватили Велау и теперь стояли в каких-то сорока километрах от Кёнигсберга, Кох позвонил не спавшему из-за беспокойства доктору Финдлингу.
— Пора! — сказал он. — Транспортная колонна на пути к вам. Руководитель колонны, капитан Лёйзер, имеет при себе план маршрута. На рассвете машины должны покинуть город.
— Я готов, гауляйтер.
— Почему вы? — удивился Кох. — Вы нужны мне здесь. Ящики могут ехать они. Партийная канцелярия гарантировала, что о них везде позаботятся и доставят в надёжное место. Вы уже ничего не сможете сделать для Янтарной комнаты.
У доктора Финдлинга встал комок в горле. Он понял, что у него нет выбора, ведь он носит форму ополченца и, как солдат, поклялся фюреру драться «до последней капли крови».
— А Вахтер? — спросил он.
— Финдлинг, не задавайте глупые вопросы, когда нужно спешить! Зачем Вахтер при транспортировке?
— Присматривать. Как всегда. Вот уже двести двадцать шесть лет!
— Он хочет последовать за ней в шахту на глубину шестьсот метров? — усмехнулся Кох. — Верный Вахтер, законсервированный в соли. После двухсот двадцати шести лет лет семья Вахтера заслужила отдых. Впрочем, он не слишком стар и сможет держать в руках винтовку! Он останется в крепости Кёнигсберг, как и мы с вами. Фюреру теперь нужен каждый мужчина. В листовке Ильи Эренбурга сказано, что нас ждёт. Сообщите об этом Вахтеру.
Через час после этого разговора, который Финдлинг запомнил на всю жизнь, во двор замка въехали двадцать грузовиков. Доктор Финдлинг не поверил своим глазам: на бортах и крышах машин были нарисованы большие красные кресты, как будто это колонна с гуманитарным грузом или с ранеными. Это впечатление подчёркивалось повязками с красным крестом на левых рукавах водителей. Лишь у капитана Лейзера, ехавшем на вездеходе, такой повязки не было.
— Ну и наглость, — сдавленно произнёс Вахтер. — А кругом твердят, что санитарные машины и поезда переполнены.
— Ради бога, замолчите, Михаил! — Доктор Финдлинг предостерегающе толкнул Вахтера в бок. — Думайте лишь о том, что в этих грузовиках Янтарная комната! Они замаскированы под Красный крест, чтобы её спасти. Вы должны думать только об этом. Я не хочу знать, сколько вещей перемещают под прикрытием Красного креста. Боже, не думайте в нашей ситуации о морали! — Доктор Финдлинг наблюдал, как машины выстраиваются в ряд. — Завтра всё будет позади. А мы остаёмся с ополчением.
— Я не останусь, доктор.
— Вахтер, что вы намерены делать?
— Как всегда, я уеду с Янтарной комнатой.
— Это безумие! Вы понимаете, что это значит? Дезертирство, трусость перед лицом врага! Военно-полевой суд приговорит вас к смерти, вас расстреляют или повесят.
— Только не меня.
— Почему для вас сделают исключение? Как вы вообще предполагаете выбраться из Кёнигсберга? У вас нет командировочного предписания. Капитан Лейзер побоится взять вас с собой тайком. Он теперь даже станет кавалером Рыцарского креста.
— У меня получится, доктор.
Вахтер глубоко вздохнул. Тревога за Яну не давала ему покоя. Для старшей сестры Фриды Вильгельми она стала незаменимой. Количество раненых, доставленных в Кёнигсберг эшелонами и санитарными машинами, давно превзошла вместимость больниц и пунктов скорой помощи, оборудованных в школах, в спортзалах и в разветвлённых помещениях крепости. Старые форты и бастионы были переполнены, не хватало врачей, медсестёр, санитаров и подсобных рабочих. Учительниц и других женщин социальных профессий обязали оказывать помощь. Они мыли раненых, поили их и кормили, закрывали глаза умершим, сидели около умирающих и часто заменяли матерей, жён или невест в последние часы их жизни.
— Когда мы уйдем? — спросила однажды Яна.
— Уйдем? — удивилась Фрида. — Когда прикажут.
— А если будет слишком поздно?
— Я останусь до тех пор, пока здесь находится хоть один раненый!
— Русские захватят Кёнигсберг…
— Ну и что? Разве раненые смогут убежать? Я принадлежу им, а они нуждаются во мне.
— Русские будут насиловать… вспомните призыв Эренбурга
— Меня? — Фрида, эта башня из костей и мяса, усмехнулась. — Для этого понадобится четыре сибирских великана.
— Они могут тебя убить! Просто убить.
— Дочка, можно подумать, что ты тоже заражена пропагандой! И немцы, и русские — все нуждаются во мне. И будут рады тому, что я ещё здесь. Мы, врачи и медсёстры, не делим людей на друзей и врагов. Для нас существуют только раненые, больные и нуждающиеся в помощи. Запомни это, дочка!
Последний визит к Сильвии стал для Яны мучительным. Сильвия постоянно передавала сообщения об обстановке в Швецию, а оттуда их пересылали в Ленинград. Десятки тысяч беженцев ожидали на пристани и на вокзале место на корабле или в вагоне. Рыли окопы для новой линии обороны, устанавливали противотанковые бетонные заграждения, прибывали последние резервы, чтобы защитить Кёнигсберг…. Эти сообщения показывали советскому руководству, что отчаяние может мобилизовать небывалые силы и прольётся много крови для захвата Кёнигсберга. И в Ленинграде это понимали. Там люди в условиях жесточайшего голода выдержал девятьсот дней блокады города немецкими войсками, пока в январе 1944 года силами 42-й армии Ленинград не освободили.
Но у Кёнигсберга не было надежды на освобождение. Счёт шёл на дни или недели… окружение стало неизбежным.
— Я хочу попрощаться, — сказала Яна. Она сидела напротив Сильвии, которая только что отставила радиоприёмник.
— Попрощаться? Почему? — Сильвия недоверчиво посмотрела на Яну и покачала головой. — Что это значит?
— Я уеду из Кёнигсберга.
— Ты сошла с ума? Куда ты уедешь?
— Не знаю. Пока не знаю…
— Яна, это же глупо! Ты останешься в Кёнигсберге, выбросишь немецкую форму, отметишься у советского коменданта, получишь советскую форму фельдшера и опять станешь собой — русской. А после победы снова встретишься со своим Николаем.
— Я не могу оставить Михаила Игоревича одного, Сильвия.
— И Михаила Игоревича примут с распростёртыми руками. Он станет героем.
— Без Янтарной комнаты? Чего стоит для него жизнь без Янтарной комнаты? Он останется при ней и последует туда, куда её повезут. Никто не сможет их разделить. И я должна быть с ним, Сильвия. Он присматривает за Янтарной комнатой, а я за ним. Это мой долг.
— Долг! Долг! Ты должна выжить! Ты хочешь где-нибудь сдохнуть, как немецкая медсестра? Яна, через несколько дней ты можешь снова стать русской!
— Без Янтарной комнаты и Михаила Игоревича.
— Ты сумасшедшая, сумасшедшая, сумасшедшая, — закричала Сильвия и вскочила. — Неужели Янтарная комната — самое важное, что есть на свете?
— Для нас — да.
— Тебя надо облить холодной водой, чтобы ты наконец пришла в себя. Что ты сможешь сделать, когда нацистские грабители где-нибудь ее закопают?
— Я буду там, буду знать, где она закопана, смогу выкопать ее после войны и вернуть в Пушкин, в Екатерининский дворец. Это единственная моя задача.
— И ради этого ты рискуешь головой.
— Да. Наши мужчины умирают на фронтах и сражаются за Родину. Я тоже сражаюсь, только на другом поле битвы.
— Боец невидимого фронта Яна! Как героически это звучит! Только… зачем ты пришла?
— Попрощаться, Сильвия. — Яна положила руки на колени. На сердце было тяжело. — Надеюсь, мы еще увидимся.
— Где?
— В Ленинграде или у тебя в Швеции, в Уппсале, или где-нибудь ещё. Чем займешься после войны?
— Пока не знаю. Буду учиться дальше или выйду замуж и нарожаю детей, заведу летний домик в шхерах, кто знает, что ждёт нас в будущем? Тебя найти будет нетрудно: где Янтарная комната, там и ты.
— Так угодно Богу, Сильвия.
— Ты веришь в Бога? — Сильвия озадаченно посмотрела на Яну. — Ты, коммунистка?! Бывшая комсомолка?
— Да. Я верю в Бога. И даже молюсь.
— И правильно.
Когда Яна встала, Сильвия обняла её и они поцеловались как сёстры. Потом Яна быстро выбежала из квартиры, как будто за ней кто-то гнался.
Издалека в сторону города катился грохот канонады. Ветер доносил гром смерти и разрушения.
Двадцать грузовиков с красными крестами наконец загрузили. Ящики с Янтарной комнатой, изнутри обитые войлоком, пометили красной точкой. В других ящиках находилась знаменитая коллекция серебра, картины старых русских и европейских мастеров, в том числе Рубенса, Каналетто и Шпицвега. В отдельный ящик поместили фландрский гобелен 1580 года — огромное полотно размером четыре с половиной на три с половиной метра. На этом ящике чёрной краской нанесли надпись «М-Д-Фос» букву «Б» в треугольнике. Это был гобелен из списка «предпочтений фюрера». «М-Д-Фос» означало Фоса, руководителя особого проекта «Линц», живущего в Дрездене директора музея, а буква «Б» в треугольнике, видимо, Берлин, Берхтесгаден или Борман.
Но теперь это всё не имело значения. Всё, что эвакуировалось на грузовиках Красного креста, считалось «коллекцией гауляйтера Коха».
Доктор Финдлинг попытался ещё один раз поговорить с Кохом. В пять часов утра с участка фронта под Велау доносился артиллерийский огонь. Но Кох оказался вне недосягаемости. Ко всеобщему изумлению, он предоставил свой спецпоезд в распоряжение ожидающим в порту и на вокзале беженцам. Военные и партийные работники регулировали, насколько возможно, начавшийся хаос, когда тысячи людей начали штурм поезда. Приказ «женщин и детей в первую очередь» стал абсолютно бессмысленным, чтобы занять место в поезде, люди толкались, дрались и избивали друг друга. В порту было тоже самое. Штурм предоставленных в распоряжение беженцам нескольких кораблей был борьбой не на жизнь, а на смерть. Клещи вокруг Восточной Пруссии сжимались с каждым часом все сильнее, армии Черняховского и Рокоссовского неудержимо рвались вперёд.
У аппарата Финдлинг застал только Бруно Велленшлага, чей голос, как ему показалось, дрожал от страха.
— Да, доктор, да! Отправляйтесь! — прокричал Велленшлаг в трубку. — Русские наступают на Эльбинг и скоро нас отрежут. Потом будет поздно! Просёлочной дорогой у вас должно получиться! Перегрузка в Берлине, оттуда поезд повезёт груз в Рейнхардбрунн. Гауляйтер обо всём договорился с гауляйтером Тюрингии Шаукелем, и из замка Рейнхардбрунн груз проследует дальше в соляной рудник. В Рейнхардбрунне, вероятно, будет новая ставка фюрера под названием «Волчье логово». Скорее всего. Послушайте, поезжайте наконец! — И положил трубку.
Стоявший рядом с Финдлингом капитан Лейзер всё понял и бросил на него смущённый взгляд.
— На окончательную победу непохоже, — произнёс он с сарказмом. — Что ж, пора! Вы остаётесь?
— Придется!
— Тогда желаю вам выжить. Это всё, что я могу вам пожелать.
Они пожали друг другу руки и вышли во двор разрушенного замка.
У готовых к отправке грузовиков, рядом с водителями с повязками Красного креста, его ждали Михаил Вахтер и юная медсестра. На левом плече у неё висела санитарная сумка с кожаным ремнём. Доктор Финдлинг испугался, но овладел собой и не показал этого. «Михаил, что вы делаете? — подумал он. — Сейчас вам вынесут смертный приговор!»
Капитан Лейзер удивлённо посмотрел на обоих и подошёл ближе. С Вахтером он познакомился при загрузке машин, а медсестра из Красного креста была ему незнакома.
— В чём дело? — коротко спросил он. — Что вам угодно?
— Я готов, — ответил Вахтер.
— К чему?
— Сопровождать спецкоманду, господин капитан.
— Вы? Я ничего об этом не знаю, — удивлённо произнёс Лейзер. — В сопроводительных документах нет вашего имени.
— Я сопровождаю груз по личному приказу гауляйтера. В какой-то мере, как его доверенное лицо. Здесь моё предписание, господин капитан.
Вахтер протянул капитану Лейзеру письмо, которое Кох дал ему после опустошительного воздушного налёта на Кёнигсберг.
«Михаилу Вахтеру предоставлять необходимую помощь. Он уполномочен давать распоряжения от моего имени в отношении ценностей замка Кёнигсберг…»
Капитан Лейзер опустил письмо. Доктор Финдлинг с тревогой посмотрел на Вахтера. «Как хладнокровно ты держишься, — подумал он. — Господи, как ты осмелился пойти на такое! Это письмо уже ничего не значит».
— Это не командировочное предписание, господин Вахтер, — сказал Лейзер. — Это доверенность, но…
— В ящиках находятся величайшие произведения искусства европейской культуры, господин капитан. Гауляйтер поручил мне не выпускать их из вида и везде сопровождать. Могут возникнуть огромные сложности, если я не выполню это поручение. Вы сами прочитали, что я имею право отдавать необходимые распоряжения.
— Без командировочного предписания… — неуверенно произнёс Лейзер.
— Уже нет времени на формальности, — вмешался доктор Финдлинг и подмигнул Вахтеру. — Вы слышали, что было сказано по телефону: транспорт должен отправиться немедленно.
— Хорошо. Садитесь! — Он повернулся к Яне и оглядел ее сверху-вниз, с явным мужским интересом.
— Я должна сопровождать колонну в качестве медсестры и санитарки, — сказала она уверенно. — Господин гауляйтер приказал, чтобы в санитарной колонне была медсестра. Для маскировки. Этот приказ поручили выполнить мне.
— И конечно же, в спешке, тоже без командировочного предписания.
— Нет, господин капитан, вот оно. — Она вынула из кармана бумагу. Командировочное предписание для медсестры Яны Роговской сопровождать спецкоманду гауляйтера Коха. Кёнигсберг, 21 января 1945 года. Подпись капитана медслужбы доктора Панкратца.
— Всё в порядке. — Лейзер вернул бумагу Яне. Доктор Финдлинг растерянно посмотрел на неё. — Вы поедете в моей машине, сестра Яна?
— Если позволите, господин капитан.
— С радостью. — Лейзер отступил на два шага и поднял правую руку. — По местам! — скомандовал он стоявшим рядом с машинами водителям. — Расстояние между машинами тридцать метров! Колонна — вперед!
В последний раз доктор Финдлинг и Вахтер пожали друг другу руки.
— Михаил, вы очень мужественный человек! Всего вам хорошего.
— Вам тоже всего хорошего. До свидания.
— Вы верите, что всё будет хорошо?
— Я хочу верить. Сохрани вас Бог, доктор.
Неожиданно они обнялись. Первая машина тронулась с места, Яна и капитан Лейзер побежали к своему вездеходу, где их поджидал ефрейтор Хассельманн.
— Меня тоже не покидает надежда, — тихо произнёс доктор Финдлинг. — Может быть, Кох заберёт меня вместе со своим штабом, а Кох очень хочет выжить. В этом случае я смогу отсюда выехать… это мой единственный шанс…
Вахтер побежал к девятой машине, с водителем которой, унтер-офицером Йозефом Зелхе, он заранее договорился, и залез в кабину. Доктор Финдлинг помахал ему вслед, потом повернулся и с опущенной головой пошёл обратно в подвал рядом с «Кровавым судом».
Ранним морозным утром грузовики проехали через разрушенный город по единственной улице, ведущей на запад: на Хайлигенбайль, Браунсберг, Эльбинг, а там — свободный путь на Берлин.
Утром, когда Фрида Вильгельми пришла в бюро, ее удивило, что Яна, как обычно в последние четыре года, не сидит за пишущей машинкой. «Проспала, — подумала она. — Что тут удивительного? Последние недели она работала до глубокой ночи. Телу тоже нужен отдых».
Но и в девять Яна не пришла. Фрида посмотрела на часы, покачала головой и пошла в комнату Яны. В тревоге за свою «доченьку» она прошлепала по коридору к комнате Яны, постучала и сразу же открыла дверь. Вот беда, если рядом с ней в кровати окажется мужчина! Кто бы это ни был, даже сам главврач — он получит оплеуху и будут изгнан. Яна тоже получит взбучку. И никакой снисходительности.
Но кровать была пуста, нетронута и приведёна в порядок с армейской аккуратностью, «построена», как говорят военные. Фрида Вильгельми остановилась у двери, не веря своим глазам. На сердце стало тревожно: «Она осталась на ночь у мужчины. Нет, этого не может быть! Она не успела на трамвай и осталась ночевать у своей подруги Сильвии. А у Сильвии нет телефона. Но через несколько минут Яна придёт, я её обязательно отругаю, но потом дам ей плитку шоколада».
Она уже хотела уйти, когда увидела на подушке конверт. Фрида Вильгельми закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Нет, — подумала она, — нет! Этого не может быть, не должно быть. Яна так не поступит. Она не могла так поступить! Это письмо не мне. Нет, я не подойду к кровати и не возьму его. Нет! Нет!»
Но она всё же взяла письмо. Медленно опустилась на край кровати, открыла конверт и уже первое предложение, обращённое к ней, подтвердило величайшую трагедию в её жизни.
«Дорогая «мама» Фрида!
Все письма тех, кто кого-то покидает, начинаются со слов: «если ты читаешь это письмо, значит я…». Нет, у нас этого не будет. Я тебя не покидаю. Я уезжаю лишь на короткое время и знаю, что мы снова увидимся. В лучшие времена, когда наступит окончательный мир и мы будем свободны, как парящие в воздухе птицы, как плывущие по небу облака. Мама, прости меня, но я должна так поступить. Не из трусости или страха, поверь. Я осталась бы с тобой, если бы не другое поручение, которое должна выполнить, но о нем я не могу тебе рассказать.
Но когда мы снова встретимся, ты поймёшь, я знаю. Я тебе очень многим обязана. Не только за пишущую машинку, не только за знания о шприцах, иглах и канюлях, о перевязках и уходе за ранеными, об утешении умирающих и об словах поддержки для их близких родственников. Как часто я их писала в письмах матерям и отцам, жёнам и детям. «Он заснул спокойно и не чувствовал боли…», а в это время он кричал и цеплялся за меня, как будто я могла продлить ему жизнь. Мы обманывали, чтобы их утешить, и считали это необходимым. Мама, я не буду тебе лгать. Тебя не обмануть, и я тебе многим обязана, и прежде всего за твою материнскую любовь, которая я спасала меня в минуты страха и страданий. Рядом с тобой я чувствовала себя как дома. С тобой я была под защитой. Ты была для меня крепостью. За это я буду тебе вечно благодарна. И когда-нибудь наступит день, когда я смогу излить тебе всю мою благодарность и говорить тебе — мама.
Фрида, я родом не из Лыка в Восточной Пруссии. Я русская и родом из Ленинграда. Меня зовут Яна Петровна Роговская и я оделась медсестрой Красного креста и шла вместе с немецким фронтом, чтобы выполнить задание. Клянусь тебе, что я не шпионка и не использовала твою любовь для шпионажа. Я не имею к военным никакого отношения и никого не предавала. Пожалуйста, поверь. Сейчас я больше не могу тебе ничего сказать.
Оставайся с Богом, мама Фрида. Господь окажет нам милость, и мы снова увидимся. Будь осторожна и не сдавайся, это было бы неправильно. Ведь ты никогда не сдаёшься! Обнимаю и целую тебя. Не разочаровывайся во мне. Где бы я ни была, ты всегда будешь в моём сердце.
Твоя Яна
PS: я тайком взяла из твоего письменного стола бланк командировочного предписания, подписанного доктором Панкратцем, и заполнила его. Прости меня, но оно мне необходимо, чтобы выжить».
Фрида Вильгельми медленно перечитала письмо, слово за словом, так медленно, будто хотела выучить его наизусть. Потом она порвала его и бросила остатки в печь. Когда оно сгорело, разворошила пепел кочергой и захлопнула дверцу печки.
Яна, дочка, Бог с тобой.
***
Утром 22 января 1945 года дорога и железнодорожная ветка на Эльбинг ещё функционировали. Советские 48-я армия, 65-я армия и Вторая танковая армия продвинулись через Остероде и Дейч-Эйлау к побережью, тяжёлая артиллерия взяла дорогу и железнодорожную ветку на прицел, штурмовики кружили над бесконечным потоком беженцев и армейскими колоннами, из Кёнигсберга ушёл на запад последний поезд. Но на рассвете 23 января путь из Кенигсберга на запад был отрезан.
Новость о том, что русские вот-вот прорвутся, вызвала жуткую панику. Важнейшие пункты питания, центральный склад снабжения и вещевой армейский склад в Понарте были сожжены по приказу командования. Все служащие аэродрома Люфтганзы «Девау», расположенного в пригороде Кёнигсберга, сбежали в рейх на самолёте, после их побега заполненные секретными документами сейфы остались открытыми.
Гауляйтер Кох бушевал. Смертные приговоры приводились в исполнение немедленно. Поскольку наземные пути были отрезаны, отчаявшиеся беженцы, ещё остающиеся в городе, устремились в порт и брали штурмом последние пароходы. Переполненные и перегруженные, они медленно тащились по Балтийскому морю в сопровождении небольших военных кораблей, которые не могли противостоять атакам советских подводных лодок.
У всех была только одна мысль: прочь, прочь из котла в Кёнигсберге. Прочь от русских, которые по призыву своих руководителей никого не пощадят. Лишь немногие из беженцев думали о том, что их постигла та же участь, которую то этого испытал русский народ во время наступления немецких дивизий. В одном лишь Ленинграде за время девятисотдневной блокады сотни тысяч людей умерли от голода, во время эвакуации и обстрелов. Умершие от голода лежали на улицах, их везли на кладбища на санках, на досках, на развёрнутых картонных коробках, на тележках, или просто несли на плечах. Сотни тысяч невинных людей. Кто может такое забыть?
Колонна машин Красного креста, двадцать грузовиков с Янтарной комнатой и «сокровищами гауляйтера», медленно тащилась в потоке беженцев в направлении Эльбинга. Капитан Лейзер внимательно смотрел на карту и качал головой.
— Если и дальше ехать с такой скоростью, то мы никогда не доберёмся до Берлина. После Эльбинга в направлении на Данциг и дальше через Штольп, Кёстлин и Штеттин дорога будет полностью забита беженцами! Мы должны свернуть и попытаться добраться до Берлина просёлочными дорогами через Эльбинг, Мариенбург, Грауденц, Бромберг, Шнайдемюль и Ландсберг. Если русские не будут слишком быстрыми. — Он посмотрел на сидящую рядом Яну. — Что вы об этом думаете?
— Не знаю. Мне эта дорога незнакома. Я знаю лишь то, что русские продвигаются слишком быстро.
Три дня и три ночи они ехали не останавливаясь и ели прямо на ходу. Когда они, наконец, миновали Грауденц, где уже не было такой паники, то облегчённо вздохнули. Отсюда и до Берлина путь был свободен, Вторая немецкая армия еще сопротивлялась пяти советским. Но дороги обстреливались артиллерией 65-й армии, а в направлении Торн-Бромберг вперёд продвигалась 47-я армия маршала Жукова. Одновременно с этим из района южнее Варшавы в направлении Лодзи, Позена и Бромберга двигались пять армий. 25 января, русская артиллерия уже обстреливала Кёнигсберг и порт — оттуда всё ещё продолжалось бегство из окружения.
Капитан Лейзер сделал короткую остановку и объяснил сложившуюся ситуацию.
— Мы правильно поступили, ребята, — сказал он. — Дороги на Бромберг, Шнайдемюль и Ландсберг ещё свободны. Если поднажмём, то приедем раньше Советов, которые двигаются за отступающей Девятой армией. Мы доедем до Берлина! Правда, будут налёты авиации, но не на нас. Так что по местам и вперёд!
Штурмовик... В воздухе раздаётся свист, надвигается крылатая тень, раздаётся стук тяжёлых пулемётов и лай бортовых пушек… И вот их уже три, четыре… а потом призрак снова исчезает в небе.
Девять раз над колонной кружили штурмовики, но по ней не стреляли. Яркий красный крест на крышах машин был надёжной защитой. Советские самолёты с воем проносились над колонной из двадцати грузовиков без единого выстрела, некоторые даже приветливо качали крыльями и улетали дальше вдоль дороги, чтобы атаковать железную дорогу, фабрики, поезда, колонны военных грузовиков и пехоту на марше.
— Если бы они только знали, что мы везём! — смеялся унтер-офицер Зельх. Сидящий рядом с ним Вахтер при каждом налёте втягивал голову в плечи. — Не волнуйся, приятель. По красному кресту они стрелять не будут. Русские так не делают.
На следующий день, 26 января, советские войска подошли к окраине города Грауденц и остановились перед новыми позициями Второй армии немцев. Капитан Лейзер узнал об этом от офицеров из пехотного резерва, который двигался им навстречу. Один из офицеров спросил, показывая на колонну машин:
— Раненые?
— Материалы и оборудование для лазарета, — ответил Лейзер.
Офицер ткнул пальцем в сторону передовой:
— Но раненые находятся там, приятель. Вы едете в неправильном направлении.
— А туда, — Лейзер показал пальцем на запад, — их привезут. Там будет развёрнут новый полевой госпиталь. Как ты думаешь, приятель, фронт долго продержится?
— К первому февраля кругом будут русские. — Офицер угрюмо рассмеялся. — Лучше всего не разворачивать здесь госпиталь. Спешите в Берлин, скоро вы там понадобитесь.
— Звучит мрачновато.
— Мрачнее некуда. — Офицер на прощание коротко отдал честь. Но не гитлеровским приветствием, а как это делали раньше, прикоснувшись рукой к козырьку фуражки. — Вот ведь дерьмо! Счастливого пути, приятель.
Это произошло по дороге от Бромберга на Шнайдемюль.
Колонна остановилась на краю леса. Штабс-ефрейтор Хассельманн, водитель вездехода, развёл костёр их пропитанных соляркой досок и начал готовить в большом котле жидкий суп из десяти гороховых колбасок, в который покрошил кусочки солдатского хлеба.
Все расселись на краю леса широкой дугой — сорок водителей, Вахтер, Яна и капитан Лейзер, и тут над макушками деревьев прозвучал знакомый гул и свист.
— Самолёты слева! — крикнул унтер-офицер Зельх. Он сразу плюхнулся в снег, а остальные врассыпную бросились в лес, укрыться за деревьями или кустами. Капитан Лейзер упал вместе с Яной в снег и крикнул ей:
— Пригните голову! Быстрее… Ползи к дереву!
Лишь один Вахтер остался сидеть неподвижно и с удивлением смотрел вслед трём советским истребителям, которые пронеслись над лесом, сделали широкую дугу, развернулись и полетели назад, прижимаясь к земле.
— В укрытие, болван! — крикнул ему Зельх. — Мы не в машинах, а снаружи!
Но было уже поздно. Из заострённой морды самолёта выплюнул очередь пулемет, прошив опушку пулями. Выстрел из бортовой пушки попал в котёл с супом, и он лопнул. Разбросанная и расколотая взрывом посуда закружилась в воздухе, под градом пуль танцевали на земле три каски, и теперь, уже слишком поздно, Вахтер широкими прыжками побежал к деревьям, в укрытие. Он почувствовал удар в левое плечо. Споткнувшись, он упал в снег и пополз в лес. Там его подхватили три водителя и затащили в укрытие. Самолёты развернулись и атаковали второй раз.
Вахтер лежал на животе и не чувствовал боли. Дрожь распространилась от плеча по всему телу, по коже текла липкая жидкость. «Это кровь, — подумал он. — Да, кровь. В меня попали, я ранен в левое плечо. Это было как удар молотком, но не больно. Вся правая сторона онемела, я не могу поднять руку. Я весь дрожу, как будто голый на снегу».
Его зубы стучали, но он не мог ничего с этим поделать. Перевернувшись на спину, он пристально посмотрел на дерево, под которым он лежал, и удивился, что контуры стали расплывчатыми, а снег приобрел голубоватый оттенок. Неожиданно Вахтер увидел над собой лицо Яны, её озабоченный взгляд и красивый изгиб губ, когда она спросила:
— Михаил Игоревич, вам не больно? Лежите спокойно, не шевелитесь.
Снова раздался треск пулемётов, пули стучали по стволам деревьев и по земле. Штабс-ефрейтор проворчал:
— Свиньи! Грязные свиньи! Не могли найти другую цель, кроме моего котла?
Снова появилась лицо Яны, она что-то сказала, Вахтер ее не понял и тихо произнёс:
— Доченька, я в порядке. Мне не больно. Всё не так уж плохо…
Потом он услышал голос Лейзера:
— Собирайтесь! Всё закончилось! Вы только посмотрите! Ни одного выстрела по машинам. Мастерская работа!
— Нужно его забрать, — сказала Яна. — Я сделаю ему временную перевязку… до ближайшего города…
И снова голос Лейзера:
— В Шнайдемюле…
Вахтера подняли, перенесли к машине и положили на откидной борт. Кто-то сказал:
— Разрежь его одежду.
Плечу вдруг стало холодно, Яна что-то сказала, он открыл глаза, но увидел только темноту. Затем боль прошила все тело, от головы до пальцев на ногах. Вахтер закричал. Перед его глазами как будто взорвалась звезда, он провалился в пустоту, где больше не было ни чувств, ни мыслей.
Когда он очнулся, то услышал шорохи, почувствовал под пальцами ткань, но вокруг опять была темнота, и он снова провалился в черную бездну. Когда он открыл глаза и вннезапно вернулась память, он заметил, что лежит не в снегу на краю леса, и даже не на откидном борту грузовика, а в постели, и белизна вокруг была не снежным покровом, а пододеяльником.
И над ним снова появилось лицо Яны.
Она улыбнулась, и Вахтер попытался улыбнуться в ответ, потом поднял голову и с удивлением увидел, что Яна в другой форме. Не в платье Красного креста, а зелёной широкая гимнастерке, длинной зелёной юбке и грубых сапогах. Потом он услышал, как люди разговаривают на другом, знакомом языке. Женский голос по-русски задал вопрос, и мужчина ответил тоже по-русски:
— Сестричка, смилуйся, сделай ещё укол. У меня всё болит…
Что это значит? Что происходит?
— Доченька, — произнёс он, с трудом ворочая языком. — Где… где мы?
— В Шнайдемюле, Михаил Игоревич. Вы проспали три дня. Вам сделали операцию, всё хорошо, рука восстановится. Лопатка срастётся. На нее наложили проволочную сетку, и кость срастётся. Всё прошло удачно, как сказал доктор Трофим Игоревич Федоренков. Он потрясающий хирург.
— Федоренков… — Вахтер попытался немного поднять голову. — Яна, доченька… у меня бред? Где я?
— В советском лазарете №3 Второй гвардейской танковой армии. Уже два дня, как русские заняли Шнайдемюль. Мы среди своих.
— А Янтарная комната? — спросил он чуть слышно.
— Надеюсь, она в Берлине.
— Без… без нас…
— Речь идёт о вашей жизни.
— Ты должна была остаться с ней, Яна.
— Ваша жизнь была для меня важнее.
— Янтарная комната… мы… мы больше ее не увидим, Яна… Мы не справились… через двести двадцать шесть лет Вахтер не справился… Почему ты не позволила мне умереть? — Он вдруг заплакал, слёзы покатились по морщинистым щекам к уголкам рта. Яна промокнула их марлевым тампоном. — Как мы посмотрим в глаза Николаю?
— Война скоро закончится, Михаил Игоревич. — Яна наклонилась над Вахтером и вытерла его лицо. — И мы потом найдём её, мы будем её искать. Мы знаем, куда её увезли. Сначала в Берлин, потом в замок Райнхардсбрунн в Тюрингии, оттуда в Зальцбергверк. Возможно, после войны только мы будем об этом знать. Мы найдём Янтарную комнату, и наступит день, когда она снова окажется в Екатерининском дворце. Николай будет за ней присматривать, а вы будете играть в парке со внуками и рассказывать им, как вас обстрелял истребитель, покажете им свои шрамы. А они будут рассказывать про дедушку-герой и гордиться вами.
— Но мне стыдно. — Вахтер отвернулся от неё. — Мы поклялись…
— А гауляйтер Кох не клялся сражаться до последнего человека? Уже 28 января он сбежал со всей своей сворой в Нойтиф под Пиллау. И теперь ждёт в подземном бункере, когда можно будет бежать дальше на запад. — Яна обеими руками обхватила голову Вахтера и повернула к себе. — Я разговаривала с генерал-лейтенантом Богдановым, командующим Второй танковой армией, и рассказала ему всё, указав в качестве свидетеля генерала Зиновьева. Он позвонил Зиновьеву и потом ответил: «По словам Ленина, Янтарная комната — святыня нашего народа. Можете на меня положиться. Я помогу вам и сделаю всё, что в моих силах».
— Слова. Слова! Всё это лишь слова! — Вахтер схватил Яну за руку. — Мы должны были остаться с ней. Где её теперь искать?
— Нам известен маршрут. У нас есть её след.
— След? Ничего у нас нет, Яночка! Ничего. Ты должна была привязать меня к ящику!
— Тогда вы ты умерли…
— Это единственная причина, по которой можно потерять Янтарную комнату, Яна. Смерть!
— Не жалуйтесь, Михаил Игоревич. Лежите спокойно и набирайтесь сил. Мы пойдём вместе с нашими солдатами на Берлин. Победа уже близка. Головные части Пятой танковой армии стоят под Зеденом, в шестидесяти километрах от Берлина. Мы догоним Янтарную комнату, догоним. Только вы должны набраться сил… Вот почему я осталась с вами.
Вахтер слабо кивнул и снова заснул, измученный длинным разговором и ослабев от потери крови.
Ему приснилось, как он входит в Янтарную комнату. Она снова предстала перед ним во всём сверкающем великолепии. Свет через окно падал на резные фигуры и стены, переливаясь всеми оттенками золота. Вахтер уже хотел подойти к панели, из которой когда-то извлекли головку ангела для царя Петра, чтобы смиренно поцеловать её, как чья-то рука грубо оттащила его и резкий голос рявкнул по-английски: «No entry!»
Нет входа? Он, Вахтер, не может войти в Янтарную комнату? И это приказал кто-то на английском?! Вдруг Янтарная комната начала расплываться перед глазами, разлетаться на кусочки, оставляя после себя лишь чёрные стены с трещинами и дырами, через которые штормовой ветер сдул с его головы шляпу.
Он проснулся с громким стоном. Яна снова была рядом, уложила его обратно на подушку и погладила по лицу.
— Тише, тише, — сказала она.
— Доченька, Яночка! — воскликнул Вахтер, сбрасывая ее руки. — Оставь меня! Позволь мне уйти! Я видел её… я потерял Янтарную комнату… Яна, комнаты больше нет.
Он упал, потеряв сознание, как будто и впрямь умер.
***
В последние дни января 1945 года в деревушку Нуссдорф-ам-Аттерзе въехали четыре вездехода СС и остановились перед ратушей. Над озером, самым большим в Австрии и пользующимся популярностью у отдыхающих из-за живописных мест среди лугов и скал, стоял густой туман. Серые клубы тянулись вверх по крутой, обрывистой, изрезанной ущельями горе Холленгебирге на противоположном берегу. Дороги стали скользкими, местами обледенели, и даже полноприводные машины СС с трудом продвигались по берегу озера.
Командир маленькой группы, унтерштурмфюрер СС, закутанный в длинное, подбитое мехом пальто, выскочил из машины и направился в кабинет бургомистра.
Секретарь увидел в окно подъехавшую машину СС и отошёл от занавески.
— Они уже здесь, — сообщил секретарь, — во всей красе.
— Закрой рот, — предупредил бургомистр. — На СС лучше смотреть со спины.
Бургомистр Карл Визингер, а также владелец ресторана «Брёйвирт» в Нуссдорфе, был праведным человеком и патриотом. Каждый день он отмечал на карте продвижения немецких и вражеских войск, основываясь на сообщения вермахта, и часто удивлялся, как искусно в этих сообщениях маскировалась потеря огромных территорий. Говорили или о стратегическом отступлении, или о выравнивании линии фронта, или об условиях местности. На карте всё выглядело совсем по-другому — на ней было видно, что армии, противостоящие Германии, окружили её со всех сторон и всё глубже продвигаются вглубь рейха. Быстро и неотступно. Визингера больше всего интересовало южное направление, от Венгрии до Баварии.
Оттуда войска двигались прямо к Нуссдорфу, хотя не было никаких оснований опасаться, что когда-нибудь Аттерзе станет передней линией обороны. Со стороны Мюнхена ветер доносил до Нуссдорфа грохот взрывов, иногда в ясную погоду на небо светилось красным заревом пожаров, но жители Нуссдорфа не слишком боялись. На них шли не русские, а американцы, не какие-нибудь изверги. Только негры вызывали беспокойство — говорили, что когда он напиваются, то начинают буянить, как дикари. Хотя никто не знал наверняка. Жители Нуссдорфа видели негров только в шатрах передвижного цирка в Санкт-Георгене, Фёклабрукке, Велсе или Зальцбурге.
Дверь без стука распахнулась, и вошёл унтерштурмфюрер СС. Бургомистр Визингер стоял, прислонившись к шкафу с бумагами, и ждал дальнейших событий.
— Хайль Гитлер! — произнёс офицер о резко вскинул руку вверх.
Визингер тоже поднял руку, но промолчал.
— Кто здесь бургомистр?
— Я.
Офицер СС бросил короткий взгляд на стоящего перед ним человека и сразу перешёл к делу.
— Это спецподразделение рейхсфюрера СС из АА.
«Ага, — подумал Визингер, — значит, они из Министерства иностранных дел. Но сокращение может означать и «Все придурки». Смотря что выбрать». [10]
— Добро пожаловать в Нуссдорф, — сказал он дружелюбно. — Чем могу помочь?
Унтерштурмфюрер достал из кожаного планшета подробную карту Аттерзе и окрестностей и развернул её на столе перед Визингером. Несколько мест были обведены красным карандашом. Некоторые из них перечёркнуты. Со своего места Визингер не видел, отмечен ли таким кружком Нуссдорф. «Если он обведён кругом, — подумал он, — то тоже наверняка зачёркнут, чтобы этот круг ни обозначал».
— У вас есть пещеры? — спросил офицер и резко посмотрел на Визингера.
— Пещеры? — Визингер быстро провёл рукой по лицу и шагнул вперёд. — Какие пещеры?
— Глубокие, просторные, защищённые от бомб, сухие, проветриваемые пещеры…
— Проветриваемые… У нас таких нет. Откуда в Нуссдорфе могут взяться проветриваемые пещеры?
— В окрестностях! В горах! Трехсот квадратных метров достаточно.
— У нас нет трехсот квадратных метров проветриваемых...
Офицер энергично махнул рукой. Секретарь втянул голову в плечи и с тревогой посмотрел на Визингера. «Карл, будь осторожен. Если он заметит, что ты его обманываешь…»
— Здесь же везде пещеры. — Унтерштурмфюрер опять склонился над картой. — Соляные шахты, сталактитовые пещеры…
— Но они все сырые, — вежливо ответил Визингер. — Хотя и проветриваемые… «Очень хорошо!» — довольно подумал он, когда офицер красным карандашом зачеркнул круг, которым был обведён Нуссдорф. — Такие пещеры есть. Ну и что?
— Вы знаете эти пещеры?
— Конечно. — Визигер сделал широкий жест рукой. — Есть неподалеку от Дахштайна, а еще в Холленгебирге их хватает, в Зальцбурге есть соляные шахты. Зачем вам пещера?
— Неважно.
— Вы хотите что-то поместить на хранение? Так есть же склад… в Альтаусзе.
Офицер поднял голову.
— Что вам известно про Альтаусзее? — резко спросил он.
Визингер услышал в его голосе угрозу.
— Где-то слышал…
— Забудьте раз и навсегда всё, что слышали про Альтаусзе, господин бургомистр. — Унтерштурмфюрер свернул карту и убрал её в планшет на поясном ремне. — В Холленгебирге, вы сказали? Спасибо. Как там дорога? Можно проехать?
— Дорога? — Визингер с трудом удержался от смеха. — В это время года? Желаю удачно добраться.
Офицер выпятил нижнюю губу, бросил короткий взгляд на секретаря, сердито буркнул «Хайль Гитлер!» и вышел. Секретарь и бургомистр наблюдали из-за занавески за отъездом колонны.
— Они хотят что-то спрятать, — сказал секретарь. — Карл, они хотят устроить здесь «Альпийскую крепость». Возможно, здесь состоится финальное сражение. Вот дерьмо!
— Подождём. — Бургомистр напряжённо смотрел на заснеженную дорогу. — Сейчас всё меняется каждый день…
3 мая 1945 года в деревне Целль неподалеку от Нуссдорфа закрепились подразделения вермахта и солдаты СС венгерского дивизиона, чтобы остановить продвижение американцев. Третья и Седьмая армии США вошли в Австрию через Розенхайм, Зальцбург, Браунау и Линц. Серьезного сопротивления они не встретили — «Альпийская крепость» оказалась лишь легендой.
6 мая 1945 года в половине первого дня в Нуссдорф вошла первая колонна танков Третьей армии США. Немецкие войска оставили Целль без боя.
Очаровательная деревушка на Аттерзе облегчённо вздохнула. Война миновала ее, деревня не пострадала, даже негры оказались дружелюбными и угощали детей печеньем, фруктовыми батончиками и шоколадом.
Стоял прекрасный майский день. Озеро блестело на солнце. Вдали несколько рыболовецких лодок ловили гольца и сига. В палисадниках цвели примула, тюльпаны и анютины глазки. На церковных башнях звонили колокола. Мир ещё не наступил, но в Нуссдорф пришла спокойная жизнь. Девятого мая 1945 года ровно в полночь война закончилась.
***
10 мая Михаил Вахтер стоял перед зубчатыми башнями входа в замок Райнхардбрунн в американской офицерской шинели и немецких солдатских сапогах. В джипе за его спиной рядом с агентом секретной службы, жующим жевательную резинку, сидела Яна. На ней было тонкое шерстяное платье и шарф для защиты от ветра во время езды, чёрные волосы собраны сзади и перевязаны красной лентой.
Вахтер не стал подходить к решётчатым воротам замка. Американский комендант уже сообщил, что после захвата замка в нем не обнаружили двадцать больших ящиков. Нашли множество разных вещей, но не двадцать ящиков.
— Ну вот и всё! — сказал он. Его левое плечо немного опустилось, это было особенно заметно при ходьбе. — Никто ничего не знает. Янтарная комната исчезла.
— Мы найдём её, Михаил Игоревич. — Яна наклонилась к нему и провела рукой по щеке. Она сказала это по-русски, и американский солдат за рулём джипа выплюнул жевательную резинку через ветровое стекло. Победа была общей, но не всем это нравилось. — Мы как волки пойдем по следу.
— Есть сотни разных следов, доченька.
— И среди них верный. Подождём приезда Николая. Янтарная комната скоро снова будет в Пушкине.
Вахтер кивнул.
— Будем надеяться, Яночка. — Он забрался на заднее сидение джипа. — Впервые я с трудом в это верю. — И, повернувшись к водителю, сказал: — Поехали!
Джип двинулся от замка вниз по дороге. Вахтер опустил голову, поднял воротник шинели и закрыл глаза. Грусть защемила сердце. Боже, ты всё видишь и знаешь: где же моя Янтарная комната?
Ларри
Действующие лица:
Михаил Вахтер, смотритель Янтарной комнаты.
Николай Вахтер, его сын.
Яна Петровна Роговская, невеста Николая.
Лейтенант Боб Маллиган, военнослужащий ВС США, искусствовед.
Капитан Фред Сильверман, военнослужащий ВС США, эксперт-искусствовед.
Генерал Паттон, командующий Третьей армией ВС США.
Генерал Эйзенхауэр, главнокомандующий ВС США.
Ларри Брукс, сержант ВС США.
Джо Уильямс, старший сержант ВС США.
Эберхард Мошик, директор шахты в Меркесе.
Йоханнес Платов, управляющий шахтой в Меркесе.
Василиса Ивановна Яблонская, советский искусствовед.
...
Соляные шахты Кайзерод в городке Меркес в Тюрингии были окружены американскими танками. Вокруг установили зенитные орудия, все дороги в направлении Меркерса перекрыла американская военная полиция, в небе непрерывно кружились два вертолёта, батальон пехоты стоял в парадном строю перед административным зданием шахты. Сюда съехались джипы и грузовики с полным комплектом инструментов. У входа в шахту стояли три небольших подъемных крана, а часовые с автоматами никого не подпускали.
12 апреля 1945 года Третья армия США единым броском захватила Тюрингию. Когда первые колонны танков и бронетранспортеров промчались через Меркерс, в ратушу вошёл капитан и объявил бургомистру и другим чиновникам, что они отстранены от своих обязанностей и пока находятся под арестом. Среди машин находился и джип, где сидели капитан Фред Сильверман и лейтенант Боб Маллиган. Они остановились перед ратушей, потребовали бургомистра и обратились к испуганному человеку — а кто не испугается во время ареста? — на безупречном немецком. Сильверман, он же Фридрих Зильберман, родился во Франкфурте-на-Майне, вместе с престарелыми родителями с одним чемоданом в руках в феврале 1933 года сбежал из Германии в Лондон, а потом в Нью-Йорк. Капитан отдал честь и коротко спросил:
— Где находится соляная шахта Кайзерод?
Побледневший бургомистр объяснил. Сильверман заметил его нервозность, подал знак Маллигану и сел на перед арестованным на стул.
— Я вижу, вы знаете, почему я об этом спрашиваю. Притворяться бессмысленно, — резко сказал он. — Ответьте на несколько вопросов, мы же все равно узнаем. Сначала о нас: мы из УСС, Управления стратегических служб. Это вам ни о чём не говорит?
— Нет, никогда не слышал, — покачал головой бургомистр.
— Это подразделение американской разведки. Хорошенько это запомните, вам придётся часто с ней сталкиваться. Оперативная группа по культурному и художественному наследию в Германской империи, мы называем её «Орион», с 1944 года получала от агентов, из отчётов разведки и из других источников сведения о местах разгрузки немецких и награбленных культурных ценностей. Мой коллега Маллиган и я — искусствоведы, и мы не хуже вас знаем предназначение Меркерса.
Сильверман сделал паузу и передал слово Маллигану. Тот спросил без предисловий:
— Что в соляной шахте?
— Не знаю, господин офицер.
— Когда осуществлялись поставки?
— Боже, их было много. Это началось ещё в 1944 году, но по-настоящему — с января 1945 года. Непрерывный поток машин. Тяжёлые грузовики и железнодорожные вагоны из Веймара и Гота… всех подразделений. Вермахт, люфтваффе, СС… Ходил слух, что здесь должна расположиться новая ставка фюрера после Райнхардбрунна.
— Нам это известно. — Маллиган энергично махнул рукой. — Дальше.
— Последняя колонна прибыла в соляную шахту десятого апреля. Грузовики со швейцарскими номерами, со швейцарским флагом и красными крестами. Но в них сидели не швейцарцы, не гражданские, а высокие чины из СС. Оберштурмбанфюрер СС и штандартенфюрер СС. Да, именно так, насколько я помню, но я знаю не всё, я ведь ни о чём не спрашивал. Это были последние машины. В них было двадцать ящиков, огромных ящиков. Деревянные ящики, обмазанные для защиты олифой, с надписью «Управление по гидротехническому строительству Кёнигсберга». Да, и на каждом ящике стояла отчётливая красная точка. Это всё, что я знаю.
Маллиган и Сильверман переглянулись.
— Ящики прибыли из замка Рейнхардбрунн?
— Возможно. Я точно не знаю. Машины приезжали два раза… Девятого и десятого апреля.
— То есть вчера…
Сильверман продолжил:
— А потом?
— Потом прорвались ваши танки, и кошмар закончился. Ночью все исчезли.
— Из шахт ничего с собой не взяли?
— Это невозможно. Для этого не было времени.
— То есть, всё внутри? Входы взорвали?
— Нет. То есть, я не знаю. Я два дня не выходил из дома. Там были эсэсовцы, знаете ли, а ящики разгружали заключённые из концлагеря.
— Эсэсовцы забрали заключённых с собой? — нахмурился Сильверман.
— Да. Мы не могли этому помешать, господин офицер.
Сильверман резко встал, за ним поднялся Маллиган.
— Едем в шахту, Боб, — мрачно сказал Сильверман. — Они здесь все невиновные. Но три моих дяди, три тёти, две кузины и их мужья погибли в Бухенвальде и Дахау. И с ними трое детей, Боб. Но все немцы не виноваты… Они только кричали «Гитлер, мы с тобой!», как кричат болельщики на футбольном матче.
Они покинули ратушу, запрыгнули в джип и поехали к соляной шахте. Сейчас шахта Кайзерод была похожа на крепость. Через несколько минут сюда должны были прибыть люди, известные всему миру: американские генералы Бридлоу, Паттон и Эйзенхауэр.
Ларри Брук вырос в бедном квартале Бруклина. Он был сыном санитара в морге, а его мать с шести вечера до двух часов ночи мыла туалеты в недорогом отеле, чтобы прокормить шестерых детей. Ларри, самый младший в семье, принял правильное решение: пошёл служить в армию. Она стала его домом, а сослуживцы — семьёй. У него была кровать, хорошее питание, денег хватало на сигареты, виски и посещение борделя а раз в неделю. Даже всю одежду, от носков до галстука, ему предоставляла армия. Прекрасная жизнь, несмотря на то, что на него орали, приходилось стоять навытяжку, а инструкторы-садисты гоняли по песчаным карьерам и ямам с жидкой грязью.
Без работы не будет и зарплаты, говорил себе Ларри. Но не такой работы, как у моего старика, который десятилетиями мыл мертвецов, брил, одевал и гримировал, чтобы они выглядели как куклы в голливудских фильмах — как ни странно, это нравилось родственникам покойников, они были довольны работой Брукса. Но военная служба была делом чистым и настоящим.
Когда Ларри стал сержантом и сам начал отдавать приказы, армия стала для него подлинным домом. Война с немцами, которых в Америке называли «капустниками», потому что квашеная капуста со свиной рулькой была воплощением всего немецкого, вторжение в Италию, наступление на Монте-Кассино, сражения в Третьей армии легендарного генерала Паттона, завоевание Германии — чертовски трудная и кровавая работа, но для Ларри — всего лишь работа, ничего больше. Не нужно было защищать свободу США, просто надо надрать задницу страдающим манией величия «капустникам» и покончить с этими маленькими усиками, с Гитлером. Из США в Европу доставляли огромное количество грузов, и он перевозил на своём трёхосном грузовике всё, что прикажут: от снарядов до конфискованных коров, от ящиков с инструментами до простых деревянных гробов.
Во втором транспортном батальоне Третьей армии он познакомился с Джо Уильямсом.
Уильямс был совершенно не похож на Ларри. Он был на два года старше, вырос в хорошей семье, показывал фотографии с большой белой виллой в обширном парке, «кадиллаком» и скаковыми лошадьми, добрый, отцом-толстяком, стройной матерью с мексиканской внешностью и сестрой, которая могла бы потрясти Голливуд, если бы ее представили кинобоссам. Но в этом у нее не было необходимости — деньги в семье Уильямсов не переводились. Джо, единственному сыну и наследнику огромного состояния, которое старый Уильямс заработал на хлопке и арахисе, пришлось рано покинуть Уайтсэндс, семейный особняк на берегу моря. Не для того, чтобы учиться, как удалять вредных жуков на плантациях арахиса, а чтобы отправиться в путешествие на два года. Причиной послужило то, что в десяти милях от Уайтсэндса на берег вынесло тело беременной девушки, которую часто видели с Джо.
Джо был вне подозрений. Его отец поддерживал одну из партий, финансировал избирательную кампанию главного прокурора, желающего стать губернатором, жертвовал деньги для детского сада, спонсировал футбольную команду и построил прекрасную церковь. Девушку похоронили, дело было закрыто, но по дружескому совету генерального прокурора старый Уильямс отправил Джо в Европу. Там за эти два года произошли странные события.
В Лондоне напали и искалечили ювелира, В Риме рядом с открытым сейфом истёк кровью директор банка. В Берлине, в районе Грюневальд, нашли мужчину с перерезанным горлом. На Вердершер-Маркте произошло загадочное убийство, и при расследовании специалисты криминальной полиции установили, что убитый торговал кокаином. В Будапеште горничная обнаружила на втором этаже отеля «Метрополь» певицу Илону Варанади, лежащую голой в постели. В сложенных на прекрасной груди руках она держала огромный букет цветов, но, к сожалению, у неё было перерезано горло. Приходящие в Уайтсэндс открытки с видами Лондона, Берлина, Рима и Будапешта были просто совпадением.
Джо никогда не рассказывал, как попал в армию. Но он дослужился до звания старшего сержанта и командовал первой колонной грузовиков, в которую входил и Ларри. Джо был хорошим командиром, не слишком много орал, был дружелюбен, его уважали. Только иногда он вёл себя странно. По ночам в новолуние он становился угрюмым, почти не отвечал на вопросы, бледнел, и в одну из таких ночей Ларри случайно подсмотрел, как в сарае у фермера Джо одну за одной поднял за ноги четыре курицы и острым ножом отрезал головы. Ларри никому об этом не рассказал. Война сделала их друзьями, так и должно остаться. После войны всё изменится: Ларри вернётся в Нью-Йорк, а Джо окажется на собственном пляже где-нибудь на юге. Потом будет несколько писем туда-сюда, и на этом дружба закончится. Но этому не суждено было случиться.
В этот день, 12 апреля 1945 года, они стояли около грузовиков и ждали Эйзенхауэра с генералами. Как всегда, Джо Уильямс был лучше осведомлён и сказал Ларри:
— Там, под землёй, обнаружили много интересного. Я слышал, что в соляной шахте лежат миллионы.
— Мертвецов? — спросил Ларри, ничего не подозревая.
— Долларов, идиот. — Когда Джо говорил «идиот», это с его стороны было проявлением нежности.
— Там, внизу? Как это?
— Ещё никто точно не знает. Во всяком случае, искусствоведы шарят там, как одержимые. Как ты думаешь, Эйзенхауэр приехал бы сюда, если бы там не находилось что-то сенсационное? Парень, подумай о шахтах за нашей спиной. Картины, ковры, серебро, книги, фарфор, гобелены, иконы. Художественные сокровища всех веков и стран, из Китая, Египта, России, Месопотамии, Персии… из всех музеев! Но здесь наверняка самое ценное, раз прибыл лично Эйзенхауэр.
— Ну и что? — пожал плечами Ларри Брукс. — Всё заберут и поревезут в другое место.
— И увезут в Штаты, Ларри.
— Ну, это понятно. Мы же выиграли войну, она не может длиться бесконечно.
— Мы её выиграли. Это ты правильно сказал. Мы! А значит, ты и я.
— Можно и так сказать.
— Подумать только, Ларри! — Уильямс прислонился к радиатору грузовика рядом с Бруксом. — Из всех миллионов, даже миллиардов долларов, которые лежат буквально под ногами, что получим мы? Ничего, кроме грязи под ногтями! Всё уйдёт в большой карман Вашингтона. Трофеи победителя! Но мы, Ларри, тоже победители. Что останется в наших карманах? Несколько крошек от сигарет «Честерфилд»! И это всё, что мы принесём нашим мамочкам? Для чего нам голова?
— Не пойму тебя, Джо, — покачал головой Брук. — Что это значит? Хочешь устроить частный музей в своём замке на берегу моря? И для этого стащить картины или что-то вроде того?
— Изъять, Ларри! Изъять. Навсегда…
— Джо, ты свихнулся. — Брукс снова покачал головой. — Как ты переправишь эти вещи в Штаты?!
— Всё дело в организации. Когда корабль с ценностями поплывёт через океан, там найдётся уголок и для нас. Маленький уголок на большом корабле… Ларри, через несколько лет ты будешь сидеть во Флориде под пляжным зонтиком, рядом с красоткой, ты снимешь люкс в лучшем отеле и будешь швыряться деньгами.
— Но ты уже сейчас можешь себе это позволить, Джо.
— А ты нет, Ларри, малыш! Всего несколько картин, и у тебя будет новая жизнь, ты станешь другим человеком. И ты ничего не возьмешь у немчуры кроме того, что тебе причитается как победителю. Подумай об этом.
— И как это сделать, Джо?
— Посмотрим, что там внизу обнаружат. А потом превратимся в курочек и склюём несколько золотых зёрнышек.
— А потом?
— Потом подождём ещё немного. — Джо Уильямс засмеялся и хлопнул Ларри по плечу. — Даже Богу для сотворения мира понадобилось шесть дней.
Прибытие в Меркерс Паттона, Брадлея и Эйзенхауэра стало для военных небольшим праздником. Немецкие войска были почти разгромлены, сражения еще шли на севере, за Берлин и в Рурском котле. В Торгау американские и советские генералы пожали друг другу руки, завершив окружение Германии, капитуляция вермахта была делом нескольких дней, более трехсот тысяч беженцев с Востока ждали отправки домой, а Геббельс в одной из последних речей кричал опустевшей стране: «И даже когда мы отступаем, земной шар должен дрожать!»
Всё было уже ясно. Эйзенхауэр прибыл в Меркерс не как полководец, а как победитель. Однако не было ни парада, ни почётного караула. Паттон, Брэдли и Эйзенхауэр сразу направились в административное здание соляного рудника.
Фред Сильверман и Боб Маллиган ожидали их в комнате правления. Эберхард Мошик, директор рудника, и еще несколько человек поднялись со стульев. Немецкому руководству шахты было запрещено выходить на территорию предприятия.
Под охраной, как военных преступников, военная полиция доставила их в административное здание и никуда не выпускала. Это был приказ Сильвермана. Меркерс стал заботой секретной службы УСС. Первым делом Сильверман изъял описи хранилищ, куда с прусской педантичностью были внесены все предметы, спрятанные в глубине солевых шахт. При чтении описи Сильверману пришлось сесть. У искусствоведа голова пошла кругом.
— Господи, — сказал он Маллигану, — этого не может быть. Это же находка столетия… по сравнению с этим находка гробницы Тутанхамона — просто мусор!
Отдав честь, Сильверман представился. Представился и Маллиган. Генералу Паттону они были знакомы. Сотрудники УСС действовали активно и уже обнаружили три хранилища нацистов с сокровищами немецких музеев. Находки этой секретной службы были сенсационными.
— Я предлагаю, генерал, поехать сразу на шахту, — сказал Сильверман без предисловий. — То, что вы там увидите, нельзя передать словами. Это нужно видеть, а уже потом читать списки. Я уже докладывал, что ничего подобного мы пока не находили.
— Я действительно заинтригован. — Эйзенхауэр, в фуражке и лёгкой шинели, оглянулся. На головах генералов Паттона и Брэдли были каски с четырьмя звёздами. Они кивнули своему шефу.
— Нас будет сопровождать мистер Платов, — Сильверман указал на коренастого мужчину среднего роста среди руководителей рудника. Поскольку все они находились под арестоми и не знали о своей дальнейшей судьбе, он нервничал и был подавлен.
— Выйти вперёд! — приказал Сильверман на немецком.
Инспектор рудника Йоханнес Платов сделал два шага вперёд. Эйзенхауэр бросил на него быстрый взгляд и отвернулся.
— Он военный преступник? — спросил он.
— Нет, сэр. — Сильверман чуть улыбнуться. — Иначе я не назвал бы его мистером.
Через двадцать минут генералы, Сильверман, Маллиган, четыре офицера и трое полицейских подъехали к шахте. На глубине четыреста пятьдесят метров они вышли из клети подъемника и оказались в коротком и аккуратном тоннеле. Йоханнес Платов шёл впереди, покачивая шахтёрским фонарем. Трое полицейских и два лейтенанта, тоже с шахтёрскими фонарями в руках, следовали за ним в некотором отдалении. Они шли молча, держа фонари высоко, чтобы было светлее.
— Так! — сказал Сильверман. — Прошу вас, сэр.
Генералы подошли ближе. Перед ними открылся огромный зал, напоминающий подземный собор. На стенах сверкали кристаллы, пол был ровный, частично покрыт досками, а частично представлял собой выровненный камень. Две трети зала были заставлены ящиками, коробками, мешками, стальными контейнерами, которые служили перегородками.
Несколько ящиков и мешков Сильверман вместе со своими помощниками вскрыли, и их содержимое теперь лежало перед ними, как на витрине.
Старинные российские изделия из серебра, египетские скульптуры, картины в широких золоченых рамах, православные золотые лампады, банкноты, золотые монеты, золотые слитки, маски инков с драгоценными камнями. Гора ювелирных изделий со сверкающими бриллиантами, коллекция античного стекла, свёрнутый фламандский гобелен… В свете шахтёрских фонарей казалось, будто они попали в пещеру Али-Бабы, перед ними лежали все сокровища мира. Вид этих сокровищ ошеломил Эйзенхауэра. Паттон и Брэдли, стоящие позади него, замерли в изумлении.
— Боже! — прошептал Эйзенхауэр, шагнул вперёд и встал на рельсы узкоколейки, тянущиеся до конца зала. Перед ним лежали тысячи мешков, и к каждому была привязана табличка с указанием содержимого. С левой стороны стояли ящики, выровненные как по линейке. — Боже… это невероятно. Капитан, и всё это — ценности?
— Всё, сэр. — Сильверман взял в руки список и начал читать вслух. Маллиган подсвечивал ему фонарем. — Я приведу только несколько примеров. В этой шахте на глубине четыреста пятьдесят метров находятся, — он указал на ряды мешков, — если исходить из захваченного у немцев списка, который надо будет ещё проверить, ценности почти всего рейха: немецкие банкноты на сумму сто восемьдесят семь миллионов долларов, сто десять тысяч английских фунтов стерлингов, четыре миллиона норвежских крон, восемьдесят девять французских франков и, — он посмотрел на Эйзенхауэра, — чистого золота на двести тридцать восемь миллионов долларов! С другой стороны находится три тысячи ящиков с бесценными произведениями искусства из пятнадцати берлинских музеев, из Веймара, Рейнхардбрунна, Кёнигсберга и многих других. В соседних помещениях находятся ящики с русскими иконами, превосходные дароносицы, три статуи фараонов, рукописные монастырские библиотеки, также книги в серебряных окладах с драгоценностями.
Прежде чем Сильверман продолжил, повисла напряженная тишина.
— Мы все знаем знаменитую картину Рембрандта «Мужчина в золотом шлеме». Всем известна картина «Четыре апостола» Альбрехта Дюрера. Нет такого человека, который бы не видел миллионы копий известного бюста Нефертити. Сэр, — Сильверман обвел рукой помещение, — всё это находится здесь!
— Боже! — снова выдохнул произнёс потрясённый Эйзенхауэр. — Этот день войдёт в историю! Капитан, я хочу посмотреть на это поближе.
Йоханнес Платов и Сильверман провели Эйзенхауэра, Паттона и Брэдли по огромному залу и соседним помещениям. Они смотрели на картины, которые знали только по книгам, перекладывали картину за картиной в одном из ящиков, понимая, что один только этот ящик стоит миллионы долларов. Потом они присели перед большими чемоданами с дароносицами и рассматривали иконы известной новгородской школы при свете шахтёрских фонарей. Они почти не разговаривали, а если что-то произносили, то приглушённо, как в церкви. Искусство тоже требует безмолвия.
Перед штабелем из двадцати стоящих в углу лакированных ящиков с большими железными замками Сильверман остановился. По отбитым углам ящиков было ясно, что их часто перегружали. Теперь его голос звучал спокойно, почти торжественно.
— На ящиках написано «Управление по гидротехническому строительству Кёнигсберга», — сказал он. — И они все помечены красными точками. Нас удивило, что в описи именно так и числится. Причём здесь это учреждение? Маскировка для какой-то тайны рейха? Документы СС или Министерства иностранных дел? Документация из партийной канцелярии Гитлера? Почему все произведения искусства подробно описаны, кроме этих двадцати ящиков управления? Мне стало крайне любопытно, и я приказал открыть один ящик. Только один, сэр… остальные я не осмелился трогать. Вначале мы увидели подушки, перины и покрывала.
С помощью Маллигана и двух полицейских он снял тяжёлую крышку и подал знак рукой, чтобы посветили фонарями. Золотом разных оттенков, от светло-жёлтого до тёмно-коричневого, перед ними засверкала янтарная панель: мозаики и резные фигуры, гирлянды и розетки, обрамлённое в резную янтарную раму полированное венецианское зеркало.
— Янтарная комната Петра Великого из Екатерининского дворца в Царском селе, теперь город Пушкин, завершённая придворным архитектором императрицы Елизаветы итальянцем Растрелли. — Сильверман задержал дыхание и продолжил: — Сэр, вы стоите перед одним из величайших чудес света. Ленин называл её национальной святыней, святыней русского народа.
— Сколько в долларах? — задал практичный вопрос Паттон, пока Эйзенхауэр благоговейно молчал.
— Она бесценна, сэр. Невозможно оценить её стоимость. Кто может сказать, сколько стоит «Сикстинская мадонна»?
— И всё это теперь в наших руках, — тихо произнёс Эйзенхауэр. Маллиган с помощью двух полицейских поставил крышку ящика на место. — Эти ценности не должны больше здесь оставаться ни дня. Их срочно, я говорю — срочно, надо переместить в безопасное место. Капитан, все ценности отсюда надо как можно быстрее переправить во Франкфурт, в здание немецкого рейхсбанка. Сейфы этого банка остались надёжными. Картины, скульптуры и другие произведения искусства отправить в Центральный сборный пункт в Висбадене и оставить там до тех пор, пока не будет принято решение по трофейным произведения искусства. Паттон…
— Сэр? — генерал Паттон поднял голову.
— Позаботьтесь о необходимой безопасности при транспортировке. Охранять как зеницу ока. Возможны акты саботажа и нападения. Я полагаю, следует действовать очень внимательно и осторожно.
— Ничего не случится, сэр. — Паттон широко улыбнулся. — Разместим надёжно, как в Форт-Ноксе.
После отлета генералов Джо Вильямс и Ларри Брукс снова встретились. В столовой транспортного батальона они сидели друг против друга, пили кофе с шоколадным тортом, курили «Лаки Страйк», и Джо опять завел разговор о том, что в войне победил солдат, и поэтому он тоже должен получить свою долю. Он даже привёл пример:
— Вспомни Александра Великого, Ларри, малыш, — сказал он. — Когда он завоевал Персию, то предоставил своим солдатам все захваченные города, чтобы они могли взять себе всё, что захочется. И женщин в том числе. Вот были времена, парень! — Он наклонился над столом и перешёл на шёпот. — Я слышал, в ближайшие дни нам предстоит вывести все эти богатства. Четыреста тонн сокровища… если их будет на несколько фунтов меньше, этого никто не заметит. Позволь Джо это сделать.
После визита Эйзенхауэра американские офицеры и низшие чины могли свободно заходить в шахту. С американской беспечностью и простотой посетители рыскали среди ящиков и коробок, чемоданов и мешков, отрывали доски, разрезали коробки, рылись среди икон и картин, серебряной посуды и каменных скульптур, среди экспонатов восточноазиатских и египетских коллекций.
Об этом особо не говорили, никто не проводил расследований, но когда по приказу генерала Паттона 14 апреля сокровищами шахты Кайзерод грузили на первую колонну тяжёлых грузовиков, многие ящики оказались сломаны, а бесценные произведения искусства просто исчезли. То же самое произошло и при обнаружении другого огромного хранилища художественных ценностей в шахте Граслебен, которую американцы захватили 12 апреля, а 1 июля 1945 года передали англичанам. В совершенно секретном докладе англичан говорилось: «Во всех найденных с начала оккупации хранилищах ящики были вскрыты представителями армейской разведки США, и в них находилась лишь половина ценностей. В Граслебене из почти семи тысяч переданных ящиков более половины были открыты».
14 апреля первая колонна грузовиков выехала из Меркерса в направлении Франкфурта. Паттон сдержал своё обещание, обеспечив безопасность колонны. Двадцать десять огромных грузовиков ехали в сопровождении пяти взводов пехоты, десяти передвижных зенитных орудий и двух отделений пулемётчиков. Над колонной постоянно патрулировали вертолёты, два бомбардировщика «Мустанг» были готовы вмешаться, если на колонну нападет группировка «Вервольф» партизанское движение, которого американцы очень боялись.
Три последних грузовика вели Ларри, Джо и негр, носящий, как и многие чёрные, библейское имя Ной. Они медленно ехали по разгромленной немецкой земле, через поля, леса и деревни, через города, где в окнах домов висели белые флаги, а на улицах стояли длинные очереди за продуктами. Дети-попрошайки бежали рядом с грузовиками, выклянчивая шоколадку, а по вечерам, когда колонна делала привал на городских окраинах, накрашенные немецкие девушки ходили вдоль грузовиков и предлагали свои услуги за масло, сахар, муку, жареную курицу или за пачку сигарет. Хотя в приказе Эйзенхауэра говорилось — никаких дружеских отношений с местным населением, но кто мог устоять перед немецкими «фрейлейн», когда Мэри, Джулия и Анна были далеко, за тысячу километров через огромный океан.
Ларри и Джо были довольны. Под сиденьями грузовиков и в стальных ящиках для запчастей у Ларри лежали семь икон, четыре старинных русских подсвечника из чистого серебра и вырезанная из рамы, свёрнутая в рулон картина с подписью ван Дейка. Джо вёз в своей машине две древнерусских трёхстворчатых иконы, две ассирийских каменных маски, картину Караваджо, картину Тициана, чемодан, заполненный старинными египетскими золотыми украшениями, и подаренный Александром фон Гумбольтом Берлинскому музею этнографии и известный всему научному миру серпентиновый диск Бога Солнца древних инков. У Ноя, сидящего за рулём самой последней машины, под сиденьем не было ничего. Его не интересовало, что он везёт. Куда важнее для него было то, что немецкая «фрейлен», чудесная белая девушка, стоила всего лишь пачку «Честерфилда» или полфунта масла с половиной курицы.
Когда колонна остановилась на ночлег на окраине города Альсфельд, произошло то, что никто не мог ни понять, ни объяснить: из двадцати девяти хорошо охраняемых грузовиков на следующее утро отсутствовали три! Мгновенно собрали поисковые отряды, которые прочесали всю местность, о невероятном инциденте доложили по радио командованию Третьей армии. Генерал Паттон выругался и приказал хранить происшествие в строжайшей тайне, и потому Эйзенхауэр узнал об этом значительно позже. Три грузовика исчезли, как будто растворились в воздухе.
Их водителями были Ларри Брукс, Джо Уильямс и Ной Ролингс.
— Это наши лучшие ребята, — сказал полковник, командующий колонной. — Что же всё-таки произошло?
Два дня колонна не двигалась с места, двое суток велись поиски, вертолёты барражировали на самой низкой высоте, джипы, как муравьи, расползлись по дорогам. Но следов не обнаружилось, лишь на второй день экипаж одного из джипов обнаружил на окраине леса южнее Альсфельда тело Ноя Ролингса. В голове у него зияла дырка, он был обнажен по пояс, а на блестящем, чёрном мускулистом теле вырезана большая свастика. Для американцев всё стало ясно: грузовики угнали немецкий Вервольф. Как это могло произойти, без единого звука, на глазах у охраны, так и осталось тайной. Никто не сомневался, что это Вервольф. Что случилось с Ларри и Джо, оставалось загадкой. Может быть, Вервольф забрал их с собой? Или их застрелили, как Ноя, но хорошенько спрятали? Поиски прекратили, а расследование передали американскому коменданту Альсфельда. Колонна отправилась дальше во Франкфурт.
Когда Фреду Сильверману, находившемуся в Меркерсе, положили на стол сообщение об исчезновении грузовиков, он громко вскрикнул, схватился за грудь, как будто у него остановились сердце, и побледнел, как льняное полотно.
— Янтарная комната, — пробормотал он и с ужасом посмотрел на Маллигана. — Боб… в этих трёх машинах была Янтарная комната. Двадцать ящиков! И четырнадцать французских импрессионистов! Боб! — воскликнул он в отчаянии. — Янтарная комната пропала!
В этот вечер Сильверман надрался так, как будто хотел допиться до смерти. Он заливал в себя виски, как в бездонную бочку. Потом рухнул без сознания и попал в госпиталь. С тех пор его перестали интересовать колонны, которые отправили из Меркерса во Франкфурт 14 и 17 апреля. Его перестали интересовать даже новые находки мест со спрятанными нацистами сокровищами. Он знал лишь одно — поиск Янтарной комнаты стал смыслом его жизни до конца дней. Янтарная комната стала его судьбой.
***
Они остановились на небольшой улочке южнее Альсфельда, чтобы решить, что делать с машиной Ноя, и всё обдумать. Перед отъездом он молчал — раз приказал старший сержант, значит всё в порядке. Между тем, даже такой простодушный человек, как Ной, мог заметить, что что-то не так. Когда Ларри и Джо подошли к его машине, он сидел за рулём с задумчивым выражением лица и жевал резинку.
— Всё в порядке? — спросил Джо.
Ной покачал головой.
— Нет.
— Что-то не так?
— Джо, мы поступаем неправильно.
— Наш библейский мальчик проснулся! — рассмеялся Уильямс.
Он подождал, пока Ной выпрыгнет из кабины. Ной был высоким, атлетического телосложения, с крепкими бицепсами, он мог бы стать чемпионом мира по боксу, если бы не боялся ударов по голове. В детстве белые мальчишки засветили ему камнем по голове, и Ной четыре недели провел в больнице. С тех пор он берёг голову, хотя тренеры и менеджеры убеждали его, что с его мышцами и силищей он мог бы зарабатывать миллионы.
— Не знаю, что вы задумали, — осторожно произнёс Ной. — Вы втянули меня в это дело, и я невольно стал соучастником. Так что мне причитается треть от всего. Неважно, что это.
— Наш Черныш умеет считать. — Уильямс снова рассмеялся, но прозвучало это грубовато, с угрозой. — Слушай, малыш. У нас тут спецотряд. «Специально для Джо Уильямса». Понял?
— Нет.
— Это неважно. Для нас, Черныш, война закончилась. Мы пропали без вести. Отсидимся некоторое время в укрытии и где-нибудь снова вынырнем, когда о нас все позабудут.
— Я хочу после войны вернуться домой! — громко сказал Ной. — Джо, я не хочу стать покойником, даже понарошку.
— Ладно, мы ещё об этом поговорим. — Уильямс незаметно толкнул Брукса в бок. Тот его не понял и вопросительно поднял брови. — Ты предстанешь перед своей мамочкой раньше нас.
— Моя мама умерла.
— Ах вот как. Ну, я выразился образно.
— Что будем делать с грузовиками?
— Мне надо подумать, — ухмыльнулся Джо. — Мне надо ещё о многом подумать. Давай, поехали дальше.
Ной протянул Уильямсу широкую ладонь и вопросительно посмотрел на него.
— Одна треть, Джо. Обещай.
— Ты получишь то, что заслуживаешь, Черныш. — Джо ударил по протянутой лапе. — Можешь на это рассчитывать.
Они ехали всю ночь, очень осторожно и только по второстепенным дорогам с твёрдым покрытием, чтобы не оставлять следов. Какое-то время шёл дождь, как будто природа тоже помогала им исчезнуть. На рассвете они приехали в заповедник Фогельсберг, свернули на лесную дорогу с твёрдым покрытием и остановились у подножья семисотметровой горы Тауфштайн. Их окружал густой лес. Весь день они лазили по горе Тауфштайн в поисках пещеры.
— Где есть горы, должны быть и пещеры! — сказал Джо. — Нам надо найти такую, чтобы разместить двадцать ящиков.
Целый день над ними кружил вертолёт и летал самолёт-разведчик, но это им не мешало.
— Нас ищут, — сказал Ларри. Они лежали под деревом, плотно прижавшись к земле, пока вертолёт не улетел дальше.
— Они будут нас искать несколько месяцев и даже лет, Ларри. — Уильямс сел и достал из кармана сигарету. На голове у него была каска — он рассчитывал, что любой немец, подойдя поближе, увидит американскую каску и сразу же исчезнет. Ещё шла война, и американские войска могли стрелять во всё, что покажется подозрительным. Спокойствие в захваченной стране долго ещё будет обманчивым, пока не капитулировал вермахт.
Группа армий «Б» под командованием генерал-фельдмаршала Моделя заняла круговую оборону в районе Рейна, Рура и Липпе, там образовался Рурский котёл. 14 апреля Девятая и Первая американские армии уничтожили немецкие войска, а Модель застрелился. В это же время советские войска двигались на Берлин, на севере Германии собрались последние немецкие подразделения, отрезанные от снабжения боеприпасами и продовольствием. Но поступил ожидаемый приказ: «Держаться! С нами Бог! Это еще не конец». Джо ВУильямс был прав. Американская каска отпугивала немцев.
Как раз в это время Ной нашёл пещеру. Густой кустарник скрывал вход, который располагался на такой высоте, что можно было затащить ящики. Вначале шёл узкий проход, а затем открывалась пещера, неровная, влажная и скользкая, но достаточно большая, чтобы там поместились двадцать ящиков.
— Янтарь не ржавеет, — сказал Джо, осмотрев пещеру. — И ящики покрыты защитным слоем от влаги. Ребята, они могут простоять здесь довольно долго, пока мир не изменится. Давайте, за работу.
С большим трудом они подъехали на грузовиках поближе к пещере, и началась тяжёлая работа. Они волочили ящики, поднимали, толкали, метр за метром, пока не перетащили все двадцать. Для этого они срубили три молодых дерева, чтобы использовать стволы в качестве катков, и тут пригодилась бычья сила Ноя. Напрягаясь, как бык, он тянул ящики за канаты по склону вверх, к пещере. Ларри и Джо толкали ящики сзади, тяжело дыша и кряхтя от напряжения. К вечеру они закончили.
— Что теперь? — спросил Ной. С голым торсом, вспотевший, он сидел на подножке грузовика и доставал ложкой из банки куриную тушенку. — С ящиками мы управились. Что будет с нами?
— Об этом я тоже подумал. — Джо Уильямс хлебнул виски из бутылки. — Сначала взорвём вход в пещеру.
— Чем? — спросил Ларри.
— Ларри, малыш, Джо обо всём подумал. Я взял с собой взрывчатку. Ее хватит. Нужно только завалить вход. Что потом? Всему своё время.
Джо знал своё дело. После негромкого хлопка грунт поднялся и закрыл вход в пещеру. Джо вместе с Ларри посмотрел на результат, и довольные, они пожали друг другу руки.
— Превосходно, — сказал Ларри. — Теперь никто не найдёт ни малейшего следа.
— А теперь вот что, — повеселел Джо Вильямс. — Немного прокатимся на двух грузовиках.
Ной не стал ни о чём спрашивать, когда услышал, что Джо хочет посмотреть, где можно спрятать грузовики. Они поехали назад по пустынным дорогам в направлении Альсфельда. Уильямс неожиданно остановился на опушке леса, между реками Антрифт и Швальм.
— Здесь, — сказал он сидящему рядом Ларри. Позади затормозил Ной. — Это подходящее место.
— Для чего? — удивился Ларри.
— Для первого шага в будущее, мой мальчик. — Голос Джо резко изменился. В нём слышались холод и металл. — Мы выйдем, ты достанешь пистолет и проделаешь Ною красивую дырку во лбу.
— Нет, Джо! — Ларри вздрогнул и наклонил голову, как кошка перед прыжком. — Ты не можешь требовать от меня такого! Я этого не сделаю. Ты сошёл с ума, Джо.
— Это ты сошёл с ума, Ларри. — Уильямс посмотрел на Брукса холодным взглядом. — Ты на пути, который сделает тебя миллионером. Ещё несколько шагов, и окажешься на самом верху! Ты, парень из трущоб.
— Только не через убийство! — выкрикнул Ларри. — Почему бы тебе самому его не пристрелить?
— Я хочу быть уверенным. — От холодного взгляда Джо по спине Ларри пробежала дрожь. — Я должен знать, что ты меня не предашь, на подведешь, не обманешь.
— Я твой друг, Джо...
— Из-за миллиона долларов дружба может закончиться. Когда ты отправишь Ноя на небо, я буду знать, что ты со мной.
— Я клянусь тебе, Джо!
— Тогда бери пистолет и иди к Ною.
— Джо...
— Клятвы можно забыть, а убийство никогда не забудется. Мы теперь изгои, Ларри, вне закона, теперь другие правила. Мы начинаем новую жизнь. Не оставляй ничего после себя.
Брукс понял. Он бросил отчаянный взгляд на Уильямса, вышел из кабины и пошёл назад. Ной тоже вышел из машины и смотрел на него. Он перебросил гимнастерку через плечо, обнажив широкую потную грудь. Чем ближе подходил Ларри, тем медленнее шёл. Его правая рука лежала на ремне, недалеко от кобуры. Когда он посмотрел на широкое, улыбающееся, блестящее от пота, чёрное лицо Ноя, его сердце заныло. «Сделай что-нибудь, — подумал он. — Спроси что-нибудь, напади на меня, заставь свой мозг работать и понять ситуацию, Ной. Не стой, ухмыляясь, пойми наконец, что происходит. Но как может это добрый, безобидный Ной Ролингс понять, что ему жить осталось всего несколько минут?»
— Мы оставим машины здесь? — недоверчиво спросил Ной. — И потом потащимся пешком назад? Ларри, это же идиотизм. И я так еле шевелю ногами.
— Мы не пойдём пешком, — сдавленным голосом произнёс Ларри. Он почувствовал затылком взгляд Джо, который высунулся из окна кабины и ждал. — Это так ужасно, Ной, так бессмысленно…
Глядя на лоб Ноя, он рывком выхватил пистолет, быстро прицелился на уровне глаз и нажал на спуск. Он был одним из лучших стрелков, и точно в середине лба с треском образовалось маленькое отверстие. Ной смотрел на него по-детски удивлённо, хотя в эту секунду он уже был мёртв — выстрел опрокинул его на широкую спину. Из отверстия вытекла лишь тонкая струйка крови.
Уильямс выскочил из грузовика и подбежал к Ларри. Он похлопал его по плечу, медленно наклонился над мёртвецом, достал из-за пояса широкий нож и вырезал на потной, мускулистой груди большую свастику. Когда он выпрямился, то увидел, что пистолет Ларри направлен на него.
— Не делай этого, Ларри, — сказал он тихо и осторожно. — В одиночестве ты — ноль. Только со мной ты будешь иметь виллу в Майами. Мы одна команда, пойми! Давай, садись в машину Ноя. Я поеду впереди.
— Зачем тебе надо было резать ему грудь?
Ларри убрал пистолет в кобуру. Джо облегчённо вздохнул. «Пронесло, — подумал он. — Ларри такой чувствительный, могло и коротнуть».
— Когда его найдут, то подумают, что это сделал немецкий Вервольф. А еще решат, что нас похитили, или убили и закопали. Тогда нас вычеркнут из списков. Головой надо думать, Ларри.
— Ты гангстер, Джо, — прошептал Ларри. — Точно, гангстер. Теперь я знаю. И миллионы твоего отца… грязные деньги. Да и Уильямсы ли вы?
Уильямсу было не до обид, поэтому он быстро ответил:
— Правда ли мы Уильямсы? Мой отец был умным парнем, никогда не находился под подозрением, его ни разу не арестовали и никогда ни в чём-либо не обвиняли. Как это у него получалось? Вместе с одной подпольной организацией он выискивал красоток и продавал их в южноамериканские бордели. Не в Америку. Англичанки, шведки, финки, прекрасные куколки из Кореи, Филиппин, Гонконга, Сингапура и Макао, коричневые красавицы из Самоа, Таити, Фиджи и с островов Кука… Ларри, они расходились, как горячие пирожки. После пятидесяти он отошёл от дел, занялся благотворительностью и приобрел такую известность, что его выбрали в Сенат. — Уильямс широко улыбнулся Бруксу. — Это честный бизнес, Ларри. Одни торгуют машинами и апельсинами, другие — своими прелестями.
— Ты хладнокровный убийца!
— Вообще-то, это ты, Ларри, малыш. Давай, садись! Мы отгоним машину Ноя туда, где её найдут.
Они оставили машину Ноя позади пустого, полуразвалившегося сарая на краю поля и вернулись к горе Тауфштайн.
Двумя месяцами позже, в июне, через полтора месяца после окончания войны, жители Кронберга сообщили, что на лесной поляне уже около трёх недель стоят два американских грузовика. Без водителей. Это было очень странно. Примчался джип военной полиции, грузовики проверили, установили, что баки наполовину полны, и отогнали машины в штаб-квартиру во Франкфурте. Там по номерам быстро установили, что грузовики входили в транспортную колонну Третьей армии и в списке потерь за 16 апреля внесены как пропавшие без вести, с отметкой «предположительно нападение Вервольфа». Дело объединили с сообщением об убитом солдате Ное Ролингсе и позже найденной машине.
Дело было рассмотрено и закрыто. Джо Уильямс и Ларри Брукс исчезли, но очевидно, вряд ли остались в живых. Ответственный офицер Третьей армии объявил их мёртвыми и направил уведомления родственникам.
Родители Ларри всплакнули, хотя в последние годы Ларри редко у них показывался. Старый Уильямс поставил на семейном кладбище в Уайтсэнс мраморный обелиск в память о сыне и торжественно освятил его с воинскими почестями и салютом. Только миссис ВУильямс, всю жизнь считавшая, что муж и в самом деле торгует хлопком и арахисом, и знавшая о проблемах с сыном, смело предположила:
— Кто знает, может, это и к лучшему. Джо был совсем не похож на нас.
В это время Ларри и Джо купили фальшивые паспорта и беззаботно жили во Франкфурте, заново отстроили на Мозельшрассе полуразрушенный дом и оборудовали в нём стриптиз-бар с тремя этажами одноместных номеров. Это был бордель высокого класса, один из первых после окончания войны и, следовательно, стал золотой жилой. В очереди стояли главным образом американские солдаты, ведь у немцев едва ли были на это деньги, стоило посещение этого заведения примерно как фунт кофе, который в 1947 году стоил пятьсот рейхсмарок. Поэтому немцы охотнее покупали масло, сало, мясо или просто кофе. А доллары, которые американцы запихивали девушкам между сисек, были твёрдой, надёжной валютой.
В конце 1947 года почтовое сообщение с США было восстановлено. Побеждённые немцы после проведённой волны денацификации, роспуск национал-социалистических организаций и исключение нацистов из политической и экономической жизни страны, оказались вполне серьёзными партнёрами, в то время как с бывшими союзниками, русскими, трудно было найти общий язык, и это создавало для победителей значительные проблемы, Черчилль даже как-то в сердцах сказал: «Мы зарезали не ту корову».
10 ноября Джо Уильямс отправил своему папочке небольшое письмо лаконичного содержания:
Дорогой папа, твой Джо жив. Пока ничего больше. Скоро ты услышишь обо мне больше. Наберись терпения и не спрашивай. Твой Джонни.
В Уайтсэндс письмо произвело эффект разорвавшейся бомбы, но внешне все сохраняли невозмутимость. Старый Уильямс ничего не сказал по этому поводу. Миссис Уильямс каждый день молилась в построенной ими церкви, мраморный обелиск остался стоять и всегда был украшен цветами. Но в действительности старый дьявол иначе отнёсся к сообщению сына. Он подключил обширный аппарат частных детективов и агентов, использовал все свои связи, чтобы разыскать сына.
Но всё напрасно. Джо хорошо знал отца и отправил письмо не из Франкфурта, а специально съездил в Гамбург и бросил там в почтовый ящик. Поскольку Гамбург был зоной, подконтрольной англичанам, поиски старого Уильямса скоро выдохлись.
Ларри не стал посылать письмо. Его всё равно бы никто не получил. Его отец, санитар в морге, умер от рака горла, а мать последовала за ним и в начале 1947 года, скончавшись от сердечной недостаточности. После извещения о смерти Ларри, она сгорала, как свеча. А смерть мужа окончательно задула свечку.
Засыпанную пещеру в районе Фогельсберга до сих пор не обнаружили. Вход за два года зарос деревьями, а сама пещера находилась в таком месте, куда не ходили туристы, и не представляющем интереса для лесничества. Кривые деревья не окупали вырубку леса.
Бордель во Франкфурте процветал. Брукс и Вильямс были довольны. Они купили себе время. Янтарная комната канула в забвение. Более важные проблемы определяли развитие событий: восстановление Европы.
Янтарная комната никого больше не интересовала.
Маленькие ошибки замечаются сразу, большие ошибки требует созревания.
***
Многое изменилось с того дня в 1945 году, когда Михаил Вахтер и Яна стояли у входа в Рейнхардбрунн, а потом уехали обратно на предоставленном местным комендантом джипе. Последний след им указала старая кухарка замка: в галерее под залом фамильных портретов в начале 1945 года хранились двадцать больших ящиков. В замке говорили, что они прибыли из Кёнигсберга, а на крышках стояла надпись: «Управление по гидротехническому строительству Кёнигсберга», хотя они не имели никакого отношения к этому ведомству, в них была спрятана Янтарная комната.
И ещё Вахтер узнал от кухарки, что ящики собирались перевезти в разветвлённую систему бункеров штаб-квартиры Гитлера «Вольфштурм» или в Заальфельд. Там, под Пиллау, гауляйтер Кох хотел разместить свою штаб-квартиру после бегства из Кёнигсберга — с одной стороны, чтобы быть ближе к фюреру, с другой — ближе к Борману, чтобы не потерять из виду Янтарной комнату. Но планы Гитлера и Коха были сорваны быстрым продвижением американцев и русских — подземные помещения так и не использовали. Но двадцать ящиков, по словам кухарки, стояли там, в галерее. Потом прибыли два грузовика с красными крестами на кузовах, ящики погрузили и увезли. Она не знала куда, да и никто не знал. Удивительно, что за рулём грузовиков сидели офицеры СС. Высокопоставленные офицеры, как сказала кухарка. Она слышала, как один солдат, вытянувшись в струнку, выкрикнул: «Так точно, господин штандартенфюрер».
Вахтер и Яна сразу же поехали в Заальфельд, но туда ящики не прибыли. След испарился, как капли воды в пустыне.
— Она где-то недалеко, — сказал Вахтер коменданту городка Фридрихрод, к которому относился замок Рейнхардбрунн. — Я чувствую это, как взявший след волк! Она здесь, в окрестностях, но она здесь! Где-то её спрятали!
Комендант, подполковник Третьей армии США, смотрел мимо Вахтера и Яны на стену, где висел портрет недавно избранного президента США Гарри Трумена. Яна, внимательно следившая за выражением его лица, неожиданно произнесла:
— Вы знаете больше, чем рассказали.
Они говорили по-немецком языке, и несмотря на двенадцать лет, прошедших между эмиграцией и возвращением, в речи подполковника чувствовался швабский диалект.
— Я ничего такого не говорил…
— Может быть, но вы знаете больше. — Вахтер полез в карман пиджака, который был ему велик. Документ, который он вынул, был написан на четырёх языках: немецком, английском, французском и русском. В нем излагалась просьба ко всем оккупационным силам оказывать Михаилу Вахтеровскому всемерную помощь в поиске Янтарной комнаты. Далее описывалась Янтарная комната и то, что ее украли нацисты из Екатерининского дворца. Подполковник отмахнулся и даже не взял бумагу.
— Я это видел, — сказал подполковник. — Вы мне уже два раза показывали.
Он немного помолчал и продолжил:
— Обратитесь в УСС, Управление стратегических служб в штабе Третьей армии. Спросите капитана Фреда Сильвермана. Только не говорите, кто вас послал. Честное слово, больше я ничего не могу сказать.
— Я вам верю. — Вахтер пожал ему руку. — А что известно Сильверману?
— Это надо спросить у него самого. Всего хорошего!
— Я должен её найти. — Ответ Вахтера прозвучал, как крик о помощи. Он положил левую, всё ещё больную, руку на плечо Яны и вышел из кабинета.
На следующее утро они покинули Фридрихроде на предоставленной им трофейной машине, стареньком «Адлере», его дверцы были изрешечены пулями.
Капитана Сильвермана пришлось искать долго, никто из военных не хотел сообщать о местонахождении штаба Третьей армии США и генерала Паттона, несмотря на предъявляемый документ. В конце концов, их направили в Нюрнберг, в ведомство секретной службы. В почти полностью разрушенном городе им выделили комнату в бараке инженерно-сапёрной части, поставили на довольствие в армейской столовой, и они стали ждать. Четыре раза за эти дни Яне пришлось отбиваться от назойливых приставаний. Один чернокожий пехотинец попытался сначала залезть в окно, а потом поникнуть через дверь, но у него ничего не вышло — Яна вооружилась куском водопроводной трубы. Она привязала трубе верёвкой к поясу. И стоило солдату шагнуть через порог, труба как раз пригодилась. Он получил такой удар по голове, что беззвучно рухнул и не пришел в сознание, пока его не забрали два сотрудника военной полиции.
— Я должен поговорить с вашим начальством, — сказал Вахтер. — Это уже четвёртый случай. Это и есть так называемая свободная американская жизнь?
Но полицейские не понимали по-немецки. Они лишь неотрывно смотрели на Яну и двусмысленно ухмылялись.
— Успокойтесь, Михаил Игоревич, — сказала она по-русски. — К чему это? Сейчас, в трудные времена, разве мы можем что-нибудь изменить? Вы же видите, я могу за себя постоять.
Две недели длилось их ожидание в Нюрнберге. Две потерянных недели, как считал Вахтер. Они бродили по разбитым улицам, смотрели на женщин и детей, копающихся в руинах и выбирающих еще целые кирпичи. Входы в подвалы уже откопали, дыры в стенах заделали, а улицы расчистили от обломков. У пунктов раздачи питания стояли очереди, как и у гидрантов, где люди наливали воду в ведра. Немецкие административные службы начали работать под американским надзором и пытались навести порядок в этой неразберихе. Война закончилась только девятого мая, не стало больше друзей и врагов, были только победители и побеждённые. И везде — на вокзале, на площади, у подножия замка, у старой городской стены — начали, сначала робко, работать чёрные рынки. Наконец, через две недели в дверях комнаты Вахтера и Яны показался офицер и на ломаном немецком сказал:
— Телефон… позвонить… теперь всё окей! Капитан Сильверман в Австрии. В Зальцбурге. Окей? — Он отсалютовал и вышел.
— В Зальцбурге, — произнёс Вахтер и опустился на стул. — Яна, надо ехать в Зальцбург. Возможно, капитан Сильверман — единственный, кто может нам помочь в дальнейших поисках.
— Но там нет Янтарной комнаты.
— А что еще остается? Американцы нашли огромное хранилище художественных ценностей в Альтаусзее. Личные сокровища Гитлера, как говорят. Они даже не смогли всё переписать. Возможно, двадцать ящиков из Кёнигсберга тоже там. Мы должны цепляться за каждый лучик надежды, Яна.
На своей громыхающей, прострелянной машине они поехали в Зальцбург, в район расположения 15-го армейского корпуса США, где в замке Киссхайм со своим штабом находился капитан Сильверман. На следующий день они наконец-то стояли перед Сильверманом, и тот читал бумагус их полномочиями. Они ждали его реакции. Сильверман положил перед собой документ на четырёх языках и со множеством печатей и посмотрел на Вахтера с Яной. «Теперь ещё и русские, — подумал он. — Конечно, с исторической точки зрения Янтарная комната принадлежит им. Немцы тоже утверждают, что с точки зрения истории она принадлежит им. Что она вернулась на родину. А мы, как победители, думаем, что она принадлежит нам. В качестве трофея. Хотя это юридически и неверно, но кто на войне считается с законами? Кому она в конечном счёте принадлежит, сейчас не важно. Этой проблемы не существует… пока комнату не найдут».
— Вы говорите по-немецки? — спросил он.
— Да, — ответил Вахтер. — Я немец.
— В вашей доверенности написано: Вахтеровский. Русский.
— Я был и нахожусь у русских на службе. Уже почти двести тридцать лет.
— Для такого возраста вы хорошо сохранились. Вы не выглядите таким старым.
На эту старую, глупую шутку Вахтер слабо улыбнулся.
— Я надеюсь, что мои потомки смогут заботиться о Янтарной комнате и следующие двести тридцать лет.
— Если её найдут.
— Именно поэтому мы и пришли к вам, капитан Сильверман.
Сильверман понял обе руки, как будто Вахтер направил на него оружие.
— Пожалуйста, убедитесь сами, — произнёс он с горечью. — Я не прячу её в кармане.
— Но вы её видели, капитан.
— Кто вам это сказал?
— Мы собирали информацию. Иначе как бы мы вышли на вас?
Сильверман поверил в этот блеф. Он опустил руки и с удивлением уставился на Яну, которая сказала:
— Мы проследили путь двадцати ящиков из Кёнигсберга через Берлин, Веймар, Фридрихрод и замок Райнзардбрунн. Оттуда Янтарную комнату увезли на грузовиках с красными крестами и со швейцарскими номерами.
— Это верно. — Сильверман слепо лез в ловушку. — Когда мы исследовали калийные рудники под Меркерсом, я стоял перед этими ящиками.
Впервые Вахтер и Яна услышали про Меркерс. Никто им об этом не говорил, были лишь намёки. Как-то в Заальфельде один американский офицер проговорился: «Здесь, в Тюрингии, находятся сокровища в миллионы долларов». Но где именно, он промолчал.
Меркерс. Где это? Калийный рудник…
Ни Вахтер, ни Яна не показали, как их взволновало это сообщение. Они лишь кивнули Сильверману и сделали вид, будто уже всё знали. Капитан выглянул из окна. Тёплое весеннее солнце сияло над парком, дорожками, кустами, цветниками и каменными скульптурами замка Киссхайм. Настоящий спокойный день под необъятным голубым небом.
— Значит, вы знаете, где Янтарная комната? — спросил Вахтер.
— Конечно.
Вахтер вздрогнул, как от удара током.
— Где?
— Она растворилась в воздухе. — Голос Сильвермана дрогнул от волнения при воспоминаниях. — Она просто исчезла…
— Этого не может быть, — воскликнула Яна. — Двадцать больших ящиков… это же несколько грузовиков!
— Ровно три армейских грузовика. По приказу Эйзенхауэра все найденные в рудниках Кайзерод художественные ценности и мешки с золотом отправили двумя транспортными колоннами во Франкфурт. 14-го и 17-го апреля. Под усиленной охраной. Тем не менее, 16-го апреля из первой колонны исчезли три грузовика с Янтарной комнатой. Грузовики и одного из водителей, Ноя Ролингса, позже нашли. Водитель был застрелен. На его груди была вырезана свастика. Исходя из этого, мы сделали вывод, что грузовики похитил немецкий Вервольфом.
— А другие водители? — спросил Вахтер.
— Они нигде не всплыли и, возможно, их скелеты когда-нибудь случайно обнаружат в лесу. — Сильверман повернулся к ним. — Вы ищите Янтарную комнату по поручению советского правительства. Я сам поставил перед собой эту задачу. Мы должны объединить усилия… Мой рапорт об увольнении из УСС уже лежит на столе в Вашингтоне. Видимо, там меня считают сумасшедшим.
— Мы тоже сумасшедшие, капитан, — с сарказмом отозвался Вахтер. — Только так можно это выдержать. У меня к вам один неприятный вопрос: возможно ли, что кто-то сознательно позволил Янтарной комнате исчезнуть, чтобы потом тайно вывезти её в США?
— И кто же? Господин Вахтер, вы обвиняете офицеров США в краже произведений искусства?
— Это был глупый вопрос, — быстро ответил Вахтер. — Я слышал, что в шахтах Граслебена было спрятано свыше шести тысяч ящиков с художественными ценностями, половину вскрыли еще до того, как Граслебен перешёл к англичанам. Американцы, контрразведка и военнослужащие армии США.
— Мне ничего об этом неизвестно, — натянуто произнёс Сильверман. — Всё это из-за спешки.
— А в Меркесе не могло случиться то же самое?
— Нет. Я сам смотрел за порядком. Двадцать ящиков такого размера не могли исчезнуть незаметно.
— Нужно снова начать поиски в Меркесе, капитан.
— Тогда вам надо спешить. — Сильверман откинулся на спинку кресла. Он поджал губы, показывая, что считает это нелепым. — В связи с решением союзников о разделении Германии на зоны оккупации, генерал Эйзенхауэр приказал эвакуировать войска из Саксонии и Тюрингии и передать это области Советам.
— Что? — воскликнул Вахтер, но не от страха, а от радости. — Наши солдаты разместятся в Тюрингии?
— Вы же называли себя немцем? — удивился Сильверман.
— И Меркес будет советским? — спросила Яна.
— Нет... его займут советские войска. Это большая разница. Мы остаёмся в Баварии, но это не значит, что она будет американской. Бавария остаётся немецкой. Никто не знает, как всё это будет выглядеть в ближайшие несколько лет.
— Раз в Меркесе будут стоять советские войска, мы сможем работать там без помех. — Вахтер на мгновение закрыл глаза. Германии, которую он знал по изображению на карте, больше не было. Она была разгромлена и разделена. По улицам Берлина, родине его предков, маршировали советские войска. — Это радует. Советское командование поможет нам в поисках Янтарной комнаты.
— Американское тоже, — немного обиженно произнес Сильверман. — Но ни ваши власти, ни наши не волшебники и не смогут вернуть Янтарную комнату. — Сильверман наклонился вперёд. — Да и что вы хотите найти в Меркерсе? Там ничего нет, шахты пусты. Три грузовика исчезли в Альсфельде. В Гессене.
— В Альсфельде… — протянул Вахтер. — Это совершенно новый след. О Гессене никто не говорил. Все теоретические пути перемещения двадцати ящиков из Рейнхардбрунна указывали на Геттинген, Западную Саксонию или Мекленбург (где Янтарная комната была бы поближе к Берлину) и на южное направление, прежде всего на «Альпийскую крепость» и на Австрию. Но Гессен никто не предполагал. — Таким образом, появился ещё один след...
— Называйте, как хотите. Поиски велись там несколько недель.
— Могло случиться так, что ящики из Альсфельда увезли дальше на юг или северо-запад?
— Всё может быть, — пожал плечами Сильверман. — Мир велик, но чует мое сердце, Янтарная комната где-то здесь, в Германии.
— Тогда мы её найдём! — с полной уверенностью сказал Вахтер. — Капитан Сильверман, мы можем заниматься поисками вместе?
— Я сам хотел это предложить. — Сильверман поднялся со стула. — Я займусь поисками, когда уволюсь из УСС и армии. Нужно дождаться ответа из Вашингтона. — Он махнул в сторону окна, на парк замка Кисснайм. — Не хотите подождать меня здесь? В замке достаточно места. Разве здесь не прекрасно? Зальцбург по ту сторону крепости, панорама с видом на горы, озёра Зальцкаммергута у порога. Я бы с удовольствием здесь поселился. Вы знаете, что я немецкий еврей?
— Догадался, капитан.
— Двенадцать лет я тосковал по Германии. По кошмарной Германии! Четырнадцать моих родственников погибли в Бухенвальде, Флоссенбюрге и Маутхаузене. Их застрелили, замучили до смерти, отравили в газовых камерах, использовали как подопытных в медицинских исследованиях. И всё же я тосковал, представляете?
— Да. Яночка и я … мы тоже тоскуем по Пушкину, но только с Янтарной комнатой.
— Возможно, я и правда останусь здесь, в Австрии. Может, пригожусь здесь, в Зальцбурге, как искусствовед. Здесь каждый камень дышит искусством. — Сильверман покачал головой и с грустью улыбнулся. — Планы… Только что закончилась самая страшная война всех времён, а мы уже строим планы. Планы. Что готовит будущее, господин Вахтер?
— У меня есть только одна цель: Янтарная комната.
— Даже если вы из-за этого превратитесь в вечного скитальца?
— Даже если так, капитан, — сказал Вахтер почти торжественно. — На всё воля Божья!
Увольнение капитана Сильвермана затянулось. Так просто из секретной службы уйти невозможно, в особенности потому, что Сильверман слишком много знал и возглавлял спецподразделение «Орион», разыскивающее произведения искусства и культурного наследия Германской империи. Он также возглавлял тайное подразделение «Т», которое после анализа секретных докладов, разыскивало не только спрятанные сокровища, архивы и библиотеки, но и скрывающихся под чужими именами военных преступников. Разве подобный человек может уйти вот так просто?
Капитана Сильвермана вызвали в Вашингтон. Третьего августа он улетел в Америку. Как сообщали — чтобы отчитаться. Но он-то знал, что для допроса. Вахтер и Яна пробыли в замке Киссхайм до июля. Они двинулись на стареньком «Адлере» в сторону границы американской и советской зон по автобану Мюнхен–Берлин, который так любил Гитлер, и на американском посту предъявили паспорта. Лейтенант кивнул, с американской небрежностью бросил короткий взгляд на фото в паспортах, сравнивая их с людьми, и освободил дорогу.
На советской стороне они сначала вызвали недоверие, особенно когда Яна воскликнула по-русски: «Здравствуйте, товарищи!» Их привели в кабинет, где молодой старший лейтенант сидел перед радиоприёмником и благоговейно слушал арию из оперы «Евгений Онегин». Лейтенант неохотно приглушил звук. Следующей шла увертюра к опере «Руслан и Людмила».
— Откуда? Куда? — неприветливо спросил он.
— Из Зальцбурга в Берлин, товарищ старший лейтенант, — ответил Вахтер по-русски.
— Зачем?
— Вот, прочитайте…
Вахтер развернул бумагу на четырёх языках и положил её на стол перед офицером. Подействовал документ поразительно. Старший лейтенант быстро взглянул на множество печатей, сразу же выключил радио, с удивлением уставился на Вахтера и Яна и склонился над документом. Сработала чудодейственная сила печатей. Чем больше печатей на бумаге, тем уважительнее относятся к ней русские. Каждое учреждение ставит свою печать, и чем их больше, тем значительнее предъявитель.
— Добро пожаловать, товарищи, — произнёс старший лейтенант, прочитав документ. — Конечно, вы можете передвигаться свободно, куда пожелаете. Вы ищете Янтарную комнату? Я слышал о ней. В армейской газете было написано, что её украли фашисты. Но собаки украли не всё, правда, товарищи? Мы ведь её вернем?
— Трудно сказать. — Вахтер взял документ, сложил его и убрал в карман. — Мы можем ехать дальше?
— Куда хотите, товарищи. — Старший лейтенант по-юношески рассмеялся. — Отсюда хоть до самой Сибири.
— Может, попозже, — сухо ответил Вахтер. — Мы были бы рады на своей старой машине доехать от Берлина до Ленинграда.
— Вам надо в Ленинград, товарищи? Это долгий путь.
— Мы добрались сюда от Ленинграда и теперь должны вернуться. Вернее сказать, нам надо в Пушкин.
— Тогда счастливого пути, товарищи. — Старший лейтенант пожал Яне и Вахтеру руки. Он обратил внимание на изношенное платье Яны. Люди с таким количеством печатей на бумаге должны выглядеть иначе. — А кто вам, собственно говоря, помогает?
— Например вы, товарищ старший лейтенант. — улыбнулась Яна. — Нам нужен бензин, машинное масло, хлеб, колбаса, масло, тушёнка, огурцы, лук.
— Копчёная осетрина и икра из Азовского моря…
— Было бы ток неплохо, товарищ.
— Я выпишу удостоверение, — сказал старший лейтенант, его лицо приняло серьёзный вид. — Предъявите его коменданту Заальфельда. Он выдаст вам продовольственные карточки, по которым вы можете покупать продукты или питаться в открытых гостиницах и ресторанах, если такие встретятся.
— Было бы практичнее питаться в воинских частях Красной Армии.
— Попробуйте, товарищи. — Старший лейтенант смущённо улыбнулся. — Вы прибыли с американской стороны и, наверное, избалованы, верно? У наших союзников еды в десять раз больше, чем у нас. — Он пожал плечами. — Но кашу или капусту вы получите. Побыстрее отвыкайт от своих привычек, товарищи. От жирной пищи человек быстро дегенерирует.
Они находились в пути две недели, спали в казармах или в полевых лагерях Красной Армии, питались с офицерами и рассказывали им о Янтарной комнате. В Берлине, в Главном управлении советской администрации, они получили новую одежду. После того как Вахтер выступил с лекцией о городе Пушкин, Екатерининском дворце и Янтарной комнате в офицерской столовой Карлсхорста, им предоставили другую трофейную машину марки «хорьх» — шикарный автомобиль с советскими военными номерами. В документе прибавилось ещё несколько печатей и красовались имена четырёх генералов и одного маршала Советского Союза. С таким снаряжением они продолжили путь в Пушкин.
Они ещё раз посетили Кёнигсберг, почти пустой, разрушенный город с разбомблённым портом и остовами затонувших кораблей, с сожжённым замком и руинами крепостных стен. Ещё раз Вахтер спустился в подвал «Кровавого суда», где рядом с Янтарной комнатой он пережил все бомбежки. На внешней стороне двери до сих пор висел портрет Гитлера, правда, его лицо и часть ниже пояса были разрезаны. В подвале остались стол, стулья и кровать, но матрац и постельное белье отсутствовали, а посуду со столовыми приборами и печку кто-то забрал. С января по апрель 1945 года в Кёнигсберге стоял страшный холод. Трудно было поверить, что прошло всего полгода с того январского дня, когда колонна машин под командованием капитана Лейзера покинула город.
Яна заехала в больницу. Здание было повреждено незначительно, на проходной у ворот сидел какой-то старик, незнакомые немецкие и советские медсёстры спешили по переходам, в коридоре ей встретились новые врачи, которые вопросительно смотрели на неё, и, наконец, она вошла в комнату Фриды. Здесь ничего не изменилось: тот же широкий письменный стол, столик для пишущей машинки вместе с самой машинкой, деревянные шкафы для документов, потёртости на линолеумном полу. Не было только Фриды. Вместо неё в том же широком, сделанном специально для Фриды кресле, сидела другая старшая сестра, а за пишущей машинкой трудилась худенькая, бледная девушка с лицом, как у мышки.
— Что вы хотите? — спросила старшая сестра, когда Яна вошла в комнату и молча осмотрелась.
— Ничего.
— Это что-то новенькое.
Девушка за пишущей машинкой подняла голову и смущённо улыбнулась.
— Где старшая сестра Фрида Вильгельми?
— Не знаю. Я знаю о ней только по подписям в документах. Когда я начала здесь работать, её уже не было. Где она? Понятия не имею.
— Когда вы начали здесь работать?
— С 15 апреля… через шесть дней после капитуляции Кёнигсберга.
— А доктор Панкратц?
— Второго апреля погиб при бомбёжке.
— А про Фриду ничего неизвестно?
— Ничего. Я ничего не знаю. А вы кто?
— Я сидела вон там… — она показала на место за пишущей машинкой, — а потом... меня перевели.
— Очень жаль, — старшая сестра пожала плечами. — Тогда в Кёнигсберге пропала без вести куча народа, многих похоронили неопознанными. Советские войска непрерывно обстреливали город. Кто в это время оказывался на улице, становился безымянным трупом. Это был ад.
— Спасибо, — Яна кивнула старшей сестре. В горле пересохло и запершило. — Слава богу, всё закончилось.прошло.
Она вышла из кабинета Фриды, в вестибюле прислонилась к стене и заплакала. Никто не останавливался и не задавал вопросы. Все в Кёнигсберге имели причины для слёз — ведь Кёнигсберга больше не было.
Третьего августа, когда капитан Сильверман вылетел в Вашингтон, они добрались до Пушкина. Перед ними лежало широкое, обрамленное высокими деревьями крыльцо Екатерининского дворца. Разрушенные фасады, обвалившиеся крыши, разломанные стены.
— Боже мой, — прошептал Вахтер и молитвенно сложил руки. — Боже мой...
В единственном более-менее уцелевшем парадном зале разместилось подразделение Красной Армии для охраны Екатерининского дворца. Хотя было объявлено о том, что каждый, кто вынесет что-нибудь из дворца, будет расстрелян как мародер, мелкие и неприметные сокровища не были в безопасности. Серебряная ложка с чеканкой, ручной серебряный подсвечник, китайская фарфоровая тарелка, вазочка, ассирийское стекло, золотая табакерка… многие вещицы можно спрятать в карманах брюк или унести под шапкой.
После разрушения дворца и отступления из Пушкина немецких войск 15 января 1944 года жительницы города очистили дворец от обломков. Сапёры Красной Армии прочесали дворец и парки в поисках неразорвавшихся снарядов, спрятанных гранат и взрывчатки. Комиссия искусствоведов осмотрела дворцы бывшего Царского села и установила, что немцы основательно и со знанием дела их разграбили. Всё, что не переместили в безопасное место в Ленинград, исчезло или было разбито.
Лишь немногие вещи были повреждены незначительно и подлежали реставрации.
Но на это тогда не нашлось времени. Да и в 1945 году, после победы. Нужно было в первую очередь восстановить разрушенные города и деревни, поднять сельское хозяйство и промышленность, подсчитать, какие страна понесла потери, и вложить миллиарды рублей, чтобы сожжённая земля снова покрылась цветами. Искусство могло подождать. Голодный не получит удовольствия, рассматривая картины Рафаэля. Сначала надо построить жильё, а для дворцов достаточно того, что наступил долгожданный мир. Тем не менее, в Екатерининском дворце навели порядок, и по некоторым залам можно было пройти. Некоторые из них снова обставили спасённой мебелью. Женщин из Пушкина привлекали к наведению порядка, они заботились о том, чтобы чистота во дворце напоминала о прежнем его блеске, а зимние морозы ничего больше не уничтожили. Смотритель наблюдал за всем работами и сортировал обломки, которые можно ещё использовать при восстановлении дворца.
Вахтер и Яна долго смотрели на разрушенный фасад, сидя в машине, и молчали, потрясённые увиденным.
Война превратила Европу в руины, культурные ценности многих веков были уничтожены снарядами и бомбами, сожжены или преднамеренно взорваны — но служило ли это утешением для Вахтера? Здесь был его Екатерининский дворец, его город Пушкин и когда-то — его Янтарная комната. Почти двести тридцать лет прожили Вахтеры в этих местах, здесь они рождались и умирали. Цари и царицы приходили и уходили, их души возносились под звон колоколов и песнопения священников и монахов, а некоторые погибли от чужой руки. Распутин, удивительный монах, проводил в Царском селе свои пьяные оргии и любовные пирушки, и даже два раза сидел в Янтарной комнате перед цесаревичем и прикосновением руки останавливал приступ кровотечения у маленького Алексея.
Бывал во дворце и Троцкий, Потрясенный Ленин назвал Янтарную комнату святыней русского народа. Сталин сидел на стуле посреди комнаты и терпеливо, вопреки привычке, слушал рассказ Вахтера о Янтарном кабинете, прежде всего об оргиях Екатерины Великой, которая запиралась здесь с любовниками, чтобы в блеске «солнечного камня» получать особенное наслаждение. Вахтер всегда был на месте, всегда пользовался доверием, и даже Распутин осенил крестом Георгия Людвиговича Вахтеровского, после чего тот никогда не болел и в возрасте мирно скончался во сне в возрасте ста одного года.
Разве не имел право Вахтер уронить слезу, глядя на развалины дворца?
Так и сидели они молча в машине. Яна положила руку на плечо Вахтера и дала ему время успокоиться. От крыльца с колоннами к ним медленно направился майор. Его фуражка была сдвинута на затылок, китель расстёгнут, ворот рубашки открыт. Сюда редко приезжали проверяющие, а если в Екатерининский дворец заглядывал кто-то из высокого командования, то об этом сообщали заранее, можно было успеть привести себя в порядок. День выдался жарким. В августе в Ленинграде можно сгореть, а летом 1945 — особенно. Майор посмотрел на огромный «хорьх», на армейские номера и на сидевших в машине двух гражданских: пожилого мужчину и красивую женщину с высокими скулами и слегка раскосыми глазами. Он сдвинул фуражку на лоб, чтобы выглядеть официальнее, и подошёл к опущенному стеклу дверцы.
— У товарищей есть вопросы? — спросил он и с интересом посмотрел на Яну.
Вахтер кивнул, открыл дверцу и вышел. Яна сделала то же самое с другой стороны. Вахтер глубо вдохнул и с выдохом освободился от потрясения.
— Я уже бывал во дворце, — сказал он. — Могу я его осмотреть?
— Вы его видели? Вы расстроитесь.
— Я уже расстроился, товарищ майор.
— Я не видел этот дворец, пока сюда не приехал. Но многие посетители вспоминают, каким он был, и очень расстроены увиденным. Что вы хотите увидеть? Не всё ещё доступно для осмотра. В некоторых местах сохранилась опасность обрушения. Здесь почти ничего не осталось. В основном все ценности в Ленинграде, их вернут, когда восстановят дворец.
— Я знаю. — Вахтер посмотрел на ту часть здания, которую он знал лучше всего. — Мне хотелось бы посмотреть Янтарную комнату.
— Её нет, товарищ. Украли фашисты! Говорят, это был самый красивый зал.
— Нет ничего прекраснее. Настоящее чудо. Небо, солнце, вся красота мира, море света из янтаря. Люди, товарищ майор, которые оказывались в ее стенах, молитвенно складывали руки в благоговении. — Вахтер глубоко вздохнул. — Я хотел бы её увидеть… её голые стены.
— Спросите у смотрителя.
Вахтер вздрогнул, как от укола. Яна тоже была расстроена и поняла причину растерянности Вахтера. Она подошла к нему и обняла за плечи.
— У смотрителя? — переспросил Вахтер. — Здесь снова есть смотритель?
— Назначен центральным отделом управления дворцами. — Майор заметил на лице посетителя растерянность и с улыбкой махнул рукой: — Это хороший, приятный человек, товарищ. Он не откажет вам в осмотре пустой комнаты. Он уже навёл порядок во дворце. Бригаду штукатуров и каменщиков держит под постоянным контролем. Без него, — поморщился майор, — здесь всё было бы, как год назад.
— Пойдём, дочка. — Вахтер снова посмотрел на окна бывшей Янтарной комнаты. Стёкла и рамы заменили, так что комнату заливал солнечный свет. Вахтеру показалось, что новый смотритель тоже любит Янтарную комнату и обустраивает её в первую очередь. Когда они вошли во дворец, и майор остался позади, Вахтер сказал Яне:
— Не будем говорить новому смотрителю, кто мы такие, Яночка. Пусть он рассказывает нам о Янтарной комнате, а когда закончит, я ему скажу: «Товарищ, вы говорите неправду и забыли то-то и то-то. Раньше здесь работал Михаил Вахтер и знал значительно больше… Вот будет смеху».
— И после этого вы признаетесь, кто вы такой?
— Нет, Яночка. Сначала мы доберемся до Ленинграда и поищем людей, которые что-нибудь знают о Николае. Возможно, кто-нибудь покажет его могилу, и мы положим на нее цветы.
— Думаете, он всё-таки погиб?
— Последние новости пришли семь месяцев назад. Друзья Сильвии сообщили из Ленинграда. Правда ли это? Почему оттуда не было больше ни звука? Я уже примирился с судьбой и с тем, что остался последним из Вахтеров. — Он посмотрел на часть сохранившейся широкой лестницы, ведущей в Янтарную комнату. — Теперь настало время попрощаться после двухсот тридцати лет верной службы. — Он глубоко вздохнул, чтобы придать твёрдости голосу. — Как думаешь, новый смотритель живет в нашей квартире? Могу ли я его попросить показать её?
— Мы его об этом спросим. Конечно же, он вас поймёт. Но тогда вы должны ему признаться. Что делать чужому человеку в комнате смотрителя?
— Ты как всегда права, Яночка. Надо подумать, хорошенько подумать.
Они медленно поднялись по широкой лестнице, как будто хотели проститься с каждой ступенькой. Затем остановились перед главной дверью Янтарной комнаты, которую доктор Финдлинг в 1941 году посчитал недостающей и приказал снять. Теперь вместо неё висела простая дощатая дверь со старой щеколдой и без замка. Что здесь закрывать? Голые стены? Что можно украсть из пустой комнаты?
Несмотря на это, Вахтер с явным почтением надавил на щеколду и открыл дверь. Яна пропустила его вперед, а сама задержалась на секунду у порога, едва дыша от волнения.
Вахтер остановился посреди комнаты, руки за спину, как делал десятки лет один или с группой посетителей. Он стоял так, будто на стенах блестела янтарная мозаика, как будто сверкали цоколи и панели, гирлянды и резные головы, ангелы и маски, венецианские зеркала и картины в рамах.
Ценный наборный паркет из различных пород дерева со вставками из перламутра, возможно, самый красивый пол в мире, в основном сохранился, за исключением нескольких повреждённых мест. Новый смотритель или кто-то другой посыпал пол свежими древесными опилками. Носком ботинка Вахтер очистил маленький участок и был счастлив снова увидеть этот пол под своими ногами. Потолочные фрески также остались на месте и не имели следов повреждений. Он сразу заметил, что они были заботливо вымыты и очищены от пыли. Отсутствовали лишь панели, исчезнувшие двадцать ящиков с янтарным чудом. Он, Михаил Вахтер, мог бы снова здесь стоять и на русском либо на немецком объявить: «Дорогие товарищи! Уважаемые дамы и господа! То, что вы здесь видите, вы больше не увидите нигде в мире: Янтарная комната… пойманное золото солнца...»
Нет, он никогда этого не произнесет. Янтарную комнату украли, а новый смотритель забрал наследие Вахтеров. Всё закончилось: и прошлое, и история. В этот миг Вахтер понял, что он стал стариком. Человеком из прошлого.
Ему осталось только одно — поиски Янтарной комнаты.
Он медленно развернулся, закрыл глаза и мысленно представил настенные панели, как они висели здесь двести тридцать лет. Он даже увидел щель, которую сделал Фёдор Фёдорович, его прадед и первый смотритель Янтарной комнаты, когда 25 января 1725 года выломал из панели головку ангела, чтобы она вместе с Петром Великим отправилась в вечность.
И тут у Яны перехватило дыхание. Она не слышала шагов на лестнице и не заметила, как распахнулась дверь и кто-то вошёл. Она ошеломленно прислонилась к стене, царапая ногтями крошащуюся штукатурку. В дверях прозвучал возглас. Громкий, разрывающий сердце возглас, от которого в её жилах застыла кровь.
— Отец! Отец! О Боже — отец!
Вахтер замер и покачнулся. Стоящий в дверях человек устремился к нему, обхватил, прижал, крепко обнял, зарылся лицом в шею и опять воскликнул:
— Отец! Отец!
И за этим возгласом наконец последовал дрожащий крик старика:
— Николай! Колька! Колька! Сынок… Сынок…
Вахтер обмяк, но руки сына его удержали, он плакал, плакал, опустившись на колени, молитвенно сложил руки и воздел их к небу, слёзы катились по его лицу, текли по дрожащим губам, он хотел что-нибудь сказать, назвать сына по имени или поблагодарить Господа. Он смотрел на сына, на его повзрослевшее лицо, на короткую бороду, на белокурые волосы и голубые глаза, доставшиеся ему от матери. Его сын, его жив, не в могиле, он видит его, чувствует его руки, его дыхание. Они стояли друг перед другом на коленях на посыпанном опилками полу, крепко обнявшись, и обнимались, не находя других слов, кроме как «сынок» и «отец»…
Они всё стояли на коленях, когда Николай дрожащим голосом спросил:
— Отец, что с Яной? Ты что-нибудь слышал о ней?
Только сейчас Вахтер вспомнил, что Яна стоит за открытой дверной створкой, поднял руку и молча показал через плечо Николая. В это мгновение она оттолкнулась от стены и воскликнула дрожащим голосом:
— Николай, любимый, моя душа!
Она подбежала к нему, раскрыв объятья, и упала ему на грудь.
— Вот теперь окончательно наступил мир, — произнёс Вахтер и снова почувствовал силу в голосе. Он погладил Яну и Николая по головам, удивляясь, что его сердце ещё не взорвалось. — Теперь мы снова вместе.
— Давайте выпьем. — Николай обнял Яну и отца. — Я нашёл в подвале двадцать бутылок вина. Представьте себе. Ты будешь доволен, папа. Там стол и стулья, и твой любимый диван. Всё как прежде, если не смотреть в окно.
Вахтер во второй раз положил голову на плечо сына.
— Ты… ты теперь новый смотритель? — хрипло спросил он.
— Само собой разумеется, отец. Комната принадлежит Вахтерам! Разве может быть по-другому? Я вернулся сразу после освобождения Пушкина. Навёл порядок и везде спрашивал о вас. Все сообщали, что вы считаетесь пропавшими без вести. Но я всё же надеялся…
— Мой смелый сыночек… — Вахтер сжал губы, чтобы снова не дать волю слезам. Потом он сказал, как бы упрекая самого себя: — Я потерял Янтарную комнату. Я был с ней, пока не начался воздушный налёт. Он нас разделил, и где она сейчас, я не знаю.
— Его тогда ранило в плечо, Коля. Я доставила Михаила Игоревича в лазарет, иначе он бы умер. — Яна посмотрела на Николая, ожидая его мнения. — Может, мне надо было остаться с комнатой? Жизнь Михаила Игоревича была для меня дороже. Это моя вина.
— Ты всё сделала правильно, Яночка.
— А эти стены, — Вахтер сделал широкий жест рукой, — останутся голыми! Но есть один след, лишь один след, сыночек…
— Мы всё соберём, отец. Мы найдём Янтарную комнату. Пойдёмте, выпьем… У меня в горле пересохло. Мы выплакали всю воду.
Обнявшись за плечи, они пошли во флигель смотрителя. Здесь всё было по-прежнему: перед диваном стояла табуретка, на которую клал свои усталые ноги Вахтер, когда возвращался после обхода дворца.
— Дома, — сказал он, снял пиджак, сел на диван, вытянул ноги и положил их на табуретку. — Дети, я дома. Сейчас бы мне мою трубочку…
— Она тоже здесь. — Николай засмеялся, достал из шкафа старую изогнутую трубку и протянул её Вахтеру. — Только табак, папа, стал крепче.
Летний вечер в Пушкине… солнце, как красный шар, погрузилось в парк.
***
Самые лучшие планы может поменять случай.
Нельзя вытянуть из моря полную сеть рыбы, если там нет косяка; нельзя ласкать любимую женщину, если она этого не хочет; нельзя построить дом, если нет участка, на котором он должен стоять, нельзя искать в Германии Янтарную комнату, прочёсывая страну вдоль и поперёк, если государственные учреждения заняты другими, более важными делами.
В Москве создали специальную комиссию по возвращению разграбленных культурных ценностей, её филиал располагался в Ленинграде, была собрана гора документов, но она мало что делала в разрушенной стране, которую необходимо восстановить. Немцы были побеждены, они голодали, расчищали руины городов, но учреждения работали, в страну возвращалась воля к жизни. Была основана Демократическая партия, появились такие имена, как Аденауэр, Шумахер, Хундхаммер и Хойс, жизнь снова возвращалась в разрушенную Германию... Тогда как у одного из победителей, России, остались чудовищные раны, нанесённые разрушительной войной, и они не могли затянуться так быстро. Материальные и людские потери, только убитых свыше двенадцати миллионов человек, были слишком велики, а страна оказалась в изоляции, поскольку вчерашние боевые друзья стали политическими врагами.
Две общественные системы — социализм и капитализм — снова столкнулись друг с другом. Союзники в войне с гитлеровской Германией — да, но никакого совместного сосуществования с коммунизмом. Между Востоком и Западом опустился занавес, железный занавес, и Россия осталась одна на своей выжженной земле.
Михаил Вахтер, Николай и Яна ездили в Ленинград, их встретили, как героев. Бесчисленные рукопожатия с директорами музеев, депутатами городского Совета и партийными работниками, про Вахтера написали в газете, поместив его фотографию и цитату: «Я никогда не прекращу поиски Янтарной комнаты!» Однако так же быстро, как ветер сдувает пыль, о Вахтере и его короткой славе забыли.
В ленинградском отделении спецкомиссии внимательно выслушали рассказ Вахтера, составили протокол и нарисовали на карте Германии предположительный путь Янтарной комнаты: от Кёнигсберга до Берлина, от Берлина до замка Райнхардбрунн, от замка до шахты «Кайзерода» возле Меркерса в Тюрингии, от Меркерса, возможно, на Франкфурт, а дальше, около Альсфельда, след теряется. Имя Фреда Сильвермана было подчёркнуто красным карандашом, как самого важного свидетеля.
— Всё это очень интересно, товарищ Вахтеровский, — сказал председатель специальной комиссии после долгой беседы и составления маршрута.
Искусствоведа звали Павел Леонидович Агаев, он постоянно испытывал чувство голода, а пожелтевшие глазные яблоки указывали на плохое состояние его печени. Когда он произносил предложение, содержащее больше десяти слов, у него начинался кашель.
— Мы должны всё проверить. Но пока что…
— Есть какие-то трудности? — озадаченно спросил Вахтер.
— Да, дорогой Михаил Игоревич. Мы вместе выиграли войну, но с последним выстрелом дружба закончилась. — В его голосе прозвучало огорчение, и он снова закашлялся.
— Необходимо связаться с капитаном Сильверманом, — сказал Николай.
Агаев устало посмотрел на него.
— Это невозможно. Я же сказал… Дружба с американцами закончилась. Ждать от них помощи? Это утопия! Участие в поисках Янтарной комнаты? Скорее можно заставить Лену течь в Монголию! Если художественные ценности оказались в руках американской армии, они этого не выдадут ни единым словом, ни звуком. Кто отдаст такое сокровище?
— Комната принадлежит русскому народу. Уже двести тридцать лет, товарищ Агаев, — воскликнула Яна.
— Даже если бы она принадлежала скифам за восемьсот лет до рождества Христова… теперь она у американцев. — Агаев посмотрел на Вахтера и постучал по объёмистому протоколу. — Если всё, что вы рассказали, Михаил Игоревич, верно.
— Это можно проверить, Павел Леонидович.
— Как раз нет. — Агаев показал большим пальцем на шкаф с документами за своей спиной. — Всё это — следы художественных ценностей. Гора предположений. И лишь небольшой холмик фактов. Но даже с этой кротовой кучкой мы не можем ничего сделать. Она на Западе!
— Тюрингия и Саксония находятся в советской зоне оккупации. — Николай указал на карту Германии. — Мы могли бы здесь что-нибудь разузнать.
— Товарищ, — Агаев уронил голову на ладони, — это значит проверить сотни населённых пунктов, замков, складов и шахт. Откопать сотни засыпанных подвалов, взорванных штолен, расчистить подземные туннели, опросить тысячи людей, взорвать стены бункеров метровой толщины — на это у нас нет ни времени, ни денег.
— Нет времени на Янтарную комнату? — Вахтер недоверчиво посмотрел на Агаева. — Я не ослышался?
— Товарищи, — измученно воскликнул Агаев, — вы думаете только о Янтарной комнате! Вспомните, что мы лишь четыре месяца назад выиграли войну и сейчас находимся в очень трудном положении. Даже якобы голодающие немцы имеют больше еды, чем наши граждане. У нас кочан капусты стоит на вес золота, или как греческая скульптура, а пирожок с мясным фаршем — такая же роскошь, как боярская трапеза. — После длинного предложения он сильно закашлялся. — Уместно ли сейчас говорить о Янтарной комнате, товарищи?
Не было больше никакого смысла разговаривать с Агаевым. Вахтеры и Яна поняли это, пожали председателю комиссии руку и снова оказались на улице. Куда ни глянь, они видели то, о чём он говорил, этого нельзя было отрицать. Везде стояли длинные очереди, чтобы купить хоть что-нибудь. Всё равно что. Было счастьем хоть что-нибудь получить, потом это можно было поменятьна одежду или съестное. Лишь бы что-нибудь давали.
Стоял прекрасный день позднего лета. Они немного прогулялись вдоль Невы, постояли на берегу перед Зимнем дворцом и Эрмитажем, вернулись на площадь Декабристов и сели на постамент памятника.
— Мы должны попробовать сами, мои дорогие, — произнёс Вахтер после долгого молчаливого раздумья. — Мы с Яной. А ты, Николай, останешься в Пушкине.
— Ни в коем случае. Мы должны быть вместе. Только один вопрос, папа: кто это оплатит? Это не просто прогулка…
— Я знаю, — недовольно произнёс Вахтер. — Это может занять несколько месяцев.
— Если мы везде будем упираться в стены, то и годы! — реалистично сказала Яна. — Сначала надо найти Сильвермана, но где? В основе всех поисков лежит Сильверман. Он один знает больше, чем все остальные, кого можно было бы спросить.
— Он хотел уволиться и обещал сразу же сообщить об этом.
— Куда? — спросил Николай.
— Я дал ему адрес в Пушкине. Екатерининский дворец.
— И ты действительно веришь, что его письмо дойдёт?
— Почему бы нет? Когда-нибудь… рано или поздно. Сейчас же мир.
— Нет, папа, ты ошибаешься. — Николай поскрёб носком ботинка по мостовой. — В немцев больше стрелять не будут, вот и всё. Теперь будут хитростью, ложью, политическим ядом раскалывать мир на две части. Пока ещё будут улыбаться с кислой миной, изображать стройный хор победителей, чтобы не сразу всё изменилось. Но если подождать, то через два, три или десять лет всё изменится. И хуже всего будет для нас: мы немцы в России. Мы живём здесь, как русские, говорим по-русски, думаем по-русски, наши имена звучат по-русски, но мы остаёмся немцами.
— Наш предок Фридрих Теодор поклялся прусскому королю…
— Американцы проверят письмо Сильвермана, которое он напишет нам, это письмо подвергнут цензуре советские учреждения, прежде чем оно дойдёт до нас… если вообще дойдёт.
— Нет, ни одно письмо, адресованное мне, не проверялось, — попробовал возразить Вахтер. — Каждое письмо доходило.
— Это было до войны, отец. — Николай встал и помог подняться Яне. — А сейчас? Война изменила мир и людей… основательно изменила. От прежнего мира не осталось ничего. Всё выглядит по-другому.
Оказалось, что так оно и есть. Год заканчивался, а товарищ Агаев и его спецкомиссия молчали. Пару раз Вахтер писал туда письма, но ответа не получил. Когда установили телефонную связь, он три раза звонил туда. В трубке он всегда слышал низкий, ворчливый женский голос, который говорил: «Он в Москве!», или «Он в Киеве!», или «Его сейчас нет! Где он? А почему вы спрашиваете, товарищ?»
После этого дерзкого и грубого вопроса Вахтер не стал больше звонить. В Москву, в Центральную комиссию, он написал длинное письмо, но в ответ получил лишь молчание. Только из Управления музеями ему стало кое-что известно. За его службу в Екатерининском дворце и многолетнюю хорошую работу было решено назначить ему почётную пенсию в размере ста рублей ежемесячно, выделить свободную квартиру в Екатерининском дворце и наградить орденом «Заслуженный деятель искусств». Городской совет Пушкина передал ему награду. Смотрителем оставался Николай Михайлович Вахтеровский.
— Сто рублей — это же богатство! — сказал Вахтер, прочитав письмо. — Да еще квартира! Жить можно. Но этого мало, чтобы на свои деньги искать Янтарную комнату.
В 1946 году, в пасхальный четверг, Николай и Яна сочетались браком в капелле Екатерининского дворца по православному ритуалу. Совершенно старомодно, хотя Яна была молодой коммунисткой, но любовь к Николаю перевешивала идеологию. Она стояла перед иконостасом и перед священником в праздничном платье, пел хор из шести мужских голосов, а Вахтер держал над головой Яны маленькую корону, как полагается, и пока священник произносил свадебное благословение, он подумал: «Как бы я хотел пережить этот день в Янтарной комнате. Как Иоганн Фридрих Вахтер, смотритель комнаты при царе Александре II, который женился там на своей Софии. Мои дедушка и бабушка. Благослови вас Бог, дети… Это прекрасный и одновременно печальный день. Нам остались четыре пустых стены, и никто не слышит наши призывы». Он упустил голову, пока священник произносил благословение.
Рапорт, который капитан Сильверман направил в штаб-квартиру Дипломатической секретной службы вместе с просьбой об увольнении, был внимательно прочитан. Заявление об отставке отложили и подшили в папку с личным делом. Через полтора месяца ожидания генерал Аллан Уолкер позвал его в своё бюро, пожал руку, предложил сесть в кожаное кресло, сам сел напротив и положил ногу на ногу.
— Вы хотите сбежать, Фред? — прямо спросил он.
— Это не совсем верное выражение, сэр, — Сильверман выпрямился в кресле. — Я думаю, что выполнил своё задание и хотел бы вернуться к гражданской жизни.
— Вы могли бы это сделать и в рамках нашей служебной деятельности, например, в качестве советника одного из наших посольств. На востоке будут создаваться новые. Мы ещё участвуем в этом хороводе и делаем вид, будто ялтинские решения обязательны, но каждый знает, что скоро всё пойдёт по-другому. Фред, я мог бы вам предложить посольство Венгрии. А попозже на остриё копья — в посольство США в Москве. Вас это не прельщает?
— Нет, сэр.
— В Будапеште такие девочки… другой бы уже утром улетел.
— Я не другой, сэр. Я — это я. Я прошу не о чём-то невыполнимом. Речь идёт об увольнении.
— Вы офицер, Фред. Капитан… Ваше производство в майоры лежит у меня на столе.
— Спасибо, сэр.
— США находятся в сложном положении. Мы вместе с Россией выиграли войну, но не любим русских. Совершено не любим! Скоро грядут серьезные изменения в мировой политике. Гитлеровская Германия перестала существовать, отныне мировая политика будет зависеть от Вашингтона и Москвы. Вы отличный офицер, Фред и мы в вас нуждаемся. Американский офицер не покидает свою команду, когда отечество в нём нуждается. — Генерал Уолкер посмотрел на Сильвермана испытывающим взглядом серых глаз. — Америка ведь стала для вас отечеством, не так ли?
Спина Сильвермана стала ещё прямее.
— Я не понимаю вопроса, сэр.
— Вы ведь немецкий еврей, Фред.
— С 1934 года я гражданин США, сэр.
— По паспорту. А в душе?
— Я воевал против Германии.
— Против нацистской Германии, которой больше нет.
— Почти вся моя семья погибла в концлагере.
— Это ужасное, незабываемое, неискупимое прошлое, Фред, а как вы видите своё будущее? — Уолкер наклонился к Сильверману. — Давайте поговорим, как два хороших друга. Что вы намереваетесь делать, когда покинете УСС и станете гражданским?
— Вернусь в Германию.
— Ага, всё же так. Как Фридрих Зильберман. — Уолкер откинулся на спинку кресла. — Как мне докладывают, вы хотите заняться активными поисками исчезнувшей Янтарной комнаты.
— Не только этим, сэр. Я хотел бы найти как много больше художественных ценностей, разграбленных нацистами, и вернуть их законным владельцам.
— Прежде всего русским.
— Так точно, сэр. Я знаю много мест, где нацисты прятали художественные ценности, и хочу проследить, куда эти сокровища делись после оккупации Германии.
— Эту информацию вы получили как сотрудник УСС и теперь хотите использовать её против США! — Уолкер повысил голос. — Вы не находите это подлым, Фред?! Воткнуть нож в спину?
— Значит ли это, что всё вывезенное американской армией теперь принадлежит США?
— Это решаете не вы и не я, решения принимают в другом месте. Вашей задачей было обнаружить места хранения, собрать сведения и передать командирам частей обнаруженные склады по списку. На этом ваша успешная деятельность закончилась. Разве вас не похвалил Эйзенхауэр, а Паттон и Брэдли и не пожали вам руку?
— Да. В Меркерсе, есть такой город в Тюрингии. Мы обнаружили там самое большое за всю историю войны хранилище сокровищ. Но где сейчас эти сокровища?
— Разве вас это касается, Фред?
— Там находились картины Рубенса, Караваджо, Тициана, Уччелло, Мазаччо, «Мужчина в золотом шлеме» Рембрандта, голова Нефертити… Куда всё это делось?
— Это говорит ваше немецкое сердце, Фридрих Зильберман, не так ли? — Уолкер поднял руку и энергично взмахнул, как будто Сильверман хотел возразить. — Итак, я должен вас уволить, чтобы вы стали нашим противником?
— Нет, сэр, я только хотел…
— К чёрту всё это, Фред. Я произведу вас в майоры, прижму присягой, как американского офицера, и этого достаточно! Мы отправим вас атташе по культуре в посольство Новой Зеландии. Там вы никому не причините вреда и можете изучать культуру маори.
— Сэр…
— Это моё последнее слово, майор Сильверман. — Уолкер резко встал, Сильверман последовал за ним и вытянулся. — Отметьтесь в Министерстве иностранных дел. Там уже в курсе. Ваш перевод в Веллингтон в Новой Зеландии состоится на следующей неделе. Всего хорошего, Фред. Надеюсь, вы станете всемирно известным исследователем маори.
Уолкер кивнул. Сильверману оставались лишь отступление и нестройные мысли: «Они не имеют права так со мной поступить. Я не смогу раскрыть разграбление художественных ценностей. Должен быть какой-то выход, и я его найду!»
На следующий день он написал письмо Михаилу Вахтеру и отправил по адресу: Екатерининский дворец, Ленинградская область, город Пушкин, СССР.
Письмо так и не дошло.
Лена не течёт в Монголию.
В 1956 году Михаилу Вахтеру исполнилось семьдесят лет. В Екатерининском дворце и в Пушкине устроили грандиозный праздник. Михаил Игоревич, или как его метко окрестили журналисты — «душа дворца Царского села», опять стал темой дня для газет. Они описали его жизнь и жизнь его предков, поместили фотографии, на которых председатель ленинградского городского совета повесил ему на шею цветочную гирлянду, как это делают в южной части Тихого океана, и прикрепили к пиджаку медаль. А представитель Министерства культуры Агаев с желтым лицом произнёс короткую хвалебную речь, которую, покашливая, закончил словами:
— Верность для него — не только мерило, но и опора, из которой он черпал силы, даже когда не сумел достичь своей цели и вернуть Янтарную комнату в Пушкин.
Вахтер воспринял это предложение, как наглость. Николой и Яна с трудом уговорили его не возражать.
— Товарищ Агаев сам сожалеет. Если бы его ведомство выделяло столько же денег на Янтарную комнату, сколько платят бесполезным чиновникам, мы бы уже давно стояли перед этим чудом.
Он ничего не сказал, продолжил праздновать, позволил себя целовать, тряс бесчисленные руки и потом вернулся в Пушкин, где уже был готов большой праздничный ужин.
В течение прошедших одиннадцати лет мира произошли более или менее значительные события, в зависимости от того, с какой стороны на них смотреть и из какого государства. Горожане всё ещё стояли в очередях в магазины. Колхозы и совхозы выполняли плановые задания, но общий уровень жизни не рос, чего многие не понимали. Однако те, у кого было достаточно денег, знали парочку лазеек и откупоривали тайные источники, где получали достаточно мяса, яиц, сала, крымского шампанского и вина, грузинского коньяка и, конечно, водки, напитка всех напитков. Так же как и муку, манную и другие крупы, лук, огурцы и грибы, квашеные, солёные, сушёные или консервированные фрукты…
Товарищи, что человеку ещё надо в этом мире, кроме как хорошо покушать, хорошо выпить и хорошо выспаться рядом с тёплым женским телом! Нам нужна роскошь капитализма? Французская мода или духи? Английский гольф? Или американский антрекот и Голливуд? Немецкий «мерседес» или отпуск на Мальорке? Поднимите ваши обкалы, друзья — через десять лет здесь всё будет выглядеть ещё лучше. Мы можем сделать миру самый большой подарок: время. Времени, товарищи, у нас достаточно…
Это была идея Николая — поставить праздничный стол в пустой Янтарной комнате. На голые, разграбленные стены натянули жёлтую ткань, свет от множества ламп сиял на потолочных росписях и освещал неповторимый паркетный пол. Михаил Вахтер сидел во главе стола, а рядом с ним — его внуки Пётр и Янина, дети Яны, которых она родила девять и семь лет тому назад. Она стала красивой, зрелой, восхитительной женщиной, в свои тридцать четыре года оставаясь стройной, с некоторыми округлостями там, где им положено быть, а когда она смеялась, откидываясь назад, её блузка, платье или пуловер обтягивали их. Все мужчины завидовали Николаю и открыто об этом говорили.
В этот вечер Вахтера ожидал сюрприз, когда после ужина к нему подошла высокая, темноволосая женщина лет тридцати и представилась Василисой Ивановной Яблонской.
— Я привезла вам из Москвы прекрасный подарок, — сказала она тёплым контральто.
— Прекрасно! — рассмеялся Вахтер и поднял бокал. — Добро пожаловать, Василиса Ивановна, но если вы заметили, то мне сегодня исполнилось семьдесят. Что привело вас ко мне?
— Хочу исполнить вашу мечту. — Она помолчала и торжественно добавила: — Я должна сообщить вам решение Центральной комиссии в Москве о том, что поиски Янтарной комнаты будут возобновлены. Я назначена руководителем специальной комиссии. Мы будем работать вместе, Михаил Игоревич.
Вахтер охнул от радости, и по баварской традиции разбил рюмку о стену.
Все гости рассмеялись и подумали: «Что, дедуля, водка уже в голову ударила?», после чего их бокалы тоже полетели в стену.
Не в Москве, а в конечном счёте в Пекине, далеко от арены событий, приземлился Фред Сильверман. Генерал Уолтер, который уже три года находился на пенсии, действительно отправил проблемного майора сначала в Новую Зеландию, где тот оказался совершенно не у дел. В соответствии с древней, но снова и снова подтверждающейся истиной, время стирает все следы и через десять или тридцать лет не останется сколь-либо ценных воспоминаний или большинство свидетелей умрёт. Таким образом, Сильверман сидел на другом конце света, и чтобы хоть как-то разнообразить его жизнь, позже его перевели в Пекин. Для искусствоведа это было потрясающим событием. Он совершенно позабыл о ценностях, спрятанных нацистами в немецких и австрийских соляных рудниках.
Так или иначе, но никто не выносил эти сведения на публику, богатая событиями история грабежа художественных ценностей замалчивалась. Лишь однажды просочилось полное горечи замечание бывшего руководителя Центрального сборного пункта коллекций Висбадена, господина Вальтера Фермера, в котором он сказал: «Мы не могли себе представить, что американцы готовы поступить с нами так же, как это делал Гитлер. Мы были готовы взять на ответственное хранение картины, бывшие собственностью других стран. Получилось по-другому, и эти картины заполнили пробелы в американских коллекциях».
Частные, неизвестные коллекции извлекали из этого пользу, и в сейфах коллекционеров или просто инвесторов скапливались сокровища. Так бесследно исчезли во время американской оккупации всемирно известные произведения искусства из Берлинских музеев, которые перевезли в соляной рудник Граслебен. Американские спецслужбы конфисковали списки почти всех складов с их точным расположением. Лишь спустя несколько лет удалось назвать ряд пропавших произведений. Исчезли «Сокровища Приама», золотой саркофаг из египетской коллекции, восемьдесят скульптур из драгоценных камней индийской коллекции, тридцать четыре ящика восточноазиатского искусства, пятьдесят ящиков с другими скульптурами, триста тридцать античных ваз, знаменитая картина Менцеля «Концерт в Сан-Суси» и удивительный «Мальчик из Наксоса», высшее проявление греческой красоты и гармонии.
Эти сокровища и ещё многие не были вывезены русскими в качестве трофеев, как об этом громко заявляли, а исчезли на Западе во время американской оккупации.
За несколько лет после войны происходили странные вещи: немецкие служащие и руководители отделов берлинских музеев, которые пережили конец гитлеровского рейха, принялись за дело и начали искать ценности, отбывшие последним транспортом из Берлина шестого и седьмого апреля 1945 года в Граслебен и Меркерс. И тут произошли странные события.
Руководитель античного отделения был доставлен в клинику с безвредным геморроем, прооперирован, рана хорошо зажила и он чувствовал себя здоровым и крепким. В день выписки он неожиданно умер. Диагноз: рак слепой кишки.
Через четыре дня руководитель отделения скульптуры, который переживал больше всего, проглотил смертельную дозу цианистого калия, после того как составил список пропавших экспонатов. Список нигде не нашли, только мёртвое тело.
За своим письменным столом был найден застреленным руководитель музея этнографии. Этот случай признали самоубийством, как и отравление цианистым калием. Но из-за чего самоубийство? Для этого не было ни малейшей причины.
Летом 1945 года внезапно умер реставратор картиной галереи. Сообщили, от инфаркта. Но никто не припоминал, чтобы он жаловался на сердце. Он был вполне здоров.
Бесследно исчез другой реставратор из Национальной галереи, который седьмого апреля составил точный инвентарный список эвакуированных картин.
И человек, составивший этот список странностей и загадок, больше никогда не говорил об этом. Друзья шептали, что он очень боялся. Боялся, что его убьют.
А время и годы расширяли покрывало забвения над всеми предположениями и правдой.
Сильверман в далёком Пекине собрал обширный материал. Ему было теперь сорок четыре года, он работал советником посла, его ждала приятная старость. О Янтарной комнате он не вспоминал уже десять лет, она считалась пропавшей и потерянной, после того как ее увезли из шахты Меркерса. Про исчезновение трёх грузовиков с двадцатью ящиками и смерть бедного Ноя Ролингса, которые были позором американской транспортной службы, все основательно забыли. Всего лишь очередной инцидент на войне, подобных случаев было тысячи. К чему теперь громкие слова? Доклады Сильвермана покоились в сейфах УСС. Во время войны много чего пропало, многие города превратились в дымящиеся руины, кому какое дело до комнаты из янтаря? Это не предмет первой необходимости. Зато стоит посмотреть, что стало возможным после проигранной войны: немецкое экономическое чудо! Важно создать сильный блок против Востока.
Сильверман приспосабливался к новому мышлению, даже если это была маскировка. Янтарная комната больше не обсуждалась. После ухода на пенсию генерала Уолкера УСС возглавил новый руководитель, не имеющий представления о Сильвермане и не знающийисторию этого дипломата на далёком востоке.
В этой ситуации Сильверман увидел для себя хороший шанс. Сначала он отправил в Вашингтон справку врача посольства о состоянии своего здоровья. Доктор Гумберт Сайкононе, наполовину японец, провёл с Сильверманом много бесед, пока между ними не сложились доверительные отношения. Тогда Сильверман и рассказал ему про Янтарную комнату. Сайкононе, оставаясь в душе японцем, вспомнил о том, что американские войска после захвата японских островов растащили из храмов, могил и святынь всё самое ценное. Он пожал Сильверману руку и сказал:
— Я напишу, что вы больны, Фред, поддержу ваше заявление об увольнении и объясню послу, что человек вроде вас заслужил спокойствие и в последние годы жизни должен наслаждаться отдыхом во Флориде или на калифорнийском побережье.
— В таком случае вы должны сочинить мне чертовски коварную болезнь, Гумберт. — Сильверман задумчиво посмотрел на Сайкононе. — Если получится…
— Попробуем!
Доктор Сайкононе нашёл болезнь, которую вряд ли можно было поставить под сомнение, а звучало это так серьёзно, что полностью оправдывало увольнение Сильвермана на пенсию. Как говорилось в справке, Сильверман страдал от начинающего нефросклероза, сосудистого заболевание почек с вовлечением мелких сосудов. Этого должно быть достаточно.
И действительно. Сильвермана вызвали в Вашингтон, в Министерство иностранных дел, где его принял приветливый служащий, пожал руку, но не подавал вида, что сочувствует больному.
— Мы рассмотрели ваше заявление, мистер Сильверман, — сказал он. — Как вы себя чувствуете?
— Неважно. Очень часто тошнит. Это происходит совершенно неожиданно из-за почечной недостаточности— Сильверман хорошо выучил рекомендации Сайконена. — Иногда такое чувство, будто внутри что-то разрывается.
— Лучшей болезни не придумаешь, — попытался пошутить служащий. — Мы понимаем ваше положение. Вы готовы через месяц уйти в отставку?
— С удовольствием. Я хотел бы уехать в Монтеррей и играть там в гольф.
— Движения на свежем воздухе будут вам полезны. — Это звучало одобрительно, но Сильверман понимал, что думает про него этот человек: «Бедный парень. Хочет играть в гольф и не знает, что скоро умрёт от отказа почек». — Мы всё подготовим, мистер Сильверман.
Уже через три недели в отель, где остановился Сильверман, пришло сообщение, что он с почётом уволен из дипломатической службы и разведслужбы. Он получил большой, красивый документ, рукопожатие государственного секретаря и немалую пенсию. Теперь он перестал быть американским госслужащим, бывшим майором УСС, больше никаких «особых случаев», как при генерале Уолкере. Теперь он был совершенно свободен в своих действиях, мог путешествовать по всему свету и, естественно, играть в гольф в Монтеррее, к югу от Сан-Франциско.
Из Вашингтона он позвонил доктору Сайконену в Пекин.
— Гумберт, я перед вами в вечном долгу. Вот уже девять часов, как я стал просто Фредом Сильверманом, пенсионером.
— Поздравляю, Фред! — ответил Сайконен. — Чем теперь займётесь?
— Продам фирму отца, соберу все деньги и поеду в Германию. Но прежде хочу задать вам один вопрос, для успокоения совести: у меня ведь нет почечной недостаточности?
— У вас почки, как у школьника, — рассмеялся Сайконен. — Если бы всё зависело от почек, то вы проживёте сто лет. Всего хорошего в холодной Германии!
— Спасибо, Гумберт! Возможно, эти сто лет мне и понадобятся.
Сильверман положил трубку. «Это мой последний разговор с официальным американским учреждением, — подумал он. — Теперь надо раздобыть денег, купить билет до Франкфурта и стать другим человеком. Немецкий еврей возвращается в Германию, чтобы найти русскую Янтарную комнату. Он возвращается в страну, где истребили всю его семью. Это несколько абсурдно, но необходимо. Я единственный, кто знает больше других».
***
Дела с борделем, домом свиданий и эротическим шоу шли превосходно. Ларри Брукс и Джо Уильямс поднялись до уровня франфурктских заправил и взяли, на американский манер, под свой контроль все бордели.
Когда после валютно-финансовой реформы 1948 года у немцев снова стало достаточно денег, чтобы час или два провести с «затейницами», открылись новые секс-кафе, на чьих сценах проходили незапрещённые эротические шоу, в которых мог принять участие каждый посетитель в зале; как грибы вырастали частные клубы, где занимались обменом партнерами и групповым сексом — и все владельцы бежали за разрешением к Ларри и Джо. Если кто-нибудь без такого разрешения открывал бордель, к нему приходил Ларри, и дело улаживалось по большей части в течение десяти минут. Точно по образцу мафии Нью-Йорка, Чикаго, Нью-Орлеана и других городов заключались договора «защиты», и ежемесячно поступали деньги. Несколько отважных, которые не хотели подчиниться, самое позднее через полгода пришли к Ларри и Джо, подписались и платили — не каждому хочется постоянно ремонтировать кафе или залечивать ножевые ранения.
И всё же Ларри совершил глупость, пошатнувшую прекрасно организованный бордельный бизнес.
Агент по продаже недвижимости в 1955 году предложил ему купить виллу в Таунусе. Это было белое, похожее на замок здание с собственной конюшней, озером, лесом, полном дичи, и сданной в аренду крестьянской усадьбой. Идеальное владение, как раз по вкусу Ларри. Только цена в одиннадцать миллионов твёрдых немецких марок превосходила размер его банковского счета. Но он знал, как поступить, и через девять дней собрал необходимую сумму. Поместье в Таунусе можно было покупать.
Вечером на вилле Джо Уильямса Ларри неожиданно почувствовал себя некомфортно. Карлы, любовницы Джо, не было дома, что сразу бросилось Ларри в глаза. Джо тоже вёл себя странно, а открыв дверь, впустил Ларри в дом, не произнеся ни слова. Только у бара, после того как Ларри получил бокал с двойной порцией виски, Джо остановился перед ним, скрестил руки на груди и выдвинул подбородок.
— Ты читал газету? — спросил он.
— Какую? — переспросил Ларри и почувствовал мурашки в животе.
— «Франкфуртер альгемайне».
— Да.
— Там написано, что у одного торговца произведениями искусства появились три ценных предмета, до сих пор считавшиеся пропавшими, а когда вмешалась полиция, они уже были проданы неизвестному коллекционеру из Америки. Продавалась икона Новгородской школы, дароносица 1518 года и картина Тьеполо. — Голос Джо оставался спокойным и поэтому звучал особенно угрожающе. — Как я могу припомнить, эти ценности когда-то принадлежали Ларри Бруксу.
— Джо, я всё объясню…
— Еще как объяснишь.
— Я могу купить дом своей мечты. С озером, конюшней, лесами… в Таунусе, ты знаешь, где это. Там даже есть большая крестьянская усадьба.
— Цена? — коротко спросил Уильямс.
— Одиннадцать миллионов немецких марок.
— Ты ообьезумел, Ларри. Ты прокручиваешь…
— Мне не хватало только девятьсот тысяч марок. Каких-то девятьсот тысяч. Иначе это прекрасное владение досталось бы арабу. Я только…
— Ты только открыл сейф и вытащил несколько вещиц.
— Да, Джо.
— А спросить у меня ты не догадался.
— Нет. А ты бы дал мне девятьсот тысяч?
— Ни в коем случае.
— Вот видишь.
Ларри выпил второй бокал виски. Что-то во взгляде Джо было вселяло в него страх.
— Я-то вижу и даже прочитал. Если этот торговец откроет пасть…
— Он не выдаст, Джо…
— У каждого человека есть слабости… взгляни на себя, Ларри! Итак, если торговец запоёт, что тогда? След проложен, и собаки возьмут этот след. Искусствоведы, директора музеев, полиция, тайная полиция, ЦРУ… вся свора против нас.
— Я не называл своего имени. Они никогда не выйдут на нас, Джо.
— В жизни нет понятия никогда, Ларри. Как только они узнают, что «Вервольф» нас не убил, сразу возникнет вопрос про двадцать ящиков! Всё, всё было напрасно! Одиннадцать лет играть в прятки … и всё напрасно. Нас увезут в Штаты и там будут бить до тех пор, пока мы не выкрикнем, где Янтарная комната! И всё потому, что Ларри Брукс хотел пожить, как граф. В замке землевладельца…
— Ничего не случится, Джо, поверь! Ничего не случится, — почти жалобно выкрикнул Ларри. — Всё уйдёт в песок…
— Я не стал бы на это полагаться.
Уильямс оттолкнулся от бара о прошёлся по гостиной. Ларри следил за ним и каждым его движением. Внезапно Джо остановился перед ним. Ларри вздрогнул.
— Ты вспоминаешь о Ное? — спросил Джо.
— Изредка, — поморщился Ларри.
— Придется еще раз вспомнить.
— Нет, Джо, нет! — Ларри сделал шаг назад. — Я не убийца, и ты это знаешь. Мне потребовались годы, чтобы забыть глаза Ноя, когда он падал!
— Это наша единственная защита, Ларри. Возьмёшь немецкий пистолет и исправишь свою глупость. Свой замок ты тоже не купишь.
— Джо, я не идиот! И не твой дрессированный медведь! Я могу поступать, как хочу!
Это была слабая попытка протеста, которую Уильямс отверг простым кивком.
— Ты опять приведёшь всё в порядок, Ларри, — холодно произнёс он. — А я позабочусь о том, чтобы Янтарная комната отправилась в штаты…
— Хочешь переправить ее туда, Джо? Каким образом?
— Из Генуи кораблём.
— А как ты перевезёшь двадцать ящиков в Геную?
— С помощью денег, вложенных в правильные руки.
— Это же безумие — попытаться подкупить немецкого таможенника!
— Но не командира американского транспортного самолёта «Атлас». Взятка в порту Генуи — обычное дело.
— А дальше, Джо?
— Ларри, ты просто дубина! Естественно, ящики прибудут не в Нью-Йорк, Бостон или Балтимор. В Мексике они сойдут на землю, а потом переместятся через границу. Здесь тоже помогут доллары. — Джо снова прислонился к бару. — Но сначала на очереди ты, Ларри. Торговец должен исчезнуть.
— Я не смогу, Джо! — истерично закричал Ларри. — У меня не такие нервы, как у тебя.
— Очень жаль, Ларри! Но судьба свела нас, и мы провернули самое крупное дело всех времён. Мы зависим друг от друга… это судьба. Возьми себя в руки, Ларри. Тебе лишь тридцать пять, и впереди ещё, наверное, лет сорок. Сорок лет, Ларри!
В этот вечер Ларри напился так основательно, что не смог покинуть виллу Джо. Он даже не заметил, как тот отнёс его в постель.
Через два дня газеты Франкфурта сообщили:
«Торговец произведениями искусства М.Ш. был застрелен прошлой ночью в своём доме в Вестенде. Как сообщает полиция, у них нет никаких версий в отношении убийства или преступников. Ничего не было украдено, вследствие чего версию об убийстве с целью ограбления можно исключить. в результате вскрытия установлено, что преступник использовал старый пистолет вермахта, известный как Р08.
В информированных кругах говорят о том, что убийство торговца тесно связано с внезапно появившимися и перепроданными через него произведениями искусства, которые с конца войны считались пропавшими. Особая комиссия уголовной полиции ведёт расследование в этом направлении. Внезапно появившиеся произведения искусства, по словам экспертов, раньше хранились в Екатерининском дворце в Пушкине, под Ленинградом, который разграбили в 1941 году немецкие войска и спецотряды. В том числе там находилась знаменитая Янтарная комната, которая считается пропавшей по сегодняшний день.
— Это про нас! — сказал Уильямс, когда прочитал газету и швырнул её в лицо Ларри. Тот вжался в кресло и, казалось, готов был расплакаться. — О Янтарной комнате снова заговорили! Это плохо, Ларри, очень плохо! Надо забрать двадцать ящиков из пещеры и отправить в Геную! И всё потому, что Ларри Брукс, мальчишка из Слумса, захотел стать графом! С господским домом! С собственной конюшней! С собственным озером! Не вертись и не реви!
— Я убил человека, Джо. — Ларри закрыл лицо руками. — Второй раз убил человека… Я совсем выдохся.
— Как в прошлый раз. Тогда ты это переварил.
— Я так не думаю, Джо.
— А я знаю… Янтарная комната становится всё дороже. Теперь она стоит две человеческих жизни.
Это прозвучало так цинично и хладнокровно, что Ларри действительно обдало холодом от ужаса и страха.
В ноябре, в один из хмурых дней, который делал Геную ещё безобразнее обычного, в особенности порт, от пристани отчалил теплоход «Лукреция». Он шёл под ливанским флагом, командовал им греческий капитан, а команда представляла все национальности. В больших ящиках на теплоходе шли в Мексику сельскохозяйственные машины, среди них двадцать старых ящиков совсем не бросались в глаза. Эти ящики приняли на борт ночью, и капитан стал богаче примерно на пятьдесят тысяч долларов. За сумму в пятьдесят тысяч долларов вопросы не задают — Джо это знал и поэтому позволил себе эту щедрость.
За несколько дней до этого он поехал в Кёльн, чтобы замести следы, и заказал на железнодорожном почтамте телефонный разговор с Америкой, с Уайтсэндс. Трубку взял старый швейцар Уильям, поэтому Джо изменил голос и сказал, что у него важное дело к хозяину, который ждёт этот звонок. Услышав голос отца, он сказал:
— Привет, пап… это я.
— Кто это? — сухо спросил старый Уильямс.
— Джо, папа!
— Этого не может быть. Мой сын погиб в Германии в последние дни войны и похоронен на семейном кладбище в Уайтсэндс.
— Пап, ты же знаешь, что я жив. Согласен, я многие годы не давал о себе знать. Но я думал о тебе, как ты в свои семьдесят пять себя чувствуешь. Просто ещё не настало время появиться.
— Чего вы хотите? — довольно грубо спросил старый Уильямс. — Где вы находитесь?
— В Германии. Пап, как мама?
— Моя жена умерла семь месяцев назад.
— Мама… умерла? — Джо сглотнул. — От чего она умерла?
— Хоть это вас интересует, но вы мне незнакомы! Вы отнимаете у меня время.
— Пап! Но ведь это же моя мама…
— Её сын погиб одиннадцать лет тому назад, вы лгун! — выкрикнул старый Уильямс в трубку. — У неё нет больше сына. И как ни печально потерять ребёнка, она была уверена, что её сын погиб с честью. Как герой войны, а не как гангстер.
— И это говоришь мне ты, пап? Именно ты? Ты прожил такую долгую жизнь только потому, что был удачлив! Без этой удачи тебя бы уже давно поджарили на электрическом стуле! Чёрт возьми, я хочу вернуться домой.
— Оставайся там, где находишься! — голос старого Уильямса был твёрдым. — А иначе по дороге в Уайтсэндс может произойти авария.
— Пап! И ты сделал бы такое?
— Мой сын Джо погиб на войне — и пусть так и остается!
Старый Уильямс положил трубку. Джо некоторое время пристально смотрел на телефон, прежде чем повесить трубку, и пошёл к окошку, чтобы заплатить за разговор. «Вот значит как, — подумал он. — Меня больше нет. Тоже хорошо… Янтарную комнату можно поставить где угодно, Уайтсэндс для этого не нужен. Пока, пап! Это был наш последний разговор».
Перевозка двадцати ящиков из пещеры горы Тауфштайн прошла без происшествий. В одной из строительных фирм Аусфельда Ларри Брукс взял в аренду гусеничный экскаватор, подогнал его к пещере и уже через шесть часов взорванный вход был расчищен. Джо занимался грузовиком и взял на окраине Аусфельда в аренду старый склад. Затем они за четыре ходки перевезли Янтарную комнату, сдали экскаватор с грузовиком обратно и выждали две недели. Вход в пещеру они снова завалили мусором и представили в лесничество Фогельберга, где были немало этим удивлены, объяснение своих поисков и что ничего не нашли.
Несколько труднее было договорится с командиром транспортного самолёта «Атлас» на американской авиабазе во Франкфурте. Джо выложил на стол двадцать тысяч долларов, но капитан Хью Фортнер не согласился.
— Джо, я не занимаюсь грязными делишками.
— Это не грязное дело. Это моя частная собственность.
— Почему ты тогда хочешь вывезти её тайно?
— Из-за таможни, Хью. — Джо показал на доллары. — И чтобы не платить пошлину. В мой бордель у тебя всю жизнь будет свободный вход, и ты можешь бесплатно выбирать любую девочку. Свободная охота, парень!
Фортнер задумался. Он несколько раз заходил в бар и в дом свиданий Джо, там ему нравилось, к тому же у Джо были самые красивые девочки Франкфурта — это знал каждый, а двадцать тысяч наличными — не дождевые капельки в ладонях. Раз в неделю он летал на «Атласе» в Геную, чтобы забрать в порту снаряжение или доставить всё необходимое на американские корабли. Армейские транспортные самолёты или самолёты ВВС США могли пролетать свободно, без всякого контроля, охрана порта их знала, и двадцать ящиков вообще не составляли проблемы.
— Косяков не будет? — спросил он ещё раз.
— Обещаю тебе, Хью, — сказал радостно Джо. — Я должен привезти ящики на базу — вот и всё.
— Тогда я тебе помогу и отправлю грузовик.
— Два, Хью. Ящики очень большие. Два больших грузовика.
— Хорошо. Когда?
— За день до вылета. Ящики находятся в Альсфельде.
Всё прошло безупречно, по плану. Два больших грузовика ВВС США забрали двадцать ящиков, доставили на авиабазу и погрузили в самолёт Фортнера. Груз был промаркирован как «предметы мебели», и это не было обманом. Надписи «Управление по гидротехническому строительству Кёнигсберга» Джо закрасил. В тот же день, когда Фортнер вылетел в Геную, Ларри и Джо отправились в Италию.
Для присмотра за своим хозяйством они временно назначили управляющего, югослава, знакомого с положением дел во Франкфурте. Джо поговорил с ним очень коротко:
— Мы будем отсутствовать примерно полгода. Теперь слушай внимательно. Если я в тебе ошибся и ты думаешь, что сможешь нас обмануть, если по твоей вине что-нибудь пойдёт не так, твоя мама может шить для тебя саван! Ты всё понял?
— Ты говоришь достаточно ясно, — ответил югослав и кивнул. — Я не обману твое доверие.
— Так все говорят. Посмотрим!
Теперь «Лукреция» покачивалась на чёрных водах Генуэзского порта и на следующий день должна была отчалить. Двадцать ящиков спрятали среди других похожих — с запчастями и сельхозмашинами. Здесь их переименовали в третий раз. Теперь они назывались «Моторы и запчасти». Двадцать пять тысяч долларов оказались в сумке капитана, ещё такую же сумму он получит, когда груз окажется в Мексике.
— Большое дело мы провернули, — сказал Джо Ларри вечером. — Теперь Янтарной комнаты нет в Германии нет, теперь её никто не найдёт, хоть сто лет будет искать. Не оставили никаких следов. — Он внимательно посмотрел на Брукса. — Если ты снова не проявишь свою мягкотелость, Ларри.
На следующий день «Лукреция» вышла из Генуи в Средиземное море. Стоял промозглый, туманный ноябрьский день. Во второй половине дня Джо Уильямс вылетел в Рим, а оттуда в Мексику.
Лишь через три дня портовой буксир заметил в воде какой-то плавающий предмет, подошёл ближе и поднял его на борт. Это оказалось тело мужчины с маленькой дыркой во лбу. Неизвестный труп. Убийство, которое никогда не будет раскрыто. Ларри Брукса похоронили в Генуе, так и не опознав.
Третий убитый за Янтарную комнату.
Джо
Действующие лица:
Михаил Вахтер (Михаил Игоревич Вахтеровский), бывший смотритель Янтарной комнаты
Николаус Вахтер (Николай Михайлович Вахтеровский) его сын, новый смотритель Янтарной комнаты
Яна Петровна Вахтеровская, жена Николая
Фред Сильверман (Фридрих Зильберман), искусствовед
Джо Уильямс, американский бизнесмен
Василиса Ивановна Яблонская, советский искусствовед
...
Всё вышло так, как предсказал несколько лет назад генерал Уолкер: после возвращения в Германию американский майор Фред Сильверман стал Фридрихом Зильберманом, эмигрировавшим евреем, который надеялся, что вернулся в лучшую, очищенную Германию. Имеющихся у него долларов вполне хватало, чтобы вести независимый образ жизни. Несмотря на это, он, как искусствовед, направил заявление вместе с рекомендательным письмом в университет Вюрцбурга, и учёный совет после длительного совещаний принял его в альма-матер в качестве приват-доцента. У него было мало студентов и потому много времени, чтобы снова искать следы Янтарной комнаты.
Уже четырнадцать лет прошло после исчезновение трёх грузовиков по пути во Франкфурт, и среди искусствоведов установилось мнение о том, что Янтарная комната исчезла бесследно. Все прежние сведения и следы, полученные от любителей искусства, директоров музеев, государственных комиссий и спецслужб, прежде всего американских и российских, вели в никуда. Снова и снова поиски наталкивались на стену неизвестности и в очередной раз повторялась фраза: «Находилась ли в ящиках Янтарная комната — не знает никто. Уверенно можно лишь сказать, что большие ящики прибыли в январе 1943 года, а в апреле их снова увезли».
Были представлены отчёты из тридцати четырёх различных мест: шахт, дворцов, крепостей, подземных бункеров, пещер, даже из двух монастырей, но это были лишь промежуточные пункты огромных переплетений дорог, через которые проследовали ящики. Запросы направлялись даже в Швейцарию, и по этому поводу её правительство высказывало протесты. Особенно интенсивно проводились поиски в Австрии, после того как в Альтаусзе обнаружили один из самых больших нацистских складов награбленных художественных ценностей. Это не стало такой же сенсацией, как находки в Граслебене или Меркерсе, но вероятно, именно в Австрии была спрятана большая часть художественных ценностей, предназначенных для самого большого музея в Линце на Дунае. Ужасная мечта Гитлера.
Зильберман часто удивлялся фантазии искателей и эйфории, когда они думали, что нашли предполагаемый след. Эти сведения мало ему помогали, наоборот, даже становились чрезвычайно подозрительными.
Посещение штаб-квартиры во Франкфурте должно было бы его предостеречь.
Центральный сборный пункт художественных ценностей американских вооружённых сил давно упразднили. В различных служебных инстанциях, куда он обращался, на него смотрели непонимающе, высшие офицерские чины не могли ничего припомнить и принимали таинственный вид. Наконец, Зильберман оказался там, где и предполагал: в ЦРУ.
Бывшие коллеги были с ним дружелюбны, но в ответах на конкретные вопросы проявляли прямо-таки детское невежество. О Янтарной комнате они знали очень немного и только то, о чём писалось в газетах. Просмотр в архиве списков найденных ценностей оказался делом трудоёмким, многие документы исчезли, и один из высших чинов ЦРУ сказал Зильберману:
— Дорогой друг, зачем вы занимаетесь этими делами? Это ведь только вызывает раздражение. По мне, так пусть Янтарную комнату хоть на луну запустят, я не пролил бы по ней ни слезинки.
Через полтора месяца, в течение которых он копался в документах секретной службы, Зильберман наткнулся на копию списка из Меркерса. Какая удача! Наконец появилось доказательство, что Янтарная комната хранилась на шахте Кайзерода.
Однако уже после быстрого прочтения копии он опустил лист и протёр глаза.
— Этого не может быть, — сказал он озадаченно. — Это же мой список, с моей подписью. Ничего подобного не было.
В полном списке имелась только одна ошибка: не были указаны двадцать ящиков с Янтарной комнатой. Строки оказались затёртыми, вместо них внесли другое название.
— Вы уверены? — спросил полковник, когда Зильберман показал ему подделку. — Вы понимаете, в чем подозреваете ЦРУ? Вы, американский майор и дипломат?! У вас есть какое-либо доказательства этого обвинения?
— Оригинальные списки, сэр.
— Это и есть оригинальные списки! Других нет!
— Мой список!
— Это и есть ваш список. Внизу стоит ваша подпись.
— Со списком манипулировали!
— Вы должны доказать это заявление!
— Я найду доказательства, сэр! У меня есть беспристрастный свидетель: президент Эйзенхауэр. Тогда, в 1945 году, он был вместе с генералом Паттоном и генералом Брэдли на руднике Меркерс. Я докладывал ему о Янтарной комнате и приказал открыть один ящик. Он посмотрел на неё и потрясённо воскликнул: «Боже мой»
— Вы хотите назвать президента в качестве свидетеля? Вам действительно хватит дерзости призвать президента Соединённых Штатов в качестве свидетеля мнимого грабежа художественных ценностей? Мистер Зильберман, я начинаю стыдиться, что человек вроде вас когда-то был американским офицером. И ещё в УСС!
— Правда не зависит от людей и постов, сэр!
— Правда состоит в том, что вы дурной человек, порочащий своих. — Его собеседник побагровел. — Правда состоит в том, что вы никогда не станете американцем, а навсегда останетесь немецким евреем. И последняя правда в том, что меня тошнит от людей вроде вас. Всего хорошего!
Зильбермана не удивила такая реакция. Найденное после 1945 года и переданное законным владельцам составляло лишь малую часть того, что награбили нацисты. Куда делась большая часть художественных ценностей, оставалось загадкой, и все лишь пожимали плечами и отвечали коротко: «Ну, была же война! Хорошо, что не всё исчезло…»
Через четыре недели какой-то мотоциклист обнаружил на просёлочной дороге между Мюнхеном и Аммерзе истекающего кровью мужчину, о чём сразу сообщил в полицию. Скорая помощь доставила пострадавшего в ближайшую больницу, где его раздели и установили, что он получил шесть ножевых ранений в нижнюю часть живота. Уголовная полиция сразу начала расследование, но раненого не сразу удалось допросить. Он выжил чудом, и только на четвёртый день начал говорить.
— Меня зовут Фридрих Зильберман. Я американский гражданин, живу в Вюрцбурге. Ранения я нанёс себе сам, потому что хотел покончить с собой. Это всё, что я могу сказать… и хочу сказать.
А что еще ему сказать? Что в прихожей собственного дома на него набросили мешок и оттащили в машину. Что через несколько часов машина где-то остановилась, его выволокли, прислонили к дереву и какой-то голос сказал:
— Сегодня это только предупреждение, но оно должно подействовать. Ты знаешь, о чём мы тебя предупреждаем, Фред Сильверман.
После этих слов он получил шесть ударов ножом в живот. Когда он упал на землю, с него сняли мешок и, не включая фар, уехали. Он не смог запомнить ни номер машины, ни её марку, ни цвет. «Это были профи», — подумал он и потерял сознание.
Должен ли он это рассказывать? Протокол вскоре пылился бы в шкафу. Одним нераскрытым нападением больше, одним меньше.
Зильберман месяц провел в больнице.
Когда он вышел оттуда и сел в заказанное такси, то буквально затылком почувствовал, что кто-то за ним следит. Ему уже было знакомо это ощущение, но машину на хвосте он не видел.
Это были профи.
***
Оказалось, что Василиса Ивановна Яблонская не только располагает хорошими связями в Москве и Ленинграде, но и получила от советского Министерства культуры, а также от КГБ доверенность с широкими полномочиями, которая позволяла ей обращаться в любую инстанцию, будь то гражданскую или военную, для получения полной помощи.
Это пришлось кстати во время многочисленных поездо вместе с Михаилом Вахтером. До этого состоялась оживлённая дискуссия, поскольку Николай не хотел отпускать своего семидесятилетнего отца одного в эти утомительные поездки, и Яна серьёзно задумывалась над тем, не надо ли ей сопровождать свекра. Дети уже были достаточно самостоятельными, чтобы оставить их на некоторое время под присмотром пенсионера, бывшего учителя из Пушкина. Петру было девять лет, Янине — семь, они росли благоразумными и уже в юном возрасте были такими же красивыми, как их мать. Яблонская как-то раз высказала то, о чем Михаил Вахтер размышлял про себя и чем тихо гордился: «Пётр и Янина в старые времена были бы моделями Рафаэля и Тьеполо».
Николай и Яна хотели сопровождать старого Вахтера и наседали на него все три дня до запланированного отъезда из Пушкина:
— Папа, всё улажено. Николаю дают отпуск, дети остаются под присмотром Аркадия Трофимовича, старого учителя, во дворце всё хорошо.
— Ничего хорошего! — рассердился Вахтер. — Что же в этом хорошего? Что Вахтер покинет свой пост смотрителя Янтарной комнаты? Что мать отдаёт детей чужому человеку? Это и есть хорошо?
— Я должен пустой зал караулить, отец? — выкрикнул в ответ Николай. — Если бы комната была там, я не сдвинулся бы с места. И ты это знаешь! Как я могу отпустить тебя одного?
— Со мной будет Василиса Ивановна.
— И этого достаточно? А если ты заболеешь или поскользнёшься и сломаешь ногу, или ещё что-нибудь… Яна стала хорошей медсестрой. И не забывай о своем возрасте, папа.
— О возрасте? — указание на его преклонный возраст вызвало у Вахтера ужас. Он не считал себя стариком. У него не ныли суставы и кости. Его сердце билось так же ровно, как в сорок лет, сосуды не были закупорены, а мысли были ясными. Только левое плечо немного перекосилось после ранения из самолёта. Его злило то, что это были советские лётчики, как и то, что его, одного из Вахтеров, которые двести тридцать лет прожили в России, фактически обвинили в том, будто он упустил из виду Янтарную комнату. Но стариком, нуждающемся в уходе как за грудным ребёнком, он ни в коем случае не был.
— Вы смотрите на меня, как на старика? — возмутился он. — Вот увидите! Мне что, нужна собственная медсестра? Или сын, который будет меня везде таскать на плечах?
— Папа, это не так. — Яна попробовала мягко успокоить Вахтера. — Восемь глаз видят лучше, чем четыре, а восемь ушей слышат лучше, чем четыре…
— Каждый должен быть на своём месте, — строго произнёс Вахтер. — Я поеду на поиски один с Василисой Ивановной...
Когда они выехали из Пушкина в Ленинград, чтобы оттуда вылететь в Восточный Берлин, Яна осталась в Екатерининском дворце с детьми, а Николай поехал их провожать. Он попытался ещё раз убедить отца.
— Вахтеры принадлежат Янтарной комнате. Я Вахтер? Вне всякого сомнения. Где Янтарная комната? Пропала. Кто обязан её искать? Вахтер. Я повторяю: я — Вахтер? Что ты на это скажешь, отец?
— Ты такой же упрямый, как и я. — Вахтер стукнул сына в грудь кулаком, и так сильно, что Николай пошатнулся. — Хорошо, пусть так и будет. Хватит споров! Я доволен, что Яна осталась дома. Мы все знаем, какие трудности нас ожидают. К тому же это может быть опасно. Есть люди, которые знают, где Янтарная комнатой. Они всячески постараются нам помешать.
— Вот и хорошо, что я буду с тобой, — сказал Николай.
В Берлине они пробыли три дня, жили у советского коменданта города в гостевом доме Советской Армии в Карлсхорсте и изучали детальные планы, составленные в Москве, Яблонская занималась ими несколько лет. Следы Янтарной комнаты можно было обнаружить на трех важных направлениях: Граслебен, Меркерс и в Австрии, в районе Альтаусзе, Дахштайна, Хёленгебирге, но за одиннадцать лет и земля, и память поросли травой.
— Поищем в Тюрингии, — сказал Вахтер, просмотрев все карты, свидетельства, доклады и предположения. — Меркерс… она должна быть там. В руднике Кайзерода. Если бы только знать, где сейчас капитан Сильверман! Он говорил, что видел её. И лично составлял колонну на Франкфурт. На эту колонну якобы напал немецкий «вервольф» и похитил три грузовика с двадцатью ящиками. Двадцать ящиков… это точно Янтарная комната! Сильверман это тоже подтверждает. Дорогие мои, надо начать поиски с Меркерса. Зачем ехать в Австрию? Или в Граслебен? Все эти следы — ошибочные.
Из Берлина они выехали на поезде в Веймар, и здесь проявилась сила документов Василисы Ивановны. Они сразу получили у советского военного коменданта машину, но не с армейскими номерами и серо-коричневой раскраски, а неприметный частный автомобиль, об идеальном состоянии которого они узнали от работников заправки, когда Вахтер и Яблонская получали бесплатный бензин, предъявив советские удостоверения.
В Меркерсе мало чего изменилось. Солевой рудник работал в половину своей мощности, директор шахты Эберхард Мошик умер два года назад, а управляющий шахтой Йоханнес Платов, который в 1945 году сопровождал Эйзенхауэра, Паттона и Брадлея в гигантский соляной зал и показывал им сокровища, ничего не мог больше вспомнить. К тому же два года назад, когда он как-то вечером возвращался после встречи завсегдатаев в «Зелёном дереве», на него наехала машина и тут же скрылась. Он выжил, хотя получил перелом черепа, но стал инвалидом и больше ничего не помнил.
Новый управляющий шахтой оказался очень услужливым. Вместе со старшим мастером он проводил «комиссию», как представилась Яблонская, на глубину четыреста пятьдесят метров и показал им зал, в котором были спрятаны бесценные сокровища берлинских музеев, почти всё золото и Янтарная комната. Перед ними открылась давящая пустота, лишь рельсы узкоколейки пересекали огромный зал.
— Это здесь, — тихо произнёс Вахтер, так же тихо, как в тот раз и Эйзенхауэр, ошеломленный видом сокровищ.
— Всё забрали. — Старший мастер пожал плечами. — Мне было тогда пятнадцать, и отец рассказывал, что вермахт и СС вагонами доставляли в шахту ящики, коробки и мешки. Но клянусь, никто из нас не знал, что в них. Большинство вообще находилось в полном неведении. Никто даже не знал, что поблизости, строилась штаб-квартира Гитлера, а под Зальфельдом хотел спрятаться гауляйтер Кох. Мы видели, что под землёй что-то строят, но зачем — никто не спрашивал. Мы бы всё равно не получили ответа.
— А возможно такое, что в подземном бункере и ходах планируемой штаб-квартиры Гитлера спрятали двадцать ящиков?
— Почему нет? Там хватает места. Целый подземный город.
— У меня с собой все планы, — Яблонская похлопала по кожаной сумке на плече. — Я в любом случае хочу спуститься в этот ад.
Она сказала это по-русски, Николай перевёл, а молодой старший мастер покачал головой.
— Нет смысла, — сказал он. — Там тоже пусто. Если там что и было, то американцы всё забрали. — Он сделал широкий жест рукой, показывая соляной зал. — Они и отсюда всё забрали. Остались только пустые ящики, чемоданы и мешки.
— Это остаётся единственным важным следом, — сказал Вахтер, когда на следующий день они сидели в столовой вместе с директором шахты и старшим мастером и пили пильзенское пиво. — Отсюда двадцать ящиков из Кёнигсберга в составе американского конвоя отправили на запад. Три грузовика с двадцатью ящиками исчезли бесследно и были позже найдены пустыми.
— С одним убитым водителем. Чернокожим, — добавил директор шахты. — Когда я об этом вспоминаю, мой Бог, какая поднялась суматоха! Один водитель мёртв, двое пропали, груз украден, амеры, должно быть, половину армии направили на поиски. Здесь всё кишело танками, пехотой и орудиями. — Он посмотрел на Вахтера, который молча разглядывал свою пивную кружку. — Вы уверены, что в двадцати ящиках могла быть Янтарная комната?
— Она была в этих ящиках. — Вахтер сжал кружку. — Как найти на бывшего капитана Сильвермана? Мы должны его найти.
— В Америке его нет. — Яблонская полистала свои документы. — Мы в Москве всё пробовали — безрезультатно. Американское посольство вообще ничего толком не говорит, на все запросы Вашингтон отвечает «нет». Письма в УСС абсолютно бессмысленны, и неизвестно, доходят ли они, на них нет никакой реакции, а нас, возможно, внесли в список людей, за которыми нужно вести наблюдение. Этого Сильвермана окружили стеной молчания.
— Это доказывает, что она знает больше, чем другие. — Николай посмотрел на отца. Давайте подадим объявление. В «Нью-Йорк Таймс» — самую большую американскую газету.
— А если он живёт в Калифорнии или на Аляске? Тогда он, может быть, и не читает эту газету. Это дело случая.
— Генерал Случай уже выигрывал некоторые битвы, — сказала Яблонская. — Это дельный совет. Стоит попробовать дать объявление о розыске в «Нью-Йорк Таймс».
— И какой адрес мы укажем? — Вахтер допил свое пиво. — Пушкин? Туда не доходит ни одно письмо. Восточный Берлин? У меня нехорошее предчувствие. Надо указать западно-германский адрес.
— Может быть, Франкфурт? — Николай заметил, что отец кивнул. — Сильверман служил во Франкфурте в качестве офицера УСС. Если он прочитает объявление с франкфуртским адресом, то поймёт, кто его ищет.
Прежде чем отправить объявление в «Нью-Йорк Таймс», они объехали по плану Яблонской все места, где видели Янтарную комнату, а вернее, где видели большие ящики, которые перевозил вермахт, СС и даже воздушные силы.
Они посетили тридцать пять замков и крепостей, подземные штольни и монастыри, рудники и пещеры, ползали по подвалам и скалистым проходам, беседовали с бургомистрами, управляющими, аббатами, священниками и смотрителями замков. Всюду охотно подтверждали, что видели большие ящики, которые увезли в середине апреля. На немецких машинах и в неизвестном направлении.
— Данные соответствуют, — сказала Яблонская, снова сидящая за ворохом документов. Они сняли квартиру во Франкфурте, откуда выезжали в Граслебен и места находок в районе Гёттингена. В противоположность Тюрингии и Саксонии западно-германские органы власти оказались в высшей степени недружелюбными и даже агрессивными, прежде всего, когда Василиса Петровна предъявляла им советскую доверенность.
— Вот оно как! — сказали ей в городском совете. — Приходят русские и начинают вынюхивать! Про украденные художественные ценности! Какая дерзость! А что они сами украли? Половину Австрии! Кёнигсберг назвали Калининградом! Вы нам уже поперек горла стоите!
За полгода они обнаружили сотни следов, но ни одного верного.
— Если суммировать все данные, — сказала Яблонская, — то получается, что Янтарная комната побывала одновременно в сорока различных местах. Где же она была на самом деле?
— Это может знать только Сильверман. — Михаил Вахтер оторвался от лежащих перед ним листов. — Объявление в «Нью-Йорк Таймс» — действительно единственная возможность найти его.
Незадолго до Рождества в самой читаемой ежедневной американской газете появилось объявление:
«Мы просим Фреда Сильвермана, бывшего капитана американской армии в Германии, находившегося в районе Меркерса в 1945 году, сообщить о себе. Хотелось бы снова встретиться. Фред, сообщи о себе и напиши по следующему адресу…
Они не указали имён, а только улицу, номер дом и этаж. Объявление обошлось в немалую сумму, но счёт оплатило советское посольство в Роландзеке.
— Теперь нам остаётся только ждать, — сказал Николай.
Близилось Рождество. С тяжёлым сердцем он думал о том, что в этом году не сможет посидеть с детьми под рождественской ёлкой, украшенной на немецкий манер, и петь немецкие рождественские гимны, а также пропустит советский праздник с дедушкой Морозом. С грустью он думал и о Яне, с которой за эти полгода только два раза поговорил по телефону, ее письма, приходящие во Франкфурт, звучали радостно, но в них чувствовалась скрытая тоска. Снова и снова он озабоченно спрашивал себя: «Зачем всё это? Мы ведь никогда не найдём Янтарную комнату!»
У старого Вахтера было предчувствие, и оно придавало ему новые силы.
— Она ещё существует! — убежденно говорил. — Ее не уничтожили, просто где-то спрятали. А раз она существует, то есть надежда, что мы обнаружим верный след. Надо всегда говорить о ней, не упускать возможности побуждать людей, держать глаза открытыми и наблюдать, да, мои дорогие, людей, а не органы власти. От государственных учреждений нам нечего ждать. Для них мы только неудобные, раздражающие, дерзкие коммунисты, которым запрещено давать любую информацию, любые документы в архивах, любые записи прошлых лет. Мы одни, совсем одни… и надеяться можем только на случай, на намёк от людей, который укажет нам правильный путь. Поэтому нельзя успокаиваться, нужно кричать на всю страну: «Что вы знаете о Янтарной комнате? Что вы видели в 1945 году или сегодня? Скажите нам! Важна любая информация».
Наступило Рождество. Василиса Ивановна и Вахтеры встретили праздник в своей квартире с украшенной ёлочкой, с жареным гусем, красным вином, печеньем, рождественским кексом и пряниками. Для Яблонской это было первое немецкое Рождество. Ее воспитывали настоящей коммунисткой, в доме ее родителей никогда не отмечали Рождество: комсомольцы смеялись над этим христианским праздником и говорили, что рождение Ленина важнее, чем рождение Христа. Что он принёс? Только беспокойство, религиозные войны, безумную инквизицию и неповторимый капитализм. А Ленин создал государство, новую Россию, страну Советов, совершенно новое общество, скалу социализма в заражённом капитализмом мире.
Теперь Яблонская сидела перед ёлкой, на которой мерцали свечи, слушала по радио немецкие рождественские песни и чувствовала удивительное умиление, которое ощущают все, когда комнату наполняет тишина сочельника. Николай отправил Яне и детям в Пушкин длинное письмо. Для Петра он купил дистанционно управляемый кран, а для Янины — говорящую куклу с закрывающимися глазами. Дойдут ли эти подарки — можно было только надеяться. Посылка из Франкфурта до Ленинграда пройдёт через многие руки.
На второй день Рождества Василиса Ивановна, Николай и Михаил Вахтер вышли из квартиры. Им захотелось сходить в небольшое кафе, где старший официант ещё носил фрак и каждого гостя приветствовал поклоном. В это вечер было холодно, и мокрый снег на улице покрылся коркой льда. Идти надо было очень осторожно, а лучше держась друг за друга и медленно, маленькими шажками.
— Если бы я не чуял еду, — радостно сказал Вахтер, — то остался бы сидеть в тёплом кресле дома. Но я уже чувствую запах! Мои дорогие, возьмёмся за руки… Разве нас можно испугать гололедом? Вспомните зиму в Пушкине! Мы с этим выросли.
Больше он не произнёс ни слова. Откуда то из темноты, не то впереди, не то сбоку, то ли из подъезда, то ли из окна или из-за угла грохнул выстрел. Совершенно случайно Николай в эту секунду поскользнулся, но это спасло ему жизнь. Пуля чиркнула рядом с его головой, врезалась в стену и ушла рикошетом отлетела мимо старого Вахтера.
Старик среагировал мгновенно и правильно. Он упал, а поскольку они держались друг за друга, то остальные тоже упали рядом. Вторая пуля прошла над ними на высоте в половину роста. Если бы они стояли, то она попала бы ому-нибудь в живот.
Некоторое время они лежали на промёрзшей мостовой неподвижно. Потом старый Вахтер поднял голову, осторожно, как волк на охоте, посмотрел по сторонам, встал на колени и положил руки на спины Николая и Василисы.
— Мы на верном пути и в нужном месте, — сказал он по-русски. — Мы рядом с Янтарной комнатой, раз нас хотят убить. — Он встал, прислонился к стене и подождал, пока Яблонская и сын тоже поднимутся. — Какое чудесное Рождество, дорогие мои! Нам дарят Янтарную комнату… осталось лишь забрать ее. И мы найдём ее благодаря терпению, мужеству и с Божьей помощью.
***
Двадцать ящиков вместе с сельскохозяйственным оборудованием благополучно пересекли на «Лукреции» океан. Греческий капитан сначала взял курс на маленькую, невзрачную гавань Агиаба в Калифорнийском заливе. За этой дырой простиралось болотистая местность с озером, кишащая москитами и паразитами. Для Джо Уильямса не составило труда послать к стоявшей у побережья на якоре «Лукреции» две плоскодонки, забрать двадцать ящиков и доставить их на сушу, заплатив сельскому старосте пять тысяч долларов. Джо прибыл в Мехико уже три недели назад, потом вылетел в Чиуауа и оттуда поехал в Навохоа, где его и застала радиотелеграмма с «Лукреции». Капитан приплыл в Агиабу со второй лодкой и протянул Джо руку. Тот без промедления заплатил ему оставшуюся сумму.
— Вы — джентльмен, мистер, — сказал капитан. — А ведь могли бы сказать: «Отвали! Сгинь, пока не отделал».
— И как бы вы тогда поступили?
— Позвонил бы в ближайший полицейский участок.
— Вот видите, дружище! Поэтому вы и получили свои деньги. — Голос Джо вдруг стал жёстким и холодным. — Даже если бы я вам не заплатил, вы не смогли бы меня выдать. — Он показал на прибрежный песок. — Вы бы лежали там с дырой в теле.
— Я поэтому и сказал, что вы джентльмен. — Капитан спрятал деньги и отдал честь, приложив руку к фуражке. — Всего хорошего, мистер! Надеюсь, что больше никогда вас не увижу.
— Можете на это рассчитывать. Счастливого пути!
— Будьте счастливы со своими ящиками! Кстати, а что там внутри?
— Пойманные солнечные лучи…
— Ага! — Капитан усмехнулся, постучал себя по лбу и отплыл на «Лукрецию». «Одним сумасшедшим американцем больше, — подумал он. — Должно быть, деньги действительно размягчают мозг».
Он пощупал куртку, почувствовал в сумке пачку долларовых купюр и был рад, что ему встретился такой сумасшедший. Джо Уильямс научился тому, что дано не каждому американцу: терпению. Он не спешил, не стремился снова набить карманы после совершённых сделок, не пытался обогнать конкурентов… он в этом не нуждался. Он доставил двадцать ящиков из Агиабы в Сьюдад-Хуарес, на границу со штатом Нью-Мексико, как раз напротив Эль-Пасо. Здесь он арендовал склад, поставил старые ящики туда, запер двери и поехал в Эль-Пасо, чтобы как следует поесть, снять номер в отеле и девочку с длинными чёрными локонами и таким образом тайно отпраздновать свой триумф.
Янтарная комната была в Америке. Теперь никто ее не найдет. Не осталось никаких следов. Даже капитану Сильверману придется остановиться в Альсфельде, где немецкий «Вервольф» убил трех американских солдат, из которых нашли только Ноя Ролингса. И кроме того, прошло уже больше одиннадцати лет. Кто знает, что теперь стало с капитаном Сильверманом.
Из Эль-Пасо он ещё раз позвонил отцу в Уайтсэндс.
— Папа, — сказал он. — Я знаю, что для тебя мёртв. Хорошо, согласен. Нет смысла появляться в Уайтсэнс и срывать памятник погибшему. У каждого должны быть свои герои, и у тебя тоже. У меня только один вопрос: кто унаследует твои гангстерские сокровища?
— Я основал фонд для больных раком. Всё в этом фонде. Всё!
— Очень благородно, пап. Они никогда тебя не забуду, возможно, даже поставят тебе памятник. А Уайтсэндс станет Уильямсбургом! Ты и правда много делаешь для бессмертия. Иначе, чем Аль Капоне. Тот вошёл в историю, как величайший из гангстеров, а ты станешь самым крупным благотворителем. Это гениально, пап — тебя ни разу не арестовали!
— Чего ты хочешь? — спросил старый Уильямс таким тоном, как будто наступил на крысу.
— Для обеспечения моей старости — десять миллионов долларов на счёт.
— Работай, — произнёс старик.
— Твоим способом? Пап, это же несерьёзно. — Джо громко рассмеялся. — Что для тебя значат какие-то десять миллионов? Я как-то в свободное время подсчитал, сколько ты заработал за сорок лет на торговле девочками. Только на этом, другие дела не брались в расчёт. Пап, этим женским мясом ты позолотил себе не только нос, но и всё тело до задницы.
— Куда? — коротко спросил старый Уильямс.
— Что куда?
— Куда тебе перевести десять миллионов долларов, свинья?
— Я дам тебе знать. Спасибо, пап.
— Когда?
— Чтобы показать тебе, что я унаследовал твою широкую натуру — только после твоей смерти. Строкой в завещании.
— А если я забуду? Если после моей смерти там ничего не будет?
— Это был бы первый случай, когда Уильямс-старший не сдержал бы своё слово. Но, предположим, что он его не сдержит. Что тогда, пап? Тогда в Уайтсэндс вспыхнет огонь, взорвётся топливный резервуар, и в твоем фонд так будут раз в месяц происходить несчастья, пока десять миллионов долларов не положат в маленький чемоданчик, чтобы наконец обрести спокойствие.
— Свинья, — повторил старик. В его голосе чувствовалось отвращение.
— Я твой сын, пап! — Джо опять рассмеялся в трубку. — Собственно говоря, ты даже должен гордиться мной.
Он повесил трубку раньше, чем старый Уильямс смог грубо ему ответить.
Незадолго до Рождества Джо снова сидел в самолёте и летел во Франкфурт. В первом классе подавали шампанское, Уильямс вытянул ноги, подмигнул белокурой стюардессе и выпил за её здоровье. Сделав глоток, он развернул «Нью-Йорк таймс», которую принесли вместе с шампанским. Газета, как всегда, была толстой, чтение заняло бы несколько часов, если не целый день, и Джо начал читать про политику и спорт. Когда он перелистывал страницы с объявлениями, ему бросилось в глаза одно, в рамке, он бегло пробежал его глазами, но неожиданно насторожился и нахмурился.
Там разве не промелькнуло имя Сильвермана? Невероятно, но его мозг это зарегистрировал. Он быстро пролистал страницы назад, нашёл объявление и прочитал его, не разжимая губ.
Капитан Фред Сильверман — это был он. Его имя упоминалось только один раз. Кто-то его разыскивает… во Франкфурте, как раз во Франкфурте, и это наверняка очень важно, раз объявление размещено в «Нью-Йорк таймс» и специально выделено.
Джо вырвал лист из газеты, сложил, спрятал в нагрудный карман и задумался.
Фреда Сильвермана разыскивают не просто так. Явно не для того, чтобы просто пожать руку, обнять, похлопать по плечу и сказать: «Хорошо, что ты пришёл. Теперь пойдём, перекусим!» Тот, кто ищет Сильвермана, имеет для этого важную причину. А для чего может понадобиться Сильверман? Для розыска исчезнувшей Янтарной комнаты.
Джо Уильямса охватила тревога. Полёт до Франкфурта показался ему вдвое длиннее, чем полет в Мексику. Из аэропорта он сразу поехал в бордель на Мозельштрассе и неожиданно появился перед обескураженным управляющим-югославом.
— Привет, малыш! — дружелюбно произнёс Уильямс. — Маленький сюрприз от Джо. Прикажи забрать чемодан из такси и предоставь мне бухгалтерские книги.
— А мистер Брукс тоже с вами? — спросил югослав.
— Нет. Ларри остался в Штатах. Познакомился с девушкой и так в нее втюрился, что решил завязать и продать свою долю.
Он поднялся по лестнице в свой приватный кабинет, откуда с помощью скрытых камер и микрофонов мог контролировать все помещения: что там происходит и о чём говорят. Потом достал из ящика план города и нашёл улицу, указанную в объявлении. Она находилась недалеко от зоопарка, тихая улочка с домами рубежа столетий, хороший район, где можно жить в свое удовольствие.
Уже на следующий день Джо незаметно ехал на своём «фольксвагене» по этой улице, остановился напротив указанного дома, понаблюдал некоторое время и, на его счастье, увидел выходящую из дома Василису Ивановну. Она показалась из двери с письмом в руке и направилась к почтовому ящику, висящему на стене дома через три квартала. Джо нажал на газ, обогнал её и оказался около ящика раньше. Он вышел из машины и сделал вид, что опускает письмо. Потом, когда почувствовал, что женщина как раз за его спиной, неловко повернулся, наткнулся на неё и, сделав виноватое лицо, поклонился.
— Простите! — сказал он. — Я вас не заметил! Неловко получилось. Честное слово, мне очень неловко! Я вам не сделал больно?
— Никс пассирт… — немецкий язык Василисы Ивановны звучал резко и состоял из нескольких слов. — Никс вэ… — Она улыбнулась, прощая. — Шонн гут…
После того как Василиса бросила письмо и ушла, Джо остался стоять у почтового ящика. «Русская, — подумал он. — Да, русская. И, конечно, она не одна! Чего хотят русские от капитана Сильвермана? Об этом не надо спрашивать трижды, ответ лежит на поверхности. Русские ищут Янтарную комнату. Русские знают, что Сильверман видел её последним. У русских есть след, и теперь они будут как волки охотиться на добычу. Русские идут по моим следам… Защищайся, Джо! Разве должны одиннадцать лет ожидания пропасть даром? Джо, ты теперь её знаешь, а она о тебе не имеет представления. У тебя лучшая позиция… действуй!»
Ещё два дня Джо наблюдал за домом на тихой улице. Он увидел Михаила Вахтера и Николая — поодиночке, вдвоём и втроём с женщиной. «Их только трое, — довольно подумал Джо. — Трое против того, кого они не знают! Значит, никаких проблем, всего-то надо и из хорошего укрытия три раза нажать на спусковой крючок».
На второй день Рождества он снова был на тихой улице около зоопарка и ждал подходящий случай. Он взял с собой старый пистолет Р08, из которого Ларри застрелил торговца антиквариатом. Когда в телах трёх русских найдут пули, выпущенные из того же ствола, полиция придёт к верному выводу: это дело рук нацистской организации, которая по непонятным причинам ликвидирует всех, кто имел дело с давно похищенными художественными ценностями. Очень много неизвестного… кошмар для любого сотрудника уголовной полиции.
Джо повезло — все трое вышли из дома вместе. Он присел на корточки в кустах палисадника на другой стороне улицы, тщательно прицелился и знал, что наверняка попадет. И тут тот, кого он взял на мушку, поскользнулся как раз в тот миг, когда Джо нажал на спусковой крючок. Пуля ударила в стену, и трое упали ещё до того, как прогремел второй выстрел. Джо Уильямсу не оставалось ничего другого, как пригнувшись уйти через палисадник. В доме за его спиной загорелся свет. «Это профи, — подумал Джо, садясь в машину. — Чертовски хорошо подготовленные. Раз… и их уже не видно. Отличная школа! Эти трое не дадут себя запугать. Для них Р08 слишком медленный, к ним надо идти с автоматом или с пулемётом и превратить их в решето. Придется тебе, Джо, до Нового года раздобыть автомат. Иначе ты проиграешь».
Он очень медленно поехал по улице — в такой-то гололед — а эти трое быстро заскользили обратно к себе.
«Прочитал ли Сильверман объявление и дал ли о себе знать? — размышлял Джо, когда оказался рядом с вокзалом. — Приедет ли он во Франкфурт на встречу с русскими? Джо Уильямс, это лучшее, что могло произойти. Нужно позаботиться о Сильвермане, а с русскими пока подождать. Есть только один опасный для тебя человек — Фред Сильверман. А с ним, Джо, ты уж точно справишься».
***
В квартире они разделись и сели за стол в гостиной. На круглом столе блестел латунный самовар. Его Василиса Ивановна купила в первую очередь, а советское посольство, которое всё оплачивало и контролировало расходы, не предъявляло к этому приобретению претензий, как к ненужной трате. Самовар и шахматная доска — предметы первой необходимости для настоящего жителя СССР.
— Итак, что у нас есть, — сказал Вахтер, протянул обе руки, взял горячую чашку чая и осторожно отхлебнул. — Мои дорогие, я полагаю, нет, я уверен, что мы на правильном пути. Нас хотят убить, потому что мы подошли к ним очень близко.
— И где конец этого пути? — Яна опустила ложку в банку с мёдом и подсластила чай.
— Мы должны его найти. Какие они идиоты! Так привлечь к себе внимание.
— Ты должен вернуться в Пушкин, отец, — сказал Николай.
— Сейчас? Именно сейчас? Ты так думаешь, сынок? — Вахтер отхлебнул ещё глоток чая. — Ха! Говори же, признавайся: ты боишься…
— Да, отец, за тебя. Если тебя убьют…
— А если убьют тебя? Я должен бояться ещё сильнее: у тебя жена и двое ребятишек… это ты должен ехать домой. Я уже старик. Да, признаю, моя жизнь уже прожита. Что ещё можно потерять? Если это необходимо, сынок, чтобы найти Янтарную комнату, пусть меня убьют, а ты будешь их преследовать, Николай, вынудишь выдать тайник, и тогда комната снова окажется в Екатерининском дворце и весь мир будет складывать руки в экстазе, восхищаясь такой красотой. Тогда смерть имеет смысл, правда, сынок? Для волка кровавый след — самый лучший…
— Красивые слова, красивая речь, — Николай стукнул кулаком по столу. — Назад в Ленинград полетишь ты!
— Нет!
— Не будь таким упрямым, отец!
— Меня не загонишь в угол!
— Чёрт! Тебе непременно хочется стать мучеником из-за Янтарной комнаты?
— Слушай, Василиса, слушай! Как сын оскорбляет отца! Как повышает на него голос! Разве так можно? Хочет меня услать, сейчас, когда я почти нашел Янтарную комнату! Теперь он, видите ли, боится, в самом конце, у цели, ты только посмотри на него! Глядит исподлобья, как бык во время грозы! Николай, я больше не хочу ни слова об этом слышать. Василиса, что скажешь?
— Ты должен послушать Николая. Это моё мнение.
— Улететь назад в Ленинград?
— Да, как можно быстрее.
Вахтер долго смотрела на сына и на Яблонскую, с грустью покачал головой и вышел из комнаты. В своей спальне он сел на кровать, раскрыл створки походной иконки, поставил триптих на колени и провёл указательным пальцем по фигуре благословляющего Христа.
— Господи, не оставляй меня, — тихо произнёс он. — Я должен исполнить свой долг. Испытай меня еще раз.
По чистой случайности Фридрих Зильберман в день выписки из больницы прочитал газету «Нью-Йорк таймс», в которой появилось объявление о розыске. Уже через час после его возвращения в свою квартиру в Вюрцбурге в дверь позвонили, и, открыв дверь, он увидел майора и капитана американской армии.
— Заходите! — сказал Зильберман и посторонился.
С первого взгляда он понял, что это люди из секретной службы. Он слишком долго сам так служил и умел определять это с первого взгляда.
Майор и капитан вошли в квартиру, даже не представившись, хотя могли бы назвать по крайней мере фальшивые имена.
— Я рад, что вы зашли, — дружелюбно начал Зильберман. — Виски? Нет? Есть настоящий бурбон. Нет? Садитесь, пожалуйста. Позвольте мне самому угадать, зачем вы пришли: хотите извиниться от имени своей организации. Правильно? Я только не знаю, какой… УСС или ЦРУ? Всё время в эти недели я спрашивал себя: почему только ножевые ранения? Почему не воткнуть нож точно в сердце или не пустить пулю между глаз? В моё время работали чище.
— Не знаю, Фред, о чём вы говорите, — равнодушно ответил майор. Слова Зильбермана не произвели на него никакого впечатления. — Об этом нападении мы услышали от вас и пришли потому, что по-прежнему считаем вас своим. Мы хотим вам помочь.
— Очень трогательная забота УСС. — Зильберман налил себе бурбон. — Как вы хотите мне помочь?
— Прежде всего советом: возвращайтесь в Штаты.
— Я работаю доцентом в Вюрцбурге и прекрасно себя здесь чувствую.
— Зачем говорить глупости, Фред. — Капитан решительно подался вперёд. — Мы точно знаем, чем вы здесь, в Германии, занимаетесь.
— Конечно, это ваша работа.
— Разве не так?
— Так. Может, вам известно, где Янтарная комната?
— Не будем говорить об этом здесь, Фред, — сердито буркнул майор. — Правительство хотело бы прекратить слухи о том, что американские войска в 1945 году разворовывали художественные ценности, как сороки. Об этом снова и снова пишет немецкая и международная пресса. Мы выглядим хуже русских! Вот, прочтите на досуге, здесь пишут о нацистских сокровищах, которые мы забрали. — глотнул бурбона. — Если вы, Фред, продолжите суету вокруг Янтарной комнаты, слухи никогда не прекратятся.
— Никакой суеты не будет, я буду искать бесшумно.
— Предположим, вы обнаружите Янтарную комнату.
— Это был бы мой триумф.
— Что тогда? Тогда вы начнёте кричать об этом так громко, что рухнут стены. Причем вно есть Вашингтоне! Фред, мы изучили ваше сообщение от 1945 года. После этого все двадцать ящиков вместе с тремя грузовиками и тремя солдатами исчезли. Ответственность лежала на нас.
— Совершенно верно. Я тогда посчитал это личным поражением и теперь хочу вычеркнуть его из моей жизни. Это нетрудно понять.
— Конечно, Фред, но с тех пор времена и политика значительно изменились. Восток — это большой, грязный мужик, а мы должны быть чистыми, очень чистыми. Безобразное пятно из-за грабежа художественных ценностей должно исчезнуть, Фред. Не делайте его ещё больше… это просьба. — Майор откинулся на спинку кресла. — Фред, вы работаете доцентом в Вюрцбурге. Профессура в Принстоне вас не заинтересует?
— Нет. И зовут меня не Фред Сильверман, а Фридрих Зильберман. Я снова стал немцем. Моя семья погибла в концлагере, а я сумел выбраться. Теперь я вернулся, потому что вопреки всему тоскую по родине. Оставьте меня в покое, господа, не преследуйте больше. Нас достаточно преследовали, как немецких евреев, а теперь я наконец-то вернулся домой. Так оставьте меня в покое!
На этом дискуссия закончилась, тема беседа исчерпала себя. Майор и капитан встали, надели фуражки и после дружественного «Подумайте над этим, Фред!» покинули квартиру.
Зильберман вернулся в комнату, снова налил себе виски, поскольку майор всё выпил, развернул «Нью-Йорк таймс» и начал искать статью о вывозе американцами художественных ценностей. Перелистывая газету, уголком глаза он заметил объявление в рамке и остановился — ему показалось, что он видит своё имя — пролистал назад и прочитал текст. «Это я, — подумал он, немного удивлённо, немного испуганно. — Да, это я! Кто-то меня ищет. Агент? Или это ловушка? Решать тебе, Фред — ехать туда или забыть про объявление?»
Тем же вечером он добрался до Франкфурта на скором поезде Мюнхен — Кёльн, доехал на такси до отеля «Франкфуртер хоф» и снял номер. Вестибюль отеля украшали большая ёлка и многочисленные еловые ветки, и только сейчас Зильберман вспомнил, что завтра Сочельник — в детстве этот праздник отмечали каждый год. Тогда всегда на столе стояли медовый пирог и острые орешки, в доме пахло пряниками, ванилью и всегда на столе была маца, праздничный хлеб евреев. Он никогда её не любил, но смело ел, чтобы потом получить рождественский кекс и шоколадные фигурки.
«Смело, — подумал он. — А смел ли я теперь? Рискну ли я жизнью, чтобы вернуть Янтарную комнату? Куда меня заманивают этим объявлением? Почему предполагают, что я прочитаю «Нью-Йорк таймс»? Кто знает меня во Франкфурте?»
Рождественский сочельник он праздновал один в ресторане отеля. В первый день Рождества он проехал на такси по тихой улице около зоопарка,указанной в объявлении, и внимательно осмотрел дом, в котором его ждали. «Кто это? — спрашивал он себя. — Чёрт возьми, кто это?» Такси проехало мимо припаркованного «фольксвагена», но Зильберман не обратил на него внимания, а Джо Уильямса не интересовало такси.
«Подождём, — подумал Зильберман. — Понаблюдаем за домом. Уж можно было догадаться, что старый лис секретной службы не сразу ринется в ловушку! У нас есть еще несколько дней…»
Он решил, что войдёт в этот дом в новом году, вероятно, третьего января 1957 года, со «смит-вессоном» за поясом. В отеле он, стоя перед зеркалом, три дня разучивал молниеносное движение — выхватывал оружие.
— Ты никогда не станешь Гарри Купером! — рассмеялся он своему отражению. — И у старика Уэйна получалось лучше! Но для Франкфурта этого хватит. Надо быть лишь на секунду быстрее…
Между Рождеством и Новым годом он наблюдал за домом. Для этого Зильберман арендовал машину, несколько раз ему попадался «фольксваген», но они не обращали друг на друга внимания
«Что за дурацкая игра, — думал в эти дни Джо Уильямс. — Придёт он или не придёт? Прочитал ли он объявление? Как долго я должен торчать здесь в засаде? Неделями? Проклятые русские, уезжайте наконец обратно в Москву…»
Третьего января, как и намеревался, Зильберман решил остановиться перед домом и выйти из машины. Джо почувствовал укол в сердце. Он припарковался на углу и наблюдал за домом в бинокль. «Это он! Наверняка он. Капитан Фред Сильверман. Единственный, кто не верит в нападение «вервольфа». Единственный, кто считает, что Янтарная комната не исчезла бесследно».
Джо почти физически почувствовал опасность. Он видел, как Сильверман идёт к дому, и понимал, что промедление подобно самоубийству. Он широко расставил ладони, вцепился в руль и похолодел от кончиков пальцев до корней волос.
Прозвенел звонок, и Николай открыл дверь. В руках у него был пистолет, девятимиллиметровый «макаров». В коридоре вжалась в стену Яблонская, она держала палец на спусковом крючке маленького скорострельного «стечкина» с двадцатью патронами в магазине. В случае чего Зильберман не имел бы ни секунды преимущества.
— Да? — сказал Николай, внимательно разглядывая незнакомого мужчину. — Что вам угодно?
Он говорил на немецком, и Зильберман ответил тоже по-немецки.
— Вы меня приглашали, — сказал он и посмотрел на «макарова». — Текст объявления звучал так любезно… и тут такой недружелюбный приём.
— Капитан Фред Сильверман?
— Уже майор. И теперь Фридрих Зильберман.
— Входите. — Николай поднял пистолет и быстро закрыл дверь за Зильберманом. — У вас есть оружие?
— Да. Как и у вас.
Николай протянул левую руку.
— Давайте.
— Нет! С какой стати? Не буду же я стрелять! Вас же больше.
— Верно. — Николай показал на дверь в гостиную. — Идёмте.
Зильберман кивнул, прошёл в гостиную, увидел краем глаза Яблонскую со «стечкиным» в руке и мужчину, который при виде его быстро поднялся с кресла.
— Сильверман! Это действительно вы! — воскликну старик и протянул к нему обе руки. — Вы меня помните? 1945… Зальцбург, замок Киссхайм.
— Вахтер! Точно, это Вахтер… из Янтарной комнаты.
Они подбежали друг к другу, обнялись, похлопывая по спине, и Вахтер сказал:
— Вы почти не изменились, господин Зильберман.
— И вы не изменились, господин Вахтер. Мы только стали постарше, морщин прибавилось и жирка в бёдрах. Но мы еще полны сил, правда?
Это был чудесный вечер. Они пили рейнвейн, Василиса сварила пельмени и подала на стол по русской традиции — с зелёным луком и маринованными огурцами.
Зильберман рассказал о дипломатической службе в Новой Зеландии и в Китае, Вахтер с гордостью поведал о своих внуках Петре и Янине, как его чествовали по поводу семидесятилетия, и наконец Яблонская поставила на стол бутылку водки и сказала:
— Хватит говорить о прошлом. Поговорим о настоящем и будущем. Мистер Сильверман, что случилось с Янтарной комнатой? Она действительно находилась в соляном руднике Меркерса?
— Да, я видел её собственными глазами и одну большую настенную панель показал генералу Эйзенхауэру. Ошибка исключена. Это не могло быть другой работой по янтарю.
— А теперь давайте всё реконструируем, — сказала Яблонская и взяла лист бумаги. — Мозаика состоит из множества маленьких камешков. Давайте сложим их вместе…
Зильберман оставался в доме до двух часов ночи. Джо Уильямс терпеливо ждал в конце улицы.
Он увидел выходившего Зильбермана в сопровождении русского старика, который похлопал своего гостя по плечу. Но он не мог слышать слова Вахтера.
— Теперь мы будем всё делать вместе, Фридрих. Я, как и ты, убеждён, что Янтарная комната уже в Америке. Если мы воспроизведём её путь, то найдём ее. Двадцать больших ящиков нельзя просто так провезти через Атлантику… Будь осторожен, Фридрих. Выстрелы доказывают, что мы наступаем грабителям на пятки.
Зильберман кивнул, сел в свою машину и уехал. То ли из-за вина, то ли он потерял бдительность, но через два квартала, при повороте на главную улицу, его машина столкнулась с «фольксвагеном». Он поворачивал медленно и потому лишь слегка поцарапал машину.
Он вышел из машины, водитель «фольксвагена» выскочил из своей, как разъярённый бык, и сразу заорал:
— Ты что, слепой? Я же еду справа. Хорошо выпил, да? Небось у девочек был?
Едва Зильберман что-то понял или смог ответить, как получил прицельный удар в подбородок — точный, классический нокаутирующий удар. Зильберман рухнул без сознания, водитель «фольксвагена» оттащил его к своей машине, бросил на заднее сидение и быстро скрылся.
Он выехал из Франкфурта в направлении Кронберга, остановился в первом же перелеске, связал Зильбермана прочным нейлоновым шнуром и продолжил путь. Когда он услышал, что связанный зашевелился на заднем сиденье, то махнул рукой и весело сказал:
— Привет, сэр! Как дела? Я прошу прощения, капитан, но этот маленький трюк был просто необходим. Не только в Штатах есть киднэппинг.
— Кто вы? — спросил Зильберман спокойно. — Брукс или Уильямс?
— Джо Уильямс, сэр. Удивительно, вы ещё помните наши имена?
— Я их запомнил, как таблицу умножения! Идея с «вервольфом» была неплоха, особенно в то время, но я в неё никогда не верил. Только Ноя не стоило убивать.
— Он был слишком тупым, чтобы действовать дальше, сэр. Слишком любил белокурых и белокожих девочек и с гордостью похвастался бы им в постели своими подвигами. Мы не могли так рисковать.
— Янтарная комната у вас? — прямо спросил Зильберман.
Так же прямо и без промедления Джо ответил:
— Да, сэр. Я везу вас туда, капитан.
Джо услышал, как Зильберман дёргает веревки, но ничего не мог поделать с нейлоновым шнуром. «Он понимает, куда мы едем, — хладнокровно думал Джо. — Сейчас он вот-вот наложит в штаны».
— Такова жизнь, сэр, и так будет всегда: есть победитель и есть побеждённый. Вы — крепкий парень, как известно, так проигрывайте с достоинством.
— То, что вы намерены сделать, — всё так же спокойно сказал Зильберман, — не имеет никакого смысла. Я разговаривал с людьми из Ленинграда. Они всё знают.
— Они знают так же мало, как и вы, сэр. Только вы знаете обо мне, для остальных исчезновение Янтарной комнаты остаётся загадкой. Только через меня можно ее найти. Но кто в курсе? Официально я мёртв, поменял имя, и выйти на меня можно, только если знать в лицо. А его помнит только один человек: вы, капитан. Поймите, я должен обезопасить себя. Инстинкт самосохранения так же силен, как и половой. Он владеет человеком. Сэр, вам надо было остаться в США, вместо того чтобы преследовать призраков. Я стал призраком и останусь им навсегда.
— Вы сумасшедший, Джо, сумасшедший. Именно так! Что вы собираетесь делать с Янтарной комнатой? Такое сокровище с международной известностью вы никогда не продадите! Разломанная на отдельные части она ничего не стоит! Только целиком! Джо, скажите, где Янтарная комната, и я вас забуду. Даю слово!
— И зря, сэр. Я не собирался продавать Янтарную комнату. Денег мне хватает. Миллионы долларов, капитан. Унаследовал от дорогого папочки-гангстера. Всё, хватит болтать… Я вас больше не слушаю.
Седьмого января в руинах крепости в Таунусе лыжники обнаружили голый, замерзший труп. На теле было множество ножевых ран от длинного ножа, а рядом с телом лежал скальпель. Мертвец истёк кровью, и она застыла вокруг него алой лужей. Самой ужасной была рана на животе: его распороли. Должно быть, убийцу охватила безумная жажда крови.
Одежду убитого нашли, документов не обнаружили, но по фото, которое опубликовали все газеты, Вахтер его сразу опознал.
— Это конец, — сказал он. Теперь он стал похож на надломленного, старого человека с трясущимися руками. — Мы никогда больше не увидим Янтарную комнату. Тот, кто за этим стоит, сильнее и быстрее нас. И мы его не найдём. С Зильберманом умерли все надежды.
Они позвонили в полицию, съездили в Судебно-медицинский институт и опознали труп. Василиса взяла с собой красную розу на длинном стебле и положила Зильберману на обнажённую грудь. Вахтер погладил его холодные руки, а Николай поддерживал отца сзади — тот разрыдался и неуверенно стоял на ногах.
Они дождались похорон и постояли около могильного холмика вместе с двумя сотрудниками криминальной полиции. Похороны были оплачены долларами, которые они нашли на квартире в Вюрцбурге и передали полиции. Это оказалось целое состояние, сто шестьдесят три тысячи долларов, и Вахтер спросил полицейских:
— Что будет с ними?
— Будем искать наследников в США.
— А если у него нет наследников? Может быть, имеет смысл перевести эти деньги в фонд поддержки немецких евреев? — спросил Николай.
— Так не пойдёт, — служащий с удивлением посмотрел на Николая. — У нас нет завещания. Мы можем только конфисковать деньги.
— И их унаследует государство, которое уничтожило его семью и его самого, последнего оставшегося в живых.
— Я думаю, вы смотрите на это неправильно, — полицейский выпрямился и продолжил несколько раздражённо: — Вы этого не понять. Вы — русский.
— Мы уходим, — сказал Вахтер, взял сына под руку, и они покинули учреждение.
Уже на улице — стоял солнечный зимний день с ясным, голубым небом, как в Ленинграде — он сказал твёрдым голосом:
— Поехали назад в Пушкин, сынок. Здесь мы больше ничего не найдем. Янтарная комната потеряна навсегда, теперь она вся в крови. Бог не был к нам милостив. Не знаю, почему.
Однако Божья милость позволила ему дожить до девяноста четырех лет.
Однажды в июле 1980 года Николай вмести с сыном Петром нашли старика в Янтарной комнате, как всегда сидящим на стуле, на котором он провел шестьдесят четыре года в качестве смотрителя. Он запрокинул голову назад, к голой стене, широко открытыми глазами смотрел на небо и потолочную роспись с аллегорическими изображениями, но уже не дышал.
Николай, которому уже исполнилось шестьдесят два года, и Пётр, красивый тридцатитрехлетний мужчина, вынесли сидящего на стуле старика из пустой Янтарной комнаты и отнесли в его квартиру. Когда они положили его на его любимый старый резной диван, Яна тихо сказала:
— Каким счастливым он выглядит. Он мечтал о своей Янтарной комнате и взял её с собой в вечность. Теперь ты доволен, папа, да? Ты ведь знал, что её хотят восстановить. Комната снова вернётся, твоя Янтарная комната… и Вахтер будет снова заботиться о ней: твой сын Николай или внук Пётр. На небе тебе будет спокойно.
— Это была самая прекрасная поминальная речь, — сказал Николай и обнял Яну. — Мы не должны о нём плакать… мы должны им восхищаться. Мы должны спросить себя — что такое верность? Что такое любовь? И всегда будем отвечать: посмотрите на Михаила Игоревича, вон на стене его портрет, посмотрите ему в глаза, и узнаете, что такое верность и любовь.
Николай, Яна, Пётр и Янина сидели рядом с покойником. Яна зажгла свечу и поставила её у изголовья старика, уже настал вечер, и мерцающий свет был единственным светлым пятном в комнате. Глядя на этот огонек, все вспоминали прошлое, с благодарностью за прекрасную, бурную, жестокую и наполненную жизнь.
Нужно благодарить жизнь за каждый день, за каждый час, иначе она была бы бесцельна.
Уайтсэндс
Действующие лица:
Джо Уильямс, теперь Рон Каллинг, житель Уйатсэндса.
Преподобный Джон Киллроуд, священнослужитель.
Дэвид Ховен, начальник пожарной команды Уайтсэндса.
Доктор Симсон, психиатр
...
— Чокнутый снова играет своими корабликами, — сказал Дэвид Ховен, начальник пожарной команды Уайтсэндса, когда вернулся домой с рыбалки и швырнул своей жене Лорни три рыбёшки на кухонный стол. — Это же невозможно выдержать: стоит по пояс в воде, в резиновом комбинезоне, сверху какая-то форма со шнуром и позументом, как будто он снимается в историческом голливудском фильме. Я ему крикнул: «Эй, как дела?», и он мне отвечает: «Если в этот раз я разобью шведов и уничтожу их флот, то стану хозяином Балтийского моря!». Ну что тут скажешь? Чокнутый и есть. А когда я ему снова крикнул: «Рон, выходи из воды. Она слишком холодная. Ты отморозишь себе задницу», он махнул, как полководец, и гордо заявил: «Что он себе позволяет? Он что, не узнаёт Петра Алексеевича?» И я ушёл. Кто такой Пётр Алексеевич?
— Меня что, интересуют бредни старика? — Лорни осмотрела рыбешек. Сойдут для двух блюд — можно поджарить и сварить суп. — Спроси преподобного. Он его лучше знает, Но это точно что-то русское.
— Что связывает Рона Каллинга с Россией?
— Безумцы всегда живут в других мирах. Я об этом где-то читала. Пока у него безобидное помешательство, пусть изображает, что живёт хоть на Таити и танцует на пляже хула-хула…
Рон, весёлый, сильный парень, с эффектными маленькими усиками и вьющимися волосами, появился в Уайтсэндсе двадцать четыре года назад, как раз в тот день, когда в белом особняке у моря умер всеми любимый и уважаемый старик Уильямс. Этот день запомнился: звонили все колокола города, приспустили американский флаг над мэрией, в трёх церквях прошли заупокойные службы. Для жителей городка это было такое же горе, как если бы умер президент США. Президент был далеко, где-то в Вашингтоне, а Уильямс — рядом. Благодетель, второго такого больше не будет, во всяком случае в Уайтсэндсе. Он основал детский приют, купил две пожарные машины, был спонсором бейсбольной и футбольной команд, построил бассейн, и каждые полгода жители Уайтсэндса могли за его счёт проходить обследование на рак в окружной больнице. Кто теперь будет делать что-либо подобное? Смерть Уильямса стала траурным днём для Уайтсэндса.
Рон Каллинг принимал участие в большой траурной процессии. Он постоял у могилы и положил большой букет цветов на тяжёлый дубовый гроб. Жители Уайтсэндса сочли это похвальным, поскольку мистер Каллинг прибыл всего лишь четыре дня назад и не был знаком со старым Уильямсом.
Когда открыли завещание, весь Уайтсэндс удивился и одобрительно зааплодировал, несмотря на печальное событие: Уильямс завещал всё состояние на исследование рака, поскольку, как значилось в завещании, его сын Джо оставил этот мир. Поговаривали, что сумма составляет почти триста миллионов долларов. Делегация облагодетельствованного научно-исследовательского института рака после обнародования завещания совершила паломничество с огромной охапкой цветов к могиле жертвователя и возложила прекрасный венок к памятнику, который Уильямс воздвиг в память о своём погибшем сыне Джо.
Рон Каллинг принимал участие во всех этих мероприятиях, что привлекло к нему внимакние. Когда Научно-исследовательский институт начал оценивать наследство в долларах и распродавать — особняк, земельный участок, большую дом на берегу — Рон Каннинг выразил желание купить земельный участок у моря.
Он выложил на стол ровно триста тысяч долларов. Этому очень удивились, ведь прежде он скромно жил в пансионе и, как рассказала хозяйка, чаще всего ел гамбургеры или хот-доги с соусом карри. Но скоро все перестали удивляться и с удовлетворением смотрели, как он обустраивает домик на берегу.
Он окружил его каменной стеной, проделал в фасаде большие окна с видом на море и, наконец, прибыли несколько фургонов для перевозки мебели, в которых привезли диваны и шкафы, ковры и кресла, а также двадцать больших ящиков — вероятно с полным комплектом домашнего скарба.
В доме Рона Каллинга в течение трёх месяцев работали три мастера из Нью-Орлеана. Они жили у него, сами себе готовили, никуда не выходили, не бегали за красивыми девушками, только владелец супермаркета доверительно рассказал, что они заказывали самые лучшие и дорогие вещи с доставкой на дом: французские вина, русскую икру, копчёного осётра, шампанское, огромные стейки и шоколадные торты. Чем три мастера занимаются в доме Каллинга — не знал никто.
Они прибыли из Нью-Орлеана неожиданно и так же неожиданно через три месяца исчезли. Всё было скрыто за высокой стеной, даже строительство новой террасы. И кто мог предположить, что под бетонным перекрытием лежат три трупа? Кто же заподозрит Рона Каллинга, такого приятного человека, который всегда любезно здоровается, каждый месяц кладёт букет цветов к памятнику Джо Уильямсу и несколько минут размышляет у могилы. Рабочий, который выкладывал мраморные полы, рассказал лишь, что мистер Каллинг позволял ему ходить только до оранжереи. Дальше ни шагу, а всё левое крыло дома, длиной десять метров, имеет три огромных окна, изнутри всегда опущены жалюзи.
Через некоторое время все разговоры вокруг нового жителя Уайтсэндса поутихли. Потом его часто видели сидящим у моря, но никогда — в ресторане или в баре. Даже женщины, кажется, его не интересовали — в последующие годы никто не видел в его доме ни одной женщины в его доме, хотя он был видным, сильным, приятным мужчиной, с которым некоторые местные женщины охотно легли бы в постель. Кроме того, у него, похоже, было достаточно денег, чтобы в самые лучшие годы жизни лежать в шезлонге, купаться в море или бегать по песчаному пляжу, вместо того чтобы в поте лица зарабатывать деньги.
Деньги всегда приманивают обещания вечного блаженства. Преподобный Джон Киллроуд из церкви «Дети Господа» появился у Рона Каллинга, как только стало понятно, что строительство закончилось. В конечном счёте всё выглядело несколько эксцентрично — над левым крылом дома Каллинг поместил маленький купол в виде луковицы, с позолоченной крышей и с двойным крестом православной церкви наверху. Преподобный Киллроуд удивился, ничего не понял и напросился в гости.
Рон Каллинг принял его не в доме, а снаружи, на мраморной террасе. Если бы Киллроуд предполагал, что он сидит точно над тремя залитыми в бетон трупами, удобно растянувшись на садовом шезлонге и потягивая водку с апельсиновым соком, он отшвырнул бы стакан и убежал. Но он радовался гостеприимству нового жителя города, подарил ему брошюру с историей своей церкви и как бы между прочим сообщил, что алтарь немного поистрепался. Мистер Уильямс обещал установить новый, но его смерть прервала этот великодушный замысел.
— Мистер Уильямс обещал подарить вам новый алтарь? — заинтересованно спросил Каллинг.
— Совершенно верно! Только он всё завещал на исследование рака, и теперь на алтарь нет ни цента. В следующем году мы могли бы его торжественно открыть. Уже имелся проект.
— Принесите в следующий раз проект, — мимоходом сказал Каллинг. — Меня это заинтересовало.
— У вас на доме купол в православном стиле. — Преподобный Киллроуд сдержанно отрыгнул. Водку с апельсиновым соком он выпил слишком быстро.— Что это значит?
— Да, я люблю Россию.
— Ага! Вы знаете Россию?
— Очень хорошо, преподобный. — Каллинг откинулся на спинку шезлонга. — И Россия меня любит. Битва под Полтавой стала рождением непобедимой империи.
— Именно так. — Преподобный Киллроуд потёр глаза и посмотрел через пальцы на Каллинга. «О чем это он? — гадал он. — Битва под Полтавой? Разве мы, американцы, сражались во время последней войны в России? Или Каллинг был в России со специальной миссией? Но о таком подразделении я ничего не слышал». — Россия, видимо, очень красивая страна.
— Прекрасная! Зимой — на санях по лесам, летом — под парусом в море с видом на мой Петербург… это просто невозможно описать. Я создал город из ничего, на убогом, болезнетворном болоте. Он должен стать красивее Парижа. Жемчужина среди городов мира.
— Если бы только не большевики… — осторожно произнёс преподобный Киллроуд. Каллинг показался ему чем-то встревоженным.
Рон поднял голову и внимательно посмотрел на Киллроуда.
— Не знаю никаких большевиков, — удивился он. — Кто это?
— Вы что, вообще не интересуетесь политикой?
— Да что вы такое говорите! — Каллинг вскочил. — Надо победить шведов, а еще захватить Польшу!
— Это грандиозный замысел, мистер Каллинг, — заикаясь произнес сбитый с толку Киллроуд. Он тоже вскочил с шезлонга. — Когда я могу снова прийти с чертежами?
— В любое время. Чертежи доставляют мне радость.
Каллинг проводил Киллроуда до входных ворот в высокой стене и так крепко пожал ему руку, что у преподобного вытянулось лицо. Потом он осторожно некоторое время потряхивал этой рукой, чтобы понять, не сломано ли чего. Киллинг махал ему вслед, пока он не скрылся за холмом.
Придя домой, Киллроуд сразу достал энциклопедию, открыл статью про Полтаву и прочитал, что это областной центр на Украине. Во время Северной войны 1709 года Пётр Великий одержал здесь окончательную победу над войсками шведского короля Карла XII.
Киллроуд уронил книгу на ковёр, уставился в стену, ему захотелось выпить тройную порцию виски. «Он же сумасшедший, — подумал он. — Боже, он шизофреник! Считает себя царем Пётром Великим: моя Россия, мой Петербург, я хочу захватить Польшу, создал город на болоте, жемчужина среди всех городов мира… Боже, он сумасшедший. Надо поспешить с алтарем, пока он совсем не спятил».
Преподобный Киллроуд никому не рассказал о своём подозрении, даже когда алтарь уже давно стоял в церкви и прихожане им любовались. Время от времени он посещал Рона Каллинга, беседовал с ним об измене цесаревича, о его крестьянской девке, о царице Екатерине и мучительно долго смеялся, когда Каллинг рассказывал о своих карликах и юродивых, которые во время банкетов кривлянием и шутками должны были всех развлекать.
С годами в Уайтсэндсе привыкли к странному жителю. Он был великодушным меценатом, не таким щедрым, как Уильямс, чье богатство это позволяло, но когда Каллинг сделал доброе дело и пожертвовал пять тысяч долларов на строительство площадки для игры в гольф, это показало щедрость его натуры, и все это оценили. Может, он и вел себя странновато, но всем сердцем заботился о ближних. А важно лишь это. Чудаковатость — личное дело каждого, пока она никому не мешает. А Каллинг был тихим.
Десять лет назад он начал играть в море с большими деревянными кораблями. Когда не было волн, он в длинном прорезиненном комбинезоне и в мундире русского адмирала заходил по пояс в воду и разыгрывал морской бой, во время которого несколько кораблей даже загорались. Он отдавал им честь, когда они тонули.
И богач, и бедняк, говорили жители Уайтсэндса с состраданием и сочувствием. С каждым годом безумие проявлялось всё сильнее. Но кто мог ему помочь? Он никого не впускал в дом. И врача тоже никогда не вызывал. К нему заходил только преподобный, но Киллроуд молчал, как обязывает долг священника. Через некоторое время он обнаружит его умершим в шезлонге на террасе или в каком-нибудь углу.
Но пока что Каллинг всё так же возлагал цветы к памятнику погибшему Джо Уильямсу.
Каждый день, в основном около полудня, Джо Уильямс поднимал толстые створки жалюзи на трёх высоких окнах левого крыла, над которым в сияющем солнце блестел византийский купол. Потом открывал окна, впускал воздух и свет в помещение, подходил к обтянутому красным бархатом резному позолоченному креслу и садился в него. В мундире генерала царской гвардии, опираясь на трость из испанского тростника с ручкой из слоновой кости, он с гордостью осматривался.
Вокруг него сверкали, блестели и светились стены из янтаря, как тысячи маленьких солнц. Сверкали гирлянды, карнизы и фризы отражали многократно преломлённый свет, головы ангелов, воинов и девочек-цветочниц, казалось, оживали под действием света и тени. Золотой блеск «солнечного камня» в бликах Миссисипи и яркая игра красок в янтарной мозаике были настолько сильными, что время от времени Джо Уильямс вынужден был прикрывать глаза, чтобы не ослепнуть.
Почти два часа он сидел в дорогом кресле посреди Янтарной комнаты, каждый день, почти все двадцать лет. Зажав испанскую трость между колен, сжав руки в кулаки и положив их на подлокотники, он смотрел через окно на море, которое мягкими волнами накатывалось на мягкий прибрежный песок.
Мой Петербург. Море с гордыми кораблями, чьи мачты с парусами упираются высоко в небо, дыхание свободы, которое с ветром разносится над страной, божественное спокойствие Янтарной комнаты, в которой прячешься, когда сердце переполнено и мысли не дают покоя. Моя империя, моя Россия, мир, сотворённый мною… Это было так потрясающе, что Джо Уильямс каждый раз закрывал глаза, сжимал кулаки, прижимал их к груди и чувствовал, что может задохнуться от собственного счастья.
Через час Джо начинал говорить. Иногда он вставал, ходил вдоль сверкающих на солнце янтарных стен, останавливался перед зеркалом, вмонтированном в углубление, и рассматривал себя. Потом время от времени поднимал руку, чтобы погладить янтарную фигурку, провести пальцами по розетке или по гирлянде, и при этом важно разговаривал сам с собой, со своим народом, с Богом и со всем миром.
— Моя обязанность, — один раз сказал он, посмотрев на голову умирающего воина, — жить для моего народа, но также и умереть за мой народ, если это потребуется. Пока существует шведский флот и я не стал хозяином на Балтийском море, я не смогу уснуть. Я создал огромную армию, самую сильную в мире, даже пруссаки мне проиграли, но надо сделать больше для флота. Я должен строить, строить и строить… Надо подумать и о Сибири. Что известно о Сибири? Насколько же эта земля ещё не изучена! Помогите мне, добрые духи, закончить свой замысел.
Через два часа он закрывал окна, опускал жалюзи, запирал дверь, вешал ключ на шею, надевал адмиральскую форму, высокие резиновые сапоги и шёл вниз к морю, где в песчаной бухточке стоял на якоре его флот. Это были деревянные корабли, какие строили во время Петра Великого, с парусами примерно полтора метра шириной и с соответствующей высотой мачт, гордая армада, готовая прогнать шведов из Балтийского моря. Он отправлял корабли в море и с помощью длинной палки выстраивал в кильватерную колонну, в широкий наступательный фронт или в позицию для таранного удара.
Чем старше он становился, тем больше проявлялось в нем странностей. Дэвид Ховен, начальник пожарной команды, у которого было много свободного времени, поскольку в Уайтсэндсе уже четырнадцать лет не было пожаров, да и профессия слесаря его тоже не утомляла, часто ходил рыбачить и, сидя часами у моря на деревянном пирсе, наблюдал за Роном Каллингом и его деревянными кораблями. Потом он всякий раз рассказывал своей жене Лорни, какие новые причуды изобрёл старик.
— Вчера у него загорелся один корабль, — сказал он. — Этот идиот бросил в лодку факел, и когда она, естественно, загорелась, попрыгал в море с растрепанными волосами, а потом встал по стойке смирно и отдал честь, пока корабль не затонул. А потом, — Ховен сделал глубокий вдох, — он вышел на берег, развёл руками и крикнул в сторону солнца. Что именно, я не смог понять, но при этом у него был такой голос, такой голос, скажу я тебе. Прямо металл! Еще немного, и он полностью спятит. Будет чертовски жалко, если придется отправить его в больницу.
Преподобного Киллроуда тоже поразило резкое ухудшение состояния его благодетеля, пожертвовавшего на алтарь. Во время последней встречи на террасе Каллинг сказал:
— Я не продвигаюсь! Не продвигаюсь! Шведский флот уклоняется от атаки. Дело не доходит до сражения. Как я могу победить, если не нахожу противника?
— Это действительно проблема, — ответил преподобный. — Невозможно бороться с тенью.
— Тень. Ты прав, Джон! Тень. Всюду тень. Мир становится всё темнее… Тени! Кто уберёт эти тени?
Киллроуд на этот раз быстро простился, поехал к доктору Симсону, психиатру, и спросил его, когда состояние душевнобольного настолько ухудшается, что за ним нужен уход.
Доктор Симсон, из-за ежедневного общения с душевнобольными ставший циником, посмотрел на Киллроуда изучающим взглядом знатока душ и спросил:
— Мужчина или женщина?
— Мужчина.
— Сколько лет?
— Думаю, шестьдесят семь.
— Еще не старый… Ведёт себя, как ребёнок?
— Нет.
— Бегает вокруг с топором и каждого хочет убить?
— Напротив, он самый дружелюбный человек из всех, кого я знаю. Тихий мечтатель, который даже муху не сможет убить.
— То есть дебил? — доктор Симсон покачал головой. — Мы все в той или иной мере дебилы, преподобный. Только не замечаем этого. До тех пор, пока человек не ползает по лугу и не ест траву, я не вижу оснований направлять его а больницу. Довольны?
— Нет, доктор.
Киллроуд покинул клинику с мыслью, что когда-нибудь ему самому придется врачевать психиатров. Рон Каллинг был тяжело больным человеком, это очевидно, но никто не мог принудить его обратиться к врачу. Каждый человек имеет право на своё тело и собственную жизнь.
***
Десятого октября 1987 года по радио передали штормовое предупреждение: ураган со скоростью триста миль в час приближался к побережью. Предполагалось, что он затронет и Уайтсэндс, поэтому горожане заколачивали витрины досками, убирали машины в гаражи, заносили в дом все легкие предметы. Это всё, что они могли сделать. Еще могли сбежать, но это не к лицу жителям Уайтсэндса. Они засучили рукава.
В одиннадцать утра шторм достиг побережья. Громкий вой наполнил воздух, небо стало свинцово-серым, гнулись пальмы, первые листы жести с крыш кружились в воздухе, как чешуйки. С берега ветер сдувал мелкий белый песок и огромным белым облаком нёс его над домами и холмами. Первым облако накрыло дом Рона Каллинга, который оказался в центре шторма.
Лишь через полчаса после начала урагана подступило море. Волны высотой с дом обрушивались на побережье, они накрывали и разрушали всё, что попадалось на пути. В едином вихре смешались вой, скрежет, грохот падающих волн, поднятая песчаная завеса, вырванные кусты и парящие между небом и морем деревья.
Джо Уильямс сидел скорчившись в роскошном кресле в Янтарной комнате, жалюзи были подняты, но окна закрыты. Опираясь на испанскую трость, он напряжённо смотрел на ад перед собой: на летящий песок, грохочущие грозные волны, сгибающиеся или с корнем вырванные пальмы и деревья, на огромный платан, переломленный пополам, словно рукой великана, на куски черепицы и камни, которые отрывались от высокой стены и разлетались вокруг, как снаряды.
Около часа дня Джо поднялся из своего кресла, подошёл, опираясь на царскую трость, к среднему окну и посмотрел на маленькую бухту, где на якоре стоял «русский флот». Гигантские волны не только залили бухту, но и полностью её разрушили. Вместо неё образовалось дикое, неровное побережье, чью форму изменяла каждая волна и разъедало море.
— Мои корабли… — запинаясь произнёс Джо. — Мой флот… мой прекрасный флот… у меня больше нет ни одного корабля…
Он отскочил обратно в Янтарную комнату, потом, распахнув входную дверь, выбежал из неё и в тот же миг был подхвачен штормом, который ударил его, будто кулаком, отшвырнул к стене и покатил вдоль неё. Джо крепко схватился за почти сломанную пальму, втянул голову в плечи и, как таран, устремился против ветра. Шляпа улетела, мундир порхал, как крылья призрачной птицы, и Джо с растрёпанными волосами, в распахнутой рубахе и разорванных штанах, добрался до берега и ухватился за торчащий из песка металлический стержень. К этому стержню десять лет назад он привязал свою лодку, которая давно развалилась. Теперь он смотрел немигающим, безумным взглядом на разрушенную бухту. Ни одного корабля, ни одного паруса, ни одного русского знамени… только ревущее море, которое всё поглощает.
— Мои корабли! — воскликнул Джо Уильямс. Он откинул голову назад и поднял правый кулак к чёрно-серому небу. Его рот зиял, как рана, и из этой раны в буйство урагана проник пронзительный вопль — звонкий, пронзительный крик, от которого могло разорваться сердце.
— Мой флот! Шведы победили! Моя Россия… я погубил тебя! Я, твой царь! И вот что теперь стало...
Он отпустил железный стержень, и ветер погнал Джо к дому, как деревяшку. Ударившись о стену и цепляясь за неё, он добрался до двери. У него шла кровь, но он не знал, где именно. Он ничего не чувствовал, но заметил за собой кровавый след, когда он покачиваясь шёл по дому. Спустившись в подвал, он взвалил на плечи деревянный ящик и пошёл с ним в Янтарную комнату.
Оглушительный треск заставил его вздрогнуть. Над ним всё скрипело и ломалось, стоял такой вой, как стон из тысяч глоток. Гигантские руки, ломающие платаны, схватили православный купол, вырвали его, подкинули в воздух, как невесомый, и бросили на землю. Тяжёлый двойной крест ударился о стену о пробил в ней дыру.
— Уничтожить! — взвизгнул Джо Уильямс. Его безумный взгляд скользил по стенам с янтарём, по зеркалам и картинам. — Всё уничтожить! Вы ничего не найдете! Я не сдамся шведам! Не сдамся…
Он сорвал крышку ящика и отбросил в сторону. В ящике были аккуратно уложены жёлтоватые стержни. В отдельном отсеке лежал моток кабеля, завёрнутый в промасленную бумагу. Там же была и квадратная коробочка с несколькими разъёмами и с красным рычагом. Дрожащими руками Джо разложил динамитные шашки вдоль стен Янтарной комнаты, протянул запальный провод в соседнюю, распределил и там шашки вдоль стен, а когда разложил динамит во всех комнатах, связал все кабели вместе, воткнул в разъём детонатора и поднял красный рычаг.
Снаружи ураган рвался в окна и двери, стучал железными кулаками в стены Янтарной комнаты, море всё наступало и уже билось о стену. Совершенно спокойно, с улыбкой, в которой отражалось неземное счастье, Джо сидел в резном позолоченном кресле посреди Янтарной комнаты и держал на коленях детонатор. С такой же благодушной улыбкой он посмотрел на янтарную голову умирающего воина и силой нажал на красный рычаг.
Раздался взрыв, взрывная волна оказалась даже сильнее урагана. В Уайтсэндсе разбилось несколько окон, преподобный Киллроуд увидел из церкви взметнувшийся вверх огненный шар, который быстро унес ураган, а затем стену огня и вздымавшиеся высоко в небо искры.
Он побежал к телефону и позвонил Дэвиду Ховену. К счастью, телефон в Уайтсэндсе ещё работал, потому что все провода были проложены под землёй — тоже заслуга старого доброго Уильямса — и крикнул:
— У Рона что-то произошло! У него всё горит! Похоже на взрыв! У него пожар...
— Я не могу выйти, — крикнул Ховен в ответ.
— Ты должен, Дэвид. Ты должен помочь! Ты же пожарный.
— Ураган поднимет пожарную машину в воздух. Как игрушечную. Я не проеду и десяти метров! Джон, о Господи, я беспомощен при таком урагане… Бедный Рон…
— Бедный! Бедный! Бедный! Теперь у него ничего нет. Мы должны ему помочь, Дэвид…
Но это было невозможно, как и сказал Ховен. Первую пожарную машину ураган ещё в гараже шмякнул о стену. Второй машине Ховен не разрешил выезжать, но вернулся в дежурку, внимательно посмотрел на пожарных и сказал:
— Рона Каллинга больше нет. Друзья, давайте помолимся за него. Это всё, что мы можем сделать.
Весь день и всю ночь шумел ураган и горел дом у моря. На второй день пожарной машине удалось подъехать к стене. Сила ветра уменьшилась, но ее хватало, чтобы раздувать огонь. Всё так полыхало, что пожарные не могли приблизиться к дому. Стены растрескались и обрушивались, брызгая дождём искр. Дома больше не было, пламя не оставило ни малейших упоминаний о том, что здесь когда то был дом. От него остались лишь почерневшие каменные обломки.
Наконец, на четвёртый день, Ховену и его ребятам удалось потушить огонь и подойти к обломкам. Рона Каллинга не было смысла искать, как и его останки.
— Он превратился в порошок, — хрипло произнёс Ховен.
Рядом с ним стоял преподобный Киллроуд и осенял крестным знамением обломки, в которых лежит прах Рона. — Такого огня я ещё никогда не видел. Что же старик здесь хранил? Даже фабрика по производству динамита так не взлетела бы в воздух… — Он покачал головой, глубоко вздохнул и прошелся по руинам. — Такого конца ему никто не желал. Он был хорошим, добрым человеком, а если под конец стал немного чудаковатым, то сам-то он об этом не догадывался. Преподобный, нужно поставить ему на кладбище крест. В память о Роне Каллинге, нашем друге. Он это заслужил.
— Да, — произнёс торжественно Киллроад. — Он заслужил это у Господа.
Через несколько дней к берегу подъехал экскаватор, обломки погрузили в большие грузовики и высыпали почерневшие камни в промоину, которую море выгрызло на берегу.
И в наши дни, и ещё сотню лет искусствоведы, спецкомиссии, спецслужбы и частные любители искусства будут искать Янтарную комнату. В шахтах, рудниках, подземных ходах и подвалах.
Янтарной комнаты больше нет. Стены из «солнечного камня» больше не светятся, и только солнце, которое в них сверкало, знает, что с ними произошло.
Но солнце молчит.
Жизнь — вот его предназначение, а не рассказ о смерти.
БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
хочу выразить всем людям и организациям, которые помогали мне при подготовке этого романа, предоставили информацию и помогли справочными материалами.
Поскольку большинство из них не хотели, чтобы их упоминали, я принципиально отказываюсь называть их имена. Однако хочу подчеркнуть, что их помощь, советы и указания дали мне возможность написать этот роман.
Спасибо!
Хайнц Г. Конзалик
С учётом того, что некоторые персонажи романа или их родственники живы, их имена были изменены. Поэтому любые совпадения непреднамеренны или случайны. Однако отдельные персонажи современной истории названы своими именами.
Примечания
1
Модель "фольксвагена", автомобиль повышенной проходимости военного назначения, выпускавшийся с 1939 по 1945 год.
(обратно)2
strullen (нем.) - мочиться, грубое слово.
(обратно)3
abprotzen (нем.) - жаргонное слово военных, означающее сходить по большой нужде.
(обратно)4
Мой король (нем.)
(обратно)5
Сногсшибательный (нем.)
(обратно)6
Медсестер национал-социалистического народного благотворительного общества называли из-за формы коричневого цвета «коричневыми медсестрами». Существовали также "Голубые медсестры" из профессионального сообщества свободных ассоциаций.
(обратно)7
Cуррогат кофе из солода.
(обратно)8
Мочиться (нем., грубое выражение)
(обратно)9
В действительности текст Ильи Эренбурга был опубликован в газете "Красная звезда" летом 1942 года и выглядел следующим образом:
"Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово "немец" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "немец" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! - это просит старуха-мать. Убей немца! - это молит тебя дитя. Убей немца! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!"
(обратно)10
Auswärtiges Amt – Министерство иностранных дел.
Аlles Arschlöcher - все придурки.
(обратно)
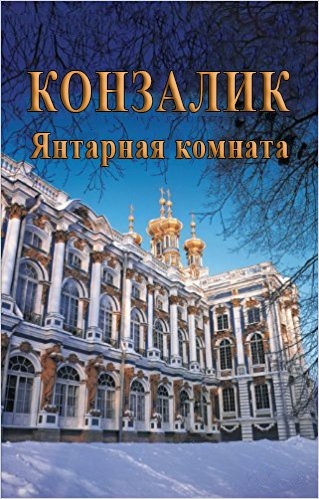
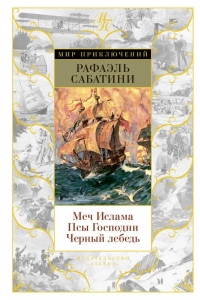


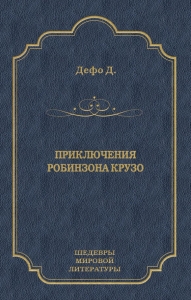
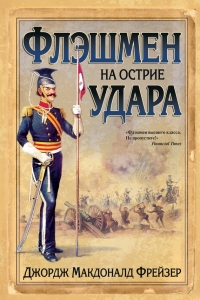

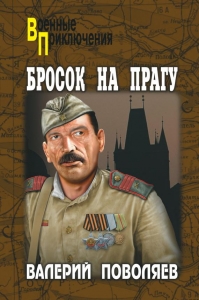
Комментарии к книге «Янтарная комната», Хайнц Конзалик
Всего 0 комментариев