Реквизиты переводчика
Переведено группой «Исторический роман» в 2017 году.
Книги, фильмы и сериалы.
Домашняя страница группы В Контакте:
Над переводом работали: passiflora, gojungle и Almaria.
Редакция: gojungle, Almaria и Oigene.
Поддержите нас: подписывайтесь на нашу группу В Контакте!
Яндекс Деньги
410011291967296
WebMoney
рубли – R142755149665
доллары – Z309821822002
евро – E103339877377
...
Моей жене, с которой я не только делю свои дни, но и обязан ей чудесным даром писательства Моим новым внукам Санти Тригенеру Валенти и Начете Валенти Маркадалю, а также их сестренке Микаэле, вдохнувшей в мою жизнь новые силыДействующие лица
Главные герои
Марти Барбани де Монгри — главный герой.
Бернат Монкузи — влиятельный человек при графском дворе и отчим Лайи.
Лайя Бетанкур — падчерица Берната Монкузи.
Эудальд Льобет — воин и друг Гийема Барбани де Горба, отца Марти, а позже — влиятельный священнослужитель.
Барух Бенвенист — первый глава гильдии менял, хранитель завещания Гийема Барбани. Отец Рут.
Руфь — младшая дочь Баруха.
Рамон Беренгер I Старый — граф Барселонский и супруг Альмодис.
Альмодис де ла Марш — третья жена Рамона Беренгера и мать трех его детей.
Эрмезинда Каркассонская — бабушка Рамона Беренгера I и стойкая противница Альмодис.
Гийем де Бальсарени — духовник Эрмезинды Каркассонской и епископ Вика.
Дельфин — карлик и придворный шут. Советчик и преданный слуга Альмодис де ла Марш.
Аиша — рабыня Марти Барбани, позже подаренная Лайе.
Второстепенные персонажи
Детство Марти:
Эмма де Монгри — мать Марти.
Матеу Кафарель — старый слуга, всегда сопровождающий Эмму Монгри.
Томаса — старая экономка Эммы де Монгри.
Гийем Барбани де Горб — отец Марти, наемник на службе у графа Беренгера.
Дон Сивер — приходский священник и первый учитель Марти.
Жофре Эрменьоль — друг детства Марти.
Рафаэль Мунт по прозвищу Феле — друг детства Марти.
Двор Барселоны:
Рамон Боррель — граф Барселонский и супруг Эрмезинды Каркассонской.
Рамон Беренгер II — сын Рамона Беренгера и Альмодис де ла Марш.
Беренгер Рамон — его брат близнец, также граф Барселонский и наследник отца.
Педро Рамон — первенец Рамона Беренгера I, плод его союза с Изабеллой Барселонской, единокровный брат двух предыдущих персонажей.
Инес и Санча — сестры близнецов Рамона Беренгера и Беренгера Рамона.
Изабелла Барселонская — первая жена Рамона Беренгера I и мать Педро Рамона.
Бланка де Ампурьяс — вторая жена Рамона Беренгера I, с которой он развелся ради брака с Альмодис.
Уго де Ампурьяс — граф Ампурьяса.
Марьял де Сан-Жауме — влиятельный аристократ и друг Рамона Беренгера I.
Жильбер д'Эструк — доверенный человек Рамона Беренгера I, преданный слуга его супруги Альмодис.
Олдерих де Пельисер — викарий Барселоны.
Гуалберт Амат — сенешаль, доверенный человек Рамона Беренгера I.
Одо де Монкада — епископ Барселоны.
Гийем де Вальдерибес — главный нотариус.
Понс Бонфий-и-Марш — судья Барселоны.
Эусебий Видиэйя-и-Монклюз — судья Барселоны.
Фредерик Фортуни-и-Карратала — судья Барселоны.
Лионора — первая дама при дворе Альмодис.
Донья Бригита и донья Барбара — придворные дамы.
Хильда — няня сыновей Альмодис.
Еврейский квартал:
Ривка — супруга Баруха и мать трех его дочерей: Эстер, Башевы и Руфи.
Эстер — старшая дочь Баруха Бенвениста.
Башева — ее сестра.
Биньямин Хаим — супруг Эстер.
Ишаи Меламед — жених Башевы.
Шемуэл Меламед — его отец.
Елеазар Бансахадон — второй глава гильдии менял.
Енох — торговец.
Авимелех — возница Баруха.
Ашер Бен Баркала — известный меняла.
Юсеф — работорговец.
Окружение Берната Монкузи:
Конрад Бруфау — секретарь Берната Монкузи.
Фабио из Кларамуна — бывший управляющий укрепленной усадьбы неподалеку от Таррасы.
Эдельмунда — служанка Монкузи.
Лусиано Сантангел — наемный убийца, альбинос.
Аделаида — няня Лайи.
Двор Тулузы:
Понс III Тулузский — супруг Альмодис де ла Марш.
Робер де Суриньян — советник Понса III.
Аббат Сен-Жени — исповедник Альмодис Тулузской.
Слуги Марти Барбани:
Омар — отец семьи рабов, купленной Марти.
Найма — жена Омара.
Мухаммед — сын Омара.
Амина — новорожденная дочь Омара.
Мариона — кухарка.
Андреу Кодина — дворецкий.
Катерина — экономка.
Путешествие:
Йешуа Хасан — глава гильдии еврейских торговцев Сидона.
Юг де Рожан — глава исследовательской экспедиции из Сидона в Персию.
Базилис Манипулос — капитан «Морской звезды».
Хасан аль-Малик — житель Фамагусты.
Рашид аль-Малик — его брат, житель Месопотамии.
Элефтериос — возница из Фамагусты.
Никодемос — его шурин, разносчик в трактире.
Марван — погонщик верблюдов, слуга Марти.
Другие:
Абенамар абу Бакр ибн Аммар — знаменитый поэт, визирь аль-Мутамида Севильского и посол при дворе Беренгеров.
Роже де Тоэни, нормандский наемник, зять Эрмезинды, женатый на ее дочери Стефании.
Виктор II — Папа Римский.
Кардинал Биларди — камергер Папы Виктора II.
Олегер — стражник во дворце.
Флоринда — знахарка.
Кугат — вор и друг Эдельмунды.
Часть первая
Страсть и невинность
1
Свора
Графство Жирона, май 1052 года
Вечерело. Пятеро суровых и угрюмых всадников ехали по буковой роще, разделяющей графства Ампурьяс и Жирона. Выглядели они не как охотники, а скорее как отряд наемников, которых так много развелось в этих краях — тех, что готовы предложить свой меч любому господину, нуждающемуся в воинах, чтобы вторгнуться в чужие владения или оспорить право собственности соседа.
Они выехали рано утром, чтобы развеяться, рассчитывая подстрелить оленя или кабана — задача куда более легкая, чем обезглавить соперника в битве. Но их подвела неопытность — они не учли направление ветра и не умели двигаться в лесу, не ломая ветвей и не производя лишнего шума, а потому охота окончилась ничем. Усталые, голодные и злые, они возвращались в Жирону, подозревая, что олени, белки, кабаны и рябчики над ними хохочут и обсуждают их неумелость.
Внезапно тот, что ехал во главе отряда, поднял правую руку, дав остальным знак остановиться. К нему приблизился второй наездник, пузатый верзила с густыми усами.
— Что такое, Вольфганг?
Тот махнул рукой вперед и ответил:
— Люди!
По приказу командира все спешились и пошли дальше, держа лошадей под уздцы. Немного погодя они учуяли запах дыма. Они остановились на поляне, привязали лошадей и двинулись дальше, пригнувшись, теперь уже очень осторожно, стараясь не хрустеть ветками и не издавать ни звука. Добравшись до кромки леса, они остановились и стали наблюдать. Зрелище их порадовало: похоже, неудачная охота все-таки может обрести счастливое завершение.
Перед ними высился фермерский дом, из его трубы клубился дым, а его обитатели занимались будничными крестьянскими делами. Двое мужчин подковывали отличную ломовую лошадь, привязанную за поводья к крюку в стене. Парень помоложе держал согнутую левую заднюю ногу лошади, а тот, что постарше, в кожаном фартуке, ударял молотком по гвоздю, прилаживая подкову на копыте благородного животного. Справа от них девочка погоняла маленьким кнутом осла с завязанными глазами, совершающего бесконечную прогулку вокруг колеса. Старуха чесала на этом колесе шерсть, а еще одна женщина, явно на сносях, просеивала пшеничные зерна в огромном сите, подбрасывая его ритмичными взмахами бедер.
Вольфганг произнес довольным тоном:
— Гюнтер, ты видишь то же, что и я?
— Похоже, что да, и сдается мне, день еще может стать удачным. Как девка задом-то крутит, а?
— Для всего хватит времени. Скажи Рикардо, чтобы подошел.
Гюнтер развернулся и осторожным жестом подозвал одного из своих товарищей, которые сидели на корточках чуть сзади. Тот молча повиновался.
Когда он оказался рядом с Вольфгангом, тот спросил:
— Арбалет готов?
— Как всегда, Вольфганг.
— Присмотрись и скажи, ты можешь отсюда попасть в человека, который держит ногу лошади?
— В молодого-то?
— Именно.
— Можно встать в полный рост?
— Если не выйдешь из леса, и только когда я дам приказ.
Тот оценил расстояние, взял арбалет, вытащил из колчана болт, приладил его и натянул тетиву.
— Считай, что он уже труп.
— Меньшего я от тебя и не ожидал.
И он шепотом передал приказы оставшейся троице.
План был прост и опирался главным образом на внезапность. А в результате они отнимут животных и всё ценное, а если еще и потешатся с женщинами, тем лучше. Может, это заставит позабыть злосчастную охоту.
Убедившись, что все заняли позиции, Вольфганг подал сигнал. Арбалетчик поднялся, прицелился и нажал на спуск. Свист болта разорвал тишину, и к удивлению пожилого, молодой человек рухнул, а на его рубахе расплылось огромное кровавое пятно. Сумерки взорвались собачьим лаем.
Солдаты поспешили выбраться из леса. Женщина постарше в ужасе выпустила колесо прялки и вскочила, не понимая, что предпринять. Беременная бросилась к мужу, прижала к груди его безжизненную голову и крикнула девочке:
— Беги, Мария, беги!
Оглушительное кудахтанье разбегающихся во все стороны кур влилось в блеяние перепуганных ягнят. Один из наемников бросился вслед за девочкой, но та, еще держа в руках хлыст, которым погоняла осла, изо всех сил стегнула преследователя по физиономии и помчалась к лесу. Верзила повернулся к пожилой женщине, приставив острие кинжала к горлу крестьянина в фартуке, и сказал со странным акцентом:
— Спокойно. Будете вести себя как следует, и уцелеете, а иначе никому не сможете об этом рассказать. — И, повернувшись к тому, кто командовал отрядом, добавил: — А теперь что, Воль...
Вольфганг в ярости его прервал:
— Кретин! Я тысячу раз говорил, чтобы ты не называл меня по имени!
— Прости, — пробормотал верзила.
И тут огромный волкодав, присматривавший вдалеке за стадом беременных кобылиц, огромными скачками выпрыгнул из леса и набросился на арбалетчика. Мощными зубами пес впился в его правую руку и замотал головой, словно пытаясь ее оторвать. Вольфганг подобрался к ним сзади и точным ударом рассек собаке глотку. Крики раненого мужчины смешались с воплями девочки, отчаянно вырывавшейся из хватки налетчика, на лице которого красовался багровый рубец от удара хлыстом.
— Беременную и девчонку — на сеновал, — приказал Вольфганг. — А мужика тащите в дом, пусть покажет, под каким камнем прячет свои сбережения. И не бейте его без надобности. Старуху заприте вместе с ним.
Отряд разделился. Гюнтер и арбалетчик Рикардо, пытающийся остановить кровь из поврежденной руки, замотав ее тряпкой, направились с дом, а Вольфганг и остальные двое потащили беременную и девочку на конюшню. Как только первые перешагнули порог дома, старик отказался отдавать деньги.
— Вы убили моего сына, а это единственная ценность в нашем доме. Берите всё, что попадется на глаза, и оставьте нас в покое. Моя невестка на сносях.
— Ах ты, сукин сын! За идиотов нас держишь? Показывай, под каким кирпичом хранишь деньги, а не то узнаешь, каково это — разозлить нормандца!
— Повторяю, у меня ничего нет.
— Сейчас мы вернем тебе память!
Выкрикнув угрозу, Гюнтер разорвал платье старухи на груди, выставив напоказ ее бледное тело.
Крестьянин в молодые годы явно был крепким малым и шагнул к обидчику жены, но арбалетчик сбил его с ног ударом мотыги в спину. Женщина в ужасе взвыла. Наемник набросился на ее упавшего мужа и стал без передышки дубасить, превратив его голову в кровавое месиво.
— Вот ведь проклятый скряга, скорее потеряет жену и расстанется с жизнью, чем с деньгами.
Рикардо, не выпуская из рук мотыгу, запыхтел от натуги.
— Привяжи старуху к стулу, и посмотрим, что решит командир, — сказал Гюнтер.
— Ты иди, а я еще с ней позабавлюсь.
— С этим-то мешком костей?
— Знаешь, как говорится в пословице, старый конь борозды не испортит. И вообще, в тяжелые времена ничем не нужно брезговать. И не такое видали!
Женщина всхлипнула в углу.
— У каждого свои причуды. Но в любом случае не задерживайся, нам еще добро собирать.
Гюнтер вышел и направился к конюшне. Там перед его взором предстала картина не менее привычная, но оттого не менее возбуждающая.
Брюхатая стояла на коленях и умоляла Вольфганга:
— Только не трогайте девочку! Ей всего двенадцать, и она девственница! Возьмите меня, будьте милосердны!
— Одной кобылки на всех не хватит. И к тому же тот, кто ее потом получит, будет доволен — мы сделаем за него всю работу, ему останется только получать удовольствие.
И он начал расстегивать штаны.
Позже пятеро налетчиков покинули усадьбу, подвесив на луки седел мешки с обезглавленными курами и кроликами. Позади они оставили огонь и ужас: двух мертвецов и трех изнасилованных женщин. Одну из них, двенадцатилетнюю, растянувшуюся на полу сарая, утешала мать, гладя ее по волосам, заляпанным грязью, кровью и соломой.
2
Эрмезинда Каркассонская
Жирона, май 1052 года
Голоса отразились от толстых стен и прокатились по комнате оглушительным эхом. Эрмезинда Каркассонская, хозяйка Жироны, вдова Рамона Борреля, графа Барселоны, подлинная графиня по праву, славилась вспышками гнева, когда ей противоречили. В ее присутствии гигант Роже де Тоэни, командир стражи, охраняющей площадь, весь сжался, как мальчишка, застигнутый на воровстве малинового варенья.
— Если вы мой зять, это еще не означает, что вы можете бесчинствовать, напротив, вы должны подавать пример. А своим бездействием вы поощряете беззакония, которые день ото дня совершает находящийся в вашем подчинении сброд.
Командир отряда нормандских наемников, расположившихся на постой в предместьях столицы, стоял перед ней, держа шлем на сгибе руки. Украшающие шлем перья слегка подрагивали, выдавая нервное состояние воина, не привыкшего получать подобные выволочки.
— Судите сами, сеньора, не так-то легко призвать к порядку целый отряд вооруженных мужчин, которые маются от скуки, потому что не с кем воевать, да и денег у них нет на все прихоти. Что ж удивляться, если порой они по праву сильного присваивают чужое имущество? Последнее жалованье они получили уже довольно давно, а уж как развращает солдат безделье, вы и сами знаете.
— Хотите сказать, они предпочитают войну покою и хорошей жизни, которую ведут на моих землях? — вскричала графиня.
— Сеньора, постарайтесь понять: это воины... Каким делом их можно занять, кроме того, которое они для себя выбрали? — спросил Роже де Тоэни, пытаясь успокоить даму.
— А это уж ваша забота, чем их занять. Пусть осваивают ремесло жонглеров, акробатов или заклинателей змей — но знайте, что я не потерплю выходок вроде вчерашней. Мой долг — защитить своих подданных от этой орды дикарей!.. По их милости люди вынуждены запирать на семь замков имущество и не выпускают женщин из дома!
— Понимаю ваши чувства, но не в моих силах предотвратить шалости людей, разгоряченных вином, озверевших от безделья и нехватки женщин.
— Вы смеете называть это шалостью? Забить до смерти человека и изнасиловать всех женщин в доме, причем одной из них только двенадцать лет?! Имейте в виду: если вы не в состоянии призвать негодяев к ответу, это придется сделать мне... И можете мне поверить, я сделаю это без колебаний!
Нормандец по-прежнему стоял вытянувшись, как на страже.
— Так вот, я скажу, что вам надлежит сделать! — продолжала графиня. — Вы должны выяснить, кто из них учинил сие благочестивое деяние, и публично вздернуть их на виселице, которую установите прямо на площади Оружия, причем сделайте это в присутствии всего отряда, чтобы впредь никто не отважился на подобные бесчинства.
Роже де Тоэни раздвинул губы в кривой усмешке.
— Скажите, сеньора, вы и правда верите, что кто-либо из моих людей способен предать товарища по оружию?
— Вы считаете меня полной дурой? Мне нет дела, способны они предать или нет! Если виновные не найдутся, повесьте тех двоих, кто покажется наиболее подозрительным, и вопрос будет решен. И скажу откровенно: даже лучше, если они будут молчать. Так, по крайней мере, никто не будет спокоен за свою шею. Надеюсь, столь печальные происшествия больше не повторятся, но если это все же случится, сами увидите, как скоро вам назовут имена лиходеев.
— Но, сеньора, — возразил нормандец, — будут наказаны невиновные.
— Я вижу, у вас на все готов ответ. В таком случае, скажите на милость, чем провинились мои несчастные подданные? Если вам так нужно оправдаться в глазах ваших капитанов — можете свалить все... на самодурство старой графини.
Повисла гулкая тишина. Воин взял себя в руки, выпрямился, слегка наклонил голову и широким шагом вышел из комнаты. За его спиной раздался голос старой Эрмезинды:
— Что касается вас, то вам следовало бы хоть иногда делить ложе со Стефанией, а не проводить ночи напролет, пьянствуя и играя в кости. Вам повезло, что моя бедная дочь — такая наивная дурочка... Но со мной у вас этот номер не пройдет!
Рыцарь де Тоэни не удержался и перед тем как распахнуть дверь быстро повернулся, так что дернулся плюмаж на шлеме, и выкрикнул громовым голосом:
— Скорее я умру, сеньора! Скорее я умру!
Громко хлопнув дверью, он вышел.
Оставшись в одиночестве, графиня взяла молитвенник с чудесными миниатюрами, выполненными искусной рукой монаха — книгу подарил ей брат, Пер Роже, епископ Жироны, — и попыталась читать. Увы, ее мысли блуждали по дорогам давнего прошлого, перебирая эпизоды долгой и бурной жизни, и ей никак не удавалось сосредоточиться. Она встала и, подойдя к небольшому шкафчику в углу, достала оттуда бутылку и щедро плеснула себе вишневого ликера, который сама готовила в маленькой комнатушке в погребе, снабженной всем необходимым. Затем она устроилась перед двустворчатым окном в кресле из благородного дерева, обитом тисненой кожей и со множеством блестящих медных гвоздиков, и позволила мыслям вернуться в те далекие времена, когда она твердо решила во что бы то ни стало отстоять права своего супруга, Рамона Борреля, на графства Жирона и Осона — часть своего приданого.
Тогда шел благодатный 992 год. Барселонская делегация, прибывшая в Каркассон вместе с Рамоном Боррелем, выглядела поистине блистательно. Всадники на великолепных скакунах сопровождали украшенные гирляндами цветов кареты, в которых ехали дамы. В глазах рябило от блеска доспехов и железных умбонов [1] на щитах, сияния упряжи и белоснежных одеяний священников.
Наконечники копий, казалось, были сделаны из чистого серебра; от грохота барабанов и рева труб сотрясался воздух; барабанщики и трубачи заглушали друг друга под хлопанье знамен и штандартов. Одним словом, роскошью и блеском процессия могла поспорить с любым монархом. Горожане стояли по обе стороны улицы или смотрели из окон, махали руками и радостно хлопали в ладоши, осыпая процессию целыми тучами розовых лепестков. Во главе величественной кавалькады ехал рыжеволосый сеньор, которому предстояло жениться на юной графине, бракосочетание должно было состояться в Каркассоне.
В тот день главная церковь города казалась Эрмезинде торжественной, как никогда. Знатные гости уже расположились на разукрашенных скамьях, а простой народ выстроился вдоль домов, мечтая увидеть свою «маленькую графиню». Когда под звуки органа она вошла в храм под руку с отцом, казалось, само небо спустилось на землю. Сквозь тонкую вуаль на лице она увидела у алтаря рыцаря с длинными рыжими волосами и в доспехах как у принца, поверх которых сверкало великолепное золотое ожерелье с коралловой подвеской-камеей, изображающей вепря.
Время как будто повернуло вспять, и на миг она снова стала маленькой девочкой, мечтающей о торжественном дне своей свадьбы. И вот теперь Эрмезинда его дождалась. Отец взял ее под руку и подвел к алтарю. Поклонившись, Рамон Боррель встал слева от нее. Музыка неожиданно смолкла, и в храме воцарилась торжественная тишина.
Эрмезинда помнила каждую деталь церемонии. Венчанием руководили два епископа: епископ Безье и епископ Барселонский, а также декан Каркассонский. Множество священников с обеих сторон Пиренеев в белоснежных одеяниях и отороченных золотом мантиях исполняли обязанности простых служек. Сама церемония проходила по римскому обряду: один из епископов велел ей подставить ладони, и Рамон Боррель высыпал в них аррас — тринадцать серебряных монет; этот обычай был ей хорошо знаком. Все произошло очень быстро. Епископ взял ее левую руку, которая, выглядывая из плотной манжеты платья, казалась еще тоньше и белее, и вложил в руку Рамона Борреля. В эту минуту Эрмезинда впервые услышала его голос.
Он заговорил на смеси примитивного каталонского и вульгарной латыни.
— Я, Рамон Боррель, граф Барселонский, беру тебя в законные супруги и клянусь оберегать от любой опасности, уважать и хранить от всякого зла и быть верным в болезни и в здравии, до конца моих дней, пока Господь не призовет меня к себе.
Хотя в эту минуту решалась ее судьба, мысли Эрмезинды больше занимали красивые и звучные незнакомые слова — смешанные с латынью, они звучали так забавно. Затем она повторила их. Заиграла музыка, наперебой зазвенели колокола, возвещая о свершившемся бракосочетании, а потом она вместе с мужем скрылась за толстыми стенами Каркассонского замка, и там колокольный звон был почти не слышен.
Она вышла из кареты и, пока прибывали гости, поднялась в свои покои, где дожидалась целая армия придворных дам и служанок во главе с няней. Они сняли с нее венчальный наряд, в котором графиня блистала во время церемонии. После этого ее надушили, сделали новую прическу, украсив волосы жемчужной диадемой, принадлежавшей еще ее бабушке, и облачили в длинное лиловое блио [2] с глубоким декольте, приоткрывающим грудь, и широкими ниспадающими рукавами, похожими на крылья бабочки. За платьем последовал золотой пояс, туго охвативший бедра и подчеркнувший изгибы ее тела. Взглянув на себя в полированное бронзовое зеркало, Эрмезинда подумала, что выглядит совершенно голой.
— Няня, я что же, должна предстать в таком виде перед гостями?
— Да, девочка моя, — ласково ответила та.
— Но я чувствую себя просто голой... — возмутилась графиня.
— Замужняя дама должна выглядеть желанной и при этом оставаться недоступной. Супруг должен увидеть в вас женщину, а не ребенка, иначе сегодня ночью он просто не будет знать, что с вами делать.
— А что будет со мной сегодня ночью, няня?
— То, что назначено самой природой. Не волнуйтесь. Если чутье меня не обманывает, у вас будет хороший учитель.
Эрмезинда беспомощно посмотрела на нее.
— Но, няня... — робко возразила она.
— Ах, перестаньте, дитя мое. Овцам надлежит трепетать перед пастырем и не задавать вопросов. Лучше надень вот это.
Няня протянула ей голубую подвязку.
— Что это?
— Не надо спрашивать, — няня поднесла палец к губам. — Просто наденьте на ногу — только повыше, чтобы не увидели всякие любопытные особы, — она указала на трех дам, шушукающихся в углу комнаты. — На моей родине, в Серданье, считается, что это приносит счастье, здесь же это называют колдовством.
Эрмезинда посмотрела ей в глаза, проворно сбросила остроносую туфлю и надела подвязку на бедро, затянув тугой петлей, потом опустила подол сорочки, нижней юбки и наконец — роскошного блио.
— Я не задумываясь брошусь в реку, если вы велите, — заверила она. — Как же я люблю вас, няня! Если бы вы не смогли поехать со мной в Барселону, я бы не вышла замуж. Без вас я чувствую себя совершенно беспомощной, как заблудившаяся в лесу девочка...
И тут ее сознание затуманилось, образы поплыли в причудливом хороводе, продолжая волновать и тревожить, несмотря на прошедшие годы.
Пиршественный зал, где собрались гости обоих дворов, блистал роскошью и великолепием. Огромный стол, тянувшийся от края до края, был уставлен богатыми и изысканными яствами; между ними стояли тяжелые канделябры, освещая все это великолепие. Здесь были громадные супницы, испускавшие облака ароматного пара; целые туши оленей на вертеле; рыба, доставленная во льду с недалекого средиземноморского побережья; и бесчисленные кубки, готовые вместить самые разнообразные и прославленные вина региона.
Во главе стола возвышались четыре трона — для ее родителей, Роже I и Аделаиды де Гавальды, и для родителей супруга, Борреля II и Легарды Руэрг. По обе стороны стояли два кресла пониже: одно — для ее мужа, возле трона ее матери, и другое — для нее самой, рядом с троном свекра. Музыканты на галерее заиграли веселую мелодию. Две графских четы с достоинством заняли места, а гости — свои, в строгом соответствии со знатностью и степенью родства с хозяевами.
И вот уже Эрмезинда сидит за большим столом. Она припомнила, что поначалу не осмеливалась бросить взгляд на гостей. Гости уже отдали должное еде и обильным возлияниям, а ее воспоминания о конце вечера стали особенно четкими. Тосты в честь новобрачных поднимались всё чаще, музыка зазвучала громче, а весь мир, казалось, забыл о графине.
За весь вечер она лишь раз решилась взглянуть на мужа: когда к ней подошли придворные дамы, чтобы увести ее в опочивальню и приготовить к брачной ночи, да и то не смогла толком его рассмотреть. Шум, крики и смех разносились по всему замку; слуги сновали из кухни в зал в непрерывной суете, унося и принося все новые блюда с десертами. Перед тем как удалиться, невеста взглянула на мать, наградившую ее суровым взглядом. Никто кроме матери, казалось, даже не заметил ее ухода. У дверей опочивальни ее дожидались четыре дуэньи.
Двери открылись, и Эрмезинда оказалась в комнате, где должно было произойти важнейшее событие ее жизни. Расписные потолки, гобелены, закрывающие все щели в стенах, куда мог бы заглянуть чей-то любопытный глаз, плотный балдахин, скрывающий громадный альков, где она в детстве так любила играть в прятки со своим братом Пером. Кровать под балдахином была похожа на корабль: она покоилась на четырех позолоченных столбах и была так высока, что на нее приходилось взбираться по особой лесенке.
Няня, готовясь сыграть важнейшую роль в жизни воспитанницы, дожидалась ее возле ванны, над которой клубился пар. Эрмезинда чувствовала, как женские руки снимают с нее одежду, пока она не осталась совершенно нагой; затем ее погрузили в ванну и принялись растирать, разминать и умащивать благовониями, привезенными из далеких стран, чтобы скрыть запах ее тела и съеденных на свадебном пиру кушаний. Наконец, дамы удалились, оставив ее наедине с ее няней Брунгильдой.
Та заколола ей волосы черепаховым гребнем и осторожно накинула через голову искусно расшитую сорочку. Затем без лишних слов подвела Эрмезинду к зеркалу — подарку мужа, доставленному из мусульманских земель каталонскими купцами — куску полированного металла, в котором отражалось все ее тело. Эрмезинда разглядывала вертикальный разрез на сорочке спереди, чуть пониже живота, тщательно обметанный с обеих сторон. Поймав ее вопросительный взгляд, няня ответила:
— Это для того, чтобы почтить стыдливость невесты в первую брачную ночь. Через разрез муж овладеет вами, не нарушая правил приличия. Не забывайте, что вы — хранительница чести Каркассона. Только шлюхи выставляют напоказ наготу.
— В какое же странное место на теле Каркассон поместил свою честь, няня.
— Такова жизнь, девочка моя. Это не я придумала, так уж положено. А сейчас поднимайся на ложе и жди. А я должна удалиться. И... не забывай, что сейчас тебе может быть больно, зато потом будет приятно.
Крепко обняв и поцеловав на прощание няню, Эрмезинда поднялась по лесенке на свою Голгофу. Няня удалилась, погасив все свечи и оставив лишь тусклую лампадку перед изображением Пресвятой Девы. Графиня осталась одна во мраке алькова, взволнованная и испуганная, дожидаясь мужа. Ей вспомнился давний разговор с матерью, когда та впервые рассказала ей о человеке, которому предстояло стать ее супругом.
— Человек, которому ты назначена в жены — Рамон Боррель, граф Барселонский, мы с ним в дальнем родстве. Наш общий предок — Белло I, граф Каркассонский и Барселонский до 812 года. Сама понимаешь, он не имеет никакого отношения к франкам, этим выскочкам с севера, наша благословенная земля уже тогда была частью Септимании, наследницы латинской культуры. Когда Аль-Мансур захватил Барселону, мы не на шутку встревожились. Это были страшные времена, мы по-настоящему боялись, что Пиренеи не остановят мавров, — голос матери зазвучал строго и торжественно. — Каркассону необходим надежный щит на юге, особенно от ислама. И залогом этого союза станешь ты, будущая госпожа де Фуа и де Нарбонн. Твой будущий супруг — граф Барселоны, Жироны и Осоны, отважный воин, способный защитить наши границы, тем более, если это границы владений его жены.
Все это медленно проплывало в памяти графини, пока ее старое усталое тело дремало в кресле в башне замка. А ее неукротимый дух по-прежнему блуждал по закоулкам памяти. Видения были настолько яркими, что сердце едва не разрывалось от волнения.
И тогда ей на память пришли другие слова матери:
— Ничего страшного, дочь моя, что пока ты его не любишь. Я даже не знала твоего отца, когда выходила за него замуж, однако была с ним очень счастлива. Скажу только одно: когда раздвинешь перед ним ноги, думай о Каркассоне.
3
Марти Барбани
Барселона, май 1052 года
Рассвет окрасил розовым небо над морем, и Барселона зарумянилась, словно невеста после первой брачной ночи. Рыбачьи лодки возвращались на берег после ночного лова, полные до краев серебристой рыбы; веселые оклики моряков перемежались шутками и насмешками, если оказывалось, что кто-то наловил меньше рыбы, чем остальные.
Толпы крестьян, слуг, нищих, священников и торговцев наводнили Кастельвель и рынок. Повсюду громоздились всевозможные средства передвижения: тяжелые колымаги, запряженные волами; галеры, набитые коробками; а также множество мулов и лошадей. И повозки, и лодки, и вьюки на лошадях и мулах, были полны товаров, привезенных сюда со всех концов графства для продажи или обмена на здешнем рынке, протянувшемся вдоль городских стен.
Единственное преимущество этих ворот перед воротами Регомир у верфи заключалось в том, что запах товаров был вполне сносным, в отличие от чудовищной вони, стоявшей там, откуда в город ввозили всю рыбу, а летом смрад еще усиливался поднимающимися от реки испарениями, особенно когда со дна сгребали ил, чтобы нечистоты наконец добрались до моря.
Стражники у ворот, потея под кольчугами, нагрудниками и шлемами, не горели желанием обращаться с толпой дружелюбно. Они восстанавливали порядок с помощью кнута и даже алебард, набрасываюсь на любого, кто провоцировал заварушку. Тут любой способ хорош, тем более когда речь идет о всяком сброде и вонючих животных. Но лучше всего против тех, кто пытался влезть без очереди, действовало одно средство: спорщиков оттаскивали и отправляли в конец длинной вереницы, сколько бы они ни ругались и не поминали Господа и дьявола.
Вся эта суета поднималась из-то того, что городским таможенникам предстояло оценить товар и собрать плату, которую граф направлял на строительство самого современного сооружения тех дней — канала Рек-Комталь, чтобы отвести воду в город из реки Бесос.
В толпе ожидал всадник на спокойном чалом мерине — молодой человек среднего роста, а густой загар выдавал в нем человека, привыкшего проводить много времени на свежем воздухе. У него были карие глаза, длинные черные волосы и довольно привлекательное лицо. Выступающий подбородок с ямочкой говорил о твердом характере и сильной воле — несомненно, именно эта фамильная особенность и легла в основу семейного прозвища, поскольку звали его Марти Барбани [3].
По бокам коня свисали две седельные сумки. Юноша терпеливо дожидался своей очереди, поглаживая по шее чалого. Время от времени он прикладывал руку к карману на груди, где хранил все свои сокровища и среди них — письмо, от которого зависело его будущее. Одет он был в длинные облегающие штаны с кожаными тесемками, завязанными на щиколотках, домотканую шерстяную рубаху и саржевый плащ, перекинутый через голову и стянутый поясом, концы которого спадали на бедра. На ногах — дорожные башмаки из оленьей кожи, а на голове — зеленая шапочка, из тех, какие носят егеря и мастера соколиной охоты.
Пока юноша медленно двигался в очереди, он снова и снова мысленно возвращался к своему решению покинуть отчий дом и сопутствующим этому обстоятельствам.
Его путешествие длилось уже три дня — началось оно в Эмпорионе, а закончится должно было в Барселоне, с божьей помощью. Однако он даже и вообразить не мог, куда приведет его жизнь и необыкновенная судьба. Сейчас же он мысленно бродил в местах далеких и родных. Родился он в деревушке неподалеку от Эмпориона, на ферме, которую щедро пожаловал его семье граф Уго, а потом, при деде Марти, граф Конфлана позволил своему вассалу вырубить лес, и на месте шумной листвы появилось двенадцать фейш и три мундины обработанной земли [4].
Марти был единственным сыном Гийема Барбани де Горба и Эммы де Монгри — неравного союза, которому противилась семья Эммы, хотя Гийем Барбани был всего лишь наемником на службе у Эрмезинды Каркассонской, а прежде — у ее мужа Рамона Борреля, графа Барселоны. Он защищал границы графства и участвовал в мелких набегах и вторжениях на территорию мавров — короля Лериды.
Семья матери Марти жила в столице Гаррочи и отреклась от дочери, когда та решила выйти замуж за этого наемника, почти что разбойника с большой дороги, и в результате семья лишила ее наследства и пожертвовала всё состояние влиятельному монастырю Клюни.
Эмма хотела, чтобы Марти посвятил себя церкви, однако он и не смотрел в сторону алтаря. Сколько себя помнил, он всегда мечтал стать похожим на любимого деда по отцовской линии, который в детстве служил ему главным примером для подражания. Старик заметно прихрамывал на левую ногу, но никогда не рассказывал, когда и при каких обстоятельствах получил это увечье. Но когда маленький Марти жаловался, что отец все время на войне и его никогда нет дома, старик виновато разводил руками, пытаясь объяснить, что многим людям по воле судьбы приходится исполнять свой долг.
Этим разговорам — как, впрочем, и любым другим — пришел конец, когда со стариком случился удар. С тех пор он лежал, как бревно, возле камина, пуская слюни. Однажды вечером, вернувшись домой с полевых работ, домочадцы нашли его мертвым. На следующий день гроб с его телом водрузили на погребальную повозку и увезли на кладбище, где похоронили в священной земле церкви Кастелло [5], где он упокоился, оплакиваемый своими соседями и друзьями, провожавшими его в последний путь. Возглавляла печальную церемонию мать Марти. Это было самое первое большое горе в жизни мальчика, ему тогда исполнилось семь лет. В тот день он окончательно понял, что не собирается ограничивать свой мир окрестными рынками и ярмарками, чтобы продавать выращенный семьей урожай. Он не желал гнуть спину от восхода до заката, как дед, чтобы его собственная жизнь закончилась так же: стуком комьев грязной земли, падающих на крышку гроба под монотонное бормотание священника.
Годы его детства прошли в необоримой жажде знаний. Его мать, в чьих волосах прибавлялось все больше серебра, все еще надеялась, что он посвятит жизнь служению церкви и заставляла сына дважды в неделю седлать Мулея — старого осла, страдающего астмой и по этой причине освобожденного от всякой другой работы. Марти отправлялся в соседнюю деревню, где дон Сивер, приходской священник деревни Вилабертран, взялся обучать его четырем действиям арифметики и основам грамматики за скромное вознаграждение в виде зерна или овощей с их поля, а иногда — курицы или кролика. Он также обучал Марти катехизису и читал жития святых, надеясь пробудить в ученике интерес к карьере священника. Марти же старательно этот интерес изображал, боясь, что иначе его отлучат от столь интересного занятия, как чтение.
— Послушай, Марти, — частенько говаривал этот добрый человек. — Если ты постараешься, то вполне сможешь сделать карьеру на церковном поприще. Не забывай, что аббат или епископ порой имеют больший вес в обществе, чем даже граф или маркиз, а ты хорошо соображаешь...
Помимо арифметики, грамматики и катехизиса священник взял на себя обязанность обучать мальчика хорошим манерам и правилам поведения за столом, что всегда пригодится в жизни, благо обедали они вместе в пасторском доме. Увы, с этого времени пришел конец захватывающим походам к Розовому заливу, лазанью по скалам, купаниям в укромных бухтах и головокружительным путешествиям по затопленным пещерам вместе с друзьями, Феле и Жофре, где они представляли себя отважными пиратами, а иногда тайком подсматривали за девушками, когда те, сбросив корсажи и высоко подоткнув юбки, брызгались и смеялись, стоя по колено в воде.
Еще при жизни деда, незадолго до того, как Марти исполнилось четыре года, они получили скорбное известие, что всеблагой Господь призвал к себе его отца во время битвы, где он сражался под знаменами своего сеньора, «принца» Олердолы, неподалеку от Вика. Жизнь его оборвал удар дротика, который кто-то метнул ему в спину. Марти хорошо помнил, как к ним в дом в сопровождении приходского священника пришел человек, доставивший эту печальную весть.
Когда это случилось, стоял промозглый ноябрьский день, северный ветер выл дьявольскими голосами, сметая все на своем пути, срывая оставшиеся по небрежности открытыми ставни и даже выдирая с корнем деревья. Крыша старого дома скрипела и стонала, словно раненое животное, когда послышался стук в дверь. В камине горел огонь, и поленья уютно потрескивали. В это время в доме как раз ужинали, сидя возле камина за длинным столом, во главе — мать, рядом с ней — няня Томаса, Матеу Кафарель, верный спутник Эммы с первых дней ее неудачного замужества, и сам Марти. Истошный собачий лай возвестил, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Из-за двери послышался знакомый голос, сопровождаемый ударами дверного молотка:
— Эмма, открой, это я, дон Сивер.
Старый садовник, исполняющий также обязанности лакея и кучера, отодвинул кружку и со свечой в правой руке зашаркал к двери, а обеспокоенная няня вытерла руки тряпкой и переглянулась с хозяйкой дома. По молчаливому приказу Эммы старик поднял толстый дубовый брус, служивший засовом, и отодвинул задвижку. Дверь открылась, пламя свечи резко вспыхнуло в потоке свежего ветра, высветив тощую фигуру священника, которого сопровождал здоровенный воин, чьи рост и телосложение поразили Марти — возможно, по контрасту. Еще ничего не зная, он по лицу матери тут же понял: дело плохо. А ее голос, навсегда оставшийся в памяти, подтвердил самые худшие опасения.
— Марти, иди в свою комнату, — сказала мать.
Он прекрасно помнил, как поспешно вышел, схватил своего щенка Султана, но ступив за порог, тут же прижал ухо к двери и стал слушать разговор. Помимо знакомого материнского и голоса учителя звучал и торжественный голос посланника. Марти потрясла ледяная фраза матери, когда она услышала дурные известия.
— Вы слишком запоздали с новостями о том, чего я давно ожидала.
Через некоторое время посетители удалились. Снова жалобно заскрипела задвижка, и Марти услышал разговор матери с няней и старым слугой. Поняв, что мать зайдет пожелать ему спокойной ночи, он быстро разделся, натянул ночную сорочку до колен и залез под одеяло. Вскоре дверь отворилась, и мерцающая свеча в руке матери высветила на полу дугу. Поставив свечу на стол, Эмма села на край кровати, и Марти ощутил теплую руку на лбу и, слегка приоткрыв глаза, увидел огромную тень матери на стене. Время и тяжелая жизнь ее подкосили. Голос прозвучал тихо и равнодушно, словно она объявляла о давно ожидаемых событиях.
— Марти, сынок! Я знаю, ты давно привык чувствовать себя сиротой, но сейчас и правда осиротел. Твой отец погиб, занимаясь тем ремеслом, что любил больше всего на свете: сражаясь. Единственное твое наследство — фамильный перстень, который он отдал мне на хранение, чтобы я передала тебе, когда тебе исполнится восемнадцать лет. Тогда мне и сообщат, что тебе надлежит с ним делать и куда отправиться.
Потеряв отца, Марти не почувствовал ни горя, ни тоски. Сам не зная почему, он сел на кровати и обнял мать. Ощутив, как сотрясается ее пышная грудь, он с удивлением понял, что эта сильная женщина, которая все его детство была главой и опорой семьи, плачет.
В эту ночь он принял решение, что рано или поздно уйдет из дома. Он не мог смириться с тем, что станет обычным крестьянином: амбиции его были слишком велики, а возможности в родной провинции — весьма ограничены. Тем не менее, прежде чем он наконец покинул отчий дом, произошла целая череда событий, поскольку человек предполагает, а Бог располагает. В шестнадцать лет Марти впервые влюбился — во всяком случае, именно так ему тогда показалось. Однажды на ярмарке он познакомился с Басилией, девушкой примерно его возраста, дочерью богатого крестьянина. Марти удалось уединиться с ней в стогу и потискать ее грудь. С этой минуты он решил, что мир перевернулся. Друзья смеялись над ним, но ему было все равно. Он пришел к матери и попросил разрешения посвататься к девушке. Эмма подошла к делу со всей серьезностью и постаралась сначала как можно больше разузнать о невесте и ее семье. И к величайшему в его недолгой жизни отчаянию выяснилось, что девушка уже давно помолвлена с богатым землевладельцем, и не могло быть и речи о том, чтобы ее отец отказался от такого выгодного родства.
Дни проходили за днями, сливаясь в месяцы и годы, и воспоминания о несчастной любви понемногу изгладились из его памяти. Когда Марти достиг назначенного возраста, мать передала ему перстень и пергамент, который не так давно доставил один незнакомец. На пергаменте было указано имя и адрес в Барселоне.
— Сынок, месяц назад нам доставили это письмо. Я должна передать его тебе в день твоего совершеннолетия. Здесь ты прочтешь, что надлежит делать, когда прибудешь в город. Насколько я поняла, это что-то вроде пропуска, он откроет тебе двери в дом человека, пославшего тебе это письмо. Ты уже взрослый, и хотя я эгоистично хотела бы оставить тебя рядом, чувство материнской любви говорит мне, что ты должен жить своей жизнью, а я не должна препятствовать твоему предназначению. Я не хочу быть помехой на твоем жизненном пути, а потому поезжай и не оглядывайся назад. Здесь тебе нечего больше делать.
— Мама, я ждал столько лет; неужели нельзя подождать еще пару месяцев? — ответил Марти. — На носу уборка урожая, я не могу уехать и бросить всю работу на вас. Когда я вернусь домой — а я клянусь, что вернусь, мама! — вы поймете, что не зря потратили столько сил, пока меня растили. Если же я не вернусь — значит, я погиб, стремясь это доказать.
Когда наступил день отъезда, он обнял мать, изо всех сил сдерживающую слезы, и отправился навстречу приключениям. Снова и снова он оглядывался на стоящих на пороге мать, няню Томасу и верного Матеу, пока их фигуры не растаяли вдали, оставшись лишь в его сердце. Он пнул коня пятками, пустив его в легкий галоп, и помчался прочь от того, что до сих пор составляло его мир. Ему исполнилось восемнадцать лет и три месяца.
Очередь двигалась нестерпимо медленно, и лишь ближе к полудню Марти оказался у ворот. Один из стражников спросил, кто он такой и зачем приехал. Марти Барбани извлек из кармана заветный клочок пергамента, адресованный канонику собора, и стражник, взглянув на имя и перекинувшись несколькими словами с начальством, велел проезжать. Марти пришпорил коня и, подхваченный толпой, въехал в город по оживленной улице и, добравшись до площади, где полюбовался великолепием графского дворца, повернул к странноприимному дому при соборе под названием Пиа-Альмония, где жил архидьякон Льобет, которому и был адресован документ.
Он спешился, привязал лошадь в деревянной коновязи и дал монету мальчишке, чтобы посторожил, а потом вошел и направился к столу, где молодой священник принимал посетителей, имеющих дело к живущим в доме каноникам и высшим духовным лицам. Как только Марти подошел к священнику, зазвонили колокола Пиа-Альмонии, созывая к мессе, а им вторили остальные колокола монастырей и церквей Барселоны и окрестностей. Все люди в переулке побросали свои дела, мужчины сняли шапки, а женщины покрыли головы мантильями и платками и стали прислушиваться к перезвону. Когда он затих, они возобновили свои занятия.
— Чем могу быть полезен?
Это священник тоже ожил и напевным голосом спросил Марти его имя и причину визита.
— У меня письмо к архидьякону Льобету. Если вы будете так любезны, я бы хотел его видеть.
Марти протянул документ, и священник, поднеся к глазу толстое круглое стекло на длинной ручке, стал читать написанные на пергаменте буквы.
— Извольте немного подождать.
Он взял со стола колокольчик и позвонил. Сразу же явился молодой монах в ожидании приказа.
— Отнесите это письмо падре Льобету.
И тут вмешался Марти Барбани.
— Я бы предпочел сам его вручить. Если вы не забыли, это мое рекомендательное письмо.
С этими словами он протянул руку, чтобы забрать письмо. Священник внимательно оглядел гостя и пришел к выводу, что мальчик, несмотря на молодость и крестьянскую внешность, явно не так прост, как кажется.
— Как пожелаете, — ответил он. — Но сомневаюсь, что он вас примет. Падре Эудальд — человек разборчивый, и даже если у вас есть рекомендательное письмо, он не привык, чтобы к нему врывались без доклада.
— Тогда скажите его преподобию, что его желает видеть Марти Барбани.
Монах, как бы извиняясь, пояснил:
— Надеюсь, вы понимаете, что решать будет только он сам?
Вскоре вышел служка и объявил, что архидьякон примет посетителя.
Монах с любопытством взглянул на молодого человека и добавил:
— Просто неслыханно! За все время моего пребывания здесь в первый раз вижу, чтобы архидьякон кого-то принял без доклада. Клянусь святым Варфоломеем, вы настоящий счастливчик!
4
Епископ Гийем де Бальсарени
Барселона, май 1052 года
Перед епископом стояла нелегкая и весьма неприятная задача. Ему предстояло пустить в ход все свое красноречие и искусство дипломатии, чтобы выбраться невредимым из столь щекотливой ситуации. С одной стороны, он мог объяснить свой поступок преданностью графине Эрмезинде Каркассонской — кстати, постоянно подкрепляемой щедрыми пожертвованиями епархии Вик; с другой стороны, мог сослаться на то, что действует во имя благополучия и процветания графств Жироны и Осоны, которыми теперь правила графиня Эрмезинда, согласно желанию ее покойного супруга, Рамона Борреля, с тех пор как Господь призвал его к себе, хотя официальным графом Барселоны считался их внук Рамон Беренгер I.
В те времена новости распространялись крайне медленно. Однако письма папы Виктора II своим епископам и аббатам шли через густую сеть монастырей, покрывающую все подвластные Риму территории, вплоть до самых отдаленных епархий, и доходили с невероятной для того времени скоростью. Хотя последнее письмо епископ предпочел бы и вовсе не получать.
Епископ Гийем был настоящим божьим человеком: заботился о своей пастве, был милосерден и проявлял живое участие во всех делах, где требовалось его вмешательство. Его здравый смысл и общеизвестная праведность помогали улаживать любые конфликты, будь то тяжбы между благородными господами из-за пограничных владений, жалоба крестьянина, которого надула родня невесты, лишив обещанного приданого, или бедолаги, ограбленного разбойниками. Каждый день у дверей его резиденции выстраивалась очередь бродяг и нищих в ожидании, когда слуга вынесет горшок с приготовленной для них похлебкой, на удивление наваристой и вкусной.
Измученный гонец прибыл ночью, но известие оказалось настолько важным, что служка немедленно разбудил епископа, несмотря на то, что тот едва успел сомкнуть глаза после заутренней. Когда эмиссары Папы римского доставляли известия первой важности, они сообщали пароль: «Петух пропоет трижды». Услышав эти заветные слова, служки должны были немедленно разбудить епископа или разыскать его, где бы он в это время ни находился.
Епископ быстро оделся. Нельзя допустить, чтобы гонец застал его в неподобающем сану виде. Как известно, монаха делает одеяние, и внешний вид чрезвычайно важен, чтобы внушать людям почтение и уважение.
Он мельком взглянул на себя в полированное медное зеркало. На него смотрел великолепно сложенный мужчина в роскошном фиолетовом облачении и с пилеуолусом [6], прикрывающем тонзуру. Довольный увиденным, он распорядился, чтобы гонца провели в его покои. Тот вошел, в пыли с головы до ног, даже лицо превратилось в неузнаваемую маску. Опустившись на колени перед аббатом и поцеловав его перстень, гонец вытащил из котомки запечатанный пергамент и протянул священнику. Тот велел служке позаботиться о том, чтобы гонца накормили и дали как следует отдохнуть. Оставшись в одиночестве, он распечатал нежданное послание и принялся его читать. Оно гласило:
Замок Святого Ангела, Рим, 16 мая 1052 года
Уважаемый брат мой во Христе!
Это письмо имеет чрезвычайную важность, храните его в тайне. Учитывая текущие обстоятельства, было бы крайне нежелательно, чтобы эти сведения достигли посторонних ушей, а потому весьма уповаю на Ваше благоразумие и сдержанность.
Соотношение сил сейчас таково, что, если эти сведения попадут в руки врагов Церкви, истинной вере может быть нанесен непоправимый ущерб, поскольку личный пример властителей весьма важен для благополучного управления подданными, а дурной пример может иметь поистине катастрофические последствия не только для графства Барселона, но и для всего христианского мира, которому грозит нашествие несметных полчищ воинов пророка. Кроме того, чрезвычайно важно не допустить нарушения того хрупкого равновесия, что установилось сейчас между каталонскими графствами. Они всегда грызлись между собой вместо того, чтобы сражаться против истинного врага, притаившегося за рекой Эбро — естественной границы, отделяющей нас от воинственных тайф [7] Лерида и Тортоса, где правят фанатичные сыновья благоразумного ибн Ахмеда Сарагосского.
До меня дошли новости из достоверных источников (не забывайте, что духовник графини Альмодис — аббат Сен-Жени) о некоторых событиях, которые, несомненно, могут стать причиной вражды между графиней Эрмезиндой и ее внуком, графом Барселонским, а это было бы весьма нежелательно для Святой Церкви, поскольку все, что подрывает авторитет властителей и призывает подданных к неповиновению, не может идти на пользу нашему делу.
Мой дорогой аббат, Вам придется решить серьезную проблему, с которой необходимо покончить раз и навсегда. Если Вы не справитесь с этой задачей, это может быть чревато печальными последствиями. Какими средствами воспользоваться — оставляю целиком на Ваше усмотрение. Я же ограничусь тем, что введу вас в курс дела.
Как Вам известно, ваш граф, Рамон Беренгер I Барселонский, муж покойной графини Изабеллы и нынешний супруг Бланки де Ампурьяс, год назад отбыл на Восток, чтобы решить некоторые вопросы, имеющие важнейшее значение для графства. По возвращении он сообщил мне о расстановке исламских сил, насколько опасен враг и каких каверз следует от него ожидать. После нашей беседы он отправился домой, но по дороге задержался в замке Понса III Тулузского, где произошел совершенно непристойный инцидент: ваш любвеобильный граф завел интрижку с владелицей замка, графиней Альмодис, дочерью Бернардо и Амелии де ла Марш.
Но меня встревожил даже не этот проступок, как бы ни был он серьезен. Мы с вами знаем, что человек слаб и плотское порой берет верх над духовным, однако гораздо больше меня беспокоят возможные последствия этого проступка. Мне стало известно, что граф охвачен поистине безумной страстью — настолько безумной, что готов отвергнуть свою супругу, на которой женился всего лишь год назад, чтобы сожительствовать с чужой женой (ибо подобный союз можно назвать лишь сожительством, а подобную женщину — шлюхой), попирая тем самым все заветы христианской веры, в то время как властителям надлежит быть зеркалом добродетели для своих подданных. Так что я надеюсь, вы понимаете, насколько все серьезно. Подумайте также о хрупких отношениях между графиней Эрмезиндой и ее внуком, они непременно будут разрушены, стоит графу отвергнуть Бланку де Ампурьяс, ее протеже, ведь брак был заключен по ее инициативе.
И это еще если не брать в расчет графа Понса Тулузского, он несомненно разъярится, если у него похитят супругу, а вместе с ней и фамильную честь. Мы не должны допустить войны между бабкой и внуком, их вражда ослабит наши южные границы, оказав тем самым услугу врагам Христовой веры. А кроме того, не забывайте о других каталонских графствах, которым эта война может принести явные или тайные выгоды, поскольку, как вам известно, в мутной воде легче ловится рыба. Мы предполагаем, что Уржель, Кардона, Тост и Бесалу выступят на стороне графа, а Конфлент, Каркассон, Осона, Жирона и вся Септимания будут сражаться под знаменами графини.
Именно в Ваши мудрые руки я отдаю решение этого щекотливого дела и надеюсь, что Вы сможете убедить Рамона Беренгера отказаться от своей безумной и порочной идеи. Если же Вам это не удастся, сообщите обо всем графине Эрмезинде. Заранее предупреждаю, что это весьма неприятная обязанность, ее вспыльчивость всем известна.
И в заключение, дорогой аббат, пожелаю Вам удачи на этом нелегком поприще. Поверьте, я Вам не завидую и буду с нетерпением ждать от Вас известий. Денно и нощно молюсь за Вас и по-братски Вас обнимаю.
Ваш брат во Христе,
Папа Виктор II
Гийем де Бальсарени, устроившись поудобнее в кресле, вытер со лба капли пота и стал перечитывать строки поразившего его письма.
5
Рамон Беренгер и Альмодис
Тулуза, декабрь 1051 года
Рыцарь поднял руку. Воины его свиты немедленно остановились, натянув поводья. Кони заржали, закусив удила. Стражник у въезда на мост окликнул их:
— Кто идет?
— Тот, кто проделал долгий путь из Рима и надеется, что Понс III, граф Тулузский, примет его, как подобает. Я — Рамон Беренгер I, и твой сеньор ждет меня.
Заскрежетали цепи, и тяжелый мост начал медленно опускаться на деревянные опоры под гул голосов, а горнист на стене объявил о прибытии высокого гостя. Копыта прогрохотали по мосту, затем по мощеному двору крепости. Конюх взял под уздцы коня графа, тот спешился, велев своим спутникам сделать то же самое. Кожаной перчаткой он отряхнул с поножей дорожную пыль. К нему немедленно подошел командир стражи, но шумные разговоры графской свиты заглушили его голос. Граф Барселонский снял шлем и передал его оруженосцу, откинул капюшон кольчуги, скрывающий лицо, и обратил взгляд на командира стражи.
— Простите, я вас слушаю.
— Приветствую вас, граф, от имени моего сеньора и покорнейше прошу следовать за мной. Я провожу вас к управляющему, и он должным образом о вас позаботится.
— Позаботьтесь о том, чтобы разместили моих людей и лошадей и снабдили их всем необходимым.
— Все будет сделано, сеньор, — подобострастно заверил тот. — Гостеприимство — главная добродетель Тулузского дома.
Граф Барселонский направился вслед за стражником вместе со своим оруженосцем, которому передал меч и щит в знак особого доверия и уважения к хозяину дома — неизменный ритуал в тех случаях, когда аристократ посещал своего родственника или другого дворянина соответствующего статуса.
Тулузский замок выглядел скорее дворцом, нежели крепостью. Его архитектура отличалась настоящим благородством: и каменная резьба балконов, и изысканность оконных переплетов, и богатое убранство парадных покоев — все говорило об утонченном вкусе владельцев замка, так непохожего на грубые и мрачные крепости Барселоны, Жироны и Осоны, чьим главным достоинством была неприступность, учитывая близость воинственных исламских соседей. Командир стражи остановился возле караульных и представил им гостя, те расступились, и они проследовали дальше. Наконец, они добрались до высокой дубовой двери с искусной резьбой — умелые руки неизвестного мастера вырезали на ней герб дома Тулузы. По обе стороны стояли часовые с алебардами в правой руке и щитами в левой. При виде командира стражи они сделали шаг вперед в ожидании приказа.
— Известите камергера о прибытии высокого гостя, — распорядился тот.
Первый стражник покинул свой пост и приоткрыл смотровое окошко двери. Затем произнес несколько слов, после чего снова его закрыл и повернулся к командиру:
— Я сообщил о вашем прибытии. Будьте любезны немного подождать.
Едва он успел произнести эти слова, как дверь снова открылась, и в ней показалась лысая голова Робера де Суриньяна, первого советника графа Понса Тулузского.
— Добро пожаловать, сеньор. Граф Понс Тулузский и графиня Альмодис де ла Марш ждут вас.
Камергер трижды ударил жезлом об пол и провозгласил имя высокого гостя:
— Господа, Рамон Беренгер I, граф Барселоны, Жироны и Осоны, просит аудиенции.
Гость шагнул вперед, войдя под своды тронного зала.
Зал был поистине великолепен. Граф Барселонский мог поклясться, что в жизни не встречал ничего подобного. Это было длинное высокое помещение с шестью оконными сводами, завешенными гобеленами, чтобы сохранять тепло от двух больших каминов, в которых горели громадные стволы. Стены украшали щиты с гербами, а между ними горели массивные факелы. Но особенное графа поразили полированная металлическая поверхность подставок под факелы, от которой вокруг рассыпались бесконечные отблески.
И в довершение ко всему с высокого потолка свисали на мощных тросах три позолоченные люстры в форме короны, какие носили Каролинги, уставленные по всему периметру множеством свечей. При помощи особых блоков эти тросы могли менять длину, чтобы опускать и поднимать люстры. Это облегчало их чистку, замену свечей и в то же время сохраняло чистоту воздуха в помещении. В глубине зала на двух тронах под золоченым балдахином его ожидали граф и графиня Тулузские.
Четким размеренным шагом Рамон направился к ним, непринужденный и при этом учтивый. Но стоило ему приблизиться к трону, как все великолепие зала, камины, гобелены, сверкающие люстры и даже величие его хозяина разом померкли, едва он взглянул на графиню Альмодис. Рамон благоговейно преклонил перед ней колени. Роскошный наряд из золотой парчи подчеркивал рыжие волосы графини и загадочный взгляд зеленых глаз, а глубокий вырез, отороченный кружевами, открывал ложбинку между полными грудями, оказавшуюся прямо перед глазами графа, и с этой минуты Рамон больше не видел ничего другого.
Графиня приворожила его, чувственный ореол ее чар ощущал каждый, кто оказывался с ней рядом.
По знаку Понса Тулузского граф Рамон Беренгер поднялся с колена и сел в кресло напротив супружеской четы.
— Добро пожаловать, граф, под этот скромный кров, где всегда рады видеть сыновей вашего отца, — учтиво произнес хозяин замка. — Как поживают ваши братья Санчо, Гильермо и Бернард?
— Санчо — приор в монастыре святого Бенедикта. Что же касается Гильермо и Бернарда, сыновей второй жены моего отца, доньи Гизелы де Льюса, к которым я также привязан, то они еще не женаты. Еще слишком молоды.
После этого ритуального обмена любезностями они перешли к истинной цели приезда Рамона.
— Как я понимаю, вы совершили долгое путешествие по Леванту?
— Да, это так. Я должен был установить деловые отношения с Византией, а также с Иерусалимом. После завершения моей поездки в Святую Землю Папа попросил меня завернуть в Рим и подробно рассказать ему, как обстоят дела на Востоке. Он считает, что владетели тех земель, которым, как и нам, приходится сражаться с воинами ислама, должны знать, как никто другой, намерения и тактику неверных. Поэтому и попросил совета у моей скромной персоны.
За все время беседы графиня ни разу не раскрыла рта. Тем не менее, Рамон Беренгер постоянно ощущал на себе влекущий взгляд ее зеленых глаз.
В скором времени граф Тулузский попросил разрешения удалиться.
— Надеюсь, вы простите, что я не исполнил долг гостеприимного хозяина? — спросил он. — Я даже не дал вам передохнуть, но нам так редко выпадает возможность побеседовать с людьми столь сведущими. В любом случае, я постараюсь компенсировать этот недостаток любезности. Увы, моим старым костям уже не под силу долгие вечера, обычно в это время я удаляюсь в свои покои. Но если не возражаете, моя дорогая супруга охотно составит вам компанию за ужином.
Сердце Рамона Беренгера ускоренно забилось от одной мысли, что ему предстоит провести вечер в обществе этого волшебного создания. Однако следующие слова Понса Тулузского тут же заставили угаснуть весь его пыл:
— Разумеется, мой камергер и духовник графини охотно составят вам компанию. Их утонченность и умение вести беседу несомненно сделают ваше пребывание здесь весьма приятным.
Графиня Альмодис со страхом прислушивалась к беседе между супругом и учтивым гостем. К тридцати четырем годам ее жизнь неоднократно оказывалась разменной монетой в интересах ее семьи — как, впрочем, и жизнь ее сестер, Лусии и Рангарды. Первую после неудачного брака с Гийемом де Бесалу выдали замуж за Арталя, графа Пальярса. Вторую — за Пера Роже, графа Каркассонского. Самой же Альмодис выпала самая безрадостная участь.
В двенадцать лет ее выдали замуж за Гийема III Арльского; несмотря на то, что Папа объявил этот брак недействительным по причине слишком юного возраста невесты, это не помешало супругу лишить ее девственности, что нанесло ей тяжелую моральную травму. Затем ее отдали в жены Уго Благочестивому, графу де Лузиньяну, который, сделав ей ребенка, вскоре отрекся от нее и бросил вместе с отпрыском: государственные интересы в очередной раз оказались на первом месте. И вот наконец она оказалась на брачном ложе графа Понса Тулузского. От этого союза родились четверо детей: три мальчика и одна девочка.
Понс был старше ее на двадцать пять лет и настоящим экспертом в вопросах сладострастия, однако, хотя на его ложе графиня изучила все премудрости секса, она так и не познала радостей романтической любви, которую воспевают трубадуры под сводами дворцов, а потому ей всегда казалось, что какая-то очень важная часть жизни прошла мимо. До сих пор досуг с ней делили лишь придворные дамы, церемонные кавалеры и, главное, Дельфин, любимый шут-горбун.
Альмодис удалилась в свои покои, чтобы подготовиться к изысканному ужину. Пока служанки ее одевали, она погрузилась в размышления о сегодняшнем госте. В памяти всплыло давнее пророчество, не дававшее покоя на протяжении всей ее несладкой жизни.
Хотя с тех пор миновало уже двадцать два года, воспоминания об этом были такими яркими, будто все случилось вчера.
Тем утром город проснулся под белым снежным покрывалом, делающим неузнаваемыми привычные контуры. Снежные хлопья медленно и плавно порхали в воздухе, словно лебяжий пух. Альмодис выглянула в окно и посмотрела на знакомый пейзаж, неизменный последние двенадцать лет ее жизни, и тут же мысленно перенеслась в тот самый день. Она взглянула в сторону колокольни, привлеченная веселым перезвоном бронзовых колоколов, радостно возвещающих о ее бракосочетании с Гийемом III, будущим графом Арльским; затем перевела взгляд на обледеневшие горгульи, по уродливым лицам которых стекали струйки воды, словно они оплакивали предстоящую разлуку с ней.
Ее охватил водоворот внезапно нахлынувших чувств. С одной стороны, она навсегда прощалась с детством, оставляя в нем прекрасные пейзажи своей родины, детские игры с братом и сестрами, широкие реки, золотые поля пшеницы и весенние верховые прогулки по густым лесам. Правда, внутренний голос подсказывал, что скоро эта тоска пройдет, и с того дня, когда будут произнесены слова брачной клятвы, воспоминания о родных местах начнут понемногу отступать на дальний план, все больше и больше погружаясь в глубины памяти. Эти мысли наводили на нее тоску, она сама не знала, почему. Но в то же время впереди мерцал ореол надежды, подобно радуге, обещая самые захватывающие приключения, мечта о которых переполняла ее неукротимую душу.
В эту минуту она вспомнила об одном странном происшествии, случившимся не столь еще далеким зимним вечером. Тогда она отправилась в лес вместе со своим братом Адальберто, желая объездить новую кобылу по кличке Красотка. Кобылу подарил ей в тот день отец, Бернардо де ла Марш. Когда она увидела во дворе замка эту красавицу, нежное сердце Альмодис подпрыгнуло от радости. Это была белая, как свежевыпавший снег, кобыла, с маленькой изящной головой, умным взглядом и черными чулками на ногах. С первого взгляда Альмодис почувствовала, как между ней и этим великолепным животным возникла необъяснимая связь.
Вечер был просто чудесным; солнце насквозь просвечивало зимний лес, где с ветвей свисали сосульки, превращая обычные деревья в потрясающие произведения искусства необычайной красоты. Мягкий ветерок, вечный гость этих долин, свистел в ушах в такт мягкому галопу кобылы. Адальберто, скачущий позади, едва поспевал за ней, и Альмодис приходилось сдерживать лошадь, чтобы брат мог ее догнать. Внезапно кобыла тревожно прижала уши, негромко заржала и нервно ударила правым копытом. Брат, с силой натянув поводья, остановил своего коня.
— Смотри, смотри! — воскликнул он. — Вон там, Альмодис!
Подняв взгляд, она увидела примерно в полулиге от них столб белого дыма, лениво тянущегося ввысь. Никогда прежде брат и сестра не видели здесь ничего подобного, несмотря на то, что давно уже изъездили лес вдоль и поперек.
— Ну что же, братишка, давай посмотрим, кто это поселился в нашем лесу.
Она сказала «в нашем лесу», хотя на самом деле каждый из них считал этот лес своей личной собственностью. Не дав Адальберто времени опомниться и возразить, она послала кобылу в галоп, и та понеслась как ветер.
Добравшись до того места, где они заметили дым, они спешились, привязали лошадей к нижней ветке дуба и пошли дальше, старательно пригибаясь и прячась за кустами. Продвигались они медленно, Адальберто — впереди, то и дело оглядываясь на сестру, которая все время отставала, цепляясь юбкой за кусты. Ей казалось, будто сотни рук хватают ее за одежду, стараясь задержать, не пустить дальше. Внезапно брат поднял руку, приказывая остановиться, он раздвинул ветви кустарника, заслонявшие обзор, и пристально вгляделся в то, что так тщательно скрывал от них лес. Альмодис шагнула вперед, поравнявшись с мальчиком, и поднялась на цыпочки, чтобы лучше видеть.
Примерно в сорока саженях росло огромное дерево, а высоко в ветвях находилась хижина из бревен, сучьев, вереска и листьев, с примитивным очагом внутри, из которого и шел дым, привлекший их внимание. Они еще не успели решить, что делать, когда прикрывающая вход в это невообразимое жилище занавеска внезапно откинулась, и из хижины выбрался крошечный человечек ростом не больше аршина, чье искореженное тельце покоилось на двух коротких ногах.
Одет он был в потертую рубаху бурого цвета, подпоясанную веревкой, и плотно облегающие коротенькие ножки штаны, закрепленные кожаными ремнями на тощих икрах, что прятались в раструбах сапог, овчинный тулуп укрывал его тело и длинные волосы, спадающие на горбатую спину — такие же спутанные, как и борода. Адальберто ткнул Альмодис кулаком в бок и приложил палец к губам, призывая молчать. Между тем, карлик отважно повернулся к ним и окликнул тонким пронзительным голоском, вполне соответствующим его внешнему виду:
— Высокочтимые господа, вы находитесь во владениях хозяина этого леса. Он приветствует вас, если вы пришли с миром, но предупреждает, что ад поглотит вас, если ваши помыслы нечисты, а в глубине сердец таится зло.
Адальберто от изумления потерял дар речи, но его сестра, покинув укрытие, выступила вперед и остановилась у подножия огромного дерева.
— Тебе известно, кто я такая? — спросила она.
— Альмодис де ла Марш, юная графиня этих мест, которую привело в мою обитель неистребимое любопытство, прибывшая сюда в сопровождении брата, и я прошу его выйти из чащи и показаться.
Адальберто вышел из леса и встал рядом. Очевидно, он был напуган гораздо сильнее, чем старался показать.
— А ты кто такой? — спросила она.
— Как вы догадатись, я знаю о вас намного больше, чем вы обо мне. Но лучше поговорить обо всем, если вы окажете мне честь и станете гостями в моем дворце.
С этими словами карлик поднял лежащую рядом веревочную лестницу и сбросил ее вниз — от ветки дуба до самой земли, к ногам изумленной парочки.
Брат и сестра шагнули к лестнице. Карлик вернулся обратно в хижину. Адальберто явно растерялся, он уже готов был сказать сестре, что разумнее уйти, но тут она, подобрав юбку, начала взбираться по лестнице — с третьей перекладины. Нижняя часть лестницы лежала на земле у его ног, и Адальберто, видя, что уже не может ничему помешать, просто придержал ее ногой, чтобы сестре удобнее было подниматься. В скором времени оба оказались на помосте, устроенном на ветке, где и стояла хижина.
Из кроны открывался вид на бескрайнее снежное море под ногами. Вблизи хижина оказалась намного меньше, чем выглядела снизу. Вход прикрывала занавеска из рогожи, откинув ее, карлик пронзительным голосом пригласил гостей в своё обиталище. Альмодис тут же забралась внутрь, зато Адальберто не удержался от ехидного замечания, что ему придётся сложиться вчетверо, чтобы втиснуться в крошечном пространстве. В конце концов он все же залез, и карлик, втянув веревочную лестницу, последовал за ним. Альмодис с любопытством оглядывала обстановку хижины, а карлик не сводил с неё цепкого и умного взгляда. Адальберто, растерянный и настороженный, по-прежнему не верил, что все происходит на самом деле.
— Как видите, — произнес карлик, — мой дом не слишком подходит для приема гостей, все здесь приспособлено к моим небольшим размерам. А потому будет лучше, если вы присядете на мое ложе, чтобы не удариться головой о потолок.
Брат и сестра переглянулись и уселись на кровать карлика возле стены, а хозяин — на крошечный табурет у стола в центре каморки. Альмодис пожирала глазами каждый уголок лачуги, освещенной тусклым светом масляной лампы, от маленькой печки до крошечного окошка в глубине, от стола в центре до деревянной клетки, в глубине которой блестели круглые глаза маленькой совы, с любопытством наблюдавшей за ними. Наконец, карлик вновь подал голос:
— Как вам нравится мое убежище?
— Просто удивительно! — ответила Альмодис. Адальберто просто сидел рядом, не решаясь открыть рот. — Мы облазили весь лес, но ни разу не встречали ничего подобного.
— Видите ли, я специально об этом позаботился. Это место достаточно удалено от любых дорог и тропинок. Вам, конечно, знакомы все сказки и легенды, что повествуют о ведьмах и лесных духах, обитающих в пещерах, которых много в этих краях. Я, конечно, никогда их не видел, местные жители не очень-то жалуют тех, кто отличается от других, будь то живые или мертвые, а потому я стараюсь, чтобы люди не видели дыма, который мог бы привести их ко мне, если, конечно, я сам этого не захочу. Для этого я использую особые дрова. Что же касается остального, то хижина скрывается в густой листве, а люди гораздо чаще смотрят вниз, чем вверх, ведь сверху им грозит не так много опасностей.
— Ты сказал: «если я того не пожелаю»? Так значит, это ты пожелал, чтобы мы обнаружили твое укрытие?
— Разумеется. Я никого не приглашаю к себе домой, а если мне нужно с кем-то поговорить, то делаю это в пещере, которую обустроил специально для этой цели.
В эту минуту Альмодис услышала неуверенный голос брата, наконец решившего вступить в разговор:
— И какова же цель нашего знакомства?
Карлик посмотрел на сидящего в углу Адальберто.
— Ну что ж, я расскажу вам правду. В конце концов, именно для этого я и привел вас сюда.
После долгого молчания он вновь заговорил.
— Как видите, природа оказалась не слишком милосердна ко мне в том, что касается внешности, однако возместила кое-какие недостатки иными дарами. Если воспользоваться ими с умом, то они могут дать мне немалые преимущества. И наоборот, если я не сумею правильно воспользоваться этими дарами, они навлекут на меня большие несчастья.
— Мне неизвестно, ни кто ты такой, ни что собираешься делать.
— Мое имя Дельфин, я — круглый сирота, и мне известно, как никому другому, насколько суров этот мир и жестоки люди. Вот почему много лет назад я решил жить именно так: гордость не позволяет мне унижаться перед теми, кто этого не заслуживает. Я знаю, что бы меня ждало с этим-то жалким телом, живи я рядом с теми, кто не способен оценить иных моих достоинств. Но при этом я также знаю, что эти скрытые достоинства сослужат мне добрую службу, если я сумею сойтись с нужными людьми, и тогда сыграю блестящую роль в нашем далеком от совершенства мире.
— И о каких же достоинствах ты говоришь? — поинтересовалась Альмодис.
Карлик ненадолго задумался и возобновил рассказ.
— Родился я в Бесалу. Как мне потом рассказали, моя мать умерла при родах, а отца, как я полагаю, бродячего кукольника, я никогда не знал. Провидение хранило меня, а мой крошечный рост сослужил мне добрую службу: один человек заботился обо мне, надеясь со временем получить немалую прибыль. Меня выкормила коза, ставшая моей настоящей матерью, и я выжил. Карлики пользуются большим спросом — они потешают народ на ярмарках, а если карлик еще и умен, да к тому же украшен красивым горбом, у него есть шансы даже пробиться ко двору какого-нибудь аристократа, чтобы долгими зимними вечерами развлекать его забавными историями у камина, помогая развеять скуку. Я понимал, какая участь мне уготована, но меня это совершенно не привлекало. Однажды, когда мы пересекали мост у Бесалу, мне удалось бежать. Хозяин вез меня в седельной сумке. В тот вечер он выпил много вина, но все равно пустился в путь, полагаясь на чутье и память мула, который прекрасно знал дорогу домой. Когда он остановился, чтобы справить малую нужду, я выбрался из сумки и спрятался в лесу. Здесь можно найти множество превосходных укрытий. Потом, прячась по кустам, передвигаясь короткими пробежками, я шел через деревни и городки и в конце концов понял, что в человеке намного больше злого, чем доброго, и если уж мне не суждено высокого положения, то лучше жить подальше от людей. Я перебрался через Пиренеи и вскоре оказался здесь. С тех самых пор я и живу в этом лесу.
— Но ведь мы тоже всего лишь люди, такие же, как и ты, — сказала Альмодис. — Не понимаю, почему ты так стремился с нами познакомиться?
— Я в общих чертах рассказал вам мою историю, но не сказал ни слова о своем даре и о том, как он помог бы мне достичь той жизни, о которой я мечтаю. А ведь я могу оказаться весьма полезен человеку, взявшему меня под свое покровительство.
По лицу Альмодис промелькнула тень недоумения.
— Теперь я совсем ничего не понимаю. Но продолжай: по крайней мере, этот разговор меня развлекает.
— Хорошо, сеньора. При всей вашей растерянности вы, несомненно, помните — еще не зная, кто именно сюда идет, я окликнул вас по имени.
— Разумеется, помню. Именно это и не дает мне покоя все это время, собственно говоря, именно об этом я и хотела спросить с самого начала.
— Это и есть мой дар, — ответил карлик. — При определенных обстоятельствах я могу видеть будущее, причем мне вовсе не нужно гадать на потрохах птиц или по их полету, а также не нужно лить в воду масло и рассматривать его узоры, не говоря уже о том, чтобы резать козленка и смотреть, как сворачивается в миске его жертвенная кровь. А потому повторяю, если мы заключим пожизненный договор, который, несомненно, вас заинтересует, вы получите в свое распоряжение личного оракула и сможете избежать если не всех, то многих неприятностей в жизни, а также вовремя разоблачить людей, желающих причинить вам зло. А их будет много, ведь, чем выше вы подниметесь, тем большую зависть будете возбуждать. Я знаю, вас ожидает множество самых неожиданных поворотов и таких передряг, что сейчас и предположить невозможно. Если я буду рядом, вы сможете предотвратить многие интриги и козни врагов. К тому же я остроумен и могу скрасить ваш досуг в долгие зимние вечера.
— Не вижу ничего удивительного в том, что ты нас узнал, — вмешался Адальберто. — Вся округа знает детей графа де ла Марша. Если тебе больше нечем подтвердить свои слова, то, с твоего позволения, мы отправимся домой. Не говоря уже о том, что моей сестре предстоит выйти замуж, создать семью и родить детей. О каких врагах, которые поджидают ее на пути, может идти речь?
Но карлик продолжил, как будто не слышал слов мальчика.
— Итак, я собираюсь сделать вам предложение. Вы, конечно, можете считать меня безумцем, пустым мечтателем или глупцом. Но я могу предоставить доказательства, что говорю чистую правду, предсказав некоторые ближайшие события вашей жизни. Я вас не тороплю, если все сбудется, как я скажу, вы всегда сможете найти меня здесь, если же окажется, что я ошибся, вы вольны отказаться от нашего договора.
— Говори же, я тебя слушаю, — сказала Альмодис.
— Для начала я расскажу кое о чем из вашего прошлого, чтобы вы мне поверили. Ведь прошлое уже свершилось, а будущее остается всего лишь эфемерной мечтой.
В глазах брата и сестры застыл вопрос.
— Сегодня ваш день рождения. Этим утром вам подарили кобылу, вы назвали ее Красоткой. На правом бедре у вас небольшой белый шрам, оставшийся от ссадины, которую вы получили, ударившись о зубец крепостной стены, когда брат вас неосторожно толкнул. Об этом случае знаете только вы двое, поскольку оба поклялись молчать об этом, ведь иначе вас бы строго наказали.
Альмодис и Адальберто изумленно переглянулись. В глазах мальчика мелькнул ужас, зато в глазах его сестры светилось одно лишь любопытство. Несомненно, оба прекрасно помнили об этой клятве.
— В таком случае, скажи: что ждет меня в будущем? — спросила Альмодис.
— Вы хотите сказать, что согласны на сделку? — уточнил карлик.
— Даю слово.
Карлик направился в угол хижины, открыл деревянную шкатулку и извлек оттуда тонкую костяную иглу и белый платок.
— Мне нужна ваша кровь, чтобы скрепить договор.
— Не делай этого, сестра! — воскликнул Адальберто.
— Отстань! — наградив мальчишку надменным взглядом, она протянула руку.
Карлик уколол иглой мизинец ее правой руки, капелька крови упала на белую ткань. После этого он аккуратно сложил платок и убрал его обратно в шкатулку.
— Ну вот, теперь у меня есть ваша кровь. Теперь дайте мне руку.
Альмодис протянула белую ладонь, карлик почтительно взял ее кончиками пальцев и принялся внимательно изучать.
— А теперь слушайте. После долгих перипетий, которые я не могу разглядеть, да это и неважно, поскольку вас интересует конечный итог, вашей крови суждено продолжить династию по ту сторону Пиренеев. Римские Папы станут вашими врагами, но самая страшная опасность будет исходить от близкого человека. Вам отведено важное место в истории. Прикажите сжечь меня на костре, если я не прав. Однако, если мои догадки верны, то я назначаю свою цену: хочу жить рядом и принимать участие в ваших захватывающих приключениях.
— Вздор! — перебил его Адальберто. — Моя сестра через несколько месяцев выйдет замуж за Гийема III Арльского.
Карлик повернулся к Адальберто.
— Я не сказал, что это произойдет немедленно. Я сказал, что это случится годы спустя, после многих поворотов.
— Брось, Адальберто, — засмеялась Альмодис. — Мне нравится этот человек. Ну хорошо, Дельфин: если все исполнится по-твоему, я исполню твое желание. Да будет так.
Все это до сих пор стояло у нее перед глазами, как будто произошло вчера.
Альмодис вспомнила тот день, когда Дельфин окончательно вошел в ее жизнь. Вечером накануне великого дня состоялся ее разговор с отцом, графом Бернардо де ла Маршем. Разговор состоялся в ризнице, у главного алтаря собора, где они репетировали детали предстоящего бракосочетания. Граф, счастливый, как никогда прежде, вновь и вновь повторял, как им повезло. Его слова до сих пор отдавались в ее памяти далеким эхом.
— Итак, дочь моя, завтра тебя ожидает одно из величайших событий, уготованных каждой знатной даме, чей долг — служить интересам семьи и рода. Твой союз с Гийемом Арльским сыграет решающую роль в жизни нашей семьи. Наша кровь сольется с другой, столь же благородной кровью, с которой мы уже связаны общим происхождением, а завтра нам предстоит вновь соединиться. Само Провидение возложило на тебя эту миссию, и я горд за тебя и буду гордиться твоими сыновьями. Вчера в присутствии представителей обоих графств и другой знати был подписан документ о вашем обручении, его засвидетельствовали епископы Арля и Марша. С этой самой минуты ты покинула лоно отцовской семьи. Альмодис, со вчерашнего дня ты будущая графиня Арльская, а также, по праву наследования, графиня Монпелье и Нарбонны. Думаю, мне нет нужды говорить, что ты должна почитать супруга и повиноваться ему?
Эти слова до сих пор звенели из глубин ее памяти.
— Отец и господин, — ответила она тогда. — Ни за что на свете я не стану противиться вашей воле и не посмею ослушаться приказа, будь я графиней Арля, Монпелье, Нарбонны или самой королевой Иерусалима. Я горжусь оказанной честью и буду счастлива, если смогу вернуть нашей семье и земле хотя бы часть долга, возложенного на меня уже одним происхождением. Лишь об одном я хотела бы попросить вас в этот торжественный день. Я знаю, что меня будут сопровождать несколько придворных дам и няня. Позвольте к ним присоединиться Адальберто и шуту, который развлечет меня долгими зимними вечерами в далеком Монпелье. Мне бы хотелось, чтобы рядом были люди, говорящие на моем языке и разделяющие наши традиции, они сумеют хотя бы немного скрасить мою тоску и облегчить разлуку.
Граф был так счастлив, что даже не удосужился осведомиться, кого из придворных шутов выбрала его дочь, и немедленно дал согласие. В скором времени по подъемному мосту замка проехал Адальберто в сопровождении карлика верхом на осле, в шумной толпе дам, кавалеров, воинов и оруженосцев никто не обратил на крохотного человечка внимания. Так Дельфин навсегда вошел в ее жизнь.
По комнате сновали придворные дамы со склянками и баночками свинцовых белил, румян и помад всех цветов и оттенков. Овал лица Альмодис был безупречен, рыжие волосы оттеняли снежную белизну кожи, а совершенные дуги бровей подчеркнули коричневой краской, сделанной из моллюсков с побережья Далмации, губы оттенили помадой цвета спелой вишни и наклеили возле рта парочку мушек, сделанных из того вещества, которое по-латыни называется argentium de Numidia, его везли в Галлию из далекой Севильи через Септиманию. Когда туалет был закончен, Альмодис стала совершенно неотразимой. Одна из дам поставила перед ней огромное зеркало из полированного металла, в котором отражалась вся ее фигура. Это был подарок графа, привезенный из-за моря. Другая дама перебирала струны арфы, напевая старинную балладу, а служанки наполняли водой небольшую бронзовую ванну.
Все были заняты своим делом, когда неожиданно раздался стук в дверь. Придворная дама подошла к двери и слегка ее приоткрыла. Снаружи послышалось какое-то невнятное бормотание. Затем дама повернулась к графине и прошептала:
— Сеньора, это Дельфин, он просит вас принять его.
— Пусть войдет.
Девушка открыла дверь и впустила карлика, лицо которого было необычайно бледным. Едва взглянув на него, Альмодис поняла, что ничего хорошего это не предвещает.
— Всем выйти, — коротко приказала она.
Дамы мгновенно исчезли.
Дельфин опустился на колени у ее ног, приподнял подол блио и поцеловал его.
Графиню удивило подобное поведение: это было совершенно не в его духе — напротив, он всегда был веселым и ехидным. Когда же карлик начинал вести себя таким образом, она всегда знала: он собирается сообщить ей нечто очень важное.
— Что случилось, Дельфин?
— Сеньора, даже не знаю, как вам и сказать...
— Если ты смеешь бесцеремонно ко мне врываться, да ещё и не желаешь объяснять, в чем дело — смотри, как бы я не приказала тебя хорошенько выпороть ясеневыми розгами!
После долгих колебаний карлик наконец решился заговорить:
— Сеньора, я так долго ждал, когда это случится. Человек, который станет смыслом вашей жизни, только что прибыл в замок.
6
Падре Льобет
Барселона, май 1052 года
Священник вел Марти Барбани через анфиладу комнат Пиа-Альмонии, которые по сравнению со всеми когда-либо виденными поразили его своей роскошью. Особенно его потрясли высокие арочные своды, поскольку он привык к низким потолкам приземистых крестьянских домов. Он гадал, кому и как удалось создать подобное архитектурное чудо. Наконец, они добрались до приемной, где священник попросил Марти немного подождать, но прежде еще раз повторил, что, если тот по-прежнему будет упорствовать, не отдавая ему письмо, то весьма вероятно, на этом аудиенция и закончится. Тогда Марти уступил и протянул письмо священнику.
Тот открыл дверцу справа, под каменной аркой, и исчез из виду. Марти едва успел оглядеться, как дверца вновь открылась, и в приемной появился человек, совершенно не похожий на священника, однако вид этого человека вызвал у Марти яркую вспышку какого-то давнего воспоминания, хотя он был уверен, что видит его впервые. Незнакомец был одет в подпоясанную веревкой рясу, она ладно облегала его могучий торс, больше подходящий воину, нежели служителю церкви. На огромной голове сияла тонзура, вокруг которой топорщилась щетка жестких волос. Он обладал проницательным взглядом из-под кустистых бровей, а из широких рукавов выглядывали могучие руки, одна из которых сжимала письмо.
Марти поежился под пристальным взглядом священника, изучающего его с головы до пят. По спине у Марти ползли мурашки и, лишь увидев, что незнакомец улыбнулся, он позволил себе немного расслабиться.
— Значит, вы — Марти Барбани.
— Совершенно верно, ваше преподобие, — с легким поклоном ответил молодой человек.
— Должен заметить, вы немного припозднились, я уже давно ожидаю вашего приезда.
— Мне пришлось задержаться дома по не зависящим от меня обстоятельствам. Я — единственный мужчина в доме, то есть, был им до недавнего времени, а моя мать уже не так молода.
— Хороший сын — вне всяких сомнений, достойный человек, — заметил священник. — А тем более сын такого отца.
— Даже если это и так, мне бы не хотелось прожить жизнь, как он, — твердо ответил Марти.
Священник был, похоже, озадачен этими словами.
— Никогда не берите на себя право судить, не зная всех обстоятельств. Но прошу, прошу в мою скромную обитель. Здесь не место для сына моего дорого друга.
Вслед за священником Марти проследовал в комнату, три стены которой были уставлены шкафами с книгами и пергаментами, кроме них в комнате находились лишь скромный письменный стол и скамья у стены под деревянным распятием. Солнечный свет струился через окно в толстой стене, возле него стояли два больших вазона с ухоженными цветами, что говорило об интересе священника к ботанике.
Священник устроился за столом и пригласил Марти сесть напротив. Затем взял в левую руку гусиное перо и начал задумчиво им поигрывать.
— Итак, вы сын Гийема Барбани де Горба.
— Да, это так, хотя, сказать по правде, до недавнего времени это не имело для меня никакого значения, да и сейчас его имя, которое вы с таким благоговением произносите, для меня — пустое место.
— Почему вы так говорите? — спросил священник.
На что Марти ответил с неподдельной искренностью:
— Потому что я почти не помню его и не сомневаюсь, что за все эти годы он даже не вспоминал ни о маме, ни обо мне. Для меня его имя — лишь пустой звук; думаю, что и я значил для него немногим больше. За всю жизнь я видел его два или три раза.
— Негоже судить о человеке, совершенно его не зная и не желая принимать в расчет обстоятельств, в которых он был вынужден действовать.
— Я считаю, что первый долг мужа и отца — заботиться о своей семье, — не сдавался Марти.
— Несомненно, если у него есть возможность жить рядом с родными. Однако бывают обстоятельства, когда человек вынужден покинуть семью и друзей, чтобы исполнить свой долг. При этом он может дать своим близким намного больше, чем если бы все это время оставался рядом.
— Когда человек принимает на себя обязанности отца семейства, он должен понимать, что повлечет за собой это решение. А если на первом месте у него какие-то другие обязательства — нечего было жениться и тем более производить на свет детей.
Священник поерзал на стуле, а когда снова заговорил, в его голосе зазвучали суровые нотки.
— Вы слишком бескомпромиссно судите о ситуации, не имея о ней представления. Человеку, ввиду его происхождения или по велению обстоятельств, иногда приходится брать на себя определенные задачи и разлучаться с семьей. И я боюсь, что сейчас, возможно, именно такая задача стоит перед вами.
— Если у вас есть объяснение, какие обязательства женатого человека могут стоять выше его обязательств перед семьей, возможно, вы оправдаете его в моих глазах, — Марти перевел дыхание и продолжил дрожащим от волнения голосом: — Но когда ребенок с детства помнит, как мать изо дня в день вставала засветло и уходила работать в поле, как сама шла за плугом, коченея зимой и плавясь от жары летом, как гнула спину во время жатвы, едва ли найдутся достойные оправдания.
Архидьякон погрузился в молчание, показавшееся Марти вечностью, положил на стол перо, рассеянно погладил тонзуру и вновь заговорил:
— Полагаю, мне придется объяснить очень многое.
— Ну так объясните. Я вас внимательно слушаю.
— Дело в том, что я не всегда был священником. Прежде я был воином, именно в те времена я и познакомился с вашим отцом.
В памяти Марти вдруг ярко вспыхнуло смутное воспоминание. Сквозь туман его детской памяти проступил могучий силуэт того человека, что много лет назад, в холодный ноябрьский вечер, появился на пороге их дома в Эмпорионе вместе с приходским священником. Хотя тогда он, конечно, выглядел совершенно иначе. Но Марти ничего не сказал и лишь внимательно слушал. А священник между тем продолжал:
— В те дни я постигал это чудовищное ремесло. Ваш отец, исполняя долг, как в свое время его отец, поступил на службу к графу Барселонскому. Еще его дед служил Рамону Боррелю, графу Барселоны, Жироны и Осоны, супругу Эрмезинды Каркассонской. Это было непросто, ведь чтобы стать воином, нужно иметь боевого коня, обладать немалой физической силой и боевыми навыками. Итак, мы вместе с вашим отцом решили поступить на службу и стали оттачивать боевое мастерство, пока нас не сочли готовыми для войска Эльдериха д'Ориса, сенешаля вдовствующей графини Эрмезинды, к тому времени после смерти своего сына, Горбуна, вновь ставшей регентшей графства при малолетнем внуке, Рамоне Беренгере I. Мы присоединились к отряду, который направлялся к южным границам, где правил наместник графини, там мы и должны были служить, как служили наши предки в обмен бог знает на какие благодеяния. Вот почему я говорю, что он действительно был хорошим сыном: там мы научились сражаться и, прежде всего, познали все жестокости войны. Наши сердца сжимались от боли при виде сожженных деревень, а смерть стала для нас столь же обычным явлением, как еда и питье.
Марти впитывал рассказ священника, как человек, открывший в чем-то обыденном совершенно неожиданные грани.
Увидев, что ему удалось заинтересовать юношу, священник продолжил:
— На поле битвы людей связывает самая крепкая на свете дружба, и должен сказать, ваш отец стал моим настоящим другом, почти братом, которого я сам выбрал, а значит, даже дороже брата. Я помню, как однажды вечером он рассказывал мне о вас и вашей матери, о воинском долге, который заставил еще его прадеда большую часть жизни провести вдали от семьи. Мы сидели у костра, когда во внезапном порыве он достал из кармана пергамент и сказал:
«Если со мной что-нибудь случится, обещайте, что позаботитесь о моем сыне. Сейчас он еще совсем мал, но когда вырастет, пусть встретится с вами и покажет вам вот это кольцо, — с этими словами он протянул руку и показал перстень на левой руке. — Обещайте, что в случае моей смерти доставите кольцо моей жене вместе с этим письмом. А когда он повзрослеет, расскажите ему мою историю, передайте завещание и вот этот ключ. У меня есть еще один».
С этими словами он передал мне пергамент, запечатанный тем самым перстнем, что сейчас красуется у вас на пальце, а также маленький ключик, висевший у него на шее на плетеном шнурке. Сказать по правде, даже сейчас мне неизвестно, какой именно замок он открывает. Так или иначе, я сразу узнал перстень, который в свое время лично передал вашей матери. Хотя в нем нет необходимости: едва взглянув на вас, я сразу понял, что вы его сын, ведь вы — его живой портрет.
Теперь рассказ полностью захватил Марти.
— Тогда я сказал ему, что вряд ли это понадобится, — продолжил архидьякон Льобет, — ведь он пережил столько опасностей и побывал в стольких переделках, но он ответил: «Человек ответственный должен позаботиться о таких вещах, а я знаю, что мой час близок». Я сунул документ в кошель и спрятал в укромное место, как делает каждый воин перед битвой. Ключ я повесил на шею и приготовился исполнить свой долг, рассказав о том, каким замечательным товарищем был ваш отец, если вдруг случится непоправимое и он погибнет.
И тут Марти, до сих пор жадно внимавший, впервые решился заговорить.
— И что же за событие сподвигло вас наградить моего отца званием замечательного товарища?
Дон Эудальд прищурился, словно пытаясь что-то вспомнить. Солнечные лучи, проникая в комнату через окно у него за спиной, окружали его голову загадочным ореолом, как нельзя лучше подходящим к рассказу.
— Ну что ж, слушайте дальше. На рассвете нового дня мы выступили в долгий поход к Вальфермозе. Там поджидало войско графа Мира Гериберта, с которым графиня тогда вела нескончаемые тяжбы, поскольку он называл себя принцем Олердолы, а она его не признавала. Мы решили разбить лагерь, поскольку лазутчики доложили, что неприятель еще далеко и у нас в запасе по меньшей мере целый день перед битвой. Мы устроили привал и стали дожидаться распоряжений. Перед самым рассветом нас разбудил горн. Лейтенант сказал, что враг подобрался ночью, надеясь захватить нас врасплох, но тем самым поставил себя в невыгодное положение, вступив в схватку усталым.
Нас удивила подобная недальновидность, ведь одна из главных заповедей любого хорошего стратега в том, что войска должны вступать в битву отдохнувшими. А потому все проверили оружие, а мы с вашим отцом скудно позавтракали пшеничными лепешками и колбасой: с одной стороны, не дело в разгар сражения почувствовать слабость, а с другой — и с набитым желудком тоже драться не стоит, потому как раны в живот самые тяжелые. Мы подвязали к поясам фляжки с водой и заняли позиции в строю. Встали мы с таким расчетом, чтобы солнце било нам в спину и слепило врага.
В предвкушении битвы у нас засосало под ложечкой, даже ветеранам было не по себе. Лазутчики доложили, что враг уже меньше чем в лиге. А потом на нас напали — совершенно неожиданно. Судя по всему, Арнау де Рускальеда, сеньор Вальярты, заключил союз с Миром Герибертом, выступил из замка Фальс, чей владелец был его верным вассалом, и напал на нас с тыла.
Нам пришлось развернуться, и солнце теперь светило прямо в лицо... Всё смешалось: стрелы падали с неба тучами разъяренных пчел. На нас набросились люди Арнау де Рескальеды, поднаторевшие в битвах против мавританского короля Лериды и сыгравшие столь важную роль при захвате Тортосы. Стрела пробила мой медный щит, обитый бараньей кожей, и вонзилась в шею. Вот, взгляните.
С этими словами священник отогнул ворот рясы и показал уродливый рубец, тянущийся от ключицы до шеи.
— Я потерял сознание и рухнул. Шум стоял адский; крики воинов смешивались со стонами умирающих, воплями раненых и проклятиями врагов, с которыми мы кружились в каком-то диком танце. Пехота тонула в крови. Внезапно огромный мавр, наемник Рускальеды, бросился на меня, и я подумал, что пришел мой последний час. Я уже возносил предсмертную молитву Деве Марии, когда ваш отец огромным боевым топором раскроил неверному череп. После этого нам пришлось отступить — строй был нарушен, наш отряд оказался в окружении, подобно острову в море врагов.
Ваш отец откинул за спину перевязь, взвалил на плечо мое бесчувственное тело, взял в одну руку топор, а в другую — короткий меч, иберийский копис, что так верно служит в ближнем бою. Рубя мечом направо и налево, он стал пробиваться к нашим рядам, сокрушая врагов, как дровосек валит деревья. Так мы отступали... Я тогда потерял много крови, а на шее навсегда остался след от стрелы. Тогда я поклялся именем Христа, что, если останусь в живых, дам обет посвятить себя Богу. И тут само небо послало мне сигнал: когда мы почти добрались до своих, ваш отец рухнул, и я упал рядом.
И тогда, чтобы помешать нам добраться, на нас обрушился град копий. Ваш отец, уже раненый, накрыл меня своим телом. По глухому звуку удара и выражению его лица я понял, что одно копье вошло ему между лопаток. Я смутно помню, как его рука пыталась сжать мою, и прежде чем потерять сознание, услышал его последние слова: «Позаботьтесь о моем сыне...».
На краткий миг воцарилось молчание. Затем священник, окинув комнату блуждающим взглядом, заговорил вновь:
— Битва была жестокой; она не добавила чести ни победителям, ни побежденным. Когда село солнце и опустились сумерки, обе стороны попытались забрать тела погибших. Эльдерих д'Орис приказал сжечь тела на огромном костре. Меня, приняв за мертвого, положили рядом с остальными, и я лежал, дожидаясь своей очереди подняться на борт лодки Харона. Лекари не знали отдыха, ампутируя конечности, накладывая шины на переломы и зашивая раны; священники причащали умирающих, а я почувствовал в бреду, как что-то сжимает мне указательный палец. Поглядев на левую руку, я понял, что ваш отец перед смертью надел мне на палец свое кольцо, теперь ставшее вашим. Прежде чем потерять сознание, я увидел склонившегося надо мной священника, что собрался напутствовать мою душу в последний путь.
Я доверил ему свою тайну и попросил, чтобы передал письмо из кошеля и прикоснулся к груди. Тогда я этого не знал, но меня перевезли в замок нашего сеньора. Через два дня я очнулся голым, моя грудь была замотана тряпицей. Я тут же подумал о том, что не смогу исполнить просьбу вашего отца, но вскоре обнаружил кошель неподалеку, а в нем и ключ. Вот добрая душа, подумал я... Потом мне сказали, что священник принес кошель, узнав, что я поправляюсь. Выздоравливал я долго, но стоило мне набраться сил, как я спросил дозволения сеньора и отправился к вам, чтобы исполнить волю товарища. Ту ночь я помню, как сейчас. Ваша мать была похожа на человека, поставившего жизнь на кон в кости и проигравшего. Я отдал ей перстень и сказал, что в дальнейшем она получит указания, как, когда и где вам следует меня найти.
В то время я еще не знал, как буду жить дальше и где окажусь, когда вы станете взрослым, но на случай, если меня подкосит недуг, я предусмотрел, чтобы кто-нибудь другой исполнил волю вашего отца. Тогда я уже понял, что посвящу свою жизнь служению Богу, но не знал, куда заведут меня пути господни. Получив это место, я сообщил вашей матери, что вы найдете меня здесь, предъявив этот перстень, как вы и поступили.
Марти по-прежнему молчал, завороженно взирая на кольцо. Наконец, он заговорил:
— Теперь я понял, что вы имели в виду, когда сказали: не судите людей, не зная всех обстоятельств.
— Мальчик мой, судьба вашей матушки незавидна — собственная родня лишила ее наследства, да и никакой компенсации за потерянную жизнь мужа она не получила. Но поймите, мужчина должен выполнять свой долг, даже ценой жизни, если не хочет посрамить честь предков.
Марти долго молчал, прежде чем решился признаться:
— Простите, мне что-то не по себе, в голове все перемешалось.
Священник поднялся со стула и снова заговорил:
— Ничего, скоро все ваши сомнения разрешатся. Я дам вам пергамент, который хранил все эти годы. Если позволите, я оставлю вас в одиночестве, чтобы вы могли изучить его в тишине и покое. Когда закончите, позвоните в колокольчик на столе, и секретарь тут же меня разыщет.
Священник подошел к стоящей на полке шкатулке, извлек из широкого кармана ключ, отпер железный замок и открыл ее. Он порылся в документах и наконец вытащил пожелтевший от времени пергамент и маленький ключ, снова запер шкатулку и положил оба предмета на стол перед молодым человеком.
— Не спешите. А я буду в библиотеке, у меня накопилось немало дел, которыми давно пора заняться. Когда закончите, дайте мне знать.
Священник удалился неожиданно беззвучно для человека его комплекции. Марти остался один на один с многочисленными вопросами о прошлом, которое, хотя он этого еще не знал, определит его будущее.
7
Ужин
Тулуза, декабрь 1051 года
Рамон Беренгер с таким нетерпением ждал появления графини, что даже порадовался появлению ее духовника, аббата Сен-Жени, и камергера замка Робера де Суриньяна. По этому случаю Рамон облачился в лучший наряд: короткую тунику из золотого дамаста, из прорезей которой выглядывали узкие рукава тонкой малиновой рубашки, а на вышитом поясе висел кинжал с рукоятью из черного оникса в виде фигурки пиренейского медведя. Ноги его туго обтягивали ярко-синие чулки и мягкие сапоги из оленьей кожи. Шею украшала тяжелая золотая цепь с гербом Барселоны на подвеске.
Он пригладил пальцами густые волосы. Рамон знал, что выглядит строго, но элегантно. Он едва прислушивался к голосам аббата Сен-Жени и камергера Понса Тулузского; взгляд его был прикован к двери, откуда должна была появиться Альмодис де ла Марш. Столовая выглядела скромно, но достойно. Хозяева объяснили, что это любимая зимняя столовая графини, где она устраивает приемы для близких друзей. Особое место здесь занимал огромный камин с потрескивающими поленьями.
Над камином сиял герб дома Тулузы в обрамлении двух роскошных гобеленов, со сценами охоты — на одном дикий вепрь раздирал острыми клыками живот борзой, посмевшей в него вцепиться, а остальная свора кружила по поляне; на другом группа загонщиков, колотя по щитам, как в литавры, пыталась выгнать из лесной чащи стадо оленей прямо на арбалеты притаившихся в зарослях охотников.
Посреди комнаты был накрыт стол на четыре персоны с великолепной скатертью и драгоценной посудой из фарфора и тонкого стекла. Когда предстоял обед или ужин в узком кругу, графиня накрывала стол в этой уютной комнате, предпочитая ее огромной парадной столовой, вмещающей более тридцати человек. Она считала, что в уютной обстановке беседа становится менее скованной и более непринужденной. У стены уже стоял буфетный стол с ароматными кушаньями, в центре возвышалась мраморная статуэтка женщины в дорогих одеждах, глядящей на свое отражение в ручье.
На столе высилась огромная серебряная супница с кипящим бульоном из устриц с рыбными фрикадельками; чуть подальше — огромное блюдо с овощами в окружении других, поменьше, с жареной птицей — перепелами, куропатками и дроздами; здесь же были серебряные соусники с подливами на любой вкус. Над жаровней, полной раскаленных углей, томился на вертеле поросенок. У стены неподвижно, словно тени, стояли пажи, в любую минуту готовые исполнить приказ хозяйки, еще двое наполняли вином и холодной водой кувшины и стеклянные графины в ожидании, когда их позовут к столу, чтобы налить гостям.
Разговор вертелся вокруг самых разнообразных тем: от политики до бесчинств пиратов на Средиземном море. Пиратским промыслом занимались не только неверные, но и моряки-христиане из самых разных регионов, им было намного выгоднее грабить чужие суда, чем за скромную прибыль подвергать себя опасности, бороздя море и занимаясь честным промыслом. Потом Рамон поинтересовался здоровьем престарелого графа Тулузского.
— Скажите, камергер, что за недуги одолевают вашего сеньора, лишая нас удовольствия наслаждаться его обществом в столь приятный вечер?
На что Робер де Суриньян ответил:
— Видите ли, сеньор, возраст, болезни и многочисленные раны, полученные в сражениях, дают о себе знать. Кроме того, граф Тулузский страдает приступами подагры и испытывает ужасные боли.
И тут в коридоре, в ореоле света канделябров, которые несли вслед за ней несколько слуг, появилась графиня Альмодис де ла Марш в зеленом блио с золотым шитьем, платье подчеркивало тонкую талию и красиво оттеняло рыжие волосы, на которых красовалась диадема с изумрудами. У Рамона замерло сердце, как и в первый раз при виде графини. Душа его словно застыла, и все вокруг перестало существовать — разговор превратился в невнятный шум, он больше ничего не видел и не слышал, пораженный этим удивительным созданием.
В эту минуту он не мог даже предположить, что Альмодис, супруга графа Тулузского, чувствует то же самое. Впервые ее выдали замуж еще ребенком, и она стала заложницей политических интересов своей родни, дважды развелась и под конец она вышла за человека много старше себя, теперь превратившегося в старика. Благородный облик каталонского рыцаря, его гордая осанка и ясный взгляд пробудили в ее душе незнакомое прежде чувство. Слепой амур пустил стрелу прямо ей в сердце, и графиня внезапно ощутила, как в ее душе рождается страсть и подобно вулканической лаве разливается по телу, проникая до самых костей.
После обычного обмена любезностями приступили к ужину. Альмодис сидела по правую руку от графа Барселонского, аббат — по левую, а Робер де Суриньян — напротив графини. Вышколенные слуги держались, словно бесплотные духи, ожидая малейшего знака высокородных господ. Суп подали в маленьких чашках, из которых его отпивали через край, вылавливая пальцами устриц и фрикадельки. Рамон обратил внимание, что рядом с каждым прибором поставили чашу с душистой водой и кусочками лимона, чтобы каждый мог ополоснуть руки и освежить их лимонной долькой. Затем четверо пажей протянули каждому кусок льняной ткани, чтобы они могли вытереть руки.
Когда пришел черед жареных птиц и поросенка, он смотрел, как ловко графиня орудует маленькой золотой вилкой с тремя зубцами, отправляя в рот маленькие кусочки жаркого, нарезанные слугой. Аббат и камергер пользовались небольшими ножами, но Рамон все же предпочел по привычке накалывать мясо на кинжал.
Ужин прошел в приятной и спокойной обстановке, однако удивительная связь, зародившаяся между Рамоном и графиней, стала еще сильнее. Слуга затушил факелы, чтобы создать уютный полумрак. Затем двое слуг внесли поднос с великолепным тортом, в его центре горела свеча. Торт украшал герб Барселоны из взбитых сливок и ягод лесной малины, уложенных поверх бисквита. Граф поднялся, чтобы поблагодарить за такую любезность, и вдруг почувствовал под столом прикосновение к своей щиколотке — совсем легкое, словно трепетание крыла бабочки. Он повернулся у графине и увидел ее улыбку: вне всяких сомнений, это ее разутая ножка ласкала его под оборками скатерти.
И тогда в глубине ее зеленых глаз он увидел призывное сияние, которое мог разгадать лишь тот, чье сердце пронзила стрела Амура. «Я хочу вас», — говорили эти глаза. Между тем, графиня тайком извлекла из-за рукава блио сложенный вдвое пергамент и протянула Рамону, пользуясь тем, что в комнате стоял полумрак. Рамон взял записку и тут же спрятал ее в карман камзола. Аббат и камергер, увлекшись тортом, ничего не заметили, как и зажигающие свечи слуги.
Потом, когда она удалилась, оставив мужчин коротать время перед уютным пламенем камина, Рамон едва мог поддерживать беседу, которую вели аббат Сен-Жени и Робер де Суриньян. Ему хотелось одного: поскорее уединиться в отведенных покоях, чтобы спокойно прочитать послание.
8
Откровение
Барселона, май 1052 года
Марти взял в руки запечатанный пергамент, оставленный священником. От волнения он почти не слышал удаляющихся шагов. Это был день великих открытий. Марти подозревал, что этот пергамент переменит всю его жизнь. Перочинным ножом он срезал сургучную печать. Старый пергамент потрескался, некоторые слова выцвели от времени, их трудно было разобрать. Марти с благодарностью вспомнил свою матушку и уроки дона Сивера. Марти вспомнились его слова: «Аббат или епископ порой занимают более высокое положение в обществе, чем даже граф или маркиз». Марти откинулся на стуле и стал читать.
Писано 3 мая 1037 года от Рождества Христова
Дорогой сын!
Я не знаю, сколько пройдет времени до того дня, когда твои глаза наконец увидят это письмо, оно же мое завещание. Я выражаю в нем свою волю и надеюсь, что все условия будут выполнены. Тем самым я хочу сказать, что мой земной путь подходит к концу, и почему-то мне кажется, что мое сердце скоро перестанет биться.
Я знаю, ты почти не помнишь меня. Обстоятельства сложились так, что вы с матерью слишком редко имели счастье со мной видеться. Но невозможно находиться в двух местах одновременно и делать два дела сразу, особенно, если эти два дела оказываются слишком разными, а порой даже исключают друг друга. Так и мне пришлось выбирать между теплом семейного очага в кругу близких и честью вассала, которая обязывала исполнять долг, как делали до меня предки, и в итоге я выбрал последнее. Возможно, ты скажешь, что я совершил ошибку. Однако что-то побудило меня поступить именно так. Вероятно, кто-то скажет, что я был солдатом фортуны и мне нравилось скитаться вдали от дома.
Но любой разумный человек, переживший войну, скажет тебе: война — поистине ужасная вещь; вопли раненых и стоны умирающих потом долго преследуют в кошмарных снах, и те короткие часы, когда кошмары отступают, становятся благодатью. Твой прадед дал клятву верности графу Рамону Боррелю и его семье, как позднее — мой отец и я сам. Освободить от этой службы нас мог лишь почтенный возраст или тяжёлая рана, полученная в жестокой битве, но при этом старший сын воина, достигнув необходимого возраста, занимал место отца.
В обмен на верную службу наша семья получила право распахать участок земли на окраине Эмпориона, со временем он перешел в наше владение. Как ты догадываешься, это те самые места, где ты вырос рядом с дедом, который до самой смерти заботился о тебе и о твоей матери. Мне же досталась весьма неблагодарная роль в твоей жизни: я был лишён радости наблюдать, как ты растешь, и дал повод родственникам твоей матери считать меня плохим мужем и отцом. Ты ведь знаешь, они были недовольны, что их дочь вышла замуж за безответственного человека, предпочитающего походы и битвы супружескому долгу. Да, такова была моя жизнь, но, видит Бог, вовсе не потому, что мне это нравилось, а потому, что того требовал долг чести.
Ну вот, Марти, теперь, я надеюсь, ты понял, что я вовсе не таков, как обо мне говорят, и как непросто — быть воином. Как я уже сказал, война — ужасная вещь и в точности так же, как пиратство и каперство, затягивает в свои сети неосторожных простачков, воображающих, будто гибнут всегда другие, а с ними самими ничего плохого не произойдет. Это большая ошибка: рано или поздно кузнец откует наконечник стрелы или копья, на котором будет написано имя каждого из них; и стрелы сразят всех, оборвав нить их судьбы.
А с другой стороны, это пьянящий запах крови и вкус победы, унижение врагов и полученные трофеи, насилие над их женами и дочерьми и выкуп за заложников. Вино, азартные игры и женщины — всё это опьяняет солдат... Так колесо продолжает вращаться. Никто не расскажет тебе и о наказаниях после битвы, когда некоторые пройдохи пытаются обмануть графских счетоводов и утаить от них трофеи, пряча их под кольчугой или под шлемом. Наивные считают, будто это может сойти им с рук, а заканчивают свои дни на виселице в качестве назидания остальным.
Но даю тебе слово: я никогда не насиловал женщин, уважал врагов и брал лишь причитающуюся мне долю при разделе добычи. Служба моя была тяжелой, и потому я получал справедливую компенсацию за нее, каковую и оставляю тебе в наследство. Ты можешь пользоваться им, не краснея, поскольку твоей матери я оставил земли, что дадут ей пропитание до конца дней, а после ее смерти перейдут к тебе. Тебя удивит, сколько дальновидный отец может скопить за всю жизнь, если не растрачивает деньги впустую, как многие вояки.
Прими это наследство с чистым сердцем, потому как я получил его по справедливости, занимаясь самым тяжелым ремеслом, и если тебя еще терзают сомнения, потрать эти деньги на добрые дела, чтобы компенсировать то зло, которое сотворил я. Отслужи за мое упокоение несколько месс и живи в мире и процветании. Будь мудрым, не убивай никого иначе как для самозащиты или если того требует честь, не нарывайся на драку и не пятнай свое доброе имя, но уж если всадил кинжал, то доведи дело до конца, победи врагов, если хочешь жить в мире, заставь себя уважать — пусть твои соперники поймут, что перед ними настоящий мужчина.
Мое письмо передаст тебе человек, ставший для меня больше чем братом, ты можешь без колебаний обращаться к нему за любым советом. Наконец, я должен сообщить, где ты сможешь найти плод столь долгих моих трудов и лишений. Разыщи еврея Баруха Бенвениста, он живет у самого выхода из еврейского квартала Каль в Барселоне. Он всегда оказывал мне услуги менялы, и именно ему я доверил на хранение свое завещание, которое получит предъявитель сего письма и ключа, их вручит тебе Эудальд Льобет. Он был мне верным другом долгие годы и передаст тебе дальнейшие указания вместе с моим перстнем, чтобы ты смог доказать, что ты мой наследник.
Я прощаюсь с тобой, сынок; носи мое имя с честью, заботься о матери, для которой мое постоянное отсутствие обернулось такими страданиями, и никогда не поступай вопреки своей совести, ведь по моему скудному разумению, единственный в жизни грех и величайшее несчастье — это утрата совести. Иными словами, будь настоящим человеком, добрым и мирным, насколько это возможно. Служи верно лишь одному сеньору, ибо невозможно служить сразу двум господам, и знай, что самое драгоценное сокровище для мужчины — это его слово.
Теперь ты знаешь всю правду о моей жизни, и если мои объяснения тебя удовлетворили и твое сердце смягчилось, я знаю, ты простишь меня. Мои же последние мысли будут о вас с твоей матерью, у которой я тоже прошу прощения.
До встречи в ином мире, если я милостью Господней буду допущен в него.
Гийем Барбани де Горб
Марти уронил пергамент на колени, отчаянно стараясь сдержать набежавшие на глаза слезы и время от времени сердито утирая их кулаком. Он был настолько погружен в переживания, что не услышал шагов и очень удивился, обнаружив, что в комнате он не один. Подняв взгляд, он увидел, что рядом стоит падре Льобет и смотрит понимающе. Затем священник вновь занял свое место за столом и задумчиво произнес:
— Тяжело видеть, как в сердце рушатся те стены, что были так тщательно построены, когда знакомые события предстают в совершенно новом свете.
— Что вы хотите этим сказать?
— Лишь то, что, отдавая вам отцовское письмо, я был уверен, что, прочитав его, вы измените своё мнение об отце и его жизни и станете относиться к нему с большим уважением.
— Сегодня я получил урок и не забуду его до конца дней.
— Что за урок?
— Никогда не судить о людях, не зная всех обстоятельств и не выслушав обе стороны.
— Весьма разумное решение. И что же вы намерены теперь делать?
Марти ответил вопросом на вопрос:
— Вы знаете менялу Баруха Бенвениста?
— Кто же его не знает? Полагаю, большинство жителей Барселоны о нем слышали.
— Я должен его найти: у него хранится завещание моего отца. И знаете, я был бы вам очень признателен, если бы вы согласились меня сопровождать.
— С величайшим удовольствием, ведь он мой большой друг; насколько может быть другом еврей, пусть и столь важный, к тому же — мой главный поставщик саженцев для сада, — он указал на горшки с цветами, стоящие у окна. — Вот только человек он занятой, и чтобы поход к нему не оказался напрасным, позвольте мне сперва назначить встречу. Я дам вам знать. Скажите, где вы остановились?
— Пока еще нигде, — признался Марти. — Едва прибыв в город, я сразу же направился к вам.
— Ну что ж, тогда я дам вам рекомендательное письмо для одного домовладельца. Он живет в пригороде, неподалеку от Епископских ворот. Там вы сможете устроиться с комфортом. Я вас найду, когда договорюсь с Барухом Бенвенистом о встрече.
— Мне бы не хотелось причинять вам неудобства. Я и сам могу найти жилье.
— Ну что вы, никаких неудобств! К тому же там вам будет гораздо лучше, чем на постоялом дворе. Не говоря уже о том, что там мне намного легче будет вас найти.
— Вы так добры!
— Я всего лишь отдаю долг памяти вашему отцу, который навсегда останется в моем сердце. И теперь, выполнив обещание, данное ему много лет назад, я чувствую себя так, будто наконец избавился от ноши, которую таскал на шее все эти годы.
С этими словами он начал что-то писать.
9
Ночь
Тулуза, декабрь 1051 года
Рамон Беренгер вышагивал из угла в угол по каменным плитам комнаты. Едва дождавшись ухода слуг, он извлёк из кармана записку и прочел ее при свете стоящего на столе канделябра. Его нетерпеливые пальцы разгладили пергамент. Послание гласило:
«Если ваше сердце переполняют те же чувства, что и мое, прошу вас этой ночью следовать указаниям моего доверенного человека. После прочтения этого письма прошу вас его сжечь».
Письмо было без подписи.
К горлу графа подступил ледяной ком, ноги у него подкосились, и ему пришлось сесть на край постели. Снова и снова он пробегал глазами письмо, не зная, что делать: графиня велела ему сжечь послание, но у него не поднималась рука. Прошла целая вечность, прежде чем он уловил за дверью какой-то шорох. Стараясь не издать ни единого звука, Рамон приоткрыл дверь и огляделся, он решил, что чувства играют с ним злые шутки, заставляя слышать то, чего нет. Казалось, длинный коридор был пуст, но когда он уже собирался запереть дверь, из-за шторы тенью выскользнул коротышка и поднес палец к губам, призывая молчать.
Карлик проскользнул у него между ног, и граф Барселонский, словно застигнутый на месте преступления вор, встревоженно оглянулся, его сердце бешено забилось, как в тот далекий день, когда ему впервые довелось сражаться против целой орды мавров. Тогда из-за украшающей коридор статуи показался чёрный силуэт монаха. Убедившись, что его присутствие осталось незамеченным, а шут графини пробрался в покои Рамона Беренгера, он тут же исчез, чтобы сообщить эту новость своему господину, аббату Сен-Жени, велевшему следить за покоями блистательного гостя.
Карлик тем временем представился графу.
— Сеньор, я Дельфин, секретарь графини Альмодис и ее единственное доверенное лицо. Я безгранично предан графине и много раз спасал ей жизнь, рискуя собственной. Из всей свиты, сопровождавшей ее при отъезде из замка Ла Марш, когда она в первый раз выходила замуж, лишь я остался в живых.
После этой фразы Рамон смутился и слегка растерялся, но искушённый в дворцовых интригах граф решил соблюдать осторожность, опасаясь, что это может оказаться ловушкой коварного графа Тулузского.
— Скажи, малыш, кто на самом деле тебя прислал? Честно говоря, ты мне кажешься больше похожим на шута, чем на доверенное лицо. Чем ты докажешь, что говоришь правду?
Карлика гораздо больше задело недоверие графа, нежели то, как он его назвал.
— Возможно, я и мал ростом, сеньор, но всегда знал, что истинное величие человека заключено вот тут, между волосами и бровями, — с достоинством ответил карлик. — А мой лоб обширен, и потому моя голова соображает намного лучше, чем у иных коронованных особ, пусть даже их венчает хоть графская, хоть герцогская корона. Короче говоря, либо вы мне поверите, либо я возвращаюсь обратно.
Рамон, успевший понять, что не стоит понапрасну обижать вспыльчивого карлика, сменил тон.
— Надеюсь, ты понимаешь — довольно странно, когда в покои высокого гостя в столь поздний час без приглашения является слуга?
— Мне тоже совсем не хотелось этого делать, ведь моей спине грозит кнут палача, если не что похуже, волей-неволей приходится соблюдать осторожность. Но вам-то бояться нечего. Разумеется, если вы мне не верите, ничто не мешает вам позвать стражу.
— Докажи мне, что тебе можно верить.
— Ну что ж, сеньор, тогда я расскажу вам то, о чем можете знать лишь вы двое, а раз я это тоже знаю, выходит об этом мне сообщила графиня. Так вы убедитесь, что я и в самом деле ее доверенное лицо.
Выдержав паузу, чтобы заставить собеседника еще больше напрячься, Дельфин продолжил:
— Сегодня вечером вам передали письмо, и в нем она обращается к вам, рискуя быть отвергнутой и попасть в глупое положение. Так знайте, вы любимы самым возвышенным созданием на земле, о чем я собирался вам сообщить. Прежде чем продолжить, я хотел бы кое-что объяснить. Графиня, которой я служу верой и правдой, несмотря на мой малый рост, совершенно несчастна. Она никогда не знала любви и выходила замуж в интересах графства. Она произвела на свет детей и, хотя и любит их, готова бросить все, лишь бы только быть с вами.
При этих словах кровь отхлынула от лица графа. А карлик между тем продолжал:
— Если вы согласны, я, следуя указаниям моей сеньоры, провожу вас к ней; если же нет — то просто уйду и передам ей ваш ответ. Но знайте, если вы обманете ее, если посмеете посмеяться над ней и причинить ей боль — считайте меня своим врагом.
Рамон уже собирался ответить на эту дерзость, но тут его посетила чудесная мысль. Ведь если карлику известно содержание письма — значит, он действительно посланник графини, а Рамон — счастливейший из смертных.
— Я тебе верю. Едва я увидел ее этим утром, как тут же почувствовал между нами неразрывную связь. Скажи, что я должен делать?
— Я тоже вам верю, а потому признаюсь, что знал об этой встрече задолго до нашего знакомства.
Граф устремил на него пристальный взгляд, и карлик поспешил добавить:
— Слишком долго рассказывать, а у нас мало времени, нужно много успеть до исхода ночи.
Карлик подошел к стене, нащупал ловкими пальцами потайной рычаг, скрывающийся под видом листочка аканта в настенной резьбе, и деревянная панель отъехала, открыв глубокий темный лаз. Карлик, взяв со стола подсвечник, указал на проход графу:
— Следуйте за мной, сеньор!
10
Барух Бенвенист
Барселона, май 1052 года
С незапамятных времён евреи каталонских графств жили обособленно от христиан — по многим причинам. Одной из них было отношение церкви, считающей, что все, нарушающее чистоту истинной веры, внушает опасения. Во многом этому способствовали и сплетни, ходившие в народе, привыкшем обвинять евреев во всех грехах: от пропажи козлёнка, якобы принесенного в жертву, до всевозможных несчастий — таких как эпидемия чумы, нашествие саранчи или стихийное бедствие. С другой стороны, даже графский дом не брезговал пользоваться услугами евреев-менял, сборщиков налогов или лекарей. Граф взамен защищал их, а потому ему тоже было выгоднее, чтобы все евреи жили в одном квартале, где за ними удобнее присматривать.
Существовали и другие причины неприязни к евреям: они предпочитали жить обособленно, исповедовали другую религию, их обычаи резко отличались, а еще они распяли Христа. Неудивительно, что и евреи сторонились христиан. А кроме того, они не хотели осквернять свои традиции общением с теми, кого они считали неверными — если, конечно, этого не требовали дела.
Обитатели еврейских кварталов жили замкнуто: браки заключали только между собой по особым обрядам, ходили в собственные синагоги и вкушали особую пищу, приготовленную в соответствии с правилами кашрута. Все это способствовало укреплению братских уз между ними и делало невозможным проникновение чужаков в этот замкнутый мир. Еврейские кварталы во всей Каталонии назывались Каль. В Барселоне еврейский квартал располагался возле ворот Кастельнау и, разумеется, также назывался Каль.
На следующее утро, в пятницу, Марти Барбани в сопровождении падре Льобета отправился к воротам квартала Каль, где в этот час кипела жизнь. Нужный им дом оказался добротным каменным зданием, построенным на манер особняков христианской знати.
Он состоял из двух пристроек разной высоты. В главное здание вела резная арочная дверь, а на втором этаже было две группы по четыре окна со стеклянными витражами, они повторялись и на третьем этаже, а выше находилась мансарда всего с тремя окнами. Крыша была из арабской черепицы. Пристройка справа несомненно предназначалась для слуг. Дверь вела во внутренний двор, где и находились помещения для прислуги. Окна наверху были поменьше, а над ними восемь балок поддерживали крышу из той же арабской черепицы. Каменные выступы предохраняли ворота от случайного наезда колеса, которое могло бы повредить фундамент.
Марти и рослый священник подошли к двери и, позвонив в колокольчик, стали ждать, пока им откроют.
— Что это? — спросил молодой человек, указывая на плотно закрытый футляр на дверном косяке, у самой притолоки, внутри которого определённо что-то скрывалось.
— Особый футляр, внутри лежит мезуза [8].
Марти с интересом рассматривал мезузу, когда в двери приоткрылось небольшое окошко и через железную решетку на них подозрительно уставился слуга.
— Кто вы такие и что вам надо?
— Это дом Баруха Бенвениста? — спросил падре Льобет.
— Может быть, и да, а может, и нет. В зависимости от обстоятельств.
— Каких еще обстоятельств?
— От того, кто его спрашивает и зачем.
Священник прекрасно знал о мерах предосторожности, принимаемых евреями Каля, прежде чем впустить в дом посторонних. Тем не менее, невежливость слуги удивила Марти, ведь у себя в деревне он не привык к подобному обращению.
Архидьякон, заметив его удивление, тут же откликнулся:
— Подобная манера обращаться с гостями не делает чести добропорядочному еврейскому дому.
— Я всего лишь выполняю приказ: времена сейчас неспокойные. Вчера меня самого чуть не зарезали грабители у самых дверей дома. Я всего лишь выполняю приказ хозяина.
— Хорошо, тогда мы подождём здесь, а вы доложите хозяину, что пришёл дон Эудальд Льобет вместе с сыном его давнего клиента.
— Извольте подождать здесь.
Прежде чем закрыть дверное окошко, слуга решил все же проявить уважение к посетителям, рассудив, что если к хозяину пришел человек в сопровождении священника, он занимает достаточно высокое положение, а подобная нелюбезность может плохо закончиться. Ждать пришлось недолго — вскоре послышался скрежет отпираемых замков, отодвигаемых засовов и лязг дверной цепочки, после чего дверь наконец открылась и на пороге возник слуга, теперь настроенный куда дружелюбнее.
— Хозяин велел проводить вас в его кабинет.
Заперев за гостями дверь, слуга повел их по длинному коридору в кабинет менялы, всю дорогу извиняясь за свое поведение.
— Надеюсь, вы понимаете, что в наши времена предосторожность не может быть лишней.
— Не стоит извиняться, — ответил архидьякон. — Мы прекрасно вас понимаем. Поверьте, мой юный друг был бы рад иметь столь добросовестного и бдительного слугу.
Падре Льобет умел нравиться слугам, и Марти понял, что лучший способ открыть любые двери — не считать зазорным быть вежливым с прислугой.
Комната, куда их привели, оказалась просторной и обставленной с изысканным вкусом. Перед стеллажами, заваленными свитками пергамента и текстами из Талмуда, располагался дубовый пюпитр, где лежала Тора в роскошном кожаном переплете с серебром. По другую сторону большого письменного стола стояла менора [9]. В глубине комнаты, позади кресла менялы, обитого тонкой кордовской кожей — несомненно, доставленное из Аль-Андалуса, — располагалось открытое трехстворчатое окно и открывался вид на сад с фруктовыми деревьями и каменным колодцем. Слуга удалился, оставив их дожидаться прихода хозяина.
Гости смутились, когда снаружи послышался властный и недовольный голос, приглушенный богатыми портьерами и сплошь покрывающими стены книжными полками. Видимо, хозяин распекал кого-то из слуг. Затем послышались шаги, колыхнулась плотная ткань драпировок, и в дверном проеме показался Барух Бенвенист. Это был низкорослый тщедушный человек с очень белой кожей, хитрыми глазками, тонкими чертами лица, характерным еврейским носом и снежно-белой бородой. Нахмурив брови, он какое-то время изучал гостей с деланным любопытством, пока не узнал Эудальда Льобета. Лицо еврея расплылось в улыбке, и он тут же бросился навстречу священнику, протягивая маленькие изящные руки, что выглядывали из широких рукавов накидки.
— Дорогой друг! Чем я прогневал вас, что вы так надолго лишили меня своего общества? Или вы тоже готовы отказаться от старых друзей из-за веры?
Мужчины пожали друг другу руки — как заметил Марти, с искренней симпатией. Контраст этой пары был прямо-таки поразителен.
— Ни в коем случае, — ответил священник. — Просто события последних дней вынудили меня много работать, я чувствовал себя таким разбитым, и у меня не было ни сил, ни времени, чтобы посвятить его друзьям. Вы же знаете — ничто не радует меня больше, чем вечерняя беседа на вашей несравненной террасе, за кубком превосходного вина.
— Этим мы отличаемся от магометан, которым Коран запрещает употреблять пьянящие напитки. Я полностью согласен с вами: нет лучшего средства, чтобы смягчить сердце любого противника, даже если он явился с мечом, нежели этот божественный нектар. Но я завидую вашему обету безбрачия: ведь сам я обременен супругой и тремя дочерьми, и они безбожно крадут у меня время. Истинные порождения Лилит, иначе не скажешь. Сдается мне, они все сговорились загнать меня в гроб. Видите ли, когда мне сообщили о вашем приходе, здесь как раз разыгралась семейная ссора. С моей младшей и так сладу нет никакого, а мамаша еще и подзуживает ее бунтовать против отцовской власти. Да все мучения Иова — ничто по сравнению с тем, что выпало на мою долю... Но простите мне эти жалобы. Представьте лучше вашего юного друга. Садитесь, прошу вас. Простите, если сегодня я проявил себя не самым гостеприимным хозяином.
— Ну что ж, Марти, подойдите поближе, — сказал священник.
Марти тут же подошел к стоящей посреди комнаты парочке. Священник ласково положил руку ему на плечо и произнес:
— Это Марти Барбани, сын Гийема Барбани де Горба. Как я понимаю, у вас хранится его завещание.
Старый еврей взял юношу за правую руку и посмотрел на него, прищурив проницательные глазки.
— Да будет благословенно имя Адоная! На своем веку мне довелось видеть множество завещаний, и многие из них изгладились из памяти, но завещание вашего отца было настолько необычным, что навсегда врезалось в память, словно высечено огненными буквами. Но располагайтесь, боюсь, нам предстоит долгий разговор.
Барух занял свое место за столом, а гости устроились напротив на двух стульях.
Старый меняла скрестил на груди руки, спрятав маленькие ладони в прорезях рукавов и прищурился, словно пытаясь что-то вспомнить.
Марти не в силах был сдержать нервную дрожь, понимая, что все его будущее зависит от слов этого человека.
— Друг мой, я прекрасно помню тот вечер. Дождь лил как из ведра, пасти горгулий извергали целые потоки воды, которые растекались в огромные лужи; люди попрятались по домам, а потому меня сильно удивило, когда кто-то постучался в дверь в такую погоду. Это был ваш отец. Чуть позже я спросил у него, почему он выбрал именно меня для ответственной роли душеприказчика. Ведь он был гоем [10], и мне показалось странным, что он решил воспользоваться услугами скромного даяна [11] барселонского Каля — да еще и в такой спешке, не пожелав дождаться окончания дождя. Ведь подобную просьбу мог выполнить любой писарь. Иное дело, если бы ему понадобился совет лекаря, ведь даже сам граф пользуется нашими услугами. Его ответ до сих пор звучит у меня в ушах, как вчера. Вот что он мне ответил:
«Я солдат, и все время в походах, у меня нет времени, и не хотелось бы, чтобы плоды стольких лет службы на границе, добытые потом и кровью, попали в руки какого-нибудь вороватого писаря. Что касается евреев, то они — не только лучшие лекари; мне также известна ваша щепетильность в делах. Вы проследите, чтобы условия завещания были выполнены с точностью. Вот почему я решил передать вам на хранение мое достояние. Я не доверяю писарям, среди которых процветает воровство и двурушничество, и у меня нет времени искать среди них того, кто заслуживал бы хоть малой доли доверия, какое я питаю к вам: ведь ваша честность известна далеко за пределами графства». Кто, скажите, не чувствовал бы себя польщенным после такой похвалы? «Вы мне льстите, — ответил я. — Право, я не заслуживаю всех этих похвал, но ценю ваше высокое мнение о моем народе. Если бы все христиане думали подобно вам, наша жизнь стала бы более приятной и менее опасной».
Примерно так началась наша долгая беседа, а продолжалась она до самого вечера. Завещание, которое оставил ваш отец, было весьма необычным. Я должен был хранить его у себя, пока не появится наследник с перстнем, по которому я смогу его узнать, и ключом. Я помню это так отчетливо, словно это случилось вчера, помню все условия завещания. Подождите немного, пока я разыщу нужный свиток; я сам вам его прочту, ведь память иной раз может сыграть злую шутку, а мне бы не хотелось ввести вас в заблуждение.
— Но почему вы назвали это завещание необычным?
— Когда прочтете, то сами узнаете.
Бенвенист поднялся из-за стола и направился к одному из шкафов, затем достал из глубокого кармана связку ключей, вставил один в замочную скважину и повернул. Глухой щелчок показался Марти громом с небес — так взволнован он был в эти минуты. Старик открыл правую дверцу шкафа. На полках внутри громоздилось множество разномастных пергаментов. Бенвенист выбрал один с восковой печатью.
— Этот документ навевает множество воспоминаний. Будьте добры, позвольте ваш перстень.
Марти, удивленный этим требованием старика, с трудом стащил кольцо с пальца и, потянувшись через стол, передал меняле. Бенвенист тут же принялся извиняться:
— Как вы понимаете, это простая формальность, однако оказанное вашим отцом доверие требует, чтобы мы действовали предельно осторожно и соблюдали все условия.
После этих слов он открыл ящик письменного стола, извлек оттуда кусочек воска и стал нагревать его над пламенем свечи. Когда воск размягчился, старик накапал его на лист чистого пергамента и прижал перстень к воску. Оттиск в точности повторял печать на документе. Еврей сравнил отпечатки и показал их священнику, словно ища у него подтверждения.
— Взгляните, оба оттиска совершенно одинаковые. Теперь мы спокойно можем вскрыть документ. Вы должны сами сломать печать, друг мой. В конце концов, содержание пергамента адресовано вам.
С этими словами он протянул Марти маленький кинжал с рукоятью из слоновой кости, на которой была вырезана звезда Давида, и кивком указал на свиток. Марти, на миг задумавшись, как сейчас изменится его жизнь, сорвал печать, мельком ужаснувшись, что, возможно, только что открыл ящик Пандоры, и вернул пергамент еврею.
Хозяин дома взял его правой рукой, а левой вынул из ящика лупу из желтого топаза, вставил ее в правую глазницу и стал читать вслух серьезным и твердым голосом человека, привыкшего выступать перед публикой. Особо важные места он выделял паузами, стараясь привлечь к ним внимание слушателей.
Писано третьего мая 1037 года от Рождества Христова
Я, Гийем Барбани де Горб, пребывая в здравом уме и твердой памяти, по собственной воле и без принуждения выражаю свою последнюю волю и назначаю душеприказчиком жителя города Барселоны Баруха Бенвениста, с тем чтобы он передал этот документ моему сыну, Марти Барбани де Монгри, по достижении им совершеннолетия, убедившись, что он именно тот, кому адресовано завещание
Меняла стал зачитывать условия владения землей в Эмпорионе, которой по распоряжению старого графа могла пользоваться семья Барбани в награду за верную службу на протяжении трех поколений. Согласно этим условиям, жена покойного Гийема могла пользоваться урожаем, но продавать его и распоряжаться доходами могла лишь с согласия Марти.
Пока что Марти не видел в документе ничего странного. Об этих отцовских распоряжениях он уже и раньше знал из письма, переданного ему падре Льобетом. Он никак не мог взять в толк, что в завещании могло так накрепко запечатлеться в памяти еврея. А тот между тем замолчал и, оторвавшись от пергамента, отметил ногтем место, где закончил читать.
Учитывая, что до сих пор я не сделал ничего, что дало бы мне право называться хорошим отцом, я должен объяснить причины, заставившие меня действовать подобным образом, а также передать сыну состояние, которое мне удалось собрать за свою бурную жизнь. Я передаю это состояние на хранение даяну Барселонского Каля Баруху Бенвенисту.
За долгие годы службы в войске графа Барселонского, под началом его самого или графини Эрмезинды Каркассонской, дважды регентши (первый раз — в годы малолетства ее сына, Беренгера Рамона I, а затем — внука, Рамона Беренгера I), я дослужился до звания сержанта отряда ополчения и получал свою долю от добытых в сражениях трофеев. Все эти сокровища — мои по праву, я сберег и сохранил их, чтобы со временем передать сыну, причем так, чтобы в случае, если кто-то заявит на них права, хотя это весьма маловероятно, мой сын мог доказать, что сокровища — это его наследство и три поколения нашей семьи преданной службой получили на них право.
Надеюсь, что это наследство сослужит тебе добрую службу и избавит от кабалы, в которой прошла моя жизнь. Учитывая, что ремесло солдата не слишком способствует обзаведению имуществом, я мог лишь приобрести сундук и хранил в нем добытые в битвах трофеи. Они накапливались долгие годы, так что теперь я могу оставить тебе неплохое наследство. Учитывая, через какой ад мне довелось пройти, я горжусь своими усилиями и не сомневаюсь, что при должном благоразумии ты станешь свободным и уважаемым человеком, а со временем, возможно, даже одним из промов [12] Барселоны.
Все это я оставил на хранение Баруху Бенвенисту, чтобы он передал тебе. Надеюсь, ты разумно распорядишься наследством и сделаешь с его помощью немало добрых дел. Надеюсь также, что оно хоть немного возместит тебе годы, проведенные без отца.
Прощай, сынок. Когда ты прочтешь этот документ, меня уже не будет в живых. Помолись за упокой моей души.
Подписано: Гийем Барбани де Горб
Чуть ниже на полях красовалась замысловатая подпись Баруха Бенвениста.
Когда еврей закончил читать, Марти попросил завещание, чтобы прочесть его лично. С минуту он пребывал в задумчивости, затем передал пергамент падре Льобету, чтобы тот тоже прочитал, а сам послал даяну весьма красноречивый взгляд. Тот моментально понял немой призыв, поднялся из-за стола и вышел из комнаты. В скором времени он вернулся в сопровождении слуги, несущего необычного вида ларец, который молча поставил на стол и немедленно удалился. Падре Льобет тут же вскинул голову и воскликнул:
— Клянусь мощами святой Эулалии! Мне хорошо знаком этот ларец. Он отошел вашему отцу в качестве трофея после битвы при Лериде в 1022 году, когда граф одержал победу.
Ларец представлял собой небольшой дубовый сундук, окованный четырьмя полосами железа самого лучшего качества, но при этом имел одну особенность.
— За мою долгую жизнь мне оставляли на хранение самые разные предметы, но никогда прежде мне не доводилось держать в руках подобную вещь.
С этими словами Барух Бенвенист указал на запертый ларец. Тот и впрямь выглядел необычно: вместо обычных запоров его вместе с крышкой охватывали четыре литые чугунные скобы, с обеих сторон каждой из них имелся замок, так что открыть их можно было только одновременно двумя ключами, а чтобы поднять крышку, эту процедуру нужно было проделать со всеми четырьмя скобами. Еврей извлек из глубин бездонного кармана ключ и сказал:
— У вас должен быть другой ключ. Когда я открываю один замок, второй ключ должен находиться в замочной скважине с противоположной стороны чугунной скобы, а вы будете одновременно со мной его поворачивать.
— Помню, как сейчас, как ваш отец объяснял мне действие этого механизма, — произнес падре Льобет. — По всей видимости, этот ларец брал с собой в путешествия мавританский король Тортосы. Без двух ключей, отпирающих противоположные замки, его нельзя открыть. Удивительно тонкая работа!
По знаку Бенвениста Марти с дрожащими руками приблизился к ларцу. Барух Бенвенист вставил ключ и велел Марти сделать то же самое с противоположной стороны. Еврей повернул ключ, но замок не открылся, и лишь когда ключ повернул Марти, послышался легкий щелчок, и язычки обоих замков одновременно втянулись внутрь. То же самое они проделали с двумя другими запорами. Теперь крышку ларца можно было поднять, и Марти, убрав чугунные скобы, торжественно открыл его. Нетерпеливому взору всех троих предстали плоды многолетних трудов человека, который всю жизнь провел в сражениях на границах.
Поверх груды золотых монет, чья стоимость даже на первый взгляд составляла не меньше полутора тысяч сарагосских манкусо [13], покоилась груда драгоценностей самой тонкой работы. Здесь были и тяжелые золотые серьги, и браслет с крупным сапфиром, а на самом верху лежала золотая диадема, достойная королевы, в ее центре сиял огромный рубин в форме слезы — при свечах он полыхал, словно капля крови.
— Как видите, отец оставил вам богатое наследство, — сказал еврей.
— Вы должны распорядиться им разумно, чтобы годы лишений, в течение которых ваш отец собрал это богатство, не пропали даром, — добавил падре Льобет.
Марти все ещё не мог поверить собственным глазам и немного помедлил, прежде чем заговорить.
— Я призываю Бога в свидетели, что употреблю наследство на то, чтобы исполнить волю отца, для чего прошу вашей помощи и совета. Даю слово, что буду честно и упорно трудиться на благо других людей, чтобы хоть немного искупить то зло, которое мой отец, пусть и невольно, лишь в силу своего ремесла, причинил людям. Если я это сделаю — пусть Господь вознаградит меня на небесах, если же нет — пусть он меня накажет.
11
Свидание
Тулуза, декабрь 1051 года
Тайный ход оказался длинным и извилистым, с многочисленными ответвлениями, ведущими в другие помещения или наружу. Карлик нес в руке канделябр, освещая дорогу. Несколько раз им приходилось спускаться и подниматься по высеченным прямо в скале ступеням. Граф прикинул, что они сейчас, должно быть, находятся на уровне оружейного двора. Сверху доносились голоса — это болтали стражники. Вскоре голоса затихли, и граф увидел, как карлик ощупывает стену в конце тупика. Наконец он нащупал какой-то рычаг, и на глазах изумленного графа кусок стены отъехал в сторону, открыв вход в часовенку.
— Это личная часовня графини, — объяснил Дельфин. — Сюда можно добраться только через тайный ход или личные покои графини.
Граф Барселонский оказался в незнакомом темном помещении. Карлик, открыв ведущую в часовню низенькую дверцу, знаком пригласил графа следовать за ним и сказал:
— А сейчас извольте подождать здесь. Я доложу госпоже.
Недолго думая, Дельфин исчез за боковой портьерой вместе с канделябром, а Рамон Беренгер тем временем разрывался между радостным предвкушением и чувством вины перед человеком, которому он собрался отплатить черной неблагодарностью за гостеприимство, похитив его жену.
Свет лампады окрашивал все вокруг в красноватые тона. Глаза графа понемногу привыкли к темноте, и вскоре он уже смог различать контуры предметов. Рамон Беренгер опустился на скамью и стал молиться:
— Всемогущий Господь, судьба влечет меня в пропасть. Ты привел меня к этой женщине, не дав возможности ее любить. Ты допустил, чтобы она ослепила мой взор и лишила меня воли. И теперь я прошу твоего милосердного прощения за то, что собираюсь сделать — если, конечно, она согласится... Прости меня, о Боже... Ради нее я готов пожертвовать бессмертием души и ввергнуть себя в адское пламя...
И в эту минуту, в ореоле света лампадки появилась Альмодис в скромном домашнем платье и со свечой в руке свечу. Пламя которой вспыхивало в такт ее шагам, и тени на стенах часовни вздрагивали, словно живые.
Заметив в глубине нефа Рамона, графиня Тулузская направилась к нему. Он шагнул навстречу и, встав на одно колено, склонился, чтобы поцеловать протянутую руку. Затем он поднялся, их взгляды встретились и сказали больше, чем любые слова.
Альмодис, не выпуская руки графа, медленно потянула его за собой. Тусклый свет луны просачивался внутрь сквозь цветные стекла витражей. Не сводя с графини завороженного взгляда, Рамон Беренгер последовал за ней в комнатку позади алтаря — там священники переодевались к литургии. Альмодис медленно повернулась и на глазах изумленного графа при свете двадцати свечей из двух огромных канделябров начала сбрасывать одежду: сначала на пол соскользнула расшитая накидка, затем — нижние юбки и, наконец, сорочка.
Под конец она распустила толстую косу ослепительно-рыжих волос и предстала перед ошеломлённым графом во всей безупречной наготе. Рамон Беренгер, который до сих пор занимался любовью с обеими жёнами при тусклом свете единственной свечки, под неустанное бормотание молитв, причём обе всегда были в длинных ночных сорочках, мало что позволявших разглядеть, не мог отвести глаз. Графиня поднялась по лесенке на огромную кровать и жестом велела следовать за ней. Потрясенный граф сбросил роскошное одеяние и взобрался на ложе, словно бросился на штурм вражеского замка. Когда он уже собрался исполнить ту роль, что природа предназначила мужчинам, Альмодис его остановила.
— Не торопитесь, — прошептала она. — Давайте насладимся этими минутами счастья — возможно, единственными в нашей жизни.
И нежно коснувшись правой рукой его плеча, заставила его лечь, а потом взобралась сверху. Роскошная рыжая грива рассыпалась по ее плечам, закрыв лицо цвета слоновой кости; графиня припала к его губам. Рамону Беренгеру, графу Барселоны, Осоны и Жироны, казалось, что он вот-вот умрет от блаженства, ему хотелось, чтобы эти минуты длились вечно, а что думает по этому поводу Господь, его совершенно не интересовало.
12
Планы на будущее
Барселона, май 1052 года
Марти пребывал в глубочайшей растерянности. Прежнее убеждение, что отец бросил его на произвол судьбы, чтобы жить в свое удовольствие, теперь рассыпалось прахом. После прочтения письма и завещания Марти пришел к двум выводам. Во-первых, отец лишь выполнял долг чести по условиям соглашения, заключенного еще его предками, к тому же, в отличие от многих других воинов, его отец был действительно человеком чести и старался делать свое дело, не перенимая варварских привычек своих товарищей. А во-вторых, оказалось, что его отцу даже в голову не приходило самому воспользоваться накопленными богатствами: все его мысли были о сыне, которого он едва знал.
В завещании он просил сына почтить его память и достойно распорядиться наследством, чтобы искупить все те страдания, которые он невольно причинял другим людям. Именно благодаря отцовским усилиям Марти получил возможность начать интересную, полную приключений жизнь в этом замечательном городе, о такой удаче он даже не мог помыслить в самых оптимистичных мечтах.
Всего пять дней прошло с тех пор, как он приехал в Барселону, имея при себе лишь немного денег, множество иллюзий, перстень и рекомендательное письмо, а ныне он в одночасье стал одним из богатейших людей в городе. Теперь перед ним стояли две задачи. Первая — отправить гонца к матери и порадовать ее доброй вестью, чтобы хоть немного утешить добрую женщину. После этого он заказал архидьякону Льобету сто месс за упокой отцовской души. Потом Марти начал размышлять, как распорядиться нежданным богатством. В конце концов он решил, что лучше всего будет вложить средства в какое-нибудь дело — негоже, чтобы отцовское наследство и дальше лежало мертвым грузом в ларце. Он решил попросить помощи у старика Бенвениста, известного своей честностью: не случайно ведь именно ему доверил своё состояние отец.
— Я вижу, вы ранняя пташка, — поприветствовал его меняла, открывая перед ним двери своего дома, — должно быть, у вас легкий сон.
— Просто я еще не привык. Трудно, знаете ли, свыкнуться с потрясениями, что я пережил за последние дни. Сегодня утром я подумал, что все это мне приснилось.
Старик взял Марти под руку и повёл в кабинет, где оба уютно расположились в удобных креслах.
— О нет, друг мой, это вовсе не сон. Со временем, став старше, вы поймете, что порой случаются в жизни события, совершенно меняющие весь ее ход. Да, подобное происходит нечасто, но все же случается, и не стоит относиться к этому с таким удивлением. Милость Яхве простирается над всеми людьми.
— Конечно, новое положение дел выбило меня из колеи, но думаю, что со временем привыкну к нему: ведь намного легче привыкнуть к богатству, чем внезапно оказаться нищим.
— Напрасно вы так думаете. Внезапно свалившееся богатство таит в себе большую опасность, если отсутствует голова на плечах.
— Не волнуйтесь на этот счёт: я всегда выполняю обещания, и волю отца я исполню, как свою собственную.
Бенвенист пристально посмотрел на него.
— Ну что ж, тогда займемся делами, — предложил он. — Прежде всего, где вы намерены хранить деньги? Я надеюсь, вы не собираетесь повсюду таскать их с собой?
— Собственно говоря, мне бы хотелось оставить их здесь. Я уверен, у вас они будут в полной сохранности. А кроме того, я нуждаюсь в ваших мудрых советах. Думаю, что отец не случайно доверил наследство именно вам.
— Вы делаете мне честь, но все же позвольте напомнить, что я — еврей.
— Для меня это вовсе не преграда, а напротив, достоинство. Разве сам граф Барселонский не пользуется вашими советами? Я прибыл из деревни, но быстро учусь. Достаточно понаблюдать, как ведут себя люди, достойные подражания. Если даже вельможи пользуются услугами евреев, доверяя им свое здоровье и состояние, то почему я не могу этого делать?
Еврей любовно погладил бороду.
— Ну хорошо. Тогда, прежде чем решить, куда и как выгодно вложить ваш капитал, давайте подумаем, где вы будете его хранить. Место должно быть надежным и в то же время доступным, чтобы деньги всегда были у вас под рукой, если вдруг я буду в отъезде, или, не приведи Яхве, что-то со мной случится.
— И что же вы мне посоветуете?
— Если не возражаете, мы могли бы хранить ваши деньги в подвале моего дома, где я, кстати, держу и свои собственные. Это надежное и тайное место, о котором почти никто не знает. Во времена римлян там была каменная печь, я расширил ее и усовершенствовал. Так что даже граф хранит у меня свои сокровища, то ли потому, что тоже мне доверяет, то ли чтобы держать часть своих средств подальше от любопытных глаз.
Марти улыбнулся.
— Ваше предложение кажется мне просто чудесным, но прежде чем его принять, я хотел бы спросить: как мне стать гражданином Барселоны?
— Вы слишком торопитесь, мой юный друг. Чтобы стать гражданином, потребуется, во-первых, немало времени, а во-вторых, за это время вы должны будете доказать свою честность и трудолюбие и заслужить признание других граждан. Поверьте, одно дело — просто жить в городе, и совсем другое — быть его гражданином.
— Так объясните, если, конечно, вам это не трудно, — настаивал Марти.
— Видите ли, на этих землях действуют законы, доставшиеся нам от вестготов, а тем — от римлян. Должен сказать, что во владениях, входящих в состав Испанской Марки [14], свод законов все же более совершенен, чем в остальных королевствах на полуострове — как христианских, так и мавританских. В других королевствах существуют лишь три правящих сословия: король, аристократия — или, если хотите, феодалы — и духовенство. Но здесь, на этой благословенной земле, существует ещё и четвёртое правящее сословие — горожане, и с каждым днём власть их крепнет. Именно поэтому стать полноправным гражданином, если ты не родился внутри городских стен — задача практически невыполнимая. Вы меня понимаете? Осмелюсь утверждать, что добиться этого звания столь же непросто, как в древности — стать гражданином Рима.
Марти, старавшийся не упустить ни единой детали из слов еврея, застыл в задумчивости.
— Но ведь должна же быть какая-то возможность стать гражданином? — спросил он.
— Да, такая возможность есть, но это очень долгое и хлопотное дело, к тому же зависящее от множества обстоятельств. Хотя, если вам повезёт жениться на горожанке, вы тоже станете гражданином.
— Ну, если другим это удалось, то и у меня получится, — заявил Марти тоном одновременно наивным и самоуверенным. — А что касается удачи, так вы же сами убедились, что мне благоприятствует фортуна, звезды или что там еще...
Еврей с сомнением посмотрел на юношу, проницательные глаза Бенвениста тонули в глубоких морщинах, а губы едва сдерживали улыбку.
— Мне нравятся люди вроде вас, — произнес он. — Не знаю, удастся ли вам добиться желаемого, но я не сомневаюсь, что вы сможете стать по-настоящему счастливым.
— Я никогда не боялся трудностей. Напротив, они всегда меня подстегивали. Я всю жизнь трудился и не могу представить себе иного. То, что надо жить честно, для меня несомненно, ну, а брак с горожанкой... В любом случае, рано или поздно придется задуматься о создании семьи.
— Ну что ж, время покажет.
— Тогда давайте сделаем первые шаги на этом пути, — решительно заявил Марти.
— Ну что ж, если вам так не терпится... Итак, первым делом, если вы хотите добиться чести стать гражданином, нужно познакомиться с соседями: это поможет найти жену. Вы меня понимаете?
Марти чуть заметно кивнул.
— В таком случае, если не возражаете, мы сегодня же отправимся на невольничий рынок в долине Бокерия, за стенами города, и подыщем вам подходящих слуг и на какое-то время оставим товар у нынешних его владельцев, пока не подыщем для вас подходящее жилье.
— Хотите сказать, что я должен купить рабов? — недовольно поморщился Марти.
— Для человека вашего положения намного престижнее иметь рабов, чем просто слуг. Соседи попросту не поймут, если человек с положением и деньгами не держит рабов. А кроме того, можете быть уверены, что при покупке вас не надуют: один из ведущих работорговцев — мой родственник, и он посоветует хорошие варианты. Когда покупаете раба, важно точно знать, для какой работы он нужен, а также иметь представление о его здоровье, характере и, конечно, о трудолюбии.
— Ну ладно, — неохотно согласился Марти. — Значит, рабов мы купим. А что посоветуете насчет жилья?
— Пока мы не найдем подходящий дом, я бы советовал снять подходящий особняк. Но в таком важном вопросе спешка недопустима. Действовать нужно последовательно, не стоит ставить телегу впереди лошади.
Еврей поднялся из-за стола и пригласил Марти следовать за собой, чтобы осмотреть то место, где отныне предстояло храниться его сокровищам.
— Я вам так благодарен! — сказал он. — Надеюсь, что когда-нибудь я смогу вас отблагодарить.
— А я надеюсь, что этот день никогда не настанет.
— Зачем вы так говорите? — обиделся Марти.
— Негоже нам просить благодеяний от христиан.
13
На следующий день
Тулуза, декабрь 1051 года
В памяти Рамона вновь и вновь вставали картины той ночи. Случившееся казалось ему призрачным и нереальным. Он вспомнил, как вскоре послышался стук в маленькую дверцу, ведущую в часовню, напоминая любовникам, что их время истекло. Он вспомнил, как графиня вскочила с постели и поспешно накинула на плечи шаль, прикрыв чувственные изгибы тела. Образы теснились в его памяти, опережая друг друга. Он смутно помнил шепот Альмодис и ее стройную фигуру, застывшую возле двери; как он догадывался, она разговаривала с карликом. Помнил, как, подчиняясь знаку графини, снова оделся и вновь припал к ее губам долгим поцелуем. Наконец, любовники оторвались друг от друга с такой неохотой, словно отдирали клочки собственной кожи. Последние слова графини до сих пор отдавались эхом у него в голове:
— Завтра в полдень Дельфин проводит вас в мой личный садик. Нам есть о чем поговорить.
Карлик благополучно проводил графа в его покои. Перед тем, как откланяться, он сказал, что придет завтра. Рамон напомнил ему о графе Тулузском.
— Не беспокойтесь, — ответил Дельфин. — В это время он всегда принимает серные ванны, приносящие ему облегчение. Так что до двух часов пополудни его не будет в замке.
Потом, лежа без сна на необъятном ложе, граф обдумывал дальнейшие планы, которые в любом случае напрямую зависели от завтрашних слов Альмодис. План был весьма рискованным и почти безнадежным. Когда Рамон отправится в Жирону к бабке, один из его верных рыцарей, Жильбер д'Эструк, во весь опор помчится в Барселону с поручением.
Рассвет застал графа стоящим у окна спальни в полной уверенности, что ночью ему приснился чудесный и несбыточный сон. Это чувство не покидало его, пока не пришел Дельфин, чтобы проводить в личный сад графини. Это был уединенный уголок между апсидой часовни и личными покоями графини, сюда вела та же маленькая лестница с перилами, что спускалась до второго этажа. Между двумя цветниками под пышной магнолией стояла каменная скамья, по словам карлика, любимое место его хозяйки.
Из укромного уголка доносился шелест бегущей воды. Дельфин бесшумно исчез, и Рамон Беренгер, граф Барселонский, остался в одиночестве, взволнованный и растерянный, словно солдат перед первым боем. Когда же на верхней ступени лестницы показалась графиня Альмодис, его сердце радостно забилось — ведь он понял, что это не сон. Фиолетовое блио с рукавами, пышными на плечах и туго обхватывающими запястья, выгодно подчеркивало ее великолепную фигуру. Заплетенные в толстую косу роскошные рыжие волосы спадали на правое плечо. Рамону показалось, что его посетило видение из другого мира. Альмодис подошла с улыбкой, уверенная в своей неотразимости, и протянула руку для поцелуя; затем, не отнимая руки, усадила его рядом на каменную скамью.
— Сеньора, вы уверены, это достаточно надежное место?
— Самое надежное место во дворце. Здесь я всегда исповедаюсь. Сюда приходит только аббат Сен-Жени, и только по моей просьбе.
Альмодис де ла Марш была не только необычайно красивой, но и весьма умной женщиной, искушенной в политике, но страстно мечтала лишь об одном: самой решать свою судьбу, не отдавая ее больше в руки тем, кто принес ей столько страданий. Помедлив несколько мгновений, показавшихся Рамону вечностью, она наконец заговорила:
— Мы оба прекрасно знаем, для чего мы здесь.
— Сеньора...
— Молчите, граф; доверьтесь мне.
Рамон, дрожа от волнения, схватил Альмодис за обе руки и прижал их к груди.
— О том, что произошло вчера, я прежде лишь читала в древних текстах, а до сегодняшнего дня была уверена, что любовь — лишь выдумки трубадуров и поэтов. Я знаю, вы чувствуете то же самое. Не спрашивайте, откуда мне это известно, но с той минуты, когда вы вчера утром вошли под своды тронного зала, я поняла, что не в моих силах с этим бороться. Я еще могла бы усмирить сердце, если бы мое чувство осталось безответным, но наши сердца забились в унисон, а значит, судьба все решила за нас. Я никогда не знала счастья, но меня это и не беспокоило. Я зрелая женщина, но до вчерашнего дня это чувство не тревожило моего сердца. Первый мой брак был аннулирован, второй — расторгнут, но ничто прежде не вызывало в моем сердце такую тоску, какую я ощутила этой ночью. Моя жизнь, граф, потеряет смысл, если у меня не будет надежды хоть изредка вас видеть.
Рамону Беренгеру казалось, что все это — лишь волшебный сон, он вот-вот проснется, и окажется, что всё совсем не так. Он боялся пошевелиться, чтобы не разрушить это хрупкое волшебство. Тем не менее, едва она замолчала, он осмелился заговорить:
— Поверьте, мое сердце ни разу не дрогнуло даже во время битв с маврами. До вчерашнего дня я тоже не знал, что такое любовь, хотя, как и вы, был женат дважды. В первый раз меня женили ещё подростком. Я остался сиротой, и брак был обусловлен интересами государства. Моя бабка, регентша графства Эрмезинда Каркассонская, нашла мне невесту среди барселонской знати. Я ещё не знал любви и по наивности принял благодарность за любовь. Изабелла родила мне детей и два года назад умерла. Все настаивали, чтобы я женился снова, и второй брак тоже устроила бабка. На сей раз она выбрала мне в жены Бланку де Ампурьяс. До сегодняшнего дня мне было совершенно безразлично, быть женатым или оставаться вдовцом. Как видите, я тоже не имел возможности выбрать подругу по сердцу, с которой хотел бы разделить жизнь. Но вдруг между нами вспыхнуло такое чувство, что без вас моя жизнь потеряет смысл и станет настоящей пыткой.
— Я тоже люблю вас, граф, и готова на все, чтобы встречать каждый новый рассвет рядом с вами. Но не забывайте, сколько всего поставлено на карту. Я никогда себя не прощу, если по моей вине вы потеряете графство, а возможно, и жизнь. Нас разделяет священная клятва, данная у алтаря другим, а противостояние между графствами будет иметь самые скверные последствия для наших подданных.
— Повторяю, сеньора, моя жизнь ничего не стоит, если в ней не будет вас.
После этих слов воцарилось долгое молчание. Потом вновь заговорила Альмодис:
— Мне было бы довольно видеться с вами время от времени, — произнесла она. — Встречаться в каком-нибудь тихом месте, под предлогом охоты или турнира. Любой ваш вассал предоставит нам кров в своем замке.
Рамон Беренгер смутился.
— Быть может, вам этого и довольно, но мне — нет. Я граф Барселонский. Никто, черт подери, не смеет решать за меня! Я разрушу любые преграды на пути к счастью, если наградой будете вы. Я знаю, что сам Бог свел нас вместе, и теперь ни за что на свете я не расстанусь с вами.
— Мне больно это слышать, сеньор. Все так сложно, я чувствую себя зверем в западне. Я замужем, у меня есть дети, церковь освятила мой брак. На нас ополчится вся Тулуза. Наша жизнь превратится в ад.
— Сеньора, одно ваше слово — и я сверну горы, смету все преграды. Я уеду, но очень скоро вы услышите обо мне. Я отрину свою супругу, украду вас и увезу с собой в Барселону, наперекор всем злым языкам, и когда вы окажетесь там, никто не посмеет косо взглянуть на вас, даже коснуться края вашего платья.
Вопреки своему желанию мчаться быстрее ветра, Рамон Беренгер по настоянию своего сенешаля Гуалберта Амата задержался в Перпиньяне, поскольку воины после трудного дневного перехода утомились и роптали. Местный граф Бертран де Сен-Реми приходился родственником Барселонскому дому и хотя он дорожил расположением графини Эрмезинды, учитывая близость их владений, но по договору о разделе сфер влияния находился в подчинении графа Барселонского.
Графа и его свиту приняли в замке Перпиньян с подобающими почестями. Отдав хозяевам долг уважения и уделив им необходимое внимание, граф Барселонский удалился в отведенные ему покои, не тратя больше времени на пустые любезности, потому что ему не терпелось остаться одному и поразмыслить.
Время еле тянулось, вязкое и тягучее, словно лампадное масло. Граф стоял у окна, наблюдая за движением жемчужной луны — преданной спутницы всех влюбленных. Он смотрел, как она медленно скрывается за зубцами крепостной стены, и думал о том, что в далекой Тулузе Альмодис в эту минуту тоже любуется этой картиной. Перед самым рассветом он лег в постель, отчаянно сражаясь с бессонницей и строя планы на будущее, и твердо решил, что с этой самой минуты больше не позволит ни собственной бабке, ни кому-либо еще вмешиваться в его жизнь.
А в его голове, сменяя друг друга, проплывали воспоминания.
В прошлом году он подписал два мирных договора, имеющих огромное значение для судьбы графства и для его личного будущего. Бесконечные стычки с сеньором Пенедеса, графом Миром Герибертом, вынудили обоих искать пути к соглашению. В итоге каждый умерил свои претензии, и в конце концов был заключен мир, что дало Рамону возможность направить энергию на развитие графства и укрепление города, в то время как спесивый Мир Гериберт, завладев наследством своего брата Санса, пристроил к замку две новые башни.
Причины этих конфликтов тянулись из далекого прошлого, многие достались Рамону в наследство от отца, Беренгера Рамона Горбуна, которого он никогда не видел. После смерти отца они с бабушкой, графиней Эрмезиндой, столкнулись с молодым и воинственным графом Пенедесом. Причин противостояния было несколько. Одни имели политический характер, поскольку сосед имел наглость объявить себя принцем Олердолы, пренебрегая графской властью; в основе других лежало упрямство бабушки, которая после смерти своего супруга Рамона Борреля не желала отказаться от потесты [15]. Разумеется, она так держалась за власть, желая защитить права Рамона и его братьев; разумеется, в иные времена подобные вопросы решались бы иначе, но в XI веке их было не принято решать иначе как вооруженными столкновениями между воинственными феодалами.
Превратности судьбы — а их было в его жизни немало — порой заставляли Рамона чувствовать себя значительно старше. Он был еще подростком, когда бабушка, Эрмезинда Каркассонская, устроила его брак с Изабеллой Барселонской, родившей ему троих детей, но пережил ее лишь один, Педро Рамон. К жене он со временем даже привязался, однако сын, чей нрав уже в детстве отличался буйством и жестокостью, его только раздражал. Овдовев, он искренне оплакивал супругу.
Конечно, он не любил ее, но она была ему доброй и верной подругой, делившей все невзгоды и опасности, рискуя порой даже собственной жизнью. Например, в ту ночь, когда графский замок осадили мятежники под предводительством виконта Эудальда II и епископа Гилаберта, родственников графа Пенедеса, она оставалась рядом с ним, пока мятеж не был подавлен благодаря вмешательству горожан, вставших на сторону графа. Правда, чтобы восстановить мир в Барселоне, пришлось выплатить немалые отступные, но дело того стоило.
После смерти Изабеллы два года тому назад бабушка вновь решила его женить — очевидно, чтобы держать Рамона под контролем. В жены ему она выбрала одну из своих доверенных дам, Бланку де Ампурьяс, примерно на год старше графа. Он точно помнил дату второго венчания: 16 марта 1051 года. Бракосочетание состоялось в монастыре Сен-Кугат, одном из самых любимых мест Эрмезинды. Но это случилось еще до того, как Провидение послало ему этого ангела, от которого он ни за что на свете не согласился бы отказаться.
Собственно говоря, план был уже полностью готов, и Рамон начал приводить его в исполнение. Жильбер д'Эструк уже выполнял его приказ, а граф, с нетерпением считая дни до возвращения доверенного человека, оставался в Жироне — ему предстояло найти какой-нибудь благовидный предлог для ссоры с педантичной старой графиней. Ну что ж, вернувшись в Барселону, он тут же приступит к исполнению плана.
14
Рынок невольников
Барселона, май 1052 года
Приняв все меры к тому, чтобы сохранить новообретенное состояние, Марти отправился на невольничий рынок в компании своего друга-еврея, который мог дать дельный совет, как вложить полученные деньги.
Они покинули город через ворота Кастельнау и направились в долину Бокерия, миновав деревянный мост через широкое русло. Весной с гор сбегали потоки воды и попадали в Кагалель, от которого в летние месяцы исходила невыносимая вонь. Именно здесь, на берегу реки Эбро, у подножия горы Монжуик, располагался рынок, где покупали и продавали рабов, доставляемых сюда со всех концов Марки. Именно сюда с незапамятных времен корабли привозили товары, живую человеческую плоть, которую закупали во всех портах Средиземноморья, от Константинополя до Геркулесовых Столбов.
Любопытство Марти не знало границ, и еврей, довольный его интересом, охотно отвечал на любые вопросы.
— Видите ли, друг мой, дело в том, что не бывает достойных или недостойных занятий, таковыми их делают люди, ведущие дела достойно или недостойно. Если у вас есть глаза и достаточно терпения, то вы сможете заметить, что существует два способа ведения дел: тот, что требует постоянного присутствия владельца, и другой, когда владельцу достаточно приглядывать за делами лишь от случая к случаю, но зато приходится постоянно разъезжать.
— Скажите, Барух, а почему евреи, дающие столь мудрые советы, сами не занимаются этими делами?
— Ответ очень прост: потому что нам этого не позволяет закон. Мой народ имеет право лишь на определенные занятия. К сожалению, человеческая зависть — дочь тупости, лени и бездарной злобы — готова утопить нас в ложке воды, именно она загоняет нас в стены Каля. А представьте себе, что произойдет, если мы начнем отбивать хлеб у христиан. Нет, друг мой, жизнь — слишком ценная вещь, чтобы рисковать ею ради богатства. Так что мой народ благоразумно ограничивается теми разрешенными занятиями и при этом платят немалые налоги.
Впереди замаячила арка ворот невольничьего рынка. Когда они приблизились, глаза молодого человека расширились от изумления. Никогда прежде, даже на самых крупных ярмарках Жироны, на которых Марти доводилось бывать и куда свозили урожай и скот со всех окрестных земель, не встречал он такого огромного количества повозок, телег и лошадей, как вокруг этого огромного рынка. Воздух наполняли крики погонщиков, проклятия стражников, крепкие ругательства возниц и свист бичей надсмотрщиков, сопровождающих телеги с рабами. Именно они и привлекли особое внимание Марти.
В ворота рынка под стоны несчастных рабов въехали несколько огромных телег, запряженных попарно четырьмя мулами. На телегах стояли большие деревянные клетки из толстых брусьев, в них сидели люди. Каждая клетка была помечена цветами владельца.
Посреди рынка возвышался, подобно виселице, большой дубовый помост с подзором из зеленого бархата, что спускался до самой земли. В центре помоста возвышался железный столб, с которого свисало множество колец. Позади столба тоже был натянут бархат, скрывая выход, ведущий на помост из подземелий. Заметив вопросительный взгляд Марти Барух пояснил:
— Здесь цепями приковывают рабов. Среди них попадаются очень буйные. Не забывайте, что у себя на родине они были свободными людьми, и пока они не смирятся со своим новым положением, с ними бывает немало хлопот.
Вокруг помоста, позади деревянной ограды, собрались участники торгов. Дальше громоздились бесчисленные повозки и стояло какое-то странное сооружение, запряженное лошадьми, — с окнами, плотно закрытыми шторами то ли из кожи, то ли из плотной ткани; судя по всему, владелец этой повозки не желал показываться на глаза черни. Был здесь также небольшой паланкин, который держали на плечах великолепно сложенные чернокожие носильщики. Он обращал на себя внимание необычайной роскошью: позолоченный, с черно-зелеными бархатными шторами.
— Чей это паланкин? — спросил Марти.
— Цвета Монкузи. Это один из самых влиятельных людей в городе и, что греха таить, один из самых ненавистных. Он не принадлежит к знати, он из горожан, однако, как сами видите, это не помешало ему пробиться ко двору графа и стать одним из его доверенных советников, всегда готовых сделать за сеньора грязную работу. Помните, я вам говорил, как трудно добиться звания гражданина Барселоны?
Марти, однако, не пожелал дальше говорить на эту тему и спросил о другом:
— Скажите, а почему паланкин закрыт шторами?
— Вне всяких сомнений, шторы закрывают, если человек желает остаться неизвестным, особенно, если это дама. Если какой-либо сеньоре нужно купить рабыню для работы по дому, она прибывает сюда лично, чтобы выбрать самой, но для покупки посылает одного из своих представителей. Сама же дама никогда не покидает паланкина и даже не показывает своего лица.
— Значит, всех этих несчастных продадут с аукциона? — спросил Марти.
— Не сразу. Эти лоты можно будет выставить на аукцион лишь спустя несколько дней. Рабов сначала необходимо подготовить, привести в порядок. Черную кожу негров натирают битумом с пальмовым маслом, чтобы она блестела, а тех, кто за время перевозки исхудал и осунулся, нужно подкормить и вообще привести в божеский вид, насколько возможно. Особой заботы требуют девушки: необходимо умастить им волосы, отбелить зубы, размягчить мозоли на руках и ногах. Здесь всегда хватает простаков, которым можно всучить кота в мешке, а для этого внешний вид раба крайне важен, особенно, если речь идет о женщине. Встречаются ушлые работорговцы, умеющие выдать старую шлюху за юную девственницу.
Марти не переставал удивляться.
Внезапно протрубил рог, и занавеси раздвинулись. Надсмотрщики с кнутами выстроились по обе стороны прохода, образовав своеобразный коридор. И вот из дальнего конца коридора показались рабы — скованные цепями друг с другом, они в испуге пытались прикрыть глаза от слепящего солнца. Первыми появились пятеро мужчин в набедренных повязках. Когда они поднялись на помост, один из палачей приковал их к стоящему посредине столбу, а другой, вооруженный тяжелой палкой, заставлял поворачиваться, чтобы зрители могли разглядеть их во всех подробностях.
Некий толстяк в длинной накидке с перламутровыми пуговицами и в огромном желтом тюрбане отдуваясь поднялся на помост; вслед за ним взошел гибкий, как обезьяна, негритенок с подносом, на котором стояла чернильница с воткнутым в нее красным страусовым пером, и лежал латунный рог с широким раструбом — его подносили к губам, чтобы голос звучал громче.
— Похоже, предстоят особо важные торги, — прошептал Барух на ухо юноше. — Иначе вы бы не увидели здесь Юсефа, лучшего аукциониста рынка.
Толстяк взял в одну руку молоток, а в другую — латунный рог и, поднеся его узкий конец к толстым губам, начал речь.
— Благородные сеньоры, властители Барселоны, духовные лица, прекрасные дамы, если таковые здесь имеются, и почтенные граждане!
Услышав это, толпа так загалдела, что следующие слова аукциониста буквально потонули в шуме.
— Сегодня у нас праздник и большое гулянье. Начинается ежемесячная ярмарка рабов и, как всегда, вашему вниманию будет предложен самый превосходный товар. Здесь вы сможете приобрести невольников на любой вкус. Найдете сильных и выносливых носильщиков, могучих, словно дубы, белых и черных, доставленных из заснеженных северных краев или из жарких земель Нумидии; здесь вы найдете умелых садовников и огородников из Магриба, знакомых с искусством орошения, поваров, девушек для любых услуг, мальчиков, из которых могут получиться отличные пажи, а также четырех танцовщиц из Кордовы, которые будут услаждать ваш взор в минуты досуга и вообще приятно удивят. Открывайте ваши кошельки, дамы и господа, доставайте манкусо, динары и суэльдо, здесь вы найдете товар на любой вкус и за любую цену!
Толстяк перевел дыхание и указал на стоящих за его спиной пятерых негров, как раз в эту минуту поднявшихся на помост.
— Вот, посмотрите, благородные сеньоры. Этих невольников доставили сюда из Фив, они сильны и выносливы, как быки, и укрощены при помощи кнута — пять великолепнейших образцов. Им по плечу любая работа, даже самая тяжелая, ибо у них нет души; они неприхотливы в пище, только пищи должно быть немало. — При этих словах толпа закатилась громогласным хохотом, оценив удачную шутку аукциониста. — Они жрут как лошади, зато могут довольствоваться объедками с вашего стола, так что их содержание обойдется недорого. Вы можете приобрести как всех, так и любого по отдельности, а также двоих или троих. Начальная цена — два суэльдо за каждого, а лот целиком — три манкусо. Делайте ваши ставки, сеньоры!
Его голос, ясный и громкий, усиленный латунным рогом, разносился до самых отдаленных уголков площади. Ставки объявлялись одна за другой, а искусный аукционист умело подогревал азарт покупателей, стремясь взвинтить цену на товар как можно выше.
Марти с любопытством наблюдал за этим новым для него зрелищем. Он то и дело бросал взгляд на паланкин, ему потребовалось немало времени, чтобы заметить — скрывающийся внутри человек время от времени подает какие-то знаки взмахом зеленого платка, который иногда показывался из-за штор; по этому знаку один из торгующихся тут же поднимал цену. Торги продолжались, рекой лились манкусо, динары, суэльдо и прочие монеты всех достоинств и происхождения. Но вот по боковой лесенке на помост поднялась молодая женщина благородного облика с гордым взглядом.
— А теперь вы видите девушку, которая сделает честь любой даме. Она знает латынь и греческий, слагает прекрасные стихи на разных языках и играет на музыкальных инструментах. Она может стать замечательной компаньонкой.
Торги начались с двух золотых, однако цену очень быстро подняли, поскольку обнаружилось несколько желающих купить девушку, и теперь они стремились перебить ставки.
Незнакомка из паланкина вновь махнула зеленым платком. Толстяк огласил последнюю цену, названную человеком, который повиновался взмахам платка.
На протяжении торгов Барух несколько раз советовал Марти купить того или иного раба. Тем больше было его изумление, когда молодой человек вдруг подал голос, не дождавшись его совета.
Голос Марти прозвучал громко и четко.
— Даю манкусо за эту женщину.
Марти почувствовал на себе изумленные взгляды остальных участников: судя по всему, предложенная цена была явно завышена.
Когда юноша огласил свою ставку, Барух заметил, что он даже не смотрит в сторону помоста, его взгляд прикован к паланкину в ожидании, когда оттуда покажется белая ручка с платком. После двух взмахов и двух новых ставок Юсеф объявил, что девушка переходит в собственность Марти. На этот раз занавески паланкина приоткрылись чуть больше и, прежде чем дама вновь махнула платком, Марти успел заметить ее серые печальные глаза. Марти понял, что теперь эти глаза будут сниться ему каждую ночь.
— Ну кто же так торгуется? — упрекнул его Барух. — Эта женщина не стоит тех денег, которые вы за нее выложили.
— Никакие деньги не стоят сияния прекрасных глаз, в которые я имел счастье заглянуть.
— Вы имеете в виду даму из паланкина?
— Да, ее самую.
— Если я не ошибаюсь, это падчерица Монкузи. Ее мать была вдовой, когда вышла замуж за советника, и от первого брака у нее осталась дочь, несомненно, обладательница тех самых глаз, что вас сразили, — объяснил еврей. — Дорого же вы заплатили за удовольствие взглянуть на нее.
— Я заплатил бы намного больше, если бы вы помогли мне на ней жениться.
— Увы, боюсь, что это невозможно. Многие просили у старого Монкузи ее руки, и все получили отказ. Ведь она — правая рука отчима.
— Откуда вам это известно?
— Я хорошо ее знаю, хотя она редко выходит из дома, причем всегда в сопровождении нянек и слуг.
— Меня это не остановит. А вы что-нибудь придумаете, чтобы обойти эти преграды.
— Отвагой вы пошли в отца. Увы, боюсь, что ваша мечта неосуществима.
— Не говорите так. Кто хочет, тот добьется, а тем более, при моей настойчивости, везении и помощи новых друзей.
Вскоре слуги вновь подняли паланкин на плечи и направились к выходу. Между тем, торги продолжались, четкий и ясный голос Юсефа разнесся над помостом под одобрительный гомон толпы.
— А теперь взгляните сюда.
На помост поднялись три человека, судя по внешности — андалузцы. Женщина явно была беременна, а мальчику было не больше десяти-двенадцати лет. Объявление не заставило себя долго ждать.
— Здесь семья, которую вы можете приобрести в полном составе или по отдельности, в зависимости от желаний и возможностей. Мужчина — умелый виноградарь, женщина — превосходная повариха, а также ткачиха и пряха, а мальчик может стать хорошим пажом или посыльным, а со временем обещает вырасти крепким мужчиной. К тому же по цене троих вы приобретаете сразу четверых, поскольку женщина вскоре произведет на свет младенца, а возможно, даже двойню. Она беременна на шестом месяце, так что пища, потраченная на нее в ближайшие три месяца, полностью окупится, не говоря уже о том, что она может стать кормилицей для ваших детей.
Поначалу предлагались ставки за всю семью целиком, но затем оказалось, что покупатели желают купить каждого по отдельности. Больше всего желающих оказалось на мальчика и мужчину, а женщина на сносях оказалась никому не нужной. Несчастный муж и отец, понимая, что его собираются разлучить с семьей, крепко обнял жену за плечи. При виде этого любящего жеста Марти невольно вспомнился наказ отца: не жалеть денег на добрые дела, чтобы хоть немного искупить то зло, которое его отец вольно или невольно причинил другим людям. Марти даже не заметил, как Бенвенист одобрительно кивнул, когда он огласил ставку за всю семью — столь высокую, что никто не решился ее оспаривать.
Когда молоток Юсефа ударил по столу, объявляя торги законченными, глаза отца семейства наполнились слезами благодарности.
15
План
Тулуза, май 1052 года
У ворот Тулузского замка остановился монах лет тридцати верхом на муле, на его правом плече развевался белый шарф. Монах ждал, пока перед ним опустят подъемный мост и скажут, где он сможет переночевать. Все произошло именно так, как он и предполагал: едва он спешился, передав повод мула парнишке-конюху, как его тут же отвели к командиру стражи, а тот проводил до каморки, где ему предстояло провести ночь. Когда зазвонил колокол, его отвели в трапезную, где вперемешку сидели монахи и воины и ужинали жареным мясом. Он пристроился в уголке за столом, отведенным для приезжих, и стал спокойно ждать, пока к нему подойдет человек, с которым ему предстояло встретиться.
Он как раз начал есть похлебку, когда его зоркий взгляд заметил у дверей трапезной карлика, вне всяких сомнений, высматривающего именно его. Наконец, тот тоже заметил монаха и, лавируя между столами и стульями, которые при таком крошечном росте казались ему настоящими горами, приблизился и уселся на скамью справа от монаха, подальше от шумной компании.
— Как добрались, сеньор? — спросил карлик.
— До Пиренеев — вполне благополучно. Правда, в порту, в такой-то одежде и верхом на этой скотине, мне пришлось туго, но все-таки я здесь.
— Вот и славно. Вы только представьте, как замучила меня графиня! Вот уже пять месяцев она каждый день гоняет меня на вершину башни, чтобы я высматривал, не появится ли всадник с белым шарфом на плече, чтобы доставить ей долгожданную весть. Просто житья мне не давала, каждый день казался вечностью, она постоянно была не в духе. Если кто по-настоящему обрадовался вашему приезду, так это я.
— Не думайте, что нам так легко было все устроить. Мой сеньор — человек слишком занятой. Но, главное, теперь я здесь, вместе с приказом приступить к выполнению плана.
— План должен быть надежным и безопасным. В случае провала для графини уже не будет пути назад, а вы и все замешанные в этом деле, неизбежно навлекут на себя гнев графа, как только прибудут в Барселону; моя же сеньора будет навеки опозорена, а мне, без сомнения, отрубят голову. И вряд ли я могу рассчитывать, что потом ее пришьют обратно, — усмехнулся карлик, то ли в шутку, то ли всерьез.
— Если ты и твоя госпожа выполните всё в точности — считайте, что вы уже во дворце моего сеньора. Если что— то и сорвётся, то, видит Бог, не по нашей вине.
— Ну что ж, хотя она полностью мне доверяет, полагаю, в столь исключительных обстоятельствах ей захочется услышать все подробности плана из ваших собственных уст.
— Разумеется. Когда и где?
— Прямо сейчас. Госпожа как раз в своём кабинете, где всегда принимает гонцов из других земель с важными известиями.
— В таком случае, не будем терять времени.
Карлик проворно вскочил и приказал гостю:
— Следуйте за мной.
Им удалось покинуть переполненную трапезную, не привлекая излишнего внимания, поскольку все были слишком заняты едой, игрой в кости, и сплетнями остановившихся в замке путников.
Карлик, знающий все ходы и выходы замка, в скором времени привел монаха к покоям графини.
Услышав звон бубенчиков на шутовском колпаке, стража даже ухом не повела: все прекрасно знали, что Дельфин свободно разгуливает по замку, и предпочитали не связываться с могущественным карликом. Монах остался ждать снаружи, а карлик исчез за плотными портьерами, скрывавшими дверь, чтобы не пропускать сквозняков. Из-за двери доносились приглушенные голоса. Наконец, карлик выглянул наружу и поманил монаха за собой:
— Идемте, сеньора ждёт вас.
Твердым шагом воина Жильбер д'Эструк, доверенный человек Рамона Беренгера — а именно он скрывался под монашеским облачением — проследовал в личный кабинет Альмодис де ла Марш, властительницы Тулузы.
Взволнованная графиня стояла в центре комнаты и комкала в руках платок, что говорило о ее смятении.
Мнимый монах преклонил колено перед дамой.
— Поднимитесь, сеньор, — сказала она. — Я ждала вашего приезда с той самой минуты, как увидела у берега силуэт корабля. А потому не будем терять времени на пустые церемонии. Следуйте за мной: в моем кабинете нам будет удобнее, там никто нас не услышит.
Монах последовал за графиней, восхитившись ее красотой и решительностью. Карлик хотел уже удалиться, но графиня его остановила.
— Дельфин, возьми стул и сядь рядом. Я хочу, чтобы ты был в курсе всех дел, ведь ты способен заметить мельчайшие детали, на которые я даже внимания бы не обратила.
Карлик с трудом подтащил стул и устроился на нем рядом с госпожой. Жильбер д'Эструк сел напротив.
— Я ждала этого дня с тех самых пор, как ваш сеньор покинул замок. С той поры я потеряла покой. Скажите, что я должна сделать?
— Видите ли, сеньора, я могу рассказать лишь то, что вам надлежит знать, ни больше ни меньше, ради вашей же безопасности. Если вы раньше времени узнаете слишком много, план окажется под угрозой разоблачения.
— Ну что ж, если так решил ваш сеньор — значит, так тому и быть, — согласилась Альмодис. — Говорите.
— Итак, этим летом вы должны будете в точности исполнить свою роль в нашем плане. В том случае, если вы по каким-то причинам не сможете этого сделать, вам следует уведомить меня об этом, чтобы я успел перенести дальнейшие действия на более поздний срок, поскольку цепочка должна быть отлажена безупречно, ни одно звено не должно выйти из строя. Если вас не устроит какая-то деталь плана или вы посчитаете ее невыполнимой, прошу вас сообщить мне об этом без колебаний.
— Я вас слушаю, — произнесла Альмодис, изо всех сил стараясь сдержать нетерпение.
— Когда наступит лето, вы сами выберете день, о котором заблаговременно сообщите, и в сопровождении свиты, по возможности немногочисленной, отправитесь навестить некую даму или родственника в замок, находящийся примерно в пятидесяти лигах отсюда. Дорога к замку пролегает через обширный лес Сериньяк, который простирается по всему плоскогорью Равель, от Тулузы до Нарбонны. Вы возьмёте с собой небольшой эскорт, а также нескольких дам по вашему выбору, при условии, что можете им полностью доверять. И естественно, кучера,и форейтора. Что касается охраны, то я настаиваю, чтобы она была по возможности небольшой.
— А если супруг выделит больше воинов, чем вы рассчитывали — что мне в таком случае делать?
— Это мы тоже предусмотрели, сеньора. Если это случится, вы сможете с блеском проявить свой актёрский дар.
— Если вы и дальше будете говорить загадками, я никогда в этом не разберусь.
— Видите ли, сеньора, когда вы будете проезжать через лес, вас там будут ждать люди моего господина, переодетые разбойниками. Два аркана спутают кучера и форейтора, после чего два рыцаря схватят под уздцы лошадей вашей кареты, ещё трое откроют дверцы, а остальные будут прикрывать отход.
Альмодис покачала головой.
— Моя охрана будет сражаться до последнего вздоха.
— А вот здесь как раз и пригодится ваш дар комедиантки. Вас силой вытащат из кареты и приставят к груди нож. Ваши стражники — умные люди, они даже с места не двинутся, если это грозит их сеньоре смертельной опасностью. Затем из кареты выпрягут лошадей и разгонят их при помощи факелов, чтобы страже не на чем было нас преследовать. После этого наш отряд прихватит с собой вас, Дельфина и дам из вашей свиты, чьи имена вы назовете накануне моего отъезда. Охрана должна решить, что вас похитили разбойники в расчете на богатый выкуп — все знают, что в этих местах частенько пошаливают разбойники. Когда до вашего мужа дойдет эта новость, он даже не почешется, чтобы собрать выкуп. Всем известно, что ваш супруг несколько скуповат. Вместо этого он пошлет погоню по нашим следам, а это дело совершенно безнадежное: местность вокруг гористая, полно всяких пещер, гротов и прочих укрытий. Так что у нас будет достаточно времени, чтобы осуществить вторую часть плана.
— И в чем состоит вторая часть, сеньор?
— Я не вправе рассказывать вам об этом, но можете мне поверить: самое трудное будет уже сделано.
— А если охрана будет сражаться?
— Рыцари, которых пошлет мой сеньор — лучшие воины во всем графстве. А ваши солдаты разленились за долгие годы безделья, лишь охотятся и торчат на стенах замка. Поверьте, они не чета рыцарям моего сеньора, привыкшим защищать границы графства от мавров Лериды, так что справятся и с тулузцами. Можете мне поверить, сеньора, все пройдет как по маслу.
16
Лайя Бетанкур
Барселона, май 1052 года
Покачиваясь в такт шагам носильщиков, паланкин пересек мост Кагалель и направился в город через ворота Кастельнау, потом двинулся вдоль городской стены, оставив позади еврейский квартал Каль и собор, который строили уже целую вечность и все никак не могли достроить, в сторону особняка Берната Монкузи, примыкающего к городской стене.
В роскошном паланкине лицом друг к другу находились две женщины. Одна, сидящая по ходу движения, была красивой девушкой, однако одетой как дама в летах — в платье цвета слоновой кости, чудесно оттеняющее белую кожу, на голове — сетка для волос, расшитая мелким серым жемчугом под цвет глаз; таким же жемчугом были расшиты туфельки, надетые поверх белых чулок. Ее компаньонке, пышной даме в темной одежде, было около сорока лет, белый платок обрамлял морщинистое лицо с неприветливым выражением.
— Лайя, мне кажется, вы делаете из мухи слона. Я знаю, вам понравилась рабыня, которую вы хотели купить, чтобы скрасить часы досуга, но ваш отец дал четкий приказ, и мы должны ему подчиняться.
— Няня, я никогда ничего не прошу и не требую. Бернат мне не отец, он всего лишь муж моей матери, а она давно умерла. Если бы я могла выбирать, то предпочла бы жить в Пучсерде, в доме дяди и тёти. Здесь же я чувствую себя пленницей. Я не могу выйти из дома, у меня нет подруг, все мои дни проходят в домашних хлопотах, вместо матери, которую я никогда не смогу заменить. К тому же мне ещё приходится угождать отчиму и всем старикам, его гостям. Потому я и хочу купить молодую рабыню, чтобы она стала моей подругой.
— Зря вы так говорите, — упрекнула ее няня. — Дон Бернат Монкузи обожает вас и боится потерять. Именно поэтому он так бдительно вас охраняет.
Губы Лайи скривились в недовольной гримасе.
— Да уж! — фыркнула она. — На людях он держится со мной как со взрослой женщиной, а наедине обращается как с ребёнком. Мне уже почти четырнадцать, но я нигде не бываю и не имею возможности общаться со сверстниками. Как я найду себе мужа, сидя в четырёх стенах?
— Не спешите, девочка. Со временем отец подберет вам мужа, но делать это нужно с большой осторожностью. Ведь вы — наследница одного из крупнейших состояний в графстве, и вполне естественно, что вокруг единственной дочери и наследницы кружит целый рой стервятников. И кто лучше вашего отца знает, кто из женихов наилучшим образом обеспечит ваше будущее?
— Но я вовсе не хочу, чтобы кто-то искал мне мужа, — заявила Лайя. — Я хочу выбрать его сама. Не хочу полагаться на случай, и деньги меня не интересуют. Будущий муж должен меня любить.
— Вы слишком наивны для своего возраста. Долг любой женщины — беспрекословно повиноваться отцу, а позднее — супругу. Таков наш удел с рождения. А вам выпала счастливая судьба: отец найдет вам самого лучшего мужа, о каком только можно мечтать.
Но Лайя не желала сдаваться.
— У него нет на меня никаких прав. Он мне не отец, а отчим, я вам это уже говорила тысячу раз. И в детстве он совершенно мною не интересовался.
— Не говорите глупостей. Характер у сеньора де Монкузи, конечно, далеко не сахар, но ради вас он сделал бы что угодно — и раньше, и сейчас.
Они затевали этот разговор уже не в первый раз, а потому Лайя предпочла сменить тему.
— Хорошо, няня, оставим это. Рабыня, которую я хотела купить, мне очень нравится. Я прямо сказала об этом аукционисту. Вы случайно не знаете имя купившего ее человека?
— Пусть Барселона и не так велика, Лайя, но неужели вы думаете, что я могу знать по имени каждого из трёх тысяч ее жителей?
— Ну так узнайте.
— Я никак не пойму, чего вы добиваетесь?
— Хочу купить эту рабыню.
17
Рим сказал своё слово
Барселона, май 1052 год
Епископ Гийем де Бальсарени прибыл в Барселону в подавленном настроении. Двойная миссия, возложенная на него Его Святейшеством, была и впрямь весьма неблагодарной. Он, как знаток человеческих слабостей, прекрасно знал, что разубедить человека, одержимого идеей, практически невозможно, особенно, если этот человек — привыкший к лести придворных могущественный властитель, обладающий огромными богатствами и почти безграничной властью. Оставив свиту у ворот графского дворца, епископ вознес молитву пресвятой деве Марии и приготовился исполнить трудную миссию.
Еще издали завидев знамя епископа и его карету, запряженную четверкой белых мулов, командир стражи взял на караул, смутив аббата. Вскоре появился дежурный камергер. Епископ Гийем выбрался из кареты с помощью кучера и форейтора, проворно подставившего плечо. Он медленно поднялся по ступеням старого дворца, опираясь на аббатский посох. У дверей его встретил паж и проводил в приемную тронного зала, а камергер доложил графу о его прибытии. В скором времени камергер вернулся в приемную и объявил:
— Сеньор епископ, если бы мы знали о вашем приезде, то не заставили бы вас так долго ждать.
— Ничего страшного, — заверил тот. — Если бы мое облачение не принуждало к смирению, я был бы недостоин его носить.
— Граф велел передать, что примет вас, как только закончит встречу с советом. Не беспокойтесь, она скоро закончится.
Прелат сел на обитую бархатом скамью для почетных гостей. Вскоре появился привратник. Двери открылись, и привратник объявил о его приходе. Медленной и торжественной поступью, опираясь на посох, епископ Гийем де Бальсарени пересек зал и остановился перед Рамоном Беренгером I, графом Барселонским. Почтительно, но без подобострастия поклонившись, он стал ожидать, как положено по протоколу, пока граф заговорит первым.
Рамон Беренгер обратился к нему с радостной улыбкой:
— Добро пожаловать, Гийем. Садитесь, пожалуйста, и расскажите, что за обстоятельства заставили вас покинуть Вик и отправиться в шумную Барселону, в которой вы чувствуете себя так скверно? К тому же вы явно предугадали мое желание: ведь я и сам подумывал пригласить вас к себе в ближайшее время.
Епископ, расправив складки рясы, устроился в кресле, которое ему проворно пододвинул паж, и ответил:
— Вы даже не представляете, как меня это радует, граф. Надеюсь, это чудесное совпадение поможет нам прийти к взаимопониманию.
Заметив, как дрогнула бровь прелата, Беренгер почувствовал неладное и приготовился к обороне.
— Что вы хотите этим сказать? Объяснитесь.
Епископ меж тем отчаянно старался понять намерения графа.
— Что-то мне подсказывает — совсем не случайно совпало мое присутствие здесь и ваше желание меня увидеть.
— Я не знаю ваших целей, — ответил граф. — О своих я расскажу чуть позже. Возможно, наши намерения совпадут, а может, и нет. Но в любом случае, мне кажется, они связаны с одним и тем же делом.
Епископ Гийем приготовился приступить к той щекотливой теме, которая и привела его к графу.
— Как вам будет угодно, граф. Дело в том, что до ушей святой матери церкви дошел слух, будто вы собираетесь совершить одну из величайших ошибок, какую только может совершить властитель, христианин и верный слуга Папы Римского.
— На какую ошибку вы намекаете? — неприветливо спросил Рамон Беренгер.
— Похоже, вас это не удивило. Мне кажется, вы знаете, что я имею в виду.
— Мой дорогой епископ, давайте не будем морочить друг другу голову. Мы оба прекрасно знаем, о чем речь, и будет лучше, если сразу перейдем к сути, как и положено сильным мира сего.
— Ну хорошо, — вздохнул аббат. — Я собирался решить это дело разумно и дипломатично, но если вы предпочитаете, чтобы я говорил напрямик, да будет так. Я получил непосредственный приказ из Рима, от Его Святейшества, убедить вас отказаться от безумной идеи развестись с доньей Бланкой, чтобы сожительствовать с законной супругой графа Тулузского.
Хотя прелат и ожидал чего-то в подобном роде, резкий и сердитый ответ графа его обескуражил.
— А с какой это стати Рим вмешивается в дела, которые касаются меня, и только меня? Тем более сейчас, когда еще ничего не случилось?
Голос епископа зазвучал мягче.
— Вы же сами знаете, что уже случилось. Более того, вы даже составили план, включающий в себя целый ряд немыслимых деяний. Прежде всего, вы совершенно незаслуженно отвергли вашу супругу, с которой сочетались браком лишь год назад. Вы собираетесь похитить жену человека, который так любезно принимал вас в своем замке. И наконец, хотите открыто сожительствовать с ней. Вы просто еще не до конца продумали все детали этого зловещего плана.
Рамон изо всех сил старался держать себя в руках, но в голосе его отчетливо прозвучала угроза:
— Во-первых, вынужден вам напомнить: до сих пор никого почему-то не интересовали мои чувства и привязанности. В Риме прекрасно известно, что я всегда был добрым католиком и принес свою молодость в жертву политическим интересам графства и церкви. Дважды я женился по выбору и указанию моей бабки, которая всегда пыталась ублажить Рим. Во-вторых, никто в Риме не может знать моих намерений, что бы вам там ни говорили. Да, я желаю аннулировать свой нынешний брак, как и брак графини Альмодис. Кстати говоря, ее браки Рим расторгал уже дважды, сделав ее объектом купли-продажи для владетельных домов христианского мира. Не думаю, что я чем-то хуже и заслуживаю немилости Папы.
— Граф, я понимаю ваши резоны, но боюсь, вы ставите телегу впереди лошади. Ситуация, конечно, необычная, но я могу не понять ваше желание расторгнуть брак спустя столь короткое время. Никто не может знать, что происходит в супружеской спальне, но для развода все же необходимы веские причины и доказательства. В первый раз вы еще могли бы рассчитывать на расторжение брака, мы бы это поняли, учитывая вашу молодость. Но мы не можем подрывать авторитет христианства, поощряя ваше недостойное стремление похитить жену другого графа, также доброго христианина и верноподданного Рима.
— Дорогой епископ, как слуга церкви, вы плохо представляете, что такое человеческие страсти. Быть может, вы знаете о них в теории, но едва ли понимаете, какой это ад: любить одну женщину и при этом жить с другой.
— Мне понятна ваша проблема, но год назад вы уже не были ребенком, и решение жениться приняли вполне осознанно, заключив брак перед всем христианским миром в присутствии свидетелей. Как человек и властитель вы не можете расторгнуть его по собственному капризу, пересесть из одной кареты в другую. Властители обладают многими привилегиями, но у них есть и обязанности, которыми не обременен простолюдин.
Рамон вскинул голову.
— Риму не было дела до меня и моих чувств, когда он дал разрешение на мой первый брак, а я был ещё ребёнком! Да что вы можете знать о страстях и капризах? Меня женили на Изабелле Барселонской, когда я был еще так мал, что не мог исполнить обязанности супруга еще несколько лет. Потом я овдовел, и моя бабка Эрмезинда — а вы сами знаете, как трудно с ней спорить — выбрала для меня новую графиню, Бланку де Ампурьяс, которая никогда не вызывала у меня никаких чувств. Тем не менее, я согласился — в большей степени по политическим мотивам. Бабка стремилась сохранить для себя титул регентши Жироны и прибрать к рукам Ампурьяс. Мне с самого начала не было дела до Бланки, но я уступил. Мне было все равно, ведь я не знал, что такое любовь. И вот теперь, благодаря этому благословенному путешествию, о котором я никогда не пожалею, стрела Купидона пронзила мою грудь. Если бы эта стрела ранила только меня, я бы отказался от своих намерений, но в сердце графини Тулузской вспыхнули те же чувства. И клянусь, я не откажусь от своей любви, несмотря ни на что.
Епископ тихим голосом привёл последний довод:
— Вы хоть понимаете, что ставите под угрозу свой графский титул?
— Да я готов поставить на кон все графства мира, если потребуется.
— А как насчет царствия небесного?
— На это я могу сказать вам только одно, мой добрый Гийем, — произнёс граф. — Помните, Господь сказал Лазарю: «Встань и иди»? Так вот, ему следовало сказать иначе: «Встань и спроси». Сначала нужно узнать, где оно находится. Мусульмане, по крайней мере, представляют его достаточно ясно, а нам, христианам, ничего не рассказывают ни о гуриях, ни о зелёных лугах, а я ни разу не видел, чтобы кто-то парил верхом на облаке и распевал псалмы. И теперь, когда я нашёл своё счастье с графиней Альмодис, я уверен, что это и есть величайшее в мире блаженство. Так что можете передать всем, что я не откажусь от этого счастья, какие бы преграды ни вставали на моем пути, — непреклонно заявил Рамон, зная, что в это самое время его верный рыцарь Жильбер д'Эструк посвящает графиню Тулузскую в подробности ее будущего побега.
18
Смелых ждет удача
Барселона, лето 1052 года
А тем временем Марти развил бурную деятельность. Он даже представить себе не мог, что у богатых людей, оказывается, столько проблем. Конечно, богатство его было весьма относительным, но он понимал — только от решимости и трудолюбия будет зависеть, увеличится оно в будущем или, наоборот, растает. Однако по сравнению с прежним положением сейчас он казался себе настоящим царем Мидасом. Марти продолжал жить в доме при монастыре, куда его любезно пригласил падре Льобет, но его не покидала мысль о покупке собственного дома.
Правда, после того как он мельком увидел лицо девушки с невольничьего рынка, Марти стоило неимоверных усилий думать о чем-то другом. Стоило ему закрыть глаза, как перед ним вновь и вновь вставало ее лицо, где бы ни находился Марти, он ощущал ее невидимое присутствие. Пока он сумел узнать лишь ее имя — Лайя, а также то, что ее отец, Бернат Монкузи, один из самых влиятельных людей в городе, чье несметное богатство делало девушку еще более недоступной. Но это не мешало ему строить планы, как познакомиться с ней и перекинуться хотя бы несколькими словами. И в скором времени начала вызревать идея, которая при должной храбрости и настойчивости могла оказаться вполне осуществимой. Если план удастся, то Марти сможет приблизиться к предмету своих мечтаний. Однако прежде всего надо было купить приличный дом, а уж потом на досуге лелеять грандиозные планы о том, как стать гражданином Барселоны.
Город рос и благодаря стараниям своих жителей уже давно готов был лопнуть по швам, не вмещая такого количества людей, привлеченных новыми возможностями и надеждой преуспеть. Все они, конечно, стремились поселиться внутри городских стен, но здесь уже и так негде было повернуться от бесчисленных лачуг, хибар, сараев и прочих развалюх, городские стены уже буквально трещали. А потому новые кварталы приходилось строить за их пределами.
Некий винодел, бездетный вдовец, продавал свой дом за стенами города, на пути в Сент-Пау-дель-Камп. Проблема заключалась в том, что владелец соглашался продать дом только вместе с винодельней и виноградником — очень, кстати, хорошим, расположенным на окраине квартала Магория. Марти рассказал об этом священнику, они тщательно все обдумали и в конце концов решили, что надо покупать. Этому решению в немалой степени способствовали два обстоятельства. Во-первых, расспросив посетителей трактира «Золотой колоса», куда он частенько захаживал, Марти узнал, что не так далеко от виноградника, предмета стольких сомнений и колебаний, имеется водяная мельница, и ее тоже можно купить за приемлемую цену. А во-вторых, совершенно случайно выяснилось, что Омар — тот самый раб, купленный на рынке Бокерия вместе с семьей — прекрасно разбирается в орошении и умеет строить каналы.
Другим сюрпризом оказалось то, что Омар, оказывается, говорит на нескольких языках Магриба, а также знает латынь и даже особый диалект бедуинов из пустыни. Ко всему прочему он еще умел читать, писать и считать. На вопрос, почему он не сообщил о таких ценных умениях, когда его продавали с аукциона, Омар ответил, что посчитал разумным это скрыть, чтобы его не разлучили с семьей. Бедняга не знал, как и благодарить юношу, и готов был служить Марти не за страх, а за совесть, тем более, что тот обращался с ним не как с рабом. К этому времени его жена Найма родила дочку, так что теперь у их сына Мухаммеда появилась сестренка.
Однажды утром во дворе Пиа-Альмонии Марти обсуждал с Эудальдом Льобетом покупку дома, а Омар, сидя на почтительном расстоянии, чинил конскую сбрую.
— Меня вполне устраивает и дом, и его цена, но хозяин продает его вместе с виноградником, причем из-за нехватки воды. Я выяснил, что и для других культур воды там не хватит.
— А где находится та мельница, о которой вы говорили?
— В полулиге оттуда.
— Простите, саид, — почтительно заметил Омар, — но воду можно провести.
Оба удивленно повернулись в сторону раба.
— О чем ты говоришь? Мельница более чем в полулиге, а земли, отделяющие нас от неё, принадлежат другому владельцу.
— Если все дело в этом, можно купить и эту землю, — заметил Эудальд.
— А если владелец не захочет продавать?
— Если воду и правда удастся провести, то землю можно взять в аренду.
— И это возможно?
— И совершенно законно.
— А ты что скажешь, Омар? — спросил Марти.
— Я скажу, саид, что воду вполне можно провести.
Оба вновь удивленно уставились на раба.
— Слишком большое расстояние, — сказал Марти. — Даже если мы купим землю, вся вода по дороге впитается в почву и до нас не дойдет.
— Дойдет, сеньор, если знать, как ее направить, — Омар, казалось, был уверен в своих словах.
— Пусть он объяснит, Марти.
Таким образом, уже через полтора месяца Марти стал обладателем прекрасного дома у стен города, обширного виноградника на горной террасе, водяной мельницы и извилистого оросительного канала, выложенного мавританской плиткой, а также налаженного Омаром ворота, приводимого в движение при помощи цепей, благодаря которому вода достигала даже самых отдаленных уголков виноградника.
Дом виноторговца примыкал к городской стене. У него была односкатная крыша и два этажа. На втором этаже поселился Марти, а на первом этаже находился вход в винодельню, где стояли дубовые бочки с вином. Полукруглый дверной проем здесь был выложен камнем, а пол — плитами. С правой стороны от дома помещался задний двор за невысокой стеной. Тут же был колодец, откуда брали воду, а чуть дальше — вход в пристройку, где теперь жили Омар и его семья. Еще в хозяйстве имелась конюшня с двумя лошадьми и мулом, курятник и сарай, где держали кроликов. И кроликов, и кур обихаживали маленький Мухаммед и Найма. Собственно, именно по этой причине Марти отказался от мысли завести свиней, помня, какое отвращение питают мусульмане к этим животным.
Марти уже не раз благословил тот день, когда решил купить этого раба. Омар оказался трудолюбивым, сообразительным и превосходно разбирался в виноградарстве, так что благодаря его усилиям урожай ожидался великолепный. Кроме того, после первой водяной мельницы Марти купил еще три, за которые ему пришлось заплатить невероятную сумму в целых семьсот манкусо, но придуманная Омаром система оросительных каналов оказалась весьма выгодной — при помощи шлюзов воду можно было пускать на соседские поля и получать оплату либо наличными, либо частью урожая.
Марти теперь целыми днями был занят. Тяжбы из-за воды из его каналов; изучение торгового рынка для поиска новых возможностей; визиты к главному советчику, еврею Баруху, и встречи с падре Льобетом, которого он вконец замучил вопросами о том, как осуществить свою навязчивую идею: стать полноправным гражданином города, навсегда покорившего его сердце.
Чудесными летними вечерами они вдвоем спускались к морю, где любовались на скользящие среди галер парусники и как в порту разгружают корабли, прибывшие из дальних портов. Священнику, вечно погруженному в кипу документов, нравились эти субботние вылазки. Вместе с сыном своего покойного друга он спускался к берегу Средиземного моря и вдыхал его ни с чем не сравнимые запахи селитры, дегтя, пеньки и много чего еще, не поддающегося опознанию, особенно весной. Они беседовали на самые разные темы.
— Так вам нравится новый дом? — спросил однажды священник.
— В общем, да, Эудальд. Теперь мне осталось найти хорошую экономку, знающую, как управляться с прислугой, чтобы не отвлекаться на хозяйственные дела и освободить время для более важного. Вы случайно не знаете кого-нибудь подходящего?
— Дайте подумать. Кажется, у меня есть такой человек.
— Я вас слушаю.
— Среди моих прихожан есть одна весьма достойная вдова, попавшая в трудное положение. Три года назад ее мужа-каменотёса раздавило каменной плитой, а единственный сын год назад ушёл с торговым караваном в Берберию и до сих пор не вернулся. Вот уже год, как о нем нет никаких известий.
— На что же она живёт? — спросил Марти.
— Можно сказать, перебивается поденной работой, если повезет, — ответил священник. — А если нет — помогает мне в Пиа-Альмонии разливать суп беднякам и вообще присматривать за хозяйством. Очень способная женщина и притом безупречно честная, а также прекрасно умеет управляться с людьми.
— Как ее зовут?
— Катерина. Она приехала из деревни на севере графства вместе с отцом. Здесь она познакомилась со своим мужем, и после свадьбы они перебрались в город. Жизнь ее была нелегкой, и думаю, вы для неё — настоящая удача.
— Ну так поговорите с ней. Если она обладает хотя бы половиной всех этих достоинств, можете считать, что она уже служит в моем доме.
Так, слово за слово, прошел целый день. Между тем, заветный план окончательно созрел в голове Марти, и ему не терпелось поделиться им с другом.
— Мне пришла в голову одна идея. Если дело выгорит, это может принести много пользы.
— И что же это за идея?
— Видите ли, Эудальд. Мне рассказывали, что множество прекрасных вещей для домов богатейших граждан можно приобрести, лишь когда какое-нибудь судно из Генуи или Пизы причалит к нашим берегам. Причем привозят эти товары не потому, что они здесь нужны, а по чистой случайности. Думаю, если бы эти товары продавались где-нибудь в городе, это стало бы прибыльным делом. Можно изучить спрос и привозить товары из-за моря, покупая их по тамошней цене и продавая здесь намного дороже. Я говорил об этом с Барухом, и он одобрил.
— Клянусь моей бородой, с каждым часом вы все больше меня изумляете! — воскликнул падре Льобет. — Ваш отец был отважным воином, но и вы неустрашимы. Не смею даже представить, куда вас может завести чутьё.
— Мне не даёт покоя только одно, — признался Марти.
— Что именно?
— Мне вдруг пришло в голову, что, если кто-то при дворе захочет наложить лапу на столь прибыльное дело, мне будет трудно его отстоять.
Архидьякон пригладил растрёпанную бороду.
— Человека, от которого целиком зависит успех вашего начинания, зовут Бернат Монкузи, и он — один из промов Барселоны. Помнится, я уже упоминал об этом. Помимо того, что от него зависит решение всех вопросов, связанных с поставкой товаров в город, он входит в число ближайших советников графа. Я не считаю его своим другом, слишком уж мне не нравится его беспринципность, но у меня есть возможность хотя бы отчасти влиять на него, поскольку именно от меня он регулярно получает отпущение грехов. Знаю, нехорошо пользоваться чужими слабостями, но должен вас предупредить, он человек суровый и очень занятой.
У Марти перехватило дыхание. Внезапно он ощутил, как ветер судьбы вновь раздувает его паруса.
19
Епископ и Эрмезинда
Жирона, июнь 1052 года
Епископ Гийем де Бальсарени, даже не стряхнув дорожную пыль, дожидался аудиенции в приемной могущественной графини, регентши Барселоны и Осоны. Несмотря на то, что она могла жить в любом из трех графств покойного мужа, Рамона Борреля, если у графини не было важных дел в других графствах, она предпочитала Жирону.
Туда, в жиронскую резиденцию сеньоры, и помчался епископ, загоняя коней, чтобы исполнить миссию, возложенную на него папой Виктором II. Свою охрану, утомившуюся не меньше лошадей, епископ оставил у ворот замка на попечение слуг.
Графиня Эрмезинда имела привычку заставлять посетителей подолгу ждать в приемной, причем время ожидания напрямую зависело от положения гостя и расстояния, которое ему пришлось преодолеть, чтобы почтить визитом самую могущественную сеньору всех каталонских графств. Кроме того, если она не была лично знакома с посетителем, то выплывала ему навстречу в сопровождении камергера, неспешно ступая по красному ковру, чтобы иметь возможность получше рассмотреть визитера, пока шествует от дверей до трона.
Роскошная гостиная, где графиня принимала особо знатных гостей называлась «посольской». На небольшом троне, где она восседала во время аудиенций, лежали удобные подушки. По правую руку от трона стояло складное кресло для гостя. Стены украшали искусные гобелены, роскошные драпировки обрамляли три створчатых окна, с двух сторон помещались два камина, в эту минуту потушенные.
За многие годы гордячка-графиня до мельчайших тонкостей изучила собственную родословную. При любой возможности она не уставала напоминать всем и каждому о величии и многочисленных заслугах своего рода, в отношении которого была чрезвычайно ревнива. Род ее восходил еще к вестготам, когда властители Септимании еще не смешали свою кровь с этими выскочками из франкского дома. Эрмезинда душой и телом принадлежала этим землям, даже в юности, задолго до свадьбы с Рамоном Боррелем. В глубине души она больше любила лежащие за Пиринеями каталонские графствам, чем обширные, но варварские северные графства с их грубым и чуждым языком. Родители, Роже I Старый и Аделаида де Гавальда, с детства внушили ей, что она должна гордиться принадлежностью к Каркассонскому дому — как, впрочем, и ее братья, Бенито и Педро.
Ожидание не затянулось, хотя священнику оно показалось вечностью. За дверью стукнуло о пол копье, возвещая о том, что высокородная сеньора готова принять епископа, после чего створки распахнулись, и епископ направился к трону, где его ожидала дама, славящаяся суровым нравом, так что у всех послов в ее присутствии тряслись поджилки. Она была в фиолетовом блио с золотым шитьем и облегающими рукавами, волосы ее украшали два золотых гребня. Епископ, как велел протокол, склонился в почтительном полупоклоне, дожидаясь, пока Эрмезинда заговорит.
— Итак, мой добрый епископ, что же заставило вас покинуть мирную и благодатную епархию Вик и отправиться в далёкий путь?
— Сеньора, именно забота о вашем благополучии вынудила меня пуститься в столь дальний путь, не устрашившись дорожных тягот. Перед этим я посетил Барселону с той же миссией, и поверьте, с каждым днём я чувствовал себя в этом городе все более неуютно. В Барселоне и так уже больше пятисот домов, а люди все никак не перестанут в неё ломиться, привлечённые славой города, возможностью лёгких заработков и близостью к сильным мира сего. Не понимаю я их. Они же имеют возможность жить в тиши благодатных полей, но готовы отказаться от этого рая и терпеть любые неудобства, лишь бы поселиться в городе, где от одного только запаха можно сойти с ума, а уж от шума и криков и вовсе хочется бежать куда глаза глядят.
Сеньора внимательно наблюдала за ним. Отметив небрежность его наряда, она произнесла:
— Очевидно, вас привело ко мне дело чрезвычайной важности; иначе вряд ли вы бы решились предстать передо мной в таком виде.
Гийем де Бальсарени растерянно заморгал, что также не укрылось от внимания графини.
— Простите, сеньора, но я был настолько встревожен, что даже не догадался захватить с собой сменное платье.
— Понятно. И что же дальше? Говорите же, я вас слушаю.
Прекрасно зная, что властители имеют дурную привычку обрушивать свой гнев на гонцов, доставивших плохие новости, епископ решил действовать с величайшей осторожностью.
— Сеньора, миссия, с которой я прибыл, весьма неприятна. Даже не знаю, с чего начать.
— Гийем! Скажите уж прямо, что заставляет человека вашей силы духа так мямлить и заикаться? Это не к лицу достойному и разумному человеку вроде вас.
Немного успокоившись, прелат по знаку графини устроился в кресле рядом с троном.
— Видите ли, сеньора, дело в том, что до меня дошли весьма печальные новости, которые могут представлять большую опасность для ваших владений, а потому вам надлежит узнать об этом из первых рук. Это вовсе не мой каприз, это решение Его Святейшества, который и прислал меня к вам с этой миссией.
— Вы меня пугаете, сеньор епископ. Прошу вас, давайте наконец перейдем к сути. Чем скорее вы расскажете мне о своей миссии, тем скорее мы сможем справиться с этой бедой.
Руки епископа нервно тискали дорожную шляпу.
— В таком случае, сеньора, я начну с того, что ваш внук, граф Барселонский, намеревается совершить поистине неслыханное святотатство.
Эрмезинда выслушала его, не моргнув глазом.
— Продолжайте, святой отец. Я вижу, вы сидите как на иголках, но не волнуйтесь, уж я-то знаю, что от моего внука всего можно ожидать.
— Сеньора, в прошлом году ваш внук отправился в земли неверных с двумя миссиями. Первая состояла в том, чтобы установить с турками и прочими мусульманами торговые связи в интересах Барселоны. Другая же заключалась в том, чтобы собрать как можно более подробные сведения и передать Его Святейшеству новости, имеющие отношение к церкви, рассказать об обычаях и ближайших планах этих народов. Так вот, Папа считает вашего внука знатоком исламских обычаев.
Эрмезинда ненадолго задумалась и спросила:
— И какие тяжкие последствия это может иметь для моих владений?
— Как вам известно, прошлой зимой ваш внук женился на Бланке де Ампурьяс; этот союз имел чрезвычайно важное значение для Барселоны, Ампурьяса и Жироны, обуздав излишне буйный нрав отца новобрачной, Уго де Ампурьяса, и его пагубную склонность к конфликтам и тем самым подарив всем графствам желанный мир.
Лицо Эрмезинды сделалось непроницаемым.
— Полагаю, вы пустились в столь дальний путь не для того, чтобы сообщить очевидное. Вы прекрасно знаете, что я сама устроила этот союз, и помимо огромных трудов он стоил мне ещё и немалых денег, пришлось уступить графу земли Ульястрета, которые перешли мне по наследству от супруга, из-за них мы с графом Уго многие годы вели нескончаемые споры.
Епископ побледнел.
— Вот именно поэтому, сеньора, у вас могут возникнуть весьма серьезные проблемы.
— Повторяю, епископ, прекращайте ваши намеки, давайте наконец перейдем к сути.
— Как вам известно, я почти не покидаю пределов епархии Вик. Тем не менее, недавно я по просьбе Его Святейшества совершил путешествие в Барселону, чтобы попытаться уладить дело непосредственно с вашим внуком, не прибегая к вашей помощи. Но увы, попытка оказалась тщетной.
Властный голос графини эхом раскатился по комнате.
— Достаточно, сеньор! Перестаньте ходить вокруг да около и скажите прямо: что случилось?
Епископ Гийем нервно сглотнул, готовясь принять последствия своей миссии.
— Сеньора, ваш внук намерен развестись со своей супругой Бланкой де Ампурьяс, чтобы сожительствовать с женой графа Понса Тулузского, о чем я узнал из его собственных уст. Он собирается привезти ее в Барселону и жить с ней во грехе — в том случае, если Папа не согласится расторгнуть его предыдущий брак.
Брови графини Эрмезинды угрожающе поднялись, а на виске запульсировала вена, и это, как знал епископ, не предвещало ничего хорошего.
На этот раз голос графини показался ему шипением змеи.
— Объясните же мне все без утайки.
Гийем Бальсарени подробно расписал ей положение дел, а под конец показал Эрмезинде Каркассонской письмо Его Святейшества.
Закончив читать, графиня положила тревожное письмо на колени и вновь взглянула на удрученного прелата, с содроганием ожидавшего, слов сеньоры, известной своей решительностью. Он не сомневался, что она любой ценой будет отстаивать свои графства, ради которых стольким пожертвовала, приложила столько усилий, чтобы удержать в повиновении мятежную знать и сохранить их в неприкосновенности сначала для сына, а затем для внука.
— О чем только думает этот оболтус? Я всю свою жизнь положила на то, чтобы исполнить заветы супруга — и что в итоге? Ради бесстыдной и порочной страсти он готов пожертвовать благополучием всего графства Барселонского! Ведь оно непременно восстанет против этого непотребства! Или я должна уступить требованиям этого жалкого Мира Гериберта, имевшего наглость провозгласить себя принцем Олердолы, отдав ему свои права? Но-то не преминет воспользоваться ситуацией! Так вот: ни за что на свете! Не беспокойтесь, епископ, я улажу все сложности с соседом из Ампурьяса и верну внука в лоно семьи. Первым делом сообщу об этом моему зятю Роже де Тоэни; он, конечно, не особо меня жалует, но может оказаться весьма полезен. Его подчиненные засиделись без дела и развлекаются тем, что топчут поля и сжигают посевы, мир им явно не по нраву. Что же касается моего внука, то я лично поговорю с Папой о его неподобающем поведении и дам вам знать.
— Его Святейшество далеко, в Риме, и слишком занят. Не думаю, что Его Святейшество почтит вас визитом, графиня.
— Я еще не так стара. Я сама поеду в замок Ангела и надеюсь, что Папа окажет мне такие же почести, какие оказала бы ему я. От Жироны до Рима ничуть не дальше, чем от Рима до Жироны. Мои мулы — превосходные бегуны, а корабли с завидной быстротой и легкостью бороздят Средиземное море.
20
Рабочие будни
Барселона, лето 1052 года
Наконец-то Марти Барбани получил то, к чему так стремился. Благодаря протекции Эудальда Льобета он записался на прием к смотрителю рынков и личному казначею Рамона Беренгера I, Бернату Монкузи, от которого зависело решение многих вопросов. Все эти дни Монкузи был очень занят. Контора прома располагалась в огромном трехэтажном особняке, и, наблюдая, сколько народу ежедневно толпится у его дверей, Марти мог только догадываться, каких усилий стоило добиться у него аудиенции.
С каретного двора мраморная лестница с чугунной кованой балюстрадой и дубовыми перилами вела на сводчатую галерею, куда выходили несколько дверей, возле каждой из стоял слуга. Слуги спрашивали имена посетителей и направляли каждого к нужному советнику, с которыми они уже обсуждали деловые вопросы. Марти поднялся по лестнице на второй этаж и, следуя указаниям Эудальда Льобета, устроившего эту аудиенцию, направился к предпоследней двери.
Марти оказался в роскошной приемной, где горожане, сбившись группами, приветливо переговаривались в ожидании вызова. Врожденное чутье заставило его обратить внимание, что, хотя все они были горожанами, но люди разных профессий держались рядом: торговцы не разговаривали с землевладельцами, а те — с рыцарями. Время от времени в глубине приемной открывалась дверь, появлялся слуга и громким голосом по двое вызывал просителей в порядке очереди. Поначалу Марти не понимал, почему так, но потом до него дошло, что время столь высокопоставленной особы стоит слишком дорого, чтобы устраивать проволочки, а потому второй посетитель дожидался в приемной, чтобы зайти немедленно.
Человеку, оказавшемуся в паре с Марти, не повезло: когда подошла их очередь, его вдруг окликнул резкий голос второго секретаря, ведущего предварительные беседы с посетителями, прежде чем допустить их к прому. Очевидно, секретарь обнаружил какую-то ошибку в его прошении, пропущенную раньше. А Марти про себя подумал, что со слугами сильных мира сего стоит вести себя даже более любезно, чем с их хозяевами, поскольку зачастую именно от какого-нибудь ничтожного писаря зависит, дадут ход твоему делу или отложат в долгий ящик. Горожанину пришлось уйти ни с чем, а Марти подчёркнуто любезно улыбнулся обидчивому секретарю и в ответ на его неприветливый вопрос, кто он такой и что ему надо, вежливо произнёс:
— Я вижу, вы очень заняты, мне бы не хотелось отрывать вас от важных дел.
Секретарь тут же сменил тон на более любезный.
— Я не сомневаюсь, что ваши бумаги составлены правильно, а потому не считаю нужным тратить время на всякие глупости, к тому же это не входит в мои обязанности. В первой приёмной служащие отклоняют прошения посетителей, не отвечающие установленным требованиям. Именно в этом и состоит моя работа, чтобы хозяин не тратил на пустяки свое драгоценное время. Народ, знаете ли, у нас недалекий, и порой приходится тысячу раз повторять, как должно выглядеть правильно составленное ходатайство. Ведь если на стол сеньора ляжет какой-нибудь неправильно составленный документ и он поставит на нем свою печать, в ответе буду я.
— Я все прекрасно понимаю, а потому не смею отнимать ваше время, — живо откликнулся Марти, видя, какое впечатление производит на секретаря его откровенная лесть.
— Я сразу понял, что вы — весьма достойный молодой человек. Но скажите, в чем состоит ваше дело?
— У меня назначена встреча с вашим хозяином, смотрителем рынков и складов Бернатом Монкузи. О встрече договорился падре Эудальд Льобет.
Голос секретаря зазвучал еще более учтиво и подобострастно.
— Не будете ли вы так любезны назвать ваше имя?
— Марти Барбани.
— Подождите минуточку, я проверю по книге посещений.
Секретарь принялся быстро листать многочисленные пергаменты, нанизанные на шнурок, который держал в правой руке. Наконец, отыскав нужный, он поспешно ответил:
— Вы напрасно так долго ждали. Если бы вы сразу назвали свое имя и по чьей протекции пришли, вам бы не пришлось так долго сидеть в приемной. Человек, который договорился о встрече, очень любим и уважаем в этом доме.
— Это не имеет значения. Видит Бог, у меня в мыслях не было отрывать вас от работы.
— Прошу вас, садитесь. Не будем терять ни минуты.
Секретарь, гордый и довольный, поднялся из-за стола и, коротко поклонившись, с истинно лакейским проворством исчез за дверью у них за спиной. Ждать пришлось недолго. В скором времени он появился вновь и торжественным голосом объявил:
— Его сиятельство дон Бернат Монкузи, смотритель рынков и складов, ждет вас.
Марти поднялся, чувствуя, как у него подкашиваются ноги.
— С кем имею честь? — спросил он.
— Конрад Бруфау, к вашим услугам.
— Не сомневайтесь, я не забуду ни вашего имени, ни любезности.
Секретарь знаком велел Марти следовать за ним. Они прошли по длинному коридору и остановились перед дверью, обшитой деревянными панелями. Там стоял стражник в доспехах и с копьем. При виде секретаря он отступил в сторону, пропуская их вперед. Секретарь, впустив испуганного Марти в комнату, немедленно удалился.
Дверь за ним тут же закрылась. Советника нигде не было видно, и сердце Марти учащенно забилось при виде обстановки кабинета.
Кабинет был обставлен довольно просто, но богато. Мебель была самого лучшего качества, но при этом весьма сдержанной. Было заметно, что человек, здесь работающий, привык пользоваться самыми лучшими вещами из далеких стран.
Бернат Монкузи был одним из ближайших советников графского дома, столь высокого положения он добился еще во времена регентства Эрмезинды Каркассонской. Поговаривали даже, что она навещала его дома. Он имел репутацию человека сурового и непреклонного, однако легко поддавался на лесть и был весьма неравнодушен к блеску золота.
В кабинете находился большой камин в человеческий рост высотой, на каминной полке стояли несколько безделушек, говорящих об изысканном вкусе владельца.
Особое внимание Марти привлекли огромные песочные часы из выдувного стекла в металлическом держателе, с двенадцатью отметками с указанием часов дня и ночи. Они были закреплены на стене на таком расстоянии от стола, чтобы удобно было переворачивать часы, когда песок пересыплется из одной чаши в другую. Здесь же стояли три деревянные скамьи с удобными подушками. На стенах висели дорогие гобелены, огромный канделябр на восемь свечей освещал письменный стол, на котором имелось все необходимое для работы: гусиные перья, чернильница, папки и песочница с мелким песком.
Марти подошел поближе, и его сердце едва не выпрыгнуло из груди. На столе, перед рабочим креслом, стоял маленький протрет, с которого на Марти смотрела та самая печальная девушка, чьи серые глаза часто снились ему по ночам. Те самые, что наблюдали за ним из паланкина в тот день, когда он купил Омара с семьей, а также осмелился перекупить рабыню у этой девушки.
И тут у него за спиной раздался голос.
— Полагаю, вы пришли сюда не для того, чтобы рассматривать мой стол. А потому будьте добры, сядьте и изложите причину своего визита. У меня мало времени, и если я принял вас без очереди, то лишь благодаря особой просьбе моего духовника, Эудальда Льобета, который отзывался о вас самым превосходным образом.
Марти мгновенно развернулся и оказался лицом к лицу с высокопоставленной персоной. Советник был белотелым и пухлым, почти без шеи, так что двойной подбородок покоился прямо на груди, остатки волос окружали обширную лысину. Неторопливым величественным жестом Бернат Монкузи велел ему сесть, внимательно наблюдая хитрыми глазками. От смущения Марти не мог произнести не слова, хотя так долго этого ждал. И лишь после того, как советник сел сам, Марти решился последовать его примеру.
— Ну, молодой человек, если вы обладаете хотя бы половиной тех достоинств, которые приписывает вам архидьякон, то сможете сделать в Барселоне головокружительную карьеру.
Марти наконец преодолел немоту:
— Эудальд Льобет был большим другом моего отца и несомненно заботится обо мне.
— Я прекрасно знаю вашего покровителя — этот человек не станет расточать благодеяния исключительно в память о старой дружбе. Но мы отвлеклись, а я могу уделить вам лишь несколько минут. Расскажите подробнее о вашем предприятии, о котором вкратце упомянул Эудальд.
Поначалу Марти немного сбивался, но вскоре увлекся, и голос его зазвучал гораздо увереннее. Теперь это уже была речь не робкого юноши, а взрослого человека, знающего, о чем он говорит. Бернат Монкузи внимательно слушал, откинувшись на спинку стула и полуприкрыв глаза.
— Одним словом, мы собираемся украсить дома наших именитых граждан предметами роскоши и тем самым еще больше прославить город.
Этими словами Марти закончил свою речь.
После недолгого молчания, которое показалось Марти целой вечностью, советник наконец заговорил.
— Ну что ж, блестящий план. Должен сказать, вы меня удивили четкостью и краткостью. Наш общий друг падре Льобет нисколько не преувеличил, описывая ваши достоинства.
— Вы слишком любезны, сеньор.
— Вот только скажите на милость, если я выхлопочу для вас разрешение открыть собственное дело — как мне поступить, когда на меня обрушится целый шквал протестов и жалоб? А это непременно случится, поскольку ваше дело неминуемо нанесёт убытки другим торговцам.
Марти улыбнулся, уже зная, что его об этом спросят.
— Убытки это может принести разве что чужеземцам. Не стоит мешать соседям торговать тем, к чему у них лежит душа, и вести свои дела так, как они считают нужным. Не говоря уже о том, что я буду платить пошлины за ввоз товаров, а благодаря моей торговле внутри городских стен Барселона будет только богатеть.
— Превосходно, молодой человек, превосходно. Дайте мне время подумать, и через несколько дней я сообщу вам решение. Назовите моему секретарю свой адрес, и в скором времени я назначу новую встречу. Думаю, будет лучше, если мы встретимся в моем доме и уже там обсудим все подробности — некоторые вопросы следует обсуждать за пределами этого кабинета. Как вы сами понимаете, всё имеет свою цену, и урегулирование вашего дела будет стоить мне немалых хлопот. Знали бы вы, как трудно порой бывает убедить противников любых нововведений, и лишь блеск золота способен смягчить их стремление воспрепятствовать вашему блестящему начинанию. Боюсь, вам придется несколько раскошелиться, но поймите, что все же лучше быть богатым, отдавая часть прибыли другим, чем прозябать в нищете, ни с кем не делясь. Господь велел делиться, тем более, если от этого зависит наша удача и доходы.
Марти не поверил своим ушам, решив, что ослышался.
— Это большая честь для меня, — ответил он. — Я не заслуживаю подобных милостей.
— Не волнуйтесь, я уверен, что в скором будущем вы сможете отблагодарить меня сторицей.
Блистательный советник поднялся из-за стола, давая понять Марти, что разговор окончен. Марти поклонился ему на прощание, всем своим видом выказывая величайшее почтение, которого на самом деле отнюдь не испытывал. Перед уходом он взглянул на песочные часы и обнаружил, что один из самых могущественных людей в городе потратил на него больше часа своего драгоценного времени. Покинув кабинет, Марти сердечно простился с Конрадом Бруфау, когда тот посмотрел на него с величайшим удивлением, сообразив, что советник потратил на него втрое больше времени, чем на любого другого посетителя. Спустившись в каретный двор, Марти Барбани на минуту остановился. Он не знал, хорошо ли для него, что беседа прошла так гладко и удачно, или же ему следует бежать как можно дальше, пока его не втянули в опасную игру.
21
Папа Римский
Рим, лето 1052 года
Эрмезинда Каркассонская отплыла из Кадакеса в Остию, ворота Рима, а затем — в замок Святого Ангела, резиденцию понтифика Виктора II. Ее сопровождал епископ Гийем Бальсарени, а квадратный парус ее корабля был окрашен в цвета графства Жирона, чьи корабли пользовались заслуженной славой самых надежных на всем Средиземном море. Зная, что эти места контролирует Уго де Ампурьяс, возненавидевший ее внука за то, что отверг его дочь, она взяла с собой свиту из нормандцев Роже де Тоэни, чей вид ввергал в трепет любых драчунов, что могли бы встретиться во время путешествия в Италию.
На рассвете третьего дня они прибыли в Кадакес в сопровождении отряда нормандцев. В Кадакесе Эрмезинда и епископ сели в шлюпку с четырьмя гребцами, доставившую их на корабль. Вскоре маленькое судёнышко вплотную подошло к большому; здесь Эрмезинду поместили в огромную плетёную корзину и подняли на палубу. Затем корзину спускали ещё несколько раз, чтобы поднять на борт почтенного священнослужителя и придворных дам Эрмезинды из другой шлюпки. На корабле уже все было готово для того, чтобы со всеми удобствами разместить вдовствующую графиню Жиронскую.
Капитан, старый, испытанный морской волк, уступил ей собственную каюту, а ее дам поместил в соседней. Епископа поселили на корме, в каюте боцмана, а рыцарей эскорта — на нижней палубе. Плавание прошло без происшествий, и уже через несколько дней графиня и ее свита прибыли к месту назначения. Отряд рыцарей под предводительством огромного нормандца подготовил две кареты, готовые доставить ее в замок Святого Ангела. Поездка заняла ещё два дня. При виде громадной крепости с мощными стенами, оснащёнными многосленными зубцами и круглыми башнями, у путешественников дрогнуло сердце — у всех, кроме Эрмезинды, которая лишь невозмутимо взглянула на епископа и своего зятя Роже же Тоэни.
— Что вас так удручает? — спросила она. — Неужели вас так напугала эта груда камней? Если так, то любая скала в моих Пиренеях выглядит куда внушительнее, чем весь этот замок, к тому же скалы созданы самой природой. Не вижу причин трепетать от ужаса.
Едва они прибыли в замок, их с почетом проводили в отведенные апартаменты, а вскоре сообщили, что понтифик примет их немедленно.
Эрмезинда облачилась в лучшие одежды, уделив внимание каждой детали туалета: Его Святейшество должен увидеть перед собой величественную, но скромную и печальную женщину. Она выбрала строгое черное блио, богато расшитое жемчугом, с глухим воротом, закрывающим шею до самого подбородка, рукава, плотно облегаюли запястья. Ее лицо без следа белил выглядело изможденным. Увидев в зеркале свое отражение после этих приготовлений, графиня осталась довольна.
Раздался негромкий стук в дверь.
— Проходите, Гийем, — сказала она.
Епископ тут же предстал перед ней. Едва взглянув на графиню, он и впрямь поверил, что она убита горем.
— Вы готовы, сеньора? — осведомился он.
— Разумеется, епископ. Правда, мой наряд не слишком подходит для балов и приемов.
— Нам пора идти, сеньора. Протокол обязывает прибыть в приемную несколько раньше назначенного понтификом часа.
— Подождите немного, Гийем.
Властным жестом она подозвала одну из придворных дам, и та воткнула ей в волосы чёрный гребень, закрепив им мантилью из серых кружев.
— Как считаете, мой наряд соответствует случаю, Гийем?
— Прекрасно соответствует — благороден и прост. Остался последний штрих: я бы посоветовал вам скрыть лицо. Это будет говорить о вашей скромности и добродетели, что, несомненно, произведет самое лучшее впечатление на понтифика.
— А также даст мне возможность все видеть, самой оставаясь невидимой. Как же вы наивны, епископ! — Эрмезинда хрипло рассмеялась. — Разумеется, в епархии Вик нет необходимости разбираться в тонкостях политики. Идемте, я уже готова.
Удивленный священник последовал за графиней. У дверей комнаты их ожидал монах в сопровождении двух стражников, он пошёл впереди, а стражники следовали чуть поодаль, пока их вели по замку Святого Ангела. Залы, коридоры, бесконечные лестницы сменяли друг друга под зоркими взглядами стражников, следящими за каждым шагом гостей.
После долгих переходов они наконец добрались до палаты кардинала Биларди, камергера замка Святого Ангела и личного секретаря понтифика. Монах перебросился несколькими словами с караульным офицером, а тот, войдя внутрь и посовещавшись с кем-то невидимым, провел гостей в маленький зал, где принимал посетителей кардинал, прежде чем их допускали к Папе. Несмотря на то, что слава о великолепии папской резиденции гремела по всей Европе, Эрмезинду поразили расписные потолки, роскошные гобелены, прекрасные картины и статуи.
В скором времени в дверях появился камергер, торжественный и величественный, в роскошном одеянии с длинными просторными рукавами и поясом из алого бархата. На груди у него висела золотая цепь, украшенная распятием искусной работы. Кардинал шагнул навстречу графине, а епископ побледнел, видя, что она и не думает вставать, словно находится у себя в Жироне и сама принимает рядовых священников своих приходов.
Опытный секретарь был галантен, как истый флорентиец, а потому предпочёл не заметить подобной дерзости, понимая, что не стоит ожидать другого поведения от могущественной каталонской графини, по сути — некоронованной королевы этих земель, вынужденной постоянно встревать в бесконечные дрязги местной знати, в чьих междоусобных конфликтах и родственных связях уже практически невозможно было разобраться. Он поприветствовал графиню с любезностью истинного рыцаря.
— Дорогая графиня, мне неведомо, какие обстоятельства заставили вас посетить нашу обитель, но я рад, что вы почтили Рим своим присутствием.
Графиня, торжественная и загадочная, ответила:
— Мой дорогой Биларди, до сегодняшнего дня я знала о вас лишь понаслышке, со слов моего верного слуги Гийема де Бальсарени. И теперь с уверенностью могу сказать, что камергер Его Святейшества — истинный кабальеро, которому не стыдно было бы поручить миссию посла в любом европейском государстве.
Эрмезинда применила старую уловку — польстила камергеру. Всем известно, как чувствительны люди к лести, не исключая и тех, кто посвятил жизнь служению церкви. Но Биларди сразу ее раскусил.
— Сеньора, я прекрасно знаю, что человек может прожить тридцать дней без еды, три — без воды, но даже дня не может провести без лести, в особенности это касается большинства духовных лиц Рима, которые, увы, тоже не чужды мирской суеты. Но я оценил вашу любезность. И все же скажите, графиня, чем мы обязаны чести вашего визита?
— С трудом верится, чтобы кардинал-камергер не был осведомлен о содержании писем, которые Его Святейшество через своих слуг рассылает по всему христианскому миру.
Гийем встревожился. Биларди, могущественный и опасный секретарь понтифика, не привык к подобной откровенности.
— Сеньора, для каждого случая у Папы имеется отдельный канал связи.
— Вряд ли он лично ведет всю корреспонденцию. Понтифик уведомил меня о событии чрезвычайной важности, и вот я здесь, чтобы всё уладить, насколько это возможно. Мне бы не хотелось пересказывать дважды одну и ту же историю, и потому вам лучше присутствовать при моей беседе с Его Святейшеством, поскольку ваш совет может оказаться полезен как для Папы, так и для меня, несчастной вдовы.
Биларди на миг задумался. Никто за всю его долгую службу при понтифике не смел высказываться столь прямо и решительно, минуя все церемониальные лабиринты и иносказания, на которые не скупились посланники всех королевств Европы, посещающие Папу.
— Ну что ж, графиня, если таково ваше желание... Мне было бы интересно узнать подробности барселонской истории с точки зрения политики, чтобы уже затем пересказать Его Святейшеству ее суть и не тратить время на пустяки. Поймите, Его Святейшеству приходится принимать до двадцати посетителей в день, а потому я стараюсь заранее его информировать его.
Эрмезинда не двинулась с места.
— Монсеньор, еще в юности я усвоила, что никто не сможет поведать какую-либо историю лучше, чем непосредственный ее участник. Кроме того, мне известно, что единственный невосполнимый капитал — это время. Так что не волнуйтесь, проводите меня к понтифику и позвольте с ним побеседовать.
— Как пожелаете.
Гийем бросил на камергера виноватый взгляд, словно прося у него прощения за бестактность своей сеньоры, после чего тот их проводил на аудиенцию к Виктору II.
Властным жестом Биларди дал понять капитану гвардии, что сопровождение им не требуется, и направился впереди графини и епископа к внушительным дверям зала для аудиенций.
После того как дворецкий объявил о прибытии августейших гостей, створки открылись, и каталонцы оказались в великолепном зале.
Расстояние от дверей до трона было весьма значительным, раз в пять больше, чем ее собственном зале. Папский трон стоял на пьедестале, куда вели пять ступенек, под белым с золотом балдахином. Все это должно было внушить посетителям мысль о собственном ничтожестве и внушить желание немедленно опуститься на колени перед представителем Христа на земле. Виктор II предстал перед графиней во всем великолепии — в белоснежном облачении, с папской тиарой на голове, призванной напомнить простым смертным, что он — царь царей, самый могущественный человек на земле, и любая земная власть зависит от его воли.
Эрмезинда поднялась по ступеням, поклонилась понтифику а епископ Гийем опустился на колени. Папа протянул ей перстень для поцелуя, после чего, хотя ему было точно известно, кто пожаловал к нему в гости, позволил Биларди представить визитеров.
В зале воцарилось глубокое молчание, поскольку по протоколу разговор должен был начать Его Святейшество.
Зычный голос Папы эхом прокатился по огромному залу. Виктор II не был дипломатом, подобно Биларди. Обладая безграничной властью, он мог себе позволить сразу перейти к делу и не тратить времени на пустые церемонии.
— Я рад видеть вас, дочь моя, и благодарен за то, что вы так скоро откликнулись на мою просьбу. Наш слуга и друг епископ де Бальсарени оказался, как всегда, расторопен и компетентен. Давайте поговорим о том деликатном деле, которое так беспокоит нас всех. Позвольте спросить вашего совета, поскольку вы, как никто другой, знаете, что лучше для Каталонии, такого дорогого для меня места. А ваш внук, когда-то показавший свою храбрость в битве при Барбастро, теперь дал нам повод для беспокойства. Тот, кому надлежит быть истинным оплотом христианства в борьбе с сарацинами, не следует подавать дурной пример. Прошу вас, Эрмезинда, расскажите откровенно, что вы думаете по этому поводу, забыв о том, кто вы такая.
Графиня, будучи прирождённой дипломаткой и прекрасной актрисой, тяжело вздохнула и как будто даже всхлипнула
— Успокойтесь, Эрмезинда, — поспешил утешить ее Папа. — Ваш пастырь привык заботиться о своих овечках. Поднимите же вашу вуаль и не плачьте.
Графиня откинула с лица кружевную мантилью и посмотрела в лицо Папе.
— Благодарю, Ваше Святейшество, но когда слабая женщина, положившая все силы на то, чтобы отстоять истинную святую веру в борьбе с могущественными врагами, на закате своих дней видит, как ее собственная плоть и кровь ставит под угрозу все ее достижения, печаль ввергает ее в отчаяние.
— Дочь моя, нам известно о ваших несчастьях и потерях, но мы не станем этого терпеть. Более того, мы для того и отправили вам это письмо, чтобы окончательно убедиться в своих подозрениях. Расскажите же, как обстоят дела в Барселоне.
— Ваше Святейшество, если мы не найдём выхода, нас ждут безумные времена. Мой внук Рамон Беренгер охвачен порочной страстью к замужней женщине, супруге графа Понса Тулузского. Беда в том, что эта страсть может повлечь за собой роковые последствия для всей Септимании. Он собирается жить с ней во грехе, не стыдясь своих подданных и попирая все заветы святой церкви.
— Ну что ж, ничего нового вы мне не сообщили. Но все же позвольте уточнить: это уже произошло?
— Когда я уезжала, ещё нет. Но он уже тогда выгнал из дома Бланку де Ампурьяс, даму богобоязненную и добродетельную, с которой год назад вступил в законный брак. Но всего хуже то, что эта дама — дочь графа Уго, чьи владения граничат с Жироной, а мы с ним веками воевали. Подобное оскорбление непростительно, а я по милости внука оказалась в щекотливом положении, которым граф Уго не замедлит воспользоваться. К тому же политические проблемы на этом не кончаются. Простите, что не сообщала вам так долго, но граф Мир Гериберт, имевший дерзость объявить себя принцем Олердолы, у которого прежде не хватало сил, чтобы открыто выступать против нас, теперь, благодаря сложившейся в Барселоне ситуации, начнёт посягать на права другого моего внука, Санчо Беренгера, и попытается захватить Льобрегат. Поверьте, Ваше Святейшество, я просто в отчаянии!
Некоторое время Виктор II молча размышлял.
— Так что же вы предлагаете, графиня, и что может сделать Рим, чтобы защитить христианские чувства ваших подданных?
— Ваше Святейшество, я вынуждена обратиться к вам, поскольку прекрасно понимаю, чем подобная ситуация может грозить церкви. Думаю, именно вам надлежит отсечь пораженную конечность, чтобы гангрена не распространилась по всему телу. Именно вы, Ваше Святейшество, обладаете для этого орудием.
— И о каком же орудии говорит мне человек, столь близко знакомый с лучшими людьми Каталонии?
Эрмезинда тихо, но твердо произнесла:
— Об отлучении, святой отец.
Виктор II озабоченно нахмурился.
— Мне не хотелось бы этого делать, — честно признался он. — То, что вы предлагаете, слишком сурово, графиня.
— Последствия могут оказаться куда более суровыми, если сейчас не принять мер.
— А вы что думаете о предложении графини, Биларди?
Камергер, все это время благоразумно молчавший, ответил спокойно и дипломатично:
— Увы, если другие меры не подействуют, я тоже предложу подумать об отлучении. Гангренозную конечность всегда отрезают, как это ни жестоко, если нет другого средства спасти жизнь больного. Но следует хорошенько подумать, прежде чем прибегнуть к крайним мерам.
— А вы что скажете, епископ?
Гийем де Бальсарени задумался. Перед ним стоял нелегкий выбор — помочь графине или проявить себя милосердным пастырем. В конце концов он выбрал первое.
— Ваше Святейшество, не мне, бедному священнику, судить о столь важных делах, но раз уж вы спросили моего мнения, то я считаю, что церковь не должна допускать подобных преступлений в своей епархии. Какой пример мы подадим пастве, если начнем позволять подобное сильным мира сего? Если окажется, что это так легко сходит им с рук, все подряд начнут бросать жен.
Эрмезинда не замедлила воспользоваться поддержкой епископа.
— Судите сами, Ваше Святейшество: если вы отлучите от церкви моего внука и его любовницу, то дадите их подданным повод к бунту, а если властитель лишается поддержки вассалов, он бессилен перед лицом врагов.
— Хорошо, графиня, — подвёл итоги Папа. — Да будет так. Гийем, когда прибудете в Барселону, пришлите мне подробный доклад. Если наши подозрения подтвердятся, мы отлучим эту пару безумцев от церкви. И уж будьте добры, графиня, когда документ окажется у вас в руках, не забывайте, кто вам его пожаловал.
— Но, Ваше Святейшество... — вмешался Биларди.
На что Виктор II ответил:
— Сейчас не время для мягкотелости, кардинал. Слишком многое поставлено на карту, сама власть Папы может оказаться под угрозой. — С этими словами он повернулся к Эрмезинде: — Если ваши предчувствия подтвердятся, можете рассчитывать на мою поддержку и помощь.
— Вам никогда не придется сомневаться в моей преданности, — ответила она. — Клянусь Богом, я всегда была доброй христианкой, свято чтившей законы церкви. И умею быть благодарной.
— В таком случае, графиня, ступайте с миром, и да хранит вас Бог!
— С Богом, — ответила графиня.
Когда Биларди провожал графиню и епископа в их покои, Эрмезинда снова опустила на лицо вуаль. Если бы Гийем в эту минуту мог видеть ее лицо, то непременно заметил бы торжествующую улыбку на ее губах.
22
Лес Сериньяк
Тулуза, сентябрь 1052 года
Кортеж был не слишком многочисленным. Два всадника скакали впереди тяжелой кареты, на дверцах которой сиял герб Тулузского графского дома. Кожаные шторки были опущены, оберегая пассажиров от дорожной пыли. Карету тянула шестерка лошадей, запряженных цугом. На козлах восседал кучер с кнутом в руке, а верхом на одной из передних лошадей сидел юный форейтор. Позади кареты, охраняя ее от нападения сзади, скакали восемь всадников с копьями и щитами, одетые в цвета Тулузского дома. Тех же цветов были и чепраки их лошадей. Последний из эскорта вёл в поводу Красотку, любимую кобылу графини. Ещё вчера они пересекли Гаронну в нижнем течении, и с тех пор почти весь день скакали во весь опор. За это время дважды пришлось сменить лошадей.
Капитан, глянув на горизонт, с тревогой заметил, что оттуда ползут тяжелые тучи, темные, словно брюхо осла, готовые вот-вот пролиться ужасающим ливнем. Прекрасно зная характер хозяйки, он не посмел даже заикнуться о том, чтобы остановиться и поискать укрытие, поскольку получил четкий приказ пересечь лес Сериньяк до наступления темноты. В карете сидели графиня Альмодис, ее шут Дельфин и Лионор, первая и доверенная камеристка. Графиня Тулузская выбрала ее из всех придворных дам как самую надежную. Лионор без колебаний согласилась следовать за своей сеньорой хоть на край света, даже рискуя собственной жизнью.
— Дельфин, по-моему, пора, — прошептала Альмодис.
Карлик беспокойно заерзал.
— Вы правы, госпожа. Мы уже на полпути к лесу. Как сообщил шевалье Жильбер д' Эструк, уже скоро нас должны встретить. Вы готовы?
— Я всегда готова — с того дня, когда наш замок посетил граф. С той поры я с нетерпением жду, когда мы с ним будем вместе, — вздохнула Альмодис.
— Вы полагаете, все пройдёт благополучно, сеньора? — спросила Лионор, заметно побледнев.
Альмодис уже хотела что-то ответить камеристке, когда карета вдруг со страшным скрипом зашаталась и встала. Снаружи послышались громкие ругательства, заглушаемые топотом копыт. С вершины высокого дерева неожиданно упали две петли, тут же спеленавшие кучера и форейтора, и сдернули их наземь, к колесам застывшей кареты. Дверца распахнулась, и взору графини явилось мрачное лицо Жильбера д'Эструка, а за его спиной маячил бородатый тип со зверской рожей.
Без долгих церемоний Жильбер приказал всем выйти из кареты. Спускаясь на землю, Альмодис понимала, что охрана будет защищать свою графиню до последней капли крови, а потому решила реализовать второй вариант плана. Все произошло мгновенно. Арбалетный болт вонзился в подмышку капитана отряда тулузцев. В мгновение ока отряд окружила шайка разбойников. Воинов, скакавших впереди кареты, заставили спешиться и разоружили. Лионор и Дельфин уже выбрались из кареты и теперь ждали, что будет дальше, не смея произнести ни слова. Разбойники на дереве направили на них три заряженных арбалета; за спиной одного из них она разглядела колчан с болтами. Жильбер д'Эструк и его бородатый товарищ оказались за спиной у Альмодис; обхватив ее за талию, Жильбер приставил к ее горлу нож.
— Как видите, капитан, сопротивление было бы безумием. Ваш сеньор вполне способен какое-то время прожить без любимой супруги, даже немного отдохнет от нее — во всяком случае, пока не соберет нужную сумму. Для него это пустяк, а нам поможет пережить зиму.
Воины ждали приказа истекающего кровью командира, а нападавшие, одетые в лохмотья, не сводили глаз с человека, держащего кинжал возле шеи Альмодис.
— Не стоит пытаться спасти меня, капитан, — тихо произнесла графиня. — Мы проиграли. Эти подонки не сделают мне ничего плохого, им нужен лишь выкуп... — Видя, что капитан сомневается, она добавила: — Не волнуйтесь, как только я окажусь на свободе, то скажу супругу, что это я отдала приказ. Бога ради, делайте, как я говорю.
Воин всё ещё колебался.
Голос д'Эструка прозвучал властно, но с явной насмешкой:
— Дама верно сказала, капитан. Безусловно, честь велит вам ее спасти, но в этом случае вы доставите в Тулузу лишь труп графини.
Капитан бросил меч и приказал своим людям сделать то же самое.
— Вот так— то лучше. Я вижу, вы разумный человек. Не стоит огорчаться: сегодня фортуна не на вашей стороне, но завтра судьба может перемениться, и удача вновь повернётся к вам лицом.
Дальше все произошло еще быстрее. Всадники спешились, лошадей выпрягли из кареты и отогнали факелами. Как только они исчезли из виду, волоча за собой сбрую и упряжь, к луке седла каждого из нападавших привязали лошадей эскорта. Затем, отобрав у стражников копья и стрелы, д'Эструк приказал своим людям вернуть им мечи и кинжалы, после чего кучера и форейтора освободили от пут.
— Заметьте, мы ведем себя как истинные кабальеро, не бросаем вас в лесу безоружными на милость диких зверей. Отсюда, кстати, недалеко до перевала. Правда, дорога через перевал длинная, но это и к лучшему — будет время привести в исполнение наши планы. Одним словом, если граф Тулузский поведет себя столь же разумно, как вы, капитан, в скором времени он сможет воссоединиться со своей обожаемой графиней.
Капитан отряда даже не соизволил ответить на глумливое замечание разбойника, а попытался выдернуть арбалетный болт из подмышки. Он он повернулся к своей сеньоре и произнес удрученным тоном с нотками гордости:
— Подчиняюсь вашему приказу, графиня, но знайте, что я всегда готов умереть за вас. Я расскажу вашему супругу обо всем случившемся и буду с нетерпением ждать того дня, когда смогу отомстить этим мерзавцам.
— Ступайте, капитан, и знайте, что ваша честь осталась незапятнанной. Все во власти Бога, а мы все — не более чем листья, подхваченные ветром судьбы, — сказала Альмодис, стараясь придать голосу как можно больше печали, которой на самом деле вовсе не испытывала.
Разбойники вскочили на лошадей, а Жильбер д'Эструк, Перельо Алемани и Гийем д'Оло посадили перед собой Альмодис, ее придворную даму Лионор и малыша Дельфина в одежде не по росту. Красотку тоже взяли с собой, привязав к седлу.
23
Опасные знакомства
Барселона, сентябрь 1052 года
Особняк графского советника Берната Монкузи находился рядом с Кастельвелем и вплотную примыкал к городской стене, поэтому, чтобы попасть внутрь, пришлось бы обойти все строение. Своей высотой и монументальностью особняк резко выделялся среди соседних домов, казавшихся рядом с ним деревенскими лачугами. Дом был двухэтажным, с крытой галереей из множества симметричных арок. Пройдя через арочные ворота, посетитель попадал во внутренний двор, где дежурила стража.
Далее, за каменной стеной, густо увитой виноградом, располагался сад с цветами, кустарниками, плодовыми деревьями и выложенными плиткой дорожками, ведущими к искусственному водоему, возле которого стояла крытая беседка, приводившая в восторг всех гостей. В дальнем углу сада, возле дома, помещалась небольшая веранда, служившая, видимо, летней столовой в те дни, когда город изнуряла невыносимая июльская жара. Спешившись, Марти проследовал в особняк, все еще не веря в свою счастливую звезду, что привела его в Барселону. Пройдя через ворота, он передал поводья коня слуге, вышедшему навстречу. Слуга попросил его назвать свое имя.
— Меня зовут Марти Барбани, и мне назначена встреча с графским советником.
— Его превосходительство Бернат Монкузи ждёт вас в беседке в саду. Будьте любезны следовать за мной...
Слуга, взяв лошадь под уздцы, провел гостя на каретный двор. Дойдя до арки, ведущей в конюшню, слуга передал лошадь конюху и жестом велел юноше следовать за ним. Перешагнув через порог, они пошли по выложенному кирпичом коридору в обход дома прямо в сад.
Здесь провожатый передал его заботам дворецкого, а тот, приняв у Марти его плащ и фетровую шляпу, провел его прямо в беседку. По пути Марти любопытным взглядом бывшего крестьянина рассматривал чудесный сад. Тенистые аллеи, водоемы — все это требовало ухода, который могли обеспечить лишь усилия особых специалистов, мастеров орошения, привезенных издалека — таких, как его Омар.
Его зоркие глаза еще издали разглядели советника, сидящего в увитой виноградом беседке, где тот проводил жаркие летние дни, потягивая вино из кубка венецианского стекла, которое время от времени доливал мальчик — судя по облику, андалузец. Другой мальчик обмахивал его огромным опахалом из перьев марабу.
По спине Марти побежали мурашки при виде широкой улыбки Берната Монкузи. Слуга с поклоном удалился, оставив Марти наедине с самым могущественным человека при дворе Рамона Беренгера I, графа Барселонского, не считая сенешаля Гуалберта Амата, викария Олдериха де Пельисера и главного нотариуса, Гийема де Вальдерибеса.
— Молодой человек, чувствуйте себя как дома.
Марти не переставал удивляться дружелюбию такого важного человека.
— Вы делаете мне большую честь, позволяя вторгаться в вашу частную жизнь, как будто я ваш дальний родственник.
— Вы же знаете, что друзья падре Эудальда — мои друзья, тем более, если они пользуются его особым расположением. Но прошу вас, садитесь. Правила хорошего тона не позволяют мне сесть, пока гость стоит, а бедные старые ноги едва меня держат, в сыром климате этого проклятого города они все время болят.
Сам того не осознавая, когда Марти сел, то оказался на равных с могущественным хозяином дома.
После обычного обмена любезностями советник приступил к основной цели разговора.
— Ну что ж, дорогой Марти, я переговорил с нужными людьми, и они с одобрением отнеслись к вашему проекту. Так что, если мы устраним некоторые его недостатки, которых он, как вы сами понимаете, не лишен, совет даст вам временное разрешение на торговлю сроком на год, чтобы проверить ваши способности.
Сердце Марти учащенно забилось.
— Но давайте немного выпьем. Вино в умеренных количествах нисколько не вредит; даже напротив, помогает собраться с духом.
В последних словах Марти почуял двойной смысл.
Советник поднялся и направился к столу, накрытому на двоих в беседке. Марти последовал за ним, еще не зная, о чем пойдет речь во время застолья, а потому решил, что будет говорить лишь на те темы, которые предложит сам хозяин, и не высказывать своего мнения, пока не разберется в его намерениях. Оба прислужника мгновенно встали у них за спинами, готовые исполнить любое приказание. Марти дождался, пока хозяин усядется за стол, и лишь после этого сел сам. День выдался жарким, а в беседке, в тени виноградных лоз, царила душистая прохлада. Стол, уставленный тончайшим фарфором и зеленым венецианским стеклом, выглядел великолепно.
За столом беседа потекла легко и непринужденно, как будто они с советником стали близкими друзьями. Однако врожденное чутье предупреждало Марти, что не стоит доверять его дружелюбию, это лишь видимость, старый трюк, чтобы в непринужденной обстановке гость потерял бдительность.
За приятной беседой о разных пустяках время текло незаметно.
Когда пришло время десерта, Марти понял, что настал ключевой момент: графский советник, смотритель рынков и ярмарок решил приступить к делу. Отослав слуг, он коротко и четко произнес:
— Ну, юноша, позвольте вам сказать, что еще тогда, в моем кабинете, я понял, что вы тот самый человек, которого я давно искал.
Марти навострил уши, стараясь не упустить ни единого слова.
— Видите ли, графская служба, конечно, весьма почетна, но не слишком прибыльна, У меня связаны руки, и в силу моего положения приходится отказываться от многих выгодных сделок, сулящих огромную прибыль. Так вот, если бы я нашел нужного человека, преданного мне душой и телом, то смог бы обогатиться без всякого ущерба для своей чести и положения.
Марти молчал, не торопясь ни соглашаться, ни отказываться.
Монкузи продолжил:
— Не думайте, что это так легко, ведь ни одно из влиятельных семейств при дворе от меня не зависит. Этим людям неизвестно, что значит добывать хлеб в поте лица, они считают это уделом простолюдинов и безбожно дерут три шкуры с торговцев. А кроме того, мое богатство для многих — как бельмо на глазу, мне всячески пытаются вставлять палки в колеса и опорочить перед графом.
Решив прикинуться простачком, Марти поинтересовался:
— И чем же я, бедный приезжий, смогу помочь вам в таком сложном деле?
— Вот именно об этом я и хочу с вами поговорить. Видите ли, вас здесь никто не знает, но у вас есть определенные амбиции, а падре Льобет вас хвалит. Вы не гражданин Барселоны, и даже если возбудите чью-то зависть, это такая малость по сравнению с моим расположением. Так что, думаю, для вас наше сотрудничество намного выгоднее, чем для меня.
— Но, при всем моем к вам уважении, в чем оно будет состоять?
— Все очень просто. Как я понял из нашего первого разговора, вы собираетесь заняться несколько рискованным делом, сулящим прибыль. И все бы хорошо, только вам требуется особое разрешение. Так вот, я мог бы вам его дать, в обход вышестоящих инстанций, которые обложат вас такими пошлинами и налогами, что ваше предприятие окажется просто убыточным.
Мысли Марти завертелись в бешеном водовороте: если он откажется, то восстановит против себя одного из самых влиятельных людей при дворе, если же согласится, то сможет заняться любой торговлей и для него откроются любые двери. Решение казалось очевидным, и он не стал медлить с ответом.
— Разумеется, я принимаю ваше великодушное предложение и высоко ценю предоставленные возможности.
— Надеюсь, нет нужды говорить, что об этом соглашении должны знать только мы с вами?
— Я все прекрасно понимаю. Не волнуйтесь, я умею хранить тайны.
Впервые за все время беседы улыбка на лице старика сменилась угрожающим оскалом.
— В противном случае вам придётся серьёзно об этом пожалеть.
Зловещее выражение вновь сменилось любезной улыбкой. Монкузи встал, поднял кубок и провозгласил тост:
— За наши грандиозные планы и великие дела!
Марти последовал примеру хозяина, и кубки с мягким звоном ударились один о другой.
Они договорились, что завтра встретятся снова в кабинете советника, и разговор потек по прежнему непринужденному руслу. Когда Марти решил, что пора уходить, советник Монкузи сам проводил его до дверей. Они пересекли сад и вошли в коридор, выложенный кирпичом. Здесь сердце Марти учащенно забилось — навстречу в сопровождении суровой дуэньи шла стройная, как ливанский кедр, девушка с серыми глазами, которую он мельком увидел на аукционе. Поравнявшись с ними, старик остановился, чтобы представить девушке своего спутника.
— Позвольте, Марти, представить вас моей дочери, Лайе. Дочка, это мой новый друг Марти Барбани.
Молодой человек неуклюже поклонился и прошептал:
— Припадаю к вашим стопам, сеньора.
Женщины двинулись дальше, и Марти проводил их долгим взглядом, не укрывшимся от зорких глаз подозрительного советника.
Вечером Бернат Монкузи закрылся в своём кабинете. Уже темнело, и слуги по всему дому зажигали свечи и лампы. Дворецкий подал ему прямо в кабинет лёгкий ужин и удалился. Из-за двери не доносилось ни единого звука. Бернат Монкузи взял со стола канделябр и направился в потайную комнатку на втором этаже, дверь в нее всегда была заперта — обтянутая пропитанным известкой холстом, она почти не выделялась на фоне оштукатуренной стены. Он вынул из кармана халата ключ, отпер дверь и вошёл. Оставив канделябр на столике, он подошёл к стене, обшитой деревянными панелями. Одна из них была фальшивой. Пальцы Монкузи нащупали ее и легким нажатием сдвинули вниз. В стене открылось небольшое отверстие, надежно скрытое панелью. Советник жадно приник к нему глазом. Как раз в эту минуту Лайя сбросила нижние юбки, за ними последовали панталоны из хлопка. И вот девушка предстала перед ним во всей своей непорочной наготе.
Бернат Монкузи, графский советник, просунул левую руку себе между ног и стал мастурбировать.
24
Похищение Альмодис
Тулуза, сентябрь 1052 года
В скором времени отряд покинул лес Сериньяк. Здесь Жильбер д'Эструк приказал отряду сделать остановку, чтобы Альмодис могла отдохнуть, ведь непривычная к путешествием дома наверняка утомилась за долгие часы скачки. Во всяком случае, на лицах ее компаньонки Лионор и карлика отражалась усталость, на них осела дорожная пыль, со лба стекали ручейки пота, которые они пытались отирать, но лишь размазывали грязь по лицу.
— Сеньора, мы успели уехать достаточно далеко, — сказал Жильбер. — Даже если за нами погоня, нас уже не догнать. Если желаете, можем немного отдохнуть, чтобы вы восстановили силы.
— Я не устала, хотя моей даме и Дельфину действительно нужно отдохнуть. Как только они переведут дух, мы двинемся дальше. Лучше побыстрее добраться до места назначения.
Донья Лионор повернулась к сеньоре и прошептала ей на ухо:
— Сеньора, мне необходимо уединиться. Мой организм требует срочной остановки. Естественные потребности, знаете ли... Да и Дельфин, я думаю, испытывает те же трудности.
— Хорошо, Жильбер, — неохотно согласилась графиня. — Сделаем небольшую остановку и продолжим путь. Моей даме нужно ненадолго отлучиться, а вы пока посвятите меня в оставшуюся часть плана.
— Теперь уже можно, сеньора. Главная опасность миновала, и теперь вы вправе узнать планах моего сеньора. В нескольких лигах отсюда есть небольшая крепость, где ждёт отряд верных каталонских рыцарей нашего сеньора Рамона Беренгера, они будут сопровождать нас оставшуюся часть пути. Там вы сможете отдохнуть и приготовиться к следующему этапу путешествия. Сеньор подумывал о том, чтобы двинуться через Пиренеи по одному из перевалов, но потом рассудил, что там слишком легко устроить засаду, и решил отправить вас в Барселону морем. Корабль принадлежит евреями из Тортосы, он ждёт нас на рейде недалеко от Нарбонны. На борт вас пронесут в большом сундуке, а Дельфина — в другом, его маленький рост слишком бросается в глаза. А ваша дама оденется монахиней и все время будет рядом — на тот случай, если вам что-нибудь понадобится. Вряд ли кто-нибудь вас узнает и донесёт в Тулузу раньше, чем мы прибудем на место. Как только вы окажетесь на борту и корабль отчалит, вы сможете наслаждаться свободой — в пределах корабля, конечно. Таким образом, если будет на то Божья воля, уже через четыре или пять дней мы прибудем в Барселону, где вас с нетерпением ждёт мой сеньор.
— В таком случае, мой добрый кабальеро, не стану заставлять вас ждать. Не в моих правилах капризничать и требовать для себя поблажек, как другие дамы. Не стоит со мной нянчиться лишь потому, что я женщина.
— Сеньора, — с глубочайшим почтением произнёс Жильбер д'Эструк, — за всю мою жизнь я не встречал столь храброй дамы. И даже среди моих солдат найдётся не много таких.
Между тем, из леса вернулись донья Лионор и Дельфин, каждый со своей стороны, и отряд продолжил путь. Для Альмодис и доньи Лионор заранее приготовили дамские седла. Одно седло водрузили на спину Красотке, а второе — на спину другой смирной кобылке. Дельфину подобрали низкорослую лошаденку, более-менее подходящую ему по росту.
Галера уже дожидалась в бухте, на верхушке ее главной мачты горел сигнальный огонь, а другой фонарь — на корме, его свет отражался в тихих водах маленькой бухты. С галеры отплыли к берегу две шлюпки, потребовалось совершить несколько рейсов, чтобы переправить на корабль все необходимое. В одну из лодок погрузили спешившихся всадников и лошадь. Всадники втащили в шлюпку два увесистых сундука, один — огромных размеров, другой — немного поменьше. Никто из рыбаков, чинивших сети на берегу или зажигающих фонари на лодках, чтобы выйти в море на промысел, не обратил на это внимания.
Никому даже в голову не пришло поинтересоваться, какие товары перевозят на корабль в огромных сундуках, ведь этими берегами пользовались контрабандисты, а с ними лучше не связываться. Рыбаки знали по опыту, что излишнее любопытство ещё никому не шло на пользу, а потому старались держаться подальше от кораблей, часто принадлежащих сильным мира сего. Тем временем весь отряд собрался на берегу. Погрузкой командовал некий кабальеро, чей властный голос выдавал в нем главного.
— Первым делом поднимите на борт этот большой сундук, — распорядился он. — А вы, матушка, — повернулся он к ожидающей в сторонке монахине, — проследите, чтобы вещи благополучно доставили на корабль и разместили в надежном месте.
Его люди с помощью гребцов и матросов с трудом затащили на нос корабля огромный сундук. После того как погрузили остальной багаж, на борт поднялись шестеро самых знатных рыцарей. Остальные взяли под уздцы лошадей и скрылись с берега так же поспешно, как и появились. Жильбер д'Эструк, Бернат де Гурб, Герау де Кабрера, Перельо Алемани, Гийем де Мунтаньола и Гийем д'Оло должны были сопровождать даму в плавании и отдать за нее жизнь, если потребуется.
25
Проекты и амбиции
Барселона, сентябрь 1052 года
Марти пребывал в глубочайшем недоумении и растерянности. Снова и снова он прокручивал в голове разговор с Бернатом Монкузи. Чутье подсказывало, что действовать нужно с величайшей осторожностью, поскольку любое неосторожное слово, достигнув ушей столь могущественной персоны, грозит серьезной опасностью, а потому следует вести себя благоразумно и сдержанно. Сначала он хотел обратиться за советом к Эудальду Льобету, но затем отказался от этой идеи: слишком уж близок был этот человек к советнику, а потому мог невольно проговориться и тем навлечь неприятности на них обоих.
После долгих раздумий он решил попросить совета у Баруха Бенвениста, с первой встречи покорившего Марти своей сдержанностью и добросердечием. Предупредив Катерину, уже исполнявшую в его доме обязанности экономки с присущими ей усердием и аккуратностью, что опоздает к ужину, он направился к церкви святого Иакова, затем — к воротам Кастельнау, а оттуда уже было рукой подать до обители Баруха Бенвениста. Марти вновь восхитился добротностью и богатству его дома. Вспомнив свой первый визит сюда в сопровождении Эудальда Льобета, он потянул за шнурок колокольчика.
Почти тут же его тонкий слух уловил за дверью звуки легких шагов. Он решил, что сейчас, как и в прошлый раз, откроется дверное окошко, но дверь сразу распахнулась, и на пороге показалась девочка-подросток с плутоватым личиком и веснушками. Похоже, она удивилась не меньше Марти.
— Да хранит вас Элохим, — сказала она.
— Да пребудет с тобой Господь, — ответил Марти. — Барух Бенвенист дома?
— Отец у себя в кабинете, но если вы немного подождёте, он вас примет, — ответила девочка слегка дрожащим от смущения голосом. — Меня зовут Руфь, я его младшая дочь. Да вы проходите, не стойте в дверях.
Марти, которого позабавило смущение девочки, поспешил ответить:
— А меня зовут Марти Барбани. Я пришел без приглашения, но у меня срочное дело. Пожалуйста, доложи о моем приходе отцу и скажи ему, что, если он не сможет меня принять, я приду в другой раз.
— Отец много рассказывал о вас, — ответила девочка. — Он всегда очень хорошо о вас отзывается. Идите за мной, и я постараюсь, чтобы вам не пришлось долго ждать. Входите.
Девушка закрыла за ним дверь и велела ему следовать за ней. Марти не переставал любоваться ее грациозной походкой, тонкой талией и длинными косами. Дорога была уже знакома Марти. Он помнил, что в развилке коридора нужно повернуть направо, чтобы попасть в кабинет еврея, однако девочка повела его в противоположную сторону, прямо в сад. Марти еще не забыл о недавнем визите в особняк Монкузи и теперь невольно сравнивал эти два сада. Сад прома был, несомненно, богаче, но этот сад, благодаря хорошему вкусу, ухоженности растений и продуманному расположению немногочисленных деревьев, казался намного милее и уютнее.
Девочка привела Марти к раскидистому каштану, который отбрасывал на траву густую и приятную тень. Под огромным деревом стоял большой сосновый стол, а вокруг него — четыре кресла и скамья. С ветки свисали качели — доска на двух веревках, украшенных цветами.
— Здесь вы сможете спокойно подождать моего отца, не изнывая на солнцепеке. Я сама всегда сюда прихожу, это мое любимое место.
Марти был польщен таким вниманием со стороны девочки. Когда же он хотел сказать, что готов подождать менялу в любом месте, та его опередила:
— Я принесу вам лимонада, чтобы освежиться. Я охотно составлю вам компанию, и мы немного поболтаем, пока отец не освободился.
Не дожидаясь благодарностей, девочка скрылась с быстротой и грацией газели.
Из глубины сада Марти наблюдал за домом. Отсюда он мог видеть ведущую в кабинет менялы галерею, а чуть дальше — две двери в жилые комнаты; дальше к дому примыкала пристройка, где, видимо, располагалась кухня. Он как раз задумался над этим, когда вернулась девочка с подносом в руках, на котором стояли графин с аппетитной на вид жидкостью лимонного цвета и два кубка.
— Если не возражаете, я составлю вам компанию, — сказала она. — Ведь лучше пить лимонад в компании, чем одному.
Поставив на стол поднос, она наполнила два кубка из графина.
— Благодарю, — с улыбкой произнёс Марти. — Ты очень любезна, но мне бы не хотелось, чтобы ты тратила на меня своё время. Когда я пришёл, мне показалось, что ты была чем-то занята. Не стоит так суетиться, я вполне могу подождать твоего отца и один.
— Не волнуйтесь, мои дела подождут. Лучше скажите: как вам лимонад?
Марти поднёс к губам кубок и, сделав глоток лимонада, и в самом деле превосходного, не замедлил сказать об этом девочке.
— Сладкий и свежий, ну прямо как ты.
Девочка ответила с неожиданной для ее возраста непринужденностью:
— Благодарю за комплимент. Я считаю, что девушки так и должны себя вести, если они хотят понравиться. Ведь любой мужчина, возвращаясь домой, надеется, что его там ждут тепло и забота.
— Поверь, если ты всегда будешь вести себя так, тебе не составит труда со временем найти хорошего мужа.
Девочка одарила его чарующей улыбкой.
В эту минуту открылась дверь кабинета Баруха, и на пороге показалась тщедушная фигура еврея. Подобрав полы длинного одеяния, он стал спускаться по лестнице в сад. Приблизившись, он произнёс самым обходительным тоном:
— Мой дорогой друг, чем я обязан вашему визиту? Дочь сообщила мне о вашем приходе, и вот теперь, покончив с делами, я наконец могу уделить вам внимание.
Марти тут же поднялся, поставив на стол недопитый кубок с лимонадом, и шагнул навстречу.
— Я нисколько не скучал в столь приятной компании. Могу вас поздравить: ваша дочь — очаровательное создание и прекрасная хозяйка.
— Благодарю за комплимент. Во всяком случае, мы с ее матерью делаем все возможное, чтобы привить трём дочерям правила хорошего тона, хотя порой меня одолевают сомнения — много ли они усвоили из того, чему их учили?
Девочка выжидающе улыбалась. Еврей повернулся к ней.
— Руфь, я охотно верю, что на этот раз ты хорошо себя вела. Я рад, что обошлось без недоразумений, и горжусь тобой, хотя и подозреваю, что тебе просто приглянулся наш гость. В противном случае ты бы нашла любой предлог, чтобы переложить заботу о нем на кого-нибудь из сестер. А теперь, будь добра, оставь нас и ступай в дом. Мать тебя уже заждалась.
Девочка, капризно надув губки, тут же поинтересовалась:
— Можно мне хотя бы допить лимонад? Вы же сами всегда твердите, что хороший хозяин не оставит гостя пить лимонад в одиночестве.
— Руфь, твои женские хитрости со мной не пройдут. Я уж как-нибудь сам приму гостя. Так что принеси ещё один кубок и уходи.
Марти с улыбкой наблюдал, как девочка поставила свой кубок на поднос и, присев в полупоклоне, направилась в сторону кухни.
— Прошу меня извинить, — улыбнулся старик. — Знали бы вы, какой тяжкий крест приходится нести отцу, который мечтал о сыне, а получил такое вот бабье царство.
— Ну, если ее сестры так же восхитительны, как эта малышка, вас ожидает золотая старость.
Еврей покачал головой.
— Сильно сомневаюсь. Женщина — это зеркало с тысячей граней, которые она демонстрирует, как ей вздумается и как ей выгодно, в зависимости от времени и обстоятельств. Сейчас вы ей понравились; возможно, вы отнеслись к ней, как к взрослой, и это ей польстило, если вспомнить, что ей всего одиннадцать лет, поэтому она показала себя с лучшей стороны. Но знали бы вы, каково мне бывает, когда они все втроем ополчаются против меня, да еще и вместе со своей мамашей! Ох, тогда я еще до начала битвы знаю, что она проиграна.
В эту минуту вернулась Руфь с новым кубком — для отца. Поставив его на стол, она принялась канючить:
— Вы же позволите мне остаться? Я буду сидеть тихо-тихо и, конечно, узнаю много полезного. Вы же столько раз говорили, что сеньор Барбани — необычайно умный молодой человек и беседовать с ним — одно удовольствие.
Еврей повернулся к Марти.
— Теперь вы видите, что я действительно хорошо отзывался о вас, — сказал он. — Но даже если бы я ничего не говорил, эта болтушка соврала бы без зазрения совести. — С этими словами он повернулся к дочери: — Руфь, сеньор Барбани пришел ко мне по делу, и не думаю, что его дела интересны для девчушки одиннадцати лет. Так что будь добра, иди в дом.
Девочка не спешила повиноваться, но тут послышался женский голос, окликнувший ее. Руфь, не скрывая неудовольствия, тяжело вздохнула и, состроив забавную гримаску, направилась к поджидающей в дверях матери.
Мужчины остались наедине. Еврей налил себе лимонада и предложил Марти сесть.
— Итак, мой дорогой друг, расскажите же наконец о причине вашего визита. Сдается мне, она должна быть чрезвычайно важной, если вы пришли без предупреждения. К тому же на этот раз вас не сопровождает падре Льобет, из чего я делаю вывод, что ваш рассказ предназначен исключительно для моих ушей.
Восхищенный такой прозорливостью менялы Марти тут же ответил:
— Видите ли, моя любовь и благодарность к падре Льобету вынудили меня обратиться к вам за советом, не ставя его в известность. Думаю, учитывая все обстоятельства, ему лучше не знать того, о чем я собираюсь вам рассказать, это может ему повредить, если станет достоянием посторонних ушей.
— Понятно. Я вас слушаю.
Марти принялся подробно рассказывать еврею о своих планах и о странном предложении графского советника. Когда он закончил, Барух, ни разу его не перебивший, погладил бороду и заговорил.
— Боюсь, что мне сложно будет что-то посоветовать. Мы, евреи, хорошо знаем, как действуют в определенных обстоятельствах иные продажные личности, без молчаливого одобрения которых преуспеть в этом городе почти невозможно. Когда мы открываем новое дело, к нему всегда присасывается такая вот пиявка, называющая себя партнером, на самом же деле этот партнер ничего не делает и ничем не рискует, но всегда имеет кусок от общего пирога. Вы можете сделать только одно: заставьте такую недалекую личность действовать себе на пользу, как эти мерзавцы сами пользуются чужим трудом. Иной раз даже от пиявок может быть польза — кровопускание многим спасало жизнь. Но будьте осторожны. Стоит зазеваться, как они высосут всю кровь до последней капли.
Марти жадно ловил каждое слово искушённого человека. А тот между тем продолжал:
— При заключении любой сделки составляется договор, и его условия должны удовлетворять обе стороны. Однако, имея дело с подобными личностями, нельзя забывать, что они поднаторели в судебных интригах и никогда не подпишут документа, который может поставить под угрозу их благополучие или репутацию. Если же вы откажетесь с ними делиться, вам останется лишь собрать вещи и убраться куда-нибудь подальше. Да и то не уверен, что это поможет: у подобных мерзавцев длинные руки...
— В таком случае, что я могу сделать?
— Обернуть ситуацию себе на пользу, — с лукавой улыбкой ответил Барух.
— Я вас не понимаю.
— Вы ведь сказали, что должны отдавать ему долю с каждой сделки, для которой требуется его подпись?
— Именно так.
— В таком случае покажите ему свою лояльность, а сами занимайтесь тем, что не требует его разрешения. Учитывая, что с других сделок он будет иметь свою долю, он должен понимать — стоит ему попытаться подрезать вам крылья, как он лишится немалых доходов. Иными словами, если он попытается заполучить весь пирог целиком, то может лишиться и причитающегося ему куска.
— Хотите сказать, что я должен вести двойную игру? — спросил Марти, до которого наконец дошёл смысл предложения.
— Да нет, просто несколько ограничить его аппетиты. Если вы начнете процветать сразу по нескольким направлениям деятельности, он сможет наложить свою лапу лишь на некоторые из них, но не на все. Короче говоря, насадите на крючок достаточно аппетитную приманку и позвольте ему этим и удовольствоваться, чтобы не претендовал на остальные ваши доходы.
— Я восхищен тонкостью вашего ума, Барух.
Губы Марти расплылись в доброжелательной улыбке.
Бенвенист остановил его предостерегающим жестом.
— Не думайте, что это лишь сегодня пришло мне в голову. Все это — плоды долгих лет, на протяжении которых евреям пришлось научиться ловить рыбку в мутной воде. Человек человеку волк, и чтобы выжить среди людей, приходится придерживаться правил римлянина Горация. Следуя наставлениям своего учителя Эпикура, он произнес золотые слова: ваш достаток должен быть таким, чтобы не возбуждать чужой зависти.
— И как же я должен действовать, чтобы вырваться из его лап?
— Любая деятельность в нашем городе в той или иной степени зависит от произвола чиновников. Исключение составляет морская торговля, а значит, основная ваша деятельность должна быть связана именно с нею: за пределами городских стен никто не сможет вам помешать, если только вы не затронете интересы других судовладельцев. И поверьте, это принесёт вам большие деньги. Разумеется, морские путешествия и доставка товаров морем связаны с определенным риском, и разрешение на морскую торговлю тоже зависит от графа.
— Я ничего в этом не смыслю, а потому не хочу строить воздушные замки. А вы знаете, как мне преуспеть на этом поприще и не потерпеть крах с первой же попытки?
— Возможно. — Еврей с минуту колебался, но в конце концов решил продолжить. — Кое-кто из моих друзей сейчас разрабатывают один проект, в котором вы тоже могли бы принять участие. Скажу откровенно, это нам было бы весьма выгодно, ведь если во главе предприятия не будет стоять христианин, осуществить проект едва ли удастся.
— Не будете ли вы любезны объяснить... — начал заинтригованный Марти.
— Судите сами. Морские перевозки связаны с большим риском: всегда можно потерять корабль, груз или то и другое сразу. Понимаете, о чем я?
— Пока да. Но все же...
— Позвольте мне продолжить. Первым делом нужно купить судно или хотя бы его третью часть на паях с другими владельцами, это уж на ваше усмотрение, хотя и здесь я вполне мог бы вам помочь. А уж затем, полагаясь на ваше чутьё, решать, какие закупать товары и где их хранить.
— Я понял, продолжайте.
— Чтобы добиться успеха, вы должны идти на голову впереди остальных. Я предлагаю вам совершенно иной способ ведения дел, чем принятый нынче у наших торговцев. Обычно они закупают товары в дальних краях, а затем везут их в Барселону.
Марти внимал каждому слову еврея.
— Так вот, — продолжил тот, — наша же торговля будет построена так, чтобы как можно меньше зависеть от погодных условий и грузоподъемности кораблей; для этого следует тщательно изучить, в каких товарах особенно нуждаются люди, живущие в тех местах, где нам предстоит останавливаться. Вот представьте себе, что за год до отплытия корабля вы заключили сделки о доставке грузов в каждый порт по пути. К примеру, вы вышли из Барселоны и сделали остановку в Перпиньяне, где выгрузили товары, представляющие особый интерес для этого города, и загрузили в трюм другие, чтобы доставить их в следующее место назначения. То же самое вы проделываете в Палермо, затем в Бриндизи и, наконец, в Рагузе, после чего возвращаетесь в Барселону, куда везете все, что необходимо ее жителям. Таким образом, вы сможете максимально использовать возможности корабля и, завершив круг, получите гораздо большую прибыль. Не говоря уже о том, что на обратном пути будете закупать в каждом порту товары для следующего плавания.
Марти не мог прийти в себя от изумления.
— Но скажите, сеньор, что вам мешает самому заняться этим делом?
— Для меня это было бы слишком рискованно. Прежде чем вложить в дело свои средства, люди должны быть уверены в надежности предприятия, а нам, евреям, не слишком-то доверяют.
— В таком случае, в чем ваша выгода?
— Сейчас объясню. Видите ли, море таит в себе множество опасностей: здесь и шторма, и мертвый штиль, и пираты подстерегают на каждом шагу. Один из наших людей в каждом порту будет по сходной цене покупать ваш груз вместе с кораблем. Таким образом, даже если в пути с кораблем что-то случится, вы ничего не потеряете, поскольку ни груз, ни корабль больше не ваши, все убытки ложатся на нас.
— Я вас не понимаю.
Еврей продолжил, не обращая внимания на то, что его перебили.
— Однако в том случае, если корабль благополучно прибывает к месту назначения, вы снова покупаете его у нас вместе с грузом, но по цене несколько большей, чем продали. Разница в цене и будет составлять нашу прибыль в этом предприятии. Таким образом мы можем приобрести сразу несколько кораблей, и тогда, даже если какой-то из них пропадет, доходы, полученные от остальных, возместят эту потерю, и риск сведется к минимуму. Вам не придется рисковать, а мы будем иметь постоянный доход, так что обе стороны получат хорошие прибыли.
— А если первый же наш рейс окончится неудачей — что тогда?
— Ну что ж, мы люди терпеливые, умеем работать и знаем, что рано или поздно сумеем добиться успеха.
Когда Марти покидал дом Бенвениста, в голове у него роилось множество планов. Он уже подсчитывал, сколько денег из отцовского наследства ему понадобится, чтобы купить пай на половину корабля, и как скоро окупятся эти расходы.
26
Плавание
Сентябрь 1052 года
Огромные волны швыряли корабль, как щепку. Море было сплошь покрыто белыми барашками, сверкали молнии, разрывая свинцовые тучи, а сквозь густую пелену ливня перепуганная команда не могла разглядеть ничего дальше собственного носа. Ни один предмет на корабле не остался на своем месте: все скользило и каталось. Матросы на палубе изо всех сил старались закрепить мешки, ездившие по всей палубе, от кормы до носа, и одновременно пытались разобрать приказы капитана, который во всю глотку орал с кормы, стараясь перекричать адский шум ветра и волн.
Кормчий вцепился в кормовое весло, пытаясь выровнять корабль. Матросы быстро и четко выполняли команды. Убрали все паруса, один лишь фок плескался на ветру. «Отважная», скрипя и кряхтя, словно огромный раненый зверь, отчаянно пыталась выровняться и, виляя кормой, медленно продвигалась к берегу, в надежде укрыться в одной из многочисленных бухт, которыми было изрезано побережье. На повороте удерживающий парус канат лопнул, и галера тут же потеряла управление. Пытаться ее выправить было крайне опасно.
Надсмотрщик бешено кричал, стегая кнутом несчастных гребцов, чтобы выполнить приказы капитана. Гребцы на правом борту отчаянно налегали на весла, чтобы помочь рулевому выровнять корабль. Северный ветер швырял галеру, то вознося на гребень волны, то бросая в самую бездну, готовую вот-вот смять несчастный корабль, как яичную скорлупу. Корабль нырял носом в воду, едва успевая выпрямиться, прежде чем новая волна опять кидала его вниз. Молнии порой сверкали так ярко, что становилось светло, как днем.
Капитан, испытанный морской волк и уроженец этих широт, прикрывая рукой глаза от морских брызг и струй дождя, отчаянно старался разглядеть недалекий берег, знакомый ему с самого детства, выискивая безопасную бухту, где можно укрыть корабль и спасти ценный груз.
Наконец, чутье подсказало ему, что они обогнули мыс, поскольку волны напирали уже не так свирепо, и корабль перестал надрывно стонать, словно его вот-вот раздавит. Все взоры устремились в сторону капитанского мостика. Даже гребцы, прикованные цепями к скамьям, прекрасно понимали, что их судьба напрямую зависит от того, удастся ли ли этому человеку спасти корабль.
Они вошли в бухту, которую капитан опознал как бухту Монжуа. Когда они укрылись в ней, он приказал встать носом к морю, а потом поднять весла и бросить якорь, отпустив канат на достаточную длину, чтобы он надежно зацепился за дно. Убедившись в этом, капитан закрепил бизань и осмотрел палубу. Потом велел как следует привязать груз и распределить сместившийся балласт.
Ночь в гостеприимной бухте прошла спокойно: шторм стих так же внезапно, как и налетел, и вскоре уже трудно было поверить, что совсем недавно корабль едва удержался на самом краю бездны. Когда зажгли кормовые огни и закончили приводить корабль в прежний вид, капитан спустился к кормовой каюте и тихо постучал в дверь.
— Кто там? — послышалось из-за двери.
— Капитан, сеньора.
Раздался какой-то невнятный шум, и дверь распахнулась.
Помещение было относительно просторным. У двух противоположных стен к полу были прикреплены две койки, посередине стоял низкий столик, над ним — окошко из маленьких стёкол в свинцовой раме. Окошко находилось значительно выше ватерлинии и пропускало в комнату немного дневного света, а по ночам можно было наблюдать, как сверкает вода в кильватере корабля.
Оттуда была вида также мачта с флагом Барселоны и качающийся на корме фонарь, установленный так, чтобы свет падал на мачту и флаг, давая понять, что место в бухте занято, если вдруг какому-либо из блуждающих в окрестных водах кораблей придет в голову причалить в этой тихой бухте. По другую сторону каюты, у самой двери, стояли шкаф и огромный сундук, в котором пронесли на борт корабля одну из пассажирок, а теперь в него сложили ее вещи.
В слабом свете из окошка капитан смог рассмотреть двух женщин. Судя по выражению лица компаньонки, она еще не опомнилась от страха после пережитого, но графиня, хотя явно страдала от морской болезни, выглядела спокойной.
— Когда мы прибудем в Барселону, я щедро отблагодарю вас, капитан, — приветливо произнесла Альмодис. — Ваш опыт и самообладание, проявленные в таких тяжких условиях, достойны награды.
— Сеньора, это долг любого моряка, — ответил капитан. — Я не сделал ничего особенного.
— Вы же сами знаете, что порой это весьма непросто, далеко не каждый на это способен.
— Вы переоцениваете меня, сеньора. Мне хорошо известно, кто доверил вас моим заботам, и нет ничего страшнее, чем разочаровать этого человека.
— Скажите, капитан, как там мои люди?
— Нам всем пришлось несладко. Одно дело мы, моряки, а тем, кто не привык к качке, пришлось совсем худо. Но должен сказать, ваши стражники проявили недюжинное мужество.
— Прошу вас, капитан, позовите Дельфина и шевалье Жильбера д'Эструка.
— Одну минуту, сеньора. Если вам больше ничего не нужно, я надеюсь, этой ночью вы сможете отдохнуть. А завтра, даст Бог, мы прибудем в Барселону.
Донья Лионор, компаньонка Альмодис, так и не перестала дрожать, когда капитан снова постучал в дверь.
— Войдите, — откликнулась Альмодис.
Перед ней предстал бледный как смерть Жильбер д'Эструк, сжимающий в руке берет.
— Ваш секретарь просит его извинить: он в таком состоянии, что просто не может встать с койки, и я его понимаю. Мои ребята тоже лежат в лежку после этой болтанки. Что до меня, то сколько я ни ходил в море — никогда не попадал в такую передрягу. Удивлен сеньора, что вы так прекрасно держитесь.
— Сеньор д'Эструк, в моем положении меня куда больше качки больше беспокоят другие проблемы.
И тут над палубой разнесся звонкий голос впередсмотрящего:
— Справа по борту корабль!
Рыцарь бросился к кормовому окну, чтобы посмотреть, что происходит на на палубе, и по всему кораблю разнесся зычный голос второго помощника:
— К оружию!
Неслышно подобравшись со стороны берега, из тумана медленно выплывали две шлюпки с обернутыми мешковиной веслами, чтобы не было слышно плеска, в каждой шлюпке сидело по десятку вооруженных до зубов мужчин, их вид не предвещал ничего хорошего.
Жильбер д’Эструк тут же понял, какая опасность угрожает его сеньоре.
— Графиня, не теряйте времени! Забирайтесь обратно в сундук и не высовывайте оттуда носа, пока опасность не минует или пока нас всех не убьют.
— Сеньора, сделайте то, о чем просит капитан, и позвольте мне надеть ваше платье, — вмешалась бледная как смерть Лионор. Пусть они примут меня за вас, тогда мы сможем выиграть время.
Альмодис повернулась к компаньонке с благодарной улыбкой.
— Благодарю, вы подсказали отличную идею. Сеньор, дайте мне кинжал и проводите меня к вашим людям.
— Сеньора, вы ставите меня в тупик, мне приказано...
— Теперь, сеньор, приказывать буду я! И не мешкайте, время не ждёт! Дайте мне кинжал, ступайте на палубу и готовьтесь к обороне.
Жильбер д'Эструк, отстегнул кинжал, закрепил его на поясе графини и вышел. Рыцари, уже успевшие прийти в себя после шторма, ожидали у двери каюты. Бернат де Гурб, Герау де Кабрера, Перельо Алемани, Гийем де Мунтаньола и Гийем д'Оло стояли с обнаженными мечами, готовые по первому слову отдать жизнь за графиню.
Матросы вооружались, чем только могли — хватали железные крючья, кинжалы, багры, в общем, что попадалось под руку. Едва женщины остались одни, Альмодис тут же приказала компаньонке:
— Надень мое лучшее платье и спрячься в глубине каюты! Скорее!
На палубе стоял страшный шум. Нападавшие карабкались на борта галеры, цепляясь абордажными крючьями. Альмодис наблюдала за происходящим через окошко в двери каюты. Люди Жильбера д'Эструка сражались как одержимые. Вскоре она разглядела того, кто командовал шайкой разбойников. Это был классический образец пирата, точнее сказать, бандита, поскольку нападающие пришли с берега, а вовсе не с другого корабля.
В одной руке он сжимал мавританский ятаган, в другой — джамбию. Глаз его пересекала повязка, голова повязана красным платком. Бой кипел по всей палубе с переменным успехом. Однако вскоре Жильбера д'Эструка и его рыцарей оттеснили к самым дверям кормовой каюты, которую они готовы были защищать до последнего вздоха, прекрасно понимая, что, если Альмодис попадет в руки бандитов, корабль и его команда будут обречены. Увидев, что главарь пробился к дверям каюты и вот-вот ворвется внутрь, Альмодис объявила Лионор:
— Я открою дверь и буду защищаться. Это все же меньшее из зол... И не бойся, я не брошу тебя одну.
С этими словами графиня отодвинула засов, подняла крышку сундука и забралась внутрь, наблюдая через решетку отдушины происходящее в каюте. А туда уже влетел бандит с ятаганом в руке. При виде богато одетой женщины на его изуродованном лице проступила улыбка. За эту даму можно будет получить неплохой выкуп, а заодно и порезвиться с нею.
Закрыв за собой дверь, разбойник убрал кинжал в ножны, бросил саблю на койку и бросился к перепуганной даме, решившей, что пришел ее последний час. Когда он уже собирался разорвать блио на бедной донье Лионор, лицо пирата вдруг побледнело. Альмодис воспользовалась шумом, выбралась из сундука и вонзила кинжал Жильбера д'Эструка меж лопаток пирата. Тот повалился на пол, вцепившись в одежду доньи Лионор и увлекая ее за собой.
— Лионор, сейчас не время падать в обморок, — затормошила ее Альмодис. — Вставай и подай мне абордажную саблю, она у тебя за спиной.
Вконец перепуганная женщина не могла понять, что взбрело в голову ее госпоже.
— Но, сеньора, что вы собираетесь делать?
— Воспользоваться преимуществом, которое нам подарила судьба. Давай ее сюда! Время дорого!
Перепуганная дуэнья схватила огромную саблю и протянула ее своей сеньоре.
Страшный удар обрушился на шею пирата, и отсеченная голова покатилась по палубе. Кровь залила каюту, забрызгав одежду компаньонки.
Битва была жестокой, но ни той, ни другой стороне не удавалось взять верх. Схватки шли по всей палубе. Внезапно Жильбер д'Эструк с удивлением увидел, как графиня Альмодис поднимается по трапу из каюты, держа за волосы окровавленную голову пиратского капитана. Добравшись до верхней ступеньки, она облокотилась на перила. В свете пылающих факелов она казалась подлинным порождением ада. Высоко подняв на вытянутой руке свой кровавый трофей, она крикнула:
— Смотрите, глупцы, что случается с теми, кто посмеет поднять руку на графиню Барселонскую!
На палубе установилась мертвая тишина, а в следующий миг воздух взорвался ликующими криками победителей, нападавшие же при виде головы своего главаря с воплями ужаса попрыгали в море. Тех, кто не успел броситься в море и не лежал мертвым на палубе, взяли в плен и заперли в трюме. Затем перевязали раненых, оказав им посильную помощь. После этого начали понемногу чинить такелаж и заменять порванные паруса. Чтобы привести в порядок потрепанный корабль, понадобился целый день. Лишь на следующее утро капитан приказал взять курс на Барселону. В сумерках, когда впереди уже замаячили стены города, Жильбер д'Эструк, стоя на носу корабля, признался одному из своих отважных товарищей, Гийему д'Оло, у которого после сражения были перевязаны голова и рука.
— Клянусь, никогда не встречал подобной женщины. Все на свете готов отдать, лишь бы стать ее другом.
— Не так-то это легко: она недоверчива; мало кому удалось заслужить ее дружбу. Думаю, на свете есть лишь один человек, который может назвать себя ее другом — это карлик из ее свиты.
— Он ей больше не друг. Когда на нас напали пираты, он спрятался в бочке из-под селедки и просидел там, пока опасность не миновала, и лишь тогда явился в каюту графини. Она тут же выгнала его со словами: «Пошел вон, дерьмо собачье! Ступай жить в сортир, там самое место для такого как ты!»
27
Морской промысел
Барселона, осень 1052 года
Все эти месяцы Марти одолевали две идеи, не давая покоя ни днем, ни ночью. И если первая затрагивала лишь его чувства, то от второй напрямую зависело все его будущее. Хотя на первый взгляд они вроде бы не были связаны между собой, Марти чувствовал, что если второй план потерпит неудачу, это самым пагубным образом отразится и на первом.
Из окна своей спальни он мог любоваться морем и плывущей над горизонтом полной луной. А стоило ему закрыть глаза, как ему мерещилась Лайя, дочь Берната Монкузи, владычица его снов и мечтаний. Она смотрела на него серыми глазами, будто хотела что-то сказать.
Марти не был пустым мечтателем и прекрасно понимал, что, если хочет приблизиться к ней, то должен стать гражданином Барселоны и доказать ее отцу, что действительно является достойной партией для Лайи. Дела его шли в гору; виноградники в Магории и особенно водяная мельница приносили хороший доход, и потраченные на покупку поместья и создание оросительной системы семьсот манкусо уже успели окупиться.
Марти рассчитывал, что уже к концу зимы он сможет запустить и главное свое предприятие, правда, он еще хотел прикупить два соседних участках земли, после чего его доходы должны будут возрасти вдвое, а то и втрое. Однако с той памятной беседы с Барухом в глубине души он знал, что его будущее связано с морем. На прошлой неделе он вновь навестил менялу и передал ему на хранение свои сокровища, оставив себе лишь сумму, необходимую, по словам Баруха, для покупки пая на половину галеры, и небольшой капитал на случай непредвиденных расходов.
Задача была непростая — ведь предстояло не только купить корабль и найти честного и надежного партнера. Кораблем кто-то должен управлять, а потому нужен капитан — храбрый и опытный моряк, способный провести в море долгие месяцы и справиться с любой непогодой. Ему придется выходить в море еще до начала сезона, чтобы успеть загрузиться товарами и опередить возможных конкурентов. Ремесло судовладельца и впрямь не из легких, но молодость, честолюбие и стремление к цели способны преодолеть любые преграды.
Эти две идеи не давали ему спать по ночам. Одну из них внушило ему само Провидение, а другую — порывы юного сердца.
Но вскоре обстоятельства сложились так, что Марти даже подумал, будто это отец, где бы он ни был, повернул колесо судьбы. Однажды он прогуливался по верфи возле горы Монжуик, где корабелы и плотники строили и чинили суда, которым в недалеком будущем предстояло бороздить моря. Его внимание привлек один из кораблей с корпусом необычной пузатой формы. Марти подошел поближе, чтобы как следует присмотреться.
Киль корабля с ребрами, уже наполовину покрытыми дубовыми досками обшивки, лежал на полозьях, а те в свою сторону, были установлены на дне длинной и глубокой траншеи, вырытой в песке, такого размера, что корабль помещался в ней целиком, от носа до кормы. Вокруг корабля высились леса, чтобы рабочим было удобно перебираться с места на место. Работы напоминали муравьиную возню: каждый занимался своим делом, не мешая другим. И тут Марти обратил внимание на человека, который показался ему смутно знакомым. Он стоял среди канатчиков — те скручивали из тонких нитей веревки и окунали их в котел с разогретой смолой, которую двое мужчин помешивали толстыми палками, чтобы не застывала. Марти приблизился и внимательно пригляделся к незнакомцу.
В его памяти сохранился образ голого мальчика, плескавшегося в волнах среди скал одной из крошечных бухточек залива Росас. Теперь же перед ним стоял мужчина с платком на голове, густой каштановой бородой и золотой серьгой в правом ухе. Несмотря на грандиозные перемены, Марти узнал в нем своего старого друга Жофре, с которым они вместе с Феле играли в детстве.
Все еще не веря собственным глазам, Марти не радостно крикнул:
— Жофре?
Тот повернулся, сощурив глаза на человека, окликнувшего его по имени. Внезапно его лицо озарила широкая улыбка, и он ответил тем же тоном:
— Марти?
Без лишних слов они бросились навстречу и крепко обнялись. Когда же старые товарищи разжали объятия, то долго смотрели друг другу в лицо, все еще не в силах поверить, что снова вместе.
В скором времени они уже сидели за кувшином вина в портовой таверне «Старый тритон». Друзья никак не могли наговориться, засыпая друг друга вопросами и вспоминая прошлое. Даже когда в близлежащих церквях зазвонили колокола, созывая к вечерне, у обоих еще оставалось много невысказанных новостей. Марти предложил Жофре съехать из пансиона, где тот остановился, и перебраться в его дом на все то время, пока приятель живет в Барселоне, присматривая за строительством того самого корабля, который Марти видел на верфи. Они перенесли вещи Жофре в дом Марти и до глубокой ночи сидели на веранде, рассказывая друг другу о своей жизни.
Теперь больше говорил Жофре.
— Видишь ли, мне не так повезло, никто не оставил мне наследство. Моей страстью, как ты знаешь, всегда было море. Я любил его как капризную и непостоянную женщину. Я никогда не смогу жить вдали от рокота волн. Такова моя судьба. И вот однажды я простился с родными и друзьями и уехал в Росас, где три или четыре месяца ошивался в порту, подряжаясь грузить и разгружать корабли, прибывавшие из дальних широт. Там в конце концов и окончилось мое бродяжничество: удивительные истории, которые рассказывали моряки в портовых тавернах под бесконечные возлияния, пленили мое воображение. Однажды в порт пришел генуэзский корабль, нагруженный по самые борта, чтобы разгрузить эту громадину, потребовалось несколько дней. Сам не знаю почему — может, я понравился капитану, или просто в моей компании он мог спокойно напиваться до чертиков, потому что в первую же ночь, когда он уснул в таверне прямо за столом, я отвез его на корабль в маленькой шлюпке, которую одолжил у одного друга, в общем, и с тех пор стал его правой рукой. Нужно ли говорить, что я был на седьмом небе от счастья и с того дня начался мой роман с морем?
Марти внимательно слушал рассказ о приключениях друга.
— Не стану утомлять тебя подробным рассказом, как жил все эти годы, — продолжил тот. — Я служил на разных кораблях и побывал во всех портах Средиземноморья, от Геркулесовых Столбов до Константинополя, побывал в разных передрягах и пережил множество опасностей. И однажды я решил, что на море гораздо выгоднее быть охотником, чем жертвой, чтобы не бегать, как заяц, от всех подряд. Во время одного из последних рейсов я оказался на острове Маон, где познакомился с Хоаном Сафортесой, пиратствующим в районе Майорки и Сицилии. Судьба мне явно благоволила, и однажды Провидение выбросило мне счастливый жребий. Год спустя при нападении на пизанское судно мой капитан погиб. По обычаю моряков мы предали его тело морю, а я временно взял на себя командование, пока не вернёмся на остров. За это время мы захватили ещё два корабля, один направлялся в Бланес, а другой — в Сеуту. По странному капризу фортуны, капитан пиратского корабля имеет право забирать двойную долю добычи. Мы снова вышли в море через три месяца, и тогда я по праву стал капитаном. Этим опасным ремеслом я занимался несколько лет — пока не скопил достаточно денег, чтобы купить собственный корабль и осуществить мечту всей жизни. На паях с вдовой Хана Сафортесы, я вложил в постройку корабля. Но у женщины в ее положении, вынужденной кормить четырёх едоков — себя саму и троих детей своего старшего сына, утонувшего пять месяцев назад во время ужасного шторма, просто нет денег, чтобы внести свою долю. Из-за этого неверного шага я оказался на грани разорения, ведь если я не успею спустить корабль на воду до начала сезона, мне вообще никогда не придется на нем плавать, придется продать пай и заняться чем-нибудь другим.
Теперь Марти точно знал, что отец помогает ему даже с того света.
— Скажи, почему у корабля корпус такой странной формы?
— Впервые такой корабль я увидел в Росасе, когда разгружал мешки и ящики, и он навсегда остался в моей памяти — его капитан нанял меня грузчиком. Все годы, что я бороздил моря на разных кораблях, я видел его во сне: он стоял перед глазами, как живой. Никакие другие корабли не обладают такой грузоподъемностью, и я решил построить свой по тому же образцу.
— Говоришь, вдова хочет продать свою долю?
— У нее нет другого выхода. Оставленное мужем наследство тает, а расходы растут, мои же средства на исходе. К тому времени, когда корабль будет готов, у него уже сменится владелец.
— Жофре, а этим владельцем стану я? — спросил Марти. — Если вдова согласится продать свой пай, можешь считать меня своим новым компаньоном.
Вот так просто все и решилось. На следующий день в присутствии нотариуса, друга Баруха, они заключили сделку. Теперь друзья стали владельцами корабля, еще не получившего морского крещения. Две трети принадлежало Марти, и одна — Жофре. Тем не менее, последний все же осуществил свою мечту, ступив на палубу в роли и владельца, и капитана.
28
Прибытие ко двору
Барселона, осень 1052 года
«Отважная» миновала пролив и приближалась к конечной цели плавания. Перегруженный корабль еле полз, к тому же к корме привязали захваченную у налетчиков шлюпку. На другой сбежали немногие уцелевшие пираты. Моряки выбивались из сил, стараясь благополучно довести до берега пострадавший корабль. Ветер надувал паруса, весла гребцов работали вовсю, но корабль все равно едва двигался. Графиня Альмодис стояла на носу, глядя в сторону горизонта, словно ожившая статуя, ее рыжие волосы развевались на ветру.
Рамон Беренгер, граф Барселонский, беспокойно мерил шагами пляж перед воротами Регомир, не в силах сдержать нетерпение. На сторожевой башне зажгли сигнальный огонь, и это означало, «Отважная» вот-вот достигнет конечной точки плавания. На взмыленном коне прискакал гонец и протянул графу письмо в кожаном тубусе.
— Сеньор, последняя часть плана выполнена, — доложил он.
Рамон Беренгер остановился, как и его свита, нетерпеливо развернул письмо и прочел его.
В послании сообщалось, что с башни Аренис заметили «Отважную», идущую со скоростью около пяти узлов. Похоже, корабль поврежден и испытывает трудности, но все же способен двигаться. Таким образом, если ветер не переменится, он доберется до Барселоны уже на закате, к вечерне.
Рамон несколько раз пробежал глазами письмо и сказал вегеру [16] Олдериху де Пельисеру:
— Если ветер не переменится и не стихнет, к вечеру они будут в Барселоне. Действуйте по плану. Когда корабль пристанет, я хочу быть рядом с ней.
— Не забывайте, сеньор, что епископ Одо де Монкада и главный нотариус Гийем де Вальдерибес хоть и объявили о своем приезде, но еще не прибыли.
— Вы же сами понимаете, Олдерих, после всех испытаний и волнений в связи с этой авантюрой, я не желаю ни на минуту откладывать встречу с моей дамой. К тому же я подозреваю, что епископ не случайно так запаздывает. Я знаю, что не имею права вмешиваться в дела Рима, о чем мне прямо заявили, но и Рим не имеет права вмешиваться в мои дела и судить о моих поступках.
— Но ведь и главный нотариус тоже почему-то не спешит. Что вы на это скажете?
— Я приказал ему приехать, и если он посмеет ослушаться, я его в порошок сотру. Он такой же мой подданный, как и любой другой, и, даже если он сам считает иначе, он все же находится в моей власти. Так что займитесь делом.
Олдерих тут же направился к боцману — тот стоял возле графской фелюги, плавно покачивающейся на волнах у берега, ожидая распоряжений.
Это было судно длиной в тридцать шагов длиной, выкрашенное в синий и серебристый цвета и оснащённое двенадцатью парами весел. На палубе был установлен великолепный шатер из расшитого золотом бархата, вмещающий восемь человек. Внутри имелись роскошные сиденья из дамаста в цветах золота и граната — цветах графского дома Барселоны. Гребцы в подвернутых до колен синих штанах и рубахах цветов Беренгера дожидались, пока носильщики доставят сеньоров на палубу в роскошных портшезах, чтобы те не замочили ног.
Стоило им подняться на борт фелюги, как из глоток всех присутствующих вырвался радостный крик: на горизонте показался силуэт «Отважной».
Прошло немало времени, прежде чем два корабля встретились.
Когда вся компания разместилась в фелюге, гребцы подняли весла и, дружно взмахивая ими под барабан кормчего, направили фелюгу к буйкам цветов Барселонского дома, они держались на цепях с камнем на конце. Когда фелюга приблизилась к галере, там уже держали наготове железные крюки и крепко сцепили корабли между собой. Затем с галеры сбросили веревочную лестницу, чтобы рыцари могли подняться на палубу.
Забыв обо всех приличиях, Рамон Беренгер I, граф Барселонский, помчался как одержимый к ближайшей абордажной доске, не дожидаясь, пока рыцари свиты бросят ему верёвочную лестницу. Вслед за ним на «Отважную» перебрались остальные. Едва завидев графа, его рыцари, без колебаний рисковавшие жизнью по приказу своего сеньора, разразились радостными криками. Не скрывая бурной радости, эскорт графа и рыцари на «Отважной» едва не задушили друг друга в объятьях.
Крепко обняв рыцарей одного за другим, Рамон Беренгер отозвал в сторону Жильбера д'Эструка.
— Где графиня? — спросил он дрожащим от нетерпения голосом.
— В своей каюте, ждёт вас. Только она просила передать, чтобы вы к ней не входили, пока она не позовёт.
— Тогда расскажите пока, как вы добрались, мой добрый Жильбер.
— Сеньор, — ответил Жильбер, на лице которого была написана усталость после нелегкого путешествия, — это слишком долгая история. У нас впереди достаточно времени, рассказов о наших приключениях хватит на много дней, но кое о чем я все же скажу прямо сейчас: если бы не мужество и сила духа графини, возможно, никого из этих закаленных в боях воинов и отважных моряков сейчас не было бы в живых и некому было бы рассказать вам об этом.
— Ради бога, расскажите, что случилось? А не то я с ума сойду от беспокойства.
Д'Эструк подробно рассказал, как вела себя Альмодис в те страшные минуты, когда на них напали пираты.
— Могу сказать, сеньор, что если супруга подарит вам наследника, он станет гордостью вашей армии.
В эту минуту дверь каюты открылась, и перед ними предстала донья Лионор.
— Сеньор, — почтительно присела она в реверансе, — графиня Альмодис готова вас принять.
Могущественный властитель Барселоны вошел в каюту, сам не свой от волнения, чувствуя себя восторженным юнцом, спешащим на первое в жизни свидание.
Влюбленная пара долго не покидала капитанской каюты. Уже в сумерках графский корабль в окружении сияющих огнями рыбацких лодок достиг причала, где уже собралась целая толпа, чтобы встретить свою новую сеньору и проводить ее к церкви святого Иакова. Люди несли свечи и лампады, их ликование не знало границ. По прибытии во дворец Альмодис пришлось выйти навстречу толпе. Страже едва удалось сдержать людей, выставив вперед алебарды.
Лишь один человек не разделял всеобщего ликования — Педро Рамон, первенец Рамона Беренгера и его первой жены, покойной Изабеллы Барселонской. Укрывшись за плотной портьерой на потайном балконе второго этажа, он пожирал глазами точеный профиль ненавистной шлюхи, посмевшей посягнуть на то, что ей не принадлежит. В эту минуту она как раз подняла руку, приветствуя ликующую толпу.
Часть вторая
Земля и море
29
Отвергнутое предложение
Барселона, 1053 год
Марти решил воспользоваться тем, что предприятие, к которому некоторым образом имеет отношение Бернат Монкузи, идет как по маслу, чтобы обратиться к этой важной персоне с давно взлелеянной просьбой. Он позвонил в колокольчик, и в комнатку, где он обдумывал свои планы, вошла Катерина.
— Омар дома? — спросил Марти.
— Он ушел, хозяин.
— Не называйте меня хозяином, Катерина, мне это не нравится. Вы не знаете, куда он ушел?
— Думаю, на мельницу, потому что уехал верхом. По делам в городе он бы пошел пешком.
— Хорошо, тогда приготовьте мне голубую котту [17] и серые штаны и скажите на кухне, чтобы меня не ждали.
— Одну минутку, хозяин... прошу прощения, сеньор.
В скором времени Марти отправился в контору Берната Монкузи.
Конрад Бруфау, секретарь советника, чьего расположения Марти добился в первый же день, прекрасно знал, что его сеньор готов принять Марти в любое время, его не нужно держать в приемной.
— Сеньор примет вас, как только закончит беседу с главным казначеем дворца, — сообщил секретарь.
Уже давно дожидающийся в приемной провинциальный дворянин возмутился:
— Я подам на вас жалобу смотрителю городских рынков, — пригрозил он.
Конрада Бруфау это нисколько не испугало.
— Вы собираетесь учить меня, как выполнять мою работу?
— Я лишь хочу сказать, что сейчас моя очередь, а этот сеньор должен войти после меня.
— Если вы желаете, чтобы ваше прошение отклонили, то так и поступим, — заявил секретарь. — Сейчас пойду к советнику и доложу ему, что вы требуете немедленно заняться вашим делом, а дон Марти Барбани может и подождать. Тогда вам уж точно откажут, поскольку моему сеньору вряд ли понравится, что заставили ждать кабальеро, который пользуется его личным расположением и имеет свободный доступ в его кабинет. Так что, если желаете, я немедленно доложу о вас сеньору.
— Простите... — пробормотал кабальеро. — Я не знал, что таковы распоряжения советника. Я понимаю, что дела графства важнее, чем нужды какого-то частного лица.
Марти, уже успевший потереться среди придворной знати и научиться себя вести, невозмутимо наблюдал за перепалкой посетителя и секретаря.
Бруфау пошел доложить о госте, и провинциал замер с открытым ртом, когда советник собственной персоной показался на пороге кабинета, чтобы лично поприветствовать вновь прибывшего.
Как только за Марти закрылась дверь, советник по-отечески похлопал его по плечу и предложил сесть у стола.
— Какой приятный сюрприз, юноша! — воскликнул он. — Пожалуй, вы единственный человек во всем графстве, которого мне действительно приятно видеть.
Сняв плащ и устроившись в кресле, Марти ответил:
— Простите, что так долго не заглядывал к вам, сеньор. Во-первых, дела отнимают много времени, а во-вторых, мне не хотелось напрасно вас беспокоить.
Бернат Монкузи развалился в кресле, сложив на груди руки.
— Что ж, я вас слушаю, — сказал он.
Марти всеми силами старался не показать своего волнения. Тем не менее, его скромный жизненный опыт подсказывал, что сначала надо постараться умаслить советника, пользуясь его жадностью. А потому он первым снял с плеча сумку и положил ее на стол. Советник поднял на него вопросительный взгляд, и Марти поспешил ответить:
— Здесь, сеньор, ваша доля, как мы договаривались.
С этими словами он подвинул сумку советнику.
— Что это вы мне принесли?
— Взгляните сами.
Не сводя с Марти глаз, Монкузи развязал тесемку и осторожно открыл сумку. От взора Марти не укрылось, как в лисьих глазках зажегся алчный огонек.
— Что это такое? — спросил советник.
— Ваша доля прибыли по договору.
— Но тут явно больше, чем мне причитается.
— Разумеется, — ответил Марти. — Ведь я собираюсь отправиться в долгое путешествие и вернусь лишь в будущем году, а потому все дела я оставляю в руках доверенных людей, а потому посчитал, что будет справедливо, если я передам вашу долю за несколько месяцев вперед. Если я задержусь в плавании дольше, чем рассчитывал, то доплачу недостающее, но в любом случае мне бы не хотелось, чтобы вы понесли убытки по моей вине.
— Я так понимаю, вы собираетесь отплыть на корабле, который купили у этой вдовы с Майорки?
Лицо Марти удивленно вытянулось: он даже не предполагал, что советнику может быть об этом что-то известно.
— Не совсем так, — ответил он. — Корабль еще не готов, но вы правы, я собираюсь отплыть на нем... Но откуда вы это знаете? Я никому не рассказывал.
— Гуляющий по улицам Барселоны ветер доносит до моих ушей все новости.
Марти сразу понял тонкий намек.
— Просто не вижу необходимости в том, чтобы оповещать всех вокруг, что решил помочь другу детства, оказавшемуся в затруднительном положении. Даже падре Льобет всегда говорит, что правая рука не должна знать, что делает левая, — ответил он.
— Поистине библейский ответ.
— А кроме того, я хочу повидать мир, а лучшего случая и не придумаешь. К тому же сейчас самое время для торговли: в графстве царит мир, и мне помогают могущественные особы, которые принимают такое участие в моих делах.
— Вы хотите сказать, в наших делах, — с легкой улыбкой поправил его Монкузи.
— Разумеется. Вы же сами видите, что я передаю вам долю от еще не полученных доходов.
— И скажите, раз это касается и меня, кому вы передали дела на время своего отсутствия?
— Мой раб Омар — непревзойденный знаток в возделывании земли. Падре Льобету я отдал на хранение свои деньги, и есть еще один весьма сведущий даян из Каля, необычайно проницательный делец, который в нашем предприятии займется непосредственно торговлей.
— Ну что ж, я хорошо его знаю и вполне одобряю ваш выбор. Я рад, что вы вверили свои дела в руки Баруха Бенвениста, но мне не понравилось, что вы ничего не сообщили об этом мне. Видите ли, я стараюсь по возможности не иметь дел с евреями, за исключением лекаря.
Марти нисколько не удивился, что смотритель рынков знаком с евреем, и поспешил ответить:
— Вот поэтому я и хочу решить все вопросы до своего отъезда, а кроме того, составил завещание, назначив своим душеприказчиком падре Льобета. А если со мной что-то случится, вы должны получить свою долю доходов.
— Мудрое решение.
Марти прекрасно осознавал, что в эту минуту все его будущее висит на волоске.
— Итак, молодой человек, когда вы собираетесь отплывать?
— Через пару месяцев.
Советник поднялся со стула.
— Ну что ж, если вам больше ничего не нужно...
Сердце Марти едва не выскочило из груди.
— Видите ли, сеньор, — начал он. — Вы оказали мне честь своим доверием и даже несколько раз приглашали в свой дом на обед, и теперь я хотел бы ответить вам такой же любезностью, послав вашей дочери подарок в знак моего к ней уважения и восхищения.
Советник мгновенно изменился в лице.
— Я вас слушаю, — сухо произнёс он.
— Впервые я встретил вашу дочь вовсе не в вашем доме.
— А где же тогда? — осведомился Монкузи со смесью недоверия и любопытства.
— Уже довольно давно, на невольничьем рынке, куда я пришёл купить слуг.
— И что же?
— В тот день, повинуясь минутному капризу, я купил одну мусульманку, непревзойденную певицу, которая помогала мне коротать время долгими летними вечерами.
— И какое это имеет отношение к нам?
— Дело в том, что с тех пор ваша дочь обижена на меня, поскольку тоже хотела купить Аишу — так зовут эту рабыню — но в конце концов я дал большую цену.
— Продолжайте.
— И вот я подумал, что, поскольку надолго уезжаю, а также в знак признательности вам, будет лучше, если Аиша теперь поможет коротать вечера вашей дочери, ведь сам я все равно долго не смогу пользоваться ее услугами. Жаль, если исключительный талант, доставляющий столько радости, пропадет впустую.
Бернат Монкузи ненадолго задумался; это минутное молчание показалось Марти вечностью. Наконец, советник снова заговорил — медленно и отчетливо:
— Дорогой юноша! Наша дружба уже принесла нам обоим большие выгоды, и мне бы хотелось, чтобы эти отношения и дальше оставались столь же теплыми и приятными. Да вы и сами в этом заинтересованы. А посему вынужден вам сказать, что моя дочь — или, вернее, падчерица, поскольку в свое время я женился на ее овдовевшей матери, смысл всей моей жизни. Я знаю, что рано или поздно придется выдать ее замуж, если она, конечно, не захочет уйти в монастырь, чему я был бы только рад. Я, конечно, принимаю ваше предложение, но при этом не желаю, чтобы вы питали какие-то надежды в отношении моей дочери. Вы не лишены достоинств, но не гражданин Барселоны, чего, как вы знаете, крайне сложно добиться, а потому не можете претендовать на ее руку. Я ясно выразился?
— Вполне, сеньор.
— Может, я и не благородный дворянин, — продолжал Монкузи, — и нынешнего высокого положения достиг ценой многолетних усилий, но я полноправный гражданин Барселоны, а это не многим ниже, чем дворянский герб. Барселона — единственный город на Средиземном море, чье гражданство дает такие привилегии. Я пользуюсь личным доверием графа, служение которому всегда было целью моей жизни. Сами понимаете, какой-то выскочка не может даже мечтать о Лайе. Я рассчитываю выдать ее замуж за человека, по меньшей мере равного ей по положению, и, к величайшему моему сожалению, поскольку вы мне симпатичны, это не вы.
Марти почувствовал, что сердце его вот-вот разорвется от боли, но комплимент его прибодрил.
— Я это понимаю, — ответил он, — но не сочтите за дерзость, во имя нашей дружбы, признаюсь вам, я готов положить жизнь, чтобы заслужить то звание, которого сумели добиться вы, и тогда, став полноправным гражданином, попрошу у вас ее руки.
— Ну что ж, попытайтесь. Это ваше право. Но должен предупредить: путь долгий и трудный, к тому же крайне маловероятно, что вы добьетесь успеха. Для этого нужны могущественные покровители, а вы — всего лишь новичок, пусть даже решительный и мужественный, чем вы мне особенно симпатичны. Но одно дело — оказать вам покровительство, на которое вы всегда можете рассчитывать, и совсем другое — породниться с вами. Так что, во имя нашей дружбы, я бы посоветовал вам направить усилия на процветание нашего дела. Вот увидите, со временем юношеские страсти утихнут сами собой.
— Я благодарен вам за совет, — ответил Марти, обиженный снисходительным тоном собеседника, — но не забывайте, я человек упорный, и не имеет значения, в какой области добиваться успеха. И потому скажу прямо: я готов сделать все, чтобы стать достойным руки вашей падчерицы.
Голос Берната Монкузи эхом разнесся по комнате.
— Уж поверьте, пока вы не добьетесь гражданства, мое решение останется неизменным.
— Я так понимаю, что вы согласны принять мой подарок? — спросил Марти.
— Разумеется, — со вздохом сдался советник. — А сейчас... Позвольте поблагодарить вас, что так передали мою долю заблаговременно. От всего сердца желаю вам благополучного плавания.
Марти, понимая, что говорить больше не о чем, поднялся с кресла.
— Да пребудет с вами Бог, советник, — сказал он.
Молодой человек взял плащ и сумку и покинул кабинет человека, от расположения которого зависело все его будущее, и с каждым днём внушающего ему всё большую неприязнь.
30
Понс III Тулузский
Граф Понс III Тулузский держал совет с Робером де Суриньяном и аббатом Сен-Жени. Граф возлежал на простом ложе, с целой горой подушек под правой ногой — он страдал от очередного приступа подагры. В большом камине пылали крупные поленья, которые усердно подкладывал в огонь шут Батистон по прозвищу Коротконогий, внимательно прислушиваясь по своей давней привычке к разговору хозяина с его советником и монахом.
— Здесь нечего даже и думать. Парочка вступила в позорный сговор в тот самый день, когда он бесстыдно злоупотребил моим гостеприимством, а вся эта история в лесу Сериньяк была всего лишь комедией для моих людей, чтобы они не стали защищать графиню.
— Да, пожалуй, — протянул Робер де Суриньян. — Если бы графиню захватили обычные разбойники, они бы уже давно потребовали выкуп.
И тут вмешался аббат Сен-Жени:
— Я говорил вам об этом еще прошлым летом, когда обратил внимание на странное поведение графини. Помните, что вы тогда сказали? Что у меня старческое слабоумие, и мне мерещатся призраки. К счастью, чутье заставило меня поставить в известность Его Святейшество, чтобы церковь приняла меры. Прелюбодеяние — более чем серьезный проступок для любого христианина, а уж если речь идет о властителях — и вовсе немыслимое дело.
— Я весьма благодарен вам за это, — ответил граф. — Сказать по правде, я никогда не верил, что моя супруга способна на измену. С возрастом я стал слишком доверчив, но клянусь Богом, эта парочка дорого заплатит за поруганную честь Тулузы.
— Сеньор, эти негодяи подло обманули ваше доверие, — сказал Суриньян. — Если бы вы присутствовали в тот день за ужином, то, возможно, почуяли бы, что дело нечисто.
— Сейчас уже поздно сожалеть, — ответил граф. — Теперь нужно подумать, как выбраться из этой позорной ситуации с наименьшими потерями. Если не принять срочных мер, я стану посмешищем всей Септимании. Аббат, немедленно позовите писца, я продиктую письмо к понтифику и как можно скорее отправлю гонца в замок Святого Ангела.
Советник с аббатом ушли, и в комнате остались лишь двое: покинутый супругой граф и шут, который пользовался его доверием и умел развеселить.
— А ты, Батистон, не заметил ничего странного той ночью? — спросил граф. — Или, может быть, шут графини о чем-то проговорился?
— Дельфин мне, конечно, друг, но прежде всего он — верный пёс своей госпожи. Он ни за что ее не выдаст. Но все же, сеньор, с вашего позволения, сейчас, когда никто нас не слышит, я могу сказать вам нечто утешительное.
— Говори, Коротконогий.
— Там, где я родился, существует поговорка...
— Кончай тянуть кота за хвост, — рассердился граф. — Говори, коли уж начал.
— Короче, у нас говорят так: «Повезло рогоносцу — жена другому досталась». Так что я думаю, сеньор, стоит переложить эту ходячую головную боль на графа Барселонского: пусть теперь он с ней мучается.
— Пожалуй, ты прав, Батистон. Но все же имей в виду, только посмей кому-нибудь во дворце повторить эту поговорку, я тебе вот этой палкой башку расшибу.
С этими словами Понс Тулузский погрозил ему посохом, на который всегда опирался во время приступов подагры.
Несколько дней спустя камергер Папы Римского монсеньор Биларди получил письмо следующего содержания:
«Писано в Тулузе 2 февраля 1053 года.
Его Святейшеству Виктору II от Понса III Тулузского.
Ваше Святейшество!
Осмелюсь просить Вашей справедливости, как преданный слуга Церкви, чья честь была вероломно поругана.
Некоторое время назад мне довелось принимать в моем замке графа Барселоны Рамона Беренгера I. Я принял его со всеми почестями, как надлежит доброму христианину и хозяину дома. Я знаю, что аббат Сен-Жени уже уведомил Вас о случившемся, а потому не стану отнимать у Вас время, повторяя все то, что Вам и так уже известно. Должен лишь добавить, что в настоящее время моя неверная супруга находится в Барселоне вместе с графом, где живет с ним во грехе. А посему осмелюсь просить Вашего высочайшего позволения расторгнуть мой брак с Альмодис де ла Марш, который лишь пятнает мое доброе имя и честь истинного христианина.
Умоляю вас войти в мое положение и исполнить мою просьбу.
Подумайте также о благе Тулузы, учитывая, что мое графство всегда оставалось верным Священному Престолу. Разумеется, на протяжении этих долгих месяцев я рассматривал и другие варианты, но в данных обстоятельствах здравый смысл и забота о благе вверенных мне земель не советуют объявлять Барселоне войну и раздувать скандал, чьи искры могут повредить и другим христианским королевствам. Тем не менее, я не согласен терпеть этого бесчестья. Тулуза не привыкла к подобным оскорблениям, и если Вы не прислушаетесь к моим смиренным мольбам, последствия могут быть самыми непредсказуемыми.
Ваш покорный слуга, осмелившийся просить Вашего заступничества в надежде на Вашу справедливость и участие,
Понс III, граф Тулузский».
Прочитав письмо, Биларди глубоко задумался. Он не хотел принимать поспешных решений, поскольку это могло быть чревато серьезными осложнениями для церкви. Тонкое чутье и богатейший опыт подсказывали ему, что противостояние между графствами по обе стороны Пиренеев неизбежно приведет к войне. Увы, в истории уже было немало случаев, когда кровопролитные войны начинались из-за женских юбок.
31
Аиша
Марти Барбани по-прежнему не нравилась идея держать рабов. Несмотря на то, что дела его шли в гору, и благосостояние росло, он относился к своим рабам скорее как к работникам или компаньонам. В доме его между тем появились новые слуги, поступив в распоряжение Катерины — Мариона, превосходная кухарка из Бергеды, повелительница котлов и сковородок, и Андреу Кодина, по рекомендации Эудальда Льобета, дворецкий и доверенное лицо, который нанял в дом конюхов, кучеров, объездчиков, форейторов, виноградарей и прочую прислугу по мере надобности.
Марти все еще не верил в удачу, что стала к нему благоволить с того дня, как он прибыл в Барселону. Вся его жизнь проходила в заботах о своем предприятии, визитах к падре Льобету, встречах с Барухом Бенвенистом и ежевечерними прогулками к порту, где он разговаривал с Жофре и улаживал возникающие при строительстве корабля проблемы. В его голове, однако, роились планы о том, как воспользоваться встречей с Бернатом Монкузи, когда Марти предложил Лайе свою рабыню Аишу.
Как-то вечером, сидя в открытой галерее, где он часто отдыхал после ужина, Марти велел Катерине позвать рабыню. Аиша принесла с собой уд [18], решив, что хозяин хочет послушать чудесные мелодии.
Аиша впервые за свою безрадостную жизнь чувствовала себя счастливой. Совсем юной ее похитили прямо на рынке, куда она пришла вместе с семьей, и продали одному работорговцу, а тот, поставив ей клеймо в виде четырехлистника — под правой подмышкой, чтобы не испортить товарного вида — перепродал ее евнуху, подбиравшему женщин для гарема эмира, где она была совершенно несчастна. Когда она наскучила своему повелителю, тот продал ее каталонскому купцу, который, в свою очередь, выставил на продажу на невольничьем рынке в Барселоне. Сначала она не верила в свое счастье, но вскоре благословила судьбу, поскольку новый хозяин никогда не обращался с ней как с рабыней; он был добрым и мягким человеком, и потому Аиша прилагала все усилия, чтобы не разочаровать хозяина.
— Хозяин, вы меня звали?
— Да, Аиша. Оставь свои инструменты и присядь.
Девушка несколько удивилась, когда хозяин попросил ее сесть, чего никогда прежде не случалось — за исключением тех минут, когда она играла на уде, сидя на низенькой скамеечке. Она послушалась и стала ждать, что скажет молодой хозяин, который всегда вел себя с ней подчеркнуто деликатно.
— Видишь ли, Аиша, я должен кое о чем тебя попросить.
— Попросить, хозяин? Но я ведь и так обязана исполнить любой ваш приказ.
— Тогда я дам тебе свободу. А когда станешь свободной, я тебя попрошу, а ты вправе решать, соглашаться или нет.
Аиша никак не могла понять, куда клонит хозяин.
— Я вас не понимаю, хозяин. Вы же заплатили за меня такие деньги, а теперь собираетесь выбросить их на ветер?
— Открою тебе один секрет, — сказал Марти, которому не терпелось поведать внимательному слушателю о своей любви и горестях. — Я успел достаточно хорошо тебя узнать, и понял, что ты девушка добрая и верная. В тот день, когда я тебя купил, я встретил одну девушку, и с тех пор только о ней и мечтаю. Не знаю, замечала ли ты, что в те долгие вечера, когда я слушал твои чудесные мелодии, мои мысли пребывали далеко отсюда? Помнится, однажды ты даже спросила: «Желаете, чтобы я продолжала, хозяин?»
— Я помню, — с улыбкой ответила Аиша. — И женское сердце подсказало мне, что, слушая мои баллады, душой вы пребывали рядом с другой женщиной.
— Твоё женское сердце тебя не обмануло.
— Мне тоже знакомо это чувство, хозяин. Еще в детстве я безнадёжно влюбилась в одного юношу из Месопотамии. Я арабка, и жизнь нас разлучила, но до сих пор каждую ночь я вижу его во сне.
— Если ты мне поможешь, я могу дать тебе свободу, и тогда ты сможешь воссоединиться с ним.
— Нет, хозяин, — печально вздохнула рабыня. — С тех пор прошло слишком много времени, и сейчас он, наверное, уже давно счастливый отец семейства. А я предпочитаю жить в мечтах, чем проснуться и оказаться в горькой реальности. Если я вернусь домой не девственницей, то буду навсегда опозорена в глазах родных. Они никогда не простят мне подобного бесчестья и, быть может, даже забьют камнями до смерти. Вы же вернули мне мир и покой, и я никогда этого не забуду.
— Ты же знаешь, Аиша, если бы не принятые в обществе условности, обязывающие меня держать рабов, я уже завтра дал бы вам всем свободу.
— В таком случае, хозяин, почему вы мне это предлагаете?
— Просто хочу, чтобы ты чувствовала себя свободной и помогла мне не по принуждению, а потому что я тебя об этом попросил.
— Для меня вы навсегда останетесь моим добрым хозяином, я всегда буду вам благодарна.
Марти вздохнул.
— В тот день, когда я тебя купил и знал о твоих достоинствах лишь понаслышке, я встретил женщину, которая тоже хотела тебя купить. И с того самого дня, слушая твои прекрасные мелодии, мои мысли, подобно ласточке, летели к ней вместе с твоим голосом.
— Вы делаете мне честь, хозяин. Ничто так не радует артиста, как осознание, что его искусство служит зеркалом для прекрасных чувств. Вот только я по-прежнему не понимаю, в чем же будет состоять миссия, которую вы хотите мне поручить.
— Аиша, через пару месяцев я отплываю в дальние края и вернусь очень не скоро. И мне больно осознавать, что ты будешь томиться, как жаворонок в клетке, и много месяцев никто не услышит твоих божественных трелей. А потому мне бы хотелось, чтобы во время моего отсутствия ты радовала своими мелодиями даму моего сердца и рассказывала ей обо мне, чтобы помочь мне завоевать ее любовь. Но я хочу, чтобы ты стала свободной и делала это по собственной воле, а не потому, что положение рабыни обязывает исполнять повеления хозяина.
— Хозяин, я покорена вашим великодушием. Я сделаю все, о чем вы меня просите, только умоляю, не давайте мне свободу. Я просто не знаю, что с ней делать.
— В глубине души я уже давно дал тебе свободу. Пусть это будет нашей тайной, но я собираюсь обратиться к нотариусу, чтобы он должным образом оформил документ о твоем освобождении. В мое отсутствие документ будет храниться у Катерины. Не знаю, о какой жизни ты мечтаешь, но хочу, чтобы ты знала, ты не принадлежишь никому, а я буду вечно тебе благодарен, если ты поможешь мне наладить переписку с моей возлюбленной, чтобы она обо мне вспоминала.
Спустя три дня, перед вечерней, запряженная мерином повозка, на козлах которой восседал Омар, доставила в особняк Берната Монкузи освобожденную рабыню в лучшем ее наряде. Слуга вез хозяину дома запечатанное письмо с благодарностью от Марти за разрешение порадовать его падчерицу искусством Аиши. Другое письмо, надежно спрятанное под одеждой, везла с собой рабыня, оно предназначалось для Лайи и не должно было попасть в руки ее отчима.
32
Бернат Монкузи
В сумерках открылась маленькая задняя дверца в стене вокруг особняка в Кастельвеле, и через нее вышел скромно одетый человек. Убедившись, что его никто не видит, он достал из широкого кармана накидки тяжелый ключ, запер дверь, после чего, плотнее закутавшись в накидку, надвинул шляпу на самые брови и двинулся вдоль городской стены, в сторону улицы, знаменитой своими пекарнями.
Он пересек ее, пряча лицо, чтобы кто-нибудь из нарядной гуляющей публики его не узнал, и ускорил шаг, пока не добрался до площади, где стояла церковь Святого Жуста-пастуха. Звонили колокола, возвещая об окончании вечерней службы, и прихожане сплошным потоком покидали храм. Мужчина дождался, пока на паперти никого не осталось и толкнул тяжелую дверь. Та отозвалась визгливым скрипом, словно кошка, которой прищемили хвост. Внутри храма еще витал запах воска и ладана.
Когда глаза посетителя привыкли к полумраку, он устроился на скамье рядом с резной исповедальней. Мужчина преклонил колени, краем глаза посматривая в сторону ризницы, дожидаясь, когда из нее выйдет священник и займет свое место в исповедальне. Ждать пришлось недолго. В скором времени послышался перестук сандалий, и из ризницы появился высокий священник с длинной бородой. Открыв дверь исповедальни, он поцеловал крест епитрахили, висящей на крючке, надел ее на шею и закрыл дверцу. Мужчина какое-то время еще помедлил, после чего подошел к исповедальне и отодвинул занавеску у входа.
Изнутри его поприветствовал бесстрастный голос.
— Да будет благословенна пресвятая дева Мария.
— Пречистая дева, без греха зачавшая, — откликнулся грешник.
— Скажите, сын мой, много ли у вас грехов?
— Много, падре.
— Ну что ж, назовите их. Вы ведь для этого и пришли, так вы сможете облегчить душу.
Бернат Монкузи, который старался исповедоваться незнакомому священнику, чтобы не признаваться своему духовнику, архидьякону Пиа-Альмонии Эудальду Льобету, стал перечислять свои грехи, чтобы облегчить совесть.
— Я нарушил вторую заповедь, потому что произносил всуе имя Божие. Я лгал. Я вожделел чужого добра. Всем известна моя скупость, мне жаль выпустить из рук даже медяк.
Священник слушал его, не пошевельнувшись.
— Что ещё, сын мой? — спросил он наконец. — Как насчёт шестой заповеди?
— Падре, после кончины моей супруги я впал в грех рукоблудия и с тех пор постоянно этим занимаюсь.
— Ты творил блуд с женщинами дурного поведения? Или, быть может, утешался с какой-нибудь рабыней?
— Первое — никогда, падре: я боюсь подцепить какую-нибудь заразу, которыми часто страдают подобные женщины. Что же касается второго, то я не желаю, чтобы какая-нибудь рабыня в доме вообразила, будто ей все позволено, раз она спит с хозяином.
— В таком случае, сын мой, твой грех мастурбации хоть и предосудителен в глазах Господа, но все же понятен. Я отпускаю тебе этот грех.
— Это ещё не всё, падре, — признался советник.
— Хочешь признать в чем-то еще?
— Да, падре, есть. Именно поэтому я и пришёл просить вашего совета.
— Говори же, сын мой, я слушаю.
На миг между грешником и исповедником воцарилось молчание.
— Видите ли, — решился наконец Монкузи. — Кака я уже сказал, я вдовец. У моей супруги от первого брака осталась дочь, ей недавно исполнилось тринадцать. Она прекрасна, словно газель. Ее формы уже проступают сквозь платье, хотя еще не вполне развиты, но ее соски подобны ягодам земляники...
— Прошу, не нужно больше об этом. Но продолжайте.
Голос Монкузи зазвучал хрипло и надрывно.
— Отеческая любовь, которую я питал к ней, пока была жива ее мать, теперь превратилась в испепеляющую страсть. Кровь вскипает при одной мысли о том, что скоро её придётся выдать замуж, и я готов убить всякого, кто посмеет разлучить меня с ней.
Священник внимательно слушал.
— Что мне делать, падре? — в отчаянии воскликнул советник.
— Вы должны отдалиться от нее. Близость женщины всегда губительна. С самого рождения они становятся величайшим искушением для нас. Вспомните Адама: он был счастлив в раю, пока Господь не создал Еву. Они изначально несут в себе зло, с самого младенчества они обладают коварством змеи. Советую отправить ее в монастырь. Там сумеют обуздать ее порочную суть, ведь даже если вы считаете ее невинным созданием, она прекрасно знает, что искушает вас, и вы, несчастный грешник, беззащитны перед ее бесстыдством.
— Падре, — упавшим голосом ответил Монкузи. — Я не в силах с ней расстаться.
— В таком случае я отказываюсь отпускать этот грех. И если вы не найдёте способа обуздать свою порочную страсть, я и впредь не смогу дать вам отпущения.
— Падре, даже если мне придётся вечно гореть в адском пламени, я не смогу жить без неё. Без неё моя жизнь потеряет смысл, станет серой и беспросветной. Я умру от тоски.
— Сын мой, вы должны побороть искушение. Это не ваша вина, такова человеческая натура. Для взрослого мужчины совершенно не важно, что она еще девочка: если она весит более шестидесяти фунтов — это уже женщина. Господь не зря, создавая человека, сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Именно поэтому, как только девушка достигает зрелости, она должна выйти замуж и рожать детей. Почему бы вам не жениться на ней? Нет средства лучше брака, чтобы одолеть эту пагубную страсть.
— Это невозможно, падре. В своё время я удочерил ее, а церковь запрещает брак между приемными отцом и дочерью.
— Но ведь существуют особые буллы и разрешения. Вы могли бы добиться особого разрешения.
— Вынужден признаться, что она никогда на это не согласится.
— В таком случае, сын мой, мне нечем вас утешить. Тем не менее, хотя сегодня я не могу отпустить вам грех, все же не забудьте зайти ко мне в другой раз. Думаю, со временем мы найдем средство освободить вас из этой ловушки. А пока — молитесь, сын мой. Молитва — ваша единственная защита против сил зла, что уже не раз овладевали душами людей через тело женщины.
33
Мечты и надежды
Лайя была охвачена новым чувством. Целыми днями в ее душе пели соловьи, а ночью она не могла сомкнуть глаз, не в силах сдержать рвущееся наружу счастье. Аиша, полная благодарности к Марти, не уставала расписывать девушке его достоинства, и вскоре в нежном сердце Лайи родилось незнакомое ей прежде чувство симпатии к молодому человеку, такому любезному, что даже отказался от общества Аиши, лишь бы доставить ей удовольствие. Правда, она до сих пор видела его лишь дважды: один раз — на невольничьем рынке, а второй — в собственном доме, в галерее, ведущем в сад, когда он приходил к ее отчиму по делу.
Прошло уже три месяца с тех пор, как Аиша вошла в ее жизнь. Лайя и не представляла, сколько радости доставит ей этот дар Марти Барбани. Рабыня всецело покорила ее сердце. Со дня смерти матери никто не дарил ей столько любви, как это восхитительное создание.
В письме графскому советнику Марти вновь выразил свое величайшее почтение и рассыпался в благодарностях за выданную лицензию. Когда Бернат Монкузи читал это письмо, он даже предположить не мог, к каким последствиям приведет появление в его доме рабыни.
«Барселона, 7 марта 1053 года
Сиятельному Бернату Монкузи, городскому прому и главному смотрителю рынков, ярмарок и аукционов графства Барселона.
Сиятельнейший сеньор!
Я посылаю Вам это письмо, чтобы еще раз поблагодарить за то, что позволили порадовать Вашу дочь искусством моей Аиши. Как я уже говорил в последний раз, когда имел честь находиться у Вас в гостях, она превосходно играет на цитре и поет, как ангел, однако ее таланты во время моего отсутствия пропадали бы впустую. А отсутствовать, как я Вам уже говорил, я буду долго. Я собираюсь отбыть в дальние страны, если будет на то воля Божья, в следующем месяце, когда будет готова моя лицензия.
Позвольте еще раз выразить Вам глубочайшее уважение и заверить в том, что во время моего отсутствия все наши договоренности будут исполняться столь же тщательно и с тем же рвением, как если бы я находился рядом с Вами.
Ваш преданный слуга
Марти Барбани».
Аиша решила пока спрятать письмо Марти среди своих вещей, пока не будет уверена, что новой хозяйке можно доверять, а до тех пор изо всех сил старалась заслужить ее расположение. Мало-помалу, слово за слово, ее прекрасное пение, словно чудодейственный бальзам, залечило глубокую рану, которую оставила в сердце девушки смерть матери. Всю весну каждый вечер Лайя слушала в беседке чудесные мелодии рабыни. В скором времени она уже не мыслила своей жизни без этого пения, а Аиша незаметно для себя самой стала ее близкой подругой и наперсницей.
— Он действительно так любезен, как ты говоришь? — спросила Лайя.
— Даже более того. Если даже ко мне, которая для него ничего не значит, он относится так хорошо, то можете представить, что он готов сделать ради женщины, покорившей его сердце?
— Но ведь он меня почти не знает?
— Когда рождается любовь, для нее не имеют значения ни раса, ни вероисповедание, ни семейные связи. Поверьте, для любви не требуется ни времени, ни долгого знакомства. Он полюбил вас с первого взгляда. Быть может, вам трудно в это поверить, но это так.
— Аиша, как я могу быть уверена, что все это — не плод твоего воображения?
С минуту Аиша помолчала, раздумывая, отдавать ли письмо.
— Почему ты молчишь? — спросила Лайя.
— Сеньора, мне поручено одно дело, которое напрямую касается вас. Я здесь не только для того, чтобы услаждать ваш слух красивыми мелодиями.
Лайя по-прежнему ничего не понимала.
— Видите ли, я должна передать вам одну вещь, которую держу при себе с того самого дня, как пришла в этот дом. Но если об этом узнает ваш отец, не сносить мне головы.
— Я тебе уже говорила тысячу раз, что Бернат мне не отец. Он был мужем моей матери, и я живу под его опекой, пока мне не исполнится двадцать один год. Я стану свободной и получу наследство от настоящего отца, доходами с этих денег пользовалась моя мать. Тогда я смогу сама распоряжаться собственной жизнью.
— Но пока вы душой и телом принадлежите ему, а следовательно, и я тоже. А значит, он может сделать с нами, что захочет.
— Аиша, прекрати ходить вокруг да около. Если у тебя есть что-то для меня, то отдай мне это.
Рабыня без единого слова удалилась в отведённую ей каморку в подвале.
В скором времени она вернулась, беспокойно оглядываясь и сжимая в руке письмо Марти, которое прятала в своих вещах.
— Возьмите, — сказала она. — Я рисковала жизнью, чтобы передать его вам.
Вскочив со скамьи, Лайя схватила письмо и воскликнула:
— Твоей жизни ничто не угрожает! Я скорее умру, чем тебя выдам! А сейчас тебе лучше уйти. Хочу прочитать письмо в надежном месте, где никто не будет подглядывать.
Девушка удалилась в свои покои, а Аиша отправилась на кухню.
Заперев дверь на задвижку, Лайя сорвала печать и прочла:
«Для Лайи.
Свет моих очей, жизнь моя! С тех пор, как я увидел Вас на невольничьем рынке, вся жизнь утратила смысл. Ваши серые глаза я вспоминаю и днём, и ночью, а моя жизнь без надежды поговорить с Вами превратилась в настоящую муку. Я — как слепой, что ищет во тьме чашу с водой, чтобы утолить жажду. Дайте мне надежду — и я сделаю всё, чтобы завоевать Ваше сердце. Я стану воздухом, которым Вы дышите, стану камнями, по которым Вы ступаете, хотя я знаю, что недостоин быть даже пылью на Ваших туфельках.
Как Вам, должно быть, известно, я отправляюсь в долгое путешествие, и только от Вас зависит, будет ли оно отрадным или беспросветным. Если Вы согласитесь поговорить со мной перед отъездом, я стану счастливейшим из смертных. Я готов отдать жизнь за счастье увидеть Вас хотя бы на миг. Иные мгновения стоят целой вечности. Если Вы доставите мне счастье увидеться с Вами, я буду навеки благодарен. Если Вы согласны, сообщите, где и когда мы сможем встретиться.
С нетерпением жду Вашего ответа, с Вашим именем на устах, в мыслях и в сердце.
Марти».
Лайя прижала письмо к юной груди, а в ее серых глазах проступили слезы, затянув все вокруг туманной дымкой.
34
Торжества
В Барселоне проходили грандиозные торжества. Прошло уже несколько месяцев со дня воссоединения графа и Альмодис, и теперь Рамон Беренгер задумал устроить праздник в честь прихода весны, решив применить старую проверенную стратегию, известную ещё римским императорам, чтобы расположить к себе простонародье, а заодно отвлечь подданных от других мыслей. Стратегия эта была предельно простой и состояла всего из трёх слов: «Хлеба и зрелищ». Когда у людей заполнен рот и есть возможность закрыть двери своих лавок и мастерских, чтобы отправиться смотреть представления, которые в изобилии обеспечил добрый сеньор, они готовы забыть о насущных проблемах и пить, гулять и веселиться.
Бернату Монкузи, главному графскому казначею, было приказано выдать каждой семье по селемину [19] пшеницы, куску постной свинины, куску говядины и по три динара на каждого человека. Кроме того, он пожертвовал церкви немалую сумму денег, а также колокола для храмов святой Эулалии из Кампа, святого Викентия из Саррии, святого Гервасия из Кассолеса и святого Андрея из Паломара. Теперь звон этих колоколов перекликался с колоколами Сео, и бесконечный перезвон оглашал все улицы города, словно отгоняя от графской четы нависшую угрозу отлучения.
Бернат по своему обыкновению исхитрился положить изрядную долю пожертвований в собственный карман.
Оба зрелища, конечно, весьма различались, ведь одно предназначалось для толпы, а другое — для блистательного окружения Беренгера.
На улицах и площадях непрерывно шли уличные представления. Выступали мимы, акробаты, фокусники, силачи и клоуны, набивали карманы брадобреи и зубодеры. Но более всего простому люду были по душе бои и турниры, ежедневно проходящие на пустоши Виланова, по другую сторону городской стены. Победителям полагалось солидное денежное вознаграждение, и рыцари со всей Септимании стекались сюда, чтобы помериться силами и талантами, привлеченные щедрой наградой и правом повязать на плечо шарф своей дамы. Главными судьями на турнирах были Рамон Беренгер и Альмодис де ла Марш.
Главная ложа под балдахином в узкую красную и желтую полоску располагалась посередине ристалища, напротив того места, где предстояло столкнуться поединщикам. На помосте стояли два великолепных трона, чуть ниже и по бокам разместили свои гербы представители знатных семейств. По другую сторону ристалища, напротив ложи, помещалась судейская трибуна. Судьям предстояло следить за соблюдением правил турнира и чтобы все участники имели равные возможности. По всему полю были разбиты шатры участников утреннего турнира, над каждым шатром развевался стяг цветов рыцаря; повсюду бегали взмыленные оруженосцы, поднося то полированную кирасу, то шлем с яркими перьями. Копья, которые вскоре сломают, в идеальном порядке покоились на деревянных козлах.
Прочитав письмо, переданное мавританкой, Лайя мечтала только о встрече с возлюбленным. Аиша решила, что настал самый подходящий для этого момент, поскольку отчим Лайи был занят делами графа, а заодно и своими собственными, и теперь носился по всему городу, приглядывая за ярмарочной торговлей и проверяя лицензии уличных комедиантов. Главный казначей не знал ни минуты покоя, он метался от церкви святого Иакова до Кастельнау, а оттуда — к воротам Бисбе и Кастельвель, чтобы затем отправиться по улице Аладина к воротам Регомир.
Ни малейшее нарушение не ускользало от его зоркого глаза, и под конец его необъятный кошель доверху заполнился монетами всевозможных достоинств. Если какой-либо торговец выражал недовольство распоряжениями Монкузи, его тут же хватали и тащили в тюрьму, если кто-то осмеливался торговать на улице — его лоток бесцеремонно сносили. Лайя об этом прекрасно знала, а потому решила не терять времени и, пользуясь выпавшим случаем, устроить собственную судьбу. Аиша, со своей стороны, была хорошо осведомлена о делах Марти и распорядке его дня и посчитала, что безопаснее всего будет встретиться с Омаром, управляющим Марти, который занимался виноградниками в Магории, и передать ему письмо для хозяина. Лайя написала письмо, и Аиша тут же отправилась на площадь, спрятав его в складках одежды. В сущности, она ничем не рисковала: даже если ее увидит кто-то из прислуги, наверняка решит, что служанка отправилась что-то купить по приказу госпожи.
Аиша долго не могла найти на рынке Омара, поскольку он с самого утра был занят на мельнице, чей смотритель которой вместо работы предпочёл веселиться на празднествах в честь графини.
В конце концов она все же увидела его, издали узнав по медленной усталой походке. Заметив девушку, мавр поспешил ей навстречу.
— Я уже думала, что не дождусь тебя, Омар. Мне казалось, твой день начинается намного раньше.
— Так и есть, дорогая подруга, но в дни, подобные этому, у меня бывает особенно много дел.
— Как поживают Найма, Мухаммед и маленькая Амина?
— Прекрасно. По правде говоря, я не устаю благодарить Аллаха, пославшего нам такого доброго хозяина. Это настоящий подарок судьбы, ведь наша участь целиком зависела от ее капризов и... толщины кошелька других покупателей...
— Я тоже не перестаю благословлять этот день, — призналась Аиша. — Только рядом с ним я обрела покой.
— А сейчас ты счастлива? — спросил Омар.
— Как никогда прежде. Она мне скорее подруга, чем хозяйка, а главное, я могу отблагодарить бывшего хозяином за его доброту.
— Итак, Аиша, для чего ты хотела меня видеть?
Девушка извлекала из-под одежды письмо Лайи.
— Вот, возьми. Хозяин с нетерпением ждет этого письма. Я думаю, ты знаешь, от кого оно...
— Передай своей сеньоре, что уже сегодня к вечеру она получит ответ от моего хозяина, — с улыбкой ответил Омар.
Аиша удалилась, на прощание пожелав другу удачи.
Едва пергамент оказался у него в руках, Омар, прекрасно знавший, в чем дело, тут же поспешил в порт, где в эту минуту находился его хозяин. Марти как раз горячо обсуждал с Жофре быстроходность будущего корабля. Улучив момент, когда моряк повернется спиной, Омар молча поманил хозяина, знаками давая понять, что хочет сказать по секрету что-то очень важное.
— Прости, друг мой, но мне нужно на минутку отлучиться по одному делу, — извинился Марти перед Жофре. — Кажется, мой секретарь принес какие-то новости. Из-за этих празднеств все пошло кувырком и накопилась целая гора срочных дел.
— Не беспокойся, Марти, — ответил Жофре. — Могу себе представить. Наш главный мастер посмотрел корабль и собирается нанять плотников, чеканщиков и канатчиков. Разумеется, платить им сейчас придется вдвое против обычной цены. А что делать? Если не заплатим, то потеряем лишнюю неделю, а Средиземное море ждать не любит.
— Через минуту вернусь.
Омар стоял на почтительном расстоянии. Марти подошёл ближе.
— Что за неотложное дело заставило тебя бросить работу и отправиться искать меня в порту? — спросил Марти притворно строгим тоном, стараясь скрыть улыбку.
Мавр тоже улыбнулся в ответ.
— Сеньор, если вы думаете, что причина неважная, можете меня высечь. Вот, возьмите.
Омар нашарил в кармане письмо и протянул его хозяину.
Марти не узнал почерк, но, заметив лукавую улыбку на губах слуги, сразу все понял.
Сгорая от нетерпения, он отошел в сторону, сорвал печать, развернул свиток и прочитал:
«Барселона, 20 июня 1053 года
Дону Марти Барбани
Дорогой друг! Бесконечно благодарю Вас за бесценный дар. Никто прежде не делал мне столь ценных подарков. Аиша — великолепная певица и самая лучшая подруга, которую я получила благодаря Вашей щедрости. Ваше признание в своих чувствах тронуло мое сердце. Мысль о том, что я произвела такое впечатление на человека, который меня даже не знает, приводит меня в трепет, и мне страшно подумать, что я могу Вас разочаровать при более близком знакомстве. Это разобьет мне сердце. Ведь я всего лишь женщина без малого четырнадцати лет, страстно мечтающая иметь друга, которому могла бы довериться. Если Вы не возражаете, мы могли бы увидеться в среду, в день главного турнира, все наши слуги будут участвовать в его подготовке. Так мне будет проще улизнуть от неустанной слежки моего отчима. Если Вы не против, можем встретиться в девятом часу в доме Аделаиды, моей кормилицы, я время от времени ее навещаю. Ее дом находится позади церкви святого Михаила, напротив входа в ризницу.
Ваш друг
Лайя».
Марти спрятал письмо во внутренний карман жилета и, сам не свой от радости, горячо обнял Омара.
— Честно говоря, ты доставил мне такую радость, что за это письмо я готов отдать всё, даже свою часть корабля.
35
Встреча
К двум часам пополудни Марти нарядился в лучшее платье и, едва касаясь ногами земли, направился к церкви святого Михаила в конце древней римской улицы Кардус.
Омар, который, как всегда, помогал ему одеваться, даже заметил по этому поводу:
— Сеньор, вы уже трижды меняли рубашку; если сделаете это сегодня еще раз, то завтра вам нечего будет надеть.
— Послушай, Омар, — ответил Марти. — Я не знаю, что нас ждет, а потому позволь мне радоваться сегодняшнему дню. Один Бог знает, какие карты судьба выкинет завтра.
Перед уходом он посмотрелся в бронзовое зеркало в спальне. Из зеркала на него смотрел загорелый молодой человек с горделивым взглядом и статной фигурой, одетый в зеленую тунику с португальским галуном, бордовые чулки и башмаки из тонкой кордовской кожи. Волосы, подстриженные по каролингской моде, покрывал щегольской флорентийский берет. Он вышел из дома задолго до назначенного времени и долго бродил по улице из конца в конец, не в силах дождаться, когда колокола церкви святого Михаила прозвонят час пополудни. Тогда он поспешил к заветному дому, навстречу владычице своих снов.
Дом оказался небольшим, крытым черепицей, с единственным входом со стороны улицы и треугольными отдушинами в боковой стене, за которой, должно быть, помещался амбар. Марти вошел в прохладную полутень крыльца, сам не свой от волнения. Сердце его бешено билось, во рту пересохло, а язык, казалось, прилип к гортани. Он взлетел по лестнице, прыгая через две ступени, и в один миг оказался на втором этаже. Переведя дух, Марти постучал в дверь. Послышались чьи-то быстрые шаги, и через минуту, показавшейся вечностью, дверь открылась. На пороге стояла улыбающаяся женщина средних лет с седыми волосами.
— Полагаю, вы Марти Барбани? — спросила она.
Молодой человек без всякого смущения ответил:
— Он самый.
— Проходите, вас ждут.
Марти немедленно подчинился. Едва за ним закрылась дверь, женщина добавила:
— Будьте добры следовать за мной.
Она повела его по узкому коридору, до дверцы с деревянными филёнками. Женщина осторожно постучалась, и тут же изнутри послышался чей-то голос. Марти показалось, что это голос Аиши.
— Сеньора, наш гость прибыл.
Дверь приоткрылась, и из-за нее выглянуло сияющее лицо его бывшей рабыни.
Провожатая, извинившись, откланялась:
— Прошу прощения, но у меня слишком много дел.
А Аиша добавила:
— Скоро я к вам присоединюсь. — Затем, открыв дверь нараспашку, она повернулась к Марти. — Можете войти, сеньор, вас ждут.
Марти вошел в полутемную комнату. После яркого света улицы он не мог рассмотреть ничего, кроме неясного профиля девушки, стоявшей возле закрытого ставнями окна, сквозь щели едва пробивался тусклый свет с улицы.
И тут у него за спиной послышался голос Аиши:
— Сеньор, это Лайя. Счастье переполняет мою душу при мысли о том, что я сумела вам услужить. Лайя, это тот самый дон Марти, лучший хозяин, которого я встречала в жизни.
После этого прислужница удалилась, деликатно прикрыв за собой дверь.
Молодые люди остались наедине. Глаза Марти наконец привыкли к темноте, и девушка показалась ему волшебным видением из другого мира. На ней было синее платье с квадратным вырезом, высоко подпоясанное под юной грудью. Рукава, пышные на плечах, туго охватывали запястья. Поверх платья был наброшен просторный плащ, а волосы, разделенные на прямой пробор, заплетены в косы и уложены кренделями на висках. Голову ее, подобно короне, венчала повязка из голубого дамаста, расшитого серебряной нитью.
Они шагнули навстречу друг другу и, по-прежнему глядя в глаза, сели на скамью.
— Сеньора, — начал Марти, не в силах скрыть волнения. — С тех пор как на невольничьем рынке перед моим взором мелькнули ваши черты, ваш образ неотступно преследует меня день и ночь. Если вы дадите мне надежду, я сделаю все, чтобы добиться вашей руки, если же нет — я навсегда исчезну из вашей жизни.
Девушка потупилась, тронутая пылкими словами Марти, на ее щеках выступил румянец. Затем, подняв на него глаза, она медленно заговорила.
— Я в таком долгу перед вами, что никогда не смогу расплатиться, проживи я хоть тысячу лет. Во-первых, вы подарили мне величайшее в жизни утешение. С тех пор как умерла мама, мне некому было рассказывать о своих горестях, пока вы не прислали мне Аишу. Во-вторых, своим письмом вы оказали мне величайшую честь, которой я, конечно же, не заслуживаю, ведь вы совершенно меня не знаете, не знаете, какая я на самом деле. Тем не менее, вы были первым, кто обратился ко мне в таких выражениях, и я польщена, хоть и не заслуживаю подобных похвал.
— Лайя, я не в силах побороть свои чувства. Я встречал многих людей, но никогда мое сердце так не трепетало от радости. Каждую ночь я вижу во сне ваши серые глаза. Если бы слуга разбудил меня в эту минуту, прервав чудесный сон, я бы, наверное, убил его. А проснувшись, я думаю лишь о вас. Я не могу так больше жить и лишь хочу знать, могу ли на что-то надеяться.
— Мне почти четырнадцать, и я не хочу причинить боль такому приятному человеку.
— Хотите сказать, что не оставляете мне надежды?
Девушка вскочила.
— Нет, Марти! Просто отчим никогда не позволит нам быть вместе.
Марти сжал руки девушки в ладонях.
— Значит, я могу надеяться?
— Марти, вами так легко восхищаться. Видимо, с этого и начинается любовь. Аиша мне столько рассказывала о ваших достоинствах, что я полюбила вас, ещё даже не зная, хоть и понимала, что это совершенно бессмысленно. Отчим скорее заточит меня в монастырь, чем отдаст не гражданину Барселоны.
— Позвольте мне надеяться — и я сверну горы! Я вернусь из плавания через год или чуть позже, вернусь богатым и, если буду знать, что вы меня ждёте, никакие преграды меня не остановят.
— Я буду ждать вас, сколько потребуется, и скорее уйду в монастырь по собственной воле, чем буду принадлежать другому.
— Прежде чем я покину царство мечты, я хочу навеки сохранить в памяти ваш образ, потому что не в силах жить вдали от вас.
Он нежно взял ее за подбородок и поцеловал.
36
Дельфин и Альмодис
Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как Альмодис прибыла в Барселону, и ее союз с Рамоном Беренгером омрачился целым рядом печальных обстоятельств. Отлучение, о котором им уже объявил епископ Одо де Монкада, еще не утвердили официально, и теперь не только венценосная чета, но и все графство пребывало в тревоге. На улицах то и дело случались потасовки между сторонниками Альмодис и старой графини Эрмезинды. Учитывая характеры женщин, трудно было ожидать, что они легко смогут найти общий язык. С другой стороны, в семейной жизни графской четы тоже возникли трудности, ведь у каждого из них были свои дела и обязательства и слишком многое их разделяло.
Граф вместе со своим кузеном Эрменьолем д'Уржелем оказался вовлечен в затяжной военный конфликт. Арнау Мир де Тост, сеньор Ажера и вассал Рамона, попросил помощи в войне с братьями Ахмедом аль-Муктадиром и Юсуфом аль-Музаффаром, властителями Сарагосы и Лериды, то и дело совершающими набеги на Ажер и угрожающими городу Манресе. Чтобы помочь своему благородному другу, которому впоследствии пожаловал за его верность Камарасу, и противостоять мятежной знати, все настойчивей заявлявшей о своих претензиях к самой могущественной из всех графских династий Каталонии, Рамону пришлось проводить много времени вдали от дома, и влюбленные могли наслаждаться лишь редкими моментами близости.
Графиня посвятила досуг благотворительности: основывала новые монастыри, помогала вдовам и сиротам, посещала мастерские в квартале Сео, а также выступала в роли судьи во время всевозможных тяжб из-за собственности, имущества, земельных границ или рабов. Если дело касалось земель, она вставала на сторону вассалов Беренгера, не боясь выступить против любой другой благородной фамилии, будь то род Сан-Жауме, Монкада, Желабер, Фольш или Алемани.
И в эти неспокойные времена к прочим проблемам добавилось еще одно крайне неприятное обстоятельство. Рим объявил о предстоящем отлучении от церкви, что могло повлечь за собой большие бедствия, вплоть до потери графством независимости и нового вторжения сарацинов. В притонах, трущобах и подворотнях только и говорили, что об отлучении. Духовенство, подчиняясь указаниям Рима, пророчило графству самое мрачное будущее и в самых обычных событиях усматривало дурные предзнаменования. С амвонов тут и там вещали про историю царя Давида — как яркий пример того, какие проклятия влечет за собой грех похоти, и теперь эти проклятия неминуемо должны пасть на Барселону. Короче говоря, противостояние между сторонниками Папы и графа крепло день ото дня, и вскоре положение обещало стать совсем скверным.
Альмодис мечтала родить сына, который смог бы осуществить мечты и надежды ее супруга, поскольку его первенец Педро Рамон, рожденный в браке с Изабеллой, оказался совершенно никчемным. При барселонском дворе она могла положиться лишь на двоих: Лионор, ее придворную дама, которой она поверяла все свои заботы и горести, и Дельфина, карлика, развлекающего ее в часы досуга долгими беседами, неизменно сводящимися к теме беременности. Поскольку аббат Сен-Жени остался в Тулузе, по рекомендации одного из придворных Альмонис нашла нового духовника, падре Льобета, и он стал, пожалуй, единственным человеком в новом окружении, которому она могла доверять: она не верила льстивым речам царедворцев, неустанно вьющимся вокруг; куда больше по душе ей оказался этот человек, скорее похожий на воина, чем на священника, он всегда говорил, что думает, не прогибаясь перед ней и не пытаясь угодить.
В то утро графиня заговорила об этом с Лионор, когда они вместе трудились над гобеленом с изображением цветов и трав.
— Скажи, Лионор, как ты думаешь, когда я стану матерью?
— Это известно одной лишь природе, сеньора. Трудно что-либо предсказать. Но я вам одно скажу: чем меньше вы будете об этом думать, тем скорее исполнится ваше желание.
— Увы, положение дел таково, что мое желание трудно осуществить. Мой муж все время на войне, а на расстоянии соитие невозможно.
— Но зато когда он возвращается, вы с ним не вылезаете из постели.
Графиня вздохнула. Оглядевшись, не подслушивает ли кто, она наклонилась к самому уху дамы и прошептала:
— Лионор, я должна кое в чем тебе признаться. Знаю, я не должна говорить о таких вещах, и будь здесь моя мать, она устроила бы мне выговор. Но тебе я сказать могу.
— Я вас слушаю, сеньора. Вы же знаете, я буду нема, как могила.
— Видишь ли, когда мой сеньор супруг входит в меня, он весь полон страсти, но потом...
— Что потом, сеньора?
— Не знаю, как объяснить, но мне кажется, что для таких вещей требуется время, а...
Лионор выжидающе посмотрела на неё.
— Одним словом, вулкан его страсти извергается слишком быстро, не успев воспламенить меня. Думаю, именно так будет правильнее сказать.
Лионор на миг задумалась.
— Мне кажется, сеньора, у вас есть средство, чтобы справиться с этой бедой.
— И что же я могу сделать?
— Заниматься этим чаще, сеньора. Тогда ему проще будет держать себя в руках и он продержится дольше.
— Но, Лионор, что я могу поделать, если вижу его лишь от случая к случаю? Или мне вместе с ним отправиться на границу воевать с неверными?
— А ведь это неплохая мысль. Мужчины порой бывают такими странными. Но если он целый день будет биться с маврами, а ночью отдыхать, лежа на вас, не сомневаюсь, что вы вернетесь в Барселону с ребенком во чреве. Порой походное ложе в этом смысле намного лучше, чем пуховые перины.
Стремление родить сына стало для Альмодис навязчивой идеей, ведь чтобы упрочить своё положение, ей нужно было подарить графу наследника. Она пользовалась любым предлогом, чтобы свести к этой теме разговоры с Лионор, Дельфином и даже с падре Льобетом. Она просто не давала им покоя, донимая этими разговорами со свойственной ее характеру настырностью.
Дождливым утром, когда карлик помогал ей поливать цветы в зимнем саду, Альмодис подступила к нему все с теми же не дающими ей покоя вопросами.
— Скажи, Дельфин, как ты думаешь, что произойдёт, когда придет срок? Стану ли я матерью или по-прежнему останусь бездетной? Что тебе подсказывает чутьё?
Пронзительный голос карлика разнесся эхом под сводами зимнего сада.
— Я вам уже говорил тысячу раз, что мои видения всегда приходят внезапно. Иногда я вижу совершенно незначительные вещи и очень редко что-то действительно важное.
— Я это прекрасно знаю, но все же ответь, чего мне следует ожидать?
— Ну что ж, признаюсь, меня действительно не так давно посетило видение, вот только его не назовешь благоприятным.
— Ради всего святого, Дельфин! Скажи, что ты увидел! Разве не разгадал прекрасный Иосиф сны фараона, и разве его предсказания не сбылись?
Дельфин до сих пор не пришел в себя после жестоких слов графини, когда он после той ужасной резни при нападении пиратов, пришел к ней в каюту.
— Что ж, сеньора, если вам интересны видения труса, я расскажу.
— Послушай, Дельфин, я не собираюсь вымаливать у тебя прощения. Если решил прочитать мне нотацию, я поговорю с тобой иначе, чтобы быстрее дошло. Так что, если предпочитаешь услышать все те же вопросы после того, как получишь десятка два плетей, то за этим дело не станет. И уж поверь, после этого тебе будет не до каламбуров.
— Сеньора, вы назвали меня дерьмом и тварью в присутствии доньи Лионор.
— Я назвала тебя так, как ты в ту минуту заслуживал. Кстати, ты забыл, что ещё я назвала тебя трусом. Так что не выводи меня из себя и расскажи о своих видениях.
Карлик прекрасно знал, что он может себе позволить, а что — нет, а также понимал, что иногда может подурачиться, но уж если хозяйка заговорила серьёзным тоном, тут уж шутки в сторону.
— Видите ли, однажды вечером, вскоре после нашего приезда в Барселону, я перебрал местного вина — знаете, такого сладкого, оно называется москатель. Оно очень коварное, это вино: от него так и тянет ко сну, и вдруг я понял, что не в силах добраться до своих покоев, и уснул прямо где пил — в конюшне на тюках соломы. И тогда мне приснилось кое-что странное.
— Кончай тянуть кота за хвост, Дельфин, и переходи к сути.
— Ну хорошо, сеньора. Я видел вас и донью Лионор в вашем кабинете, а потом вдруг послышался чей-то пронзительный плач. В глубине комнаты — там, где лежат ваши пяльцы — стояла огромная колыбель, способная вместить нескольких младенцев. Вы с доньей Лионор наклонились над ней и увидели на дне колыбели два свертка. Откинув полог, вы обе застыли от ужаса, увидев, что один новорождённый до крови расцарапал другому лицо.
— И что же может означать этот бред?
— Ничего, сеньора. Вы меня спросили — я ответил. Вы хотели знать — и теперь знаете, это и было мое видение. Тем не менее, в моей памяти ещё сохранились видения, посетившие меня накануне встречи в лесу, когда мы заключили договор — помните? Я тогда сказал, что вам суждено продолжить династию, и думаю, сейчас как раз пришло время.
— Но для этого я должна стать матерью.
— Разумеется.
Графиня на мгновение задумалась, затем, проведя рукой по лицу, словно пытаясь сбросить невидимую пелену, спросила:
— Ну хорошо. Дельфин, ты никогда не упускаешь случая улизнуть из дворца, чтобы вволю пошляться по тавернам, харчевням и постоялым дворам, где собирается простой люд. Скажи, что в народе говорят обо мне? Любят меня или, наоборот, ненавидят?
— Госпожа, это зависит от того, кто говорит.
— Перестань напускать туман и отвечай прямо. От чего зависит?
— От личных качеств человека и уровня его культуры.
— В смысле?..
— Судите сами, сеньора: простой люд в графстве сильно напуган, боится, что столь желанному миру придёт конец, причём одни винят в своих страхах графа, а другие — Папу. Так вот, первое, в чем вас обвиняют — что вы легли под графа, не заключив должным образом брак, а второе — что не посчитались ни с кем и ни с чем, и этот поступок может иметь самые печальные последствия не только для вашей семьи, но и для всего графства. Однако все при этом хотят жить в мире с Богом, ради этого они готовы тратить деньги на молебны, поститься и перебирать четки, если от этого зависит мир в графстве и их собственный покой. Без мира нет торговли, и люди боятся, что, если из-за вас пошатнется авторитет власти, мавры вновь вторгнутся в Барселону, и тогда они потеряют всё. Многие люди, которые прежде даже не заглядывали в церковь, теперь не выходят из исповедальни. Да еще и попы, крича с амвонов, подогревают страхи, и люди готовы отдать последнее, лишь бы очистить души от греха. Им это кажется единственным средством добиться расположения Всевышнего, чтобы тот защитил графство от тлетворного дыхания ислама. К тому же у многих еще жива память о временах Аль-Мансура.
— Но как ты думаешь, если нас и правда отлучат от церкви, как это отразится на будущем графства?
— Что-то мне подсказывает, что никак не отразится, но священники всегда пользовались доверчивостью народа, грозя всевозможными карами ослушникам. Не забывайте, что подданные имеют право восстать против отлученного от церкви графа или даже монарха. Если же такое случится, начнутся беспорядки, торговля встанет, деньги обесценятся, город зачахнет. Не дай Бог, конечно, но если все же допустить подобное, то что для наших милосердных пастырей, служащих мессы в церквях, окажется важнее: сохранить мир в графстве или покарать кого-то за грехи? Деньги, и только деньги правят этим миром. Не думаю, что святому Петру, охраняющему врата рая, есть дело, какими манкусо брать плату за вход: сарагосскими или джафарскими.
— Ты даже не представляешь, как бы мне хотелось как-нибудь вечером выбраться вместе с тобой из замка и пообщаться с простым народом. Даже больше скажу: правители, которые во всем полагаются на советников, не желая услышать мнение подданных из первых уст, всегда плохо кончают.
— Тут вы правы, сеньора, но это безнадежная затея — едва ли вам удастся выйти из дворца незамеченной, ведь для этого пришлось бы обвести вокруг пальца вашу дуэнью, служанок и стражу.
— Я бы не сказала, что это так уж невозможно, — возразила графиня. — В жизни случаются и более невероятные вещи. Хотя, знай о них кто заранее — в один голос бы заявили, что такого просто не может быть.
— Все в мире предопределено, чему быть, того не миновать. Но все-таки ваше желание вряд ли осуществимо.
— Что бы ты ни говорил, я всегда считала, что человек способен противостоять судьбе.
— Простите мою дерзость, но вы по-прежнему остались той же бесшабашной девчонкой, которую я когда-то встретил в лесу в Марше.
37
Советы Бенвениста
Лихорадка нетерпеливого ожидания отъезда, охватившая Марти, после его встречи с Лайей превратилась в сокрушительный ураган. Прошло лето, убрали урожай с виноградников на холмах Магории, молодое вино свезли на склад в городе и убрали в погреб. Почти все вечера после работы Марти просиживал в доме Баруха, выспрашивая у него мельчайшие подробности обо всех портах, которые собирался посетить. Знания менялы были поистине неисчерпаемы, и Марти стремился с максимальной пользой использовать его богатейший жизненный опыт. В течение этих суматошных месяцев благодаря усилиям Аиши ему удалось несколько раз встретиться с Лайей в доме ее бывшей няни, и с каждой встречей зародившаяся любовь становилась все крепче.
В этот вечер Марти сидел в саду менялы под развесистым каштаном, за кубком превосходного вина из подвалов Баруха, забрасывая своего собеседника вопросами, внимательно слушая его советы и запивая их вином.
Спруга Баруха Ривка удалилась и вскоре вернулась со стеклянным графином, чтобы наполнить кубки, а за дверью тем временем пряталась Руфь, которой не терпелось послушать, о чем отец будет говорить с красивым и галантным молодым человеком.
В эту минуту как раз заговорил Бенвенист.
— Прежде всего, должен сказать, вас можно считать богатым человеком. Многие графские придворные не имеют и малой толики вашего богатства.
— Здесь я всецело полагаюсь на вас, — ответил Марти. — Мое дело — спокойно трудиться, как завещал отец, зная при этом, что мое достояние в надежных руках. Но все же расскажите мне подробней о том, чем я собираюсь заняться.
— Видите ли, Марти, далеко не всякий товар можно свободно ввозить и вывозить. Есть и такие товары, которые в определенные города ввозить строжайше запрещено.
— И от чего же это зависит?
— От многих обстоятельств. Например, от того, не воюет ли этот город с графствами Барселона, Жирона и Осона. Или если вывоз каких-то товаров может составить конкуренцию или просто не понравится какому-нибудь крупному тамошнему купцу.
— А кто будет следить за разгрузкой товаров в порту?
— Вы должны иметь полное представление о законах каждого королевства, в чьих портах будут останавливаться ваши суда. Именно от этого в значительной степени будет зависеть успех вашего предприятия. Например, вы должны знать, что в Барселону запрещено ввозить товары из Генуи, а в других государствах существует запрет на ввоз товаров из Венеции или Константинополя. Таким образом, выгружая товары в том или ином порту, нужно учитывать, какому государству этот порт принадлежит. Именно в этом, и только в этом будет состоять ваша ответственность, поскольку риск за возможные ошибки капитана, непогоду и нападения пиратов возьмет на себя покупатель вашего судна.
— А что, если во время плавания неожиданно представится возможность закупить товар, нигде не входящий в список запрещенных? Что мне тогда делать?
— Купить его. Никто не посмеет возражать или применить какие-либо санкции.
— А как я смогу оценить, подходит ли новый товар для наших целей, если не имею представления о его свойствах и правилах перевозки?
— Не беспокойтесь по этому поводу. В каждом порту вас будут встречать иудеи, способные оценить цену товара и риск, связанный с его доставкой, они всегда дадут вам добрый совет. В любом случае, мы поддержим ваше решение, а наше слово нерушимо.
— Меня больше тревожит другое, учитель.
— Прошу вас, не называйте меня так. Знания, которые я могу вам передать — всего лишь плод многих лет проб и ошибок. Но какие еще сомнения вас одолевают?
— Как мне понять понять, что та или иная сделка принесет выгоду?
— Везде, куда бы вы ни направились, вас будут ждать наши люди, они с радостью всё вам объяснят. Все они знают латынь. В любом уголке Средиземноморья Рим так или иначе оставил свой след, и местные жители везде могут сносно объясниться на латыни. Так что вы всё поймете.
Марти забросал своего друга вопросами про разные порты Средиземноморья и всевозможные ситуации, которые там могут возникнуть, и на все свои вопросы получил серьёзные и основательные ответы.
— Простите мою назойливость и то, что я злоупотребляю вашим терпением, — произнес Марти, хотя его интерес, казалось, был неисчерпаем.
— Не беспокойтесь. В конце концов, мы же собираемся стать партнерами. А теперь позвольте мне ненадолго отлучиться: мочевой пузырь не заставишь ждать. Признаюсь, вот уже много лет он держит меня в позорном рабстве, которого не избежит ни богатый, ни бедный, ни нищий, ни граф.
— Разумеется, Барух. Ведь это ваш дом, и я не стану доставлять вам хлопот. Я и так уже засиделся, хотя правила вежливости гласят, что гость не должен задерживаться в чужом доме после захода солнца.
Меняла поднялся и, заверив своего молодого гостя, что ничего не доставляет ему такой радости, как его визиты, вышел.
Этим немедленно воспользовалась Руфь; она вошла в комнату с графином в руках и, не обращая внимания на суровый взгляд матери, приблизилась к Марти и предложила ему еще один стакан золотистой жидкости.
— Я слышала, будто бы вы собираетесь в долгое путешествие? — спросила девочка, как будто не разузнала все подробности этого дела.
— Да. Я рискнул заняться делом, о котором мало что знаю, и хочу постараться его освоить. Поэтому я так нуждаюсь в добрых советах твоего отца.
— Вы далеко уезжаете?
— Насколько позволят время, море и обстоятельства.
— Как я вам завидую! — вздохнула девочка, прикрыв глаза. — Вы повидаете мир, получите бесценный опыт, вам будет, что вспомнить. Если бы я могла снова родиться на свет, я бы хотела родиться мужчиной. Жизнь еврейской девушки скучна и однообразна. А кроме того, целиком зависит от родительской воли и капризов судьбы, которая может дать в мужья хорошего человека, а может — какого-нибудь противного старикашку.
Ривка хотела уже вмешаться, но Марти ее опередил.
— Не думаю, что отец отдаст тебя в жены кому-нибудь, с кем ты будешь несчастна. Тебе повезло родиться дочерью доброго и любящего отца.
В эту минуту на кухне что-то упало, и Ривка, бросив на дочь строгий взгляд — впрочем, Руфь сделала вид, будто ничего не заметила — вышла посмотреть, что стряслось.
— Может быть, вы и правы, но я знаю, что случись мне полюбить христианина, отец никогда не даст своего благословения, — ответила девочка, пользуясь тем, что никто из ее родителей ее не слышит.
— Но ведь это естественно, — возразил Марти. — Тебе же лучше выйти замуж за молодого человека твоего вероисповедания, имеющего те же привычки и получившего такое же воспитание, чем за чужака, чтобы потом привыкать к незнакомым обычаям. Уверен, что у тебя куда больше знакомых молодых людей среди евреев, чем среди христиан.
— А вот я в этом совсем не уверена, — надула губки девочка. — Вот, например, вас я знаю: вы ведь часто бываете в нашем доме, и отец всегда рад вас видеть.
От такой девичьей непосредственности Марти стало не по себе, он даже слегка встревожился.
— Ты очаровательная девочка, у тебя множество достоинств, но ведь ты сама только что сказала, что не хочешь выходить за старика; а мне бы не хотелось добавлять к этому еще и религиозные осложнения.
— Я никогда не называла вас стариком.
Марти не знал, что и возразить против откровенности храброй девчушки, но тут послышался голос Баруха, избавивший его от неприятных объяснений.
— Руфь, что ты здесь делаешь? Зачем надоедаешь нашему гостю?
— Ничего, отец. Гость рассказывал мне о своем замечательном путешествии, а я старалась его развлечь, чтобы не скучал в ваше отсутствие. Но я уже ухожу. Вы правда не желаете еще лимонаду? — спросила она, подняв графин.
— Наш гость больше ничего не желает, а единственное, чего желаю я — чтобы ты немедленно удалилась, — отчеканил еврей.
Грациозно присев, девочка удалилась.
— Простите ее, — сказал Барух. — Она ещё слишком молода, ветер в голове, и многих вещей она просто не понимает.
— Она очаровательное создание. Думаю, вам не составит труда найти для нее хорошего мужа.
— Ох, боюсь, что из всех трех моих дочерей именно для этой труднее всего будет найти человека, за которого она согласилась бы выйти замуж. Старшая дочь в будущем году выходит за одного замечательного парня из Бесалу, его отец владеет банями в нескольких городах. Вторая помолвлена со старшим сыном раввина Шемуэла Меламеда — мы уже договорились о свадьбе. Но боюсь, что младшая отвергнет любого жениха, которого найдем мы с ее матерью. И я уверен, если никто так и не придется ей по душе, в конце концов она останется в одиночестве.
38
Исповеди
Обязанности падре Льобета были очерчены четко и ясно. Каждое утро священник являлся в замок и служил мессу в личной часовне графини, потом исповедовал ее и отпускал грехи, в которых она пожелала признаться. Лишь если бы из Рима пришёл страшный вердикт об отлучении, он мог бы перестать это делать, ведь особа, отлученная от церкви, не может участвовать в священных таинствах. Тем не менее, его совесть говорила иное.
Свою новую должность священник получил после смерти предшественника. Когда епископ назначил его на этот пост, Льобету хотелось отказаться, поскольку жизненный опыт советовал держаться подальше от сильных мира сего, ведь от них не приходится ждать ничего кроме неприятностей. Кое-кто, разумеется, обрадовался бы подобному назначению, видя в нем неограниченные возможности для собственного благоденствия и процветания, но только не падре Льобет.
Однако отказаться от этого назначения он не мог. Конечно, он не считал, что Альмодис появилась в Барселоне подобающим образом, но сколь бы ни были оскорблены его христианские чувства, стоило познакомиться с этой женщиной, он понял — она окажется гораздо полезнее для графства, нежели отвергнутая Бланка де Ампурьяс, если, конечно, помочь ей избежать отлучения. Ему уже успели рассказать, как мужественно она держалась во время нападения пиратов. Хотя эта история передавалась из уст в уста, он решил узнать обо всем от очевидцев, а потому на правах старого друга встретился с Жильбером д'Эструком, возглавлявшим дерзкую вылазку, и тот подробно рассказал обо всех событиях той ночи в бухте Монжуа. Старого воина покорила отвага графини, и с этой минуты он стал относиться к ней с искренним восхищением и симпатией.
Вставал падре Льобет еще до рассвета. После утренней молитвы он отправлялся во дворец, и в графской часовне дожидался на скамье в исповедальне встречи с единственной прихожанкой. Она неизменно являлась точно в срок в сопровождении придворных дам и уродца-карлика по прозвищу Дельфин, который, очевидно, пользовался ее безграничным доверием. Исповеди скорее были похожи на обычные разговоры, поскольку с первого дня Льобет занял четкую позицию.
— Видите ли, сеньора, — сказал он тогда. — И мне, и вам прекрасно известно, что вы живете во грехе, не стыдясь своих подданных. Я знаю, что мое решение может иметь для меня самые печальные последствия, но тем не менее, не смогу отпустить вам грехи, если вы не раскаетесь и не измените своего поведения. Насколько мне известно, вы не собираетесь выполнять условия, необходимые для святого причастия, так что попрошу вас встать с колен. До тех пор, пока в Риме не расторгнут ваш предыдущий брак — а это, по-видимому, вполне возможно, поскольку два предыдущих растроргли — и пока вас не свяжут с графом узы священного таинства, если, конечно, он тоже получит развод, ни о каком отпущении грехов не может быть и речи. А если вы не согласны, можете отправить меня восвояси и пригласить более сговорчивого священника, он, несомненно, подарит вашей душе желанный покой.
Гордый ответ графини удивил падре Льобета.
— Прежде всего, с сегодняшнего дня мы будем сидеть на соседних скамьях, на одной и той же высоте, ведь раз я не достойна получить отпущения грехов, то графине Барселонской не к лицу опускаться на колени перед простым священником. Останетесь вы моим духовником или нет, решать буду я, даже сам граф Барселонский не считает себя вправе вмешиваться в мои личные дела. Кроме того, с той минуты, как я избрала вас моим духовным наставником, я не желаю слышать от вас ни слова фальши, мне претит лесть, на которую часто столь падки сильные мира сего. Мне нравится ваша честность и прямота, и надеюсь, со временем вы станете моим другом.
Разговоры с графиней, равно как и беседы с Барухом Бенвенистом, оказывали благотворное действие на разум падре Льобета. Выслушивая остроумные реплики и придумывая убедительные доводы, бывший воин с каждым днем становился все больше похожим на ученого архидьякона. И теперь ему вспомнился самый неопровержимый аргумент Альмодис относительно ее грехов.
— Меня одолевают кое-какие сомнения, — призналась она. — Хочу спросить у вас совета.
— Я вас слушаю, графиня.
— Понимаю, вы не можете отпустить мне этот грех, но я даже помыслить не могу о том, чтобы расстаться с Рамоном. Но в то же время мне не дает покоя иной грех. Мне пришлось убить человека. Можете ли вы отпустить мне этот грех, из-за которого Христос и впрямь должен меня отвергнуть, оставив неотпущенным тот, в котором обвиняет меня Святая Церковь, хотя я сама не чувствую ни малейшей вины?
— Сеньора, таинство исповеди — это не ярмарка, где можно поменять один товар на другой. какой больше понравится. Грех есть грех, нельзя отпускать одни грехи в обмен на другие. Таинство исповеди имеет свои правила, и мы не можем подгонять их под свои убеждения, как платье по фигуре.
— Но ведь сам Господь сказал: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся». Так отчего же вам, оставив на моей совести один грех, не отпустить все остальные, в том числе и тот, что действительно беспощадно терзает мою совесть? Если со мной что-то случится, я так и скажу там, наверху: пусть за этот грех отвечают те, кто в первый раз выдал меня замуж без моего согласия, а во второй — отдал в жены старику, принеся в жертву интересам государства. Неужели женщина не имеет права сама распоряжаться судьбой, а должна лишь служить удобствам мужчин?
— Сеньора, я всего лишь скромный священник, не моего ума дело вмешиваться в вопросы большой политики. Но если каждая принцесса или высокородная сеньора начнёт по своему капризу рвать священные узы, потому что ее, видите ли, не устраивает спутник жизни, весь христианский мир обрушится, как замок из песка.
— Но поймите, наконец, это моя жизнь, и она у меня одна, а я не создана для того, чтобы удержать на своих хрупких плечах все царства этого мира. Когда на моей могиле установят надгробие с надписью «Здесь лежит Альмодис», мой путь через эту юдоль печали будет наконец-то завершен, а дальнейший, надеюсь, станет более приятным. Свою долю слез я уже выплакала.
Ее доводы оказались столь неопровержимы, что священник не нашелся с ответом.
В конечном счете, графиня почти всегда сводила разговор к вопросу наследования и требовала, чтобы священник высказал свое мнение по этому поводу — как частное лицо.
— Но позвольте, мой добрый каноник, я говорю о том, что лучше для нашего графства с точки зрения политической целесообразности. Предположим, из Рима придет вердикт о расторжении наших предыдущих браков, и нас с графом Барселонским признают мужем и женой. При этом наследником является Педро Рамон, как старший сын моего мужа. Не будем брать в расчет мое личное мнение, оно едва ли может быть объективным, а потому не стоит и ломаного гроша. Но неужели вы считаете, что он достоин править только потому, что родился первым? Если бы я дала Барселоне другого наследника, неужели было бы несправедливо, если бы граф в интересах графства и своих подданных передал власть более достойному?
— Сеньора, не моего ума дело обсуждать подобные вещи, я чувствую себя не в своей тарелке, когда вы заводите подобные разговоры.
— Льобет, я спрашиваю вас как сведущего человека и бывшего воина, который в свое время сражался под знаменами Беренгеров. Что такого ужасного в том, что графиня Барселонская спросила совета у более опытного и знающего человека? Пока что я смиренно прошу вас, но если потребуется, могу приказать вам ответить на вопрос.
Священник с минуту колебался.
— Может статься, что я вас обману, сеньора.
— Этого вам не позволит сделать ни ваша религия, ни честность. Отвечайте.
— Ну что ж, сеньора, если плод этой, увы, греховной связи унаследует достоинства и политические таланты своей матери, он действительно сможет принести графству немалую пользу.
39
Ночные похождения
Дельфина пугала чрезмерная решительность его сеньоры, как и навязчивая идея, засевшая у нее в голове. Он знал, что Альмодис одержима мыслью о том, чтобы любой ценой зачать наследника, и вовсю строит планы. Карлик хорошо знал свою хозяйку и не сомневался, что если ей что-то втемяшилось в голову, то она своротит горы, лишь бы добиться желаемого. А поскольку в свою авантюру она непременно втянет карлика, то в случае провала расхлебывать кашу придется ему, ведь графине в любом случае ничего не грозит: во-первых, в силу ее положения, а во-вторых, благодаря безумной любви графа, готового простить ей что угодно и защитить от любой опасности.
Да, безусловно, Дельфин обладал даром предвидения, но, вопреки мнению графини, не имел колдовской силы и не умел предсказывать судьбу по звездам. Тем не менее, он никогда не упускал случая пообщаться с людьми, сведущими в этих вопросах, будь то истинные провидцы или обычные шарлатаны, умело играющие на страхах и тревогах доверчивых людей, чтобы половчее выпотрошить их кошельки.
И вот однажды этот несчастный совершил недопустимую глупость, случайно проговорившись Альмодис об одной своей знакомой, слепой провидице — к ней часто наведывались бесплодные женщины, мечтавшие забеременеть, а также оступившиеся девицы, которым требовалось восстановить нарушенную девственность, чтобы у родителей не возникло даже мысли о бесчестье дочери. И те, и другие не уставали петь дифирамбы целительнице, уверяя, что она настоящая волшебница в этих делах. Дельфин познакомился с ней в одной таверне неподалеку от Кастельнау, которую содержал ее зять. Карлик обратил внимание, что помимо обычных пьяниц, сидящих в переполненном зале за кувшином вина, в таверну то и дело наведываются странные личности, закутанные в плащи, хотя все равно было ясно, что некоторые очевидно беременны. Они бесшумно, словно тени, скользили по проходу между столами и скрывались за потайной дверцей в глубине зала.
Услышав о целительнице, графиня не стала долго раздумывать.
— Ну что ж, друг мой, — заявила она. — Передай этой особе, что я желаю с ней встретиться. Ее знания могут оказаться весьма полезны. На будущей неделе, по совету доньи Лионор, я собираюсь навестить графа, он уехал воевать в Тортосу, и хочу использовать все средства, чтобы не упустить возможности зачать и вернуться в Барселону с наследником во чреве.
— Но, сеньора... — возразил карлик. — Флоринда принимает посетителей только по ночам, а ваша свита непременно привлечёт внимание в столь неподходящем месте.
— Что еще ты придумал, скажи на милость? Что графиня Альмодис де ла Марш отправится по столь деликатному делу под звуки фанфар и бой барабанов?
— И каков же ваш план, сеньора?
— Мы с тобой пойдем вдвоем, закутавшись в плащи.
— Вы можете меня убить, но это не пересилит мой страх перед графом, как подумаю, что он сделает, если нас изобличат. И можно не сомневаться, что гнев графа целиком падет на мою голову.
— Совсем не обязательно, что нас изобличат, — ответила графиня, — но обещаю, что если будешь продолжать упрямиться, я усядусь тебе на хребет и стану погонять плёткой, как ленивого осла.
Дельфин чувствовал себя меж двумя жерновами, а потому выбрал наименее рискованный вариант. Флоринда принимала посетителей в задней комнатке, примыкающей к обеденному залу таверны «Хромой купец», что явно указывало на хромоту ее владельца. Таверна была плотно зажата между двумя соседними домами, которые изо всех сил поддерживали её дряхлеющий остов, готовый вот-вот рухнуть. Чтобы добраться до места, требовалось проделать довольно опасный путь по темным переулкам, а в ночные часы в городе царила непроглядная тьма, особенно на окраинах, прекрасная возможность для разбойников творить черные дела.
Флоринда хорошо понимала, что успешность ее работы в немалой степени зависит от рассказов клиентов. Тонкая интуиция и поразительная чуткость пальцев прекрасно возмещала ей отсутствие зрения. Когда перед ней предстал Дельфин и без лишних слов объявил, что некая особа, желающая остаться неизвестной, нуждается в ее услугах, умная женщина, привыкшая добывать нужные сведения из самых незначительных вещей, тут же принялась осторожно расспрашивать посланника, стараясь узнать как можно больше о будущей клиентке.
— Ну, если вы не желаете говорить, кто эта особа, — произнесла она, — скажите, по крайней мере, в чем состоит ее проблема, а также сообщите кое-какие сведения о ней самой, чтобы я могла понять, как справиться с ее бедой. А лучше всего будет, если она придет ко мне сама, ведь вы можете не знать о многих ее женских особенностях.
Карлик явно трусил.
— О цене не беспокойтесь: мы заплатим — сколько попросите и даже больше, единственное условие — женщина придёт в маске, она не желает быть узнанной.
Флоринда уже догадалась, что речь идет о знатной даме. Придворные дамы частенько обращались к ней за помощью, и нередко даже случалось, что две знатные особы, столкнувшись у нее на приеме, искренне удивлялись, глядя друг на друга, что делает высокородная дама в таком месте и в такой час.
— Я так понимаю, она желает избавиться от беременности? — осведомилась Флоринда. — Снадобья, которые для этого требуются, достаточно редки. Их, знаете ли, не каждый день используют.
— Как раз напротив, — поспешил заверить карлик. — Только больше ни о чем не спрашивайте. Когда потребуются ваши услуги, я дам знать.
Они договорились о том, когда и в каком часу дама придет на прием.
Самой сложной задачей было выбраться из дворца незамеченными: ведь никто бы их не выпустил в такой поздний час без охраны. Дельфину пришлось поломать голову, прежде чем он придумал, как покинуть дворец. Важная роль отводилась увесистому кошельку графини.
Время от времени дворцовая стража совершала обход. Командир стражи лично следил за сменой караула. Караульные стояли вдоль всей стены, особенно бдительно охранялись выходы из дворца. Дельфин не так давно обыграл в кости одного из караульных, который, как он знал, во время второй смены будет охранять задний выход из дворца. Этого человека угнетал висящий на нем долг, к тому же вскоре ему предстояло в третий раз стать отцом. Дельфину не составило труда с ним договориться.
— Видите ли, Олегер, — так звали этого стражника. — Я собираюсь попросить вас об одной услуге, и буду по гроб жизни благодарен.
— Ну, если это в моих силах и ничем мне не угрожает, то почему бы и нет? — ответил стражник.
— Видите ли, я слуга главного ключника, а мой женатый хозяин увлёкся одной девицей из таверны. Короче говоря, ему нужно ночью тайком покинуть дворец, не привлекая внимания караульного, и вернуться обратно до рассвета, прежде чем сеньору потребуются его услуги.
— И какова моя роль?
— Насколько мне известно, вы должны стоять на часах до окончания вечерни, потом сменяетесь и отдыхаете до заутрени, а в первом часу ночи вновь заступаете. В это время, не раньше, и не позже, мы с хозяином вернемся во дворец, и вы нас пропустите.
— Но ведь я наверняка буду охранять другой выход.
— Это я тоже предусмотрел, — ответил карлик. — Мы с хозяином пойдём вдоль стены, пока не доберёмся до ваших ворот, наверху вы вывесите красный платок, чтобы мы могли их найти.
— Откуда вы столько обо мне знаете?
— Ловкость, мой дорогой друг— первое дело, если хочешь выжить в этом кипящем котле дворцовых интриг.
— Предположим, я согласен, — сказал стражник. — И что я получу за риск?
— Кошелёк с пятью динарами, когда вы нас выпустите, и ещё столько же, когда мы вернёмся назад, а также благоволение весьма влиятельного человека. Мой хозяин умеет быть благодарным тем, кто помог ему в минуты затруднений.
— По рукам! Всегда восхищался такими упорными мужиками! Сказать по правде, ничто так не возбуждает мужчин, как женская неуступчивость.
— Такова жизнь. На этом и построены правила любовной игры.
На том и порешили. В скором времени графиня Альмодис, переодетая в мужское платье и плотно закутанная в плащ с капюшоном, в сопровождении карлика подошла к небольшой дверце в дворцовой стене; лицо ее скрывала маска. Она готова была сжечь за собой все мосты, лишь бы подарить сына графу и наследника — графству Барселонскому, вместо никчемного первенца ее мужа от давно покойной Изабеллы Барселонской.
40
Слепая Флоринда
Две закутанные в плащи тени остановились возле двери, которую охранял Олегер. Караульный, перекладывая из руки в руку копье и щит, нервно расхаживал взад-вперед по короткому коридору. Более высокая тень остановилась в отдалении, а маленькая приблизилась вплотную и прошептала:
— Вот и мы, и готовы завершить сделку.
— Вы принесли, что обещали?
Маленькая тень извлекла из-под плаща кошелек с условленной суммой.
— Вот, можете пересчитать.
Караульный взял кожаный мешочек, взвесил его на ладони, распустил тесемку и пересчитал монеты в тусклом свете фонаря.
— Я заработал и на Педро с его козами, будь у меня голова на плечах, я бы не стал с вами связываться.
— Вы потеряете голову, если кому-нибудь об этом заикнётесь. Клянусь, если меня подведете, с вами покончено.
Стражник задумался.
— Можете не беспокоиться, — ответил он. — Я умею держать слово.
Карлик почувствовал облегчение, ведь в случае провала он и сам мог расстаться с головой.
Пока они договаривались, высокая тень терпеливо ждала.
— Не забудьте, Олегер: когда перейдёте к другой двери, повесьте на ней красный платок.
— Он у меня с собой, — стражник вынул из кармана плаща, наброшенного поверх кирасы, мятую тряпку и показал ее Дельфину.
— А вы, прежде чем войти, передадите мне оставшуюся часть денег.
— Ну что ж, договорились.
Караульный подался в сторону, пропуская их сквозь маленькую дверцу. Высокая тень бесшумно скользнула наружу и тут же растворилась в темном переулке. Дельфин последовал за ней.
В Барселоне почти не было уличного освещения, и неосторожные путники, решившие высунуть нос из дома в столь поздний час, неизбежно привлекли бы внимание грабителей, только и ждущих, как бы выпотрошить их кошельки и отобрать всё ценное.
— Сеньора, главное — добраться до окраин, а там — есть у меня одна мыслишка...
Голос Альмодис хрипло прозвучал из-под плаща:
— Делай, что хочешь, только шевелись. И кончай дрожать, как овечий хвост, словно боишься собственной тени.
— Госпожа, лучше заранее подстраховаться, чем потом кусать локти. На кладбищах и так лежит слишком много безрассудных смельчаков, которые погибли из-за собственной беспечности, и у меня нет ни малейшего желания пополнить собой их число.
Графиня и карлик быстро шагали, стараясь не наткнуться в темноте на колонны и выступы стен; порой навстречу им попадались редкие прохожие, как и они, закутанные в плащи. Парочка старалась держаться от них подальше: любой встречный в этот час мог оказаться грабителем или убийцей.
Вскоре они покинули окрестности дворца; затем миновали церковь святого Иакова и, обогнув Каль, вошли в ворота Кастельнау. Здесь Дельфин вынул из кошеля погремушку и стал ею потряхивать, немного обогнав Альмодис. В некоторых кварталах города действовал закон, оставшийся с тех времен, когда там свирепствовала оспа: на улицу впереди больного должен идти слуга, родственник или друг, гремя костяной или деревянной погремушкой. Дельфин рассудил, что это должно отпугнуть грабителей и прочих злодеев, которые будут держаться на расстоянии, опасаясь заразы, и они смогут спокойно пройти по улицам. Чума или проказа внушала людям куда больший ужас, чем полчища мавров, засевших на другом берегу Эбро. Таким образом графиня и карлик благополучно добрались до заветной таверны.
Над дверью «Хромого купца» красовалась облезлая деревянная вывеска, изъеденная жучком, на которой в свете тусклого фонаря все же можно было разобрать название сего почтенного заведения. Изнутри доносился гул голосов Очевидно, иные посетители были уже мертвецки пьяны, а другие только собирались напиться. По спине Альмодис пробежал холодок, и это тут же предалось Дельфину.
— Сеньора, если вы боитесь, мы можем вернуться, — прошептал он.
— Послушай, если ты ищешь повод, чтобы смыться, то хотя бы не пытайся морочить мне голову, — сердито оборвала его графиня. — Я собственными руками снесла голову пирату, в то время как ты позорно прятался в бочке из-под селедки. Так что мы оба прекрасно знаем, кто чего стоит.
Понимая, что жребий все равно уже брошен, карлик решил покориться судьбе. Толкнув хлипкую дверь, он шагнул вперед, Альмодис последовала за ним. Шум в таверне был совершенно невыносимым. Люди орали во всю глотку, стараясь перекричать друг друга, отовсюду доносились ругательства и оскорбления. Какой-то особо буйный посетитель постоянно лез в драку, а хозяин, не желающий терпеть убытки, изо всех сил старался его успокоить. При появлении двоих закутанных в плащи незнакомцев все на мгновение умолкли, и хромой хозяин тут же повернулся в их сторону. Очевидно, невестка заранее предупредила его о визите знатных гостей, и, судя по тому, с какой услужливостью трактирщик выполнял ее распоряжения, главной здесь была именно она.
— Сеньоры, если желаете, я провожу вас в менее шумное и более укромное место, — произнес трактирщик. — Для благородных людей в моем заведении имеются отдельные комнаты.
Развернувшись, он поманил их за собой. Альмодис и Дельфин послушно двинулись за ним, лавируя между столами с пьяницами, словно два корабля во время шторма.
В дальнем углу «Хромого купца» скрывалась маленькая лесенка всего в три ступеньки. Флоринда явно уделяла особое внимание обстановке и предпочитала, чтобы гость был хорошо освещен, а потому вдоль прохода, ведущего к рабочему месту хозяйки, горело множество свечей, в то время как сама она скрывалась в тени, и эта таинственность производила на посетителей еще большее впечатление. Острое чутье и тонкий слух целительницы подсказывали, что приведенная ее зятем парочка — важные люди. Тем не менее, несмотря на весь свой опыт, она так и не смогла определить, кто же почтил ее своим присутствием. Походку своего зятя она прекрасно знала; он ходил, припадая на одну ногу. Но тут она расслышала чьи-то мелкие дробные шажки, а затем — четкий и уверенный шаг еще одного человека. Хромой, подойдя вплотную к ее столу, представил гостей:
— Флоринда, этим благородным господам требуются твои услуги, а я, с вашего позволения, откланяюсь. — Повернувшись к посетителям, он добавил: — Если вам что— то потребуется, зовите.
Дельфин поспешил ответить, что им ничего не нужно, а закутанная в плащ тень заняла место на одной из двух шатких скамеек, напротив стола целительницы, причем с такой непринужденностью, будто находилась у себя дома.
Услышав жалобный скрип скамейки, Флоринда подумала, что сегодня ночью ей предстоит весьма нелегкая работа, поскольку нынешняя посетительница не питает к ней того боязливого почтения, с каким относились к ней другие женщины, приходившие за помощью.
И тогда целительница заговорила.
— Я привыкла видеть лица моих гостей, так что, если вас не затруднит, мне хотелось бы увидеть ваше.
— Мне сказали, что ты слепа, — произнесла Альмодис. — Пелена покрывает твои глаза.
— Мои глаза различают лишь неясные тени, но пальцы способны оценить черты лица. Вы будете поражены, как точно я смогу описать вас после того, как ощупаю.
Дельфин хотел вмешаться, но графиня его опередила.
— Поскольку я оплачиваю твои услуги, мне и решать, как именно ты будешь делать свою работу.
Женщина несколько растерялась.
— Сеньора, для меня важно знать, с кем я имею дело.
— А для меня не менее важно, чтобы ты этого не узнала. Ну хорошо, я сниму плащ, здесь невыносимо жарко. Но не прикасайся ко мне.
— В таком случае я не смогу вам помочь.
— Ты меня все равно не увидишь. Если тебе не нужен набитый золотом кошелёк, который ты получишь, если я останусь довольна — так сразу и скажи, и вопрос будет исчерпан.
Флоринда решила, что сидящая перед ней женщина уже не первой молодости и ее красота уже начала увядать, однако сила ее духа по-прежнему несокрушима. В любом случае, Флоринда была уверена, что эта женщина — важная персона.
Она услышала собственный голос и не узнала его.
— Ну что ж, пока что мне этого достаточно. Ваш спутник может остаться здесь, но имейте в виду, если вы не желаете, чтобы я к вам прикасалась, придется задать вам намного больше вопросов, причем самого интимного свойства, чтобы составить представление о вашем здоровье и трудностях.
— Не волнуйся по этому поводу, — ответила графиня. — Я готова ответить.
— Тогда приступим. Расскажите о вашем нынешнем положении и чего вы хотите.
Альмодис уже поняла, что не стоит попусту напускать туман, и перешла сразу к сути.
— Видишь ли, я замужняя женщина и в том возрасте, когда материнство уже становится проблематичным и во многом зависит от случая. Мне необходимо родить, чтобы обеспечить старость. Если у меня не будет ребёнка, наследство моего мужа перейдёт к его старшему сыну от первой жены, а моим уделом станет нищета. Поэтому мне необходимо родить наследника, чтобы не остаться ни с чем... А впрочем, это не единственная проблема.
— Постараюсь вам помочь, но вы должны рассказать мне все, как на исповеди. Я должна знать о вас все, лишь тогда мы сможем справиться с вашей проблемой. Вы должны рассказать не только о том, что тревожит вашу душу, но и об особенностях вашего тела, и даже если я спрошу у вас о чём-то таком, что покажется слишком интимным. Итак, начнём. Прежде всего, ответьте: у вас ещё бывают месячные или уже прекратились?
— Бывают, правда, не всегда регулярно. В этом месяце, например, ещё не было.
— У вас есть другие дети?
— Да, от предыдущего брака.
— Насколько я поняла, у вашего мужа тоже есть дети.
— Да.
— Как часто у вас бывает плотское соитие с супругом?
— Мой муж вынужден часто уезжать. Мы не всегда можем быть вместе.
— Позвольте ещё один вопрос: во время соития вы находитесь внизу?
Дельфин в ужасе перебил:
— Сеньора, может быть, мне лучше подождать снаружи?
— Да, пожалуй, вам лучше выйти, чтобы не смущать даму, потому что сейчас я начну задавать ей ещё более интимные вопросы, — ответила Флоринда.
— Меня это совершенно не смущает, — заявила Альмодис. — Этот карлик — все равно что моя собственная тень. Придворным дамам частенько приходится выставлять его из моих покоев, когда я принимаю ванну, хотя лично меня совершенно не беспокоит его присутствие.
Ответ графини подтвердил подозрения Флоринды, что дама, пришедшая к ней за советом — особа знатного рода и она явилась под чужим именем, не желая быть узнанной. Это открытие заставило целительницу стать еще более осторожной.
— В любом случае, будет лучше, если мы останемся наедине, — сказала она.
— Ну, если ты настаиваешь, значит, так мы и поступим.
Дельфин забрал свой плащ, но в дверях обернулся.
— Сеньора, я подожду вас на лестнице. Если я понадоблюсь, позовите.
С этими словами он вышел.
— Ну что ж, продолжим, сеньора, — произнесла Флоринда. — Итак, изложите подробно вашу ситуацию.
— Я родом из Септимании. Там, у меня на родине, все по-другому; тамошние обычаи весьма отличаются от здешних. Я познакомилась со своим мужем во время одной из его деловых поездок, мы оба были вдовы и решили пожениться.
— К сожалению, это ни о чем мне не говорит.
— Это говорит о многом, — возразила Альмодис. — Обычаи моей страны отличаются некоторой вольностью, Пиренеи — не просто граница между нашими землями. И выйдя замуж, я с удивлением обнаружила, что любой школяр из Каркассона или Тулузы имеет в любовных делах больше опыта, чем мой муж. Одним словом, мне пришлось учить его почти всему.
— Все это хорошо, но все же не удаляйтесь от темы.
— Муж часто делит со мной ложе, но всё очень быстро заканчивается, — продолжила Альмодис.
— Я вас спрашиваю о том, что действительно важно, а вы не желаете отвечать.
— Когда мы с ним сошлись, оказалось, что в постели он скучен и однообразен. Мне пришлось его учить, и, должна заметить, он оказался способным учеником.
— Сеньора, позвольте вас спросить: в какой позе вы обычно занимаетесь любовью? Он находится сверху, под вами или сзади — так сказать, по-собачьи?
Альмодис невольно покраснела. Голос ясновидящей зазвучал успокаивающе:
— Не смущайтесь, сеньора. Мы здесь одни, и никого не интересует, о чем сплетничают две женщины.
— Он предпочитает заниматься любовью самым обычным способом и часто пренебрегает любовной прелюдией. А ведь она очень важна для любовной игры, вот только мой муж не понимает, как много прелюдия значит для женщины.
— Я так понимаю, он слишком быстро заканчивает, не дожидаясь, пока вы достигнете пика наслаждения.
— Именно это я и хотела сказать.
Слепая погрузилась в раздумья. Альмодис терпеливо ждала ее ответа.
Наконец, Флоринда вновь заговорила.
— Итак, мы имеем три проблемы, — заключила Флоринда. — Первая: нужно выяснить, способно ли ваше поле взрастить в себе семя или уже утратило плодородие. Затем — узнать, жизнеспособно ли семя вашего супруга и, наконец, принять меры к тому, чтобы семена дали всходы.
Женщины беседовали ещё долго.
— Итак, надо сделать следующее, — подвела итоги Флоринда. — Прежде всего, вы должны ложиться с вашим супругом каждую ночь в течение двадцати одного дня, пока не завершится ваш женский цикл. Далее: дважды за ночь вы должны будете совокупляться с мужем в иных позициях, чтобы перед третьим соитием он смог расслабиться и дольше задержаться в вашем лоне, куда вы введете особое снадобье, которое я вам дам. Но сделать это вы должны будете наедине. Это нетрудно: мужчины в известных обстоятельствах готовы поверить любому слову женщины, так что вы легко найдете предлог, чтобы на минутку отлучиться. Наконец, перед третьим соитием выпейте микстуру. Она обладает возбуждающим действием, а также способствует зачатию. Во время третьего соития вы ляжете под мужа и крепко обнимите его ногами, закинув ему на поясницу. И тогда весьма вероятно, что скоро вы станете матерью. Если же это не поможет — значит, любые попытки бесполезны, сама природа противится вашему зачатию, и ничего тут не поделаешь.
Женщина поднялась и с уверенностью слепой направилась вглубь комнаты, к полкам, заставленным всевозможными склянками, пузырьками и горшочками. Здесь же помещался стол, также уставленный флаконами и пузырьками. Слепая развела огонь под маленькой жаровней, шепча странные заклинания. Затем она выпотрошила рыбину, резкий запах которой разнесся по всей комнате, извлекла из нее икру и принялась растирать ее в ступке, понемногу добавляя в нее снадобья из разных горшочков: сельдерей, мускатный орех, финики, гвоздику, чеснок и льняное масло, пока содержимое ступки не превратилось в вязкую мазь. Тогда слепая переложила снадобье в склянку, заткнула его пробкой и запечатала воском. Затем, используя уже другие ингредиенты, она приготовила микстуру и упаковала таким же манером. Закончив, она вновь повернулась к Альмодис, которая бесстрашно протянула руки за снадобьями.
— Итак, вот что сделаете. Навестите вашего супруга там, где сочтете удобным. Но под любым предлогом вы должны отказывать ему в близости несколько дней и ночей, чтобы как можно больше распалить. Для этого придется выдумать какой-то предлог — скажем, потребовать исполнить какой-нибудь ваш каприз. В назначенный день возляжете с ним трижды: первые два — в любых позах, кроме той, что под ним. Потом под каким-нибудь предлогом вы ненадолго прерветесь и дадите ему выпить особое зелье, которое добавите в сладкое вино. Это зелье содержит шафран, базилик, кориандр, можжевельник и сельдерей. Скажите ему, что это питье прибавит сил и наполнит сердце радостью. Затем уединитесь в укромном месте и смажьте ваше лоно мазью вот из этого горшочка — уж его-то вы точно ни с чем не перепутаете. Эта мазь усилит ваш женский запах, и, когда вы вернетесь к мужу, он придет в такое возбуждение, что захочет овладеть вами снова. Как я уже сказала, он начнет действовать, как таран, и зелье внутри вас тоже подействует. Так что его семяизвержение будет замедленным, но при этом более продуктивным, и вы не должны позволить вытечь ни капли этой жидкости из своего женского сосуда. Всё ясно?
Альмодис бросила Флоринде на стол кошелёк с монетами и пообещала, что если ее советы, мази и микстуры помогут, она получит ещё столько же. Затем графиня вновь закуталась в плащ и вышла из комнаты. Дельфин последовал за ней, бренча колотушкой, в другой же руке он сжимал мешочек со снадобьями Флоринды.
41
Расставания
День отъезда приближался, и у Марти осталось лишь одно, последнее дело: проститься с матерью. Он взял лучшего коня, набил седельные сумки всевозможными подарками, чтобы порадовать близких, и отправился в путь. Дорога заняла четыре дня, и каждый день его конь покрывал расстояние в восемь лиг. Когда вдали замаячил родной дом, душа Марти наполнилась радостью при мысли о том, что он исполнил волю отца.
Почти бесплодный кусок земли теперь превратился в цветущее поле, а усадьба совершенно преобразилась. В поле он заметил несколько крестьянских семей, которые теперь работали на его мать. Не так давно он купил соседний участок с источником воды, и теперь поле превратилось в настоящую симфонию красок. Султан, издали почуяв его приближение, бросился навстречу, ликующим лаем оповестив всю округу, что спускающийся с холма всадник — молодой хозяин. Соседи и домочадцы гурьбой высыпали к дороге, а в дверях дома появилась мать, вытирая руки о тряпку. Пришпорив коня, Марти галопом помчался к дому и в скором времени уже стоял у ворот. Спешившись, он бросился в объятья матери.
Домочадцы набросились на Марти с расспросами. Добрые старые слуги, Матеу и Томаса, тут же принялись хвастаться перед новыми арендаторами, какие усовершенствования ввёл хозяин, и вскоре вся округа только и говорила, что о новинках Марти и о том, каким благословением оказалась проведённая на поля вода. Немного угомонившись, слуги отправились накрывать праздничный стол, а Эмма и Марти остались наедине.
— Что-то мне подсказывает, сынок, — озабоченным тоном произнесла женщина, — что теперь ты собираешься уехать по-настоящему далеко.
— Я еду туда, куда зовет судьба. Хочу повидать мир. Вы же знаете, мама, что я мечтал об этом с детства.
Эмма не смогла сдержать улыбку.
— С детства ты всегда был одержим какой-нибудь идеей.
Женщина провела рукой по лбу, словно отгоняя дурные предчувствия, и заговорила о другом.
— Басилия вышла замуж и уже стала матерью. На прошлой неделе мы с ней виделись на ярмарке в Бесалу.
Марти предпочел сменить тему. Смутные воспоминания об этой девушке, которая когда-то казалась ему центром Вселенной, теперь почти стерлись из его памяти.
— Вы ездили на ярмарку, мама?
— На ярмарке можно продать зерно дороже, чем на рынке, тому же ярмарки надежнее, да и длятся несколько дней.
— И как вам показалось, она счастлива?
— По-моему, вполне.
— Я рад, если так. Воспоминания детства никогда не стираются. Но любовь — это совсем другое.
— Ты уже испытал ее?
— Может быть.
— Могу я узнать имя твоей избранницы?
— Пока ещё нет. Всему своё время.
— Но ты все же собираешься надолго уехать.
— Это не препятствие для любви, мама. Время и расстояние — лишь ее укрепляют. Это как огонь и ветер: ветер легко гасит слабый огонь, зато сильный заставляет разгораться еще сильнее.
— Я так не думаю. Любовь — это когда два человека изо дня в день стремятся быть вместе. Если же кто-то из них предпочитает скитаться в дальних краях вместо того, чтобы быть рядом с любимой — значит, не так уж сильна его любовь.
— Мама, пока вы не изживете свою боль, вы никогда не будете счастливой.
— Долгие месяцы я жила одна, меня покинули все родные, и в этом виноват твой отец.
— Благодаря ему я сегодня имею возможность помогать вам.
— Я бы предпочла, чтобы муж жил рядом, как и любая женщина.
Марти не стал спорить. Он знал по опыту, что разговоры об отце всегда кончаются ссорой с матерью, а он не хотел омрачать ссорой этот счастливый день и эти минуты.
Целый день они провели вместе. Марти от души радовался, видя, как хорошо мать сумела отремонтировать дом и все постройки благодаря тем деньгам, которые он прислал. На следующий день после обеда он отбыл в Барселону с горьким привкусом сожаления на губах и странным чувством, будто бы на самом деле распрощался с домом уже давно.
Вернувшись в город, Марти зашел проститься к архидьякону Льобету.
— Скажите, друг мой, чему вы так радуетесь? — спросил у него священник.
— Вы слишком хорошо меня знаете, от вас ничего не скроешь, — улыбнулся Марти. — Эудальд, я полюбил самую прекрасную девушку на свете. И она ответила мне взаимностью.
Священник взглянул на него с легкой насмешкой.
— И кто же эта счастливица, что царит в ваших мечтах?
— Лайя, дочь советника Монкузи.
— Ах, друг мой! — вздохнул архидьякон. — Я слишком хорошо знаю советника, и он никогда не согласится отдать свою дочь за выскочку вроде вас. Более того, он постарается спрятать девочку подальше от ваших глаз. Поверьте, когда вы отправитесь в плавание, время и расстояние очень скоро заставят вас посмотреть на вещи совершенно иначе. Так что я бы посоветовал вам оставить все как есть и не искушать судьбу, что до сих пор так вам благоволила.
— Вы просите о невозможном, — ответил Марти. — Мои чувства непоколебимы, как и намерения.
С этими словами он повернулся и ушёл.
Наконец, настал день, когда Марти решил последнюю задачу.
Корабль уже был почти готов, и осмотревшие его корабелы вынесли вердикт, что корпус прочен, надёжен и вполне готов к спуску на воду. Они с Жофре договорились, что сначала Марти отправится в предварительное плавание, чтобы разузнать, какие грузы можно ввозить в какие порты, а также отметить удобные стоянки, где можно бросить якорь. Жофре начертил на карте маршрут, отметил порты, которые Марти должен посетить. Обговорив все детали, они решили держать связь друг с другом, время от времени посылая письма с капитанами, друзьями Жофре, с которыми Марти доведётся встретиться в далеких портах.
Теперь ему оставалось лишь проститься с Лайей, найти корабль, идущий подходящим курсом, и отправиться в плавание. Жофре, один из самых опытных моряков Средиземноморья, сказал, что знает один великолепный корабль, по его словам, необычайно быстроходный. Судно было рассчитано на перевозку небольших партий грузов, требующих быстрой доставки. Пока его еще не успели загрузить товарами, и в трюме лежали лишь свернутые запасные паруса. Капитан был греком, старым морским волком, похожим отчасти на обезьяну, отчасти на пивной бочонок на кривых ногах, которые, однако, ходили по доскам палубы, словно на присосках, а шторм он чуял за несколько часов до начала. За свою долгую жизнь он избороздил вдоль и поперек все известные моря. Звали его Базилис Манипулос, а корабль назывался «Морская звезда». Первого сентября 1053 года они покинули Барселону.
42
Лисистрата
Лагерь Рамона Беренгера, ноябрь 1053 года
Ужасный папский вердикт об отлучении прибыл еще до окончания года, и теперь необходимость дать графству наследника стала еще более насущной. Графиня, устав от бесконечных разлук с мужем, после долгих раздумий решила отправиться к нему сама.
Лагерь был разбит на холме, откуда хорошо просматривалась река Эбро. Эрменьоль д'Уржель явился по первому зову, чтобы поддержать своего кузена Рамона Беренгера I, графа Барселонского, в войне с Мухаммедом II, халифом Тортосы, который отказался выдать заложников. Каталонское войско было многочисленно, во главе стоял самый цвет каталонского дворянства, жаждущий отомстить сынам ислама за то, что год назад они вторглись на земли Пенедеса и разрушили город Манресу. Целое море шатров раскинулось от берега реки до вершины холма. Графа задался целью осадить Тортосу, устрашив ее жителей видом огромного войска и осадных машин, и тем самым заставить халифа решить, что лучше согласиться на почетный мир и отдать заложников, чем бессильно наблюдать гибель города.
Небольшая кавалькада была уже совсем близко. Графиня Альмодис, придворная дама Лионор и крошечный советник ехали в карете, запряженной шестеркой лошадейи, с кучером на козлах и форейтором, сидящим верхом на одной из передних лошадей. Тяжелую карету сопровождала охрана из восьми вооруженных всадников. Графиня, отдернув кожаную шторку на окне, выглянула наружу и окликнула одного из рыцарей, скакавшего вровень с каретой:
— Мой верный Жильбер, сколько ещё до лагеря?
Сеньора д' Эструка, делившего с графиней все опасности и тяготы на пути в Барселону, граф теперь назначил командиром стражи Альмодис.
— Сеньора, лагерь уже виден. Если будем ехать с такой же скоростью, то еще до наступления темноты будем на месте.
— Скажите кучеру, чтобы подстегнул лошадей. Я хочу сделать сюрприз мужу, прибыв в лагерь еще до захода солнца.
— Как прикажете, графиня.
Альмодис вновь опустила шторку. Крики кучера и свист кнута над головами лошадей дали понять, что ее пожелание исполнено.
Часовой у главного входа подал условный сигнал, и караульный в мгновение ока взобрался на вышку по верёвочной лестнице — узнать, что за странная процессия приближается к лагерю. Взглянув из-под ладони, он разглядел дорожную карету в окружении вооруженных всадников, а присмотревшись, заметил, что над каретой, как и на копье одного из рыцарей, развеваются вымпелы цветов Барселонского графского дома.
С высоты тут же загремел его голос:
— Стража, стройся!
Отдыхающие воины выскочили из шатров, не успев даже толком надеть доспехи. Когда неизвестная кавалькада приблизилась, дорогу ей преградила внушительная фигура офицера, за его спиной толпились остальные воины. Капитан, сопровождающий Альмодис, и командир войска обменялись приветствиями.
— Эй, там, на карауле!
— Кто едет?
— Графиня Барселонская, донья Альмодис де ла Марш, и ее свита.
— Соизвольте немного подождать, я обязан это проверить.
Когда офицер уже готовился спуститься со сторожевой вышки, Альмодис выглянула в окно кареты и произнесла:
— Посмотрите на меня хорошенько, а заодно дайте посмотреть на вас. Я хочу увидеть лицо офицера, который после того, как я проделала столь долгий путь, пытается помешать моей встрече с мужем, графом Барселонским.
Офицер оцепенел, но через мгновение сумел взять себя в руки и отдал приказ:
— Открыть ворота! Приказываю трубить в фанфары и бить в барабаны, приветствуя Альмодис де ла Марш, графиню Барселонскую!
Согласно вестготской и римской традиции, огромный шатер Рамона Беренгера и такой же шатер его кузена, Эрменьоля д'Уржеля, стояли в самом центре лагеря, на перекрестке двух дорог. Оба шатра были круглыми и с конической крышей, хотя к шатру графа примыкала еще и гостиная квадратной формы, отделенная от основного помещения тяжелой портьерой из дамаста. Здесь был большой стол, за которым граф проводил совещания с капитанами, по одну сторону от него стояла большая ширма из пяти частей, за которой скрывалась складная походная кровать, а по другую — небольшой алтарь, там граф молил Господа об удаче в бою и благодарил за победу.
В эту минуту оба кузена как раз совещались с инженерами, разложившими на столе пергамент с чертежами осадных орудий и башен.
Рев труб и бой барабанов возвестил о том, что после долгих дней унылого ожидания произошло нечто непредвиденное.
Граф велел позвать Гуалберта Амата, и тот немедленно явился.
— Ступайте, посмотрите, что там случилось, и доложите, кто это к нам пожаловал в неурочный час, — велел ему граф.
— Как прикажете, сеньор.
Амат бросился выполнять приказ, а кузены вернулись к своему занятию.
Сенешаль отправился на шум. Застыв у входа в шатер своего сеньора, он с изумлением наблюдал, как из кареты, не дожидаясь помощи кучера, выбирается Альмодис, открыв дверцу и спустив подножку. Дама поднесла палец к губам, призывая к молчанию.
Растерянность сенешаля весьма позабавила графиню.
— Мой добрый Амат, я буду вам благодарна, если вы мне поможете и никому ничего не скажете. Вам как настоящему воину должно быть известно, что внезапность — залог победы. Но позаботьтесь о моих людях — им нужно отдохнуть, поесть, расседлать и накормить лошадей.
Бедный Амат, только теперь узнавший графиню и все еще опомнившийся от удивления, поприветствовал Жильбера д'Эструка, с улыбкой наблюдающего за этой забавной сценой с высоты седла.
Без долгих церемоний Альмодис вошла в шатер мужа. Подойдя к портьере, отделявшую зал советов от остальной части шатра, она сняла плащ и повесила его на крючок из полированного металла в прихожей. Контуры платья соблазнительно очерчивали грудь. Судя по ровному гулу голосов изнутри, граф даже не подозревал об ожидающем его сюрпризе. Альмодис глубоко вздохнула и резким движением отдернула портьеру. Ради того, чтобы увидеть восхищение и изумление на лицах мужа и всех присутствующих, стоило проделать такой долгий путь.
В шатре воцарилась мертвая тишина. Потом офицеры один за другим начали подниматься и, подобрав оружие, покидать шатер. Все знали, какой трудный путь проделала графиня, чтобы увидеться с мужем.
Наконец, графская чета осталась наедине.
— Любовь моя, я будто сплю и вижу волшебный сон, — произнёс граф.
— Я вовсе не сон. Пощупайте — я живая.
Рамон бросился к ней и, схватив за плечи, повалил на ложе.
Когда он уже начал сбрасывать одежду, Альмодис остановила мужа, положив руку ему на грудь.
— Ах, нет, Рамон, — промурлыкала она. — Есть время для любви, а есть время для беседы, и время для любви ещё не настало.
— Но...
Альмодис нежно провела пальчиком по губам мужа и произнесла:
— Всему свое время. Вы ведь прибыли сюда не просто так? А если хотите получить меня, то освободите заложников из Тортосы, и в ту же ночь я буду ваша, страстная и покорная, как никогда прежде.
Часть третья
Восток и Запад
43
Плавание Марти Барбани
Февраль 1054 года
Сидя в кормовой каюте, Марти вновь и вновь вспоминал о событиях накануне отплытия, хотя с тех пор прошло уже пять месяцев. Море было спокойно, корабль шел полным ходом и уже успел обогнуть носок итальянского сапога. Волей благосклонной фортуны ранним утром они благополучно прошли Мессинский пролив, и вот теперь, любуясь утренними миражами над водой, он не переставал удивляться, какие чудеса случаются порой и в жизни. Мог ли он даже мечтать об этом всего два года назад, живя в захолустной деревне и выбираясь самое большее на ярмарки вместе с матерью, где они продавали зерно и скотину?
За это время он посетил девять портов, и в каждом, следуя советам Баруха, тщательно изучал местный рынок, выясняя, какие товары разрешено ввозить, а на какие наложен запрет, а также встречался с представителями Барселоны, которые рассказывали, как составить маршрут, по которому из Барселоны пойдет его собственный корабль под командованием его друга и партнера Жофре. В каждом порту он соблюдал предельную осторожность, стараясь как можно точнее следовать советам мудрого менялы. В некоторых портах — там, где судно задерживалось на несколько дней для разгрузки и погрузки, — он совершал вылазки вглубь материка или острова, чтобы подробнее изучить возможности местного рынка. И вот теперь путь лежал на Циприус [20]. Мысли Марти вновь обратились к Лайе. Перед самым отъездом он так и не смог с ней увидеться, но все же получил письмо.
Сам не свой от волнения, он дожидался у дверей дома Аделаиды, не сводя с него глаз в отчаянной надежде, что в окне во-вот мелькнет тень возлюбленной. Он стоял, то и дело беспокойно оглядываясь, опасаясь, что его кто-то заметит, а в груди зрели тяжелые предчувствия. Неожиданно от стены отделилась бесшумная тень, в которой Марти узнал Аишу. Она пришла на встречу одна, без хозяйки, и казалась не менее встревоженной, чем он сам. Последние слова Аиши навсегда врезались в его память:
— Хозяин, сеньора не может прийти. В доме у нас происходит что-то нехорошее, сеньор что-то заподозрил и, думаю, за мной тоже следят. Я принесла вам письмо.
Последнее письмо Лайи было уже зачитано до дыр, Марти давно знал его наизусть. Теперь он вновь достал его из котомки, которую всегда носил на плече, и стал перечитывать.
Писано 25 августа 1053 года
Ненаглядный мой Марти!
Быть может, это мое последнее письмо. Я не знаю, что произошло, но отчим запер меня в этой темнице. Да, не побоюсь этого слова, ибо темница все равно остается темницей, даже если изукрашена золотом. Именно поэтому, несмотря на страшный риск, я попросила Аишу переправить Вам это письмо. Нужно ли говорить, что если нас разоблачат, ей придется дорого заплатить за эту услугу. Вы уезжаете, а я не могу даже проститься с Вами. Подозреваю, что под замок меня заперли из-за Вас. Не спрашивайте, откуда я это знаю, но я уверена, что отчим что-то замышляет. Вам он ничего не скажет, поскольку имеет с Вас большую выгоду, но я знаю, что в голове у него зреют какие-то планы, и они имеют прямое отношение к Вам.
За эти месяцы, с тех пор как я имела счастье познакомиться с Вами, я узнала, что такое любовь. Теперь моя жизнь принадлежит Вам, и пусть меня заперли в эту клетку, никто не сможет вырвать Вас из моего сердца. Если после Вашего отъезда двери моей темницы откроются — это будет верным знаком того, что предчувствие меня не обмануло.
Из каждого порта, где бы вы ни остановились, пишите мне письма и передавайте их через капитанов кораблей, идущих в Барселону. Отчим рассказывал, что моряки всегда помогают друг другу, поскольку любому из них может потребоваться помощь. Ваш слуга Омар передаст письмо Аише, а она мне. Если все же что-то случится и цепочка распадется, передайте Вашему слуге, который мне тоже хорошо знаком по рассказам Аиши, что если она не сможет выйти из дома и сходить к моей бывшей кормилице Аделаиде, чтобы узнать новости о Вас, пусть он никому больше не передает Ваших писем. Со временем, когда у меня появится возможность, я сама дам ему знать. В этом случае письмо отправится по той же цепочке, но в обратном направлении, и будет ждать Вас в одном из портов, который Вы собираетесь посетить. Омар об этом позаботится. Не беспокойтесь обо мне, ведь самое худшее, что со мной могут сделать — это отправить в какой-нибудь монастырь в окрестностях Барселоны.
Я любуюсь на кружащих за окном ласточек и стрижей. Как я им завидую! Они летают, где хотят, а я сижу взаперти. За какую провинность меня лишили свободы? Если бы я могла по своему желанию перенестись, куда захочу, я бы сейчас была рядом с Вами.
Я всегда буду ждать Вас, и память о Вас каждый день будет согревать мне сердце.
Бесконечно любящая Вас
Лайя
Марти снова спрятал свое сокровище в карман, спустился на три ступени к капитанской каюте и тихо постучал. Изнутри тут же послышался не слишком трезвый голос Базилиса:
— Кто там?
— Это я, капитан, Марти Барбани.
С первых дней знакомства старый Манипулос привязался к отважному молодому человеку — несмотря на юный возраст, тот оказался настоящим мужчиной и прирожденным кабальеро.
Марти услышал медленные нетвердые шаги грека, и дверь каюты открылась. Взору Марти предстала бородатая физиономия Базилиса, который тут же пригласил его войти.
— Вы чем-то расстроены, капитан?
— Да ничего такого, проходите, — ответил тот. — Просто штиль наводит на меня тоску, я предпочитаю, чтобы море все же немножко играло. Тогда у всех на борту есть дело, пререкаться некогда, надо следить за парусами и такелажем, для тоски по дому просто нет времени. Заметьте, после беспокойного дня мне не приходится никого наказывать. Зато на другой день после такого вот затишья боцману почти всегда приходится браться за плетку-девятихвостку, потому что матросы обязательно устроят драку.
— Вот об этом штиле я и хотел с вами поговорить.
Грек пригласил Марти сесть и поставил перед ним жестяную кружку, куда щедро плеснул мятного ликера с одного из затерянных Кикладских островов, где он родился.
— Я вас слушаю, Марти.
— Как вы думаете, капитан, когда мы прибудем на Циприус?
Базилис озабоченно погладил щетинистый подбородок.
— Трудно сказать. Море — оно будто капризная женщина. Когда ее любовник-ветер исчезает, оно тоскует, становится ленивым и замирает. Но я все равно доставлю, куда нужно. Если нюх меня не подводит, мертвый штиль продлится лишь до вечера — ну, в крайнем случае, до рассвета, а затем ему на смену придет легкий бриз, который пробудит море от сна.
— И что тогда?
— Полагаю, что, самое позднее, в среду мы достигнем острова Палеопапос и причалим у замка Фамагуста, а если повезет, то будем там уже к вечеру.
— И надолго вы рассчитываете там задержаться?
— Не могу предсказать. В Никосии мне предстоит встреча с важными людьми, у которых каждая минута на счету, а у них не так-то просто добиться аудиенции.
— Тогда постараюсь использовать это время с толком. Хочу взглянуть на медные рудники.
— Торговля благородным металлом весьма прибыльна, — одобрил капитан. — Он пользуется спросом, и его легко перевозить. Еще во времена апостолов Павла и Варнавы римляне с успехом торговали медью. Кстати, могу дать вам адрес одного человека в Пелендри, он уже давно торгует металлом.
— Буду весьма благодарен, — ответил Марти. — Знающий человек мне бы пригодился, ведь в любую минуту могут появиться пираты и сделать морскую торговлю еще опасней.
— А куда вы собираетесь отправиться после Циприуса?
— Моя следующая остановка — на Мальте.
— Для этого вам придётся искать другой корабль, я должен плыть в порт Сидон в Леванте.
— Я никогда вас не забуду, Базилис. Что бы ни случилось, знайте, что в Барселоне у вас есть друг.
Взяв пергамент, гусиное перо и чернильницу, грек засел за письмо своему знакомому киприоту по имени Теофанос Авидис, живущему на окраине Пелендри. Затем, прочитав письмо вслух, чтобы Марти знал, о чем идет речь, он свернул пергамент и запечатал его кольцом.
— Простите, но я вынужден это сделать, — пояснил капитан — Это единственный способ убедить моего друга, что вас действительно направил я.
С этой минуты дни слились в череду бесконечного плавания. Марти мечтал поскорее вернуться в Барселону, чтобы снова отправиться в опасный путь уже на собственном корабле. Но сначала нужно тщательно разработать маршрут, чтобы корабль не потерял ни толики груза и не проделал ни единой лишней мили.
Шла ли война или стоял мир, торговля не прекращалась ни на минуту. В Каталонию из других средиземноморских портов неизменно прибывали корабли, нагруженные товарами: шелком, парчой, ларцами из слоновой кости и множеством рабов, торговля которыми, как он уже знал, была строго запрещена для евреев, и отплывали обратно с грузом скобяных изделий, якорей, украшений, толосским сукном и кастильской кожей. Но каждый вечер перед сном Марти охватывал необъяснимый трепет; чутье подсказывало ему, что вскоре его судьба вновь переменится, он разбогатеет, и начнется это в Фамагусте.
44
Тортоса
Альмодис удивилась, услышав доносившиеся из-за полога шатра голоса. Пронзительный голосок Дельфина прорывался сквозь бас капитана гвардии, который, не пускал его внутрь, заявляя, что сеньора отдыхает и никаких распоряжений на этот счет не давала. В лагере царила редкая в последние месяцы тишина — часть войска ушла, чтобы подготовиться к штурму Тортосы.
Авангардом командовал Рамон Беренгер в сияющих доспехах и в окружении капитанов. Его сопровождал кузен Эрменьоль Д'Уржель. Альмодис помнила расставание во всех деталях. Утром, после того как епископ Барселоны Одо де Монкада отслужил мессу в центре лагеря, она вместе с двумя оруженосцами помогла графу облачиться в доспехи. На рубашку он надел стеганый жилет, чтобы не натирала кольчуга, на ноги — кольчужные поножи. Потом они прошли в главный шатер, где его рыцари и оруженосцы закончили облачение.
Там на графа надели нагрудник и наспинник, затем наплечники, наручи и налокотники, поножи и короткую стальную юбку для защиты бедер. Затем пришла очередь шарнирных наколенников, позволяющих сгибать ноги, железных сапог и шпор. Наконец, Гийем де Мунтаньола и Герау де Кабрера подали ему шлем с забралом и золотой короной, увенчанной султаном красных и желтых перьев — цвета Беренгеров. Граф Барселонский в боевом облачении выглядел неотразимым, во всяком случае, так показалось Альмодис.
У входа в шатер его ожидали оруженосцы, держа под уздцы боевого коня, который нетерпеливо бил копытом в предвкушении скорой битвы. Коня уже оседлали и надели на него боевые доспехи — пейтраль и шанфрон [21]. В бою графа должны были сопровождать четверо слуг в легких доспехах и с короткими мечами. Им предстояло помогать своему сеньору подняться, если в бою его выбьют из седла — упавший на землю рыцарь в тяжелых доспехах не мог встать сам и становился легкой добычей для врага.
Альмодис, которая на протяжении последних недель упорно отказывала мужу в близости, теперь вспомнила его слова, когда он садился на огромного боевого жеребца.
— Сеньора, я возьму Тортосу и приведу обещанных заложников. А если нет, то меня принесут на щите.
А она на глазах у всех скинула с плеч шарф и отдала его графу. Рамон тут же повязал его на плечо, с помощью оруженосцев взобрался на лихого скакуна, который с громким ржанием встал на дыбы, и отправился на штурм города.
Впереди внушительного войска, в окружении капитанов, Рамон наводил страх на любых врагов, даже засевших в неприступной крепости.
Сначала шла кавалерия графств Барселона и Уржель, за ними — музыканты, отбивающие ритм на цимбалах и барабанах и трубящие приказы в горны. Затем — пехотинцы, закутанные в шкуры, с щитами за спиной и с котомкой со снедью на боку, привязанной накрепко, чтобы не терлась о кольчугу. На головах у них были кожаные шлемы, у многих с носовой планкой, с руках — короткие мечи и копья. За ними шагали цирюльники, костоправы и лекари и носильщики для раненых. А в арьергарде — лучники с луками за спиной и колчанами, полными стрел, а также метатели с пращами наготове и сумками с камнями.
Замыкали строй всевозможные вспомогательные силы — повара, плотники, чтобы сооружать осадные башни и катапульты, строители мостов и так далее. А дальше, довольно близко, но держась на расстоянии, как всегда в подобных случаях, шла толпа, что как стая акул сопровождает любое войско в надежде поживиться: торговцы всякой всячиной, колдуны, прорицатели, знахари, евреи-ростовщики и женщины всех возрастов — солдатские жены с детьми и шлюхи с обвисшими грудями, готовые передать солдатам разнообразные болезни.
Осада Тортосы, длившаяся три месяца, в ноябре 1053 года окончилась штурмом.
Добравшись до предместий Тортосы, войска раскинули впечатляющий лагерь, палатки стояла до самого горизонта. Защитники города смотрели в амбразуры зубчатых стен и обреченно обсуждали печальную судьбу жителей города. Эмир поделился с королем своими опасениями, а тот посетовал, что из-за разногласий с кузеном из Лериды не получил подкрепления. Мухаммед никак не мог решиться — защищать город или сдать его, чтобы избежать большей беды. Штурм, как обычно, будет долгим и кровавым, но опыт подсказывал королю, что чем дольше сопротивляется город, тем более жестокой будет месть, когда он падет.
Слава графа Барселонского была легендарной, и Мухаммед постоянно советовался с астрологами и прорицателями, чтобы узнать свою судьбу. Штурм начался градом камней, выпущенных из катапульт, а обороняющиеся ответили тучей стрел, чтобы не дать врагу возможности приблизиться к стенам. На решение короля повлияли два события.
Во-первых, появление двух трехэтажных осадных башен на колесах, обитых мокрыми шкурами, чтобы труднее было поджечь. На первом этаже каждой башни располагался таран, чтобы проламывать стены и ворота.. На втором прятались воины, готовые штурмовать городские стены. А на третьем находился небольшой складной мост, служивший одновременно щитом и оснащенный железными крючьями, чтобы удобнее было зацепиться. Внутри хитроумных осадных сооружений, которые тащил караван мулов, могло разместиться до трех сотен воинов.
Во-вторых, Мухаммед II в ужасе обнаружил, что люди Рамона Беренгера, очевидно, сделали подкоп и повредили один из главных тортосских водных резервуаров, и теперь драгоценная жидкость безвозвратно утекает, уровень воды заметно понизился.
Однажды ночью Мухаммеду приснился кошмар, окончательно сломивший его дух. Халиф призвал главного толкователя и велел разгадать сон. Ему приснилось, будто огромная кровавая луна рухнула прямо в резервуар, и вода цвета крови хлынула наружу, затопила все улицы и выплеснувшись за городские стены.
Толкователь снов долго колебался, прекрасно зная о привычке Мухаммеда убивать гонцов, принесших дурные вести. В конце концов он все же смог найти нужные слова, чтобы избежать гнева халифа и обратить сумятицу в свою пользу.
— Сеньор, небо посылает вам ясный сигнал о том, что через несколько лет зло обернется добром. Сон говорит, что ваше королевство охвачено предательством. Коварные изменники затопили его, как кровавый прилив, и это дурное предзнаменование. Заключите с врагом соглашение, соберите верных вам людей и конфискуйте имущество предателей, а их детей отдайте в заложники врагу. Так вы убьете сразу двух зайцев и на многие годы избавитесь от честолюбивых щенков этой знати. Вы выиграете время и освободитесь, по крайней мере ненадолго, от ужасного врага.
Совет астролога стал решающим. Вскоре из города выехал отряд всадников под белым флагом перемирия и зеленым знаменем с красной саламандрой, гербом Тортосы. С ними ехал эмир с указаниями от короля тайфы, на каких условиях сдать город.
Дань, наложенная Рамоном, была тяжкой: тридцать тысяч золотых манкусо в год, двести рабов-мужчин и сто девственниц для увеселения его капитанов.
Изложив своему господину требования Барселоны, эмир вернулся обратно на переговоры. Тем временем, Мухаммед II, следуя советам астролога, стал избавляться от врагов. Их имуществу предстояло поступить в казну, а сыновьям и дочерям — отправиться в Барселону в качестве заложников и рабов.
Такие новости принес Дельфин своей сеньоре, ему все же удалось прорваться к ней, несмотря на все протесты начальника стражи.
Альмодис появилась в дверях павильона и объявила капитану, что ее шут имеет право входить и выходить, когда пожелает. Дельфин тут же направился в покои госпожи, стараясь поспевать коротенькими ножками за ее быстрыми шагами. Графиня уселась на маленький трон и, велев карлику сесть на скамеечку у ее ног, попросила подробно рассказать все новости.
— Сеньора, считайте, что пленники из Тортосы уже ваши. Властитель Барселоны взял город почти без потерь. Король Мухаммед II сдался без боя войскам вашего супруга. Уже сегодня вечером муж к вам вернется.
Ещё до того как солнце коснулось своими лучами южных ворот, Альмодис уже знала, что Рамон Беренгер вернулся в лагерь.
Поручив командование войском своему сенешалю, граф Барселонский в сопровождении горстки самых верных рыцарей во весь опор помчался обратно в лагерь. Не дожидаясь, пока оруженосец примет у него коня, с морды которого капала пена, а из ноздрей валил пар, граф спрыгнул и бросился к своему шатру.
Альмодис ждала его в супружеской спальне в полном одиночестве. Портьера откинулась, и перед ней предстал муж в запыленных доспехах, со шпорами, покрасневшими от крови коня. Лицо его, заляпанное грязью и в потеках пота, скорее напоминало причудливую маску. Супруги страстно обнялись.
— Добро пожаловать, муж мой! Вы прекрасны и неотразимы, как никогда. Воплощенный Ахилл в образе Одиссея-странника, что вернулся домой переодетым и неузнанным.
— И тоже пришел за наградой, — отозвался Рамон. — Я так тосковал по тебе, моя верная Пенелопа!
— Эта ночь станет самой прекрасной в вашей жизни. Клянусь, вы никогда ее забудете. Сегодня я не допущу к вам рабов; я сама вас вымою. Я так хочу. Сегодня я буду вашей рабыней, вашим пажом, камердинером и любовницей.
Альмодис приказала своей придворной даме Лионор не пускать никого, кроме Дельфина. Им обоим предстояло есть и спать у дверей графской спальни — на тот случай, если вдруг потребуются их услуги.
— Следуйте за мной, — велела она мужу.
Граф послушно направился в шатер вслед за супругой, где его уже ждала оцинкованная ванна с горячей водой, над которой клубился пар. Альмодис плеснула в воду жидкость из трех пузырьков со столика, и, когда воздух наполнился запахом лаванды, прошептала:
— Вам ничего не нужно сегодня делать. Доверьтесь мне.
Она начала раздевать мужа. И Рамон Беренгер, наводящий ужас на мавров Тортосы, заурчал, как довольный кот.
Затем по указанию Альмодис он поднялся по лесенке в ванну и погрузился в воду.
— Расслабьтесь и закройте глаза, — приказала она.
Когда же графиня вновь велела ему их открыть, его взору предстала райская гурия, из тех, о которых с таким восторгом рассказывали сыны ислама. Обнаженное тело Альмодис, прикрытое лишь роскошной гривой рыжих волос и тонким прозрачным покрывалом, сияло в пламени свечей, озаряющих стены графского павильона золотыми отблесками.
Рамону, истомленному долгим воздержанием, показалось, что он вот-вот сойдет с ума.
— А теперь доверьтесь мне, — произнесла она.
Женский голос звучал подобно сладостной песне сирены.
После ванны, обернув тело возлюбленного тканью, она указала ему на огромную походную кровать. Когда он послушно улегся, она, словно довольная кошка, принялась водить языком по его шрамам. Так Альмодис начала претворять в жизнь советы Флоринды, и занималась этим целых три дня и три ночи.
Когда Рамон наконец покинул спальню и созвал капитанов, сенешаль поинтересовался, как он отдохнул после битвы.
Граф со смехом ответил:
— Все битвы моей жизни — просто пустяки, мой друг, по сравнению с той победой, которую я одержал в эти ночи.
45
Фамагуста
«Морская звезда», убрав паруса после команды боцмана «Отдать швартовы!», бросила якорь в пятистах саженях от берега, в соседней бухте, поскольку с первого взгляда было ясно, что гавань у подножия замка Фамагуста битком набита кораблями, и пришвартоваться не получится. Базилис приказал опустить канат, вчетверо превышающий длину корабля, чтобы проверить, надежно ли держит якорь. После этого он объявил, что все желающие могут сойти на берег только после досмотра — он хорошо знал вороватых греков. Затем он назначил караульных и, прежде чем две шлюпки с людьми направились к берегу, поднялся на капитанский мостик и обратился к команде с грозной напутственной речью:
— Послушайте, вы, куча подонков, вы собираетесь сойти на берег, чтобы за три дня спустить все заработанное за три месяца! Меня не волнует, если вы вернетесь на борт без единого мараведи, но я не собираюсь выискивать вас по тавернам и борделям. И берегитесь, как бы какой-нибудь киприот-рогоносец не засадил вам два дюйма железа меж ребер. Здесь достаточно свободных женщин, которые будут только рады, если вы засунете свой пест им в ступку, из-за них вам не будут грозить неприятности с мужьями или властями. Кстати, имейте в виду, если кто-то по собственной дури угодит за решетку, я не заплачу ни единого дирхама, чтобы его вытащить. И знайте, что с тех пор как вы взошли на борт моего судна и до той минуты, пока «Морская звезда» не вернется в Барселону, ваши жалкие задницы принадлежат мне. Так что ступайте и наливайтесь кипрским вином, но не вынуждайте меня вас разыскивать. Если хоть кто-то из вас вовремя не вернется на борт — клянусь, я задам ему такую трепку, что до самой смерти запомнит Базилиса Манипулоса.
С этой тирадой грек распрощался с командой.
Марти, дождавшись, пока все сойдут, простился с капитаном, еще раз его поблагодарил и отправился вслед за матросами.
Добравшись до берега, матросы проворно вытащили шлюпку на песок: после долгих лет морской службы эта работа была для них детской забавой. Марти забрал свою котомку и спрыгнул на берег, бросив прощальный взгляд в сторону «Морской звезды», что грациозно покачивалась на волнах посреди бухты. За минувшие месяцы он успел по-настоящему привязаться и к кораблю и его кривоногому капитану.
Поднявшись на вершину скалы по выбитым прямо в камне ступеням, он обнаружил там несколько повозок, запряженных убогими клячами, которые дожидались пассажиров, чтобы довезти их до Фамагусты за умеренную цену.
Поторговавшись с возницей, чья лошадь выглядела чуть лучше остальных, Марти уселся сзади, пристроив рядом вещи. Уже на ходу он спросил у возницы, где можно найти хороший постоялый двор, чтобы остановиться на все время своего пребывания в Фамагусте, поскольку после корабельной качки и тряски в этом тарантасе у него все кости ломит. Возница посоветовал постоялый двор под названием «Дом Минотавра» неподалеку от старого порта, который держит муж его сестры. Туда Марти и решил направиться. Он поинтересовался, как зовут хозяина постоялого двора.
— Спросите Никодемоса и скажите, что вас прислал Элефтериос, — ответил возница.
Постоялый двор «Дом Минотавра» оказался дряхлым строением, видимо, еще со времен Пятой сатрапии персидского господства, и был построен на развалинах древних общественных бань, чьи стены которых местные жители многие годы растаскивали на свои нужды. Марти выбрался из повозки, расплатился с возницей и вошел в заведение. Он с недоумением отметил, что высокие двери совершенно не соответствуют размеру помещения. В глубине зала, возле окна, сидели несколько торговцев — судя по их речи, греков. Марти подошел к стойке и заговорил с человеком, в чьи обязанности, надо полагать, входило обслуживание новых гостей.
— Да хранит вас Господь, добрый человек. Я ищу Никодемоса, хозяина этого дома. Меня прислал Элефтериос.
— Он перед вами, я и есть Никодемос. Так значит, вы знакомы с моим мошенником-шурином?
— Он вез меня сюда на своей телеге от самого порта, где я сошел с корабля.
Услышав, как дружелюбно посетитель отозвался о его шурине, хозяин постоялого двора сменил тон:
— Я не могу сказать ничего плохого лично о нем, но у меня, знаете ли, довольно прохладные отношения с их семьей. Стоило мне отказаться продолжать дело моего тестя, как я стал для них отрезанным ломтем. Но с другой стороны, я не хочу ссориться с его сестрой, то есть моей женой, только потому, что мы с ее родными не поняли друг друга. Как говорится, каждому свое, правда ведь?
— Согласен, — ответил Марти. — Совершенно ни к чему скандалить на ровном месте.
После недолгого молчания Марти продолжил:
— Мне нужно где-то остановиться — ненадолго, всего на одну ночь. Вы мне поможете?
— Конечно, ведь это моя работа. К тому е вы пришли по рекомендации. Какую комнату желаете — с окном на улицу или во двор?
— Все равно, лишь бы не было слышно шума. Первым делом я хочу заморить червячка, а потом буду дрыхнуть без задних ног.
— Тогда я советую самую дальнюю комнату в коридоре. Там никто не будет ходить мимо двери со двора и на двор.
— И сколько это будет стоить?
— В переводе на греческие деньги — две драхмы, но могу взять и в дирхамах.
— У меня есть барселонские монеты — вас устроит?
— Меня устроят любые деньги, имеющие хождение в этом городе. Каталонцы — серьезные люди, их монеты везде пользуются спросом, будь то суэльдо, динары, джафарские или сарагосские манкусо или что-либо еще — я охотно обменяю их по хорошему курсу.
Марти согласился, и хозяин тут же обменял его деньги на местную валюту.
Затем киприот проводил нового гостя в его комнату. Это было просторное помещение с выложенным красной плиткой полом и входом в виде арки, сохранившимся еще с античных времен. Здесь же стояли сундук для одежды, стул и рукомойник с раковиной и ведром под ней. В довершение всей роскоши, в комнате стояла большая кровать с набитым шерстью тюфяком и хорошим одеялом.
Хозяин поинтересовался, нравится ли гостю его комната.
— Все прекрасно, я вам весьма благодарен, — заверил его Марти.
— В таком случае, если вам больше ничего не нужно, позвольте откланяться...
— Постойте, не будете ли вы так любезны...
— Все, что пожелаете, господин.
— Я хотел бы попросить вас о двух вещах.
— Только прикажите, и все будет сделано.
— Завтра я собираюсь отправиться в Пелендри, и мне нужна повозка.
— Если желаете, могу попросить своего шурина. Не люблю оставаться в долгу.
— Это было бы лучше всего, но если у вас в семье такие сложные отношения, мне бы не хотелось вас затруднять.
— К какому часу вам нужна повозка?
— Ближе к полудню.
— Не лучше ли будет немного пораньше?
— Хорошо.
— В чем я еще могу вам помочь?
— Скажите, где здесь можно поесть хорошей рыбы?
— В полулиге от порта есть одно местечко, называется «Золотая мидия».
— Благодарю вас.
— Простите, но я бы посоветовал вам взять повозку. В такое время опасно ходить пешком в одиночку.
— Не беспокойтесь, я уже достаточно долго бороздил моря, меня уже ничем не удивишь.
— Днем вам нечего опасаться, но с наступлением темноты на промысел выбираются пташки самого разного полета, и далеко не все они желают вам добра.
— Повторяю, не беспокойтесь: предупрежден — значит, вооружен.
Когда хозяин удалился, Марти разобрал вещи, умылся над тазом, переоделся, вынул из котомки короткий кинжал с рукояткой из слоновой кости и закрепил его на поясе. Теперь он готов был идти в «Золотую мидию».
46
Разоблачение
Бернат Монкузи многие месяцы отчаянно боролся с вожделением, но вновь и вновь впадал в грех похоти, охватившей пресловутых библейских старцев, что подглядывали за добродетельной Сусанной во время купания. В наростах на стволах деревьев ему виделись волнующие очертания девичьей груди, а в изгибе лютни в руках уличного музыканта, что просил подаяния напротив графского дворца, мерещились соблазнительные контуры ее бедер. Его походы к исповеди день ото дня становились все чаще. Порой, когда он находился в своем кабинете, его охватывал внезапный страх, что он может ее потерять, и тогда он посреди рабочего дня неожиданно возвращался домой, где дотошно выпытывал, куда и зачем Лайя ходила, а дурное настроение срывал на слугах, рабах, и порой даже на посетителях.
Иногда он срывал свой гнев даже на самой Лайе, по какому-нибудь ничтожному поводу устраивая ей скандалы, не стесняясь даже слуг, после чего сбитая с толку девушка в слезах убегала к себе.
Лайя еще с детства чувствовала какую-то необъяснимую неприязнь к отчиму, и в последнее время, сговорившись с Аишей, всячески избегала обедать и ужинать вместе с ним, ссылаясь то на головную боль, то на женские недомогания. Ее недуги беспокоили Берната. Он даже пригласил Галеви, известного лекаря-еврея, несмотря на всю свою неприязнь к потомкам тех, кто распял Христа. Лекарь явился в дом старейшины во всем великолепии. Бордовое одеяние, золотой пояс, а на правой руке — золотой перстень с огромным аметистом: все это придавало его облику респектабельность, но особое уважение внушал характерный орлиный нос и длинная ухоженная борода с проседью. Однако, когда он собрался осмотреть пациентку, Бернат решительно воспротивился, что крайне удивило лекаря.
— Неужели вам необходимо ее ощупывать, чтобы понять, какая хворь ее мучает?
— Разумеется. Как же я смогу поставить диагноз, если не вижу пациента, будь то мужчина или женщина?
— А вот я читал в медицинском трактате Авиценны, что он сумел поставить диагноз жене персидского шаха, лишь пощупав пульс на ее руке, которую она просовывала сквозь отверстие в стене, — возразил советник.
— Возможно, великий Авиценна и мог это сделать, но я так не умею.
Бернату пришлось уступить. Осмотрев девушку, плотно закутанную в одежду, лекарь прописал ей всевозможные снадобья и настойки против мигреней и ежемесячных спазмов. После этого еврей отозвал Монкузи в сторонку.
Уединившись с лекарем в своем кабинете, графский советник любезно предложил ему сесть.
— Ну, что скажете, Галеви? — осведомился он. — Насколько серьезно больна моя дочь?
— Ничем она не больна, сеньор. — Родителям порой трудно бывает принять тот факт, что для любой девочки рано или поздно наступает время, когда она превращается в женщину. Ваша дочь просто выросла и хотя она выглядит хрупкой, ее тело уже готово дать начало новой жизни. Отсюда и головные боли, и спазмы, и странное поведение, и внезапные перепады настроения, которым, как вы говорите, она бывает подвержена. Все это, несомненно, со временем пройдет, стоит ей выйти замуж.
Бернат побледнел, и Галеви поспешил его успокоить.
— Не волнуйтесь. Ничего страшного не случилось. Просто пришло ваше время стать дедушкой.
Монкузи и без еврея догадывался о причинах этой перемены. Он едва сумел сдержать гнев.
— Я пригласил вас, чтобы посоветовать по поводу здоровья моей дочери, а вовсе не для того, чтобы выслушивать ваше мнение, пора или не пора мне стать дедом. Моя дочь никогда не выйдет замуж! Вы слышите? Никогда!
— Как вами будет угодно, ваше превосходительство.
— Поговорите с моим управляющим, — немного спокойнее продолжил Бернат. — Дайте ему рецепт, чтобы травник приготовил снадобье, и скажите, как часто она должна его принимать. Он же оплатит ваши услуги. А теперь убирайтесь с глаз моих, чтобы я вас больше не видел!
Еврей не мог понять, чем провинился, однако, зная христиан, среди которых ему приходилось выживать, и, понимая, что перепады настроения сильных мира сего могут грозить серьезными неприятностями, предпочел не спорить, вежливо кивнул и удалился.
Весь день Монкузи просидел в своем кабинете, мрачный и подавленный. Слова Галеви ранили его, словно нож в сердце. Сама мысль о том, что Лайя когда-нибудь выйдет замуж и уйдет из его жизни, была невыносима. Никогда, ни за что на свете он этого не допустит! Он будет отгонять от падчерицы всех проходимцев, посмевших к ней приблизиться, и однажды она будет принадлежать ему.
На город спустилась ночь, и множество звезд рассыпались по темному небу, но советник не видел звезд — небо казалось ему столь же черным, как и мрачные мысли. Между тем, приближался час ежедневного ритуала, ставшего для него настоящей манией. Не опасаясь быть обнаруженным, он, как всегда, укрылся в убежище и стал ждать, когда Лайя начнет раздеваться. Однако в этот вечер девушка не торопилась ложиться спать. Сначала она задумчиво бродила по комнате, а затем вдруг направилась в сторону комода в углу спальни. Сев перед ним на стул, она выдвинула ящик, а затем, нажав на какую-то пружинку, открыла тайник.
Лайя вынула из тайника маленькую шкатулку. Бернат заметил, что на кожаном шнурке вместе с образком Пресвятой девы на шее у нее висел крошечный ключик. Вставив его в замочную скважину, девушка отперла шкатулку и вынула несколько писем. Застыв от изумления, советник наблюдал, как она их читает, порой прижимая к губам, словно целуя. Он в ярости уже готов был покинуть укрытие, но тут девушка начала раздеваться, и его охватило необоримое вожделение. Он замер, как подстерегающий жертву хищник. И вот его глазам предстали соски Лайи, подобные двум бутонам. Не в силах больше терпеть, он закрыл глазок, и сперма его пролилась на пол.
47
Черное золото
Едва Марти открыл шаткую дверь, как в уши ему ударил гул голосов. Заведение было построено из красного кирпича, раньше здесь находилась верфь, и высокие сводчатые потолки, поддерживаемые бесконечным рядом колонн, многократно усиливали любые звуки. А шум в «Золотой мидии» стоял изрядный. Потоки нецензурной брани сидящих за столами посетителей заглушали вопли хозяина, тот что-то кричал слугам, хлопочущим у очагов, а на помосте в глубине зала четыре музыканта отчаянно старались усладить публику звуками духовых и струнных инструментов, но в результате лишь вносили свою лепту в общий кавардак.
Немного привыкнув к адскому шуму, Марти направился по центральному проходу, высматривая слугу, чтобы тот проводил его к свободному столику. Рядом тут же возник один из служащих в рубашке с засученными рукавами, от других работников он отличался зеленым фартуком на поясе, на голове у него была красная феска с пестрой кисточкой.
— Да хранит вас милосердный Аллах! — произнес он. — Чего желаете, господин?
По его одежде Марти догадался, что он мусульманин, и ничуть не удивился, ведь Базилис, капитан «Морской звезды», предупредил, что на Кипре по очереди господствовали самые разные культуры. Египтяне, греки, римляне — все они оставили здесь след. То же самое, помнится, говорил и Барух, чьи знания так выручали его почти в каждом средиземноморском порту. Например, Барух объяснил, что и с греком, и с арабом всегда можно объясниться на латыни.
— Мне нужен свободный столик, чтобы усталый путник мог насладиться тишиной, и что-нибудь из морской кухни, которой так славится этот дом.
Мавр трижды хлопнул в ладоши, и тут же явился слуга в широких турецких шароварах, синей рубахе с черным поясом, и феске, но в отличие от хозяйской, не красной, а зеленой.
— Проводи гостя на второй этаж, на галерею, — распорядился хозяин. — Там он сможет спокойно наслаждаться ужином, а также, если захочет, наблюдать за тем, что происходит внизу, оставаясь при этом невидимым.
Тут Марти заметил в глубине помещения, примерно на половине высоты, ряд окошек, закрытых шторами; очевидно, там и располагались отдельные кабинеты для тех, кто желал укрыться от посторонних глаз.
Мавр, как и было велено, проводил его на галерею и открыл дверь одной из небольших комнаток, предназначенных для приема избранных гостей. Затем, попросив Марти немного подождать, пока он принесет заказанный ужин, слуга удалился. Обстановку комнатки составляли две скамьи, обитые мягкой тканью. Они стояли по обе стороны небольшого стола, на котором горела единственная свеча и лежали щипцы для разделки омаров и крабов.
В ожидании ужина Марти отдернул занавеску и стал рассматривать посетителей внизу.
Там, казалось, собрались представители всех рас и народов мира. Здесь были и бледнокожие купцы с севера, и смуглые сыны Средиземного моря, темные африканцы, арабы... все те, кого объединило море — и торговля.
И тут его внимание привлекло кое-что в глубине зала. Возле помоста с музыкантами тощий маленький человек в огромной чалме, сползающей ему на глаза, о чем-то возбужденно спорил с соседями — двумя арабами огромного роста. Насколько удалось понять Марти, арабы требовали, чтобы человек в чалме убрался, уступив им столик, потому что они хотят сидеть рядом с музыкантами и лучше слышать их однообразную мелодию, а тот отказывался, утверждая, что еще не закончил ужинать.
Один из этих типов пытался стащить человека в чалме со стула, другой ухватился за его котомку, лежащую на столе. Тот схватил сумку, перекинул через плечо и, бормоча под нос ругательства, вновь принялся поглощать ужин. Марти наблюдал за этой сценой до прихода слуги с омарами в морском соусе и кипрским вином. Тогда Марти задернул занавеску и, забыв об этом происшествии, отдал должное сочным омарам и двум кувшинам превосходного вина.
Окончив роскошный пир и заплатив за него, он покинул гостеприимное заведение, но прежде чем вернуться в свою гостиницу, решил прогуляться по гавани и подышать морским воздухом в надежде, что ночная прохлада поможет быстрее выветриться винным парам, слегка затуманившим голову. В эту минуту он, как всегда, думал о Лайе, считая дни и часы до встречи с ней и сгорая от тревоги, не случилось ли с ней чего-нибудь в его отсутствие, как вдруг услышал всплеск и чьи-то крики со стороны моря. Марти перевел взгляд с городской стены в сторону лунной дорожки, дрожащей на поверхности залива, и увидел, как какой-то человек, запутавшись в собственной одежде, барахтается в воде, отчаянно пытаясь выбраться. Недолго думая, Марти бросил котомку на землю и бросился в воду.
В четыре мощных гребка он оказался рядом с тонущим человеком. К счастью, море было спокойно, а вода — не слишком холодной. Повернувшись к утопающему, он ухватил его за подбородок и подтянул к каменной стене. И вот тут возникли трудности. Стена не имела ни выступов, ни железных скоб, за которые можно было бы ухватиться. Сам по себе незнакомец был худым, но его намокшая просторная одежда весила немало, не говоря уже о том, что очень мешала. Оглядевшись, Марти не на шутку расстроился: ему не хотелось думать, что все его приключения и планы так и окончатся в водах затерянного порта Фамагуста.
В ту минуту, когда он в отчаянии вспомнил о Лайе, он вдруг заметил неподалеку что-то похожее на дощатый плот, с которого свисало несколько веревок, сплошь усеянных мидиями. Марти медленно поплыл туда, волоча за собой сверток. Неожиданно утопающий пришел в себя и, дрожа как осиновый лист, начал отчаянно цепляться за своего спасителя, мешая плыть. Марти не осталось ничего другого, как двинуть ему кулаком в челюсть. Незнакомец вновь повис у него на руке, и плыть стало намного легче. Последним усилием Марти добрался до плота и вцепился в веревку, в кровь изрезав ладонь об острые края раковин. Отчаянным рывком он вполз на дощатый настил и затащил на него свою ношу. Правая рука кровоточила. Стянув с незнакомца мокрый халат и соорудив из него нечто вроде подушки, Марти подложил ее под голову спасенного и похлопал его по щекам, приводя в чувство.
Через какое-то время тщедушное тело утопленника начало содрогаться, выталкивая воду через рот и нос. Тогда Марти взял его за плечи и усадил, чтобы тот не захлебнулся собственной рвотой. Дыхание утопленника понемногу выровнялось, взгляд остекленевших маленьких глаз сделался осмысленным; теперь он смотрел прямо на своего спасителя, и его губы дрогнули в благодарной улыбке. Тогда Марти решил наконец заняться своей раненой рукой. Оторвав зубами полосу ткани от подола своей рубашки, он стал перевязывать свою ладонь. В тусклом свете луны Марти узнал в утопленнике того самого коротышку, к которому приставали двое громил в «Золотой мидии».
— Что с вами стряслось? — спросил он.
Незнакомец еле слышно пролепетал:
— Меня ограбили двое мерзавцев, они пристали ко мне, когда я ужинал. Негодяи украли мою котомку, а меня бросили в море. Если бы не вы, я бы уже предстал перед Создателем.
— Подождите пока здесь, я сейчас вернусь.
Когда новый знакомый упомянул свою котомку, Марти вспомнил о собственной и стремглав бросился за ней. По мосткам из связанных веревкой реек он добрался до берега и помчался туда, где, как ему казалось, бросил свою сумку. Он молился, чтобы никто не успел ее найти, иначе он останется без документов и списка полезных знакомых. К счастью, котомка оказалась на месте. Когда Марти вернулся к спасенному, тот уже встал и, вцепившись в веревку, плавающую у садков с мидиями, пытался добраться до берега.
— Что вы делаете? — крикнул Марти. — Хотите снова утонуть?
— Вовсе нет. Простите, что доставил вам столько хлопот. Просто я думал, что вы не вернётесь.
— А вот тут вы ошиблись.
— Я рад, ведь вы спасли мне жизнь.
— Зачем же вы пытались заставить меня снова проделать столь тяжкую работу?
— У меня на родине говорят, что, если кто-то спасет жизнь ближнему, тот становится его должником.
— Откуда вы родом? — спросил Марти.
— Из одной деревни на севере Кербалы.
— Этой ночью я за вами присмотрю. А потом лично провожу вас домой, а то еще опять влипните в какую-нибудь историю.
— Буду вам премного благодарен.
Промокшие до нитки, они пошли по узким улочкам, причем своего спутника Марти почти тащил на себе. Оба дрожали и стучали зубами от холода. Затем спасенный, которого, звали Хасан аль-Малик, решил пойти впереди, чтобы показать дорогу. Редкие прохожие принимали их за пьяниц, цепляющихся друг за друга, чтобы не упасть — вполне обычное явление в портовом городе, вежь моряки, как известно, любят выпить. Наконец, они добрались до ветхой двухэтажной лачуги, там, в подвале, как выяснилось, и обитал новый знакомый Марти. Поддерживая Хасана повыше талии, Марти помог ему спуститься по короткой лестнице, ведущей к единственной двери и окошку, забранному железной решеткой.
По указанию Хасана Марти вставил ключ в замочную скважину и отпер дверь. В лунном свете и тусклых отблесков от тлеющих в очаге углей он разглядел комнату. Это было квадратное помещение, обставленное более чем скромно. Возле очага располагались мехи для раздувания углей и жаровня для приготовления пищи. Над очагом висел на цепи котел, который можно было поднимать или опускать при помощи небольшого блока. Посреди комнаты стоял стол с плошкой, полной густой и вязкой черной жидкости с резким запахом, в которой плавал фитиль. Вокруг стола стояли три шатких стула, один совсем ветхий.
В углу притулилась лежанка, покрытая одеялом из шерсти неизвестного животного. В нише над изголовьем Марти разглядел барельеф с буквами Х и Р, заключенными в круг. Марти решил, что это религиозный символ. Две стены были увешаны полками, там стояла какая-то фигурка, бронзовые кубки, лежали морские карты. На одной полке был странной формы сосуд; с одной стороны у него была ручка, а с другой — длинный носик, чтобы переливать содержимое в другую посуду.
Марти опустил Хасана на его ложе и стянул с него мокрую одежду. Затем растер его попавшейся под руку тряпкой и закутал в шерстяное одеяло. Теперь он мог заняться собой, но прежде развёл огонь в очаге, подбросив в него несколько поленьев из большой корзины. Когда дыхание Хасана выровнялось, Марти разделся и развесил одежду сушиться перед очагом на спинках стульев. Чтобы не ходить голым, он накинул что-то вроде халата, который нашёл в сундуке. Одеяние едва доходило ему до колен.
С минарета по соседству донесся призыв к полуночному намазу. Когда луна скрылась за тучей, комната погрузилась в полумрак. Марти решил, что как только одежда подсохнет, он сразу же отправится обратно в «Минотавр», ведь уже очень скоро ему предстоит ехать в Пелендри. Но его одолела усталость. Голос Хасана отвлек его от мыслей.
— Я вас почти не вижу, лучше зажечь светильник.
— О чем вы говорите? — удивился Марти. — Я не вижу здесь никаких светильников.
— Предоставьте это мне.
Хасан, выпростав из-под одеяла свое тощее тело, поднялся и направился к очагу. Он вынул щипцами уголек, подошел к столу и поджег фитиль, плавающий в плошке с вязкой жидкостью. Фитиль тут же вспыхнул ярким синим пламенем.
— Я слишком беден, чтобы позволить себе лишнюю роскошь, — пояснил он. — Сегодня я смог устроить себе пир в «Золотой мидии» лишь потому, что брат прислал денег из наследства в Кербале, где он живет. Так что завтра я куплю свечи.
Марти не переставал удивляться.
— Но что это за вещество, которое горит и дает свет? — спросил он.
— Его мне тоже иногда присылает брат. Это одно из немногих благ, что дает моя земля, больше она почти ни на что не годится.
— И откуда оно берется?
— Из земли. Возле дома моих родителей было целое озеро этой жидкости, и мы с братьями, которых у меня девять, даже играли, поджигая ее. Жидкость взрывалась пузырями, вызывая маленькие пожары.
В голове у Марти настойчиво свербела какая-то странная мысль.
— Так вы родом из Кербелы? Где находится этот город, и что за люди там живут?
— Это в Месопотамии, на берегу Евфрата. Там ничего нет, кроме зноя и нищеты. Но эти места знамениты тем, что там погиб в бою сын Али, зятя Пророка, и туда отовсюду стекаются паломники, чтобы поклониться его могиле. Местные жители промышляют охотой да рыбной ловлей.
— И для чего же используют это черное масло?
— Практически ни для чего, — ответил Хасан. — Оно мало на что годится. К тому же его трудно продать. Кому нужен товар, который так трудно перевозить? Брат присылает мне его в бутылке, и тогда я жгу его вместо восковых свечей или масла, которые слишком дороги.
Идея, свербевшая в голове у Марти, понемногу приобретала все более отчетливые формы.
— Хасан, я каталонец и занимаюсь торговлей. Я прибыл сюда, чтобы купить медь, за которой собираюсь вернуться на другом корабле, он принадлежит мне на паях. Я буду вам бесконечно благодарен, если вы поможете связаться с вашим братом. Я бы хотел купить эту черную жидкость, которую вы, похоже, совершенно не цените. Думаю, на Западе ей нашлось бы хорошее применение, и это принесло бы немалые выгоды и вашему брату, и вам, и мне.
— Если я этим смогу хоть немного вас отблагодарить за то, что вы для меня сделали, то с радостью. Где и когда я смогу вас увидеть?
— Завтра я отбываю в Пелендри, но скоро вернусь. Пока я останусь в «Минотавре», но теперь мои планы изменились, я собираюсь отправиться в Кербалу, чтобы встретиться с вашим братом.
— Я с удовольствием вам помогу.
— В таком случае, Хасан, если моя одежда уже высохла, а вы пришли в себя, я отправлюсь на свой постоялый двор. Завтра мне предстоит трудный день, и я хотел бы немного поспать.
— Ступайте с миром, и да пребудет с вами ваш Бог. К вашему возвращению я напишу брату.
Когда Марти оделся, Хасан обнял его и трижды поцеловал в щеки, а потом проводил на улицу, наказав идти в этот час очень осторожно. В ответ Марти нащупал у пояса рукоятку кинжала. Когда шаги каталонца стихли в ночи, Хасан снова лег. А луна, вечная и молчаливая свидетельница людских жизней, насмешливо наблюдала с небес, как беспокойный юноша скитается по миру, пытаясь завоевать руку возлюбленной.
48
Замок Вилоприу
Наступила весна 1054 года. Старая графиня Эрмезинда предавалась воспоминаниям, глядя сквозь густую завесу памяти. Словно призрачные тени из прошлого, проходили перед ней лица всех, кто уже отправился в лодке Харона в свой последний путь. Отец, Роже I, властитель Каркассона; мать, Аделаида Гавальда; любимый муж, Рамон Боррель, сделавший ее вдовой в 1018 году; сын, Беренгер Рамон по прозвищу Горбун, из-за его врожденного увечья она пролила столько слез. Вспоминала она и других детей, Борреля и Стефанию, и братьев — Берната, Рамона и самого любимого, Пьера, епископа Жироны, как и аббат Олиба, он всегда был ее верным союзником.
Смерть двоих людей сыграла в ее судьбе ключевую роль: гибель мужа от несчастного случая во время его второго похода на Кордову, когда она в первый раз стала регентшей при малолетнем сыне, а затем — смерть сына, после чего ей пришлось стать регентшей во второй раз, отстаивая права внука, доставившего ей впоследствии столько хлопот. Бледные тени одна за другой удалялись по узкому коридору памяти, унося с собой целые куски ее жизни. А Господь так и не слышал ее молитв, когда она взывала к нему каждый день во время мессы, умоляя забрать ее к себе. Ее жизнь близилась к концу, и все великие труды были завершены.
За свою долгую жизнь, ведь у нее начали серебриться виски, она основала более ста тридцати монастырей, а прошлым летом лично отправилась в Рим, чтобы обсудить с Папой вопрос об отлучении от церкви своего внука и блудницы, с которой он живет, не таясь. Эрмезинда искренне верила, что за одно это Господь должен ее вознаградить.
Потом ее мысли цеплялись за эти воспоминания и быстро переносились к настоящему времени, когда ей предстояло принять важное решение относительно двух графств, наследства мужа.
Местом важной встречи был выбран замок Вилоприу. Представители другой стороны в переговорах сочли остальные замки по эту сторону Пиренеев неподходящими. Альмодис де ла Марш, любовница ее внука Рамона Беренгера, решила показать, какую власть над ним приобрела, и отвергла почти все варианты, предложенные могущественной графиней Жиронской и Осонской, чей авторитет до сих пор был непререкаем. В конце концов решили остановиться на замке Вилоприу, стоящем на границе двух графств, Осоны и Ампурьяс.
Представители обеих сторон, Роже де Тоэни со стороны Эрмезинды и Жильбер д'Эструк — со стороны Альмодис, договорились об условиях встречи. Третейским судьей по общему согласию был выбран епископ Гийем де Бальсарени. Обе дамы возлагали на эту встречу большие надежды, а потому решили усмирить свою гордость и пойти на некоторые уступки, чтобы достичь хоть какого-то взаимопонимания. Так, Альмодис пришлось смириться с тем, что скромный замок, в котором происходила встреча, находится гораздо ближе к Жироне, чем к Барселоне. Взамен ей обещали, что троны обеих графинь будут одной высоты, а в зал для аудиенций она войдет после Эрмезинды, а это значит, что ждать придется старой графине.
Замок, как и многие другие, построили в целях укрепления границы. Донжон [22] был окружен крепостной стеной, под ее защитой приютилась часовня. Крестьяне, зная, что закон обязывает сеньора их защищать, лепили свои лачуги у самого подножия крепостной стены, за которой всегда могли укрыться в случае нападения, и владелец замка обязан был их впустить, в противном случае ему грозили серьезные неприятности, вплоть до отлучения от церкви. Сам замок принадлежал графу де Ампурьяс, соседу и бывшему свату графини Эрмезинды; встречу в замке назначили с его молчаливого согласия, графиня уже не впервые разрешала свои тяжбы внутри этих стен.
Эрмезинда прибыла со своим эскортом накануне, а на следующий день, и это время было выбрано неслучайно, более многочисленный отряд Альмодис потребовал впустить их в замок. В шестом часу, после положенного отдыха, как договорились Роже де Тоэни и Жильбер д'Эструк, подготовили зал для встречи. В глубине установили два трона для обеих благородных графинь, а чуть ниже — сиденья попроще для их капитанов.
Между ними, лицом к тронам, поставили аналой, откуда епископу предстояло выполнять трудную миссию арбитра. С каждой стороны находились небольшие столики с письменными принадлежностями для двух писарей, чтобы составили истинную летопись событий. Стены украсили знаменами Жироны и Осоны, с противоположной стороны — Барселоны и Ла Марки. Как было оговорено ранее, рыцари обеих дам разоружились и вручили щиты и мечи владельцу замка. Капитаны и епископ заняли свои места, писцы взялись за перья. Все замолчали, ожидая появления графинь.
В черном платье, с графской короной на голове, величавая и торжественная, как и подобает особе ее ранга, в зал вошла Эрмезинда. Она с достоинством уселась на трон справа. Придворная дама набросила ей на плечи мантию, и графиня замерла на троне, безупречно прямая, положив правую руку на подлокотник. Альмодис решила выждать несколько минут, давая понять присутствующим, что именно она решает, когда войти в зал. Она прошествовала к своему трону с достоинством царицы Савской, в красном платье с серебристо-серой баской, ее волосы покрывала расшитая жемчугом сетка. Альмодис не сомневалась, что старой графине придется встать, чтобы поприветствовать ее. Но она ошиблась. Эрмезинда, вокруг которой хлопотала придворная дама, при виде Альмодис лишь едва повернула голову и велела пажу подать ей веер, а потом вновь отвернулась, не удостоив соперницу ни единым взглядом.
В зале повисла мертвая тишина. Никто не смел даже кашлянуть. Наконец, епископ открыл церемонию.
— Прошу всех встать, — произнес он.
По залу пронесся гул голосов, смешанный со скрипом половиц и шуршанием одежд. Потом вновь прозвучал голос священника.
— Начнем же наше действо с молитвы Святому Духу, дабы он просветил наши умы, наставил на путь истинный и помог принять верное решение в столь сложных обстоятельствах. Пусть щедрость духа и милосердие возобладают над суетной гордыней на благо христианства и всех графств, чьи представители здесь присутствуют.
С этими словами он возвел глаза к небу и пропел «Ангелус» хорошо поставленным голосом. Все подхватили слова молитвы.
Затем обе графини одновременно опустились на троны, зрители тоже сели — за исключением тех, кому не хватило места, а таких толпилось немало.
Священник начал переговоры словами о важности предстоящего соглашения и передал слово графине Барселонской. Та говорила сдержанно и негромко, как будто обращалась не ко всем присутствующим, а лишь к своей Немезиде, и сделала долгое вступление, прежде чем перейти к интересующей теме.
— Графиня, я присутствую здесь от имени вашего внука, графа Рамона Беренгера I, чтобы достичь соглашения по некоторым вопросам, от которых напрямую зависит будущее Барселоны.
Эрмезинда застыла, словно мраморная статуя; ни единый мускул не дрогнул на ее лице.
Альмодис между тем продолжала:
— Вы — графиня Жироны и Осоны, и прекрасно знаете, что после вашей смерти — да продлит Господь ваши дни на долгие годы! — оба графства перейдут к наследнику по праву рождения, то есть моему супругу. А потому ваш внук решил сделать вам предложение, которое я взяла на себя смелость передать. Во имя благополучия и процветания дома Беренгеров он предлагает вам еще при жизни отказаться от прав на эти графства и предлагает взамен внушительную сумму. Вы можете удалиться в один из основанных вами монастырей и вести душеспасительную и благочестивую жизнь, подобающую даме вашего возраста и заслуг.
В зале повисла гнетущая тишина. Альмодис молча и напряженно ждала ответа Эрмезинды. Та долго не раздумывала.
— Уважаемая сеньора, — произнесла Эрмезинда, давая понять, что не желает именовать Альмодис графским титулом. — Начнем с того, что титул графини Жироны и Осоны принадлежит мне по праву. Этот титул пожаловал мне муж, граф Рамон Боррель, в качестве свадебного подарка в тот день, когда попросил моей руки. Так что прошу передать моему внуку, что я отказываюсь принять это унизительное предложение, более того, в своем завещании я позабочусь о том, чтобы графства перешли к более достойному человеку. Человек должен быть достоин своего титула, пусть даже он получил его по наследству, а не благодаря собственным заслугам. Мой же внук не заслужил свой титул, более того, он его опозорил. Если ему угодно, чтобы Барселоной правила отлученная от церкви блудница, отвергнутая законным супругом, то это его проблема. Но я уж постараюсь, чтобы моих графств этот позор не коснулся.
Альмодис глубоко вздохнула, стараясь взять себя в руки: слишком много было поставлено на карту.
— В таком случае, поговорим о другом, сеньора. Ваш супруг, граф Барселонский, всячески заботился о благе своих подданных, и надеюсь, что вы тоже желаете им добра. Отлучение, которого вы добились для моего мужа, значительно подорвало его авторитет в глазах подданных, и ваш внук, который на самом деле вас глубоко любит, смиренно молит вас уговорить папу Виктора II отменить отлучение. В обмен на это величайшее одолжение Рамон готов признать ваше право на титул вдовствующей графини Барселонской — разумеется, чисто номинальный, и передать семьдесят тысяч манкусо на ваши благочестивые деяния.
Когда Альмодис огласила сумму, по залу прошёл глухой ропот.
Эрмезинда выдержала долгую паузу, чтобы привлечь к себе внимание всех присутствующих.
— Сеньора, вы оскорбляете не только меня, но и святую церковь, вынуждая ее слугу выслушивать подобные претензии моего внука. Этот оболтус возомнил, будто может откупиться от отлучения за семьдесят тысяч манкусо. Так вот, передайте ему, что его бабка, которая в годы его малолетства как львица отстаивала его права, никогда не опозорит себя участием в подкупе, как и в любом другом действе, связанном с куплей-продажей церковных таинств. Что же касается предложенных мне отступных, то я не нуждаюсь в его подачках: у меня есть все необходимо. Если же вы спросите мнения своих подданных, то поймете, что ко мне они питают гораздо больше уважения, чем к вам. Пусть каждый, кто не рожден властителем, увидит, сколь высокую цену приходится платить отлученному. Он станет изгоем, и никто из соседей не подаст ему руки.
— Я так понимаю, что ваш ответ окончателен, и никакой компромисс между нами невозможен? — спросила Альмодис, изо всех сил стараясь держать себя в руках.
— Ну почему же? — усмехнулась Эрмезинда. — Вполне возможен. Все зависит от вас.
— Я вас слушаю.
— Передайте Рамону, что его бабка согласна отказаться от титула и всех владений и удалиться в монастырь, чтобы до конца своих дней молиться о спасении его заблудшей души — при условии, что вы покинете его ложе, уедете из графства и вернётесь к своему семейному очагу, который никогда не должны были покидать.
Альмодис вскочила, как разъяренная тигрица.
— Мой семейный очаг — в Барселоне, рядом с мужем! И меня не интересует, что вы думаете по этому поводу.
— Боюсь, вы уже и сами не знаете, где ваш семейный очаг: в Арле, в Лузиньяне или в Тулузе, — ответила Эрмезинда с откровенным сарказмом. — Насколько мне известно, первые два вы покинули не по своей воле, зато от третьего удрали сами.
— Бедные графства Жирона и Осона! — воскликнула Альмодис — Это ж надо — иметь такую гадюку в графинях! Вы же просто брызжете ядом, сеньора.
— Уважаемые графини, я думаю, будет лучше отложить беседу на завтра, — вмешался епископ, видя, что страсти накаляются. — Подушка — лучший советчик, она поможет остудить пыл.
Но Эрмезинда все равно заговорила.
— Епископ! Переговоры нужно закончить сегодня, но вам следует вмешаться, когда речь заходит о церкви. У меня все внутри холодеет, когда я слышу о подкупе священнослужителей.
— В таком случае, сеньоры, пусть зал покинет публика.
Альмодис, взяла себя в руки и сказала:
— Поступайте, как считаете нужным, епископ, но я настаиваю, чтобы мой капитан и личный секретарь остались. В конце концов, должны же быть свидетели подобному бесчинству.
— Что ж, если вы считаете...
Обе графини кивнули, и прелат жестом велел освободить помещение.
Люди медленно повалили из зала, громко обсуждая случившееся. Когда вышел последний гость, слуга плотно закрыл двери.
Бальсарени повернулся к Альмодис.
— Теперь ваша очередь, графиня.
Альмодис заговорила уже спокойнее, хотя в голосе ее звучало неприкрытое торжество:
— Вы можете мне верить или не верить, но я люблю вашего внука, и у вас нет права меня судить. Рано или поздно церкви придется уступить. Так всегда случалось, когда речь шла о государственных делах, и тогда у нас уже не будет нужды в вашем заступничестве. Как бы вам не пришлось пожалеть о том, что вы отвергли столь щедрое предложение. В конце концов, вы тоже не вечны. Когда-нибудь вы умрете, и ваши графства перейдут к Рамону, хотите вы того или нет. Подданные прекрасно знают, что для них лучше, а ваш внук сможет сохранить средства, которые иначе были бы потрачены на бесконечные мессы за спасение вашей грешной души, безнадежно отравленной ненавистью.
— Итак, сеньора, я так понимаю, вы отказываетесь покинуть ложе моего внука, — подвела итоги Эрмезинда. — Ну что ж, поступайте, как знаете. И передайте Рамону, пусть он не беспокоится и отдаст эти манкусо вам. Мне они ни к чему, а вы можете открыть на них бордель в любом городе Септимании. Там вам самое место. Как говорится, каждой пташке — свое гнездо!
— Вы несчастная женщина и к тому же невыносимая! — взорвалась Альмодис. — Я искала мира, но вам, видимо, нужна ссора. Вы оскорбили меня, когда я хотела вам помочь, но не понимаете, чем это может быть чревато для вас и графства. Ну что ж, скажу вам правду: у нас скоро родится сын, но по вашей милости один из Беренгеров окажется незаконнорожденным, сыном греха. И когда малыш подрастет, мать объяснит ему, что этим клеймом, наложенным на него еще до рождения, он обязан родной прабабке. Ваш правнук, в жилах которого течет кровь Беренгеров и Каркассонов, будет сыном блудницы и шлюхи, как вы меня называете. Но в конце концов сын шлюхи унаследует все: и Жирону, и Осону, и Барселону. Sic transit gloria mundi [23], как говорится. Хорошо смеется тот, кто смеется последним, сеньора.
Епископ побледнел, Роже де Тоэни вскочил, хватаясь за пустые ножны и позабыв, что в них нет меча. В довершение всего, один из писарей потерял сознание и падая опрокинул пюпитр, залив чернилами все пергаменты.
49
Порочные намерения
Душа Берната Монкузи утратила мир и покой. В глазах его стоял кровавый туман, гнев и похоть терзали душу, не давая покоя ни днем, ни ночью. Рассвет заставал его, измученного бессонницей, на смятых простынях огромного ложа. Напрасно Галеви прописывал ему настойку опия и маковый отвар. Каждый вечер он покрывался холодным потом при мысли о том, что, возможно, в эту ночь он умрет, и тогда его душа будет обречена на вечные муки. Грех Онана слишком укоренился в его привычках, Бернат Монкузи пытался с ним бороться, но все равно каждый вечер открывал потайное окошко и любовался видом обнаженного тела падчерицы.
На следующий день после того памятного открытия он отправил Лайю вместе с ее рабыней в дальнее поместье, а сам пробрался в ее спальню и принялся рыться в вещах девушки. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти шкатулку. Он вскрыл ее дрожащими руками и стал читать письма. С первых же слов он едва не лишился дара речи от негодования. Перечитав письма по нескольку раз, он вернул их на прежнее место.
Заперев шкатулку, он убрал ее в ящик и удалился к себе в кабинет — обдумать, что предпринять. Жадность боролась в его душе с ревностью, он боялся дать волю гневу, чтобы не совершить ошибку. Марти Барбани уже стал неплохим источником дохода. Внутреннее чутье подсказывало, что через пару лет этот молодой человек принесет существенную прибыль.
А главное — со временем прибыль может стать баснословной, если действовать благоразумно. Нет, определенно нет. Бернат Монкузи не станет тем человеком, который лишит Марти Барбани всех надежд. Он уже замыслил план, чтобы не лишить себя денег. Во-первых, Лайя должна сама отдалиться от Марти, так чтобы тот не затаил обиду на ее отчима. Пусть он решит, что для девушки эти чувства были лишь мимолетным капризом, а после долгой разлуки она к нему охладела. Трудность заключалась в том, чтобы девушка лично отправила подобное письмо. Нужно убедить ее послушаться, уговорами или силой.
Он решил, что стоит воспользоваться отсутствием молодого человека, чтобы осуществить план. Нужно заняться этим сегодня же вечером, пока она не успела попросить у кого-нибудь совета.
Лайя вместе с Аишей отправилась в церковь Святого архангела Михаила в новом подаренном отчимом паланкине. Затем девушкам предстояло доставить письмо Берната в дом за пределами Кастельнау. Аиша, с разрешения командира стражи, которому Бернат дал четкие указания, отпросилась сбегать на рынок, чтобы встретиться там с Омаром и узнать, нет ли новых писем от Марти, а если есть, то она собиралась, как обычно, спрятать их под одеждой, чтобы вечером передать своей хозяйке и подруге.
После молитвы девушка, всегда просившая у Богородицы оберегать любимого, отправилась обратно в паланкине, который несли на плечах четверо темнокожих рабов. До самого дворца Монкузи ее сопровождали стражники. Внутри, скрывшись от людских взглядов за плотными занавесками, она думала о том, что ни роскошные ткани, ни палисандровое дерево, ни ароматные духи не заменят жизнь рядом с любимым человеком, которого выбрало ее сердце.
Когда они вернулись, дворецкий сообщил Лайе, что хозяина срочно вызвали в графский дворец, так что ей предстоит обедать в одиночестве. Лучших новостей и быть не могло. Лайя сказала слуге, что собирается обедать в беседке, и велела принесли туда лимонад.
Аиша вернулась без писем от Марти, хотя ей удалось узнать, что он решил отправиться в Сидон, а затем посетить несколько арабских королевств. Омар сказал, что если Лайя напишет письмо в течение трех дней, он незамедлительно отправит его, и оно успеет нагнать молодого человека еще в Сидоне. Еще он сказал, что «Морская звезда», по слухам, сейчас в Фамагусте.
Лайя была на седьмом небе от счастья, услышав новости о своем любимом, пусть даже от посторонних людей. Каждое такое известие словно приближало долгожданный день новой встречи.
Когда она уже лежала в постели, пребывая в мечтах в далеких странах, ее вызвали в кабинет отчима.
Она поспешно привела себя в порядок, размышляя о том, как мимолетны минуты счастья и как внезапно светлые мгновения жизни сменяются своей противоположностью.
Слуга, всегда стоящий перед дверью в кабинет ее опекуна, подался в сторону, Лайя постучала в дверь, и тут же изнутри ответил недовольный голос отчима:
— Входи.
Приоткрыв левую створку двери и просунув внутрь голову, девушка спросила:
— Вы меня звали?
Советник поднялся и с ласковой улыбкой кивнул.
— Да, дочка. Входи и садись.
В этой улыбке, в тоне его голоса Лайе почудилось что-то зловещее, она поняла — случилось что-то серьезное.
Она медленно пересекла комнату и остановилась напротив отчима.
Бернат по своей давней привычке поигрывал ножиком на серебряном подносе. Повисла гнетущая тишина.
Наконец, старик заговорил, его голос прозвучал торжественно и серьезно.
— Ты опечалила меня, Лайя.
Удивленно подняв брови, девушка растерянно взглянула на него большими серыми глазами.
— Ты обманула мое доверие доброго отца.
— Я уже говорила вам тысячу раз, — тихо, но твёрдо ответила Лайя. — Вы мне не отец.
Бернат яростно швырнул нож на стол.
— И я этому только рад! Так даже лучше. В любом случае, я несу за тебя ответственность. Ты живешь под моим кровом, за мой счет, не зная ни в чем нужды, и я не потерплю, чтобы кто-то в моем доме проворачивал свои делишки у меня за спиной. И меня огорчает, Лайя, что какому-то хлыщу удалось заморочить твою хорошенькую головку, которая мне так дорога, и ты не нашла ничего лучшего, как завести с ним шашни против моей воли и без моего ведома.
— Не кричите так громко, я хорошо слышу, — ответила Лайя, поражаясь собственной дерзости. — Я живу вовсе не за ваш счет. Я живу за счет наследства, которое оставил матери мой настоящий отец. От вас же мне ничего не нужно.
— Пусть так. Но до твоего совершеннолетия я остаюсь твоим опекуном, что дает мне право распоряжаться твоим наследством, как я сочту нужным. Я ведь могу просто пустить его на ветер, и тогда тебе не достанется ничего, а могу сохранить и приумножить. Это зависит лишь от тебя.
Лайя на миг задумалась, все еще не понимая, куда он клонит.
— И от чего же это будет зависеть? Почему вы мне угрожаете, что я такого сделала?
— Поскольку ты заявляешь, что уже взрослая, отныне с тебя и спрос будет как с таковой. В своей комнате ты хранила письма, подорвавшие мое доверие, до сих пор безграничное.
Кровь отхлынула от лица девушки, а тело покрылось холодным потом. Она нервно сглотнула.
— В этих письмах говорится о бесконечной к тебе любви, и я не сомневаюсь, что существуют и другие письма, где тоже говорится о любви, только писала их уже ты. Имей хотя бы совесть в этом признаться.
— Ну что ж, — вздохнула Лайя. — Я люблю Марти и собираюсь выйти за него замуж, как только достигну совершеннолетия, даже если вы лишите меня наследства и пустите на ветер мое состояние. Никакие сокровища мира не заставят меня отказаться от любви. А кроме того, — добавила она внезапно окрепшим голосом, — с вашей стороны просто подло рыться в чужих вещах, вынюхивая чужие тайны.
На лице Берната проступила глумливая кривая ухмылка.
— Это мой долг. Я не могу обмануть доверие твоей матери, которая на смертном одре заклинала заботиться о тебе. Она бы мне не простила, если бы я плохо смотрел за тобой, ведь ты ещё совсем не знаешь жизни.
— Не смейте говорить в таком тоне о моей матери! Она умерла, почти сойдя с ума по вашей вине. Я бы предпочла, чтобы вы обо мне не заботились, лишь бы не лезли в мои дела и не мешали писать письма тем, кто мне нравится.
— Дура! Я могу сделать с тобой все, что захочу, хоть запереть в монастырь, хоть выдать замуж за кого пожелаю, и тебе останется лишь подчиниться.
— Вы можете сделать со мной все, что захотите, но не властны над моими мыслями и мечтами.
И тут старик неожиданно сменил тон.
— Пойми, все это для твоего же блага, Лайя. За всю жизнь я не встретил никого, кто был бы достоин тебя. Если ты будешь меня слушаться, то после моей смерти станешь самой богатой женщиной в Барселоне.
Лайя, дрожа от волнения, спросила:
— И чего же вы от меня хотите?
— Я знал тебя с самого детства и отдал тебе всю любовь, которую питал к твоей матери. Теперь пришел твой черед вознаградить меня. Ты уже взрослая, разница в возрасте не имеет значения. В нашем графстве немало пар, где муж намного старше жены, и они прекрасно живут. А для мужчины в соку весьма нежелательно спать в холодной постели. Я верный сын церкви и никогда не был склонен искать утех с публичными женщинами. Я уверен, граф благословит наш брак, и мне останется лишь устранить некоторые трудности, связанные с тем, что в свое время я тебя удочерил.
— Да вы с ума сошли! — воскликнула Лайя; слезы бессилия брызнули у неё из глаз. — Никогда, слышите? Никогда я не соглашусь!
— Ну что ж, — произнес Бернат, пытаясь скрыть за холодным тоном бушующий в душе гнев. — Значит, так тому и быть. Ты сама так решила. Я сделал тебе честное предложение руки и сердца, и ты его отвергла. Так что за последствия будешь отвечать сама.
— Клянусь, что при первой же возможности я сбегу от вас, пусть даже мне некуда идти.
Голос советника превратился в змеиное шипение.
— Ничего подобного ты не сделаешь. Все в этом доме теперь пойдет по-другому. Эти письма не прилетели сюда по воздуху, и я прекрасно знаю, кто их тебе доставлял. Так что теперь лишь от тебя зависит, что с тобой будет. Для начала я удалю от тебя Аишу и посажу ее под замок. Если ты согласишься на мои условия, я позволю тебе ежедневно навещать ее, приносить ей воду и пищу. Так ты убедишься, что она жива. За это ты напишешь своему дружку письмо, что твои чувства были лишь мимолетным увлечением. И используй те же слова, какими ты обычно изъясняешься в письмах. Имей в виду, этот молодой человек должен поверить, что причиной всему — твое женское легкомыслие, ему не должно прийти в голову, что в этом как-то замешан я. Хотя я прямо ему сказал, что не считаю достойным твоей руки, но не стал лишать надежды. И пусть с тех пор мало что изменилось, этот человек по-прежнему мне нужен, а со временем, чует мое сердце, он достигнет высот власти и богатства. Таким образом, ты должна его убедить, будто твой отказ иметь с ним дело исходит исключительно от тебя. Да, и чтобы ни единого неуважительного слова в мой адрес! Я не намерен терпеть, чтобы кто-то подрывал мой авторитет в моем собственном доме. Ясно тебе? А теперь можешь идти.
50
Пелендри
Когда Марти вернулся в «Минотавр» в изорванной в клочья одежде, стоящий за стойкой Никодемос не на шутку перепугался.
— Что случилось? — воскликнул он. — На вас напали? Я же предупреждал, что здесь опасно.
— Нет, не волнуйтесь, ничего такого, — успокоил его Марти. — Просто мне пришлось прыгнуть в море, чтобы спасти одного бедолагу.
Никодемос покачал головой.
— Все порты опасны, но наш — особенно, тем более в ночное время.
— Все в порядке, честное слово! Если бы я не пошел ужинать в «Золотую мидию», быть может, душа невинного человека покинула бы этот мир.
— Рад за вас, хотя по мне, так пусть хоть все пьяные матросы Фамагусты отправятся прямиком в ад!
Марти предпочел не вдаваться в подробности и заявил, что его планы изменились.
— Не будете ли вы так добры передать шурину, чтобы он приехал за мной пораньше? Прежде чем отправиться в Пелендри, я должен вернуться на корабль, я забыл там кое-что важное.
— Не волнуйтесь, я знаю, где его найти. На рассвете я встречу с Элефтериусом. В каком часу он должен вас забрать?
— С наступлением темноты.
На следующий день Марти проснулся очень рано, поскольку перед отъездом в Пелендри ему предстояло много дел в Фамагусте.
План Марти был прост и ясен. Он собирался отплыть с Кипра на «Морской звезде» и отправиться в Сидон, чтобы там присоединиться к какому-нибудь каравану, идущему в Кербелу, его новую цель. Но для этого нужно было договориться с Базилисом Манипулосом, чтобы тот его подождал.
Все пошло именно так, как он и планировал. Элефтериос разбудил его вовремя, и старая повозка доставила Марти в гавань, где стояла на якоре «Морская звезда». Он попросил возницу дождаться его на вершине утеса, а сам спустился к морю. Стройный силуэт греческого судна был виден издалека. На берегу о чем-то беседовали старые рыбаки, дожидаясь, пока кто-нибудь захочет нанять одну из их утлых обшарпанных лодчонок для, чтобы добраться на один из стоящих на якоре кораблей. Немного поторговавшись, Марти забрался в одну из лодок, изъеденную жучком, но с горделивой фигурой дракона на носу.
Вслед за ним в лодку сел один старик, а другой, закатав до колен заплатанные штаны, помог столкнуть лодку в море. Пока гребец доставал весла, пассажир с интересом рассматривал фигурку дракона. Старик на минуту отвлекся от своего занятия и с гордостью пояснил:
— Это дракон. Так куда вас доставить?
— Вон на тот корабль с узким черным корпусом, что стоит на якоре возле триремы. Когда подплывете ближе, увидите на корме его название: «Морская звезда».
Взявшись за весла, старик продолжил рассказ.
— Когда-то в юности я знавал одного пирата-бербера, настоящий был дьявол, я вам скажу. Его прозвали Драконом. Всем, что я теперь знаю о море, я обязан ему. В память о нем я и сделал эту фигуру.
— Очень красивая, — заметил Марти.
— Я рад, что она вам нравится. Вы, должно быть, истинный сын моря.
— Во всяком случае, у меня есть собственный корабль, правда, я владею им на паях. Так что меня можно назвать судовладельцем.
— То-то я гляжу, вы больше похожи на сухопутного человека, — заметил старик. — У моряков другая походка.
— Уверен, она изменится, как только я выйду в море.
— Ваша милость желает продолжить плавание?
— Разумеется. Я собираюсь отплыть на « Морской звезде».
— Как я вам завидую! Если бы вы знали, каково это: всю жизнь провести в море, а теперь куковать на берегу, потому что старым костям уже не под силу морская качка. Знали бы вы, какое это проклятие! Любой моряк предпочтет, чтобы его кости покоились на морском дне, как и ребра его корабля, нежели, медленно угасая, доживать свои дни в какой-нибудь грязной дыре.
Марти решил, что не стоит продолжать этот разговор, и старик с тяжёлым вздохом вновь принялся грести. За всю дорогу до корабля он больше не сказал ни слова.
Один из матросов на «Морской звезде» узнал Марти и сбросил ему веревочный трап. Но прежде чем взобраться по ней, Марти повернулся к старому лодочнику и сказал:
— Подождите меня здесь. Не волнуйтесь, что зря потратите время, я умею быть щедрым.
— Хорошо, я подожду вас, капитан.
Марти улыбнулся, польщенный, что его наградили столь почетным званием.
Поднявшись по трапу, он ступил на старые доски палубы и с радостью вдохнул знакомые и милые сердцу запахи.
— Капитан на борту? — спросил он.
— Он в своей каюте.
Кивнув матросу, Марти направился в каюту Базилиса.
В ответ на его стук за дверью послышались чьи-то нетвердые шаги, и на пороге появился не слишком трезвый моряк. Удивление на его лице сменилось откровенной радостью: за время совместного плавания их связала самая крепкая дружба.
— Какой приятный сюрприз! — воскликнул капитан. — Я думал, вы сейчас в Пелендри.
— Я туда и собирался, но пути судьбы неисповедимы, и прошлой ночью произошло одно событие, которое заставило меня изменить планы, медь пока отошла на второй план.
— А что же теперь на первом?
— Увидеться с вами.
Грек выжидающе прищурился.
— Я вас слушаю, — произнес он.
— Видите ли, Базилис, — начал Марти. — Если это возможно, мне бы хотелось отправиться с вами в Сидон, если, конечно, вы не раздумали идти туда.
— Разумеется, нет. И мой корабль, как всегда, к вашим услугам. Меня немного смущает только одно.
— Что именно?
— Как я уже говорил, с людьми из Никосии — а большинство моих матросов как раз оттуда — непросто иметь дело. Так что я сам не знаю, когда мы сможем отплыть, сначала нужно собрать всех на борту.
— Не беспокойтесь, — ответил Марти. — Я остановился в «Минотавре». Когда будете готовы отчалить, просто известите меня. Я все время буду в Фамагусте — кроме сегодняшнего вечера и, возможно, завтрашнего утра. Сегодня я собираюсь в Пелендри, чтобы договориться о покупке меди.
— Значит, договорились, — ответил капитан. — А теперь простите меня, я должен сойти на берег, нужно погрузить на корабль солонину, сухари и прочее. Придется лично следить за погрузкой, эти киприоты те ещё жулики, с ними нужен глаз да глаз! Они и кошку ободранную запросто подсунут вместо зайца. Об этих пройдохах прямо-таки легенды ходят!
— Если не возражаете, я подожду вас в лодке, а потом доставлю на берег, где меня ждет повозка, на ней мы вместе доберемся до Фамагусты, а уже оттуда я отправлюсь в Пелендри.
— Вы очень любезны. Я только отдам распоряжения боцману, а потом отправимся в Фамагусту.
Они забрались в лодку. На берегу Марти рассчитался со старым моряком, дав тому щедрые чаевые, и вместе с Базилисом забрался в повозку Элефлериоса. В Фамагусте Марти расстался с греком и отправился в Пелендри.
51
Подземелье
Лайя не верила, что ей может грозить опасность со стороны отчима. Да, она знала, что он скуп, желчен и явно не заслуживает доверия графа, но она даже помыслить не могла, что муж ее матери способен на такое бесчестье. Аиша исчезла из ее жизни. Лайя подозревала, что отчим отослал ее в одно из дальних поместий, и теперь она осталась в полном одиночестве. К ней приставили новую служанку — на сей раз душой и телом преданную отчиму.
Ее раздумья прервал негромкий стук в дверь.
— Войдите! — откликнулась она.
В двери появилась суровая и вечно кислая физиономия новой дуэньи, которая теперь выполняла обязанности верной и любимой Аиши.
Войдя в комнату, женщина поставила на стол поднос с тарелкой супа, жареным зайцем и любимым вишневым пирогом Лайи.
— Отныне вы будете обедать у себя в комнате. Таков приказ хозяина. Когда закончите, ступайте в кабинет отца.
Не дожидаясь ответа, мрачная дуэнья удалилась, как будто приказы хозяина ни сомнению, ни обсуждению не подлежали.
Лайя едва притронулась к еде и стала ждать. В скором времени явилась Эдельмунда — так звали ее тюремщицу.
— Вы готовы? — спросила она. — Вы же знаете, дон Бернат не любит ждать.
Лайя поднялась и молча кивнула.
— В таком случае, прошу следовать за мной, я должна лично проводить вас до кабинета.
— Хотите сказать, что я узница в собственном доме?
— Я всего лишь выполняю приказ. В конце концов, если бы вы не злоупотребляли добротой и доверием отца, этого бы не случилось.
Они долго петляли по длинным коридорам, пока не добрались до дверей кабинета Берната Монкузи.
Здесь дуэнья осторожно постучала в дверь и попросила разрешения войти.
— Дон Бернат, я привела вашу дочь, как вы приказывали.
Изнутри послышался хриплый голос советника.
— Оставьте нас и подождите в коридоре, пока мы не закончим. После этого вы отведёте ее обратно.
Дуэнья потянула за дверную ручку и слегка подтолкнула девушку вперед. Лайя вошла в комнату, в страхе ожидая слов отчима. А тот, как будто не замечая ее присутствия, продолжал что-то писать гусиным пером, время от времени макая его в красные чернила. Прошло немало времени, прежде чем советник, посыпав песком пергамент, чтобы чернила скорее высохли, сделал вид, что наконец-то заметил Лайю, и неожиданно ласково проворковал:
— Ну, вот ты и здесь! Проходи и садись, дитя мое, не стой у дверей.
Лайя подошла к столу и села на обычное место.
— Расскажи, как у тебя дела?
Его тон и выражение лица не предвещали ничего хорошего. С другой стороны, Лайя не хотела понапрасну злить старика, понимая, что ничего этим не добьётся, а потому спокойно ответила:
— Мне нечего вам рассказать. Моя жизнь вам и так известна от начала до конца, и она довольно безрадостна. Особенно после того, как вы отняли у меня Аишу, которая скрашивала мои дни.
Монкузи даже бровью не повел.
— Я должен присматривать за тобой, Лайя. Эта особа, твоя рабыня, обманула мое доверие и жестоко насмеялась над нами. Я не виню тебя в случившемся, ты еще слишком молода, чтобы понимать происходящее. Это она своим порочным искусством заронила греховные мысли в твою прелестную головку. Ты же знаешь, как я люблю тебя, для меня нет никого дороже.
— Простите, но вы ошибаетесь. Она была моей радостью, моей подругой и утешением, которого мне так не хватало, когда умерла мама. А вы у меня ее отняли.
— Но ты ведь не будешь отрицать, что свела тебя с этим кавалером именно эта рабыня, она обманом проникла в наш дом с одной лишь цель: одурманить тебя сладким голосом и песнями.
Лайя расслышала в его тоне легкую угрозу и, несмотря на горячее желание защитить рабыню, решила не злить отчима.
— Я познакомилась с Марти на невольничьем рынке, и Аиша не имела к этому никакого отношения, как раз в этот день ее продали с аукциона. Почему вы до сих пор не желаете признать, что я давно уже не ребенок?
В голосе советника отчетливо прозвучала насмешка.
— Я даже и не думаю этого отрицать. Разумеется, ты уже совсем взрослая. Но вернемся к этим посланиям. Ты думаешь, я поверю, что все письма из твоей шкатулки прилетели по воздуху? Уж я-то знаю, что не обошлось без Аиши, этой змеи, которую мы пригрели на груди, отплатившей нам черной неблагодарностью. Она обманом вползла в наш дом по наущению своего бывшего хозяина. Вот скажи, кто передавал тебе письма?
Лайя ответила дрожащим голосом:
— Я отказываюсь отвечать, как ко мне попали эти письма. Скажу лишь, что она не имела к ним никакого отношения.
— Видишь ли, Лайя, я не выношу, когда меня принимают за идиота. Эти письма вскружили тебе голову, и ты попалась в ловушку, как любая молоденькая дурочка. Но я готов простить эту ошибку, любовь к тебе поможет мне все забыть. — Бернат Монкузи с нежностью взглянул на падчерицу, и его голос зазвучал мягче. — Я снова прошу тебя стать моей женой.
— Да это просто безумие!
Тон советника внезапно изменился, в нем снова зазвучала угроза.
— Я могу тебя заставить!
Лайя вскочила, дрожа всем телом от страха и отвращения.
— Да я скорее выброшусь из окна этой башни!
— У меня есть средства убеждения.
— Не тратьте время попусту. Скорее вам удастся погасить солнце в небе, чем заставить меня согласиться.
— Я не волшебник, но располагаю вполне земными средствами, чтобы убедить тебя.
— И что вы собираетесь делать?
Графский советник выдержал долгую многозначительную паузу. Лайя, повинуясь его безмолвному знаку, снова села, после чего Бернат Монкузи опять заговорил — медленно и бесстрастно:
— Ну что ж, я скажу, что я собираюсь сделать. Я сдеру кожу с твоей Аиши у тебя на глазах. Ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю.
Лайя онемела от ужаса.
— Либо ты добровольно станешь моей женой, либо я силой сделаю тебя своей наложницей. Сама говоришь, ты уже взрослая, и должна понимать, что это значит. В любую ночь я могу забраться к тебе в постель, и тебе придется разделить со мной ложе.
Лайя лишь молча покачала головой, растерянно глядя на него.
Советник поднялся с кресла.
— Следуй за мной! — приказал он.
С трудом выбравшись из-за стола, он в несколько широких шагов оказался у двери.
Лайя, с трудом понимая что делает, последовала за ним.
Когда дверь открылась, сидящая в коридоре дуэнья вскочила. Бернат от неожиданности фыркнул и перекрестился, а потом повел Лайю по винтовой лестнице в подвал, мимо вооруженного стражника. Советник велел ему убрать копье. Девушка почти никогда не пользовалась этой лестницей и еле поспевала за отчимом. Внизу Бернат снял с влажной стены факел и двинулся дальше, к дремлющему около узкого столика караульному. Советник разбудил его пощечиной.
— Так-то ты несешь службу, бездельник? Да я тебе все бока пообломаю палкой, пока не начнешь блевать собственными кишками! Открывай дальнюю камеру!
Несчастный стражник, бледный как смерть, с неожиданной для его комплекции прытью вскочил и, сдернув крюка в стене связку ключей, бросился к дальней двери. Вскоре тяжелая дверь с визгом и скрипом отворилась. Советник с факелом вошел внутрь, осветив убогую обстановку камеры.
У дальней стены на каменной скамье неподвижно лежал какой-то свёрток.
Голос Берната прозвучал громовыми раскатами, эхом отдаваясь от стен.
— Вот она, полюбуйся! Если, конечно, сможешь ее узнать!
Лайя приблизилась к свертку и отбросила ветошь. Ее взору предстала масса спутанных волос, закрывающих лицо. Дрожащей рукой Лайя отвела их в сторону и лишь бессильно ахнула, с трудом узнав распухшее, обезображенное лицо рабыни, все в синяках и кровоподтеках. Девушка в ужасе застыла.
— Что с тобой сделали, бедная моя подруга?
Аиша смотрела на неё невидящим взглядом.
За спиной у Лайи раздался голос Берната.
— Это сущие пустяки по сравнению с тем, что я ещё могу с ней сделать.
Лайя вскочила, словно разъяренная пантера.
— Грязная тварь! Вы мне омерзительны!
— Но пока она хотя бы еще жива — и останется жить, если будешь умницей. А если будешь упрямиться, я прикажу ее пытать у тебя на глазах. Даю тебе один день на раздумья. Если будешь вести себя благоразумно, то сохранишь ей жизнь, хотя она этого и не заслуживает. Ее судьба в твоих руках. А теперь ступай к себе и подумай, хотя я не сомневаюсь, что ты примешь мое щедрое предложение. Как только ты будешь готова, я сам решу, когда это произойдет в первый раз. Такие вещи, знаешь ли, каждая женщина помнит всю жизнь.
52
Добрый самаритянин
День отплытия приближался. Голову Марти переполняли идеи. Что-то подсказывало ему, что путешествие близится к концу и Провидение явно ему благоволят. Если предчувствия его не обманывали, то весьма вероятно, в скором времени он станет очень богатым человеком. Как же всё-таки непостижимы капризы судьбы! Другие люди, подобно Ясону и аргонавтам, всю жизнь проводят в погоне за золотым руном, а ему судьба сама дала в руки несметные богатства.
Поездка в Пелендри оказалась удачной, и переговоры с Теофаносом Авидисом прошли успешно. Этот человек, близкий друг Басилиса Манипулоса, оказался весьма сведущим в добыче и торговле медью. Он был не только посредником, но и сам владел рудником и продавал медь другому греку по сходной цене. Они договорились, что Марти будет перевозить ее на своём корабле. А пока Теофанос попросил Марти передать этому греку склянку с вязким душистым веществом красноватого оттенка под названием мирра, объяснив, что оно чрезвычайно дорого и незаменимо для изготовления благовоний. Марти решил, что ему тоже не помешает взять запас мирры, когда он в следующий раз завернет в Фамагусту.
Покончив с делами, он вернулся в Фамагусту в повозке Элефтериоса и заранее договорился за сходную цену, что тот будет возить Марти по Пелендри.
В «Минотавр» они вернулись лишь к вечеру. Простившись с возницей, который зашёл на постоялый двор, чтобы повидаться с зятем и сообщить, что теперь он перед ним в долгу за такого ценного клиента. Затем Марти спросил у Никодемоса, нет ли для него каких-либо известий. Тот ответил, что есть новости от Манипулоса. «Морская звезда» отплывает вечером в субботу, так что Марти должен быть на берегу уже после полудня, поскольку грек не хочет упустить отлив. У Марти осталось ещё три дня.
Когда он, простившись с Элефтериосом, взял котомку и направился к лестнице, за спиной раздался голос Никодемоса:
— Ах да, чуть не забыл! Сегодня утром вас спрашивал какой-то человек. Он очень хотел знать, когда вы вернетесь, чтобы передать письмо. Он не хотел оставлять его мне, только лично вам. Как вы и просили, я сказал, что вы скоро вернетесь. Тогда он ушел, предупредив, что с сегодняшнего дня будет приходить каждый день, и вы ни в коем случае не должны уезжать, не повидавшись с ним.
Несмотря на усталость, Марти так и не смог уснуть в эту ночь. Перед глазами у него вставали самые радужные картины, одна заманчивее другой. Вот он приезжает в Кербелу, где его встречает Хасан аль-Малик. Вот он возвращается в Барселону и предстает перед Бернатом Монкузи, предлагая выкупить его векселя у алчных кредиторов в обмен на руку Лайи. Он готов был заплатить любую сумму, лишь бы жениться на любимой, пусть даже после этого он останется нищим и придётся начинать все сначала. С ближайшего минарета доносился протяжный крик муэдзина, ему вторил звон колоколов, напоминающий о любимой Барселоне.
В назначенный час Никодемос постучал в дверь.
— Кто там? — спросил Марти.
— Ваш знакомый ждет внизу.
Одним прыжком Марти выскочил из постели. Он даже не побрился, лишь натянул штаны, рубашку, небрежно зашнуровал башмаки и бросился вниз по лестнице, спеша увидеть Хасана, который дожидался его в обеденном зале. Они трижды поцеловались, согласно обычаю. Хасан поинтересовался, как Марти чувствует себя после вчерашних приключений, потом вынул из кармана два свитка и протянул Марти. Встретив его вопросительный взгляд, Хасан пояснил:
— Как я уже говорил, я не умею писать. Когда мне приходят письма или требуется написать самому, я прошу помощи у моего хорошего друга, монаха копта, который читает или пишет под диктовку. Мой брат немного знает ваш язык. Это письмо написано на латыни, так что, думаю, вы поймете.
Взяв папирус из рук незнакомца, Марти подошёл к окну и прочитал:
Дорогой Рашид!
Я пишу тебе это письмо, все еще не веря, что по-прежнему нахожусь среди живых. Своим спасением я обязан лишь чуду. Двое негодяев в порту Фамагуста ограбили меня и бросили в море, и если бы не мужество и решимость Марти Барбани, который передаст тебе это письмо, мое бренное тело уже пожирали бы морские чудища.
Он вытащил меня из воды в весьма плачевном состоянии и помог добраться домой, где мы проговорили всю ночь. Мой спаситель — торговец, он родом из каталонского графства и собирается торговать той густой черной жидкостью, которую ты иногда посылаешь мне. Помнишь, мы играли детстве вместе с братьями и кузенами, бросая зажженный факел в озеро рядом с домом и глядя, как взрываются кострами пузыри этой жидкости. Я пытался ему объяснить, что эта жидкость мало на что годится и почти не поддается перевозке, но он считает, что сможет найти ей применение и получить прибыль, да и нам кое-что перепадет. Я слишком многим ему обязан и, заключив с ним этот договор, вернул лишь малую часть долга.
Предоставь ему все, что он попросит, и докажи, что мы добрый и благодарный народ. Мне бы хотелось, чтобы теперь, когда умерла наша матушка и больше тебя ничто не держит, ты продал землю и приехал ко мне в Фамагусту. Сам знаешь, что я не могу вернуться. Мне хочется жить рядом с тобой, вспоминая молодость, ведь время и расстояние многое стерли из памяти. Здесь мы бы жили у моря и проводили все дни, вспоминая старые добрые времена под аккомпанемент твоих мелодий. Ничто не сделает меня счастливее, чем твое присутствие.
Бессчетно обнимаю тебя. Любящий тебя брат
Хасан
Дочитав письмо, Марти вновь повернулся к своему новому другу.
— Хасан, я же сказал, что вы мне ничего не должны.
— Я так не думаю.
— Боюсь, вы слишком меня превозносите.
— Я всего лишь написал правду. Разве не так?
— Если бы мне снова пришлось нырять за вами в море, я делал бы это не задумываясь, даже если бы не знал, что вы за человек. Но простите за любопытство: почему вы с братом живете так далеко друг от друга?
Глаза Хасана наполнились печалью.
— Мне не хотелось бы говорить об этом. Это наше семейное дело. А теперь послушайте. Поскольку мы с братом не умеем писать, за нас пишут другие люди. А потому мы помечаем письма особым знаком на пергаменте. Это каббалистический символ, который мы в детстве часто вырезали на коре деревьев. Так мы даём друг другу понять, что письмо действительно послано кем-то из нас. Дайте мне его.
Марти протянул ему письмо, и Хасан, достав из кармана пузырёк чернил и перышко, положил пергамент на стол и начертил буквы Х и Р, заключенные в круг. Марти вспомнил, что уже видел этот знак на стене в каморке Хасана. Закончив рисунок, тот поставил внизу неразборчивую закорючку.
— А теперь подождите немного, пусть чернила высохнут.
— Хасан, я хочу, чтобы вы знали — если мои надежды оправдаются, я сделаю вас самым богатым человеком в Фамагусте.
— Встреча с вами для меня и так большая удача. Человек тем богаче, чем меньше ему нужно, а потому я и сейчас самый богатый человек на этом острове. Да пребудет с вами ваш Бог!
Растроганный Марти обнял Хасана, затем подобрал свои вещи и, не сказав больше ни слова, направился в порт.
53
Погоня за добычей
Обстановка накалялась. Лайя отчаянно тянула время, надеясь на чудо. В глубине души она лелеяла несбыточную надежду, что Марти вот-вот вернется. Как потерянная, она бродила по роскошным покоям особняка, раздумывая, как связаться с Омаром, которого она один раз видела и знала, где его найти. При любой возможности она пробиралась к лестнице в подвал, но вход неизменно охранял стражник.
Вскоре после обеда она услышала стук в дверь. Не дожидаясь ответа, в комнату вошел Бернат Монкузи. Лежащая на кровати Лайя тут же вскочила. Старик уселся на стул и предложил ей сделать то же самое, но Лайя осталась на ногах.
— Печально, что ты не хочешь обедать и ужинать вместе со мной, — произнес он. — Это, в конце концов, невежливо, но не это главное. Меня беспокоит другое: как докладывает твоя дуэнья, еда, которую она тебе приносит, остается нетронутой.
— У меня нет аппетита, — пролепетала Лайя, стараясь не смотреть в лицо отчиму.
— Очень жаль, потому что я приказал давать твоей рабыне — которая, кстати, когда я видел ее в последний раз, выглядела весьма неважно — столько же еды, сколько съешь ты. Разумеется, блюда будут другими. Но если ты решила отказаться от еды, ей тоже придется поголодать.
Лайя почувствовала, как ее сотрясает рвущийся изнутри гнев.
— Вы никогда мне не нравились, — выдохнула она. — До сих пор не понимаю, как моя мать могла выйти за вас замуж. И все-таки у меня просто в голове не укладывается, что вы способны на подобные мерзости.
— Я забочусь о тебе, милая. По просьбе твоей матери. Мне пришлось найти средства, чтобы заставить тебя есть. Я не хочу, чтобы розы на этих щечках поблекли. Садовник обязан заботиться о розах в своем саду, а я не знаю, как еще я мог бы тебя убедить.
— Что мне сделать, чтобы вы пощадили Аишу?
— Если ты собственноручно напишешь письмо под мою диктовку, и скажешь, как передать его твоему воздыхателю, возможно, я ее и пощажу.
Лайя молча уселась за стол, в готовностия написать все, что продиктует ей этот сластолюбец. У нее уже не было времени раздумывать о последствиях, нужно было спасать Аишу. Взяв в руку перо, она тихо спросила:
— На пергаменте или на телячьей коже?
Бернат, которого приятно удивила такая покорность девушки, постарался ответить как можно дружелюбнее:
— Как ты всегда ему писала. Твой воздыхатель не должен ничего заподозрить.
Эти слова Берната заронили в голову Лайи спасительную идею. В письмах к Марти она всегда пользовалась зелеными чернилами, ставила на полях небольшой крестик и сбрызгивала письмо розовой водой. На этот раз она решила этого не делать, в надежде, что Марти заметит и поймет, что дело нечисто. Она развернула свиток папируса, открыла чернильницу с черными чернилами, окунула в них гусиное перо и подняла взгляд на старика, ожидая, когда он начнет диктовать.
— Старайся писать как можно красивее, — велел он. — Если я буду диктовать слишком быстро, скажи.
Писано в Барселоне, сентябрь 1054 года.
Мой дорогой друг!
Это письмо передаст вам моя няня Эдельмунда, поскольку Аиша простудилась, и мой опекун отправил ее в деревню подлечиться. Время и расстояние помогают многое понять, взглянуть на жизнь иными глазами и увидеть совершенные ошибки. Думаю, именно близость искажает восприятие.
Я еще слишком молода и неопытна, но женское чутье помогло мне понять, какую серьезную ошибку я могла совершить. Хуже всего то, что моя неопытность заставила страдать и вас, вы приняли обычную симпатию за нечто большее.
Марти, мое сердце видит в вас лишь друга, не более. Мой отчим, предложивший вам свое гостеприимство, человек чрезвычайно осторожный в выборе друзей. Тем не менее, он весьма к вам расположен и однажды, не зная, что мы уже знакомы, сказал, что разрешил вам ухаживать за мной, поскольку не сомневается, что со временем вы достигнете высокого положения в Барселоне. Но дело в том, что я теперь уже точно знаю, что вы — не тот человек, который сделает меня счастливым, а я не подхожу вам. По этой причине я разрываю нашу помолвку. Простите меня за боль, которую я вам причинила, сама того не желая, простите мою неопытность.
Будьте счастливы и не пытайтесь больше меня увидеть. Знайте, что мое решение окончательно.
С уважением, ваш друг
Лайя
Когда она закончила, советник, не дожидаясь, пока она посыпет чернила песком, схватил письмо и, внимательно прочитав, удовлетворенно хмыкнул:
— Ну вот, Лайя, оказывается, ты вполне можешь быть послушной и благоразумной девочкой. Теперь я вне подозрений. Дай мне свою печать.
Лайя вынула из ящика стола маленькую печатку и протянула ему.
Советник разогрел над пламенем свечи немного красного воска и уронил большую каплю на сложенный вдвое пергамент. Затем крепко прижал к ней печатку, чтобы никому не пришло в голову усомниться, что письмо подлинное и написано Лайей.
— А теперь скажи, кому передавала твои письма эта змея, которую я запер в подземелье?
Лайя немного поколебалась, но страх за рабыню пересилил.
— Управляющему Марти. Его зовут Омар.
— Ну что ж, прекрасно, — с улыбкой ответил Бернат. — Свою часть сделки ты выполнила. Вот видишь, насколько лучше быть послушной. А если ты и впредь будешь себя хорошо вести, то и условия жизни твоей рабыни тоже значительно улучшатся. Я даже позволю тебе навестить ее — разумеется, в присутствии Эдельмунды.
С этими словами, погладив ее по голове, Бернат Монкузи вышел.
54
Роды
Няньки, бабки и повитухи деловито сновали по комнате, делая свое дело и не обращая внимания на присутствующих высокопоставленных особ. Роженице было больше тридцати трех лет — возраст, в котором большинство женщин уже становятся бесплодными. От брака с Уго Благочестивым у нее был сын, а от союза с Понсом Тулузским — три сына и дочь, однако ее детородный период, казалось, уже остался позади. Во всяком случае, и придворные мудрецы, и лекари-евреи неоднократно намекали, что у графини начался климакс.
Она лежала вся в поту, с перекошенным от мучений ртом и непоколебимой решимостью в глазах. Повитуха понимала, что отвечает за неё головой, и если вопреки всем усилиям что-то пойдёт не так, ей грозит страшная кара. Многолетний опыт подсказывал ей, что рвётся всегда там, где тонко, и ни один лекарь не возьмёт на себя вину в случае фатального исхода. Хотя лекарь-еврей, помогавший повитухе, внушал ей доверие. Галеви считался лучшим лекарем в графстве, его советы были разумны и своевременны, но в любом случае, действовать приходилось повитухе.
Возле ложа видел бледный и встревоженный Рамон Беренгер I, а чуть дальше, в резном деревянном кресле — епископ Одо де Монкада в парадном облачении, с жезлом и кольцом. Выражение его лица было унылым, а взгляд не предвещал ничего хорошего, всем своим видом он давал понять, что присутствует при родах исключительно по обязанности, ему не по душе лицезреть, как рождается на свет плод греховной связи венценосной парочки. Однако уклониться от этой почетной обязанности он не мог и теперь утешал себя тем, что присутствует здесь скорее как чиновник, нежели духовное лицо.
Справа от него сидел главный нотариус Гийем де Вальдерибес, ему предстояло засвидетельствовать, что новорожденный является истинным сыном графини Барселонской. Присутствовали также главный дворцовый судья, Понс Бонфий-и-Марш, духовник Альмодис, падре Льобет, и лекарь Галеви. Другая сторона ложа оставалась свободной, чтобы повитухе и ее помощницам никто не мешал. Здесь стоял лишь стол на точеных ножках, на шелковой скатерти лежали все необходимые инструменты: пеньковые веревки, железные щипцы, обмотанные тканью, чтобы извлечь младенца из материнской утробы, не причинив ему вреда, и кожаный валик, чтобы катать его по животу роженицы, помогая младенцу пройти через родовые пути.
В комнате, как обычно, царил полумрак, четыре больших канделябра на углам освещали только небольшое пространство у самой постели. Справа от огромного ложа пылал камин, поверх горящих поленьев на железной решетке с львиными головами кипела вода в пузатом медном котле. Над камином помещались огромные рыцарские доспехи с шестью мечами, принадлежавшими предкам нынешнего графа Рамона Беренгера I, решетчатые оконные рамы, как и везде во дворце, были затянуты промасленной тканью, а на стенах сияли гербы Барселонского графского дома.
Повитуха просунула пальцы в раскрывшееся лоно графини, прикрытое тонкой льняной тканью, и осторожно пощупала; Альмодис моргнула, выражая неудовольствие. Повитуха повернулась к лекарю и прошептала:
— Он уже рвётся наружу.
Осторожно отстранив ее, лекарь осмотрел роженицу, чтобы лично убедиться в этом.
— Посадите сеньору на родильное кресло.
Повитуха отошла в сторону и тут же придвинула к ложу вышеназванный предмет. Это было широкое буковое кресло, обитое кожей, с круглым отверстием в сиденье, под которое в нужную минуту подставляли особый таз. Кресло было также снабжено подлокотниками, к ним крепились кожаные ремни, чтобы привязывать руки роженицы, а также двумя изогнутыми скобами в форме буквы V с трубчатыми насадками, куда помещались икры женщины, чтобы облегчить выход новорожденному, а плацента должна была упасть прямо в таз.
Крепкие мускулистые женщины, помогавшие повитухе, взяли графиню за плечи и под колени и осторожно усадили ее на кресло, закрепив в нужном положении. Но когда они уже собрались привязать ее руки к подлокотникам, неожиданно прозвучал громкий и хриплый голос графини:
— Не надо меня привязывать. Графиня Барселонская умеет терпеть боль.
Повернувшись к лекарю, она схватила его за широкий рукав и приказала:
— Если нужно будет резать — делайте это без колебаний. Я не хочу, чтобы мой сын мучился или, того хуже, родился мертвым или с какими-то увечьями, которых можно было бы избежать. Его жизнь намного важнее для Барселоны, чем моя. А когда он родится, вы должны рассказать мне обо всем, что касается младенца. Я имею в виду не только его пол, но и все особые приметы.
— Я вас не понимаю, сеньора.
— Вам и не надо понимать, достаточно, чтобы я поняла.
Затем, обращаясь к епископу, главному нотариусу и дворцовому судье, она приказала:
— А вас, сеньоры, я попрошу отвернуться, если вам не трудно: роды — это не цирк. Вы вполне можете исполнить свои обязанности, не заставляя меня краснеть от стыда, что меня разглядывают, как корову на ярмарке.
Альмодис, потная, всклокоченная, с прилипшими ко лбу прядями волос, повернулась к лекарю и послушно проглотила лекарство из золотого кубка — смесь опия с маковым отваром. Блаженный туман затянул ее взгляд, а в памяти вдруг всплыли слова ее верного шута Дельфина, который спасал ее от скуки столько долгих вечеров после приезда из Тулузы.
Поселившись во дворце, Альмодис позаботилась о том, чтобы найти уединенное местечко, подальше от посторонних взглядом и дворцовых интриг. Она потребовала у мужа, чтоб он выделил ей личные покои рядом с его собственной спальней, в башне, некогда служившей помещением для музыкантов. Однако, учитывая обстоятельства и варварские нравы обитателей дворца, предпочитающих войны, а не искусство, комнатой давно не пользовались. Альмодис затратила немало часов и обустроила комнату так, чтобы напоминала о любимой родине.
Как почти все комнаты во дворце, она была оснащена маленьким камином, перед ним стояла изящная кушетка, а рядом — кресло и скамеечка, на которой обычно сидел Дельфин, стараясь развеять тоску госпожи своей болтовнёй или игрой на цитре; здесь же стояли ее прялка, огромные деревянные пяльцы с натянутой на них канвой, небольшой алтарь, подушка для молитв, чтобы не вставать коленями на холодные плиты пола, пюпитр, чтобы ставить ноты или псалтырь. Вдоль стен тянулись полки с ее любимыми безделушками, висели гобелены и деревянные панели, чтобы от каменных стен не так тянуло холодом. Это было ее убежище, где она могла размышлять, принимать гостей и внимать мудрым советам приближённых.
И теперь воспоминания всплыли в ее мозгу, затуманенном опием, который ее заставили принять, чтобы облегчить боль.
Перед ней вновь встала та холодная ночь, когда в небе светила огромная полная луна, окружённая сияющим кругом, предвещающим снегопад. Дельфин, как обычно, сидел на скамеечке у ее ног. Карлик то и дело отводил глаза и, что было на него совсем не похоже, и молчал. Альмодис оставались последние недели до родов, она готовилась порадовать мужа долгожданным наследником. Смущенная непривычным молчанием своего друга, она ласково упрекнула его:
— Дельфин, друг мой, ты совершенно невыносим. В ту минуту, когда мне нужен твой смех и веселая болтовня, чтобы отвлечь от тяжелых мыслей, ты надулся, как сыч, и наводишь еще большую тоску.
Дельфин повернулся к ней и посмотрел на нее таким взглядом, какого она прежде никогда не замечала.
— Что случилось? — спросила она. — Может быть, я чем-то тебя обидела, сама того не заметив?
Услышав эти слова, карлик очнулся от своих мыслей.
— Как вы можете так говорить? — возмутился он. — Вы моя госпожа, я всем вам обязан.
— В таком случае, что тебя мучает? Что так смущает твой ум, что ты, вместо того, чтобы развлекать приятной беседой, вгоняешь меня в тоску?
— Не знаю, стоит ли говорить... госпожа.
Альмодис, нахмурившись, отодвинула в сторону пяльцы.
— Да что с тобой? Раньше ты ничего от меня не скрывал.
— Не утруждайте себя заботами о разных пустяках.
— О пустяках? Мне интересно всё, что касается тебя.
— Всё дело в том, что это касается вас.
— Тогда я тем более должна знать. Говори сейчас же: что случилось? Мне бы не хотелось прибегать к крайним мерам, они мне отвратительны.
— Сеньора, ничего особенного не случилось, вот только два дня назад у меня было видение.
Графиня долго медлила, прежде чем ответить — сама не зная, почему.
— И что за видение? — спросила она наконец.
— Сеньора, не заставляйте меня об этом рассказывать, — взмолился карлик. — Это, вне всяких сомнений, был горячечный бред. Я старею.
Брови Альмодис сошлись у переносицы, предвещая близкую бурю, а губы исказились в гримасе, которую Дельфин прекрасно знал, и ничего хорошего она не предвещала.
— Мне бы не хотелось применять силу, но ты сам меня вынуждаешь. Помнишь тот хлыст, которым мне порой приходится охаживать любимую Красотку, когда она не желает прыгать? Так что не зли меня, я тебя умоляю.
Карлик беспокойно заерзал.
— Я не хотел говорить вам, сеньора, но я думаю, вы должны это знать.
— Да говори же наконец, Бога ради! Это в самом деле настолько важно?
— Сеньора, — карлик нервно сглотнул. — Я отчетливо видел: ваш сын благополучно родится, но на нем — печать Немезиды [24]. Его ждет ужасная судьба.
И теперь Альмодис вспомнила об этих словах карлика, ввергнувших ее в ужас, подобно извержению Везувия. Именно поэтому она заявила лекарю, что желает знать всё о новорожденном. Пусть Дельфин и не мог сказать точно, когда именно произойдёт трагедия, она молила Бога, чтобы печать Немезиды, если уж она неизбежна, отметила лишь тело младенца, но не коснулась его ума, поскольку именно здравый ум — главное и необходимое достоинство властителя.
Боль усилилась, однако это, казалось, совершенно не пугало роженицу. Ее тело напряглось, она прикусила бледные губы, а на шее вздулись вены, как тугие струны лютни. В ушах у неё звенел голос повитухи:
— Тужьтесь, сеньора, тужьтесь!..
Наконец, после неимоверных усилий она вдруг почувствовала облегчение, хотя чутье подсказывало ей, что еще не все закончено. Совсем рядом послышался тихий плач новорожденного.
Ее слух уловил едва слышное перешептывание с чуткостью умирающего, который слышит, что говорят в его присутствии родные, считающие его уже покинувшим этот мир. Сначала несколькими фразами обменялись повитуха и лекарь, потом тот что-то шепнул графу.
— Сеньор, у нас уже есть один принц. Если вы не хотите рисковать жизнью графини, то послушайте моего совета: второй ребёнок идёт вперёд ягодицами, и вытаскивать его неудобно. Возможно, ему придётся умереть, чтобы ваша супруга могла выжить.
Затем она услышала далекий голос любимого:
— Делайте так, как считаете нужным, лишь бы она осталась жива. У меня уже есть наследник.
Тут Галеви заметил, что графиня настойчиво велит ему приблизиться. Он тут же оказался возле родильного кресла и наклонился ухом к губам роженицы.
— Я здесь, сеньора.
— Скажите, что происходит?
Ученый еврей долго колебался, прежде чем решился ответить.
— Я требую, чтобы вы немедленно объяснили мне, что происходит! — хрипло повторила Альмодис.
Голос врача задрожал, словно в груди у него звонил колокол:
— Сеньора, у вас родился мальчик, здоровый и крепкий. Как вы и приказали, мне пришлось немного надрезать ваше лоно, чтобы он не мучился, но младенец вышел сам, не потребовалось ни помощи, ни щипцов. Тем не менее, если уж вы заметили, кое-что идет не так. Признаюсь, я уже поговорил с графом. Дело в том, что в утробе у вас остался еще один младенец, он идет вперед ягодицами, и ваша жизнь в опасности. Я не могу ручаться, что спасу вас обоих. Теперь все — в руках Божественного Провидения. Я сделал все, что мог, но есть вещи, над которыми человек не властен. Сам я считаю, что должен прежде всего спасти вас, потому что у вас уже есть наследник.
Лекарь почувствовал, как пальцы Альмодис словно когти вцепились в его рукав и с силой потянули, заставив наклониться ещё ниже.
— Это неверное решение! Второй сын находится в моей утробе и должен появиться на свет. Для этого вас сюда и позвали. Или вы обычная деревенская бабка-повитуха? Можете распороть мне живот, если это необходимо, но помогите ему родиться. Они оба принцы, и я не знаю, кому из них суждено сыграть главную роль в судьбе графства. Требуется время, чтобы это выяснить. А что, если именно тот, кому суждено стать наследником, так и не увидит света? Я не хочу рисковать.
— Сеньора, опомнитесь!.. Я не понимаю, что вы говорите, но граф приказал...
Твёрдый и властный голос Альмодис прозвучал так тихо, что никто, кроме Галеви, его не расслышал.
— Об этом даже речи быть не может. Сейчас мнение графа меня не волнует, он сделал своё дело, когда я была с ним в лагере. Теперь же решаю я, и я собираюсь поспорить с судьбой. Так что делайте своё дело!
В скором времени епископ Одо Монкада и Гийем де Вальдерибес объявили, что графиня Альмодис де ла Марш родила близнецов. Совершенно измученная, она лежала на огромной кровати, а Рамон Беренгер I не сводил глаз с новорожденных — двух свертков, покоившихся в огромной колыбели. Первенец был белокурым, румяным и красивым, а другой — темноволосым, чахлым и слабым. Младший безутешно плакал, пытаясь царапать крошечными ноготками шею брата.
55
Сидон
Греческий корабль доставил Марти к берегам Леванта. Как только «Морская звезда» встала в порту на якорь, Марти тепло простился с Манипулосом и горячо поблагодарил старого моряка за доброту. Тот уже готов был просить прощения за вынужденную задержку.
— Человек предполагает, а море располагает, — сказал капитан.
Пожелав ему доброго пути и заверив, что в Барселоне у него всегда есть друг, Марти начал готовиться к новому путешествию, которому, как он предчувствовал, предстояло изменить его жизнь. Прежде всего, нужно было выяснить быстрый и безопасный маршрут. Сейчас ему приходилось действовать вслепую, ведь в Сидоне оказался случайно, а собирался отправиться на Мальту.
Еврейские торговцы в лавке на краю порта, к которым Марти наведался, приняли любезно — как и во всех других местах, стоило ему показать пергамент от Баруха Бенвениста. Этот документ открывал все двери. Марти немедленно связался с их старостой по имени Йешуа Хасан, тот немедленно пригласил его в гости. Поначалу Марти даже не поверил, что попал в еврейский дом, скорее дом был похож на дом зажиточного арабского торговца. Пол устилали ковры с огромными подушками, на нем стояли низенькие столики со всевозможными сладостями. Все слуги здесь, от привратника до мальчика, подавшего миску с розовой водой, чтобы ополоснуть руки, были одеты в короткие безрукавки, просторные мешковатые шаровары, а на ногах носили кожаные шлепанцы с помпонами.
Марти дожидался прихода хозяина стоя. Вскоре ему навстречу вышел человек, судя по одежде, скорее араб, чем еврей, лицо с орлиным носом, любезной улыбкой и проницательный взглядом. Хозяин оглядел Марти, держащего в правой руке письмо Баруха.
— Дорогой гость, — начал он. — Для меня нет большей радости, чем принимать у себя человека, имеющего такие рекомендации. Барух слывет примером глубочайшей порядочности во всех уголках земли, где обитают евреи. Его имя знают и почитают во всех еврейских общинах Средиземноморья. Садитесь, прошу вас!
Подобрав шаровары, хозяин опустился на подушки, скрестив ноги, и предложил Марти сделать то же самое.
Последовав его примеру, Марти заметил:
— Я даже представить не мог, что этот дом так не похож на те, что я видел в Барселоне.
— Видите ли, — ответил хозяин, — у нашего народа нет собственной страны, мы вынуждены приспосабливаться к обычаям тех земель, где нашли приют. Так мы меньше привлекаем к себе внимания, это для нашего же блага. Многие считают нас народом, живущим, как паразиты, на чужих землях за счет других — очевидно, потому, что с тех пор как нам пришлось покинуть землю Израиля, у нас нет собственной страны. Думаю, вам будет полезно узнать, что хотя все мы имеем общие корни, евреи, живущие в христианских королевствах, сильно отличаются от тех, кто живет в землях ислама. Но скажите наконец, что привело вас ко мне?
— Ну что ж, постараюсь объяснить покороче. Мне бы не хотелось отвлекать вас от дел.
Марти подробно разъяснил, что собирается в Вавилон, знаменитую столицу Месопотамии, в нескольких лигах от которой находится город Кербела, и теперь ищет наиболее быстрый и безопасный способ туда добраться.
— Нелегкую задачу вы себе придумали. Путь до Месопотамии неблизкий. Вам придется пересечь Сирию, и я не советую пускаться в путь в одиночку.
— Тогда что вы посоветуете?
— Вам придётся пересечь пустыню, а это опасно, почти самоубийственно.
— И что же мне делать?
— Вам нужно присоединиться к какому-нибудь каравану из Дамаска в Сабаабар, а уже оттуда, наняв проводника, хорошо знающего пустыню и оазисы, следовать дальше.
— И трудно будет найти попутчиков? — спросил Марти.
— Ну, не вы один хотели бы добраться до Вавилона. В Сидоне сейчас собралось немало благородных господ, рыцарей, торговцев и прочего люда, желающих отправиться в эти земли. Все они прекрасно знают, насколько опасен путь, и дожидаются случая, чтобы присоединиться к каравану с охраной наемников во главе с опытным капитаном, знающим безопасную дорогу. Должен сказать, что на караваны частенько нападают банды сирийских разбойников, которые не прочь захватить дорогие товары. Но даже если караван окажется пустым, разбойники все равно получат свои барыши, захватив пленников, за них можно получить выкуп или просто продать на невольничьем рынке в Багдаде. Я мог бы предложить вам погостить в моем доме, ведь может статься, что ждать придется долго, а дам вам самую лучшую комнату, достойную друга почтенного Баруха.
— Мне бы не хотелось доставлять вам беспокойство.
— Друзья Бенвениста — мои друзья. Когда я в последний раз посетил ваш прекрасный город, Барух принимал меня в своем доме. Я буду весьма обижен, если вы не примете моего предложения. А кроме того, я постараюсь пригласить на ужин капитана, и вы заранее с ним познакомитесь.
Марти остался в доме гостеприимного торговца и держался с достоинством, как и подобает компаньону влиятельного партнера из Барселоны. Обедал и ужинал он вместе с семьей, и вскоре настал день, когда на ужин пришел маэстро Юг де Рожан, французский шевалье, в чьих жилах текла арабская кровь. Его способности и знания поразили Марти. Через две недели капитан собирался возглавить караван, а пока нанимал людей в охрану.
Тянулись утомительные дни ожидания, но в тот вечер Марти разговорился с капитаном о подробностях предстоящего путешествия: о стоянках, о людях, вместе с которыми им предстоит проделать путь, а также о числе вьючных животных и необходимых в переходе вещах.
В ожидании каравана в городе собралась разношерстная толпа. Среди них было несколько важных персон и просто богатых людей, которых в Месопотамии ожидали важные дела. Гостиницы, трактиры, постоялые дворы были переполнены. На задворках города вырос целый лагерь шатров и хибар. Люди ютились везде — в лачугах, сараях и даже на конюшнях — хозяева, не упускавшие случая заработать хорошие деньги, сдавали их приезжим, выпустив лошадей на улицу.
Все эти дни Марти усердно расспрашивал Йешуа Хасана и Юга де Рожана, тщательно выполняя их указания. Утром третьего дня он отправился на рынок скота и, поторговавшись по местному обычаю, поскольку без этого торговцы обижались, сначала купил хорошую лошадь, выбранную больше за кроткий нрав и выносливость, чем за быстроту и силу, а затем верблюда — животное, известное также как «корабль пустыни», незаменимое в подобных путешествиях, поскольку эти травоядные славились способностью ходить по раскаленному песку и протяжении многих дней обходиться без пищи и воды.
Также он нанял опытного погонщика верблюдов, который, как никто другой умел управляться с этими упрямыми неукротимыми животными. Его звали Марваном, и он уже неоднократно пересекал пустыню. Марван посоветовал Марти приобрести сбрую, вожжи, уздечки и прочие средства, чтобы заставить подчиниться горбатую тварь. И наконец, он приобрел пару хороших седельных сумок, чтобы сложить все необходимое для долгого путешествия. Марти решил с толком использовать время вынужденной задержки, чтобы освоиться и присмотреться к окружающим людям. Он бродил по базару в сопровождении нового слуги, притворяясь торговцем и даже переодевшись в арабское платье, чтобы не слишком выделяться в толпе.
По вечерам, уединяясь в комнате, отведённой ему гостеприимным Хасаном, он предавался долгим раздумьям и в конце концов решил, что после этой поездки сразу отправится домой. Накануне отъезда он оставил Хасану два длинных письма, чтобы тот передал его капитану корабля, что как раз направлялся в Барселону. Одно из писем было адресовано Лайе, а другое — Омару. Марти подробно объяснил Омару, что уже выполнило свою задачу в плавании, а потому решил, что по возвращении в Сидон отправится на попутном корабле прямо в Барселону. Он писал, что уже устал и ему не терпится вернуться, что каждый день пути приближает его к Лайе, а если не поспешить, то скоро найти корабль, идущий в Барселону, будет крайне сложно: приближается время штормов, и ни одно судно, будь то шебека или галера, не отважится выйти в открытое море.
Между тем, от любимой не было никаких известий, и у Марти на душе кошки скребли, не давая уснуть по ночам. Он пытался убеждать себя, что, быть может, письма от Лайи просто потерялись в пути, но в глубине его души неустанно росла тревога.
Наконец, великий день настал.
Разношерстный караван под предводительством Юга де Рожана медленно двинулся в сторону Дамаска. В середине каравана ехал Марти, мечтающий о том, как добьётся звания гражданина Барселоны, а потом, уже в новом статусе, получит руку Лайи.
56
Невинность Лайи
Когда Лайя наконец смогла увидеться с Аишей — разумеется, в присутствии своей дуэньи и тюремщицы — она поверила, что милосердие все же существует в этом безумном мире. Синяки на лице Аиши немного посветлели, ссадины затянулись, и сейчас она уже была похожа на человека. Дуэнья попятилась от дверей и остановилась в коридоре, несмотря на строгий приказ хозяина не спускать с подопечной глаз. Конечно, сделала она это не из деликатности и не из сочувствия к Лайе; просто зловоние в камере оскорбляло ее тонкое обоняние, она бросала негодующие взгляды на тюремщика. Лайя тут же воспользовалась возможностью поговорить с подругой.
Девушки крепко обнялись и долго не размыкали объятий. Наконец, слегка отстранившись, Лайя внимательно взглянула на рабыню.
— Как ты себя чувствуешь, милая? — спросила Лайя.
Распухшие губы Аиши дрогнули в слабой улыбке.
— Пока жива. А как вы?
Лайя рассказала ей о разыгравшейся буре по поводу писем Марти, но умолчала о похотливых поползновениях опекуна, чтобы не пугать подругу, чья судьба теперь зависела от ее поведения. Она сказала ей лишь о своей несостоявшейся голодовке и о причинах, по которым от нее отказалась.
— Теперь многое прояснилось, — прошептала Аиша, подавив вздох. — Какое-то время назад — сложно сказать, как давно, время здесь течет слишком медленно — пришел лекарь и смазал какой-то мазью мои раны, и с тех пор мне стали приносить еду дважды в день.
— Я уже было подумала, что тебя забили до смерти, — ответила Лайя, и глаза ее наполнились слезами.
— Лучше бы они это сделали! От меня требовали рассказать, где и когда вы встречались с сеньором Марти, но я даже рта не раскрыла. А потом я потеряла сознание и уже ничего не чувствовала. Мне казалось, что я сошла с ума и брежу.
Лайя нежно погладила рабыню по волосам.
— Он притащил меня сюда, чтобы заставить подчиниться и принять его условия, сказав, что иначе тебя убьют.
— Какие условия, Лайя?
Девушка рассказала о письме, которое ее заставил написать отчим, и о тех уловках, которые она использовала, чтобы любимый догадался — в письме написано совсем не то, что на самом деле говорит ее сердце.
— Вы очень умны... Мой сеньор умеет читать между строк.
Девушки замолчали, глядя друг на друга.
— Аиша, я буду навещать тебя, как только смогу, и постараюсь облегчить твою участь, — заверила Лайя.
— Не беспокойтесь обо мне, я не боюсь смерти. Она уже много раз подступала близко. Поверьте, шторм на море намного страшнее. А если вы желаете мне добра, приготовьте мне снадобье... я приму его, если почувствую, что больше не в силах терпеть боль.
Лайя попыталась успокоить подругу.
— Все уже в прошлом, — заверила она. — Теперь я знаю, как себя вести: притворюсь, что смирилась, и буду потакать желаниям старика. Он не хочет, чтобы я выходила замуж — ну что ж, постараюсь его убедить, что хочу остаться с ним, чтобы заботиться о нем в старости; тогда он успокоится и забудет о тебе. А я сделаю все, чтобы вернуть тебе свободу, даже если для этого придется разлучиться с тобой.
— Во всяком случае, мне будет спокойнее, если вы принесёте мне ту настойку от бессонницы, которая хранится в вашем ночном столике.
— Вряд ли получится. Эдельмунда не спускает с меня глаз ни днём, ни ночью. Но не бойся, я не оставлю тебя в беде. После смерти мамы я никого не любила так, как тебя.
— То же самое могу сказать и о вас. С тех пор, как я стала рабыней, у меня никогда не было такой подруги. Верьте мне, Лайя, все образуется.
— Если я не смогу тебя продать, ничего не образуется. Аиша, я знаю, какой злобный и жестокий человек мой отчим. Мы обречены томиться в этих стенах, пока Господь — неважно, твой или мой — не смилостивится и не призовет нас к себе.
Раздражённый голос Эдельмунды прервал их беседу.
— Сеньора, мы должны были вернуться уже час назад. Мне не хочется получить нагоняй от хозяина. К тому же здесь такая вонь, что просто дышать нечем.
Лайя в последний раз крепко обняла Аишу, а потом встала и дерзко ответила своей тюремщице:
— Позвольте напомнить, что вам уже через минуту стало нечем дышать от вони, а другим в этой вони приходится жить.
— Не мне это обсуждать, — проворчала дуэнья. — Ваш отец знает, что делает. В конце концов, каждый получает то, чего заслуживает. И если вас не затруднит, сеньора, извольте идти передо мной.
Наступила ночь. Особняк погрузился в темноту и безмолвие. Лишь в коридорах продолжали гореть тусклые светильники, отбрасывая дрожащие тени от мебели. Бернат Монкузи медленно затворил дверь кабинета. Глазок в стене он сегодня закрыл, не дожидаясь, пока девушка разденется. В эту ночь для него было важно сдержать свой порыв и не пролить семя. В два шага он очутился возле двери воспитанницы. Даже не постучав, он толкнул ее и вошёл. Лайя как раз ложилась спать.
— Что вы делаете в моей комнате? — испуганно спросила Лайя, поспешно накрываясь простыней.
— Разве это твоя комната? Все в этом доме — мое, и мне нет нужды стучаться.
— Прошу вас, уйдите, — взмолилась она. — Я хочу спать. Если вы желаете поговорить, подождите до утра.
Задыхаясь от возбуждения, Бернат хрипло заговорил, пожирая глазами тело девушки под простынями.
— Я пришёл сюда не для того, чтобы разговаривать. Я пришёл потребовать принадлежащее мне по праву. И будет лучше, если ты отдашь мне это по доброй воле.
Лайя зажмурилась и плотнее закуталась в простыни.
— Я вам уже говорила, что скорее солнце в небе погаснет!
Бернат шагнул к кровати.
— Подвинься, и покончим с этим!
— Скорее я умру! — воскликнула она.
— Думай, что говоришь! Я, как честный человек, всегда выполняю обещания. В этом городе мое слово — закон... тем более, в моем доме!
— Если вы немедленно не уйдёте, я закричу!
Бернат расхохотался.
— Ты полагаешь, кто-нибудь осмелится прийти к тебе на помощь?
— Зато все увидят, что могущественный советник — всего лишь мерзкий похотливый старик!
— Ах так? Ну, сейчас ты увидишь, кто я такой и кто здесь хозяин! — в ярости вскричал Бернат.
В два шага он оказался возле кровати, схватил Лайю за руку и рванул к себе.
Девушка до смерти перепугалась. Ночная сорочка путалась у нее в ногах, она едва поспевала за быстрыми шагами отчима. Он притащил Лайю к подвальной лестнице. Из глубины подвала доносились жалобные стоны какого-то несчастного. Гневный возглас Монкузи мгновенно поднял на ноги ночного стражника.
— Открыть дальнюю камеру! Привязать рабыню к потолку! Дай мне плетку и подтяни ее повыше — я тебе скажу, когда остановиться.
Тот немедленно бросился исполнять приказ.
Лежащая Аиша вздрогнула, услышав за дверью подозрительный шум. В следующую минуту дверь распахнулась, как будто сорванная порывом бури. Громадный тюремщик схватил ее, стащил с ложа и, заставив поднять кверху руки, привязал их ремнями к кольцу, свисающему с потолка.
Голос Берната загремел вновь. Повернув голову, Аиша увидела, как он втаскивает внутрь Лайю. И тогда она поняла, что погибла.
— Дай мне плетку и убирайся вон! Если кто-нибудь здесь появится — головой ответишь, понял?
Тюремщик протянул хозяину плетку и молча вышел.
Аиша стояла спиной к Бернату Монкузи, дрожа всем телом. Почти теряя сознание от ужаса, она услышала голос Монкузи и удар плетки об пол.
— Ну, так что скажешь, голубушка? Что ты решила?
Лайя молчала. Аиша внезапно почувствовала, как чья-то рука рванула ее за одежду, разорвав от шеи до пояса и обнажив спину.
— Когда будешь готова подчиниться моей воле — скажи, и я остановлюсь. Если пожелаешь, можешь считать удары: возможно, это немного тебя развлечет.
Рабыня почувствовала, как удары плети рассекают ее плоть. Один... Другой... Третий... Удары сыпались один за другим, она уже сбилась со счета.
Лайя закрыла лицо руками. Каждый удар отдавался жгучей болью в ее сердце. Наконец, под сводами камеры прозвучал ее голос, заглушая свист плетки:
— Гореть вам в аду! Берите меня, только прекратите это зверство!
Закрыв глаза, девушка опустилась на ложе.
Советник повернулся к ней, задыхаясь от усилий и возбуждения. Крупные капли пота стекали по его лицу до самого подбородка. Потерявшая сознание Аиша повисла на ремнях, стягивающих запястья.
Увидев, что жертва сдалась, Бернат набросился на нее, как дикий зверь, одной рукой лихорадочно спуская штаны, а другой задирая ночную сорочку Лайи. Почувствовав жирные лапы старика на своем теле, несчастная девушка бессильно разрыдалась.
57
Дворцовые интриги
К началу 1055 года, спустя три месяца после родов, фигура графини приобрела прежний вид, и теперь она вновь стала той же красавицей, сводящей с ума мужа. Заботу о детях она поручила старой няне, донье Хильде, а сама занялась дворцовыми делами и визитами в монастыри. Лишь две вещи омрачали ее счастье, причем, они никак не связанные между собой.
Дверь графской спальни распахнулась, и на пороге предстал Рамон Беренгер, веселый и разгоряченной после разминки в дворцовой оружейной, уже без шлема, но еще в кольчуге.
Альмодис, хорошо изучившая мужа, сочла момент подходящим, чтобы решить обе проблемы.
— Как прошел поединок, дорогой супруг? — с улыбкой спросила она.
Рамон, взяв со столика кувшин с лимонадом, принялся жадно пить прямо через край, затем поставил его обратно и вытер капли с подбородка.
— Признаю, что Марсаль Сан-Жауме умел в забавах с чучелом, но он не выносит, когда я побеждаю в поединках с коротким мечом и щитом. Он осыпал меня ругательствами.
— Так значит, вы победили, — с гордостью произнесла Альмодис.
— Я выиграл спор, и теперь ему придется расплатиться! Глядишь, научится почитать своего сеньора. Взгляните, что я принес вам в подарок!
Беренгер бросил жене на колени кошелек с гербом Бесоры — тремя серебряными мечами на синем поле.
Альмодис с восхищением взяла подарок — и вдруг притворно надулась, указав на царапину на икре графа.
— Рамон, вас опять ранили! Почему вы никогда не пользуетесь латами, пусть даже это и не настоящий бой?
Граф, казалось, только сейчас заметил кровоточащую царапину. Он приложил льняную салфетку к горлышку бутылки из резного стекла, смочил в вине и тщательно протер рану.
— Пусть лучше меня поцарапают, чем париться в доспехах, — ответил он. — На тренировках в оружейном зале ноги в латах преют.
— А мне вовсе не кажется, что это лучше, — возразила Альмодис. — Помните, когда вас задели в прошлый раз, рана воспалилась, у вас даже начался жар. А та рана казалась ничуть не серьезнее этой.
— Ну, на этот раз никакого жара не будет. Вы же видите, я ее промыл. Кстати, жалко тратить вино так бездарно. Не хотите немного выпить?
— Смотря за что.
Рамон наполнил кубки и протянул один жене.
— За нас, сеньора. За наше счастье.
Альмодис не преминула воспользоваться случаем.
— К сожалению, наше счастье неполное.
Поставив кубок на стол, граф взял ее за руку и спросил:
— Чего же вам не хватает? Разве я не выполнил все обещания, которые дал вам в Тулузе?
— К сожалению, кое-чего мне все-таки не хватает; зато другого, наоборот, в избытке.
— Простите, не понимаю. Будьте любезны объяснить...
— Видите ли, любимый. Никто, конечно, не смеет сказать вам это в лицо, но пока вы не добьётесь, чтобы ваша бабка отправилась в Рим и уговорила Папу отменить вердикт о нашем отлучении, подданные будут считать меня вашей любовницей. И что ни говори, а это и впрямь так.
— Порой мне кажется, что вы колдунья и умеете читать мысли.
— Зачем вы так говорите?
— Потому что вы угадываете мои намерения еще до того, как я начал действовать.
Альмодис нежно взяла его руку и поцеловала ее.
— Скажите, о чем именно я догадалась?
— Видите ли, меня тоже угнетает эта ситуация, а потому я решил кое-что предпринять.
— Что?
— Я уже попросил нотариуса Вальдерибеса и судью Фортуни составить документ, который хоть немного смягчит наше щекотливое положение, пока Папа не смягчится, а я смогу назвать вас своей женой перед всем миром. В этом документе вас объявят моей супругой, как если бы нас связали узами брака перед алтарем. Там будет оговорено, что вы получите право на графство Жирону, земли в Осоне и Вике, принадлежащие моей бабке, а также пять приграничных замков и земли, захваченные у мавританского короля Лериды [25].
— Но как вы сможете отдать мне то, что пока еще принадлежит Эрмезинде? — удивилась Альмодис.
— Моя бабка такая, какая есть. Однако нельзя отрицать, что во время своего долгого регентства она самоотверженно отстаивала мои права, поскольку беззаветно любит эту землю. Думаю, она давно поняла, что моя к вам любовь непоколебима, к тому же, в глубине души она признает, что дважды заставила меня жениться, не спросив согласия. Жизнь ее близится к концу, сторонники давно умерли, и она не желает становиться причиной раздора между Жироной и Барселоной. Полагаю, мы сможем договориться, она уже присылала своих послов. Думаю, мне следует выказать ей почтение и поехать самому. Вдобавок ей нужны деньги на содержание монастырей. Ну что ж, она получит деньги, а я — ее заступничество перед Его Святейшеством, чтобы он снял отлучение.
Альмодис поцеловала его в губы.
— Вы самый лучший муж и самый блистательный кабальеро на свете.
— Теперь вы довольны?
— Будь я алчной женщиной, для которой существуют лишь деньги, возможно, я была бы довольна. Но вы прекрасно знаете, что я покинула Тулузу, будучи графиней-соправительницей, и уехала в Барселону, чтобы быть рядом с вами, а не чтобы меня называли грубым словом, каким в народе кличут женщин в моем положении. А главное, я не уверена даже в собственной безопасности.
— Что вас беспокоит?
— Два человека.
— Давайте обсудим все по порядку. Начните с первого.
— Даже если Папа Римский сменит гнев на милость, снимет отлучение и даст мне право занять заслуженное место, даже если меня примет народ — все равно остается ваш сын Педро Рамон. Он ненавидит меня, и ненависть будет только расти, поскольку он считает меня узурпаторшей, посягающей на его права, хотя на самом деле у меня никогда и в мыслях не было на них посягать.
Рамон озадаченно почесал подбородок.
— Но вы же его знаете, он несдержан и вспыльчив, но никогда и пальцем не пошевелит против вас.
— Как мы можем быть в этом уверены? Он необуздан, ревнив и подозрителен, к тому же подвержен перепадам настроения. Такие люди всегда несчастны, поскольку привыкли повсюду видеть врагов, даже там, где их нет и в помине, а потому кончают свои дни в полном одиночестве. Именно его мне и следует опасаться в первую очередь, ведь если он и впрямь решил от меня избавиться, рано или поздно он это сделает.
— Альмодис, ради Бога, не стоит так преувеличивать! В конце концов, я его отец, и меня это тоже касается. Можете поставить его на место, но прошу, не втягивайте меня в ваши дрязги.
— С большим удовольствием — при условии, что он оставит в покое меня. Я устала от его бесконечных нападок.
— Значит, он называет вас узурпаторшей, поправшей его права?
— Надеюсь, вы понимаете, что я, как всякая мать, забочусь о будущем своих детей? Так вот, однажды я заговорила о будущем Рамона и Беренгера. Кто-то пустил сплетню, истолковав все превратно, и тогда он ворвался в мои покои и прилюдно обвинил меня в том, что я собираюсь отнять принадлежащее ему по праву. Я, разумеется, помню, что он ваш первенец и наследник, но и мои сыновья ваши дети и тоже имеют право на часть наследства.
Беренгер попытался сменить тему:
— А теперь назовите имя второго человека, который вам досаждает.
Альмодис начала издалека, понимая, что эта тема ещё более щекотлива, чем предыдущая.
— Вы знаете, что я достаточно терпима к чужим недостаткам, у меня их тоже хватает. Но что мне по-настоящему претит — так это раболепство, угодничество и наглая лесть. Полагаю, что и вас, при вашем уме, оскорбляет подобное поведение. Если он думает, что вы примете эту ложь за чистую монету — значит, считает вас дураком, а если полагает, что вам приятно выслушивать лесть — стало быть, считает вас тщеславным хвастуном.
— Я догадываюсь, о ком речь. Но вы ошибаетесь.
— Будьте с ним осторожны, — предупредила Альмодис. — Я уже не раз замечала тревожные признаки. Поверьте, он вор и проходимец, который бессовестно злоупотребляет вашим доверием и нагло пользуется расположением. Если бы он вам честно служил, я бы и слова не сказала, в конце концов, при дворе все лгут. Но я точно знаю, что с каждым днём в его карманы стекается все больше денег, которые ему явно не принадлежат, он либо тайком извлекает их из ваших сундуков, либо вытягивает у законных владельцев, по неосторожности нарушивших какой-то закон или оказались втянуты в темные делишки.
Граф ненадолго задумался, прежде чем ответить.
— Что касается лести, то вы верно заметили, что казначей действительно мне льстит, однако это не более чем выражение привязанности к своему сеньору, а также почтения простолюдина к высокородному дворянину. Право, было бы куда хуже, если бы он вел себя подобно иным заносчивым дворянам, что упорно не желают признать превосходство дома Беренгеров и намеренно держат себя с графом Барселонским, как с равным. А таких тоже немало, и мы уже не раз это обсуждали. Хотя отдаю должное вашей женской интуиции. Но судите сами: если кто-то открыто воздает мне хвалы — значит, хочет заслужить мое расположение; если же кто-то, напротив, скупится на похвалу — то весьма вероятно, что просто от зависти, а потому за ним нужно следить еще более неусыпно. Куда ни кинь — всюду клин, доверять в любом случае нельзя никому. Что же касается другого вашего обвинения, то Монкузи выполняет свои обязанности с похвальным рвением, ни один казначей или финансовый советник никогда так не заботился о сохранности моего имущества. Если он так успешно набивает мой кошелек, то я предпочитаю не замечать, если что-то кладет и себе в карман. Что значат несколько потерянных манкусо по сравнению с теми золотыми реками, которые благодаря его усилиям стекаются в наше графство? Короче говоря, я и сам знаю, что он понемножку меня обворовывает, но предпочитаю держать умного проходимца, нежели честного дурака.
— Я вас понимаю, но все же не спускайте с него глаз, иначе рано или поздно настанет день, когда его богатство и власть наберут такую силу, что станут представлять для вас угрозу.
— Не беспокойтесь на этот счёт. Если такая ситуация все же возникнет, вы убедитесь, что граф Барселонский умеет принимать жёсткие меры. У хорошего правителя не может быть друзей. При малейшем подозрении, что его пороки перевешивают приносимую графству пользу, он задержится при дворе не дольше, чем засахаренный имбирь во рту у ваших близнецов.
— У наших детей, вы хотите сказать?
— Разумеется, дорогая.
58
Кербела
Караван наконец-то выступил из Сидона. Гуго де Рожан разумно распределил силы. Впереди шли опытные воины-наемники в сопровождении проводника, прекрасно знающего путь; следом — повозки, под их скорость должны были подстраиваться все остальные. Далее следовали остальные, верхом на мулах, лошадях и ослах. Среди них ехал и сам Гуго верхом на мерине, отдавая приказы с помощью рога.
Рядом с ним верхом на муле ехал второй проводник. Замыкал шествие отряд наемников, готовых отразить любую атаку в случае нападения. Опытный капитан отправил вперед нескольких разведчиков, они держались на пол-лиги впереди каравана и должны были оповестить, если заметят что-нибудь подозрительное. Марти сердечно распрощался с Хасаном, получив от него множество советов, как благополучно преодолеть долгий и опасный путь. Далеко не все путники собирались следовать до самого конца, а значит, на последних этапах пути, когда людей станет меньше, угроза нападения на караван возрастет. Марти успел подружиться с французским авантюристом и ехал с ним рядом.
— Как вы думаете, когда мы прибудем в Персию? — спросил он.
— Этого никто точно не скажет, — задумчиво протянул капитан. — Здесь на каждом шагу подстерегают всякие неожиданности — болезни, например. Понимаете, я никогда не бросаю в пути больных и раненых, а если кому случается умереть, мы их хороним честь по чести. Я берегу доброе имя проводника караванов.
Вскоре после этого разговора Марти пришлось на собственной шкуре убедиться, что француз не врал. Караван уже миновал Дамаск и теперь направлялся в оазис Сабаабар. Иногда показывались «шакалы пустыни», как называли в этих местах разбойников. Однако при виде многочисленного отряда вооруженных наемников они не решались напасть.
Днем невозможно было дышать от зноя, зато по ночам холод пробирал до костей. Некоторые путешественники сильно страдали от сурового климата.
Страшным бедствием были песчаные бури. Люди наматывали на себя всю одежду, но песок все равно забивался во все уголки, не страдали от него лишь мудрые верблюды, крепко закрывавшие глаза и ноздри. В оазисе путнике похоронили трех человек, не выдержавших тягот пути, и с тех пор целая стая стервятников неотступно следовала за караваном. Именно тогда Марти довелось убедиться, что он правильно поступил, наняв в слуги Марвана. Он установил шатер в пальмовой роще, следуя указаниям Рожана, который всегда выбирал для стоянки наиболее безопасное место. В тот вечер, воспользовавшись последней возможностью пополнить запасы воды, француз пригласил Марти разделить с ним скромный ужин.
В темноте мерцали огоньки пустынных светлячков. Вернувшись после ужина в свою палатку, Марти уже собрался лечь на складное походное ложе, приготовленное Марваном, как вдруг почувствовал, как его правую ногу словно пронзила раскаленная игла. Марти криками разбудил слугу. Марван тут же схватил камень и раздавил какое-то странное насекомое, каких Марти никогда раньше не видел.
— Вам не повезло, хозяин, — сказал Марван. — Это дюнный скорпион. Схожу за своими за вещами, иначе вы не доберетесь до Кербелы.
Когда Марван вернулся в палатку со своей сумкой, жгучая боль в ноге Марти уже поднялась до паха.
Слуга помог ему лечь. Пламя горящей свечи двоилось у Марти в глазах; несмотря на ночную стужу, он задыхался от жары. Прежде чем Марти потерял сознание, Марван дал ему выпить какой-то отвар, затем, надрезав ножом края раны, высосал яд и выплюнул. После этого смазал ногу Марти какой-то мазью из своей сумки. Последнее, что услышал Марти, прежде чем провалиться в забытье, были слова Марвана:
— Я сообщу капитану. В ближайшие дни вы вряд ли сможете ходить.
Марван оказался прав. Уже потом Марти узнал, что слуга, вовремя приняв меры, спас ему жизнь. Гуго де Рожан велел сделать носилки и закрепить их между двумя верблюдами. Караван снова двинулся в путь. В бреду Марти мерещилось ненаглядное лицо Лайи, она глядела на него серыми глазами, словно хотела что-то сказать, но он так и не сумел понять, что именно. Потом Лайя внезапно исчезла, и в голове у него зазвучал торжествующий хохот ее отчима, который смеялся над тщетностью всех его усилий добиться гражданства Барселоны.
«Шакалы пустыни» напали внезапно — на закате, во вторник третьей недели пути. Лишь опыт Рожана и его наемников не позволили грабителям захватить караван. При нападении погибли пять человек: двое взрослых и трое детей. Вдобавок из-за жестокого пустынного климата и болезней ряды путешественников сильно поредели. Когда караван прибыл наконец в Персию, из трехсот шестидесяти человек, выступивших из Сидона, осталось лишь двести девяносто три. Марти понемногу поправлялся, но все еще был слаб, как цыпленок. Он до сих пор удивлялся, что выжил: видимо, Бог и судьба хранили его для великих дел.
По прибытии в ар-Рамади Уго де Рожан тепло простился с молодым человеком, который начал путь в роли его подчиненного, а под конец стал добрым другом.
— Здесь мы расстанемся, Марти, — с сожалением произнес он. — Я должен отправляться в Киркук, а вам нужно в Кербелу. Я вижу, вы уже восстановили силы, но все равно не спешите. И не забывайте: последняя лига не менее опасна, чем первая. Вспомните, скольких людей мы потеряли в пути. Ад переполнен смельчаками, которые не ценят жизнь и потому ее теряют.
— Я никогда не смогу вас отблагодарить за то, что вы сделали для меня.
— Не стоит благодарности. Мы заключили сделку, и я всего лишь выполнил ее условия. Честь и доброе имя предводителя караванов зависит от того, что будут рассказывать о нем те, кому благодаря его усилиям удалось остаться в живых.
— Можете на это рассчитывать. Но подскажите, какой дорогой мне ехать?
— Держитесь Евфрата, так вы доберётесь до Бахр-аль-Мильха. А оттуда уже до Кербелы рукой подать.
— Когда вы собираетесь обратно? — поинтересовался Марти. — Я спрашиваю к тому, что мне бы хотелось присоединиться к вашему каравану.
— Пока ещё сам не знаю. Но думаю, вам будет лучше подождать другого каравана или добираться короткими переходами.
— Благодарю, я непременно последую вашему совету.
На прощание Марти крепко обнял Рожана, еще раз поблагодарив его за всё, забрал своего верблюда и отправился на поиски Рашида аль-Малика, живущего в деревушке неподалеку от того места, где ему пришлось покинуть караван, изрядно поредевший после тягот пути, пустынного зноя, болезней, лихорадки и нападения грабителей. Прежде чем снова отправиться в путь, он по совету Марвана обменял верблюда на хорошую лошадь у торговца, который собирался возвращаться обратно той же дорогой, что и Марти.
Тропа оказалась узкой и скользкой. Помня прощальный совет француза, Марти старался ступать как можно осторожнее: не хватало еще, чтобы в конце пути с ним произошло несчастье. Внезапно сгустившаяся тьма застигла его буквально в нескольких шагах от цели. Далекий собачий лай помог отыскать в темноте деревню — если так можно назвать кучку грязных лачуг.
59
Похоть и алчность
Теперь в Лайе трудно было узнать прежнюю цветущую девушку. За несколько месяцев, что миновали с тех пор, как она утратила невинность, в ее серых глазах поселилась печаль, прежний блеск погас. Вся ее жизнь превратилась в непрерывное ожидание насилия, которое повторялось почти каждую ночь. Дни же она проводила в глубокой тоске под надзором неусыпной гарпии. Опекун настаивал, чтобы она выходила на прогулку, ему вовсе не хотелось, чтобы она чахла и дурнела из-за жестокого обращения или по другой причине. Она по-прежнему посещала богослужения, беседовала с дамами, приходящими в гости, сопровождала отчима на скучные собрания и приемы. Если кто-то отпускал замечания, что Лайя как будто побледнела и вообще неважно выглядит, Бернат отвечал:
— Вы же знаете этих девиц: у них случаются периоды тоски.
То же самое сказал и лекарь-еврей, снова вызванный к Лайе. Он не стал вдаваться в подробности, лишь прописал ей железо и укрепляющие настойки.
Бернату не удалось обмануть только Аделаиду, старая кормилица Лайи, которую девушка по-прежнему иногда навещала.
— Девочка совсем исхудала от любви, — говорила она Эдельмунде.
Дуэнья, всегда сопровождавшая Лайю во время этих визитов, в таких случаях отвечала:
— Эти юные барышни такие сумасбродки! А по мне, она бы выглядела намного лучше, если бы ела как следует. Ее отец просто в отчаянии, ведь он так ее любит!
Так продолжалось до того рокового дня.
Эдельмунда — дуэнья, которой Монкузи поручил надзирать за Лайей — стояла перед хозяином, дрожа. Да и неудивительно, ведь она собиралась сообщить неприятные новости, а уж она-то хорошо знала взрывной темперамент хозяина, которому никто не смел перечить. Прошло уже пять месяцев после той ужасной ночи, и все это время, следуя строгому наказу хозяина, она каждый день сопровождала девушку в камеру, где томилась рабыня. Бернат приказал подлечить Аишу и привести в божеский вид, в очередной раз давая понять Лайе, что судьба рабыни зависит от ее покорности и готовности делить с ним ложе.
И девушка вынуждена была покоряться, понимая, что от ее поведения зависит жизнь Аиши. Бедная Лайя не знала, надолго ли у нее хватит терпения выдерживать свой позор. Рабыня ничего не знала об этом, потому что в первый раз, когда насилие свершилось прямо в ее камере, потеряла сознание, а Лайя не стала ни о чем рассказывать. Каждый день, видя бледное осунувшееся лицо и темные круги под огромными серыми глазами молодой хозяйки, Аиша объясняла это тем, что Лайя страдает из-за разлуки с Марти и из-за того, что отчим обнаружил их тайную переписку.
Жизнь Лайи превратилась в ад. Каждый раз, когда отчим появлялся в ее комнате, ее бросало в дрожь, а в те минуты, когда он осквернял ее тело, она старалась мысленно уноситься как можно дальше, мечтая о тех временах, когда в ее жизни не будет этого похотливого сатира и не придется слушать его стоны. Пока старик насиловал ее неподвижное тело, она с тоской думала о том, что любовь Марти для нее навсегда потеряна и теперь единственный выход — уйти в монастырь и доживать там свой век, скрыв позор за стенами святой обители. Единственной ниточкой, которая еще удерживала ее в этом мире, была Аиша, Лайя надеялась ее спасти.
Бернат Монкузи, оторвавшись от документов, сердито посмотрел на Эдельмунду.
— Чего тебе надо? — хмуро бросил он. — Зачем ты отрываешь меня от дел?
Дуэнья смущённо переминалась с ноги на ногу, комкая в руках платок.
— Говори, женщина!
— Видите ли, сеньор, — начала она. — Случилось нечто такое, что, может иметь для вас весьма неприятные последствия.
— Что именно? И по чьей вине?
Несчастная женщина задрожала от страха.
— Я не виновата... — пробормотала она. — Так уж случилось...
— Да что случилось-то, идиотка? Говори сейчас же!
— В таком случае, хозяин... — глубоко вздохнув, женщина потупилась и сказала: — Боюсь, что Лайя в интересном положении. К осени она разрешится.
Казначей побагровел. Его лицо с нахмуренными бровями выглядело устрашающим.
— Хочешь сказать, что она ждёт ребёнка?!
Эдельмунда виновато кивнула, не смея поднять взгляд.
— Несомненно, — произнесла она наконец. — Поверьте, я знаю все признаки.
— И ты ещё утверждаешь, что ни в чем не виновата!
— Сеньор, я приняла все меры, но иногда случаются неожиданности...
— Да что толку в этих твоих мерах? — заорал советник. — За что я тебе плачу?
— Сеньор, уверяю вас, впервые на моей памяти столь верное средство, как смоченный в уксусе кусок ткани, введённый в женское лоно, не сработало.
Повисла долгая тишина. Бернат Монкузи прекрасно осознавал, что может произойти, если правда вылезет наружу, а Эдельмунде хотелось любыми средствами устранить это неудобство, понимая, что если не найдет выхода, ей в лучшем случае грозит очутиться на улице.
— Сеньор, я знаю, как избавить ее от беременности.
— Дура! Если другие твои средства столь же бесполезны, какой от них прок?! Пошла вон, с глаз долой! Я тебя позову, когда решу, что теперь делать. И чтобы никому ни словечка не смела пикнуть! Если ослушаешься — до утра не доживёшь. Ясно тебе?
Женщина, радуясь, что так легко отделалась, молча кивнула и клятвенно заверила, что рта не раскроет.
— С этой минуты, — продолжал Бернат, — к рабыне никого не пускать. Никто, ни один человек не должен с ней видеться.
Несколько дней советник пребывал в мрачном расположении духа, размышляя, как выбраться из затруднительного положения.
На протяжении трёх долгих месяцев он насиловал Лайю, как только у него возникало желание. За это время его страсть заметно остыла. Во-первых, стоило получить желаемое, как вожделение тут же пошло на спад; во-вторых, холодность девушки выводила его из себя. Поначалу он думал, что со временем она привыкнет, в ней проснётся чувственность и она станет пылкой и страстной. Но этого так и не произошло: она лежала, холодная и безучастная, словно труп. В довершение всего, с каждым днём ее красота все больше увядала. Новость, которую сообщила Эдельмунда, стала последней каплей, заставившей его окончательно охладеть к своей игрушке. С другой стороны, на прошлой неделе по совету управляющего советник истратил внушительную сумму из совместного капитала с предприятием Марти Барбани, а ведь их сотрудничество со временем могло бы принести крупные барыши, и как раз подошел год выплат. Марти отсутствовал в Барселоне уже почти два года.
Советник отчаянно пытался придумать, как выйти из положения. Допустим, Марти получит возможность стать гражданином Барселоны и руку Лайи, а та — законного отца для ребёнка. Бернат не желал даже думать о том, чтобы избавиться от беременности, ведь это величайший грех, которому нет прощения, в отличие от обычных мужских слабостей, которые Господь, напротив, охотно прощает. Сам же он получит возможность влиять на честолюбивого юнца. Нужно только спрятать подальше рабыню, скажем, отправить ее в поместье близ Сальента. Так он сможет обеспечить молчание падчерицы, а рабыня, если в ней возникнет надобность, всегда будет под рукой. И самое главное: никто в доме не должен узнать о состоянии Лайи, а потому он тоже отправит ее в Сальент вместе с Эдельмундой. Когда Лайя родит и ее фигура приобретёт прежний вид, он позволит ей увидеться с Аишей — разумеется, под присмотром Эдельмунды — дав понять, что судьба рабыни зависит от молчания Лайи. Все эти мысли долго крутились в его голове, прежде чем обрели форму.
В этих сомнениях и раздумьях он провёл всю неделю. Наконец, он принял решение, приказал заложить карету и направился в Пиа-Альмонию, к своему духовнику падре Эудальду Льобету, который был также духовником графини Альмодис.
При виде приближающейся кареты с гербом монах-привратник велел молодому послушнику немедленно доложить об этом падре Льобету. Бернат Монкузи выбрался из кареты, не дожидаясь, пока кучер откроет дверцу. Вернувшийся послушник сообщил, что архидьякон ожидает посетителя в своем кабинете. Монах повел советника через многочисленные залы и коридоры огромного здания.
Разумеется, Эудальд Льобет со вниманием относился к любому прихожанину, явившемуся за советом; но, как всякий живой человек, имел свои симпатии и антипатии, и изворотливый советник внушал ему откровенную неприязнь, хотя порой архидьякону приходилось прибегать к его влиянию. Монкузи казался ему холодным и скользким, как змея.
— Добро пожаловать, Бернат. Право, не стоило утруждаться, я бы и сам вас навестил.
— Обстоятельства таковы, что у меня нет времени ждать, — ответил советник.
— В таком случае, будьте добры объяснить причину вашего визита.
Советник опустился на стул напротив каноника.
— Так что же?
— Эудальд, причина, по которой я прибыл к вам, деликатного свойства и требует самого ответственного подхода. Помимо того, что случившееся бросает тень на меня как на опекуна, эта история может погубить жизнь Лайи, моей воспитанницы, которую я люблю, как родную дочь, и навлечь несмываемый позор на мой дом.
— Вы меня пугаете, Бернат. Говорите же, я вас слушаю.
— Ну что ж, — вздохнул советник. — Я расскажу вам обо всем, что произошло, а потом спрошу вашего совета, как исправить эту оплошность, следуя заветам святой матери церкви.
Священник беспокойно заерзал в ожидании рассказа.
— Вы же сами знаете, как легкомысленны эти женщины. Они непостоянны, словно кометы, и переменчивы, как ветер. Вам ли не знать, с какой переменчивы их чувства и настроения, особенно в том возрасте, когда девочка созревает и превращается в женщину. Моя подопечная позволила себе увлечься Марти Барбани, тем молодым человеком, за которого вы меня просили, поскольку он решил торговать предметами роскоши. Мне пришёлся по душе его нрав, как и его настойчивость, и ради вас я решил посодействовать ему и в других начинаниях. Так вот, на невольничьем рынке он познакомился с Лайей, и они стали встречаться при попустительстве кое-кого из мошенников-слуг. Короче говоря, моя падчерица дала ему надежду. Я сразу сказал, что он ей не пара — во всяком случае, до тех пор, пока не станет гражданином Барселоны. Тем не менее, молодой человек продолжал за ней ухаживать втайне от меня, не посчитавшись с моим мнением и чувствами, он решил, что, добившись ее любви, вынудит меня смириться и благословить их союз. Но потом ваш подопечный ушёл в плавание, а спустя полтора года Лайя пришла ко мне однажды вечером вся в слезах и рассказала о тайных свиданиях и о обещании, которое так легкомысленно ему дала. Мне пришлось вмешаться. Я велел ей написать Марти, что их отношения закончены и она его больше не любит. Как вы понимаете, ее легкомыслие меня возмутило, я отчитал Лайю, сказав, что некрасиво играть чувствами других людей. Тем не менее, я догадывался, что в ее прелестной головке успело поселиться новое чувство, что она попалась в сети какого-нибудь придворного сердцееда. Разумеется, чутьё меня не обмануло. Вскоре она мне призналась, что снова влюбилась, и на этот раз, по злому капризу судьбы, в женатого мужчину. Из тех, что вечно крутятся возле сильных мира сего. Я не знаю его имени и знать не хочу, хотя догадываюсь, что он дворянин темного происхождения. Лайя понятия не имела, что он женат и никогда не женится на плебейке. Она попалась, как последняя дурочка, и вскоре забеременела. Когда же она сообщила ему о своем положении, мерзавец рассмеялся ей в лицо и заявил, что не желает иметь ничего общего ни с ней, ни с ее отродьем.
Лицо падре Льобета осталось непроницаемым.
— Продолжайте, — сказал он.
— И теперь я должен позаботиться о ней, я обещал это супруге на смертном одре. Не скрою, меня охватили сомнения: Лайя наотрез отказалась назвать имя человека, лишившего ее невинности. Ей остается либо избавиться от ребёнка, либо найти человека, который согласился бы взять ее в жены. Вы хорошо меня знаете, падре. Как истинный сын святой церкви, я никогда не допустил бы убийства невинного младенца. И теперь мне остаётся лишь молить вас о помощи, для чего я и приехал. Ни один дворянин не возьмёт ее в жены, несмотря на приданое и наследство, которое она получит после моей смерти. А потому вся моя надежда — на вас. Вашему подопечному, которого она так жестоко обманула, не нужны мои деньги, он и сам богат, а со временем станет ещё богаче. Но он не дворянского рода, однако, если станет гражданином... Собственно говоря, я на это рассчитываю. Если парень все ещё ее любит, вы могли бы убедить его признать ребёнка. Думаю, вы можете на него повлиять. Если он возьмёт ее в жены и признает ребенка, то станет гражданином Барселоны. Честь моей подопечной будет спасена, а время залечит грехи молодости.
Падре Льобет ненадолго задумался. Будучи тонким знатоком человеческих слабостей, он также имел богатый жизненный опыт, ведь прежде чем стать священником, он исходил множество дорог. А кроме того, хорошо знал советника и догадывался, что в этой странной истории явно что-то не так, но пока он не понимал, что именно.
— Давно уже вы не бывали у меня на исповеди, Бернат, — заметил священник.
Неожиданное замечание застало советника врасплох.
— Ну что ж, вы правы. Дело в том, что в последнее время я был настолько занят, что не хватало времени посетить вас. Тем не менее, как добрый христианин, я ходил к исповеди в церковь святого Михаила рядом с моим домом. Но не понимаю, к чему вы вдруг вспомнили про исповедь.
— Просто я подумал, что вы можете воспользоваться случаем и исповедаться прямо здесь, в моем кабинете. А затем мы вдвоём помолимся, чтобы Господь наставил нас и помог принять верное решение.
— Я исповедовался в минувшую пятницу, — произнёс Бернат. — Видит Бог, мне пока нет необходимости каяться в новых грехах.
Эудальд Льобет, прекрасно знавший, насколько щепетилен советник в вопросах веры и церковных таинств, догадался, что в душе Берната скрываются тайны и помыслы, о которых он не хочет рассказывать.
— Ну хорошо, дайте мне немного подумать, — сказал священник. — Насколько мне известно, Марти ещё не вернулся.
— Это не имеет значения. Я отправлю свою дочь в одно из загородных имений, где она сможет спокойно родить. С ней будут ее дуэнья и доверенная повитуха. Там она останется до самых родов. Ребенок будет расти вдали от города, и в случае необходимости мы всегда сможем его забрать. Если это будет мальчик, я его усыновлю и он станет моим наследником. К тому времени никто уже ничего не заподозрит.
60
Рашид аль-Малик
Напросившись на ночлег в один из домов деревни, где можно было пристроить лошадей, Марти попросил у хозяйки чего-нибудь поесть — для себя и своего верного погонщика. Деревня состояла из десяти-двенадцати убогих лачуг, но ее жители, несмотря на бедность, оказались приветливыми и гостеприимными. Хозяйкой дома, где они остановились, старуха в черном, со снежно-белыми волосами и в грубых башмаках из кожи неизвестного животного, подала им ужин. Даже не спросив, чего бы они хотели, она принесла козленка, зажаренного с медом и пряностями, со сладким гарниром из моркови, ржаной хлеб, который она сама пекла в каменной печи во дворе, и миску густой простокваши.
Страшный ночной холод подогрел аппетит, и Марти с удовольствием поужинал у горящего очага, но гораздо лучше, чем горящие угли, ему помогла согреться крепкая настойка, поданная доброй женщиной в крошечных стаканчиках размером с наперсток. Ужин старуха подавала молча. Когда они наелись до отвала, слегка захмелевший Марти заговорил на барселонской латыни, и к его удивлению хозяйка ответила на похожем языке.
— Скажи мне, добрая женщина, ты знаешь, как найти дом Рашида аль-Малика?
— Этого сумасшедшего старика? Он живет один и появляется в деревне лишь изредка, чтобы закупить провизию, сам он не пашет землю и не разводит скот.
— Ты можешь показать, где он живёт?
— Найдёте, не заблудитесь. Это примерно в дне пути отсюда, он живет рядом с озером Бахр-аль-Милх. Но не вздумайте соваться туда после захода солнца: у него злющие псы. Говорю вам: он не в себе!
Поблагодарив добрую хозяйку, Марти отправился спать на чердак. Здесь проходил кирпичный дымоход, обогревая чердак. Перед тем как подняться наверх, Марти предложил Марвану спать на чердаке, но погонщик, как всегда, предпочел хлев, где можно погреться о лошадей и баранов доброй женщины.
Падая от усталости, вконец измученный тяжелыми переходами последних дней, Марти утешался тем, что путешествие близится к концу. В мыслях он уже пребывал в Барселоне и строил новые планы. Жофре, вероятно, уже плывет в далекие порты, которые посетил Марти за эти полтора года, и везет туда товары и грузы. Корабль уже готов, и Марти строил планы, что неплохо бы построить другой, а потом еще и еще... Ему вновь вспомнились слова Баруха Бенвениста: «Наше будущее — в море». Мысли Марти перекинулись на другое: ему ведь предстоит найти капитанов для своих кораблей. Он знал, что другой товарищ его нелегкого детства, Феле, тоже посвятил себя морю. Нужно будет его разыскать. А еще неплохо было бы уговорить грека Манипулоса, его корабль оказался бы очень кстати... И тогда он сможет доказать Монкузи, что достоин руки Лайи... При этой мысли голова у него пошла кругом, усталость взяла свое, и он наконец заснул.
Ему показалось, что два он успел смежить глаза, как рука погонщика затеребила его за плечо:
— Хозяин, уже полдень, пора отправляться, если мы хотим добраться в Бахр-аль-Милха до наступления темноты.
Марти услышал стук глиняной посуды, с которой хозяйка возилась у очага. На улице перекликались петухи, ржали лошади, блеяли овцы, от всех этих звуков Марти окончательно проснулся. Вскочив с постели, он умылся над тазом с водой и быстро оделся. Тем временем, слуга уложил вещи в котомку и засунул ее в одну из седельных сумок. После обильного завтрака Марти щедро заплатил доброй женщине за ночлег и еду, и они вновь отправились в путь. Марти решил воспользоваться последним переходом, чтобы попытаться заключить с Марваном сделку, о которой давно уже подумывал. За время долгого путешествия по пустыне он успел присмотреться к этому человеку и убедиться в его надежности, храбрости, верности и трудолюбии. Кроме того, Марван говорил на нескольких языках, а это тоже было не лишним.
— Что собираешься делать, когда я вернусь в Барселону?
— Хозяин, единственное, что вы можете для меня сделать — это помочь найти другой караван и другого хозяина, который, возможно, не будет таким добрым, как вы, но я все же смогу заработать на кусок хлеба. А со временем мне бы хотелось обосноваться в Сидоне и заняться торговлей верблюдами. Отец любил повторять, что во все времена пустыня останется пустыней, пески — песками, зной — зноем, а верблюды всегда будут в цене.
— А если я предложу тебе работать на меня и буду платить втрое больше, чем ты заработаешь в пустыне — что ты на это скажешь?
— И что же я должен сделать, чтобы получить такую работу?
— Быть здесь моими глазами и ушами и сопровождать караваны в любые уголки Леванта, куда мне понадобится.
— А я смогу хотя бы раз в году наведываться в Сидон?
— Когда сможешь и когда пожелаешь, — ответил Марти.
— Есть одна женщина, хозяин... — произнёс погонщик с блаженной улыбкой на губах.
— Можешь не продолжать, я и так понял, в чем дело, — улыбнулся в ответ Марти.
Вот так Марти нашел человека, который сможет заменить его в этих далеких краях. Несмотря на свою молодость, он уже неплохо научился разбираться в людях, и, наблюдая за Марваном, пришел к выводу, что для этого человека верность и дружба важнее денег.
К вечеру они достигли Бахр-аль-Милха. Еще издали они почувствовали непривычный запах со стороны озера, щекочущий ноздри, спасения от него не было никакого. Навстречу попался пастух с козами, которые пытались грызть чахлые былинки, пробивающиеся меж камней. Марван спросил у него на фарси, где найти Рашида-аль-Малика. Пастух, обменявшись несколькими словами с погонщиком, указал посохом нужное направление.
— Мы уже почти добрались, хозяин! — пояснил Марван. — Усадьба вашего знакомого как раз за этим холмом — в полулиге от дороги.
Они снова тронулись в путь. Марти не терпелось поскорее добраться до цели, и он поминутно подстегивал коня, вынуждая Марвана делать то же самое. С вершины холма их взгляду предстало совершенно черное озеро, со всех сторон окруженное каменной стеной. Собаки встретили их разноголосым лаем, на который вышел бородатый мужчина средних лет в каракулевой шапке, залатанном кафтане, овчинной безрукавке и грубых сапогах. В руках он держал огромный топор.
Спешившись, Марти спросил, не он ли случайно Рашид аль-Малик. Незнакомец молча кивнул, и Марти протянул ему письмо. Тот, по-прежнему не выпуская из рук топора, сорвал печать. Развернув пергамент, он вдруг поднял глаза и пристально посмотрел Марти в лицо. Затем внимательно прочитал. Марти заметил, что у мужчины недостает одного уха. Наконец, Рашид шагнул навстречу Марти и, по здешнему обычаю, трижды расцеловал его в щеки, как родного брата.
Учитывая, что хозяин дома немного понимал латынь, а Марван неплохо знал местные диалекты, они смогли объясниться. И теперь, сидя за скромно накрытыми столом в его доме, Марти снова и снова пересказывал подробности давнего происшествия в порту Фамагусты, после чего наконец поведал о цели своего путешествия.
Марти провёл у Рашида несколько дней. Днём хозяин занимался своими делами, а по вечерам они подолгу обсуждали интересующие Марти темы. Однажды вечером, когда Марван уже собрался спать, Рашид аль-Малик рассказал Марти весьма занятную историю.
— Как я уже говорил, к северу от озера есть источник, из которого течет черная жидкость, — начал он. — Единственная польза от нее в том, что она горит, если обмакнуть фитиль и поджечь. Но у нее есть серьезный недостаток: при горении она издает сильную вонь, а потому держать в доме такие светильники мало кто захочет.
— Но зато ее можно использовать для уличного освещения, — возразил Марти. — Там ее запах не доставит таких неудобств. Единственная проблема в том, как перевозить ее на далекие расстояния, да еще по морю.
— Единственное мое желание — разводить скот, — признался Рашид. — Эта черная жидкость меня не интересует.
— Если вы позволите мне добывать ее на вашей земле, то уже через несколько лет я сделаю вас очень богатым человеком.
— Рад это слышать, но я хотел бы рассказать еще кое о чем, и для меня это намного важнее денег. За эти дни я успел хорошо вас узнать и считаю человеком чести. Вы молоды, и то, что вы сделали для моего брата, говорит о вашем благородстве. Мне бы не хотелось, чтобы тайна, хранящаяся в нашей семье многие поколения, умерла вместе со мной: ведь я не женат, и мне некому ее передать.
Марти стало по-настоящему любопытно.
— Почему вы так уверены, что никогда не женитесь? — спросил он. — Вы ведь ещё мужчина в соку.
— Это долгая история. Когда-нибудь в другой раз расскажу. А сейчас я хотел бы поговорить с вами наедине. Прикажите вашему слуге уйти.
— Я сгораю от нетерпения!
— Все властители мира желали бы обладать этой тайной, но мужчины нашего рода испокон века свято ее хранили, передавая от отца к сыну, а кому-либо другому лишь в том случае, если прервется цепь поколений и род угаснет. Поскольку у меня нет и не будет детей, я вправе открыть ее человеку со стороны, взяв с него клятву, что он тоже будет хранить тайну, используя эти знания лишь в самом крайнем случае и на правое дело.
— Это я вам обещаю.
— Вы знаете, что такое греческий огонь?
— Понятия не имею.
— Вот как раз об этом я и собираюсь вам рассказать. За эту тайну многие властители мира кому угодно перережут глотку.
Марти завороженно слушал.
— Так вот, много лет назад, около 683 года, некий сириец по имени Калиник получил от александрийских химиков состав вещества, которое при разумном применении могло бы послужить на благо всего человечества. В то же время, попади оно в недобрые руки, то принесло бы людям огромные бедствия. Однажды ночью рецепт бесследно исчез. И никто не знает, что с тех пор он передаётся в моей семье от отца к сыну, поскольку один из моих далеки предков участвовал в создании этого вещества, поставляя для него сырьё — чёрную жидкость, залегающую глубоко под землёй в этих местах, потому что мои предки ещё в те далёкие времена владели этими землями.
Глаза Марти вспыхнули в темноте.
— О чем это вы? — воскликнул он.
— Ну, так слушайте. Калиник изобрел вязкую смесь, которая горит даже в воде. Она состоит из множества компонентов, но главный из них — то черное масло, которое вас так интересует. Оно легче воды и плавает на ее поверхности. Еще в состав смеси входят сера, при горении выделяющая ядовитые пары, негашеная известь, которая при соприкосновении с водой выделяет столько жара, что сжигает все вокруг, а также селитра, способная гореть в воде и без воздуха. Так вот, если при помощи этой смеси поджечь корабль, он неминуемо сгорит; достаточно одной стрелы, обернутой пропитанной этой смесью тканью — и пожар потушить практически невозможно, даже если попытаться залить его морской водой. Теперь вы понимаете, какую власть над миром даст человеку обладание этим секретом?
В голове у Марти, казалось, застучал кузнечный молот.
— У меня накопилось слишком много вопросов, — признался он. — Прежде всего, почему именно мне вы решили передать это сокровище?
— С самого детства я привык доверять суждениям брата. И если он в своем письме говорит о вас в столь хвалебном тоне, то вы и впрямь достойный человек. Мне нечем больше отблагодарить вас за доброту, быть может, я так бы и умер, не найдя человека, которому мог бы передать тайну.
— А почему не Хасану?
— Не тот человек, — покачал головой Рашид. — Кстати, он тоже не женат, но по другой причине.
— Учитывая ту огромную ответственность, которую вы собираетесь на меня возложить, я должен знать обе причины.
— Вы ведь сохраните это в тайне?
— Ручаюсь.
Рашид немного помолчал, сел и продолжил рассказ.
— Моя история весьма печальна, и при вполне обыденная. Много лет назад я поехал с отцом на ярмарку в Кербелу и там познакомился с одной девушкой-армянкой, которая стала светом моих очей. Однажды я набрался смелости и решился послать ей стихи, сложенные в ее честь. На другой день она вернула пергамент с исправленными ошибками. Мы стали переписываться, а потом тайно встретились. До сих пор не могу понять, почему, но она тоже меня полюбила. Я хотел попросить ее руки, но наши семьи враждовали. Да и без этого нас разделяло слишком многое, и прежде всего, вера: я был христианином несторианской церкви, а она — мусульманкой. В последний день ярмарки мы поклялись друг другу в вечной любви, и нас разлучили. Через несколько месяцев один черкес, направлявшийся в Вавилонию, передал мне от неё письмо. Она писала, что собирается бежать и просит меня дождаться ее, чтобы бежать вместе. С тех пор я не покидал этих мест. Я пытался что-то узнать о ней, но безуспешно. Никто ничего не знал о ней, она словно в воду канула, — голос его прервался, и слеза скатилась по тёмной от загара щеке. Он отер ее рукавом и продолжил: — Но что-то мне подсказывает, что она жива и однажды вернётся. Теперь вы понимаете, почему я не хочу покидать эти места? Если я уеду, то потеряю последнюю надежду когда-нибудь встретиться с ней.
— Как я вас понимаю! Я и сам знаю, что такое любовь. Это как болезнь, нет ничего мучительнее, чем быть влюблённым. А что разлучило вас с братом?
— Вы не поверите, но тоже любовь. Правда, любовь совершенно иного рода. Настолько иного, что едва не стоила ему жизни. Хасану пришлось поспешно бежать.
— И причиной тоже была ее семья?
— Нет, его собственная. Родня хотела его убить. Дело в том, что мой брат Хасан — содомит, а его возлюбленным был юноша, с которым он познакомился в Киркуке. Как вы сами понимаете, он никогда не сможет сюда вернуться. Кланы и племена никогда не простят такого позора. Поэтому он прожужжал мне все уши, уговаривая переехать к нему. Собственно говоря, это и есть та причина, почему я не могу доверить ему тайну греческого огня. У него никогда не будет детей, он живет один, его отверг собственная родня, и он никогда не сможет вернуться. Он так и умрет — на чужбине и одинокий.
Марти поклялся свято хранить тайну. Спустя неделю он отправился в обратный путь, увозя с собой заветный рецепт с точным соотношением ингредиентов. В Месопотамии он расстался с Марваном, заключив с ним договор. Марти поручил верному погонщику верблюдов найти гончаров и заказать им сосуды особой формы, вроде античных амфор. Сосуды должны были иметь заостренной дно, чтобы удобнее погружать в песок, в котором, во избежание пожаров, их предстояло перевозить в трюмах кораблей. После того как в Барселону привезут первую партию черной жидкости, Марти предстояло найти другие корабли, чтобы обеспечить непрерывную доставку груза. Марвану он заплатил вперед — за первую партию и первый год работы.
61
Большие несчастья
Лето 1055 года
Эрмезинда Каркассонская дремала, откинувшись на подушки кареты, под мерный перестук копыт, скрипи рессор и пронзительный свист возницы. Ее терзали сомнения, хотя в глубине души она понимала, что для Барселонского графства было бы лучше, если бы Его Святейшество отменил отлучение, однако ненависть к шлюхе и самозванке мешала графине принять решение. Именно поэтому она и отправилась в монастырь Сан-Мигель-де-Кюкса, чтобы посоветоваться с верным другом, епископом Гийемом де Бальсарени, полагаясь на его рассудительность и непредвзятость.
Возница придержал лошадей, и колеса кареты застучали по мощеному двору аббатства, объявляя об окончании путешествия. Отдернув кожаную шторку, графиня выглянула в окно, невольно восхитившись красотой стен царственной и величественной обители.
Слуга соскочил с запяток и бросился открывать дверцу, а форейтор держал под уздцы двух передних лошадей. С поводьев падала пена, лошади тревожно ржали, нервно перебирая ногами.
Брат-привратник, потрясенный прибытием столь важной гостьи, потянул за веревку колокола, оповещая всю братию. Монахи, побросав дела, кинулись на зов колокола — из сада, из трапезной, из часовни, из библиотеки. К тому времени, как Эрмезинда, опираясь на посох, добралась до центра двора, навстречу ей уже спешил епископ, расталкивая столпившихся под аркой главных ворот монахов.
Епископ остановился рядом с графиней, и она склонилась над его рукой.
— Сеньора, зачем же вы ехали в такую даль? — воскликнул он. — Вы же знаете, что я всегда готов приехать к вам по первому зову!
— Сеньор, не заставляйте меня чувствовать себя старухой. Я, конечно, не столь молода, но ещё в состоянии проехать несколько лиг, когда мне нужен ваш добрый совет. Если бы не мое проклятое колено, я бы приехала верхом на моем любимом белом муле.
— Я никогда в этом не сомневался, но зачем так утруждаться, зная, что я и так прибуду по первому зову?
— Быть может, я просто хочу обмануть свои бедные кости, заставить их поверить, что они по-прежнему молоды?
Слово за слово, они не спеша направились в сторону жилых покоев, где их встретил приор. Любезно поприветствовав графиню, он тактично удалился.
— Проводите меня в трапезную, аббат, и прикажите повару подать его знаменитое печенье с малиновым вареньем и парное молоко. Кстати, вам не приходит в голову, что именно за этим я сюда и приехала? Кладовой по-прежнему распоряжается брат Жоан?
— Разумеется, графиня, и скажу откровенно, именно он — настоящий хозяин обители. Когда месяц тому назад он слег с тяжелым бронхитом, вся братия питалась так скверно, что даже начала бунтовать. Мне пришлось наложить на них епитимью и строгий пост.
— В таком случае, давайте не будем терять времени и перейдем к цели моего приезда. Передайте ему, что графиня проделала столь долгий путь ради удовольствия насладиться его деликатесами.
Как следует подкрепившись, они посетили часовню, после чего аббат проводил Эрмезинду в библиотеку, где наконец приступил к обсуждению щекотливого вопроса, который, собственно, и являлся истинной целью приезда графини.
— А теперь, сеньора, расскажите, что на самом деле заставило вас отправиться в столь утомительное путешествие? — спросил епископ.
Эрмезинда, еще уставшая с дороги, начала издалека.
— Мой добрый Гийем. С тех пор как скончался Олиба [26], я доверяю только вам, а знаете почему? Потому что ваше сердце свободно от земных страстей, вам наскучила мирская суета, и мне известно, что самое горячее ваше желание — удалиться в Монтсеррат и стать отшельником. Поэтому я считаю ваши советы беспристрастными и не имеющими тайных целей, поскольку вами руководит лишь здравый смысл и желание помочь.
— Вы переоцениваете меня, графиня, но все же вы правы: единственное, что мною руководит — это желание служить вам и графству.
— В таком случае, друг мой, начну сразу с главного. Я не стану пересказывать вам всю историю, она и так хорошо известна. Как вы знаете, встреча с Папой принесла плоды, он отлучил от церкви моего внука и его любовницу. Но это были еще цветочки. Власть графа пошатнулась, и в итоге на свет вылезли многие трудности, которые давно уже подспудно зрели. Но я старею, и мне бы не хотелось после стольких лет борьбы покинуть этот мир, оставляя за спиной распри, которые могут серьезно повредить Барселоне. Но это лишь одна сторона медали. А другая... Я ненавижу гарпию, лишившую моего внука разума.
— Если вас интересует мое мнение...
— Позвольте мне закончить, епископ, — оборвала его графиня. — А уж потом выскажете ваше мнение. Они присылали ко мне гонцов, и не один раз. Делали заманчивые предложения, особенно учитывая, что иначе после моей смерти разразится война, и в конечном счете Жиронское и Осонское графства все равно перейдут к Рамону. Если же я откажусь от своих прав при жизни, вознаграждение будет столь значительным, что я смогу обеспечить все монастыри графства.
— В таком случае, сеньора, вот мой совет: разумеется, вы должны согласиться, да продлит Господь ваши дни на долгие годы.
— Рассудок говорит мне то же самое, — призналась Эрмезинда. — Но сердце велит сопротивляться до конца, а уж после моей смерти — будь, что будет.
— Вы поступаете неразумно... Но, если позволите, я бы хотел добавить ещё кое-что.
— Для этого я и приехала, мой добрый епископ.
— Ну что ж, сеньора. Я пока ничего не могу сказать о детях Альмодис — они ещё слишком малы — но вынужден заметить, что если, паче чаяния, графство Барселонское окажется в руках первенца вашего внука, ничего хорошего ждать не стоит.
— Вы не сказали ничего нового, епископ. Педро Рамон, первенец Рамона и Изабеллы — слывёт сумасбродным, вспыльчивым и жестоким человеком. Все это — далеко не лучшие качества для правителя.
— Вот и я о том же, сеньора. Жизнь — штука долгая, и если окажется, что кто-то из юных графов обладает необходимыми властителю качествами, то вполне можно закрыть глаза на их происхождение ради блага графства и счастья его жителей. Такое уже не впервые случается на нашей памяти.
— Не сыпьте мне соль на рану, епископ, — взмолилась графиня. — Лично я считаю эту женщину сатаной в юбке, однако все твердят, что никогда графство Барселонское не имело столь разумной правительницы.
— В таком случае, сеньора, что вас смущает?
— Ну как вы не понимаете, мой добрый Гийем? Мужчины неспособны рожать, этот механизм дарован Господом только женщинам, а это значит, что на решения женщины всегда будут влиять яичники, и неважно, молодая она или старая, принцесса или плебейка, или вовсе монахиня...
Прелат покраснел.
— Не смущайтесь, Гийем, вы как всегда правы. Пожалуй, мне тоже пора подумать головой, а не нутром.
62
Снова в Барселоне
Стоя на носу «Святого Бенедикта» — поближе к Барселоне — Марти смотрел на горизонт, стараясь разглядеть осенний пейзаж сквозь окутавший берега утренний туман. Казалось, целая вечноть миновала с тех пор, как он покинул город. За это время произошло столько событий, что в дневнике, куда он записывал свои мысли, достижения и особо важные события, не осталось ни единой чистой страницы. Прибыв в Сидон, он не упустил возможности повидаться с Йешуа Хасаном, вновь поблагодарить его за мудрый совет и рассказать о своих приключениях и планах, умолчав лишь о греческом огне, тайну которого поклялся свято хранить.
Глава гильдии поздравил его с успешным возвращением и, предложив посильную помощь во всем, что касается денег или связей, передал три письма, привезенные капитаном одного из кораблей, что вели дела с могущественной еврейской общиной Сидона. Первое письмо, написанное год назад, было от Лайи, второе — от Омара, его управляющего, а третье — от Баруха Бенвениста. Едва Марти удалось уединиться в отведенной ему комнате, он тут же принялся читать письма. Разумеется, начал с письма от любимой.
Прочитав письмо, Марти был ошеломлен и обескуражен, он перечитывал его снова и снова, пытаясь понять, что случилось. Тщетно пытался он найти объяснение странному письму: возможно, все дело в его слишком долгом отсутствии, ведь как-никак прошло почти два года, а долгая разлука едва ли способствовала укреплению чувств девушки. Ведь Лайя еще совсем молода, а Барселона полна соблазнов. Однако потом, прочитав письмо Омара, Марти присмотрелся и заметил несколько признаков, говорящих о том, что письмо Лайи содержит скрытое сообщение.
Вот что писал его верный управляющий:
Писано в Барселоне, 10 октября 1054 года.
Уважаемый хозяин!
Сеньор Бенвенист был настолько любезен, что составил для меня это письмо, так что я могу вам рассказать, как обстоят дела.
Прежде всего, должен сообщить, что наше дело процветает и с каждым днем приносит все больший доход, я даже решился попросить помощи у Андреу Кодины, поскольку мне одному просто не справиться. Ведь нужно и заключать договора с землевладельцами о покупке урожая, и присматривать за мельницами и виноградниками в Магории, и разбирать споры из-за воды, порой возникающие между нашими арендаторами, как вы мне и наказывали, и вести дела с доном Барухом Бенвенистом, и наблюдать за строительством корабля, который, по словам капитана Жофре, уже спущен на воду и готов к отплытию. Одним словом, время бежит быстро, я встаю в шесть утра, ложусь за полночь, и все равно ничего не успеваю.
Следуя вашим указаниям относительно сеньора Баруха, я отдал ему соответствующий процент, а он, конечно же, поинтересовался, когда вы вернетесь. Произошло и кое-что странное — письмо от известной вам особы мне передала не Аиша, как было заведено. Его мне вручила совершенно незнакомая женщина, и она, сказать по правде, крайне мне не понравилась. Перед уходом она спросила, нет ли у меня писем для ее госпожи. Как вы и наказывали, я ответил, что не вникаю в эти дела, у меня и так хватает забот, а все письма, что приходят в этот дом, я складываю в ящик до возвращения хозяина. Так она и ушла — несолоно хлебавши.
Почти ежедневно я вижусь с доном Барухом Бенвенистом, и каждый раз беседы с ним доставляют мне истинное удовольствие. Благодаря его рассудительности и обширным знаниям я многому научился. За эти дни, общаясь с жителями Каля, я многое понял. Время от времени я также вижусь с капитаном Жофре, и был весьма доволен вместительностью трюма вашего корабля. Он поистине бездонен, скажу я вам. Мне это показалось мелочью, но капитан явно другого мнения. Кстати, я слышал, он уже набирает команду. Он подошёл к этому делу серьёзно и не стал набирать матросов по тавернам, притонам и портовым постоялым дворам, как другие капитаны. Он сказал, что нужны не пьяницы, а настоящие морские волки, с которыми не страшен никакой шторм.
Правда, люди, которых я видел на палубе, показались мне довольно-таки подозрительными: покрытые шрамами лица, головы в платках, кольца в ушах и другие тому подобные вещи. Однако, по словам Жофре, все они — настоящие моряки, люди проверенные и надежные.
Ну вот и все, хозяин. Желаю вам удачи и с нетерпением жду вашего возвращения.
Передаю вам привет от всех обитателей нашего дома.
Омар
Марти долго и задумчиво вертел в руках письмо. Затем, вновь перечитав письмо Лайи, вдруг понял, что ему показалось странным. Отсутствие крошечного крестика на верхнем поле, цвет чернил, которые всегда были зелёными, а теперь — чёрными, и, наконец, отсутствие запаха розовой воды, что так будоражил его воображение. Он вспомнил, что предыдущее письмо Лайи, полученное перед самым отъездом, было полно надежд, а от этих строк веяло глубокой печалью. Он с печалью перечитывал письмо снова и снова, стоя на носу «Святого Бенедикта» — четвёртого корабля, на котором он возвращался в Барселону после трёх пересадок. После возвращения Марти предстояло много чего выяснить.
Третье письмо было от Баруха. По-деловому сдержанная манера его письма вызывала у Марти чувство восхищения перед этим незаурядным человеком.
Январь 1055 года
Уважаемый брат!
Пишу в надежде, что это письмо попадет в ваши руки, поскольку уверен, что по возвращении в Сидон вы почти наверняка остановитесь в доме Хасана, который вам его и передаст.
А теперь позвольте пожелать вам всего наилучшего и рассказать о здешних делах, несомненно касающихся нас обоих. Во-первых, сообщаю, что ваше судно уже готово, команда набрана, а первая партия грузов загружена в трюм. Снимаю шляпу перед вашей осмотрительностью: весьма благоразумно, что вы решили пуститься в предварительное плавание, побывать в средиземноморских портах и изучить список грузов, разрешенных к ввозу и вывозу. Вы обладаете чутьем прирожденного дельца, и я не сомневаюсь, что, если будет на то воля Провидения, мы многого добьемся. Согласно вашим указаниям, я передал вашему капитану, как вы хотите назвать свой корабль, и он согласился, что нельзя и придумать лучшего названия, чем «Эулалия», в честь покровительницы нашего города. Мы разбили о борт корабля бутылку лучшего вина, и наш общий друг освятил и благословил его.
В графстве царит настоящая смута, раздоры нашего графа и графини Альмодис с графиней Эрмезиндой Жиронской все никак не закончатся. Это сильно вредит торговле — одни держатся одной стороны, другие — другой. Тем не менее, жизнь продолжается, несмотря ни на что, поскольку страдания и невзгоды заставляют людей волей-неволей искать выход из положения, и каждый как может борется за место под солнцем, так что графство все равно растет и процветает, пусть даже скорее вопреки усилиям его властителей, чем благодаря им.
По вашему указанию, я передал через моего дворецкого одному высокопоставленному сеньору — не буду называть его имени, вы и так знаете, замечу лишь, что он весьма не любит мой народ — так вот, я послал ему значительную сумму в манкусо, как вы и велели в своем последнем письме. Тем не менее, должен заметить, что считаю излишним и весьма обременительным позволять ему запускать руки в ваш карман.
Горячо обнимаю вас и передаю вам столь же горячий привет от моей дочери Руфи, которая, узнав, что я пишу вам письмо, теперь не оставляет меня в покое, желая напомнить вам о себе.
Барух Бенвенист
63
Амбиции
Рамон Беренгер I, прозванный Старым, был единственным из каталонских графов, чей титул, Comes Civitatis Barsinonensis, восходил ещё ко временам вестготских королей. Под его властью находились три графства: собственно Барселона, Жирона и Осона. В первом и главном среди них, он был настоящим хозяином, в двух других — чисто номинальным. Проблема состояла в том, что у него на пути стояла родная бабка, грозная Эрмезинда Каркассонская, отречения или смерти которой пришлось бы ждать ещё долгие годы, чтобы получить полную власть.
Старая дама хорошо подстраховалась, отдав в своё время руку своей дочери Эстефании, тетки Рамона Беренгера I, нормандцу Роже де Тоэни в обмен на преданность свирепых нормандцев ее интересам. Правда, цена за эту преданность оказалась слишком высока для несчастных подданных, особенно жиронцев, страдающих от произвола нормандской солдатни. Так или иначе, Рамон Беренгер I, хоть и носил официальный титул графа Барселонского и Жиронского, не обладал реальной властью в графстве. Его вражда с бабкой, графиней Эрмезиндой, имела немало причин, и почти все они уходили корнями в далёкие времена, хотя во многом проблему усугублял ещё и характер старой дамы.
А между тем, графиня Альмодис де ла Марш, безраздельно царившая в его сердце, стала истинной властительницей Барселоны. Это она правила от имени графа железной рукой в бархатной перчатке. Амбиции ее были безграничны. Всеми доступными средствами она стремилась обеспечить свое будущее и будущее своих сыновей-близнецов, рожденных от греховной связи с Рамоном Беренгером Барселонским — на тот случай, если судьба окажется к ней неблагосклонной и граф отвергнет ее так же, как отверг предыдущую жену.
С первой минуты первенец Рамона и его мачеха откровенно невзлюбили друг друга. Педро Рамон считал, что Альмодис попрала его права и оттеснила на задний план, и к тому же вообразил, будто бы она строит планы, как лишить его права на отцовское наследство и передать его одному из своих обожаемых близнецов, его единокровных братьев. Вражда длилась вот уже три года и с каждым днём становилась все более очевидной. Крики, свары, хлопанье дверей уже давно не удивляли никого во дворце, а встречи между мачехой и пасынком с каждым разом проходили все более напряженно.
В то спокойное утро, казалось, ничто не предвещало надвигающейся бури, однако все чувствовали витающую в воздухе опасность. Двор жил своей обычной жизнью. Придворные сновали туда-сюда, занимаясь своими делами, и лишь непривычное безмолвие, в которое погрузился дворец, говорило о тревожном ожидании близкой грозы. Лионор, первая придворная дама Альмодис, по приказу госпожи вместе с Дельфином возилась в розарии, когда из открытого окна внезапно послышались истошные крики и проклятия. Затем до неё донёсся рассерженный голос госпожи.
— Я уже сыта по горло вашими претензиями! Один Бог ведает, чего мне стоит выслушивать ваши ежедневные нападки и оскорбления. Мой духовник, падре Льобет, которому я поверяю все сомнения и тревоги, тому свидетель.
— Нет, сеньора, это я вынужден терпеть ваши козни против законного наследника отца, которым я являюсь по праву первородства! — донеслось в ответ.
— Никто даже не думает посягать на ваши права, напротив, ваш отец собирается отдать вам владения, приличествующие вашему положению и заслугам. Вы имеете право на те владения и замки, которые он сам получил в наследство от предков, но не на те, которые он захватил в сражениях, купил или получил в результате дипломатических переговоров. Так что, надеюсь, мы сможем решить дело миром. Мой духовник советует...
— Сеньора, я не желаю ничего слышать о ваших поползновениях, якобы подкреплённых поручительством вашего духовника. Вы отлучены от церкви и не имеете права приобщаться к священным таинствам, а если падре Льобет, несмотря на это, все же соглашается вас исповедовать — значит, он не священник, а просто продажная шкура. А потому умоляю вас, не пытайтесь подкреплять ваши интриги лицемерными высказываниями вашей ходячей тени, которая, в конечном счёте, не что иное, как продолжение тени моего отца.
Лионор, хорошо знающая свою хозяйку, живо представила, как в эту минуту, когда между противниками воцарилось недолгое молчание, вздуваются вены у неё на шее, как наливается пунцовым румянцем ее лицо. Затем голос ее сеньоры зазвучал вновь — гневный и непреклонный.
— Педро, имейте в виду, когда-нибудь мое терпение лопнет. Ваш отец выкупил для вас права на титул графа Каркассона и Разе, и я полагаю, учитывая ваши прежние доблести, этого более чем достаточно для любого высокородного дворянина, даже такого амбициозного, как вы. Так что советую не злоупотреблять отцовским великодушием: эта струна и так уже натянута до предела.
— Ах, вот оно что! Вы намерены вышвырнуть меня из дома и сослать в Каркассон? Вы угрожаете мне, сеньора? В таком случае, скажите на милость, кто станет наследником Барселоны и Жироны? Ваши близнецы? Или, точнее сказать, один из них, ваш любимчик... Разумеется, Рамон, ясное дело... Вы намерены попрать мои права, чтобы посадить на графский трон одного из ваших бастардов.
— Я не позволю вам говорить в таком тоне о братьях!
— Чего это вы мне не позволите, сеньора? Какое ещё слово я должен употребить в этой ситуации, учитывая вашу блудную жизнь? Насколько я знаю, дети, рождённые шлюхой вне брака, называются бастардами, и больше никак. Так что это не я их так назвал. Заметьте, я уважаю благородную кровь моего отца, и лишь из почтения к нему не назвал их ублюдками.
— Убирайтесь с моих глаз, или я прикажу страже вышвырнуть вас вон!
Учитывая взрывной темперамент первенца Рамона, скандалы во дворце не стихали ни на минуту. Отлучение, висящее над графской четой, не оставляло ей даже надежды на желанную свадьбу. Ко всему этому добавлялась еще и открытая враждебность бабки Рамона Беренгера, грозной Эрмезинды Каркассонской. Придворные молча наблюдали за бурей, стараясь не вмешиваться и не выказывая открытого предпочтения ни той, ни другой стороне, поскольку никто не мог предугадать, кто одержит верх, и все боялись просчитаться. У графини Альмодис было лишь трое по-настоящему верных союзников: карлик Дельфин, придворная дама Лионор и ее духовник падре Льобет, считавший, что, если власть окажется в руках первенца, Барселону ждут тяжелые времена.
— С каждым днём над головой нашей сеньоры все сильнее сгущаются тучи. Боюсь, ей грозит беда.
Так однажды сказала Лионор, не находящая себе места от беспокойства. Дельфин в эту минуту сидел на ступеньке, выстругивая деревянную лошадку, которую собирался подарить маленьким графам.
— Не знаю, когда это случится, но рано или поздно в этих стенах произойдёт трагедия, — сказал он.
— Это предзнаменование или просто ваше мнение? — спросила Лионор.
— Когда-то это было лишь смутным предчувствием, но теперь оно превратилось в твёрдую уверенность.
— Госпожа знает?
— С той самой минуты, как маленькие графы появились на свет.
— Это ужасно!
— На самом деле все ещё хуже. Во дворце случится большое несчастье, но ещё худшая беда разразится над графством. Нас ждут долгие дни войны, пожаров и слез.
— Как вы можете быть в этом уверены?
— Это мой дар: видеть будущее. Госпожа в этом уже не раз убеждалась.
— Неужели беду не предотвратить?
— Никто не может ничего сделать. Чему суждено, того не миновать.
— А я не очень-то верю в предвидение.
— Почему же вы тогда столь свято верите пророчествам из Священного Писания? — ехидно поинтересовался карлик.
— Потому что так велит церковь.
Дельфин покачал коротенькими ножками, отряхнул с колен щепки и соскочил со ступеньки.
— Ну, что ж, — сказал карлик, — каждый сам выбирает, во что верить, но мои слова — такая же истина, как то, что я стою сейчас перед вами. Повторяю: наступают ужасные времена, но мы останемся вместе. Вот только служить будем другому хозяину.
— Сеньора знает об этом?
— Если бы я посмел скрыть от неё подобные вещи, я бы сейчас с вами не беседовал.
64
Искупление грехов
Этим октябрьским утром падре Льобет отправился в соборную библиотеку, чтобы покопаться в древних манускриптах и пообщаться с братьями, которые работали не покладая рук, стремясь обогатить библиотеку Пиа-Альмонии новыми сокровищами. Здесь трудилась целая команда. Двое братьев разбирали наваленные ворохом козьи и овечьи кожи, определяя, какая на что пойдет. Один погружал кожи в раствор извести, чтобы удалить с них грязь, жир и остатки шерсти, второй вынимал вымоченные шкуры и, растянув их на твердой квадратной доске, тер и скоблил куском пемзы, чтобы размягчить.
Затем предстоял сложный процесс, после завершения которого кожи превращались в пергамент. Листы, где позднее будет написан священный текст, при помощи линейки и циркуля, размечались горизонтальными линиями, чтобы строчки были ровными, и маленькими точками по краям, чтобы расстояние между строками было одинаковым.
Затем их раскладывали на больших столах, дважды окунали в воду, после чего решали, станет ли тот или иной пергамент страницей книги или документом, и уже потом переписчики старательно выводили на пергаментах священные тексты, позже попадающие в руки корректоров, исправляющих ошибки, аккуратно соскабливая написанное или обесцвечивая чернила слабым раствором кислоты, чтобы поверх написать заново. После этого пергамент оказывался в руках красильщиков, она раскрашивали заглавные буквы и заставки красной или золотой краской. И, наконец, к работе приступал художник, который рисовал узорные рамки и украшал заглавные буквы замысловатыми арабесками.
Для этого использовали красный свинец и другие краски, синие и зеленые, растительные и минеральные. Для получения некоторых красок использовались даже толченые самоцветы, а кое-где рисунки покрывались тончайшим слоем сусального золота. После этого листы сшивались в книгу.
Эудальд Льобет как раз обсуждал с библиотекарем падре Винсентом особенности перевода Аристотеля, когда ему сообщили о приходе посетителя, дожидающегося в приемной. Падре Льобет, попрощавшись со своим братом во Христе, направился к выходу, раздумывая, кто мог явиться к нему без предварительной договоренности. Шагая по длинному коридору в сторону приемной, он еще издали заметил молодого человека, который внимательно разглядывал две картины, украшающие стены приемной.
В облике гостя ему почудилось что-то знакомое. Молодой человек стоял к нему боком. Он был хорошо одет: в темно-бордовый бархатный камзол до середины бедер, шерстяные чулки цвета старого золота, сапоги из кожи жеребенка, а на голове — миланский берет. Однако, падре Льобету ему подойти ближе и увидеть лицо посетителя, как сердце священника учащенно забилось. Этот нос и квадратный подбородок с аккуратно подстриженной бородкой вызвали в его памяти другие черты — далекие и при этом столь близкие. Падре Льобет чуть не потерял самообладание, что было почти немыслимым в таком месте, где царили мир и покой. Хриплым от волнения голосом он воскликнул, не веря своим глазам:
— Марти! Вы же Марти?
Молодой человек, услышав свое имя, резко повернулся и, швырнув берет на диван для посетителей, бросился объятия священника. Они крепко обнялись и долго стояли, не произнося не слова. Затем падре Льобет взял Марти за плечи и пристально посмотрел ему в лицо. Увиденное его поразило. Вместо прежнего юнца, покинувшего Барселону два года назад, на него смотрел живой портрет его друга-воина. В чертах появилась решительность, движения стали сдержаннее, а взгляд — загадочным.
— Когда вы вернулись?
— Мой корабль бросил якорь вчера вечером в порту Монжуик, — ответил Марти. — У меня накопилось множество вопросов, но за исключением желания поскорее увидеться с Лайей, я ни о чем так не мечтал, как о встрече с вами.
Взяв Марти под руку, священник отвел его в дальний угол, где они могли спокойно поговорить.
Они удобно устроились в уютных креслах по обе стороны двустворчатого окна, и приступили к столь важному разговору.
— Расскажите сначала, как прошло ваше путешествие?
— О, чтобы рассказать о нем, не хватит и нескольких вечеров, — ответил Марти спокойным тоном, так хорошо знакомым канонику. — Пожалуй, моих приключений хватит на целый том воспоминаний.
— Ну, в таком случае, когда-нибудь надо начать. Так почему не сегодня?
Марти пришлось потратить немало времени, рассказывая священнику о перипетиях своего путешествия. Падре Льобет то и дело прерывал его, заостряя внимание на той или иной детали. К концу рассказа священник составил более или менее полное представление о приключениях сына своего друга.
— Когда будет время, мы подробно обсудим греческий огонь, — сказал священник. — Я давно уже им интересуюсь. Любопытство заставляло меня, пользуясь положением архидьякона, просиживать в библиотеке бесконечные часы, изучая древние свитки и рукописи, в поисках состава этого чуда, но я смог лишь узнать, что рецепт утерян во тьме веков. Кстати, вам не приходило в голову предложить этот состав королю или другому правителю?
— Все дело в том, что я могу использовать это достижение лишь во благо людей, — признался Марти.
— Ну, если вы собираетесь использовать эту маслянистую черную жидкость лишь как источник света или топливо, думаю, вам не составит труда убедить всех, что больше она ни на что не годится. Но никому не раскрывайте тайну состава. В мире есть немало тайн, о которых человечество не должно знать, пока не достигнет необходимого уровня развития, а мой опыт подсказывает, что властители достигают зрелости и мудрости даже позже простых людей. А теперь скажите: вы уже виделись с Барухом?
— Пока нет. Вы для меня важнее. Завтра я займусь делами с Омаром. Это нельзя отложить. Судя по новостям, которые мне передал Омар, мой корабль уже отплыл с полными трюмами и указаниями, что и где продавать. Жофре — отличный моряк, мне сказали, что он тщательно отбирал команду и уложился в нужные сроки. Что может быть лучше? Я даже подумываю продать одну из мельниц в Мегории и вложить деньги в постройку еще двух кораблей. Конечно, я благодарю вас за то, что освятили мой корабль. Я чувствую, что имя «Эулалия» принесет ему удачу.
— Не стоит благодарности.
После долгого разговора оба ненадолго замолчали. У Марти пересохло во рту, стоило ему наконец перейти к главной цели своего визита.
— А теперь прошу вас, расскажите, что случилось с Лайей.
Священник поразился, с какой решимостью приступил Марти к щекотливой теме.
— Хорошо, — ответил он, — но сначала скажите: почему вы спросили об этом у меня, а не у ее отчима, что было бы намного естественней?
— Ее лицо все время стояло у меня перед глазами, пока я путешествовал. Я уже не мальчик. Если я хочу преуспеть в этом городе, то поверьте, не для того, чтобы разбогатеть. Вы давно знаете причину, почему я мечтаю стать гражданином Барселоны, а потому первым делом, сойдя на берег, я заглянул домой, чтобы переодеться, после чего сразу отправился в дом Монкузи.
— И что он вам сказал?
— Я не застал его дома. Его дворецкий сообщил, что советника в ближайшее время не будет в городе, но он велел мне передать, что в случае необходимости я могу обратиться к вам. И вот я здесь.
Падре Льобет, уже знающий от Берната о содержании письма, с величайшей осторожностью обдумывал каждое слово, прежде чем сообщить Марти ужасную правду.
— Вы правы, — вздохнул он. — В какой-то мере я выступаю в роли посредника. Но сначала позвольте спросить: получили ли вы письмо Лайи? В наше неспокойное время многие письма теряются в пути.
Марти запустил руку в потайной карман и, достав оттуда письмо, протянул его священнику.
— Получил, как видите. Прочтите его, а потом я объясню, что мне здесь показалось странным.
Священник внимательно изучил выцветший пергамент, и, прежде чем высказать своё мнение, спросил, у Марти:
— И что вас смущает?
Марти откровенно изложил свои сомнения: у него было достаточно времени поразмыслить об этом на пути домой.
— Я много об этом думал... Ясно одно — она явно что-то хотела мне сказать, вот только не знаю, что именно.
— Расскажите мне, что странного вы здесь обнаружили.
— Судите сами. Прежде Лайя всегда писала зелеными чернилами, а это письмо написано черными. Во-вторых, все письма она душила розовой водой, а это ничем не пахнет. Только не пытайтесь меня убедить, что запах просто выветрился со временем: другие письма написаны раньше, однако до сих пор пахнут розами. А значит, на этот раз она либо не смогла воспользоваться духами, либо почему-то не захотела. Наконец, обратите внимания: она всегда ставила крестик на верхнем поле — в знак того, что является доброй и благочестивой христианкой — а здесь его нет. Поверьте Эудальд, Лайя что-то хотела мне сказать, вот только я не умею читать между строк.
Внимательно выслушав доводы Марти, каноник заговорил:
— Не стану скрывать, я говорил с Монкузи. Однако мой богатый опыт работы с манускриптами подсказывает, что она хотела сказать не совсем то, что подумали вы.
— Так скажите мне наконец, что вы здесь увидели, и что, по-вашему, это означает, — взмолился Марти.
— Я думаю, что Лайя действительно отправила вам два сообщения: явное и тайное. То, что она сменила цвет чернил, может означать следующее: раньше она писала зелёными чернилами — а этот цвет, как известно, означает надежду. Теперь же чернила чёрные, и это значит, что она больше не видит для вас общего будущего. Вместе с отсутствием креста на верхнем поле это может говорить о том, что она теперь считает себя отверженной церковью. — Видя, что Марти уже открыл рот, желая возразить, священник остановил его решительным жестом. — И, наконец, отсутствие запаха розовой воды говорит о том, что не хотела ничем напоминать вам о себе, даже запахом, дабы вы поскорей ее забыли.
— Я вас не понимаю! — воскликнул Марти, с трудом сдерживая гнев. — Как могло случиться, что столь доброе и невинное создание так прогневало церковь?
Льобет понимал, что ему придется призвать на помощь все свое красноречие, чтобы выполнить возложенную на него задачу. Много дней он ломал голову над этой проблемой. В конце концов он решил не говорить пока Марти о ребенке, рассудив, что сказать о нем всегда успеет, тем более, если советник решит сам усыновить малыша.
— Вас не было почти два года, — произнес наконец священник. — За это время нивы дважды дали урожай, а розы дважды роняли лепестки и распускались снова. Вы оставили ее почти ребёнком, а теперь она стала цветущей молодой женщиной.
— Прошу вас, перестаньте говорить загадками. Скажите прямо.
— Я все вам расскажу, но сначала ответьте: вы согласны жениться на Лайе при любых обстоятельствах?
— Я готов жениться на ней хоть завтра, если она согласна, — воскликнул Марти с горящими от волнения щеками.
— В таком случае, слушайте. Случилось кое-что непредвиденное. Иными словами, человеческая природа явила миру худшие свои стороны.
Сидя на краешке стула, Марти жадно ловил каждое слово священника.
— Один женатый мужчина, чьё имя дону Бернату неизвестно, хотя он подозревает, что этот человек— сын знатного дворянина, обесчестил вашу Лайю. Ее отчим утверждает, что девушка отказывается назвать его имя. В письме, которое она вам написала, Лайя хотела сказать, что по— прежнему любит вас и признает свою ошибку, но больше не считает себя достойной вашей любви. Именно поэтому она и использовала чернила другого цвета. Она умоляет вас забыть ее, считая, что так будет лучше для вас. Она чувствует себя оскверненной и подлой изменницей, именно поэтому она не поставила крест на письме. Дон Бернат предлагает вам руку своей дочери, поскольку считает вас молодым человеком с большим будущим. При этом он понимает, что найти для неё жениха среди дворянства едва ли удастся: слишком сложно будет объяснить утраченную невинность его падчерицы.
Услышав эти слова, Марти едва не лишился дара речи. Холодный пот заструился у него по спине, а в горле застрял комок, не давая сказать ни слова.
— Я люблю Лайю, — едва выговорил он. — Она и сейчас для меня так же чиста и желанна, как в день нашего знакомства. Любовь познаётся в несчастьях и испытаниях. И если она меня ещё любит, я готов жениться на ней, пусть даже она оступилась.
Тогда Эудальд Льобет добавил:
— Я и не ожидал иного ответа от сына вашего отца. И я уважаю ваше решение. Я не сказал этого раньше, чтобы не оскорбить вас предположением, будто вас пытаются купить. Дело в том, что Монкузи хочет попросить графа сделать вас гражданином Барселоны.
— Сейчас мне совершенно неважно, каким титулом меня будут именовать. Для меня главное — быть вместе с Лайей, если не здесь, то в любом другом уголке мира. Скажите советнику, что я принимаю его предложение.
65
Сальент
От прежней Лайи осталась лишь тень. Дни проходили за днями, не оставляя в памяти никакого следа. Казалось, она уже не вполне осознавала, сколь ужасное несчастье ее постигло. Мысли ее метались из мечты в реальность, словно маятник, в такие минуты она даже не слышала, когда к ней кто-то обращался. Несмотря на молодость — ведь ей не исполнилось еще и семнадцати — у Лайи начались странные провалы в памяти. Слуги шептались, что ее сразила та же болезнь, что когда-то свела в могилу ее мать.
Из Барселоны ее перевезли в Сальент в дорожной карете Монкузи, в сопровождении небольшой охраны, лекаря, акушерки и, само собой, дуэньи. Эдельмунда сообщила ей, что им приказано оставаться в Сальенте, пока Лайя не разрешится от бремени, поскольку о ее положении никто не должен узнать. Для Лайи уже приготовили покои, выходящие окнами во внутренний дворик с высокими стенами, внутри росли цветы и вечнозеленые деревья, призванные скрасить ее досуг. Там она проводила в одиночестве долгие часы, не видясь ни с кем, кроме лекаря, и чувствовала, как медленно сходит с ума, пока у нее внезапно не отошли воды и не начались схватки.
Почти два дня она провела в полузабытье. Приступы сильнейшей боли чередовались провалами в непроглядный туман, иногда Лайе казалось, что она видит стоящего у постели советника, который о чем-то беседует с лекарем, указывая на лежащий в колыбели сверток. Потом хлопнула дверь и установилась тишина. Когда Лайя пришла в себя, советника уже не было. Лекарь заставил ее проглотить какую-то травяную настойку, чтобы остановить выработку молока, а спустя три дня повитуха туго перебинтовала ей грудь, чтобы фигура в кратчайшее время приобрела прежние очертания.
Из ближайшей деревни доставили двух недавно родивших женщин, они по очереди кормили младенца грудью. Поначалу Лайя не желала видеть ребенка и даже не хотела знать, девочка это или мальчик. С другой стороны, ее удивляло, почему до сих пор ей ни единого слова не сказали о новорожденном, а стоит ей случайно коснуться этой темы, как все погружаются в угрюмое молчание. В конце концов любопытство взяло верх над неприязнью к ребенку, однако, стоило ей войти в детскую, где младенец мирно спал в колыбели, она с ужасом увидела, что у мальчика нет рук. При виде этого несчастья ее пронзило острое чувство вины: ей вдруг пришло в голову, что это — кара за ее грех, и расплачиваться теперь придется всю жизнь. Ведь как-никак, этот кусочек плоти — порождение ее чрева, и не его вина, что он родился уродцем.
Однако он уже одним своим существованием напоминал ей о перенесенных муках и несмываемом позоре. Жгучая ненависть терзала ее изнутри, охватывая нестерпимым огнем все ее существо при одной лишь мысли об этом несчастном создании. Видимо, эта ненависть оказалась настолько сильна, что в конце концов убила ни в чем неповинное существо: вскоре после рождения, прожив лишь две недели, несчастный ребенок испустил дух. После его смерти Лайя не ощутила ни боли, ни печали; однако в ее и без того уже затуманенном мозгу словно лопнула какая-то струна, и с этих пор ее стала преследовать неотвязная мысль: что у нее никогда больше не будет детей.
Ее ум то прояснялся, то вновь тонул во мраке. В минуты просветления она чувствовала, как раскаленный кинжал пронзает ее сердце. По ночам она вставала и выходила во двор в одной ночной сорочке, с развевающимися на ветру волосами, пугая караульных, переживших тысячи сражений, а теперь впадающих в панику при виде бродящей по дому призрачной тени. То, чего не удалось сделать маврам, легко сделало суеверие, и теперь их сердца трепетали от ужаса при мысли о блуждающих по дому призраках.
С наступлением сумерек Лайя частенько ускользала из-под надзора своей тюремщицы Эдельмунды, весь день не спускавшей с нее глаз. Поднявшись на крепостную стену, глядящую на запад, она вставала меж двумя зубцами и уносилась мыслями далеко-далеко. Она думала о своем возлюбленном и впадала в отчаяние, вспоминая, что ее заставили от него отказаться, и возможно, она больше никогда его не увидит.
Теперь ее отношение к Эдельмунде резко изменилось. У Лайи не осталось сомнений, что Аиша давно мертва, а значит, хуже уже не станет и терять ей нечего. А поскольку собственная судьба ее совершенно не волновала, она больше не скрывала своего презрения к этой гарпии.
— Сеньора, будьте любезны привести себя в порядок. Ваш отец прислал гонца с известием, что приезжает сегодня вечером.
Лайя побледнела. После родов она больше не видела Берната.
— Я не собираюсь наряжаться ни для твоего хозяина, ни для кого— либо ещё, — ответила Лайя. — Оставь меня в покое!
Дуэнья нехотя удалилась, что-то невразумительно бормоча себе под нос: никакого, мол, сладу не стало с этой сумасшедшей.
Лайя не находила себе места, раздумывая, чего опять хочет от неё этот мерзавец. Что, если его снова охватила порочная страсть и он вновь собирается овладеть ею? Ему нет ещё и сорока лет, а маленький уродец, которого она не желала и ненавидела ещё в утробе, умер, и теперь ее охватил ужас от одной мысли, что отчим может захотеть нового. Порой она готова была даже покончить с собой.
К вечеру приехал хозяин, а в скором времени Лайю вызвали к нему. Девушка предстала перед Бернатом Монкузи неприбранная, с растрепанными волосами, в халате, перехваченном на талии пояском, и арабских шлепанцах с загнутыми носами. Советник выглядел серьезным и весьма подавленным. При виде падчерицы он еще больше укрепился в своем решении. Необузданная алчность на этот раз оказалась сильнее похоти, которую когда-то возбуждало в нем это несчастное создание. Тем не менее, лихорадочный блеск в серых глазах этой женщины его пугал.
Лайя прошла мозаичному полу, не сводя с отчима жутковатого взгляда, и остановилась прямо перед ним, чувствуя, как у неё внутри все холодеет, как всегда в присутствии этого человека.
— Садись, — сказал он. — Я привёз новости, которые напрямую тебя касаются.
Девушка продолжала стоять, не сказав ни слова.
— Как мне сообщили, ты даже не пытаешься изображать скорбь после смерти нашего ребёнка.
Девушка немного помедлила, прежде чем ответить.
— Вы хотите сказать, вашего ребёнка? Других детей у меня не было.
— Каждая родившая женщина становится матерью, если я не ошибаюсь. И любая нормальная женщина должна все-таки переживать, потеряв своего первенца. Даже самки животных воют и стонут, не желая покидать умерших детенышей.
— Это если ребенок рожден от любви, а я не питаю к вам ничего, кроме бесконечного отвращения. Не стоит удивляться, что последствия ваших действий именно таковы.
В эту минуту Лайе вдруг подумалось, что, пожалуй, не стоит попусту злить отчима. С другой стороны, терять ей уже все равно было нечего: хуже уже не станет. Но каково же было ее удивление, когда оказалось, что отчим даже не думает сердиться!
— Мне непонятно твое ко мне отношение, — спокойно ответил советник. — Я, как честный человек, предлагал тебе свою руку, ты сама отказалась стать моей женой. А впрочем, в наших интересах забыть прошлые обиды и претензии. В конце концов, даже к лучшему, что ребенок умер: пути Господни неисповедимы. Веришь ты мне или нет, но я действительно желаю тебе добра и готов быть щедрым, если ты будешь слушаться и выполнять мои распоряжения.
Лайя молчала.
— Хочу сообщить тебе приятную новость: твой ухажер вернулся и сейчас в Барселоне.
От этого известия у девушки закружила голова, и лишь внутренняя сила, проснувшаяся в ней после всех перенесенных страданий, не позволила ей потерять сознание.
Пересохшими, как трут, губами она спросила:
— И к чему же вы сообщили мне эту новость?
— Видишь ли, все в жизни меняется в зависимости от обстоятельств, и то, что вчера было черным, сегодня может стать белым. Сейчас мне намного выгоднее иметь его своим союзником, чем врагом.
Сердце Лайи бешено застучало. А советник между тем продолжал:
— По-моему, все предельно ясно. Я собираюсь выдать тебя замуж. Ты получишь мужа, а я — весьма выгодного зятя, который принесёт мне большие доходы. Во всяком случае, между нами говоря, это долг мужчины, который принудил девушку к сожительству. По закону он должен либо жениться на ней, а ты ведь отказалась выйти за меня замуж; либо найти ей другого мужа, что я и сделал.
Лайя просто ушам своим не верила. Наконец она все же решилась ответить, подозревая, что за словами отчима скрывается какой-то тайный умысел.
— Я не понимаю, почему вы вдруг решили сменить гнев на милость, но позвольте вам напомнить о том письме, что вы заставили меня написать. Моя жизнь погублена, и теперь мне остаётся лишь уйти в монастырь. Ни Марти, ни кто-либо другой не захочет взять в жены обесчещенную женщину.
— Ну, во-первых твоё замужество уже само по себе избавляет тебя от бесчестья. А во-вторых, эта обесчещенная женщина сделает выскочку Марти Барбани гражданином Барселоны. И это не говоря уже о весьма внушительном приданом, которое само по себе способно заткнуть рот кому угодно.
— Марти не из тех людей, кого можно купить или продать по вашему капризу! — выкрикнула Лайя.
— Поверь, любой человек имеет свою цену, а если кого-то не удалось купить — значит, просто мало заплатили. Но здесь не тот случай.
— И какова же цена вашего нового преступления? Ведь это именно преступление — обмануть хорошего человека.
— А не придётся никого обманывать. Марти возьмёт тебя в жены и не станет задавать вопросов. Ему уже сообщили, что тебе вскружил голову некий придворный, но ты не можешь назвать его имя, поскольку это станет позором для всех. Ему сказали, что ты избавилась от ребёнка. Кстати, по сути, так оно и есть. Как видишь, обманывать никого не придётся.
В голове у Лайи все перемешалось. Она отказывалась верить, что этот человек готов выпустить ее из своих когтей. Какую новую гадость он замышляет?
— Что ещё я должна сделать — или, наоборот, не делать? — спросила она. — Какие ещё условия я должна выполнить?
— Ты мне много чего должна. По твоей милости, из-за того, что ты не желала делить со мной ложе, я потерял наследника, который был мне одновременно сыном и внуком. Ведь когда гончар работает с ленцой, можно ли удивляться, что амфора в итоге получается кривобокой, как бы ни была хороша глина? А потому заявляю: ты сама разрушила наши отношения, по твоей вине увяли мои чувства. А кроме того, какой мужчина сейчас на тебя польстится? Ты давно смотрела на себя в зеркало? Взгляни, на кого ты похожа! А уж если вспомнить, с каким видом ты лежала со мной в постели... Просто бревно, а не женщина; порой мне казалось, что я занимаюсь любовью с мраморной статуей. Ты не пожелала сделать даже шагу мне навстречу, хотя прекрасно знала о моих чувствах. Чему ж тут удивляться, что теперь сама мысль о женитьбе на тебе вгоняет меня в дрожь?
От такого цинизма девушку едва не стошнило, но она взяла себя в руки и промолчала. Отчим снова заговорил.
— Теперь о другом. Как ты сама понимаешь, единственная гарантия твоего послушания — жизнь этой проклятой рабыни. Так вот, я держу ее в одном из моих загородных домов. Я скажу тебе, где именно, но если будешь упрямиться, сама увидишь, что с ней случится. Так что, если надумаешь что-нибудь с собой сделать — скажем, уморить себя голодом — твою подругу постигнет та же участь. Ты должна снова стать красивой ко дню вашей встречи. Если на продажу выставить недокормленную кобылу, никто ее не купит.
Лайя пропустила оскорбление мимо ушей — в глубине души она была уверена, что за поведением этого человека стоит лишь безграничная жадность.
— Как я могу быть уверена, что Аиша жива?
— Даю тебе слово.
— Этого недостаточно, я хочу ее видеть.
Монкузи задумался.
— Ну хорошо, через пару недель, когда ты немного поправишься, я отвезу тебя на ферму неподалёку от Террассы, подаренный мне за верную службу графом Рамоном Беренгером и графиней Альмодис, где я держу твою рабыню. Ты с ней увидишься, но не вздумай сказать хоть слово о ребёнке. И если ты приведешь себя в божеский вид, то вернёшься в Барселону и будешь готовиться к свадьбе.
Из-за своих бесконечных тревог и раздумий Лайя совсем потеряла аппетит. Единственным утешением для нее было то, что ее дорогая Аиша по-прежнему жива, хоть и томится в темнице Террассы. Правда, немного радовало еще и то, что отчим определенно решил оставить ее в покое. Что же касается Марти, то, хотя ее чувства не изменились, Лайя считала, что больше не достойна его любви. Ей казалось, что совместная жизнь с мужчиной для нее теперь невозможна, одна мысль о том, что кто-то может прикоснуться к ее телу, наводила ужас.
Прошёл месяц со дня ее встречи с отчимом. Однажды вечером, когда она ложилась спать, вошла Эдельмунда и сообщила, что в понедельник на рассвете они уезжают в Террассу.
Снова в дорогу. Эскорт из шести воинов, на этот раз во главе с капитаном, сопровождал две кареты. В первой ехала она сама вместе с дуэньей, а рядом с возницей сидел лучник. Во второй ехали две дамы-компаньонки, привезённые из Барселоны в помощь Эдельмунде и выбранные по ее образу и подобию. Замыкали процессию воины эскорта. Ночь они провели в доме одного из должников Монкузи, точно на середине пути, и на следующий день добрались до фермы неподалёку от Террассы. Здесь Лайю проводили в комнату в одной из башен, которые прежде занимал управляющий, дон Фабио де Кларамунт с семьёй, теперь им в спешном порядке пришлось перебраться в другие помещения.
Здесь Лайя пользовалась большей свободой, чем в предыдущей тюрьме, хотя ей так и не позволили увидеть Аишу. Буря разразилась к вечеру. У Лайи начался бред, в кошмарных видениях ей вновь овладевал похотливый сатир и бесчисленные уроды один за другим вылезали из ее нутра. Она готова была вскочить с постели и броситься с башни, как хотела сделать ещё в Сальенте, лишь бы избавиться от терзающих ее демонов.
Каждый день за обедом и ужином Эдельмундой напоминала, что жизнь Аиши зависит от ее аппетита. В конце концов, терпение у девушки лопнуло, и, когда перед ней в очередной раз накрыли стол, уставленный всевозможными кушаньями, которые прописал лекарь, она заявила тюремщице:
— Я не верю, что Аиша жива. Если я не увижу ее завтра, я не проглочу ни кусочка.
Она не хотела даже думать, какие последствия будут иметь для нее эти слова, для Лайи больше ничего не имело значения. Когда она думала о Марти, он казался ей видением, почти бесплотным образом. Порой ей стоило бесконечных усилий вспомнить его лицо. Но иногда ее сознанию все же удавалось выбраться из бездонной пустоты, зацепившись за что-то конкретное.
К вечеру в башню поднялся Фабио де Кларамунт, управляющий крепости. Холодно поприветствовав молодую хозяйку, он перешёл делу.
— Мне сообщили, что вы отказываетесь есть, пока не повидаетесь с узницей, — произнёс он. — А я, следуя приказу, не должен ее кормить, если вы не будете есть.
Казалось, в голосе этого человека звучало скрытое сочувствие. Он знал, что должен выполнять распоряжения хозяина, пусть даже ему самому они и не по душе, но при этом что-то ему подсказывало — эта сероглазая девушка с потухшим взглядом не просто гостья.
— Мое поведение изменится, только если я смогу лично убедиться, что Аиша жива, — ответила Лайя.
— Полагаю, что я могу доставить вам это удовольствие. Тем не менее, я вынужден принять меры, чтобы потом меня не обвинили в нарушении приказа.
Лайя вскочила в радостном ожидании скорой встречи с подругой. Дуэнья тоже поднялась.
— Не стоит утруждаться, донья Эдельмунда, — сказал Фабио. — Ручаюсь, что верну вашу подопечную в ее покои в целости и сохранности.
Дуэнье ничего не оставалось, как уступить, поняв, что с управляющим лучше не спорить.
Фабио де Кларамунт привел Лайю на первый этаж и проводил в комнатку, где отдыхали стражники, сменившись с караула. Лайя удивилась, что управляющий привел ее в такое место: она была уверена, что это, как всегда, будет подземелье. Дон Фабио перебросился несколькими словами с капитаном, и тот протянул ему связку ключей.
Управляющий выбрал один из них — не самый большой — и, открыв маленькую дверцу, обитую железными полосами, поманил девушку за собой.
В маленькой комнате не было никакой мебели, кроме деревянной скамьи у дальней стены. Повинуясь безмолвному жесту управляющего, Лайя села на неё.
Затем она услышала ровный голос тюремщика:
— Сеньора, сам я ничего не имею против ваших встреч. Но мне приказано сделать все возможное, чтобы вы могли увидеть узницу, но при этом не имели возможности с ней говорить. У меня есть жена и дети, и вы сами понимаете, мне не нужны неприятности. Умоляю, не создавайте мне лишних проблем. Если вы войдёте в мое положение, мы можем стать друзьями, и ваша жизнь здесь может быть вполне сносной, в противном же случае вы вынудите меня принять более жёсткие меры.
Поначалу Лайя не поняла, что он хочет этим сказать, но потом подумала, что можно попытаться сделать его своим союзником.
Кларамунт наклонился и отодвинул железную скобу. Под ней оказалось отверстие в потолке подвальной камеры. Управляющий поманил Лайю, приглашая заглянуть внутрь.
На каменной скамье, вытянувшись во весь рост, лежала женщина, прикрытая одеялом. Лайя с трудом узнала в этой изможденной женщине с застывшим и потерянным взглядом прежнюю Аишу. Рядом стоял поднос, а на нем — миска с холодной кашей, морковка, кусок овечьего сыра и кувшин с водой.
Голос тюремщика зазвучал вновь.
— Если вы будете есть, ее тоже будут кормить, причём она получит такое же количество еды. Мне сказали, что вы можете видеть ее каждый день, чтобы убедиться, что она жива. Но вы ни в коем случае не должны с ней разговаривать.
66
Руфь
Вернувшись домой, Марти не уставал дивиться, как изменилась Барселона за время его отсутствия. За пределами городских стен выросли новые пригороды Санта-Мария-де-лес-Аренес, Сан-Кугат-дель-Рек и Сан-Пере. Появилось также несколько новых церквей, а на улицах и рынках теперь можно было увидеть людей из самых разных концов света и услышать самые разные языки. Дома его радостно встретили Омар, Найма, их сын Мухаммед, маленькая Амина, донья Катерина, Андреу Кадина и Мариона, владычицы котлов и сковородок. Со времени его отъезда прошло два долгих года. За это время у Марти успели вызреть новые планы: он собирался купить еще два корабля и посетить новые земли, но теперь его терзала лишь одна мысль: что же в действительности произошло с Лайей? Он не в силах был думать ни о чем другом и не мог дождаться той минуты, когда сможет поговорить с ней.
В любом случае, он принял решение — как можно скорее обвенчаться с Лайей, которая, как оказалось, страдает от приступа лихорадки где-то за пределами города, и лекари запретили пока ее посещать. Эти слова Монкузи передал ему Эудальд Льобет, сам же советник уехал по делам графа и не собирался возвращаться до конца года.
А между тем, из родительского дома пришло письмо с печальным известием: три месяца назад умер дон Сивер — священник из Вилабертрана, его первый учитель. Марти, уже и так собиравшийся навестить мать, решил, что непременно заедет на кладбище, чтобы проститься со стариком и прочесть молитву за упокой его души.
Субботним вечером он стоял перед дверью Баруха, которого уже известил о своем приезде. То ли Марти подводила память, то ли за минувшие годы он привык к безбрежным открытым пространствам, но дверь в доме еврея показалась ему значительно меньше, чем он помнил.
Позвонив в колокольчик, он тут же услышал за дверью шаги, словно человек нарочно дожидался поблизости. Никто не окликнул его, не заглянул в глазок, дверь сразу распахнулась, и Марти увидел перед собой сияющие глаза и неотразимую улыбку девушки, которую он сразу не узнал. В следующий миг он догадался, что это все та же малышка Руфь смотрит на него из-под густых ресниц сверкающими черными глазами.
— Да хранит вас Яхве на всех путях и дорогах, да славится имя его во веки веков, — произнесла она.
— Да хранит он тебя... вас, Руфь, — поправился Марти. — Вы так выросли, что я даже принял вас за одну из ваших сестёр.
— Прошло больше двух лет, Марти. А время идёт не только для вас.
— Но я тогда был уже взрослым, а потому почти не изменился. А вот вы были совсем девочкой, а теперь я вижу перед собой взрослую женщину.
— Когда вы уезжали, я уже не была ребёнком, — слегка обиделась она. — Да вы проходите, отец сейчас вернётся. Он велел мне принять вас. Поэтому я и ждала вас у дверей.
С верхней площадки лестницы послышался чей-то голос:
— Руфь, кто там пришёл?
— Все в порядке, мама, это сеньор Барбани. Отец велел мне его встретить.
И многозначительно подмигнув, добавила:
— Да вы проходите, не стойте на пороге! А то ещё подумаете, будто я — плохая хозяйка.
— А вы знаете, я до сих пор не могу забыть ваш лимонад. Я объездил весь мир, но нигде не пробовал ничего подобного. Можно ли назвать плохой хозяйкой ту, что его готовит?
— Я рада, что вы хоть что-то помнили обо мне, пусть даже такую малость, как лимонад.
Вслед за девушкой Марти прошёл в сад. Здесь мало что изменилось, за исключением того, что сейчас стояла зима, и цветы давно завяли. В остальном же все осталось, как прежде: и огромный каштан, и скамейка, и колодец с воротом, и плетёные стулья, и сосновый стол. Не было только качелей, что раньше свешивались с одной из ветвей могучего дерева.
Они сидели, наслаждаясь лучами солнца, и Марти, чтобы нарушить неловкое молчание, спросил:
— Вы убрали качели?
— Я уже давно потеряла к ним интерес. В этом доме больше нет маленьких детей, и качаться некому. Но расскажите, каков мир, который вы повидали?
— Ну что за вопрос! — улыбнулся Марти. — Он огромен, поистине огромен, и его населяют самые разные народы.
— Я все время думала о вас! Можете представить, как я вам завидовала?
— Как я вас понимаю! В вашем возрасте я думал точно так же, мир вокруг казался мне слишком тесным... А теперь взгляните — я объездил почти все Средиземноморье. Но не грустите: со временем отец найдет вам хорошего мужа, и ваша жизнь совершенно переменится.
— Возможно, но я думаю, что никогда не выйду замуж.
— Почему вы так говорите?
— Это не я говорю, а мое женское чутьё.
— Неужели вам не нравится ни один молодой человек?
— Ну почему, нравится. Но боюсь, он даже не подозревает о моем существовании.
В эту минуту на галерее открылась дверь и на пороге появился Барух и тут же бросился навстречу Марти: несомненно, меняла был безмерно рад его видеть. Марти поднялся, и оба крепко обнялись на глазах у смущенной и слегка раздосадованной девушки, недовольной тем, что приход отца помешал ее задушевной беседе с Марти.
— Какая радость, мальчик мой! — воскликнул меняла. — А я уже боялся, учитывая мои преклонные годы, что никогда больше вас не увижу.
— Видимо, сам Яхве хранит вас, — ответил Марти. — Сейчас вы выглядите намного лучше, чем перед моим отъездом.
— Увы, друг мой, но время не щадит никого: молодые взрослеют, старики дряхлеют. Но пойдёмте-ка лучше в дом: солнце уже садится, и во дворе скоро станет холодно. Нам столько нужно рассказать друг другу! Что же касается тебя, дочка, то я ценю твою заботу, но все же прошу тебя оставить нас наедине.
Однако девушка притворилась, будто ничего не слышала, и вместе с ними прошла в гостиную, где с невинным видом принялась перекладывать подушки на креслах.
— Руфь, попрощайся с сеньором Барбани и ступай, — повторил Барух. — Нам нужно поговорить наедине.
Еврей особенно выделил слово «сеньор», давая дочери понять, что ей надлежит именовать Марти этим титулом.
— Отец, позвольте мне остаться, — взмолилась Руфь. — Я не буду встревать в разговор и мешать вам. К тому же рассказы Марти о его путешествии расширит мои познания — больше, чем что-либо другое.
— Руфь, иногда ты бываешь просто невыносимой! Я должен поговорить с нашим гостем, а о чем — тебя не касается. Если ты желаешь расширить свои познания, я попрошу раввина, чтобы он обучал тебя канонам нашей веры вместе с Башевой; тогда у тебя будет чем занять свободное время, можешь задать ему любые вопросы, какие у тебя возникнут.
— Вы никогда не хотели меня понять! — воскликнула Руфь. — Вы хотите, чтобы я сидела взаперти и долбила скучные тексты из Талмуда, готовила пресную кошерную еду, пекла пироги... Можно подумать, что я служанка!
— Уйди немедленно с глаз моих! Потом поговорим.
Девушка удалилась, на прощание одарив Марти лукавой улыбкой.
— Простите ее, — виновато вздохнул старый Барух. — Это сложный возраст, а моя дочь — вообще особый случай.
— Не стоит извиняться, Барух. У нее сильный характер, и мне это по душе. В будущем ей это пригодится.
После этого они уединились в гостиной, которая тоже показалась Марти значительно меньше, чем помнилось.
Весь вечер Марти рассказывал о своих приключениях, о дальних странах и удивительных портах, которые открыл для него еврей. Сам же меняла, вооружившись пером, чернильницей и листом бумаги, устроился за столом и делал заметки, а попутно отвечал на вопросы и давал советы.
Обсудив все дела, оба пришли к выводу, что их будущее — за кораблями. Марти решил вложить большую часть доходов от виноградника и мельниц, в морскую торговлю. Кроме того, он подумывал о покупке нового дома неподалёку от церкви Святого Михаила, и решил по этому поводу посоветоваться с Барухом. Тот заверил, что этот район вполне респектабельный и спокойный. Затем они поговорили о делах Марти, которые благодаря Омару шли в гору. Когда же и эта тема была исчерпана, Марти решился завести речь о греческом огне.
— Я слышал о нем, — кивнул Барух. — О нем упоминается в древних манускриптах, но нигде не приводится состав. Не сомневаюсь, что многие властители дорого заплатили бы за него, но по сей день никому так и не удалось раскрыть секрет.
— Я хорошо представляю себе преимущества черного масла, которое горит намного медленнее, чем сальные светильники, — сказал Марти. — Вы посмотрите, по ночам в нашем городе царит такая непроглядная тьма, что даже городская стража не решается сунуть нос в некоторые переулки. Если же развесить на высоких столбах железные клетки, а внутрь поместить емкости с маслом и фитилями из шерстяных нитей, то будет достаточно одного человека, он сможет их зажигать при помощи длинного шеста с фонарем на конце. Таким образом, светильники будут гореть всю ночь, а улицы станут менее опасными.
— Мне пришла в голову блестящая идея, — произнес меняла. — Если вы предоставите корабль на восточном побережье, проблема будет решена. Вам останется лишь оборудовать в городе склады, где будут храниться запечатанные сосуды с черным маслом — чтобы в случае кораблекрушения или какой-либо другой задержки в городе был запас и он не остался бы без света. Вы получите необходимые документы на ввоз, я лично этим займусь. Однако разрешение на установку светильников зависит от вегера, к которому, как сами понимаете, у меня нет доступа. Зато он есть у смотрителя рынков, дона Берната Монкузи. Не сомневаюсь, что этот алчный тип не упустит своей выгоды.
— Я оплачу расходы. Кстати, я хочу кое-что вам сообщить, об этом пока знает лишь наш общий друг Эудальд Льобет.
— И что же это?
— Я собираюсь жениться на падчерице Берната Монкузи.
На лице еврея проступила растерянная улыбка. И в эту минуту выходящее в сад окно неожиданно захлопнулось.
67
Снова в лоне святой церкви
В январе 1056 года графиня Альмодис сияла от счастья. Старуха Эрмезинда, потерявшая внутреннюю опору после смерти главных сторонников, в обмен на одиннадцать тысяч унций золота согласилась уговорить Папу снять отлучение, более трех лет висевшее над графской четой дамокловым мечом.
Весело трезвонили колокола, а придворные тянулись вереницей, чтобы выразить свое почтение и поздравить с чудесной новостью. Одни — с неподдельной радостью, но большинство — чтобы заслужить милость Альмодис де ла Марш, ведь именно она управляла графом, а значит, и всем графством.
В город пришел праздник. Радостная весть моментально разнеслась среди добрых горожан, и теперь люди от души радовались, что кончились их сомнения и тревоги. Представители младших ветвей графского дома уже давно подозревали, что рано или поздно это должно случиться, и все они, блюдя собственные интересы, старались вести себя лояльно по отношению к графской чете. Теперь же все валом повалили в графский дворец, словно паломники — к священному огню. Одо де Монкада, епископ Барселонский, Гийем де Вальдерибес, главный нотариус, судьи Понс Бонфий и Эусебий Видиэйя и сам граф Рамон Беренгер собрались в углу гостиной с кубками вина в руках, чтобы отметить это радостное событие.
Жильбер д'Эструк, доверенный рыцарь Рамона Беренгера I, главный сенешаль Гуалберт Амат, представители семейств Монкада, Кабрера, Алемани, Мунтаньола, Феррера, Оло и многих других почтительно выстроились перед небольшим троном, где восседала Альмодис, расточая улыбки. Каталонские дворяне преклоняли перед ней колени, опираясь на маленькую скамеечку у ног графини, а их жены, подобрав юбки, грациозно приседали в реверансах. И те, и другие щедро рассыпали перед ней комплименты и поздравления — трудно сказать, насколько искренние. Большой зал был переполнен. Засвидетельствовав графине свое почтение, дворяне тут же бросились устраивать собственные дела и завязывать новые связи, надеясь погреться в лучах нового светила, восходящего над Барселоной. Эудальд Льобет, почетный гость графини, с ироничной улыбкой подошел поздравить графиню.
— Разве я вам не говорила, что церковь, как всегда, поступит дипломатично? — спросила Альмодис.
Эудальд не стал спорить.
— Разумеется, говорили, сеньора. И надеюсь, что вы, при вашей прекрасной памяти, помните, что я вам тогда ответил.
— В эти счастливые минуты я о многом забыла, Эудальд.
— Помнится, я ответил что-то вроде того: «То, что вы получили дважды, вы можете получить и в третий раз». В любом случае, знайте, сеньора, что кроме вас и графа есть еще один человек, который искренне рад отмене отлучения, это скромный священник, теперь он сможет отпустить вам грехи. И скажу вам как истинный каталонец: графство только выиграло, получив графиню с таким характером и такой силой духа.
С этими словами он отошел, уступив место следующему царедворцу, желающему засвидетельствовать графине свое почтение. Эудальд огляделсяг. В глубине зала, возле окна с видом на площадь и рядом с гобеленом, изображающим Диану-охотницу в окружении собак, с луком в руке и колчаном за спиной, он с удивлением заметил могущественного Берната Монкузи, смотрителя рынков и аукционов, который сейчас вроде бы отсутствовал в Барселоне. Чуть заметно сдвинув брови, советник поднял кубок, приглашая священника подойти. Медленно пробираясь между группами людей, он подошел к Монкузи.
— Приветствую вас, Эудальд, в столь знаменательный день.
— И я приветствую вас, — ответил священник. — Не ожидал увидеть вас здесь: ведь я был уверен, что вас нет в городе.
— Не только вы, я и сам не ожидал, что окажусь здесь, — признался советник. — Но я получил известие о столь долгожданном событии и, оставив другие дела, поспешил в Барселону. Как вы понимаете, ради такого стоит отложить даже самые срочные дела.
— Полагаю, вы получили мое письмо, к котором я сообщил, что Марти решил принять ваше предложение?
— Разумеется, получил. Я был на седьмом небе от радости. Прошу вас, расскажите обо всем подробнее.
— На следующий день после своего возвращения он пришёл ко мне в собор, и я рассказал ему о вашем несчастье, что оказалось весьма нелегким делом. Я подумал, что будет лучше, если он узнает обо всем от меня. Полагаю, мне удалось скрыть от него часть правды. Но думаю, со временем все же придётся сказать ему о ребёнке. Пока я сказал ему лишь о том, что ваша приёмная дочь была обесчещена, не вдаваясь в подробности. Кстати, я ведь даже не знаю, кто у неё родился — мальчик или девочка.
Смотритель аукционов воровато огляделся — не подслушивает ли кто. Затем, взяв собеседника под руку, отвел его в сторонку.
— Вы как всегда сдержанны и деликатны, вас направляет сам Святой дух. Ребенок родился мертвым. Лайя еще слишком молода, сами знаете, такое часто случается при первых родах. Ко всему прочему, она еще и заболела родильной горячкой. А потому, зачем лишние сложности? Лучше уж оставить все как есть.
Эудальд Льобет внимательно посмотрел в глаза Берната. Хотя он по-прежнему сомневался в правдивости этой истории, но решил оставить все как есть и не копаться попусту в грязном белье. В конце концов, Марти дал слово жениться на девушке, и священник надеялся, что время и молодость помогут изгладить из ее памяти эту печальную историю и они действительно станут счастливой парой, притом и честь девушки будет спасена.
— Возможно, вы и правы, — сказал он. — Скажите, когда возвращается ваша дочь? Я думаю, настало время позволить молодым увидеться?
— Конечно. Но сначала я хочу сам поговорить с Барбани, мне не терпится узнать, как прошло его путешествие и услышать из первых уст о его планах. Как вы сами понимаете, раз он станет моим зятем, наши отношения изменятся.
— Так или иначе, молодые люди должны встретиться, сейчас это главное.
— Я привезу Лайю на следующей неделе, — ответил советник. — Думаю, будет уместно пригласить вас на ужин вместе с вашим подопечным. Во время десерта Лайя могла бы к нам присоединиться и поговорить с Марти — разумеется, в нашем присутствии. А то, как говорится: «Любовь — солома, сердце — жар, одна минута — и пожар!»
68
Накануне
Марти пришел в собор задолго до назначенного часа, чтобы встретиться с Эудальдом и вместе с ним отправиться на званый ужин к Бернату. Однако священник, зная, что Марти уже встретился с Монкузи, решил сначала расспросить молодого человека, как прошла встреча.
Марти дожидался Эудальда в ризнице, в обществе одного из священнослужителей. Наконец, отец Льобет появился, одетый, по своему обыкновению, весьма скромно. Но Марти все-таки заметил, что его сутана сшита из нового сукна, тонзура гладко выбрита, а борода аккуратно подстрижена.
— Вы прекрасно выглядите, Эудальд, — сказал Марти.
— Я не привык обедать вне трапезной и уже давно удалился от мирской суеты, но на сей раз решил немного привести себя в порядок, что оказалось достаточно сложно. Но давайте лучше присядем: у нас достаточно времени. Расскажите, как прошла ваша встреча с Монкузи.
Каноник проводил молодого человека в дальнюю часть большой комнаты, где они устроились на двух стульях, обитых убрийской кожей — подарок одного наемника, вместе с которым Льобет сражался под Кордовой в 1017 году, во время второго похода графа Рамона Борреля, деда нынешнего графа, где тот получил тяжелые раны, которые вскоре свели его в могилу.
— Ну, так как прошла ваша встреча, Марти?
— Сказать по правде, я не понимаю некоторых людей, — признался Марти.
— Что вы хотите этим сказать?
— Как вы понимаете, когда я отправился в дом Монкузи, я не находил себе места от беспокойства. Я понимал, что все мое будущее поставлено на карту, но намного важнее для меня было знать, позволят ли мне увидеться с Лайей.
— И что же?
— Советник повел себя очень странно. Он без конца просил у меня прощения и сетовал, сколько горя перенес за эти черные дни. Как я ни настаивал, он так и не признался, кто повинен в этом тяжком преступлении, сказал лишь, что хотя и догадывается, но с уверенностью утверждать не может, а потому, по его мнению, лучше оставить эту тему. Он считает, что Лайя по молодости и неопытности стала кокетничать с этим человеком, а тот, приняв кокетство за согласие, изнасиловал ее. Монкузи сказал, что, несмотря на свой статус гражданина Барселоны, не посмел вмешаться, поскольку виновник этого несчастья тесно связан с Барселонским графским домом, весьма вероятно, что это кто-то из окружения графа Эрменьоля д'Уржеля, который, как вы знаете, приходится кузеном графу Рамону Беренгеру.
— И что было дальше?
— А потом он вдруг закрылся, как улитка в раковине, и отказался отвечать. Более того, умолял меня не обсуждать это с Лайей. Он заметил, что, стоит об этом заговорить, недавно перенесшая тяжелую болезнь Лайя замыкается в себе, начинает бредить и нести всякий вздор. А затем он добавил, что время лечит любые раны, и мы, без сомнения, будем очень счастливы.
Затем, немного помолчав, Марти спросил:
— Так что вы обо всем этом думаете?
Падре Льобет ненадолго задумался и ответил:
— Я думаю, что перенесенные несчастья порой способствуют временному помрачению рассудка. Но думаю, Лайя ни в чем не повинна. Оставьте ее в покое, и со временем она сама откроется вам, как цветы раскрываются навстречу росе, и ее разум в конце концов сможет примириться с этим несчастьем. Я много об этом думал, но все же, признаюсь, что-то от меня ускользает... Но вы не волнуйтесь, капля камень точит... Вы любите ее?
— Больше жизни!
— И по-прежнему хотите на ней жениться?
— Хоть завтра.
— В таком случае, наберитесь терпения и подождите. Настанет день, когда ей захочется сбросить с плеч этот тяжкий груз, и тогда она сама все расскажет. Поверьте, именно так все и случится.
Они надолго замолчали. Наконец, Марти по просьбе священника пересказал ему последнюю часть разговора.
— Когда я объяснил, что черное масло можно использовать для городского освещения, глаза у него так и загорелись. Он сказал, что лично убедит вегера в необходимости установить на улицах столбы с железными клетками и емкостями с черным маслом и погруженными в него фитилями. Я же должен изготовить эти клетки. Кстати, когда я ему сказал, что в интересах города иметь запас черного масла — на случай, если его поставки по каким-то причинам задержатся, он заявил, что предоставит под хранилище подвал собственного дома. Думаю, таким образом он хочет гарантировать себе долю прибыли.
— Вы рассказывали ему про греческий огонь?
— Нет. Этот рецепт я унесу с собой в могилу.
Священник посмотрел на большую свечу с поперечными красными полосами, каждая из которых означала определенный час дня или ночи. Каждое утро он зажигал в соборе такую свечу, чтобы по ней определять время.
— Марти, нам пора, — сказал он.
69
Ночная тьма
Ужин был накрыт в беседке особняка Монкузи. По указанию советника гостей сразу же проводили туда. Стол был украшен цветочными гирляндами и уставлен роскошными яствами в тарелках из венецианского фарфора с золотой каймой, а бокалы были из тончайшего стекла. В довершение всего этого великолепия на столе возвышались два больших серебряных канделябра с душистыми восковыми свечами. В конце живого коридора из виноградных лоз между клумбами показался Бернат Монкузи в богатой одежде из золотой парчи.
— Рад приветствовать вас в этой скромной обители, не идущей ни в какое сравнение с вашим домом, — произнес он.
Оба гостя шагнули навстречу советнику. Он пожал им руки с любезной улыбкой на лице.
— Полно, не скромничайте, — улыбнулся в ответ архидьякон. — Ваша резиденция — просто чудо.
Бернат Монкузи повернулся к Марти.
— А что скажет наш молодой и отважный торговец? Вы только посмотрите на него, Эудальд! В столь юном возрасте он уже объехал весь мир!
— Ничего нового со дня нашей последней встречи, — ответил Марти, чьи щеки от волнения вспыхнули румянцем. — Скажу лишь, что мне не терпится вновь увидеть вашу воспитанницу.
— Правильнее сказать — дочь, — поправил его советник. — Ведь я удочерил ее. Так что отныне вы можете считать меня в какой-то мере своим отцом. Но я совсем забыл о своём долге хозяина. Прошу к столу! О некоторых вещах лучше говорить после хорошего ужина и пары кубков отличного вина.
С этими словами советник провёл их в беседку, где за каждым креслом уже стоял слуга, готовый выполнить любое пожелание.
После обмена любезностями они отдали должное вкуснейшему тыквенному супу, и Бернат перешел к главному.
— Ну что ж, дорогой мой Марти, полагаю, в наших обстоятельствах стоит оставить в стороне вопрос о приданом. Достаточно уже того, что вы получите руку Лайи, чего в других обстоятельствах едва ли смогли бы добиться. Будем считать, что мы квиты.
— Поверьте, сеньор, я счастлив, как никогда прежде, и в вечном долгу перед вами, — ответил Марти. — Для меня большая честь получить руку вашей дочери, о чем я прежде даже мечтать не смел. Но теперь обстоятельства сложились так, что мое счастье стало возможным. Не иначе само Провидение мне благоволит. Я не считаю себя вправе судить кого-либо, не говоря уже о женщине, которую люблю. Каждый может ошибиться, тем более в столь юном возрасте. Я сам виноват, что так надолго оставил ее одну. Уверен, что однажды наступит день, когда она все мне расскажет; но даже если она этого не сделает, я никогда не стану допытываться.
И тут вмешался падре Льобет.
— Вы только что сказали об обстоятельствах, судьбе и Провидении. Однако это не так. Все мы, вольно или невольно, осуществляем планы Творца, другое дело, что порой они написаны корявыми письменами.
Лицо советника приобрело какое-то странное выражение, что не укрылось от внимания священника.
— В любом случае, советую похоронить эти печальные обстоятельства в глубинах памяти. Я заметил, что одно упоминание об этом ужасно действует на мою падчерицу. Не представляю, сколько это продлится, но лекари рекомендовали ее не волновать. В конце концов, когда-нибудь все эти события покажется вам дурным сном. Но давайте продолжим ужин. Позже я ее позову. Не удивляйтесь, она похудела и сильно изменилась. Иногда ей бывает трудно поддержать разговор.
Марти бросил на Эудальда обеспокоенный взгляд.
Подали мясное блюдо и пироги, затем — холодную рыбу и белое вино. Когда принесли десерт — умопомрачительный пирог с лимонами и малиной — советник произнес:
— Подождите минуточку! — С этими словами он повернулся к дворецкому и приказал: — Приведите сюда мою дочь!
В этот миг Марти почувствовал, что сердце вот-вот выскочит у него из груди.
Лайя стояла на балконе, выходящем в сад, прижавшись к стене и чутко прислушиваясь к разговору Монкузи и его гостей. Сначала при виде Марти в ее груди заполыхал пожар. Его лицо, всплывавшее в ее памяти, оказалось лишь бледной тенью того, что сейчас предстало ее глазам. Он оказался стократ красивее и желаннее, чем она помнила. Но в следующий миг радость ее сменилась глубоким отчаянием: ей вдруг подумалось, что она его недостойна.
С тех пор как два дня назад Бернат привез ее из Террассы, Лайю охватило уныние. И теперь радость при виде Марти смешалась с чувством жгучего стыда. Она считала себе грязной и подлой. Голова раскалывалась. То она представляла будущую жизнь рядом с любимым, спокойную и счастливую, то ее мучила мысль, что она, лицемерная обманщица, недостойна его любви. А порой из темных глубин неспокойной совести всплывал далекий призрачный образ Аиши, и тогда Лайя не могла понять: действительно ли существовала эта женщина или она лишь плодом ее больного воображения?
Когда прозвучал приказ отчима, что-то словно оборвалось у нее внутри. Она представила, что сейчас в ее комнату войдет Эдельмунда, чтобы помочь ей переодеться. Нельзя терять времени!
Она поднялась и на мгновение застыла. Решение принято. Каменная лестница вела на крепостную стену у ворот Кастельвель. Лайя стала подниматься наверх. Ступени были крутыми и неровными, разной высоты. Едва ли кто-то мог попасться навстречу, только ночные дозорные несли службу, но они охраняли лишь ворота, а не дом. Тяжело дыша, она наконец ступила на стену. Ветер ударил ей в лицо, разметал волосы. Тусклый свет убывающей луны освещал редких прохожих, снующих туда-сюда по улицам, озабоченных лишь собственными делами и бедами.
С высоты она слышала приглушенный смех и голоса дозорных. Она сделала глубокий вдох и выбрала место, откуда не могла причинить никому вреда, когда душа покинет тело. Она медленно шагнула ближе к посту дозорных. Ее охватило странное спокойствие. Лайя остановилась и протиснулась меж зубцов, опираясь на них руками. Ветер взъерошил ей волосы. Она взглянула вниз, но увидела лишь размытые тени — отряд вооруженной стражи под предводительством сержанта менял караульных. Лайя подняла голову и закрыла глаза. А потом шагнула в пустоту.
Шум и крики встревожили хозяина дома и его гостей. По плитам двора застучали шаги дворецкого, а через мгновение возник и он сам, с побелевшим от ужаса лицом и дрожащими руками. Все трое в тревоге вскочили.
— Что случилось? — вскричал Монкузи.
— Большое несчастье, сеньор, — пролепетал дворецкий.
Марти почувствовал внезапную боль в сердце.
— Лайя... — ахнул он.
Слуга мрачно кивнул.
— Молодая сеньора не вынесла страданий.
— Говорите же, если жизнь дорога! — вмешался Эудальд.
Хотя прошло уже столько времени, в сложных ситуациях он прибегал к грубому языку вояк.
Собравшись с духом, несчастный дворецкий ответил:
— Сеньор, ваша дочь бросилась со стены.
Все трое помчались к месту происшествия. Бернат впереди, за ним — Марти, и последним — архидьякон.
К их приходу ничего уже невозможно было понять. Вооруженные стражники плотной стеной окружили бесформенный сверток, лежащий на каменных плитах. Советник растолкал их, и взору открылась ужасная картина.
Распластавшись, словно сломанная кукла, на каменных плитах лежало тело Лайи. Кто-то положил ей под голову свернутый плащ. Блуждающий взгляд девушки, казалось, кого-то искал. Обезумевший от горя советник, заломив руки, громко крикнул:
— Кто-нибудь, немедленно позовите лекаря Галеви!
Эудальд и Марти опустились перед ней на колени. Марти крепко сжал ее руку, архидьякон приник ухом к самым губам девушки.
— Лайя, это я, падре Льобет, — произнес он. — Ваша жизнь в опасности. Даст Бог, вы выживете, но гораздо важнее спасти вашу душу. Вы должны быть готовы предстать перед Всевышним.
Губы Лайи дрогнули. Архидьякон наклонился еще ближе. Он едва мог разобрать бессвязные слова девушки. Священник прислушивался к ее шепоту, бросая косые взгляды в сторону советника. Тот стоял в углу, закутавшись в плащ, который дал ему кто-то из стражников, и громко рыдал, словно плакальщица на похоронах.
— Падре, я умираю... — прошептала Лайя.
— Имейте веру, Лайя. Господь будет рад принять вас в свои объятия. Покайтесь в своих грехах.
— Мне нет прощения... Падре...
Дыхание ее становилось все более затрудненным, к нему примешался пугающий свист.
— Прощение всегда есть, девочка.
— На мне грех... Я осквернена...
— Вы хотите покаяться, Лайя?
— Он меня изнасиловал, а потом заставлял спать с ним — снова и снова... и я забеременела... я не хотела этого, я не впала в грех похоти, но ненавидела ребёнка, которого носила во чреве... и мечтала избавиться от него...
— Но вы же этого не сделали?
— Нет, падре... У меня родился урод... Он вскоре умер.
Эудальду не терпелось узнать подробности этой ужасной истории.
— Отпуская тебе грехи, Лайя. Скажи, что за негодяй тебя изнасиловал?
— Не могу, падре... Это разрушит жизнь моего любимого.
— Твои секреты умрут вместе со мной. Я умею хранить тайну исповеди.
Лайя вдохнула ночной воздух и, собрав последние силы, снова заговорила.
— Я по-прежнему люблю Марти... И не хочу, чтобы ему причинили вред.
Не нужно было обладать тонким чутьем и богатым жизненным опытом Эудальда Льобета, достаточно было взглянуть на советника в эту минуту, чтобы понять — смутные подозрения, не дававшие священнику покоя в последние дни, оказались правдой. Теперь многое становилось понятным, и странным поступкам Берната находилось вполне логичное объяснение.
Когда Лайя умолкла, а священник отпустил ей грехи, она снова с трудом открыла глаза, загоревшиеся прежним блеском, и посмотрела на возлюбленного. Льобет сделал ему знак приблизиться, и он склонился к девушке. И хотя его душу охватило отчаяние, он услышал слова, о которых так долго мечтал.
— Любимый мой... Я отправляюсь в наш дом... мне пришлось выбрать между земным домом и тем, другим... Я предпочла отправиться туда, где смогу стать достойной тебя, где никто не помешает нашей любви... Прощай, любимый... Я буду ждать тебя хоть целую вечность...
На губах у нее выступила кровавая пена, и глаза вновь закрылась. Марти застонал, словно раненый зверь. Мерцающий свет факелов возвестил о приходе Галеви. Эдуальд отошел, и мудрый лекарь, раскрыв сумку с инструментами, опустился на колени возле девушки. Еврей постучал по ее груди, а потом прижал палец к вене на шее, чтобы прощупать пульс. Затем приподнял ее веки, посмотрел зрачки, поднеся к ее лицу зажженную свечу. Осторожно ощупал ее голову и шейные позвонки.
Лекарь сокрушенно покачал головой, давая понять, что сделать уже ничего нельзя, остаётся только молиться.
Истошный крик Берната разорвал тишину.
— Что же вы стоите? Сделайте же хоть что-нибудь, Бога ради!
— Я всего лишь скромный лекарь-еврей, а не Господь Бог, — ответил Галеви.
Монкузи хотел что-то ответить, но тут раздался властный голос Льобета, и ему невольно пришлось замолчать.
— Не вам говорить о Боге. Порой он призывает нас нежданно, и тогда перед нами открывается вечность. Адское пламя не ведает различия между бедным и богатым. Не забывайте, что после окончания игры пешка и король отправляются в одну и ту же коробку.
Мгновение советник прожигал священника ненавидящим взглядом, затем молча отвернулся.
Все это время Марти стоял на коленях перед девушкой, не видя ничего вокруг, кроме изможденного лица Лайи, которое теперь казалось умиротворенным. Неожиданно глаза ее вновь открылись, а губы прошептали:
— Я не хочу уходить, не попросив прощения... за то безмерное зло, которое причинила... вам... Аише... Если вы сможете меня простить, поцелуйте меня... я не хочу брать в последний путь ничего, кроме вашего поцелуя...
Марти со слезами на глазах склонился над девушкой и прикоснулся губами к ее устам. Лицо ее озарила безмятежная улыбка, и жизнь угасла, словно огонек свечи.
Часть четвертая
Свет и тени
70
Дурные предзнаменования
Барселона, начало 1057 года
Дельфин даже представить не мог, что жизнь во дворце окажется настолько трудной. Жизнь при Барселонском дворе значительно отличалась от тулузской. Верных сторонников у графини Альмодис было не так много: во-первых, он сам и донья Лионор, прибывшие вместе с ней из Тулузы; во-вторых, две ее придворные дамы, донья Бригида и донья Барбара, а также няня Хильда, с первых дней приставленные к ней супругом; в-третьих, отряд верных рыцарей, похитивших ее из Тулузы, духовник Эудальд Льобет и несколько придворных блюдолизов, ищущих ее благосклонности — подобные личности всегда кружат возле сильных мира сего, стараясь продать свою верность подороже.
А вот противники были куда серьезнее. Это и знатные барселонские семейства, родственники покойной Изабеллы и сторонники отвергнутой Бланки де Ампурьяс, а также все те, кто думал о будущем и связывал надежды с наследником, старшим сыном графа Педро Рамоном, личностью весьма буйного и несдержанного нрава, даже не скрывающего своей неприязни к жене своего отца. Ссоры между ними не стихали ни на минуту, вспыхивая по самым ничтожным поводам — из-за новой лошади, из-за дорогого подарка кому-то из дворян, из-за протокола очередного дворцового мероприятия... Граф снова оказался между молотом и наковальней и пытался хоть как-то соотнести требования сына и претензии графини, сохранив шаткий мир во дворце и не утратив собственного авторитета.
К счастью, карлик обладал удивительно способностью в нужное время становиться невидимым и, за исключением тех минут, когда хозяйке требовалось его присутствие, старался не привлекать к себе внимания. И теперь, скорее почувствовав приближение графа, чем услышав его шаги в коридоре, он попросил разрешения удалиться.
— Госпожа, если я вам не нужен, пойду покормлю голубей.
— Какая муха тебя укусила, Дельфин? — спросила Альмодис. — Ты никогда мне не лгал. Почему ты не хочешь прочитать конец истории, которую начал вчера?
— Сеньора, вот-вот прибудет граф.
Хотя графиня много раз сталкивалась с удивительными способностями шута, она искренне восхищалась каждый раз, когда он сообщал что-то новое.
— Не понимаю, с чего ты это взял? Лично я не слышала, чтобы он подъехал.
— Просто его уши намного ближе к земле, чем ваши, сеньора.
Это шутливое замечание бросила донья Лионор, сидевшая здесь же вместе с Барбарой за маленькой прялкой, перематывая шерстяную пряжу.
В эту минуту в коридоре послышались голоса.
Без всякого предупреждения дверь распахнулась, и в покои графини шагнула внушительная фигура Рамона Беренгера I. Отложив пяльцы, графиня велела своим приближенным:
— Оставьте нас.
Лионор, Барбара и Дельфин тут же встали и молча вышли из комнаты.
Рамон по-прежнему был без ума от жены. Даже со временем его страсть не утихла. За пять лет брака у них родилось четверо детей: двое сыновей-близнецов и две дочери, названные при крещении Инес и Санчей, после их рождения любовь супругов стала ещё крепче.
Граф поцеловал жену в лоб и сел на кушетку рядом с ее креслом.
— Альмодис, нам нужно поговорить, — сказал он.
— Я тоже хотела с вами поговорить, и наедине, — призналась графиня. — Хотела сделать это сегодня вечером, но вы меня опередили, и я решила воспользоваться случаем.
— Так говорите, я вас слушаю.
— Ах, нет, сначала скажите вы. Ваше дело, несомненно, намного важнее.
— Для этого мне необходимо спокойствие, — ответил Рамон. — А когда что-то вас беспокоит, я чувствую себя не в своей тарелке. Так что говорите.
Подавив вздох, Альмодис начала свой рассказ.
— Видите ли, Рамон, — начала она. — Я не хочу ссориться с вами, а потому всячески стараюсь избегать обсуждения некоторых вопросов: вы и так несете на своих плечах все проблемы нашего графства, и мне бы не хотелось создавать вам дополнительных сложностей. Достаточно уже того, что ваша бабка Эрмезинда вставляет вам палки в колеса. Почти все время вы проводите вдали от Барселоны, охраняя границы, заключая союзы или пытаясь примирить своих многочисленных родственников, которые всегда старались потеплее устроиться, пользуясь вашим благородством. Когда же вы возвращаетесь домой, я так этому радуюсь, так стараюсь, чтобы вы наконец-то отдохнули, и делаю все возможное, чтобы ничем вас не расстроить. Однако есть вещи, которые я не могу спустить, поскольку они пятнают честь супруги графа Барселонского, а, в конечном счете, и всего графства.
— Альмодис, я вас достаточно хорошо знаю, — перебил жену граф. — Так что перестаньте напускать туман и скажите прямо: что случилось?
— Видит Бог, моей вины здесь нет. Я давно привыкла к его дерзостям и перестала обращать на них внимание. Я вам больше скажу: когда он дерзит мне наедине, я делаю вид, будто ничего не слышу, но когда он это делает в присутствии дворян, всячески демонстрируя, что не питает ни малейшего уважения к статусу графини Барселонской, у меня кровь вскипает от возмущения. Я боюсь, что однажды наступит день, когда случится непоправимое.
— И что же на сей раз натворил Педро Рамон? — помрачнев, спросил граф. — Ведь именно о нем вы сейчас говорите, если я не ошибаюсь.
— Разумеется. И это вам сможет подтвердить Эудальд Льобет; вы и сами знаете, что этот человек не способен лгать. Он оскорбил меня на глазах у совета граждан Барселоны, на котором я председательствовала от вашего имени.
— Говорите прямо, сделайте милость!
— Видите ли, граф. В прошлую субботу после мессы я открыла заседание Совета, где, как это часто бывает, от вашего имени вела судебное разбирательство. Когда речь идет о гражданских исках, подобные слушания проходят публично, так подданные могут убедиться в справедливости своей графини, которая всегда прислушивается к мнению знающих людей и к мудрым советам главного нотариуса Гийема де Вальдерибеса. А в этом случае, поскольку речь шла о земельных границах между горожанином и священником, на разбирательстве присутствовал еще и епископ Одо де Монкада. Как вам известно, судьи сидят на помосте в глубине зала, а публика размещается перед ними в два ряда.
— И что же?
— Так вот, посреди процесса, когда уже было ясно, что правда на стороне горожанина, священник вдруг бросил в ему лицо обвинение, не имеющее никакого отношения к этому делу, зато пятнающее его честь. Публика выжидательно молчала, а ваш епископ, разумеется, принял сторону служителя церкви и занял пристрастную и необъективную позицию, предложив решить дело в пользу священника. Разумеется, в такой ситуации я не могла не вмешаться, мне пришлось назвать все это лживым фарсом и сказать, что я готова положить руку в огонь за этого человека.
— Вы не должны были никому выказывать своего предпочтения, Альмодис, — мягко укорил ее граф. — Ваше дело — возглавлять совет.
— Но я не могла допустить, чтобы суд принял несправедливое решение только потому, что епископ на стороне священника.
— Хорошо, я понимаю ваше желание защитить этого человека, — примирительно ответил Рамон. — Но не вижу здесь ничего оскорбительного.
— Позвольте мне закончить. Когда я сказала: «Положу руку в огонь», в зале наступила тишина, и тогда со стороны зрителей послышался резкий пронзительный голос: «Кладите, может, кто-нибудь подаст вам мазь от ожогов». Таким образом, он дал всем понять, что готов сжечь меня заживо, а я бессовестно лгу, лишь бы защитить своего человека. Придворные потом все утро хихикали у меня за спиной. Думаю, вы понимаете, что, если помимо бесконечных нападок я должна сносить ещё и насмешки всяких ничтожеств лишь потому, что старший сын моего мужа не умеет вести себя в обществе, боюсь, честь нашего графства скоро будет втоптана в грязь. Думаю, вы уже поняли, что тот голос принадлежал Педро Рамону, кто ещё это мог быть?
Между супругами воцарилось напряженное молчание.
— Хорошо, я с ним поговорю, — произнес наконец граф.
— Вы говорите с ним с первого дня моего приезда, — нетерпеливо заявила Альмодис. — И после каждого разговора его выходки становятся все более наглыми.
— Чего же вы хотите? — повысил голос Рамон. — Чтобы я бросил его в темницу?
— Вовсе нет. Я лишь хочу, чтобы он придержал язык. Полагаю, что у графа Барселонского есть средства и помимо темницы, чтобы навести во дворце порядок.
Граф тяжело вздохнул.
— Наберитесь терпения, такие вещи вполне в его характере. Он с детства был очень упрямым.
— Просто вы позволяли ему так себя вести, не желая замечать, что упрямство этого ребенка растет вместе с ним. Педро Рамон давно уже не ребенок, он взрослый молодой человек, и если вы его не обуздаете, однажды настанет день, когда он потеснит вас с Барселонского трона.
— Я помню об этом, Альмодис. И поставлю его на место, дайте срок.
— Как скажете. Но имейте в виду, я в последний раз прощаю вашему первенцу подобную наглость. Если вы согласны, чтобы он и дальше вас позорил — на здоровье, но оскорблять меня я больше не позволю. В конце концов, он мне не сын, и я не обязана его терпеть... — в голосе графини зазвучала легкая угроза. — И мне бы не хотелось, чтобы однажды настал день, когда вам придется выбирать между ним и мной.
— Можете мне поверить, я найду на него управу.
— Очень на это надеюсь, — несколько смягчилась Альмодис, не слишком, впрочем, веря его словам.
Какое-то время супруги молчали. Граф по-прежнему обожал свою жену: рядом с ней он по-настоящему почувствовал себя мужчиной, а ее советы всегда способствовали процветанию Барселоны. Что же касается Альмодис, то после своих предыдущих неудачных браков она впервые заняла главенствующее положение, о котором всегда мечтала.
— А теперь, расскажите, Рамон, что привело вас ко мне.
— Мне нужен ваш совет и ваша помощь, — признался граф.
— Вы же знаете, что всегда можете рассчитывать и на то, и на другое.
— Тогда слушайте. Вы знаете, что графство благодаря своим купцам имеет глаза и уши во всех испанских королевствах. С нашими торговцами считаются даже во время войны, поскольку торговые пути — те вены, по которым движется кровь любого государства, и если торговля остановится, оно попросту умрет от голода.
— Я вас не понимаю, — растерянно произнесла она.
— Все очень просто. Мы можем сколько угодно вести с маврами бои за границы, но это не мешает нам с ними торговать.
— И что же?
— Я получил новости из Севильи. Меня просят оказать поддержку в какой— то кампании, имеющей прямое отношение к королю аль-Мутамиду.
— Какую поддержку? Кого и против кого вы должны поддержать?
— Пока я ничего не могу вам об этом сказать, поскольку сам не знаю. Знаю одно — примерно через месяц вам предстоит принять во дворце королевского посла Абу Бакра ибн Анимара, кастильцы называют его Абенамаром. Хотя двор Севильи считается самым великолепным в Испании, севильцы должны быть поражены роскошью и великолепием барселонского двора и богатством нашего города, пусть они поймут, что им предстоит иметь дело по меньшей мере с равноценным противником.
— В этом вы можете на меня положиться, Рамон. В прежней жизни за Пиренеями мне не было равных по части устройства торжеств с турнирами и выступлениями трубадуров. Будьте спокойны, вернувшись в Севилью этот утонченный посол будет с восторгом отзываться о том, как его принимали в Барселоне. Я устрою такие празднества, каких не знали со времен Карла Великого. Можете не сомневаться, после такого приема севильский король сам попросит вашей дружбы.
71
Правда и ложь
После смерти Лайи, со времени которой прошел уже год, Эудальд Льобет сильно изменился. Теперь он подолгу прогуливался в одиночестве в садах обители Пиа-Альмония, пытаясь найти ответы на одолевавшие его вопросы. Христианское смирение и кротость, которые он всеми силами культивировал на протяжении всей своей духовной жизни, призывали его быть предельно осторожным, однако смутные сомнения, неустанно терзавшие его с той страшной ночи, понемногу оформились в ужасное подозрение, которым он не мог ни с кем поделиться. Взгляд Монкузи, обрывки фраз Лайи, не слишком убедительная история про какого-то неизвестного аристократа, якобы обесчестившего девушку... Слишком много возникало вопросов, и каноник решил во что бы то ни стало докопаться до истины.
В годовщину смерти Лайи Эудальд, будучи тонким знатоком человеческой натуры, воспользовался этим предлогом, чтобы разобраться наконец с беспокоившим его делом, и наведался в роскошный особняк Монкузи. Он был уверен, что эта скорбная дата окажет угнетающее действие на состояние духа Монкузи, и тот, возможно, решится наконец сказать правду.
Пользуясь выпавшей свободной минуткой, добрый священник решил прогуляться, а заодно и навестить советника. Такая возможность выпадала ему нечасто: слишком много времени отнимала служба графине. И теперь он решил пройтись по улицам города, чтобы привести в порядок мысли. Проблема заключалась в том, что он был в городе довольно известной фигурой, и горожанки не давали ему прохода, бросаясь буквально под ноги, чтобы поцеловать руку.
Он миновал больницу Эн-Гитарт, а там до Кастельвеля было уже рукой подать. У ворот особняка Монкузи ему пришлось посторониться, уступая дорогу карете, запряженной четверкой мулов, с опущенными шторками и с охраной из шестерых всадников, которая на полной скорости выехала из ворот особняка. Карета неслась с такой скоростью, что, несмотря на крик кучера, с силой натянувшего поводья, правое колесо задело ворота. Пропустив карету, Эудальд вошел.
Не дожидаясь доклада караульного, навстречу гостю вышел привратник. Священника в этом доме прекрасно знали.
— Добро пожаловать, архидьякон, — поклонился привратник. — У вас назначена встреча с моим сеньором?
— Честно говоря, нет. Я рискнул прийти, хотя знал, что могу не застать его дома.
— Он дома. Я сейчас же извещу его о вашем приходе. Уж мне ли не знать, что дон Бернат готов вас принять в любое время дня и ночи.
— Конечно. Но все-таки невежливо врываться в чужой дом, не предупредив о своем приходе.
— Вы же знаете, что мой сеньор всегда рад вас видеть. Вы в этом доме — желанный гость.
Попросив гостя немного подождать, слуга скрылся во внутренних покоях и вскоре вернулся в сопровождении дворецкого.
Тот почтительно поклонился и поцеловал руку священника.
— Дон Эудальд, я увидел вас из окна второго этажа и со всех ног бросился вниз, — пустился он в пространные объяснения. — Каретный двор — не место для такого человека. Я уже послал слугу доложить дону Бернату, что вы желаете его видеть. Он в своем кабинете, сегодня с утра он не слишком хорошо себя чувствует. Сейчас он разбирает какие-то документы со своим секретарем, Конрадом Бруфау. Я немедленно доложу о вашем приходе, не думаю, что он заставит вас долго ждать.
— Вы очень любезны.
— Будьте добры следовать за мной.
Они прошли в дом, где дворецкий, любезно попросив падре Льобета подождать в гостиной, направился в кабинет хозяина.
Любуясь из окна гостиной ухоженным садом, Эудальд Льобет подумал, что, пожалуй, легче выстоять в смертельном бою, чем вести щекотливую беседу с могущественным барселонским промом.
За дверью кабинета послышались шаги слуги, оповещая о том, что казначей готов его принять.
— Дон Бернат ждет вас, — сказал он. — Я объявил ему о вашем приходе, и он сказал, что немедленно примет вас. Он даже отпустил секретаря, поверьте, никогда прежде с ним такого не случалось.
Он впустил священника в кабинет, и после положенных формальностей Эудальд остался наедине с человеком, которого после смерти Лайи подозревал в ужасных вещах. Они сели друг напротив друга, понимая, что предстоящий разговор может раскрыть самую их сущность. Единственное, в чем твердо был уверен священник — Марти не должен от этого пострадать.
— Добро пожаловать в мой дом, сеньор архидьякон, — произнес Монкузи, он и в самом деле выглядел больным.
— Простите мою невежливость, — ответил священник. — Благодарю, что приняли меня, но если вам сейчас нездоровится или вы заняты, я могу прийти и в другой день. Я знаю, вам сейчас трудно...
Бернат кивнул.
— Вы правы, — ответил он. — Но в этом доме вы всегда будете желанным гостем. Не хотите чего-нибудь выпить?
— Благодарю, но я предпочитаю вести беседу на трезвую голову.
— А я, с вашего позволения, попрошу себе что-нибудь принести.
Монкузи с усилием поднял с кресла свое грузное тело, направился к двери и кликнул слугу. Тот тут же принес кувшин вина. Монкузи плеснул в кубок изрядную порцию янтарной жидкости и вернулся на место.
— Так в чем же дело, Эудальд? Я вас слушаю.
— Сначала мне хотелось бы уточнить: считаете ли вы меня по-прежнему своим духовником, ведь я пришел к вам именно как духовник.
Советник беспокойно заёрзал.
— Разумеется. Хотя правильнее было бы сказать, своим духовным наставником, в последнее время я не бывал у вас на исповеди.
— И в церкви я вас давно не видел. Даже на пасхальной мессе вы не были, а ведь к ней ежегодно собирается весь графский двор, и на всенощной вы не были тоже.
Бернат Монкузи заметно побледнел.
— Совесть моя нечиста, — признался советник. — Не стану скрывать, за это время я пережил поистине адские муки.
— В таком случае, возможно, вам стоит очистить свою совесть, переложив бремя вины на пастыря Христова и избавиться от тоски, терзающей вашу душу денно и нощно. Как я сказал в тот злосчастный вечер, жнец душ может посетить нас в любую минуту, не предупредив о своем приходе.
Монкузи почувствовал опасность, но ещё надеялся выйти сухим из воды. Опустив глаза, он с видимым смирением прошептал:
— Я хочу поговорить с вами, падре. Раньше я не мог это сделать, но теперь готов.
— Рад это слышать, Бернат, — ответил священник. — Для этого я сюда и пришел. Если я помогу вам облегчить душу и избавиться от бремени, значит, пришел сюда не напрасно.
Советник выбрался из-за стола, подошёл к двери и запер ее на задвижку. Затем вернулся на своё место, его мозг лихорадочно работал.
— Я вас слушаю, сын мой, — произнёс священник. — Облегчите же вашу совесть.
— Падре, — прошептал Бернат. — Мой грех настолько ужасен, что ему нет прощения.
— Милосердие Господне поистине безгранично. Любой христианин может искупить грехи, пролив кровь невинного агнца. Говорите, я слушаю.
— Я невыносимо страдал все это время. Душа моя покрылась язвами, и лишь смерть Лайи заставила меня открыться вам.
Льобет жестом велел ему продолжать.
— Вы помните тот день, когда я приезжал просить вас помочь сладить с бедой, постигшей мою подопечную?
— Прекрасно помню.
— Я вам тогда солгал, — признался Бернат, пряча глаза.
— Я, конечно, не претендую на какую-то особую проницательность, но не могу не признать, что отдельные части этой головоломки и впрямь не складываются.
На лице советника выступили крупные градины пота.
— Я смиренно прошу вас выслушать мою исповедь, — попросил он.
Льобет извлек из-под одежды епитрахиль и, поцеловав ее край, надел на шею.
— Я готов, — произнёс он.
— Видите ли, падре, это сделал я.
В комнате повисло тяжелое молчание.
— Что именно, Бернат?
— Я совершил святотатство. Когда Лайя подросла, моя отеческая любовь, которую я всегда питал к девочке, превратилась в безумную страсть мужчины к женщине.
— Вы хотите сказать, что сами изнасиловали падчерицу? — воскликнул священник, не в силах скрыть ужаса и отвращения.
— Не все так просто, падре.
— Продолжайте, — потребовал священник.
— Я воспылал к ней страстью. Я перенёс на Лайю те чувства, которые питал к ее матери, и, несмотря на разницу в возрасте, предложил ей свою руку. Я боролся с этим как мог, но не решался вам исповедоваться, а потому исповедовался в церкви Святой Марии в Пи, хотя и там я рассказывал далеко не все.
— И что же произошло?
— Я узнал, что она увлечена вашим подопечным, и обезумел от ревности. Я заставил ее написать поклоннику ложное письмо с признанием, что якобы больше его не любит. Но несмотря на это, я всегда питал искреннюю симпатию к молодому человеку, и теперь признаюсь, что заставил ее так поступить.
Падре Льобет с такой силой вонзил ногти себе в ладонь, что выступила кровь.
— Это большой грех, — сказал он. — Однако особенно тяжким делает его то, что совершил его приемный отец, которому надлежало заботиться о благе девочки.
— Я знаю, и раскаиваюсь в этом, но тогда я считал, что действую ей во благо.
— Вот как?
— Когда она забеременела, я не позволил ей избавиться от ребенка и обещал, что буду о нем заботиться, но ребенок умер вскоре после рождения, а она отказалась выйти за меня замуж, как того требует закон. Бог свидетель, я хотел на ней жениться!
Льобет какое-то время молчал, ожидая, пока его сердце, готовое выскочить из груди, немного успокоится.
— А вот теперь головоломка понемногу начинает складываться, — заметил он. — Продолжайте.
— Я бы все исправил, уверяю вас, но у бедной девочки помутился рассудок, как в своё время у ее матери. Боюсь, это у них наследственное... Не знаю, что произошло, но бедняжка совсем помешалась. Чем это кончилось, вы сами знаете.
— Расскажите об Аише.
— Здесь кроется другая причина ее помешательства. Да, я обвинил Аишу в том, что она заронила в душу моей воспитанницы отравленное семя греховного чувства. Но не моя вина, что она заболела чумой, и мне пришлось разлучить ее с Лайей. Потом она умерла, а моя малышка помешалась от горя.
Вновь воцарилось тягостное молчание.
— Расскажите, какие ещё преступления не дают вам покоя.
— Уверяю вас, больше никаких. Во всем остальном я совершенно чист, вся моя жизнь посвящена служению графу и графине.
— Встаньте на колени, я дарую вам отпущение грехов.
— И вместе с ним — саму жизнь.
Монкузи опустился на колени, и священник произнёс долгожданные слова:
— Отпускаю тебе грехи твои...
Затем оба поднялись, давая друг другу понять, что разговор окончен.
Провожая его до дверей, советник вновь заговорил, и в его голосе каноник расслышал скрытое торжество:
— Помните о тайне исповеди: никто не должен узнать о том, что я вам рассказал.
— Исполняйте ваш долг христианина, а я исполню свой долг слуги Господнего, — ответил священник.
— Ступайте с Богом, падре Льобет.
— Оставайтесь с Богом, Бернат.
И архидьякон покинул дом с чувством глубокого отвращения к этому мерзавцу и с безмерной тяжестью на душе, что столь чудовищное злодеяние окажется безнаказанным.
72
Я уже взрослая
Руфь, которой уже исполнилось шестнадцать лет, попросила у отца разрешения зайти к нему в кабинет. Старика удивила странная просьба, ведь он и без того каждый день виделся с еще живущими в доме дочерями, Башевой и Руфью, а их разговоры всегда крутились вокруг женихов. Его старшая дочь Эстер год назад вышла замуж за Беньямина Хаима, сына его друга-раввина, и уехала жить в Бесалу, к семье мужа. Зная характер Руфи и ее упрямство, он решил, что она просто не желает в следующую субботу идти в синагогу на церемонию благословения новой Торы.
Бенвенист, как всегда, окруженный древними рукописями и фолиантами, изучал манускрипт, присланный ему одним другом из Толедо. Этот манускрипт он собирался показать Эудальду Льобету, которого считал единственным сведущим человеком — несмотря на сан священника, Льобет отличался ясным и открытым умом, способным непредвзято судить о самых разных вещах, будь то переводы стихов арабского поэта Хасана бин Сабита, комедии грека Аристофана с грубоватым юмором, или писания святого Августина. В эту минуту деликатный стук в дверь напомнил о предстоящем разговоре с младшей дочерью.
Звонкий голос девушки прервал его размышления.
— Я могу войти, отец? — спросила она.
— Конечно, Руфь.
Девушка открыла дверь и проскользнула в просторный кабинет. Барух не переставал любоваться этим созданием: гибкая талия, безупречный овал лица, миндалевидные глаза и решительность, столь несвойственная женщинам ее племени. Барух давно удивлялся, откуда в ней все это взялось. Руфь не была похожа ни на него самого, ни на его жену, никогда, даже в юности, не отличавшуюся особой красотой.
— Я могу сесть, отец?
Что-то в тоне девушки насторожило его. Скатав манускрипт, Барух кивнул.
— Конечно, Руфь. Не обсуждать же стоя серьезные дела.
Барух надеялся, что дочь поймет шутку и отнесется к его словам соответственно. Однако реакция девушки оказалась совершенно неожиданной.
— Я очень рада, что вы понимаете, насколько это важно, — ответила она.
Серьезное выражение на лице дочери заставило старика не на шутку забеспокоиться.
— Ты меня пугаешь... — сказал он. — Что случилось?
— Видите ли, отец, я даже не знаю, с чего начать.
— Говорю всё без утайки. Мы здесь одни, и времени достаточно.
Руфь глубоко вздохнула и заглянула в тревожные глаза отца.
— Хорошо. Вы привыкли считать меня ребёнком, быть может, потому, что я самая младшая, или по какой-то другой причине, но вы всегда давали мне понять, что считаете меня ещё маленькой.
— Наверное, ты права. Возможно, я был слишком занят собственными делами и не заметил, как ты выросла. Но в последнее время я уделяю тебе не меньше внимания, чем твоим сестрам. Возможно, я просто слишком тебя люблю и по-прежнему считаю своим маленьким цветочком, но если тебя это так угнетает, с сегодняшнего дня все пойдет по-другому.
— Но проблема даже не в этом. — От волнения Руфь крепко вцепилась обеими руками в подлокотники кресла. — Вы никогда не воспринимали меня всерьёз, относились ко мне, как к ребёнку... Но сейчас... Нынешние мои проблемы — это проблемы взрослой девушки, а не ребёнка, которого можно утешить куском засахаренного имбиря и заставить слушаться.
— Руфь, я тебе уже сказал, что готов это исправить — конечно, в пределах разумного, если это не угрожает моей отцовской власти и авторитету. Расскажи мне о своих проблемах, Руфь, и постараюсь в них разобраться.
Руфь отвела взгляд — но лишь на миг. Затем ее глаза вновь встретились с отцовскими.
— Мама сказала, что вы присмотрели для меня нескольких женихов. — Руфь глубоко вздохнула, прежде чем продолжить. — Так вот, я не хочу выходить замуж ни за одного из них.
Барух поморщился.
Наступило короткое, но гнетущее молчание, лишь скрипнули половицы под ногами Баруха.
— Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? — вскричал он.
— Никогда прежде я не была так уверена в своих словах.
— Возмутительно! До сих пор я ни в чем тебе не отказывал, но попомни мое слово, настанет день, когда...
— Это мое окончательное решение, отец, — твёрдо произнесла она. — Я не хочу выходить замуж ни за кого из этих молодых людей.
— Да ты с ума сошла! Сначала ты приходишь ко мне и жалуешься, что я считаю тебя ребенком, а потом начинаешь нести всякий вздор! И хоть бы объяснила, в чем дело...
На губах Руфи мелькнула торжествующая улыбка.
— Как взрослая женщина я прошу вас, отец, просто принять мое решение и не задавать вопросов. В свое время вы все узнаете.
— Да что ты такое говоришь?
Щеки Руфи вспыхнули, а взгляд мечтательно устремился вдаль.
— Я не могу выйти замуж ни за кого из них, потому что мое сердце принадлежит другому.
Бенвенист поднялся с кресла и принялся нервно расхаживать по комнате, заложив руки за спину.
— Могу я поинтересоваться, о ком ты говоришь? — спросил он.
— Пока ещё нет, отец,. Но все же я хочу быть с вами честной, и потому должна сказать о главном: человек, которого я люблю — не еврей.
Барух ошеломленно взглянул на дочь.
— Но ты хоть понимаешь, что это невозможно?
— В этом мире нет ничего невозможного. — Руфь вскочила, глядя ему прямо в глаза. — Если понадобится, я поменяю веру.
Удивленный и рассерженный Барух подошел к дочери и посмотрел ей прямо в лицо. Не отведя взгляда, Руфь продолжала:
— Я считаю, что куда лучше выйти замуж по любви, чем по расчету; хотя это не мешает многим вашим алчным единоверцам процветать при дворе графа Рамона Беренгера и графини Альмодис, которые, кстати, тоже не посчитались со своей религией, не побоялись скандала и много лет жили вместе без брака.
Перепуганный насмерть Барух бросился к окну и в панике захлопнул ставни.
— Руфь, умоляю тебя, следи за своими словами! У евреев и так достаточно проблем, а ты еще и выражаешь свое мнение перед открытым окном, где нас может услышать кто угодно! Ты требуешь, чтобы тебя считали взрослой, а ведешь себя безрассуднее любого ребенка... Однако, спохватившись, что этот выговор ничего не изменит, он решил вернуться к прежней теме. — Так вот, — произнес он, — имей в виду, что ни я, ни твоя мать никогда не допустим такого союза.
— Мне уже шестнадцать лет, отец. Мне не требуется ваше разрешение. Я лишь хотела поставить вас в известность о моем решении. Я хочу быть счастливой в этом мире, а не в том, другом, которого никогда не видела. Да и никто другой тоже.
— Руфь, мне не хотелось бы этого делать, но ты не оставляешь мне другого выхода. Я запрещаю тебе идти на поводу у твоих глупостей!
— Вы не можете мне ничего запретить, отец, — перебила Руфь. — Я вам больше скажу: он даже не знает, что я его люблю, но если однажды он ответит мне взаимностью, это будет для меня лучше любого рая — будь то рай христианский, иудейский, мусульманский или какой-нибудь еще. И уверяю вас, что не стану сидеть сложа руки и ждать. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы добиться его любви.
— Ты хочешь, чтобы я умер от горя?
— Вы же сами знаете, что ваше горе может стать моим счастьем. Если вы действительно меня любите, вам придётся смириться.
С этими словами девушка поднялась со своего места и, поклонившись, вышла из кабинета, оставив потерявшего дар речи Бенвениста в одиночестве.
73
Взгляд в прошлое
Эудальд Льобет обрадовался, застав Марти за работой, зная по опыту, что, когда человек занят делом, он меньше горюет. Льобет много думал об исповеди Монкузи и, разумеется, знал, что долг священника — свято хранить ее тайну. С другой стороны, понимая, какая тяжкая боль лежит на сердце у Марти, он все же решил рассказать ему часть правды, чтобы избавить юношу хотя бы от некоторых сомнений, терзающих его душу.
Их разговор состоялся в порту, где Марти наблюдал за погрузкой и разгрузкой одного из девяти своих кораблей. Как всегда, в глазах Марти стояла печаль, а в чертах лица со дня смерти Лайи поселилась скорбь.
— Как ваши дела, Марти? — спросил каноник, пряча руки в рукава рясы от холодного зимнего ветра.
— Слава Богу, более или менее. Как видите, весь ушел в работу, она помогает не думать о ней...
— И каковы ваши дальнейшие планы?
— Собираюсь посвятить работе остаток жизни.
Священник задумался над этими словами.
— Жизнь — это долгий путь, на котором встречаются как тернии, так и розы, — произнес он в ответ. — Все в ней случается — и горе, и радость. Но нельзя впадать в уныние. Горести — еще не конец жизни, наш долг — подняться и продолжать путь. В конце концов, Господь всегда заботится о своих детях.
— Возможно, но порой он забывает о них. Скажу вам честно: вера моя пошатнулась.
— Не гневите бога. Людям дано видеть лишь малый отрезок своего пути. Он же со своей вершины видит все. Хотя я могу вас понять: случившееся ужасно, но все же я не сомневаюсь, что в конце концов вы поймете — конечно, если не утратите веры, что хорошего в вашей жизни намного больше, а ваш путь в целом поистине прекрасен.
Марти немного помолчал.
— Эудальд, рана в моей душе так и не зажила, — признался он наконец.
— Для этого требуется время...
— Перед смертью Лайя сказала мне прекрасные слова. Но мне до сих пор не дает покоя мысль: почему она так поступила? Из-за чего приняла столь чудовищное решение?
— Случившееся с ней было настолько ужасно, что у нее помутился рассудок. Никто на свете не может судить человека за самоубийство, поскольку не в нашей власти проникнуть в чужую душу, но я могу вам сказать, что произошло с Лайей. Возможно, от этого вам станет немного легче.
— Что?
Острая боль сомнений одолевала священника, ведь впервые в жизни он собирался открыть постороннему человеку услышанное на исповеди.
Марти нетерпеливо шагнул навстречу Эудальду и, взяв его за плечо, развернул лицом к себе.
— Говорите же, ради всего святого!
— Лайя любила вас — с первой встречи и до последнего вздоха.
— В таком случае, что же она хотела сказать в этом своём письме?
— Она действительно хотела вам кое-что сказать. Что по-прежнему любит вас, но не может в этом признаться.
— Но, в таком случае, что или кто заставил ее написать подобное?
— Обстоятельства, Марти. Обстоятельства и законы, которые правят в нашем мире.
— Что вы хотите этим сказать?
Льобет помедлил, прежде чем решился сказать полуправду.
— Лайю изнасиловал человек столь могущественный, что едва ли кто-то осмелиться бы встать у него на пути.
— Закон един для всех, — возразил Марти.
— Вы же сами знаете, что это не так. Бернат тоже это знал. Сначала он хотел отправить ее в монастырь, но потом, рассудив, что опороченную девушку туда могут не принять, решил выдать ее за вас замуж, в надежде, что со временем ее боль утихнет, а то и вовсе забудется. Однако он понимал, насколько вы будете возмущены, узнав правду, и потому придумал эту историю про неведомого аристократа. Более того, вы не знали еще кое о чем. Я сам узнал об этом совсем недавно.
— Продолжайте, Эудальд. Все равно хуже быть уже не может.
— У Лайи родился ребёнок, который умер вскоре после рождения.
74
Марти и Альмодис
Дела Марти шли в гору, молодому человеку даже казалось, что провидение старается таким образом хоть немного восполнить утрату. Срок аренды дома возле церкви святого Михаила истекал, однако и здесь фортуна пришла Марти на помощь. Владелец дома нуждался в деньгах и согласился заложить дом, чтобы получить кредит. Зная человеческую природу, Марти не сомневался, что тот не сможет выплатить деньги в срок, и дом перейдет в его собственность. Так и произошло.
Затем, благодаря своим связям и врожденной предприимчивости, ему удалось купить плодовый сад с водонапорной башней, откуда открывался вид на городскую стену, и два поместья неподалеку от города. В скором времени его сосед, чьи земли лежали между этих двух поместий, решил, лучше перебраться в другое место, чем жить рядом с таким трудолюбивым человеком, поскольку шум работ в поместьях Марти начинался еще до рассвета и не стихал до поздней ночи. Потеряв надежду когда-нибудь спокойно уснуть, сосед легко согласился продать Марти свое имущество — разумеется, за хорошую цену, поскольку раздражающий сосед оказался отнюдь не скуп.
Морская торговля также шла в гору. Число его кораблей значительно увеличилось, теперь Марти владел двумя гребными и тремя парусными галерами, двумя грузовыми судами и тремя баржами для каботажных перевозок. Лучшими его капитанами по праву считались Жофре, Феле (другой его друг детства, Марти поручил ему заняться портом Сан-Фелиу, куда привозили из Сицилии и Сардинии кору пробкового дуба, вывозили специи) и грек Манипулос, который вместе с «Морской звездой» тоже вошел в их кампанию.
Многие редкие товары, привезенные из далеких земель, продавали потом на ярмарках в разных городах, куда Марти отправлял их на телегах. Эмблема из букв М и Б на мачтах его кораблей получила такую известность, что многие хотели торговать под его флагом. Марти ввел на борту новые традиции. На каждом его корабле имелся лекарь, следивший за здоровьем моряков и даже рабов на галерах.
Когда у Марти выдавалось несколько свободных дней, он навещал мать. Правда, это случало редко. Он вставал засветло и ложился глубокой ночью. Стоило ему закрыть глаза, как его одолевали кошмары, в которых неизменно являлся призрак погибшей Лайи.
Другим предметом, занимавшим его мысли, было чёрное масло. Манипулос стал основным перевозчиком драгоценной жидкости из дальних портов, куда ее привозил Рашид аль-Малик при помощи Марвана, бывшего погонщика верблюдов, а теперь — доверенного лица Марти. Трюмы кораблей наполовину засыпали песком, а в него погружали остроконечные амфоры, наполненные чёрным маслом. Амфоры перекладывались сеном и пенькой, чтобы не побились во время качки. Затем их перегружали на шлюпки и доставляли в Барселону. Груз доставляли к месту назначения в кратчайшее время и, пока один корабль разгружался в порту, следующий был уже на подходе. После долгих месяцев неустанных трудов механизм доставки необычного груза был безупречно отлажен, и теперь Марти мог гордиться собой, видя, как преобразилась Барселона благодаря его усилиям.
Отношения Марти с советником стали теперь сугубо деловыми. Бернат Монкузи предоставил ему огромные подземные склады между городской стеной и его садами, Марти хранил там сосуды с драгоценной жидкостью. Горлышки их были запечатаны, чтобы масло не испарялось.
Марти закончил модель горелки и клетки для светильника, после чего отнес ее кузнецу, которого рекомендовал Барух Бенвенист, а потом испытал свое изобретение. Оставалось лишь дождаться, когда Монкузи договорится о встрече с вегером.
Случай представился скоро. Смотритель рынков и аукционов часто встречался во дворце с графиней, которая всегда советовалась с ним по поводу дворцовых празднеств и теперь излагала свои пожелания относительно того, чтобы прием в честь прибытия Абенамара, посла короля аль-Мутамида Севильского, был как можно более пышным и блестящим. Монкузи сообщил об этом Марти, и в скором времени тот предстал перед графиней, желающей лично руководить подготовкой торжеств и держать под контролем все до мельчайших деталей.
Марти воспрянул духом. Всего пять лет назад он впервые ступил на улицы этого большого города, в числе многих, кто стремился найти своё место в жизни, и вот теперь его собирались представить самой графине Альмодис. В другое время он был бы на седьмом небе от счастья, но теперь его радость омрачалась глубокой скорбью, которая, казалось, никогда уже его не покинет. Вместе с вегером и советником он дожидался в приёмной личного кабинета графини, а Омар и Андреу Кодина, его дворецкий, стояли во дворе с тяжелым железным сооружением.
Двери графских покоев распахнулись, и дворецкий, трижды ударив жезлом об пол, объявил имена посетителей.
— Ольдерих де Пельисер, вегер Барселоны, Бернат Монкузи, дворцовый советник и смотритель аукционов, и коммерсант Марти Барбани просят аудиенции!
Альмодис поприветствовала их легким поклоном, и в тот же миг Марти, сам не понимая почему, преклонил колено перед могущественной графиней. Ольдерих и Монкузи, более привычные к дворцовым порядкам, остались стоять со шляпами в руках, ожидая, пока графиня с ними заговорит.
После традиционных приветствий сиятельная дама произнесла с достоинством королевы:
— Ну что ж, сеньоры, как именно вы собираетесь сделать Барселону самым блистательным городом Средиземноморья?
Слово взял Ольдерих де Пельисер.
— Видите ли, сеньора. Вчера вы пожелали, чтобы в день приезда блистательного гостя Барселона сияла огнями, а тот, вернувшись в Севилью, с восторгом поведал своему монарху, как богата и могущественна Барселона.
— Да, я так сказала, и именно это собираюсь сделать.
— Ну что ж, тогда я предоставляю слово нашему сиятельному смотрителю рынков, благодаря которому я теперь имею возможность предложить вам эту чудесную вещь.
Альмодис взглянула на Монкузи, удивленно приподняв брови.
— Сеньора, я всего лишь посредник, идея принадлежит моему юному подопечному, Марти Барбани, который пока ещё не имеет звания гражданина Барселоны, но все же я решился вам его представить.
Зеленые глаза Альмодис в упор посмотрели на Марти, и он внезапно ощутил сильнейшую волну флюидов, исходящих от этой дамы.
— Говорите, — произнесла она.
— Ну что ж, сеньора, — начал Марти. — Я — сын Гийема Барбани де Горба, верно служившего графу до самой смерти, как до него служил его отец. Я прибыл в Барселону около пяти лет назад...
— Молодой человек, меня не интересует ваша родословная, и у меня нет времени выслушивать ваше жизнеописание. Говорите по существу — о том, что касается приема, который я поручила подготовить вегеру и советнику, ведь именно для этого они предоставили вам слово.
Монкузи, преследуя собственные интересы и видя, что дело приобретает нежелательный оборот, решил вмешаться:
— Именно это я и собираюсь сделать, сеньора, и я прекрасно понимаю, что сейчас не время для утомительных отступлений. Если же вы пожелаете узнать подробнее о личных качествах сеньора Барбани, можете расспросить об этом Эудальда Льобета, которого вы хорошо знаете.
Услышав имя своего духовника, Альмодис тут же сменила тон:
— Вы знакомы с доном Эудальдом?
— Он был другом моего отца, прежде чем стать священником, — ответил Марти, — и хранил у себя отцовское завещание.
— Об этом вы мне потом расскажете, — смягчилась Альмодис. — А сейчас давайте вернёмся к интересующей нас теме.
Повинуясь приказу сеньоры, Марти приступил к делу.
— Видите ли, во время одной из моих поездок я имел случай заключить торговую сделку за пределами Леванта и стал обладателем уникальной вещества, которое, если вы сумеете им распорядиться, поможет сделать Барселону одним из самых передовых городов Средиземноморья.
— И в чем же его преимущества?
— Если опустить в него фитили из шерстяных нитей, то они горят намного дольше и дают более яркий свет, чем свечи или обычные факелы, и в конечном счёте такие светильники обойдутся намного дешевле.
И тут вмешался Монкузи — разумеется, отстаивая собственные интересы.
— Если установить такие светильники на углах улиц и на площадях, будет намного удобнее следить за порядком в городе, и людей для этого потребуется гораздо меньше, а как известно, людей у нас и так не хватает.
— Это пойдет на пользу городской казне, — добавил Ольдерих.
— И когда же я смогу увидеть это чудо? — осведомилась графиня.
— Если пожелаете, сеньора, то хоть прямо сейчас, — ответил Марти.
— Так идемте!
— Все уже готово, — заверил Монкузи. — Мы решили, что будет лучше, если вы все увидите собственными глазами.
— И где вы можете показать, как горят эти светильники?
— Если вы не возражаете, на конюшенном дворе.
— Прекрасно!
— В таком случае, с вашего позволения, я пойду вперёд, чтобы закончить необходимые приготовления. У входа во дворец меня ожидают двое моих людей со всем необходимым. А когда вы спуститесь, то все увидите и не потеряете ни минуты своего драгоценного времени.
— Хорошо, Марти. Дворецкий вас проводит.
Марти Барбани удалился готовить к показу свои светильники — пятясь спиной, как учил его советник, непревзойденный знаток дворцового этикета.
75
Эдельмунда
Ненависть переполняла сердце Эдельмунды и давала ей возможность чувствовать себя живой. Память возвращала ее в тот день, когда началось ее падение в бездну.
В тот роковой день ее везли в карете — кое-как одетую, с растрепанными волосами, с глазами, полными ужаса и негодования. Две мысли терзали ее душу. Прежде всего — страх перед неизвестностью: ведь она понятия не имела, куда ее везут и когда она сможет вернуться в Барселону. А вторая — жгучая обида от несправедливости: ведь единственным ее преступлением было то, что она неукоснительно исполняла приказы своего хозяина, и он прекрасно это знал. И если все пошло не так, как он рассчитывал, то ее вины в этом нет, почему же она должна расплачиваться за вспыльчивость и несдержанность своего хозяина? Почтенная и образованная женщина вроде нее не заслуживает участи изгоя.
По слабому свету, проникающем сквозь щели между шторками на окнах кареты, она поняла, что уже наступил вечер. А заперли ее там около полудня, значит, едут они уже несколько часов. Ко всему прочему, ей отчаянно требовалось облегчиться. Нечего было даже думать о том, чтобы стража согласилась остановить карету, и Эдельмунда в конце концов решилась. Задрав юбки и найдя щель в полу, женщина начала мочиться прямо в нее. Снаружи тут же послышались громкие крики и смех; стражники явно радовались, что получили повод для непристойных шуток. Эдельмунда ничего не сказала. Придет время, когда она окажется на коне, и уж тогда рассчитается за свое унижение.
Карета затряслась сильнее, то есть они свернули с большого тракта на проселочную дорогу. Оси скрипели, а качало так, будто она находится не в карете, а на галере посреди бурного моря. Время от времени Эдельмунда слышала свист кучера, а щелканье кнута стало чаще, заставляя мулов тянуть сильнее; даже в закрытой карете чувствовалось, что дорога пошла в гору. Эдельмунда съежилась в уголке и предалась горьким воспоминаниям.
Со дня смерти Лайи события понеслись с такой быстротой, что даже не успели задержаться в ее памяти. После разыгравшейся трагедии никто не решался беспокоить сеньора. Он закрылся в своих покоях за запертыми дверьми. Даже Конрад Бруфау не смел его беспокоить, даже дворецкий не решался отнести ему еду. Жизнь в доме как будто замерла. Слуги блуждали по коридорам, механически занимаясь своими обязанностями и стараясь держаться как можно тише, предчувствуя надвигающуюся бурю.
Спустя два дня в дом советника прибыл граф Барселонский собственной персоной, в сопровождении графини Альмодис и нескольких придворных, чтобы лично выразить свои соболезнования. Бернат Монкузи вышел им навстречу в чёрном, с посеревшим лицом, на котором читалась глубокая скорбь. Преклонив колени перед своими сеньорами, он с печалью в голосе поприветствовал венценосную чету, снизошедшую до скромной обители своего верного слуги, чтобы разделить с ним горе и предложить помощь в тяжкую минуту. После долгих споров, можно ли тело самоубийцы хоронить в освященной земле, по настоянию графини обратились за советом к Эудальду Льобету. Когда тот заверил, что перед смертью девушка исповедалась и покаялась, епископ разрешил похоронить ее на маленьком кладбище в Саррии.
На следующий день, когда визит венценосной пары остался позади, все скорбные обряды были завершены, и жизнь вошла в обычную колею, Эдельмунду вызвали в кабинет советника. Позднее, уже трясясь в карете, женщина вспоминала этот разговор от первого до последнего слова.
Она помнила, как стояла перед ним, судорожно заломив руки и дрожа. Голос ее беспощадного судьи до сих пор отдавался эхом в ушах, это был самый жестокий и несправедливый приговор, какой она когда-либо слышала.
— Из-за вашей безответственности меня постигло глубокое горе. Смерть была бы для вас слишком лёгким наказанием. Да, порой лучше смерть, чем жизнь в неустанных муках. Так вот, вы будете расплачиваться многие годы. Останетесь в живых, но будете молить о смерти. Я не желаю больше вас видеть, никто из прежних знакомых тоже вас больше не увидит. Отныне вашими товарищами станут такие же изгои, как вы. Вы виновны в этом несчастье. Даже смерть любимой супруги была для меня меньшим горем. Да покарает вас за это Господь!
Эти слова прозвучали окончательным приговором.
Давняя дружба с начальником стражи теперь сослужила ей добрую службу: Эдельмунда успела не только собрать вещи, но и прихватить особый кошель в виде пояса, где она хранила все свои сбережения, на которые собиралась жить в старости, и печать, доставшуюся ей от отца. Быстро задрав юбки, она обмотала кошель-пояс вокруг талии.
Пока она вспоминала всё это, время текло незаметно. Ее стража ехала молча. Эдельмунда опомнилась, лишь когда услышала снаружи раздраженную ремарку, означающую, что путешествие подошло к концу. Теперь они спускались по крутому склону. Идущий из щелей снизу холод пробирал Эдельмунду до костей. Все ее чувства обострились.
Карета остановилась, и снаружи послышались голоса: похоже, глава конвоя переговаривался с дозорным. Перекинувшись с ним несколькими словами, конвоир подошёл к карете и поднял заднюю часть повозки — она держалась на двух тяжёлых петлях. Дверь медленно открылась, и внутрь заглянуло бородатое усталое лицо главы конвоя, едва освещённое тусклым светом факела, который держал в руке один из его подчинённых.
— Надевай!
С этими словами он бросил в карету ворох одежды.
Эдельмунда не успела ответить: дверь снова захлопнулась, и она оказалась в непроглядной темноте.
Пошарив по полу, она нашла брошенную одежду. Эдельмунда наскоро переоделась, стараясь прикрыть спрятанные на теле сбережения. На ощупь одежда казалась простой и грубой, а обувь оказалась сандалиями, сплетенными из какой-то травы.
— Я готова, — сказала она.
Собственный голос после долгих часов молчания показался ей чужим.
Дверца снова открылась. Прозвучал резкий и сухой приказ:
— Выходи!
Затекшее от долгой неподвижности тело отказывалось служить. В конце концов она неуклюже выбралась наружу. Голос командира стражи зазвучал вновь.
— Такова ваша судьба. Здесь вы будете жить до самой смерти, если Господь не решит иначе.
— Где я? — спросила она.
Садясь в седло, стражник ответил:
— У вас будет достаточно времени, чтобы это выяснить. А мы не хотим здесь задерживаться ни единой лишней минуты.
С этими словами он развернулся и поскакал прочь вслед за своими людьми.
Когда карета и всадники с факелами скрылись вдали, Эдельмунду окружили мрак и безмолвие. Ночь была черной и непроглядной; ни единой звезды не было видно на небе, что показалось ей дурным предзнаменованием. Холод пронизывал ее бедное тело до самых костей, зубы стучали, издавая единственный звук у этой гнетущей тишине. Стражник, говоривший с ее конвоиром, удалился в бревенчатую сторожку на узкой тропе. Чуть дальше виднелись конические крыши двух шалашей, тоже, видимо, служивших убежищем для стражников. Эдельмунда не знала, где находится и что означали зловещие слова конвоира.
Но она решила, что пытаться разговорить стражника — занятие бесполезное. Эдельмунда по-прежнему не представляла, где находится, и оставалось только идти вперед. Мало-помалу ее глаза привыкли к темноте. Вдали она различила силуэт горного хребта, окружающего это место со всех сторон. И вдруг ее сердце радостно забилось: далеко впереди она увидела свет! Два или три тусклых огонька, едва различимые вдалеке. Эдельмунда нетвердым шагом направилась в сторону этой призрачной надежды, стараясь ступать как можно осторожнее, чтобы в темноте не споткнуться о корягу или не свалиться в яму.
По мере ее приближения сидящие вокруг ближайшего костра смутные силуэты приобретали более четкие очертания. Одна из теней подбрасывала дрова в огонь, на котором стоял горшок с каким-то варевом, а другая помешивала в горшке деревянной ложкой, чтобы варево не подгорело. От запаха съестного у нее потекли слюни: ведь она не ела уже много часов.
Треск ветки под ее ногой заставил кашеваров насторожиться. Оба человека подняли головы и уставились на Эдельмунда. В свете костра она увидела, как оба накинули на головы капюшоны, поспешно собрали пожитки, подхватили за обе ручки горшок с варевом и скрылись в одной из пещер, которые во множестве виднелись в каменистом склоне горы. Эдельмунда подошла к покинутому костру. По спине у нее побежали струи холодного пота, когда она заметила, что из зева одной из пещер за ней наблюдают несколько пар глаз. Внезапная радость охватила все ее существо: она здесь не одна! Здесь есть и другие люди. Отбросив последние сомнения, она направилась к свету.
— Сюда! Ко мне! — закричала она. — Ради всего святого, спасите христианскую душу!
Ужасные звуки, смысл которых ей был прекрасно известен, заставил ее остановиться. Обитатели пещер принялись греметь костяными погремушками и стучать посохами с навершиями в виде черепов, давая ей понять, что это место — не что иное, как лепрозорий.
В эту минуту в ее памяти всплыли слова конвоира, смысла которых она поначалу не поняла: «Мы не хотим здесь задерживаться ни единой лишней минуты». Одновременно до нее дошло, и какую одежду ей вручили. Она была сшита из мешковины — так одевались прокаженные. Последняя капля переполнила чашу ее страданий, колени Эдельмунды подкосились, и она потеряла сознание.
Она не знала, сколько времени пролежала без чувств, как вдруг ощутила, как лица коснулось что-то влажное. Открыв глаза, она увидела склонившуюся над собой фигуру в бурых лохмотьях и с посохом, украшенным навершием-черепом. Незнакомец протирал влажной губкой ей лоб. Эдельмунда подняла голову.
— Кто ты такой? — спросила она.
Тень ответила — сухим, дребезжащим голосом:
— Неважно.
— Тогда скажи, где я?
— В колонии прокаженных, за рекой Монтсени.
Кровь застыла у неё в жилах, едва она услышала эти слова. То, что прежде было лишь смутным подозрением, теперь оказалось страшной правдой. Теперь до неё наконец полностью дошёл ужасный смысл последних слов Монкузи.
А тень между тем продолжала:
— Должно быть, ты совершила ужасное преступление, если тебя приговорили к подобной участи — худшей, чем смерть.
Эдельмунда разрыдалась.
— Единственное мое преступление в том, что я, как верная собака, служила моему хозяину, выполняя его приказы, а он за это меня покарал.
— Значит, это был плохой хозяин.
Женщина принялась раздувать гаснущие угли костра. Тем временем, закутанные в мешковину тени робко приближались, не рискуя, однако, войти в круг света, который отбрасывали тлеющие угли.
— Если ты голодна, мы дадим тебе еды. Все, кто попадают сюда, рано или поздно подхватывают ту хворь, что терзает нас всех. Выбраться отсюда нельзя: отсюда ведёт лишь одна дорога — через горы, и ее день и ночь охраняют люди графа, которые тоже в каком-то смысле наказаны. Кто-то — за дезертирство, но большинство — за дуэли со смертельным исходом. Короче говоря, если останешься снаружи, то очень скоро умрешь от холода; если пойдёшь с нами в пещеры — умрешь от проказы, но несколько позже. Выбирай.
Эдельмунда вновь разрыдалась, затем, немного успокоившись, попыталась возразить:
— В городе есть прокаженные; они выходят по ночам и стучат в свои погремушки.
— Тем ещё повезло. А мы здесь все обречены. Не все, кто оказался в этой тюрьме, были больны проказой, но все рано или поздно заболевают.
— Но это же хуже смерти!
— Не смотри на это так. Да, наша жизнь — в сущности, смерть при жизни. Но здесь никто никому не завидует, ну, разве что городским прокаженным, которым живется лучше. Когда ты здесь обживешься, то убедишься, что здесь нет места зависти. Здесь нет ни сеньоров, ни вассалов, здесь все равны. Решай, что ты выбираешь: быстро умереть от холода или медленно умирать от болезни, дожидаясь, пока плоть твоя сгниет прямо на костях и они упокоятся с миром?
И тогда Эдельмунда приняла решение.
— Я пойду с тобой, — сказала она, — и буду жить мечтой о мести.
— Ненависть помогает жить. Только оставь напрасную надежду, что сможешь отсюда выбраться. Отсюда ещё никто не вышел.
— Когда-нибудь я это сделаю, и тогда кое-кто за все ответит!
76
Барселона
Той весной весь город праздновал. Из уст в уста передавались новости, по пути изменяясь до неузнаваемости. На одной улице говорили, что посла аль-Мутамида Севильского сопровождают триста копейщиков в серебряных доспехах, то уже на следующей это число увеличивалось: воинов было пятьсот, они носили золотые кольчуги, а лошадей украшали шелковые попоны. Вегер разослал по всему городу глашатаев в сопровождении горнистов и барабанщиков, чтобы горожане были в курсе всех серьезных новостей. В нескольких случаях пришлось вмешаться командиру городской стражи, чтобы никто не препятствовал менестрелям.
Когда же вегер приказал красильщикам убрать с улицы чаны с прокисшей мочой, которую использовали для отбеливания тканей, дома наполнились столь невыносимым аммиачным духом, что дышать стало почти невозможно. От клубящихся под потолком ядовитых испарений люди теряли сознание и приходилось бежать за лекарем, а у одной женщины даже случился выкидыш.
Кузнецы трудились денно и нощно, чтобы выковать нужное число фонарей. В те дни Барселона бурлила, жители не переставали удивляться кипучей деятельности городских властей. На углах улиц и площадей на высоте в два человеческих роста установили что-то вроде открытых сверху железных клеток, внутри которых размещалась емкость с фитилем. Люди гадали о предназначении этих клеток.Но когда через несколько недель изобретение заработало, город наполнился восхищенными возгласами.
С наступлением сумерек по городу рассыпались специальные служители с длинными шестами и щипцами на конце для регулировки фитилей, а также факелами, которыми поджигали эти фитили, смоченные в черной жидкости из емкости. Когда в свои права вступила ночь, Барселона совершенно переменилась. Графиня в сопровождении Дельфина и первой придворной дамы Лионор, лично проехала по городу в закрытом паланкине, чтобы убедиться — всё выглядит именно так, как ей и обещали. Она проехала по Калю и через ворота Бисбе направилась к малому дворцу, а оттуда довольная вернулась обратно.
Чуть в стороне, приноравливая темп лошадей к шагу носильщиков, ехали вегер Ольдерих де Пельисер и сияющий Бернат Монкузи.
Когда процессия ступила на мощеный двор графского дворца, графиня вышла, а за ней Дельфин и Лионор.
— Поздравляю вас, вегер, — сказала она. — Просто не верится, что город, представший моему взору в этом волшебном свете — знакомая мне Барселона.
— Мне приятно это слышать, сеньора, однако не я сотворил это чудо, — ответил вегер. — Это дело рук вашего советника, его идея и исполнение.
Повернувшись к советнику, Альмодис произнесла:
— Бернат, все это прекрасно, но у меня вызывает сомнение одно обстоятельство. Что нам делать, если мы привыкнем к такому благоденствию, а потом по воле случая внезапно лишимся столь замечательного продукта?
Монкузи потеребил свой плащ.
— Я был бы плохим слугой, если бы не предусмотрел подобной возможности, — ответил он. — Запасов этого продукта хватит почти на полгода, они находятся в надежном месте и будут регулярно пополняться.
— Передайте мои поздравления вашему молодому другу, — сказала Альмодис. — Если все пойдёт, как ожидается, приём севильского посла войдёт в историю, а вы будете удостоены особой благодарности вашей графини.
С этими словами Альмодис де ла Марш проследовала во дворец в сопровождении верного шута. В дверях тот дернул ее за плащ.
— Чего тебе, Дельфин? — спросила она.
— Не верьте ему, сеньора, — прошептал карлик. — По глазам видно, что он лжёт.
— Я знаю, Дельфин. Но не могу отказаться от его услуг, этот человек приносит графству большую пользу.
С этими словами Альмодис скрылась в своих покоях.
Руфь не находила себе места. Визиты Марти в дом ее отца становились все более частыми. Слишком много накопилось тем для обсуждения: и склад, который предстояло оборудовать в подвале, и покупка новых партий товаров, и кораблей, и прочее, и прочее, и прочее. И как-то незаметно повелось, что Марти стал приходить в дом Баруха немного раньше назначенного времени, чтобы успеть хоть немного поболтать с дочерью своего друга. С каждым днем Руфь все больше понимала, что любит его, и все остальное уже не имеет значения. Но она не собиралась довольствоваться крошками с чужого стола. Она твердо решила, что Марти будет принадлежать ей, пусть он сам пока еще об этом не знает, и теперь при каждом удобном случае старалась спросить у него совета и вообще сблизиться с ним, насколько это возможно.
В тот вечер Марти, как всегда, пришел чуть раньше. Руфь увидела его из окна комнаты, которую делила с сестрой Башевой. От внимания последней не укрылось, с какой поспешностью Руфь бросилась к медному зеркалу и стала прихорашиваться, поправляя косы.
— И тебе не надоело слушать разговоры старших? — спросила Башева. — Он же не подходит тебе по возрасту и к тому же не еврей. Не представляю, что у вас может быть общего.
— Ну конечно, глазеть тайком на Ишаи Меламеда с женской галереи синагоги намного лучше, — ответила Руфь. — А ещё лучше караулить его у выхода. И, конечно, предел твоих мечтаний — стать скучной еврейской женой, готовить кошерные блюда, есть по субботам харосет [27], вытирать детские сопли да распевать слащавые гимны на Пурим. А вот я предпочитаю оставаться свободной и общаться с теми, кто мне нравится.
С этими словами она сбежала вниз по лестнице и через минуту уже сидела под старым каштаном, жадно слушая Марти.
— Помните, вы сказали, что вам нравится некий молодой человек? — спросил он.
— Да, нравится. Вот только он не обращает на меня внимания. К тому же любовь между нами невозможна.
Марти нравился этот разговор и откровенность девушки, беседа с ней помогала ему отвлечься от тяжёлых мыслей.
— Не отчаивайтесь: нет такой крепости, которая устояла бы перед натиском Купидона.
— Значит, вы мне советуете не отказываться от своей любви?
— Кто я такой, чтобы давать советы юной девушке? Но и на войне, и в жизни, всегда побеждает тот, кто не сдаётся.
— Кое-чего я уже успела добиться благодаря вашим советам. До сих пор ко мне относились, как к ребенку, а теперь считают взрослой.
Марти немного растерялся: высказывания Руфи нередко ставили его в тупик.
— Я имею в виду, что в любых обстоятельствах вы не должны пасовать перед трудностями, а должны бороться с ними. Этот совет пригодится в любых обстоятельствах.
— А если препятствия слишком велики?
— Вы тем более не должны отступать.
На какой-то миг девушка как будто засомневалась.
— А если я вам скажу, что между нами стоят и другие препятствия — например, вера — что вы мне посоветуете? — спросила она.
— Признаюсь, мне трудно что-то советовать. Я могу говорить лишь о себе самом. Я тоже безнадёжно влюбился в девушку, которая мне совершенно не подходила ни по происхождению, ни по воспитанию, но, тем не менее, я не отказался от своей любви.
— А теперь вы больше ее не любите?
— Я по-прежнему люблю память о ней.
Руфь, знавшая о трагедии, разразившейся в жизни Марти, постаралась ответить как можно деликатнее:
— Благословенна та, что сумела внушить к себе такую любовь. Как же я ей завидую!
Во взгляде Марти промелькнула тень.
— К сожалению, Господь тоже возлюбил ее, а его возможности несравнимы с моими. Он забрал ее к себе. Не завидуйте ей, ведь вы можете сделать вашу жизнь, какой захотите, а она не может сделать уже ничего.
— Я завидую той любви, которую она внушает вам — даже после своей смерти.
В эту минуту Марти взглянул на девушку совершенно иными глазами, он словно впервые увидел безупречный овал ее лица, обрамлённый белой косынкой, и тёмные миндалевидные глаза. Отчего-то ему вдруг подумалось, что человек, которому она достанется в жены, окажется счастливчиком.
В эту минуту дверь на галерее открылась и появилась величественная фигура Баруха Бенвениста.
Что-то странное почудилось Марти в голосе Баруха, когда тот заговорил с дочерью.
— Сколько раз я должен тебе повторять, Руфь, когда в этот дом приходят гости, ты должна их принять и тут же удалиться? А ты настолько дурно воспитана, что донимаешь их своей болтовней о разных пустяках.
Марти поспешил заступиться за девушку.
— Она нисколько мне не мешает. Напротив, она помогает мне отвлечься.
— Вы очень любезны, — резким жестом остановил его Барух. — Но она знает, о чем я.
К величайшему удивлению Марти, девушка тут же удалилась, ни слова не сказав отцу.
— Таковы женщины, друг мой, — вздохнул Барух. — Ни одному мужчине ещё не удалось сорвать розу, не уколовшись шипами.
77
Абенамар
Наступила пятница. Толпы народа повалили на улицы, люди жаждали своими глазами увидеть сказочное шествие, о котором были столько наслышаны, и убедиться, действительно ли оно так великолепно, как о нем говорят. Окна богатых домов украшали полотнища красного дамасского бархата, а окна простых людей были убраны обычной шерстяной тканью. Улицы города, по которым предстояло проехать послу, разукрасили с невиданной пышностью. Посол должен быть поражен роскошью города, чтобы потом рассказать об этом своему повелителю, блистательному аль-Мутамиду Севильскому. Толпы людей в праздничных нарядах затопили улицы, где предстояло проехать кортежу. Графиня решила, что процессия вступит в город ближе к вечеру, тогда на всех улица, площадях и вдоль дворцовой стены зажгут новые светильники и город засияет во всем своем великолепии.
Многие горожане пригласили в гости родственников из деревни, чтобы они тоже могли полюбоваться невиданным зрелищем, а уж если добавить к этому новое освещение, то с уверенностью можно сказать — ничего подобного в своей жизни они не видели и не увидят. Процессия должна была войти в город через ворота Кастельнау, затем, обогнув Каль, пройти мимо церкви святого Иакова, оттуда направиться к воротам Бисбе, а потом — прямиком к графскому дворцу. Городской страже едва удавалось сдерживать пеструю разряженную толпу, отчаянно напиравшую, чтобы лучше видеть. Пришлось даже установить вдоль улиц деревянные заграждения, чтобы восторженная толпа в порыве чувств не раздавила кортеж посла.
В окрестностях дворца невозможно было протолкнуться из-за множества карет, портшезов и паланкинов, в которых гости съезжались ко двору, как слетаются мухи на мед. Туда-сюда носились пажи, помогая кучерам обихаживать лошадей, расчесывая их лоснящиеся гривы и хвосты и пытаясь их успокоить — лошади явно нервничали от яркого света и огромного скопления народа. Ко двору прибыли все знатные семейства, претендующие на близкое родство с домом Беренгеров. Здесь были и Бесора, и Гурбы, и Кабрера; прибыли Перельо, Алемань, Мунтаньола; явились все Оло, Монкада, Тосты, Кардона, Бернат де Тамарит, Рамон Мир, Геральты, Кастельвели, Туа... Все они облачились в самые роскошные наряды и отчаянно старались перещеголять друг друга.
У главных ворот вегер Ольдерих Пельисер в окружении сержантов в парадных ливреях цветов дома Беренгеров и с бархатными беретами на головах встречал высоких гостей, поднимающихся по устланной коврами лестнице меж двух рядов мерцающих факелов, чтобы затем пройти в тронный зал, когда объявят их имена.
Марти пришел пораньше, чтобы проверить исправность светильников. Расположение графини позволяло ему свободно передвигаться по всему дворцу в качестве главного осветителя. В дальнем конце тронного зала он увидел Эудальда Льобета, епископа Барселонского, настоятеля кафедрального собора и других священнослужителей, стоящих возле пустого трона, к которому вскоре выстроится очередь гостей в соответствии со строгим регламентом.
Ропот толпы возвестил о приближении процессии раньше, чем заиграли фанфары и барабаны.
Затерявшись в толпе, Руфь и Башева, закутавшись в плащи, ожидали, когда начнётся блистательное шествие. Отец, вынужденный ухаживать за больной матерью, не смог сопровождать их на праздник. Однако, учитывая необычайные обстоятельства, он отпустил дочерей полюбоваться шествием, при непременном условии, что они вернутся домой до наступления субботы. Девушек сопровождал Ишаи Меламед, сын его доброго друга ещё со времён обучения в синагоге. Теперь все трое укрылись под аркадой в ожидании той минуты, когда в дальнем конце улицы покажется празднично разукрашенная процессия. Громкие крики толпы возвестили о том, что шествие уже близко и вот-вот появится из-за угла. Все как один вытянули шеи. Шум стал оглушительным.
Впереди процессии шли музыканты, играющие на самых разных инструментах, горожане даже не знали названий некоторых из них. Флейты, лиры и другие инструменты играли веселый марш, однако всеобщее внимание привлекли два всадника на великолепных арабских скакунах, покрытых зелёными с золотом попонами. Они били по большим литаврам, установленным по обе стороны седла, двумя палками с концами в виде шаров из козьей кожей, задавая ритм всему шествию. За оркестром следовал эскорт из тридцати воинов во главе с огромным мавром. Воины окружали паланкин, покрытый китайским лаком, с занавесями из золотистого бархата и остроконечной крышей в форме минарета, который несли десять могучих нубийцев с лоснящейся кожей. Завесы паланкина были откинуты, чтобы все видели, как сидящий в нем посол Абенамар приветствует жителей города. [28]
Башева нервничала.
— Руфь, солнце уже садится. Если мы не успеем до захода вернуться домой, отец рассердится.
— Мы все равно не сможем сейчас пройти, Башева, — возразила Руфь. — К тому же мы ведь собирались посмотреть новые светильники, а их не зажгут, пока не стемнеет.
— Вот-вот наступит шаббат, нам пора идти.
Но тут на помощь к Руфи пришёл Ишаи.
— Башева, ваш отец все поймёт. Сейчас мы действительно не сможем перебраться на ту сторону. Зато нам довелось полюбоваться таким необыкновенным зрелищем: будет потом что детям рассказывать! Так что беру это под свою ответственность.
Но Башева не желала сдаваться.
— После захода солнца ни один еврей не должен находиться за пределами Каля, таков наш закон.
— Колокола еще не били. Значит, у нас ещё достаточно времени.
Процессия поравнялась с ними, и теперь сквозь оглушительный рёв толпы и грохот оркестра невозможно было расслышать ни слова.
Кортеж прошел мимо них. При виде гордого профиля севильского посла, увенчанного желтым тюрбаном с огромным изумрудом в центре, его темных глаз, ослепительной белозубой улыбки и небольшой ухоженной бородки, Руфь внезапно подумала, что стала свидетельницей великих исторических событий, и ощутила прилив неожиданной гордости за волшебный свет, который подарил городу ее любимый.
Марти уже закончил все свои дела, и больше во дворце ему нечего было делать. Кортеж посла вошел в тронный зал, и за ним закрылись высокие створчатые двери. На следующий день Марти собирался отправиться в собор к Эудальду, чтобы тот подробно рассказал, как встретили посла, но тут его внезапно охватило необоримое желание увидеть свой город в сиянии нового освещения. Попрощавшись со стражей, он завернулся в плащ и постарался смешаться с толпой ликующих барселонцев.
Свободно пройти по улицам оказалось практически невозможно. Толпа подхватила его, и Марти пришлось следовать туда, куда она его влечет. В новом освещении город казался совершенно иным. Старые камни стен приобрели новые, несвойственные им прежде оттенки; каждое здание, каждый угол в этом свете смотрелись совсем по-другому. Продвигаясь по городу, Марти подумал, что его жизнь оказалась настоящим чудом. Теперь, глядя в прошлое, он понял, что все началось в далеком порту Фамагуста, где он по зову сердца спас из воды тонущего человека. И тут его сердце затопила бесконечная тоска, когда он вспомнил о другом человеке, которого оказался не в силах спасти... Теперь он богат, его корабли бороздят Средиземное море, бросая якорь в самых далеких портах, его дом близ церкви святого Михаила становится все больше похожим на особняк, торговля растет, многочисленные повозки разъезжают по ярмаркам, скупая оптом всевозможные товары.
Толпа все больше распалялась; у городской стражи едва хватало сил ее сдерживать. Сама ночь, казалось, сошла с ума. Народ, разгоряченный винными парами, совершенно лишился разума. Тут и там возникали драки с поножовщиной. Марти уже почти добрался до дома, осталось лишь перейти площадь, когда сердце его тяжело забилось, едва не выскочив из груди: под аркой ворот, на одной из каменных скамей сидела хрупкая фигурка, которая показалась ему смутно знакомой. Расталкивая локтями прохожих, Марти направился к ней. Наконец, пробившись сквозь толпу каких-то юнцов, преградившую ему путь, он оказался рядом. Он даже сам не понял, почему его туда понесло: выпитое вино сделало своё дело, и в голове у него стоял лёгкий туман. Так или иначе, но он отчего-то решил, что непременно должен перебраться на другую сторону улицы. И тут, услышав его голос, сидевшая на скамье девушка испуганно вскинула голову. На него смотрели тёмные глаза Руфи, младшей дочери его друга Баруха.
Марти взял ее под руку, толпа крепко прижала их друг к другу. Девушка смотрела на него потерянным взглядом.
— Что вы здесь делаете? — спросил он.
Глотая слезы, Руфь прерывающимся голосом рассказала ему о том, что случилось.
— Когда нам показалось, что уже можно пройти, мы попытались вернуться домой. Мы шли, держась за руки, чтобы не потеряться: Ишаи — впереди, за ним — моя сестра Башева, и позади — я. Но на углу на нас налетела какая-то компания; меня сильно толкнули, и я выпустила руку Башевы. Я видела, как в толпе раз или два мелькнули их головы и исчезли. А меня толпа потащила в другую сторону, едва не раздавив. Я слышала, как кричала Башева, требуя вернуться, но Ишаи ее не пустил. Когда я наконец добралась до ворот Каля [29], они были уже закрыты. Я долго ждала, надеясь, что сестра и ее провожатый ещё не вернулись, но их все не было. По всей видимости, они успели вернуться до того, как закрылись ворота. Я не знала, куда мне идти, и стала бродить по городу, разыскивая ваш дом... Ведь я больше никого здесь не знаю... И вот я сижу здесь и жду вас...
— Вы поступили крайне неразумно. Вы же знаете, как это опасно. Если в такую ночь кто-нибудь увидит за пределами Каля хоть одного еврея, может случиться что угодно.
— Там, внутри, у меня есть друзья, но снаружи я никого не знаю, и мне просто некуда было больше идти, — всхлипнула Руфь.
— Держитесь за мою руку, — сказал Марти. — Идемте со мной.
Руфь вцепилась в протянутую руку Марти и, несмотря на пережитый ужас, благословила судьбу. Вместе они двинулись сквозь толпу через площадь, в сторону церкви святого Михаила.
Когда Марти ещё издали заметил у дверей своего дома Омара, дворецкого Андреу Кодину, Мухаммеда, который из прежнего ребёнка успел превратиться в симпатичного парнишку, и нескольких слуг с факелами и тяжёлыми дубинками в руках, он наконец успокоился. Он крепче сжал руку девушки и прошептал:
— Сейчас мы с вами попробуем пройти. Только, ради Бога, не отпускайте руку.
Девушка молча кивнула, не сводя с него глаз. Заметив его в толпе, Омар в сопровождении двоих слуг двинулся навстречу, прокладывая дорогу.
Наконец, все они оказались в безопасности за закрытыми дверями особняка.
Тогда Омар боязливо заговорил:
— Никогда прежде такого не видел, хозяин. Народ просто взбесился — должно быть, это свет так на них повлиял. Кто-то даже пытался прорваться во двор, нам пришлось пустить в ход дубинки. Говорят, кое-где на улицах случилась нешуточная давка. Я так боялся за вас!
— Ну, слава Богу, со мной ничего не случилось. Кстати, познакомься: это Руфь, дочь моего друга Баруха, — представил он девушку, заметив вопросительный взгляд управляющего. — Она потеряла в толпе свою сестру и, не успев вернуться домой до того, как закрылись ворота Каля, осталась снаружи. Если бы я случайно на нее не наткнулся — боюсь подумать, что с ней могло бы случиться. Сегодня ночью она останется здесь. Позови сюда Катерину, пусть они с Наймой и Марионой приготовят для неё комнату с террасой на втором этаже. И пусть Катерина пришлёт пару служанок — на случай, если ей что-нибудь понадобится. До утра ещё долго, полночь пробило совсем недавно. Проводи ее, Омар.
Мавр посмотрел на девушку, затем — на хозяина, после чего жестом велел ей следовать за ним.
— Будьте так добры, пойдёмте со мной...
Руфь по-прежнему не сводила с Марти блестящих миндалевидных глаз. Она, конечно, понимала, какие ей грозят неприятности, но в глубине души не уставала благословлять судьбу.
78
Испанское соглашение
А в это время граф Рамон Беренгер Старый и его супруга, графиня Альмодис, в тронном зале графского дворца принимали севильского посла. За длинным столом лицом друг к другу восседали представители обеих сторон. По одну сторону стола помимо графской четы сидели члены совета: вегер Барселоны Ольдерих де Пельисер, сенешаль Гуалберт Амат, казначей и смотритель аукционов Бернат Монкузи, главный нотариус Гийем де Вальдерибес, епископ Барселонский Одо де Монкада, секретарь по особым делам Герау де Кабрера и неустрашимый Марсаль де Сан-Жауме, выдающийся дипломат и большой знаток арабских обычаев.
Сторону севильского короля представлял его посол и знаменитый поэт Абенамар, рядом с ним сидел ар-Рашид, старший сын аль-Мутамида, далее — капитан Абен Зайден и пятеро его товарищей, непревзойденных мастеров воинского искусства. В конце стола сидели два толмача, которым надлежало переводить сказанное, однако посол, знающий латынь, предпочел говорить с графом на этом языке.
Посол аль-Мутамида выглядел поистине блистательно, но даже самые роскошные одеяния не в силах были затмить врожденного благородства и обаяния этого человека, чьи изысканные манеры и умение вести беседу с первой встречи покоряли как соотечественников, так и чужестранцев. Прежде чем начать переговоры, он преподнёс графине футляр из тиснёной кожи с инкрустацией из перламутра, в котором помещалось несколько сшитых листов пергамента с прекрасными стихами на провансальском наречии, восхваляющими красоту Альмодис, ее прекрасные зеленые глаза и рыжие косы. Когда стихи в честь Альмодис зачитали вслух, ар-Рашид преподнёс ей от имени своего отца ещё один необычайно красивый футляр из африканского красного дерева, в котором сверкало великолепное изумрудное ожерелье в оправе из червонного золота, изготовленное лучшими севильскими ювелирами специально для графини. Очевидно, ему надлежало подчеркнуть ее прелести, воспетые в стихах. Графу же посол преподнёс кольчугу из самой лучшей стали, такую лёгкую, словно сделана из бархата, но этот бархат был прочнее любого железа.
После столь долгого обмена приветствиями и дарами гости наконец-то готовы были приступить к главному.
— Могущественный и высокородный граф Беренгер! — заговорил посол. — Слава о вашем благородстве дошла до наших краев. Мой повелитель и господин оказал вам особую честь, прислав к вашему двору собственного сына, чтобы вы могли видеть, как благородны наши намерения и насколько важна возложенная на нас миссия. В далёкие времена мы были врагами, однако в эпоху Альмансура вражда между нами закончилась, оставив после себя лишь общие корни, породнившие мою Севилью с вашей прекрасной Барселоной. А потому мы желаем стать вашими друзьями и просим вас о сотрудничестве, в котором заинтересован мой повелитель, к тому же оно может принести вам большую славу и столь же большие выгоды.
После столь цветистого вступления граф ответил:
— Мой дорогой визирь, мы рады видеть вас нашим другом. Вчера вы сами могли наблюдать, как радостно встретила вас Барселона. Моя супруга, советники и я сам готовы выслушать ваши предложения и, если они окажутся на пользу моим подданным, мы с удовольствием их примем.
Толмачи тут же спокойным и невозмутимым тоном перевели обе речи.
— Мой король хочет отправиться с великий поход, и ему нужна помощь франкской кавалерии, без нее атака моего господина не будет столь решительной.
Каталонцы, заинтересованные предложением приверженцев ислама, внимательно слушали.
— Мой господин желает предьявить свои права на земли Мурсии, где правит самозванец Мухаммед ибн Ахмед Таир. Мы желаем объединить Аль-Андалус под единым знаменем, которое мой господин добыл в бою, завоевав Кордову. Таким образом, вы получите единственного, но могущественного союзника на юге, верного, надёжного и весьма полезного в ваших будущих войнах, если после смерти благоразумного Сулеймана бен Худ аль-Мустаина Сарагосского его воинственные сыновья не захотят продолжать мирную политику своего отца.
Беренгер внимательно дослушал речь мавра.
— Я прекрасно понимаю, что ваше предложение чрезвычайно выгодно для моего народа, — начал он ответную речь. — Нет способа лучше войны, чтобы усмирить всякий сброд и обеспечить верность союзников. Но мое участие в этой кампании полностью отвечает вашим интересам, но не вполне отвечает моим, поскольку земли Лериды и Уэски значительно ближе, а потому желаннее для меня, чем Мурсия. Надеюсь, вы предложите мне разумную компенсацию.
— Мой господин предлагает вам следующее: вы с вашим войском выступите в поход в Мурсию с кавалерией и умелыми строителями осадных башен. А мой господин будет снабжать их за свой счет.
— Вашему сеньору эта кампания несомненно принесёт большие выгоды, — ответил граф. — В случае победы он станет королем Мурсии. Но мои выгоды весьма сомнительны. Со временем, конечно, это может пойти на пользу экономике графства, но пока что я не получаю ничего.
Переговоры были долгими и трудными. С каждым днем заседания становились все дольше. Альмодис внимательно слушала, а потом, в уединении алькова, давала графу советы.
— Вы должны следить за ним в оба: этот посол чрезвычайно умен, — наставляла она. — Пусть увеличит ваше вознаграждение за участие до десяти тысяч мараведи, причем первую часть выплатит до начала кампании, а вторую — после ее завершения. Кроме того, вы должны вытребовать себе право первым войти в захваченный город. И наконец, отправьте в Севилью в качестве почетного гостя и заложника одного из наших высокородных аристократов, вроде блистательного Марсаля де Сан-Жауме, а сын севильского монарха останется при нашем дворе в том же качестве. Как вы понимаете, это даст вам определенные гарантии. Конечно, аристократ — не то же самое, что ваш собственный сын, но тот совершенно не годится для этой роли. А уж если вспомнить о его вспыльчивости и безрассудстве, то он может создать нам весьма серьезные проблемы.
Наконец соглашение было подписано, и блистательный мавританский посол отбыл из Барселоны под ликующие овации горожан, считающих, что союз со столь отдаленным государством не представляет никакой опасности для графства, зато приведет в город нескончаемый золотой поток, и он, впадая в городскую казну, разделится на множество ручьев, текущих прямо в карманы горожан.
79
Отверженная дочь
Сидя в приемной своего друга и покровителя Баруха Бенвениста, Марти не находил себе места. Разговор, учитывая консерватизм обитателей Каля, ему предстоял нелегкий. События незабываемой пятницы остались позади, люди вернулись к своим повседневным делам, и лишь во дворце продолжались совещания и переговоры. Все радовались новым светильникам, зажженным во мраке, и с благодарностью повторяли имя Марти.
Весь следующий день Руфь провела в его доме, а в воскресенье с утра он решил вплотную заняться этой проблемой. В субботу Марти даже не стал соваться в Каль, понимая, что в этот священный для иудеев день все его попытки все равно окажутся напрасными.
Накануне вечером он подробно обсудил с девушкой случившееся. Утром он не хотел ее будить, поскольку считал, что ей нужно отдохнуть. Когда же после обеда он увидел ее на террасе, вполне спокойную, хоть и несколько испуганную, он решил, что настало время для серьёзного разговора.
— Руфь, вы уже отдохнули? — спросил он.
— Спасибо вам за все, Марти, — произнесла она. — Если бы не вы, страшно подумать, что могло бы со мной случиться. Да, я уже отдохнула, хотя могла бы проспать ещё три дня.
— Присядьте, — попросил он. — Нам нужно о многом поговорить.
Девушка с послушно села на край скамьи, приготовившись слушать.
— Вы поступили крайне неосмотрительно. Ваш отец, должно быть, сходит с ума от беспокойства. Сегодня утром я попытался к нему пробиться, но Каль, как всегда по субботам, закрыт на замок, а все его обитатели собрались на молитву в синагоге. Завтра с утра я снова туда пойду, чтобы успокоить его и все объяснить.
— Марти, я и сама понимаю, что попала в сложное положение, но поверьте, в этом нет моей вины: я ведь ещё вчера все вам объяснила. Я обожаю своих родителей, и мне страшно подумать, что сейчас творится у нас дома. Башева наверняка рассказала им, как я потерялась, но она не знала, что было дальше. Сегодня суббота, и до завтрашнего утра мы все равно ничего не сможем сделать.
Марти вспомнил об этом разговоре, когда Барух, одетый в знак глубокого траура в чёрный балахон и того же цвета шапочку, сам открыл ему дверь. За столь короткое время меняла, казалось, постарел на несколько лет.
— Шалом, Марти, друг мой, — поприветствовал он гостя. — Благодарю вас за все, что вы сделали для нашей семьи.
— Так значит, вы все знаете?
— Я знаю обо всем, что происходит за этими стенами, хотя вчера была суббота, и Каль был закрыт. Да вы проходите, поговорим у меня в кабинете.
Хозяин проводил его в дом и открыл дверь в кабинет, так хорошо знакомый Марти. Тот остался стоять, дожидаясь, пока Барух закроет ставни окна, выходящего в сад.
Затем, сев лицом друг к другу, они принялись обсуждать злосчастное пятничное происшествие.
— Видите ли, моя дочь Башева и ее спутник рассказали, что случилось до того, как закрылись двери Каля, но у меня немало добрых друзей среди христиан, живущих за его пределами. Так вот, они мне сообщили, что вы приютили мою дочь в своем доме, и теперь мне не хватит целой жизни, чтобы отблагодарить вас за эту услугу, — произнес Барух.
— В таком случае, вы должны уже знать, что Руфь цела и невредима, она отдохнула, и завтра вы сможете ее забрать.
— Я весьма сожалею, но это не так просто.
— Я вас не понимаю, — растерялся Марти.
Меняла беспокойно поерзал в кресле и, оправив длинные широкие рукава, пустился в объяснения.
— Видите ли, Марти, мы очень древний народ, за многие века переживший немало ударов судьбы, но даже в самые трудные времена мы свято хранили свои обычаи и традиции. У нас нет родины, и если бы мы не держались за них, то давно бы рассеялись по свету, смешались с другими народами и от нас бы ничего не осталось.
— Но я не понимаю, какое отношение все это имеет к...
— Позвольте мне закончить. Я, в силу своего положения, должен особенно свято чтить традиции и не допускать даже тени скандала. Наши законы весьма суровы. До замужества ни одна еврейская девушка не может провести ночь за пределами дома, а уж тем более за пределами Каля. Моя дочь Руфь опозорила всю семью и навлекла на себя такое бесчестье, что теперь никто не возьмёт ее замуж. Если она останется в моем доме, позор ляжет на весь мой род, и тогда другая моя дочь, ни в чем не повинная Башева, тоже не сможет найти себе мужа, ведь ни одна еврейская семья не позволит своему сыну взять в жены девушку из опозоренного дома.
— Что вы хотите этим сказать?
— Даже не знаю, что теперь и делать. С одной стороны, отцовское сердце кровью обливается при мысли о том, что придётся отвергнуть любимую дочь, а с другой — меня вынуждает к этому долг, ведь я возглавляю гильдию менял. Меня просто не поймут, если я решу поступить иначе.
— Никто об этом не узнает, — заверил его Марти.
— Так уже все знают! Наша община очень маленькая, а таких сплетниц, как наши кумушки, просто свет не видывал. Моя страдающая супруга рассказала вчера, что после субботних молитв на женской галерее синагоги к ней подошли соседки и с лицемерным сочувствием принялись расспрашивать о здоровье Руфи: почему, мол, ее не было? Уж не заболела ли она часом, бедняжка?
— В таком случае, что вы собираетесь делать?
— У меня есть родственники в других общинах, они могли бы взять ее к себе. Служанкой.
— Барух, простите меня, но я совершенно не понимаю религию, которая так жестоко карает человека без всякой вины, всего лишь за то, что он стал жертвой обстоятельств.
— Полагаю, сейчас не время вести религиозные споры, но позвольте напомнить, ваша вера тоже позволяет побивать камнями неверных жён. Я не могу поступиться нашими обычаями даже ради спасения дочери.
Марти на минуту задумался.
— Простите меня, я сказал не подумав, просто я слишком обеспокоен судьбой вашей дочери.
— Вам не за что просить у меня прощения. После этой ночи я сам перед вами в неоплатном долгу. Я лишь объяснил, как обстоят дела. Мое сердце обливается кровью, и я просто не знаю, что теперь делать, как найти выход из затруднительного положения.
— И что же вы решили?
— Для начала я хочу поговорить с нашим общим другом Эудальдом Льобетом. Я очень надеюсь на его здравомыслие и справедливость. Думаю, он поможет ей устроиться за пределами этих стен. В стенах Каля у неё нет будущего.
— Если вся проблема заключается в том, что Руфи негде жить, то на этот счёт можете не беспокоиться: уверяю вас, в моем доме она найдёт и кров, и защиту.
Меняла на минуту задумался, а Марти почувствовал, как сердце его тревожно забилось.
— Вы очень добры, но не думаю, что это удачное решение, — произнёс он наконец.
— Простите, Барух, но теперь я совсем вас не понимаю.
Тяжело вздохнув, Бенвенист ответил:
— Марти, вы мой друг и компаньон, и я перед вами в столь огромном долгу, что не смогу расплатиться до конца жизни. Эудальд моментально нашёл бы для Руфи жильё, если же вы откроете для еврейки двери вашего дома, то можете навлечь на себя серьёзные неприятности.
— Барух, не говорите глупости. Или вы хотите разбить сердце вашей супруги, разлучив ее с младшей дочерью? А в моем доме Ривка сможет навещать ее, когда пожелает.
— Такова цена, которую приходится платить... — пробормотал Барух, но сердце его встрепенулось от радости.
— Повторяю, в моем доме ей будет хорошо, и никакая опасность ей там не грозит. Вы сможете видеться с ней, когда захотите, и никто не посмеет причинить ей вред. Простите мою нескромность, но, пусть я пока еще не получил гражданство Барселоны, но все же уже что-то из себя представляю, сама графиня Альмодис одарила меня своим расположением. Поверьте мне, никакой опасности нет.
Видя, что Барух все ещё колеблется, Марти, сам не зная почему, продолжал настаивать.
— Для меня это большая честь, друг мой. И клянусь спасением моей души, что буду заботиться о ней, как о родной сестре. Поверьте, ей нет необходимости искать приюта в другом месте. Вы сможете видеться с ней, когда захотите, хоть каждый день, и даю вам слово, она не выйдет на улицу в неурочный час и сможет отправлять все положенные обряды у себя в комнате.
— Есть ещё и другая проблема, — напомнил Барух. — Вы — неженатый молодой человек, а кумушкам рты не заткнешь, если моя дочь желает сберечь свою честь — вернее, то, что от неё осталось, то должна находиться под постоянным надзором дуэньи.
— Это тоже не проблема. Уж поверьте, Катерина, моя экономка, не спустит с неё глаз ни днём, ни ночью. Если кто-нибудь попытается распустить о ней грязные сплетни, я приглашу эту особу к себе домой, и она сможет лично убедиться, что ваша Руфь находится под неустанным присмотром дуэньи. А кроме того, — печально добавил Марти, — вы же знаете, что за это время ничего не изменилось: Лайя по-прежнему царит в моем сердце, как в первый день нашего знакомства.
Казалось, из самого сердца старого Баруха хлынули слезы радости и покатились из усталых глаз. Старик поднялся из-за стола, шагнул навстречу Марти и крепко его обнял.
80
Искушение
Предрассветный холод пробрал Олегера до костей — того самого часового, что в свое время помог Альмодис незаметно покинуть дворец, а позднее был сослан за неоднократные нарушения дисциплины в это безрадостное место у городка Монсени. В густом утреннем тумане он не мог разглядеть даже кончика своего носа. До смены караула оставалось еще слишком много времени. Смежив глаза, он, чтобы скоротать время, оставшееся до конца этой пытки, принялся мечтать и строить планы, как вернуться в Барселону. И тут неожиданно заколыхались ближайшие кусты, прервав его размышления. Ветра не было, ни единый листок не дрогнет, ни одна травинка не шелохнется. Вглядевшись более пристально, он заметил, как сквозь ветви в его сторону протянулся длинный шест, на конце висел небольшой мешочек, почти касаясь его ноги. Олегер проворно отскочил, выхватил из колчана стрелу и, натянув тетиву лука, прицелился в сторону чащи.
Его рёв разорвал предрассветный туман.
— Вон отсюда! Не то пришибу, как собаку!
Кусты слегка колыхнулись, и из них послышался прерывистый женский голос:
— Сделайте одолжение. Лучше умереть, чем жить в этом аду.
Перед ним показалась странная фигура, замотанная в грязные тряпки. Лицо Олегера под шлемом и кольчужным капюшоном покрылось смертельной бледностью. Вне всяких сомнений, зловещая женщина, преградившая ему дорогу — это прокаженная из колонии.
— Ступайте обратно в пещеры, если не хотите, чтобы вам переломали рёбра!
— После того, как я заболела, мне уже ничего не страшно, — ответила Эдельмунда. — Прошу вас, выслушайте меня, и я уверена, мы окажемся полезны друг другу.
Стражник с минуту поколебался, после чего немного смягчился.
— Ладно, только держитесь от меня подальше. Так чего вы хотите?
— Откройте узелок на конце шеста.
— Да я к вам даже пальцем не притронусь!
Олегер спустил тетиву и, повесив лук на дерево, выхватил из-за пояса кинжал и перерезал веревку, стягивающую кожаный мешочек на конце шеста. В первых лучах солнца ярко сверкнула золотая монета в половину унции.
Голос Эдельмунды зазвучал снова.
— Вот уже почти два года, как я живу здесь. У меня есть деньги, много денег. В большом мире я бы считалась богатой, но здесь от них нет никакого толку.
— И что же?
— Если вы мне окажете одну маленькую услугу, я вас озолочу.
— Что за услугу?
— Видите ли, пока я не заболела, я еще питала слабую надежду, что человек, который упек меня сюда, поймет свою ошибку и вытащит меня отсюда. Вот почему я так бережно хранила свои деньги. Но теперь, когда меня настигло это проклятие, в мире живых меня держит только месть. Заклинаю вас помочь мне. Если вы поможете мне отомстить, я сделаю вас богатым.
— Насколько богатым, и что именно я должен сделать?
— Уверяю вас, вы ничем не рискуете. Для начала я дам вам половину золотой унции — а, как вам известно, жалованье коменданта пограничного замка составляет три унции. А вы принесете мне пергамент, перо, чернила и воск для печати. Затем я напишу письмо, а вы его передадите, кому я скажу.
— И это все?
— Ничего больше.
— Так я могу просто забрать ваши манкусо и сбежать вместе с ними.
— Я, может быть, и больна, но не дура. Эти деньги я вам даю для того, чтобы вы купили пергамент и письменные принадлежности. Затем я напишу письмо, которое вы должны будете отнести, кому я скажу. Взамен этот человек даст вам оттиск своей печати, а вы принесёте его мне. Тогда я дам вам ещё полторы унции золотом. Таким образом, вместе с той половинкой унции вы получите целых две. Вы меня поняли?
Глаза стражника жадно сверкнули. Две унции золотом и впрямь были настоящим богатством. С этими деньгами он мог не только дать взятку командиру, чтобы тот отпустил его на день в Барселону, но и заплатить штраф, избавиться от этой постылой службы, уйти в отставку, купить неплохой участок земли, а также повозку, пару хороших лошадей и жить, не зная горя.
— Согласен, — ответил он, не раздумывая.
— Три дня я буду ждать вас здесь в это же время.
Эдельмунда тяжко вздохнула. Час мести пробил. В колонии сейчас проживало четырнадцать несчастных, хотя когда ее сюда привезли, их было девятнадцать. Время от времени сюда доставляли новых людей — за совершенные преступления или же просто потому, что они заразились этой проклятой болезнью. Однако значительно чаще кто-то из обитателей колонии отправлялся в тот путь, откуда еще никто не вернулся, и оставшиеся завидовали его избавлению. Когда его тело, опустив в яму, засыпали землей, на могиле ставили простой деревянный крест. Его имущество распределялось между остальными членами общины, а если какая-нибудь добрая душа приносила что-то из еды, или кому-то удавалось подстрелить на охоте какую-нибудь дичь, ее жарили на вертеле, устраивая прощальные поминки.
Поначалу Эдельмунда пыталась жить отдельно от остальных; однако вскоре поняла, что это невозможно. В первое время она старалась держаться поближе к выходу из пещеры, но потом, с наступлением суровой зимы, холод и отчаянная потребность хоть с кем-то поговорить вынуждали ее перебираться все ближе и ближе к огню и в конце концов стать полноправным членом этого голодного многострадального сообщества.
Прошел год со времени ее ужасной ссылки, когда она обнаружила, что ее тело стало покрываться гнойными язвами, но вместо ужаса неожиданно ощутила неведомое прежде чувство свободы. В тот же день в ее душе укоренилась мысль о том, что единственный ее долг перед встречей со смертью — отомстить негодяю за причиненное зло. Один из отверженных, в прошлой жизни — разбойник с большой дороги, который тоже попал сюда совершенно здоровым и заразился ужасной болезнью уже здесь, а потому знал толк в ненависти, дал ей отличный совет.
— Пока ненависть выжигает тебе кишки, тебе есть ради чего жить, когда же она угаснет, тебе все станет безразлично.
Каждую ночь она рассказывала Кугату о своей жизни и как здесь оказалась. Однажды он дал ей еще один совет и помог разработать план мести.
В одну весеннюю ночь они сидели возле догорающего костра, попивая горячий отвар из собранных ее другом трав, который хорошо помогал от бессонницы. Остальные уже спали, и лишь парочка отверженных совокуплялась под одеялом.
— Счастливые! — вздохнул Кугат. — Они ещё могут этим заниматься. А мой стручок давно сгнил, тот жалкий обрубок, что от него остался, все равно ни на что не годен.
— А меня давно уже не волнуют подобные вещи, — призналась Эдельмунда. — Единственное, что ещё живо в моей душе — ненависть. Мне бы выбраться отсюда — ну, хоть на один день, чтобы убить этого мерзавца. А там — будь что будет.
— Так зачем же сидеть и ждать? Разумеется, ты не можешь отомстить ему сама, но можешь устроить так, чтобы это сделал кто-нибудь другой.
— Я не понимаю тебя, Кугат.
— Все очень просто: надо всего лишь найти человека, который сделает за тебя эту работу. С твоими деньгами это не составит труда.
— Как я его найду, не имея возможности выбраться отсюда? — безнадёжно покачала головой Эдельмунда.
— А его и не нужно искать, такой человек уже есть, — ответил Кугат. — Помнишь того юнца, чью возлюбленную изнасиловал твой враг? Не сомневаюсь, он возненавидит его ещё сильнее тебя.
— Да, но как я смогу с ним связаться?
— Я не сомневаюсь, что среди стражников есть такие, что охотно берут взятки. Например, завтра на страже стоит некий Олегер, который позволяет моему куму подойти к самому ручью, и я могу с ним поговорить.
— Но мой враг слишком могуществен, а Барселона прямо-таки напичкана стражей.
— Тот, другой, не менее могуществен, — напомнил Кугат. — И его причины для мести не менее серьёзны, чем твои.
— И как же я смогу это использовать? — спросила она.
— Напиши ему письмо, в котором все подробно расскажешь. А там уж он сам решит, как действовать.
— И кто передаст ему письмо?
— Я слышал от стражников, что Олегер весьма падок на золотишко, если ему хорошо заплатить, он вполне может стать твоим посыльным.
— А как я могу быть уверена, что он действительно передаст письмо, а не просто прикарманит мои деньги?
— Вели ему принести ответ с подписью адресата.
— Но ведь я не знаю почерка того человека, которому должна отправить письмо, — усомнилась Эдельмунда.
— Но стражник этого тоже не знает, — возразил Кугат, и в измученном сердце Эдельмунды затеплилась надежда.
81
Новая боль
Последние месяцы 1057 года стали для Руфи самыми счастливыми в жизни. Она пребывала на седьмом небе от счастья уже потому, что находится рядом с любимым. Лишь одно немного омрачало ее радость: время от времени она виделась с матерью и сестрой Башевой, но отец все ещё сердился на неё и упорно не желал видеть. Руфь, конечно, скучала по отцу, однако близость Марти заглушала ее тоску. Отправляясь по делам, Марти часто брал ее с собой — всегда одетую должным образом, в зависимости от того, куда они пойдут и с какими людьми им предстоит встретиться. Больше всего девушка любила две вещи. Во-первых, прогулки по городу в сторону ворот Регомир, откуда вела дорога на верфь, где гордо возвышались силуэты недостроенных кораблей, над которыми реяли знамёна с буквами «М» и «Б». А во-вторых, долгие вечерние разговоры с человеком, покорившим ее сердце ещё в те времена, когда она была ребёнком.
— Вы никогда не задумывались, насколько капризной и переменчивой бывает порой судьба? — однажды спросила она.
— Почему ты так говоришь, Руфь? — удивился Марти.
— Со дня вашего возвращения я мечтала послушать рассказы о ваших путешествиях, а теперь могу слушать их целыми днями. Мне так нравится жить в вашем мире! Здесь мне не приходится постоянно оглядываться на закостенелые обычаи моего народа, как там, в стенах Каля!
— Ну, это не навсегда, — улыбнулся Марти. — Я уверен, ваш отец сделает все возможное, и со временем всё пойдет своим чередом.
— Вы не знаете, что такое еврейский народ! Наши пресловутые традиции — это настоящий каменный жёрнов на шее, особенно на шее женщины.
— Но в вашей религии есть и вполне разумные традиции, случившееся с вами — всего лишь досадное недоразумение.
— Вы так думаете? А посмотрите на моих сестёр, покорно ожидающих, пока отец найдёт им мужей, которых они в глаза не видели и при этом даже задумываться не хотят, смогут они их полюбить или нет.
— Я уверен, ваш отец в своём выборе руководствуется богатым опытом и знаниями. Огонь страсти, сметающий все на своём пути, который ведёт нас в юности, горит недолго. Среди моего народа тоже порой случается, когда даже закон вынужден отступить перед обычаем. И со временем обычай становится законом.
— Значит, вы хотите сказать, что если бы ваша прекрасная любовная история имела счастливый конец, она была бы обречена на провал?
Убийственные аргументы Руфи — а склонность к полемике она, несомненно, унаследовала от отца — всякий раз выбивали Марти из колеи. Тем не менее, каждый день он с нетерпением ждал, когда наступит вечер и он наконец сможет спокойно поболтать со своей подопечной.
Но тут, в самый разгар спора, в дверях показался растерянный и смущенный Омар.
— Можно войти, сеньор? — спросил он.
— Ты же знаешь, что всегда можешь войти, Омар.
Выйдя на террасу, мавр, как всегда, остановился в нескольких шагах от хозяина.
— Скажи, что привело тебя сюда в такой час, когда тебе положено отдыхать в кругу семьи? — спросил Марти. — Боюсь, если так и дальше пойдет, то в конце концов Найма, Мухаммед и маленькая Амина меня просто возненавидят.
— Вы же знаете, сеньор, моя семья в каждой своей молитве просит Аллаха продлить ваши дни на долгие годы, — ответил Омар.
— Я долго считал, что мне больше незачем жить, — признался Марти. — Но наш старый добрый Эудальд, как всегда, оказался прав: на смену ушедшим мечтам, как бы ни были они прекрасны, приходят другие. Жизнь — штука долгая. — Если бы Марти в ту минуту взглянул на Руфь, он бы увидел, как вспыхнули ее глаза. — Ну что ж, я тебя слушаю, Омар.
— Видите ли, хозяин. Когда я сегодня утром занимался нашими торговыми делами, ко мне пришел Мухаммед и сказал, что какой-то человек желает сообщить мне нечто важное. Я подумал, что это, должно быть, кто-то из работников или какой-то проситель с жалобой. Я велел Мухаммеду пригласить его ко мне. Ко мне на чердак поднялся незнакомый человек, он выглядел как солдат, но одет при этом был как торговец.
«Вы — Омар, управляющий Марти Барбани?» — спросил он.
«Он самый, ответил я. А вы кто такой будете?»
«Неважно, — ответил незнакомец. — Я принёс письмо для Марти Барбани, мне приказано передать его некоему Омару. Мне нет дела до того, что там написано. Но отправитель должен удостовериться, что я был здесь и передал вам письмо. Если вы его не возьмёте, прошу дать мне расписку с вашей подписью и печатью — в доказательство, что я своё дело сделал. А уж что вы будете делать с ним дальше, меня не волнует».
Когда он это сказал, я почувствовал, что письмо действительно важное, и что человек, его написавший, вас знает. Одним словом, я взял у него письмо и сказал, что вручу его вам.
— И где же оно?
Омар пошарил в бездонных карманах, извлёк оттуда скреплённый печатью свиток пергамента и отдал его Марти.
Марти поднялся и, взяв пергамент из рук раба, подошел к свету и внимательно рассмотрел восковую печать, которой никогда прежде не видел. Наконец, он сломал ее и развернул пергамент.
Глаза его пробегали по строчкам письма, а лицо с каждой минутой все больше мрачнело.
Писано 15 декабря 1057 года.
Уважаемый сеньор!
Вы меня не знаете, но я очень хорошо знаю вас. То, что я собираюсь Вам рассказать — истинная правда, и, прочитав эти строки, Вы и сами убедитесь, что это — такая же правда, как и то, что солнце встает на востоке. Вы даже представить себе не можете, как ненависть и жажда мести терзают мое сердце, а это никуда не годится, ибо близится мой последний час, который я хочу встретить в мире с Богом.
Как Вам известно, Ваша возлюбленная Лайя погибла, бросившись со стены особняка графского советника, Берната Монкузи, у которого Вы в тот ужасный вечер имели несчастье ужинать. Однако Вам не известны причины столь отчаянного ее поступка. Зато эти причины известны мне, и после того ужасного дня вся моя жизнь превратилась в кошмар. Так вот, говорю Вам: это он изнасиловал несчастную девочку, о которой должен был заботиться и оберегать. Именно Бернат Монкузи и был тем самым таинственным негодяем, о котором он Вам рассказывал. Должна сказать, что насиловал он ее неоднократно, хоть и продолжалось это не слишком долго. Будучи мужем ее покойной матери, он имел полную власть над нею, однако главная причина заключалась не в этом.
Помните, Вы подарили ей рабыню, которая стала ее подругой и единственной радостью? Как же Вы не подумали, что именно ее обвинят в том, что она доставляла Лайе ваши проклятые письма? Делала она это или нет — неважно, достаточно уже того, что она могла это делать. Так вот, Монкузи бросил Вашу рабыню в темницу, где подвергал пыткам и бесконечным унижениям, целью которых было заставить Лайю подчиниться и уступить порочной страсти отчима. Она принесла цвет своей невинности на алтарь похоти этого сатира, который хотел обладать ею снова и снова. Однако все пошло не так, как он рассчитывал. Лайя забеременела и родила уродца, который умер вскоре после рождения. Но еще во время ее беременности Монкузи, охладевший к Лайе после того, как добился желаемого, начал строить планы, как бы выдать ее замуж и убедить Вас признать ее ребенка. Зачем ему это было нужно, мне неизвестно.
Возможно, мои слова покажутся Вам бреднями полоумной старухи, но, когда вы прочтете то, что я собираюсь Вам поведать, Вы и сами поймете, что это правда, поскольку одно без другого не имело бы смысла.
Вам, как и всем остальным, сообщили, что рабыня умерла от чумы. Но это не так. На самом деле Аишу заперли в подземелье усадьбы неподалеку от Таррасы, принадлежащей Бернату Монкузи. Я не знаю, там ли она еще, но, если Вы соизволите туда наведаться, то даже если и не застанете ее в живых, во всяком случае, сможете убедиться, что она действительно там находилась. Расспросите ее тюремщика, Фабио де Кларамунта, и он подтвердит, что рабыня действительно была заточена в подземелье крепости. Так вот, если то, что касается Аиши, окажется неправдой, можете считать ложью и все остальное, полагая, что злобная старуха просто строит козни против советника; если же это окажется правдой — знайте, что и все остальное тоже правда.
Можете распорядиться полученными сведениями на свое усмотрение. Я же теперь могу умереть с миром.
Эдельмунда,
бывшая служанка дона Берната Монкузи
Кровь отхлынула от лица Марти; испуганная Руфь бросилась к нему, а Омар, крикнув, чтобы срочно принесли стакан вина, решительно взял хозяина за плечи и заставил сесть.
82
Разговор в соборе
На следующий день бледный, осунувшийся Марти, одетый во все черное, стоял в соборе рядом с Эудальдом Льобетом, который читал при свечах то самое вчерашнее письмо. Минувшая ночь оказалась одной из самых долгих в жизни Марти. Дочитав письмо, он, несмотря на беспокойство Руфи, удалился к себе. Образ любимой Лайи, которую изнасиловал злодей-отчим, пока он разъезжал по свету, стоял у него перед глазами, а сердце переполняло раскаяние. Он метался и рычал, как загнанный зверь, срывая свой гнев на дверях и мебели, молотя по ним кулаками, пока в изнеможении не разрыдался. К утру его гнев перегорел, превратившись в мрачную злобу, а в покрасневших от слез глазах стояла боль и жажда мести.
Каноник поднял глаза от пергамента и посмотрел на своего друга.
— Ну, что скажете, дон Эудальд?
На мгновение священник заколебался.
— Слишком сложное это дело, — признался он. — Долго придется объяснять.
— Я так понимаю, вы знали об этом и раньше?
— Да, знал. Но как священник, я обязан хранить тайну исповеди.
— Но ведь вы же мой друг! — в отчаянии воскликнул Марти.
— Это не отменяет моего долга и моих обетов. Первый мой друг — Христос, и я не могу пренебречь данным Ему словом.
— Вы разочаровали меня, Эудальд.
— Я оказался перед тяжелым выбором между вами и долгом священника. Если бы вы знали, Марти, скольких бессонных ночей стоил мне этот выбор!
— Но тогда... — Марти не верил своим ушам. — Неужели вы допустите, чтобы столь чудовищное злодеяние осталось безнаказанным?
— Так я понимаю свой долг, — печально ответил священник. — Я не вправе никого судить или отвергать; мой долг состоит в том, чтобы ненавидеть грех, но при этом сострадать грешнику и, насколько это в моих силах, облегчить его совесть. Я не могу лишать людей веры в то, что во мне, как в любом священнике, живет святой Петр, от чьего имени церковь дала мне власть прощать грехи тех, кто приходит с раскаянием, не говоря уж о том, чтобы выдать хоть слово из услышанного на исповеди.
— Значит, вы спустите ему с рук это чудовищное преступление?
— Марти, не пытайтесь заставить меня нарушить обеты. Еще раз повторяю: я не имею права судить кого-либо, миссия — прощать. Единственное, что я могу сделать — использовать кое-какие фрагменты этого документа. Дайте мне подумать.
Руки Марти дрожали, как будто были готовы порвать в клочки все, что окажется в пределе досягаемости.
— Мы должны хорошо подумать, прежде чем принимать решения, — заметил каноник. — Советник — один из промов Барселоны, доверенное лицо графа, и его щупальца тянутся повсюду.
— Я не столь щепетилен, как вы, — ответил Марти. — И не смогу смотреть на себя в зеркало, если не найду на него управу.
— И что же вы собираетесь делать?
— Придушить его собственными руками! — ответил Март с перекошенным от ярости лицом.
Падре Льобет сурово посмотрел на него.
— Знаю, знаю, — пробормотал Марти. — Сейчас вы скажете, что я должен действовать с большой осторожностью.
— Советника сейчас нет в городе, — сообщил священник, в душе благодаря за это Бога. — Он уехал в Мурсию в свите графа. И насколько мне известно, эта миссия затянется.
Марти опустил голову, пытаясь совладать с яростью, сжигающей его изнутри.
— Хорошо, я подожду, — сказал он. — Но клянусь вам, с этой минуты ни один мой манкусо не попадет к нему в руки. Одна мысль об этом мне противна.
— Поверьте, меня это все возмущает еще больше. — Но не забывайте, последствия ваших действий могут быть весьма серьезными и печальными не только для вас, но и для вашей торговли и знакомых.
Марти поднялся на ноги.
— Настало вам время определиться, падре, — сказал он. — Скажите: могу я на вас рассчитывать или нет?
— Во всем, что не касается моих обетов, вы всецело можете на меня положиться, — ответил священник. — Говорю вам это как мужчина и как ваш приемный отец.
Глаза Марти наполнились слезами, но в голосе зазвенел металл:
— В таком случае, предлагаю вам проверить, правда или неправда написана в письме. Жива ли Аиша или действительно умерла от чумы? У вас есть какие-либо идеи на этот счет?
— Я давно уже оставил меч и щит, — ответил Льобет. — Но теперь вижу, пришло время отряхнуть с них пыль.
Несколько бесшумных теней, тревожно оглядываясь по сторонам, одна за другой проскользнули в сторону приоткрытой двери одного из складов в порту Монжуик. Оттуда появился Омар, держа руку на рукояти кинжала, сам похожий на такую же тень, и жестом велел им войти. Один за другим заговорщики скользнули внутрь и приблизились к столу, освещенному двумя свечами, на котором лежал разложенный пергамент.
Когда вошедшие сбросили плащи, Марти, игравший роль хозяина, узнал Эудальда Льобета в одежде мирянина, капитана Манипулоса, который вместе со своей «Морской звездой» вступил в его предприятие, Жофре и Пеле, товарищей его детских игр, а ныне — деловых партнеров. Омар закрыл за ними дверь склада, где хранились столярные, кузнечные и лудильные инструменты.
— Все спокойно, хозяин, — доложил он. — Можете начинать, я покараулю. Если замечу, что кто-то приближается, свистну.
— Хорошо, Омар, — прошептал в ответ Марти. — Ну что ж, друзья, начнем?
Вошедшие оставили свои вещи на скамье возле стены и собрались вокруг стола.
— Я думаю, Эудальд, будет лучше, если вы расскажете капитанам, по какому делу мы их собрали, — сказал Марти. — Мне бы не хотелось, чтобы они решили, будто на них давят.
Тогда могучий каноник взял слово.
— Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за отзывчивость, с какой вы все откликнулись на зов Марти. Во-вторых, должен сказать, что дело, для которого вас собрали, не имеет никакого отношения ни к морю, ни к вашей службе. Нам бы хотелось, чтобы вы со всей ясностью представляли себе, во что ввязываетесь, поскольку последствия могут быть самыми неприятными.
Жофре ответил от имени всех троих.
— Уверяю вас, мы идём на это исключительно по велению дружбы и готовы рисковать ради Марти. Кроме того, все мы — взрослые люди, привычные к риску. Не думаю, что земля таит в себе больше опасностей, чем штормовое море, а ведь мы пережили столько штормов.
— Есть два вида опасностей: явные и тайные. Притаившийся под камнем скорпион может оказаться гораздо опаснее, чем волк, с которым ты встретился лицом к лицу.
— Перестаньте бродить вокруг да около и переходите к сути, — перебил его Манипулос. — У нас не так много времени.
— Ну что же, сеньоры, в таком случае, к делу. Нам предстоит восстановить справедливость. Но при этом мы неизбежно перейдем дорогу одному весьма могущественному человеку.
Отряд в семнадцать человек — четверо верхом на резвых конях, а остальные в двух каретах — свернул с большого тракта в сторону дороги на Таррасу. Они старались держаться подальше от поселений, поскольку не хотели без нужды привлекать к себе внимание. Каждый из капитанов отобрал по трое лучших людей из своей команды. Это были настоящие морские волки, пусть они и не слишком отличались от других жителей прибрежных средиземноморских городов, но стоило им углубиться внутрь континента хотя бы на день пути, они уже привлекали внимание. Крестьяне запросто могли принять их за шайку бандитов, во главе которой скачет огромного роста атаман.
Впереди отряда, как в прежние времена, верхом на могучем жеребце ехал Эудальд Льобет, отпросившийся на пару дней у графини Альмодис, сославшись на какие-то неотложные дела. Чуть позади скакали Марти, Жофре и Феле, а Омар и Манипулос чувствовали себя в седле не столь уверенно, как на палубе корабля во время шторма, и потому ехали в каретах вместе с остальными и всем необходимым.
К ночи они достигли цели — укрепленной усадьбы в окрестностях Таррасы. Укрывшись в березовой роще с видом на усадьбу, они спешились и обменялись мнениями. Командовал, разумеется, Эудальд, имевший богатый опыт взятия крепостей.
— Если будем действовать тихо и осторожно, никаких проблем возникнуть не должно, — заверил он.
— Объяснитесь, — шепотом попросил Марти.
— Эта крепость не столь уж и неприступна. Собственно говоря, это вообще не крепость, а просто укрепленный дом, где живет алькальд, отвечающий за сбор налогов в этих местах. Взгляните хотя бы вон на ту башню с северной стороны: у нее даже нет зубцов.
— И к чему вы это говорите?
— Я предлагаю поступить следующим образом. Я заметил, что у этих стен есть парочка уязвимых участков под охраной полусонных часовых. Так вот, ваша задача — осторожно их обезвредить. После мы спустимся в караульное помещение, где находятся остальные солдаты — наверняка они спят или играют в кости, поглядим — увидим. Двое или трое наших присмотрят за ними, а четвертый откроет ворота и впустит остальных. А дальше все пойдет как по маслу.
И тут вмешался Жофре.
— Марти, если ты не возражаешь, я мог бы взять это на себя.
Марти посмотрел на друга.
— Что ты надумал?
— Все очень просто, ведь я не раз бороздил штормовые моря. Я захватил с собой абордажные крючья, они в карете, а также взял с собой нужных людей, они вмиг взберутся по стене, как обезьяны. Вот увидишь, в мгновение ока мы окажемся наверху. К тому же мы знаем, как застать стражу врасплох. Не успеет пропеть петух, как мы все будем внутри.
— Тогда лучше дождаться заутрени, когда зазвонит колокол, — сказал Эудальд Льобет. — Тогда они не услышат, как ваши крючья заскрежещут по камню. Ждать придется недолго.
— Ну что ж, выбирай своих людей, — обратился Марти к Жофре.
— Если вам нужен третий, я с вами.
— Хорошо, Феле. Итак, мы прячемся здесь, в роще, пока не откроется дверь. Тогда мы ворвемся внутрь. Да, ещё одно: помните, никто не должен называть друг друга по имени. Я не хочу, чтобы вас потом привлекли к ответственности вместе со мной, — сказал Марти.
Все молча кивнули.
Жофре повернулся к своим людям, молча ожидавшим его приказа, перекинулся с ними несколькими словами, а затем выбрал троих добровольцев: пизанца Беппо, Йоната, который так ловко взбирался по вантам, что даже получил прозвище Обезьяна; и наконец, Сискета, уроженца Менорки, которого знал еще с тех времен, когда промышлял пиратством. Остальным велели спрятаться в роще и ждать.
С первым ударом колокола три абордажных крюка крепко зацепились за зубцы стены, от них тут же потянулись вниз длинные канаты, по которым ловко вскарабкались захватчики. Марти застыл в ожидании, время, казалось, замерло вместе с ним. Изнутри не было слышно ни шума, ни криков. Наконец, тяжелая дверь начала медленно открываться. Остальные бегом бросились к ней, впереди всех не по возрасту резво бежал Эудальд. Наконец, все они оказались в пустом и безмолвном внутреннем дворике. Жофре приложил палец к губам, призывая к молчанию.
— Дело в шляпе! — прошептал он. — На одном посту вообще никого не было, а другой часовой отдыхает в углу с кляпом во рту. Сискет его караулит.
В окно хорошо просматривалась караульное помещение, тускло освещенное единственным факелом. Дверь была приоткрыта. Пятеро отдыхали, лежа на соломенных тюфяках, а еще несколько человек пытались жарить мясо на углях в маленьком камине.
Пинком распахнув дверь, Эудальд ворвался внутрь, застав их врасплох. Спящие на тюфяках бедняги проснулись и захлопали глазами; те, что стояли возле камина, уронили мясо; снизу, застегивая штаны и рубашки, поднялись по лестнице еще несколько человек, осведомляясь на ходу, что происходит.
— Ничего не происходит и не произойдет, если вы будете вести себя разумно и делать то, что я скажу, — ответил Эудальд.
Никто бы сейчас не заподозрил в Эудальде Льобете священника, в эту минуту он имел ужасающий вид: огромный, разгневанный, в правой руке громадная булава, утыканная железными шипами.
— Кто вы такие, и что вам надо?
— Здесь я отдаю приказы и задаю вопросы, — отрезал Эудальд.
Офицер в панике огляделся и по виду своего отряда понял, что битва проиграна.
— Сколько человек под вашим командованием, и где они сейчас? — спросил Эудальд.
— Двадцать пять солдат, — ответил капитан. — Спят в подвале.
— Там есть дверь? Если есть, то она закрывается изнутри или снаружи?
— Там есть ворота, которые запираются на засов.
— Велите одному из ваших людей их открыть. С ним пойдут двое моих. Имейте в виду: если вздумаете поднять шум, и вы, и ваш человек будете убиты.
— Уж это я возьму на себя, — подал голос Манипулос.
Офицер отправил одного из своих перепуганных насмерть людей выполнять приказ.
— А теперь вы немедленно проводите нас к алькальду, — потребовал Марти.
— Здесь нет алькальда, только управляющий. Скажем так, военный комендант этого гарнизона, а я его командир. Он управляет здесь всеми делами и занимает хозяйские покои в башне.
— Извольте проводить нас туда.
Офицер попросил, чтобы ему позволили одеться, что ему милостиво разрешили — в присутствии двоих налетчиков. Приведя себя в порядок, он вышел из комнаты в сопровождении Марти, Жофре и Эудальда Льобета, а остальные остались под присмотром Феле и его людей.
Это был маленький замок, окруженный стеной, с тесным двором, посреди которого высилась деревянная громада донжона на каменном фундаменте. Поднявшись по винтовой лестнице, они оказались у двери спальни управляющего.
Марти шепнул приказ на ухо офицеру.
Тот постучал в толстую дверь, и вскоре изнутри послышался сонный голос:
— Что вам нужно в такой час?
— Дон Фабио, на кухне пожар, пойдёмте скорее!
Изнутри послышалось шуршание надеваемой одежды и два голоса, один из них — женский, затем раздался скрежет, словно по паркету волокли что-то тяжелое. Наконец, дверь открылась, и на пороге предстал растрепанный полуодетый мужчина со свечой в руке. При виде незнакомцев, он попытался снова захлопнуть дверь, но Жофре и Марти ему этого не позволили.
Управляющий не стал сопротивляться. Взяв себя в руки, он попросил, стараясь говорить как можно спокойнее:
— Сеньоры, там, внутри, моя жена, умоляю вас, будьте милосердны, не пугайте ее. А я сделаю все, что вы скажете.
— Никто не собирается никого пугать, — ответил Марти. — Если, конечно, вы будете благоразумны, расскажете все, о чем вас спросят, и сделаете все, что велят.
В эту минуту изнутри послышался женский голос:
— Что случилось, Фабио?
— Ничего, дорогая, спи спокойно, — ответил тот. — Небольшой пожар на солдатской кухне, только и всего.
Понизив голос,чтобы женщина его не услышала, Марти приказал:
— Проводите нас туда, где мы сможем спокойно поговорить.
Кабальеро открыл одну из дверей и проводил незваных гостей в большую гостиную, где велел одному из своих людей развести огонь в камине. Затем вновь обратился к ночным гостям.
— Итак, сеньоры, чего же вы хотите?
И тогда заговорил Марти.
— Мое имя — Марти Барбани. Представлять остальных не вижу необходимости. Простите нас за неожиданное вторжение. Мы мирные люди, никому не желаем зла и не собираемся никого пугать, если вы, конечно, не станете нам мешать.
С легкой насмешкой управляющий ответил:
— Мирные люди, которые врываются в чужой дом посреди ночи? Такое нечасто увидишь... Имейте в виду, у хозяина этого дома длинные руки.
— Мы хорошо знаем дона Берната Монкузи, — заявил Эудальд.
Управляющий, мгновенно сообразив, что люди, посмевшие посягнуть на имущество всесильного советника, к тому же подаренное графом, сами должны быть весьма могущественны, тут же сменил тон.
— Мирные люди приходят днём и стучат в двери, — сказал он. — В любом случае, мне хотелось бы знать, что здесь нужно благородным господам?
На этот раз ответил Марти.
— Мы хотим посмотреть, сколько узников томится в подземельях этого замка.
Управляющий нахмурился и после паузы ответил:
— В этом замке, если его можно так назвать, только две подземные камеры. В одной мы храним зимой сено, а в другой действительно содержится один узник.
— Точнее сказать: узница, — поправил Марти.
— Вы правы, так оно и есть.
— Сколько времени вы ее там держите?
— Точно не помню. Пожалуй, около трёх лет.
— Проводите нас к ней.
Дон Фабио ничего не ответил. Ему и самому была не по душе роль тюремщика, и, если кто-то решил с этим покончить, то он был только рад.
— Следуйте за мной, — произнёс он.
Отряд последовал за ним. Спустившись вниз по винтовой лестнице башни, они оказались в оружейном дворе, затем прошли мимо спящего стражника и очутились перед маленькой дверью. Управляющий приказал офицеру зажечь восковую свечу и открыть дверь. Из подземелья ударил в нос запах сена. В первой камере, как и сказал управляющий, громоздились тюки соломы и сена.
В глубине они увидели ещё одну дверь, сквозь щели просачивался слабый свет. Стражник со свечой вошёл внутрь, и пламя осветило камеру. Марти и Эудальд приникли к решетке, преграждающей вход. В глубине камеры на скамье зашевелился какой-то свёрток. Человек был одет в грубый мешок с дырками для головы и рук, перехваченный на талии куском веревки. Женщина — а это была именно женщина — поднялась на ноги, отбросив с лица космы спутанных волос. Марти, с трудом узнав в этом несчастном создании свою бывшую рабыню, зашатался и схватился за стену, чтобы не упасть.
— Откройте дверь!
Дону Эудальду не потребовалось повторять дважды.
Офицер снял с крюка увесистый ключ и, вставив его в замочную скважину, повернул. Дверь заскрипела ржавыми петлями и стала медленно отворяться. Резким пинком Эудальд распахнул ее настежь. Ворвавшись в камеру, Марти едва успел подхватить Аишу, потерявшую сознание у него на руках. Сев на жесткое ложе, он схватил кружку с водой, которую поднес один из стражников.
— Что они с тобой сделали? — в ужасе воскликнул Марти.
Аиша ничего не ответила. Услышав его голос, она подняла голову, устремив на него две пустые ямы, где прежде сияли ее черные глаза. Затем медленно, словно во сне, ее руки коснулись его лица, а губы озарились слабой улыбкой. Марти словно пронзила молния.
— Говори же, ради Бога! — воскликнул он.
Губы Аиши приоткрылись, из ее рта вырвался хрип.
Даже привычный к людским страданиям Эудальд Льобет, не смог сдержать негодующего возгласа: несчастную девушку не только ослепили, ей еще и отрезали язык.
Часть пятая
Деньги и честь
83
Мурсийская кампания
Шел 1058 год. Каталонское войско встало лагерем в окрестностях Мурсии, дожидаясь, когда к нему присоединится конница Аль-Мутамида. К этому времени каталонцам пришлось пережить немало трудностей и неудач, угроз и уступок, пересечь земли нескольких мавританских тайф, которые либо являлись союзниками Аль-Мутамида, либо просто не посмели выступить против бесстрашного и многочисленного войска. Графиня, не побоявшись трудностей, отправилась в поход вместе с супругом, взяв с собой Лионор и Дельфина. Донья Бригида и донья Барбара остались в Барселоне, чтобы присматривать за близнецами и их маленькими сестренками Инес и Санчей. К величайшему огорчению графини, не смог ее сопровождать и духовник, Эудальд Льобет, по причине тяжелой и совершенно несвоевременной простуды.
Настроение Рамона Беренгера с каждым днем все больше портилось и, что самое неприятное, глядя на него, остальные тоже мрачнели, чему весьма способствовала скверная погода. Дождь лил как из ведра; никому в лагере не хотелось даже носа высовывать из шатров. Продукты, одежда, фураж промокли насквозь; доспехи покрылись ржавчиной, и все вокруг пропитал запах плесени. Под проливным дождем поддерживать огонь было практически невозможно, и в шатрах стоял жуткий холод. В довершение прочих неприятностей, в лагере случилась вспышка дизентерии, что заставило барселонцев вконец пасть духом.
И, как будто всего этого было недостаточно, так еще и вынужденное безделье и заточение в шатрах стали причиной бесчисленных ссор и драк из-за проигрышей в кости и тому подобных пустяков. Чтобы не крали еду, припасы охраняла целая армия добровольных сторожей, но голод брал свое, и каждое утро возле частокола обнаруживали несколько трупов. Причиной убийств оказывалось не что иное, как попытка украсть колбасу, баранью ногу или еще какую-нибудь снедь.
Разговор проходил в шатре Альмодис, разбитом рядом с шатром графа. На этот раз они решили жить отдельно, поскольку графу каждый день приходилось совещаться с сенешалем и капитанами, и поселись они вместе, у графини не было бы ни минуты покоя.
Слабый свет едва проникал лишь через дымовое отверстие шатра; окна закрыли промасленной кожей, чтобы дождевая вода не попадала внутрь. Под дымовым отверстием стоял котел, чтобы льющаяся сверху вода попадала в него и не портила ковер. Два пятирожковых канделябра давали достаточно света, чтобы различать лица собеседников, однако при столь тусклом освещении невозможно было ни читать, ни работать. Дельфин, съежившись на низенькой скамеечке, сидел у ног обеих дам, удрученный и сердитый, поскольку из-за сырости у него нестерпимо ныли все кости.
— Что ты обо всем этом думаешь, Лионор? — спросила графиня.
— Ничего хорошего, — ответила та. — Война уже сама по себе — серьезное испытание, а если к этому еще добавить жуткую погоду и томительное ожидание, то можно с уверенностью сказать, положение наше крайне незавидно.
— Ну а ты, друг мой Дельфин, что об этом скажешь?
Пошевелив кочергой угли в огромной жаровне, Дельфин нехотя ответил:
— Сеньора, скорее я вырасту, чем мы дождемся подкрепления от этого мавра.
— На что ты намекаешь? — насторожилась она.
— Я не намекаю, а говорю прямо. Еще до того, как мы покинули Барселону, я знал, что ничем хорошим это не кончится.
— Почему же ты раньше ничего не сказал?
— Кто я такой, чтобы пытаться остановить грандиозный поход, на который возлагались такие надежды? Неужели вы и впрямь верите, что кто-нибудь стал бы слушать какого-то горбатого шута? Посмей я открыть рот против столь серьезной кампании — меня бы в лучшем случае избили, если не что-нибудь похуже...
— Но ведь я всегда прислушивалась к твоим предсказаниям, — напомнила Альмодис.
— Разумеется — когда дело касалось лично вас. Но отменять грандиозную кампанию лишь потому, что шуту графини что-то привиделось, как вы сами понимаете, никто не станет. Всем нужны новые земли, дань и слава, народ взбудоражен, солдаты уже почуяли запах близкой добычи. Что я мог сделать, кроме того, чтобы следовать за вами, рискуя собственной жизнью?
— А сейчас что тебе говорит предчувствие?
— Что мавр даже не собирается идти к нам на помощь, а соваться в сумасшедшую авантюру в одиночку было бы настоящим самоубийством. Без посторонней помощи каталонцам не взять Мурсию: это мощная и превосходная твердыня, не говоря уже о том, что к ним в любую минуту могут прийти на помощь войска союзных тайф.
Едва он успел произнести эти слова, как послышался призыв рога, и из графского шатра высыпали вооруженные воины.
Лионор выглянула наружу, узнать, что происходит, и тут же вернулась, весьма обеспокоенная.
— Сеньора, сенешаль и все капитаны собираются на совещание. Прибыл мавританский посол, у шатра я видела коней в арабской сбруе.
Поздним вечером Альмодис и Рамон беседовали под монотонный перестук дождя по натянутому холсту шатра. Граф задумчиво вышагивал взад-вперед.
— Посол говорит, что из-за дождей Гвадиана вышла из берегов, преградив коннице и обозу с провиантом. А что подсказывает ваш здравый смысл, сеньора?
— Вы выбрали себе плохих союзников — ответила графиня. — Мы выполнили нашу часть соглашения, хотя я даже представить не могла, что добраться сюда из Барселоны будет так трудно. Не следует доверять неверным: они непредсказуемы и коварны. Сегодня они ваши союзники, а завтра продадутся врагу, который больше заплатит.
— Не забывайте, мы втянули в это более шести тысяч человек, и если вернемся домой ни с чем, это станет катастрофой. Кавалерия могла бы нам пригодиться на открытой местности, но для долгой осады сил у меня достаточно.
— Не думаю, что это разумное решение. Вам нечего делать в Мурсии, это слишком отдаленная тайфа, чтобы держать ее в повиновении. Если они откажутся платить дань, когда мы снимем осаду, мы ничего не сможем поделать. Уже через год они смогут призвать на помощь союзников и даже альморавидов из Африки, при таком раскладе пытаться их покорить было бы чистым безрассудством.
— Но я не могу вернуться в Барселону, не получив никакой прибыли от этой авантюры. Это вконец опустошит казну и разорит графство.
— А кто сказал, что вы не сможете получить прибыль от этой авантюры? — прищурилась Альмодис.
— Если я не возьму город, то не вижу, каким образом это сделать.
— У вас есть заложник: воспользуйтесь этим.
— Но он — сын короля Севильи, а его войско уже в пути.
— Договор есть договор, а он включает в себя множество условий. Скажем, они выступили в поход, но до места назначения так и не добрались. Они получили срок в двадцать дней, однако в него не уложились. Но учитывая, что у нас в Барселоне остался сын Аль-Мутамида, дальность расстояния из недостатка становится преимуществом. Король Севильи уж постарается собрать выкуп и освободить сына.
— Но у него тоже находится в заложниках — Марсаль де Сан-Жауме, — напомнил граф.
— На это я и рассчитываю. Насколько мне известно, Абенамар — заядлый шахматист?
— И что из этого?
— Вы сможете выиграть эту партию, обменяв пешку на ладью.
Жребий был брошен. После долгих совещаний с капитанами, сенешалем Гуалбертом Аматом, судьей Понсом Бонфилем и казначеем Бернатом Монкузи граф наконец решил последовать совету жены, чтобы спасти свою честь после неудачного похода и хотя бы не потерять денег.
Встреча с Абенамаром была назначена на вечер следующего дня.
Мавр предстал перед Рамоном, одетый столь безупречно, как если бы находился в одном из роскошных испанских алькасаров. Рядом с изможденными капитанами каталонского войска он казался словно сошедшим с алтарной фрески.
На этот раз никто не стал тратить время на высокопарный обмен любезностями; напротив, Рамон стремился занять перед блистательным гостем жесткую позицию оскорбленного монарха, чьё доверие было бессовестно обмануто, и теперь, видя, что сила на его стороне, не собирался давать мавру спуска.
— Ну что ж, друг мой, я понимаю, что ваш король не властен над силами природы, как, впрочем, и я сам. Тем не менее, я проявил себя разумным правителем, заслуживающим доверия, в то время как ваш король положился на волю случая.
Ответ мавра прозвучал вдумчиво и серьезно; как любой хороший дипломат, он понимал, насколько шатко его положение.
— Как вы верно заметили, человек во многом зависит от капризов судьбы. За последние двадцать лет не было случая, чтобы Гвадиана выходила из берегов. Наши войска задержало наводнение. Если вы мне не верите, можете послать разведчиков, они подтвердят.
— Я нисколько не сомневаюсь в ваших словах, — ответил граф. — Но факт остается фактом: ваше войско находится вовсе не там, где должно находиться по договору. Моя армия, покинув Барселону, перенесла тысячи невзгод; однако мои воины, измученные и промокшие, готовы идти в атаку. Вы можете в этом убедиться, выглянув из шатра. И вы предлагаете нам вернуться домой ни с чем, объяснив союзным графствам, что одного из самых могущественных властителей задержал такой пустяк, как разлившаяся Гвадиана? Как я посмотрю в глаза союзникам?
— Я этого не говорил. Но у меня есть приказ короля выплатить вам десять тысяч мараведи, после чего мы можем разойтись с миром, оставшись при этом друзьями и союзниками.
— Мы так не договаривались, господин посол, — ответил граф. — Кто обещал мне дань от Мурсии и право первым войти в город?
— Мой король тоже понес большие убытки и готов с честью возместить ваши. Полагаю, сеньор, предложенная мною сумма вполне справедлива. Произошедшее весьма скверно для всех нас, но увы, так сложились обстоятельства.
— Не по моей вине, — настаивал граф.
— В таком случае, чего же вы хотите?
— Тридцать тысяч мараведи, только такая сумма возместит убытки. По справедливости, платить должен тот, по чьей вине кампания провалилась.
Лицо посла слегка побледнело.
— У меня нет таких средств, — заявил он.
— Мне достаточно слова вашего короля, — ответил граф. — Я буду ждать в Барселоне, когда мне доставят оговоренную сумму.
— Ни один суд не признает законными ваши претензии, — возразил посол. — Запрошенная сумма чрезмерна, не может быть даже речи о ее выплате.
— Могу вас понять, но ни вам, ни вашему королю не приходится платить шести тысячам солдат.
— Я не вправе решать столь сложные вопросы, но, зная моего короля, уверен, что едва ли он согласится выплатить настолько огромную сумму.
— В таком случае, нам придется смириться с тем, что Марсаль де Сан-Жауме останется в Севилье заложником Аль-Мутамида.
Абенамар понял намёк и изменился в лице.
— То есть, вы намекаете, что принц ар-Рашид останется в Барселоне?
— Я не намекаю, а говорю прямо, господин посол. И обращаться с ним будут так же, как вы будете обращаться с моим зятем, от вас зависит, станет ли жизнь вашего принца адом или раем.
— Но ар-Рашид — наследный принц.
— А Марсаль мне почти как брат. Итак, чтобы вы знали: через неделю мы сворачиваем лагерь и будем с нетерпением ждать вас в Барселоне, чтобы вновь оказать те же почести, как в тот день, когда вы прибыли просить нас о помощи.
84
Новые беды
Бернат Монкузи вернулся из неудачного похода на Мурсию в самом скверном настроении. Он не был военным, ненавидел всяческие походные неудобства, дела в его отсутствие шли вкривь и вкось, а возможности нагреть руки и набить карманы у него в последнее время не возникло. Хорошо хоть он обратил на себя внимание во время переговоров, укрепив таким образом позицию правой руки графа в экономических вопросах. Дома его также ждали недобрые вести. Как всегда, слухи бежали впереди гонца: еще до того, как Монкузи переступил порог своего дома, он уже знал о нападении на Таррасу, но желал узнать обо всех деталях и последствиях этого происшествия из первых рук, а потому вызвал к себе в кабинет бывшего алькальда, а ныне просто управляющего, Фабио де Кларамунта.
Конрад Бруфау, имевший несчастье сообщить ему эту неприятную новость, теперь доложил о приходе управляющего. Он был хорошим работником, умевшим при необходимости отвлечь своего патрона от нежелательных мыслей, благодаря чему, собственно говоря, и задержался на этом месте значительно дольше многих предшественников, которые не выказывали патрону должного уважения, зато не упускали случая высказать собственное мнение, что, как известно, никому не нравится.
— Дон Фабио де Кларамунт ожидает в приёмной, — сообщил он.
— Пусть войдёт, Конрад.
Секретарь удалился, и в кабинет вошёл приземистый человек.
— Доброго вам вечера, Кларамунт, — поприветствовал его Монкузи.
— И вам того же, сеньор.
— Проходите и располагайтесь.
Как только вошедший сел, Бернат Монкузи, неторопливо собрав бумаги, сложил руки на животе и выжидающе уставился на посетителя.
— Моих ушей достигли дурные вести, Фабио. Я желаю услышать из ваших уст, что там произошло, а также ваше мнение на этот счёт.
— Пока я ожидал в приемной, я поговорил с сеньором Бруфау, и он сказал, что вы уже в курсе, а потому не хотелось бы отнимать ваше время, повторяя уже известные факты. Буду краток. Это произошло в последнюю пятницу прошлого месяца.
Кларамунту потребовалось немало времени, чтобы рассказать своему хозяину о событиях той ночи, когда была освобождена рабыня.
— Я так понимаю, что вы плохо охраняли дом, — заметил Монкузи.
— Возможно, и так, сеньор, — не стал спорить управляющий. — Но не забывайте, что Тарраса — не более чем укрепленный дом, хоть и окруженный стеной, а я — всего лишь сборщик налогов. Мы всегда жили в мире с соседями, и за все эти годы ни разу не случалось ничего из ряда вон выходящего.
— Это не оправдывает вашей халатности.
— Вы можете обвинять в халатности офицера, стоящего во главе гарнизона, — возразил Кларамунт. — Как вы сами знаете, охрана усадьбы не входит в мои обязанности. Я уже много лет перестал быть алькальдом. Так или иначе, я уже наказал начальника стражи за беспечность.
Бернат Монкузи, казалось, пропустил мимо ушей упоминание о проступке начальника стражи, гораздо больше его интересовали другое.
— Вы кого-нибудь узнали? — спросил он.
— Ночь была темная, я не смог их толком разглядеть. Я даже сам удивился, что они ничего не взяли, ничего не порушили и не пролили ни единой капли крови. Они могли бы и не представляться, но их предводитель даже не подумал скрывать свое имя.
— И как же он представился?
— Он представился как Марти Барбани де Монгри и назвался вашим хорошим знакомым.
При звуке этого имени на красном лице советника выступили крупные капли пота. Задыхаясь от гнева, он еле выговорил:
— Продолжайте.
— Их было то ли пятнадцать, то ли двадцать человек, а командовал ими какой-то здоровенный тип. Он, видимо, и задумал это нападение.
— И что же дальше?
— А дальше, сеньор, они потребовали открыть камеру рабыни, но, прежде чем вывести ее оттуда, удостоверились, что эта женщина именно та, а затем показали мне нотариально заверенный документ, согласно которому несколько лет назад ей была дана вольная, а в доказательство того, что это та самая рабыня, показали мне четырехлистник, выжженный под ее левой подмышкой.
— Так вы говорите, она получила вольную? — встревожился советник.
— Именно так.
— И что же было дальше?
— Они потребовали, чтобы я дал ей какую-нибудь одежду, я принес им кое-что из гардероба моей жены. Затем они все уехали, предупредив, чтобы никто не вздумал их преследовать, иначе нам не поздоровится.
— И это все?
— Да, это все.
Немного помолчав, Бернат Монкузи встал и принялся вышагивать взад-вперед по кабинету.
Неожиданно он повернулся к посетителю.
— Как вы сами понимаете, вам не удастся выйти сухим из воды, — произнес он. — Хотя, благодаря вашей необъяснимой отставке с поста алькальда, вы и впрямь не несете ответственности за охрану Таррасы, вы, как должностное лицо, не оправдали оказанного вам доверия. Думаю, вы понимаете, что должны понести наказание.
Управляющий спокойно ответил:
— Охрана вашей собственности не входит в мои обязанности. Особенно если вспомнить, что я уже давно собирался подать в отставку, поскольку наши с вами представления о справедливости слишком различаются, а ваши приказы идут вразрез с моими христианскими чувствами.
— Никто не имеет права нарушать законы, а наш закон гласит, что управляющий должен выполнять приказы своего сеньора.
— Простите, но я считаю иначе. Я считаю, что совесть человека выше любых законов, а моя совесть не позволяет мне спокойно смотреть, когда человеку выкалывают глаза и отрезают язык. Что же касается обязанности выполнять приказы сеньора — не забывайте, что я не ваш слуга. Я свободный человек и вправе иметь собственное мнение.
— В таком случае вы уволены! За последствия будете отвечать сами.
— В этом нет необходимости, — сухо ответил управляющий. — Прежде чем прийти сюда, я подумал, что должен вернуть вам ключи от Таррасы.
С этими словами, бросив на стол связку ключей от усадьбы, Фабио де Кларамунт покинул кабинет.
85
Голос немой
Несколько месяцев Аиша медленно приходила в себя после долгих лет, проведенных в аду. Лекарь Галеви, каждое утро ее навещавший, от души восхищался крепостью ее здоровья и силой духа. Едва ли кто другой смог бы выжить в столь нечеловеческих условиях, в многолетнем одиночестве, слепой и немой. Единственным человеком, навещавшим ее все эти годы, был тюремщик, приносивший ей протертый суп на обед. Очевидно, Бернат Монкузи не хотел, чтобы она умерла, напротив, он желал, чтобы она продолжала жить и мучиться. Когда Марти рассказал ей об ужасной гибели Лайи, слезы градом покатились из пустых глазниц Аиши, а из горла вырвался мучительный стон.
Руфь, глядя на нее, молча страдала; ее доброе сердце обливалось кровью, и она всячески старалась заботиться об этом беспомощном создании, угадывая желания Аиши и предвосхищая их. После того как Марти рассказал Руфи печальную историю Аиши, они разработали собственный язык прикосновений и кивков для общения с Аишей. Со временем, когда между двумя женщинами установилось полное взаимопонимания, Руфь стала ощущать даже некоторое чувство вины, вспоминая об этой трагедии и о том, какую огромную жертву принесла Лайя ради своей подруги. Теперь, как никогда прежде, она понимала, что ее мечта добиться любви Марти неосуществима. Она бы предпочла сразиться за его любовь с реальной женщиной из плоти и крови, чем бороться с воспоминанием, приукрашенным игрой воображения и лишенным недостатков.
В тот вечер Марти и Руфь, как всегда, сидели после ужина на террасе с видом на песчаный пляж. Там, на берегу, стояли два из двенадцати кораблей флотилии Марти. За минувшие годы они потеряли два корабля: один — из-за шторма в Лионском заливе, а другой — в результате нападения пиратов.
— У меня просто в голове не укладывается, насколько жестоки могут быть люди, Марти, — сказала Руфь. — Дикие звери убивают, потому что голодны, но никогда не опускаются до подобных жестокостей.
— Какое же вы еще дитя, Руфь! Человек может быть куда более жестоким, чем любые волки. Меня возмущает само существование рабства, и, хотя я не могу пойти против сложившихся обычаев, а потому вынужден держать рабов, я стараюсь создать для них наилучшие условия жизни. Вы ведь и сами видите, как к ним относятся в этом доме.
— Вот и мой отец всегда говорит то же самое. Тем более, что в наши времена каждый свободный человек в любую минуту может оказаться в столь же печальном положении: попав в плен на границе, оказавшись в руках у пиратов после нападения на прибрежный город или после кораблекрушения на море. Кстати, мне сообщили, будто бы граф вернулся из Мурсии. От советника нет никаких вестей?
— Пока нет, но я их жду с нетерпением, — ответил Марти, и глаза его сверкнули гневом.
— Будьте с ним осторожны, Марти. Случай с Аишей показал, что этот человек способен на все. Он весьма могуществен и может причинить вам много зла.
— Вы говорите почти как падре Льобет, — улыбнулся Марти. — Но не бойтесь: я уже не тот наивный мальчик, который шесть лет назад приехал в Барселону. Я объездил полмира, пересек море и пустыню. Поверьте, я способен о себе позаботиться. В конце концов, не в его интересах, чтобы правда вышла наружу: ведь это покрыло бы его позором.
— Его поступки доказывают, что от него всего можно ожидать, — возразила Руфь. — Я боюсь, Марти.
Марти погладил ее по подбородку.
— Давайте лучше поговорим о ваших делах, — сменил тему он. — Андреу сказал, что к вам приходила мать.
— Да, она пришла вскоре после обеда, когда вы уже ушли, — ответила Руфь. — Она показалась мне несколько обеспокоенной. И сказала, что отец хотел бы с вами встретиться.
— Она сказала, для чего?
— Нет, она только сказала, что это не слишком срочно. Кстати, она очень рада, что я могу отправлять обряды нашей веры под вашей крышей. Но она советует мне соблюдать осторожность.
— Если я ее увижу, я сам ей скажу, если же нет, то скажите вы: пусть не беспокоится, в моем доме вас никто не выдаст.
Дворецкий Андреу Кодина деликатно постучал в дверь на террасу.
— В чем дело, Андреу? — откликнулся Марти.
— Сеньор, там пришёл посыльный от смотрителя рынков.
— В такой поздний час? — удивилась Руфь.
— Именно так, сеньор, — ответил дворецкий. — Желаете, чтобы я отправил его восвояси?
— Напротив, пусть войдет, — ответил Марти. — Вы даже не представляете, с каким нетерпением я его ждал.
— Вы не забыли, что я вам говорила, Марти? — воскликнула Руфь. — Будьте осторожны!
Марти поднялся со стула и спустился в прихожую. Посыльный смотрителя рынков ожидал его внизу, держа в руке письмо.
— Вы — дон Марти Барбани де Монгри? — спросил он.
— Он самый.
— Я принёс вам письмо, которое должен отдать в собственные руки.
— Так в чем же дело? Давайте его сюда.
— Я должен передать моему сеньору доказательства, что действительно вручил его вам.
С этими словами посыльный отдал письмо. Марти велел Андреу принести ему перо и чернильницу, написал расписку и протянул ее посыльному.
Едва он удалился, Марти сорвал печать и начал читать послание. В отличие от других прежних писем Берната Монкузи, это было написано в сухом официальном тоне. Без каких-либо объяснений советник заявлял, что ждёт его в четверг шестого числа, ровно в час пополудни.
86
Разоблаченная интрига
Марти тщательно одевался, готовясь к назначенной встрече. Он уже долгое время не встречался с советником и теперь, после всего, что он о нем узнал, Марти с трудом удавалось держать себя в руках и сохранять спокойствие.
После смерти Лайи он одевался только в черное. Теперь же он уделил особое внимание своему траурному наряду без единой нитки другого цвета. Даже штаны и гетры из оленьей кожи были черными — цвета скорби, царившей в его душе.
Он простился с Руфью, в очередной раз умолявшей его вести себя осторожно, и вышел из дома, готовясь к тяжелому разговору, а сердце его переполняла ненависть.
Он невольно вспомнил о своей первой встрече со смотрителем рынков и аукционов. Как же давно это было, как все с тех пор изменилось! Благодаря разумно вложенному отцовскому наследству, а также собственному упорству, храбрости и счастливой звезде, Марти стал богатым человеком. И сейчас он подумал, что деньги и возможности дали ему уверенность, которой ему так не хватало в тот далёкий день, когда он впервые пришёл к советнику на аудиенцию.
По дороге от своего дома недалеко от площади Сан-Мигель до конторы смотрителя рынков и аукционов он попытался предугадать все возможные пути развития событий и обдумывал ответные меры. Советник мог стать страшным врагом, от которого не спасут никакие предосторожности. В любом случае, чем меньше рычагов влияния останется в руках у советника, тем лучше. Примерно месяц назад Марти передал все свои мелкие предприятия Томасу Кардени, самому крупному в Барселоне рабовладельцу. Виноградники и мельницы Магории он продал и на полученные деньги купил новые корабли, а также расширил и усовершенствовал верфи, пристроив к ним кузницы, литейные мастерские и лодочные сараи, способные вместить по меньшей мере два недостроенных корабля. Таким образом, все его предприятия теперь находились за стенами города и никак не зависели от городских властей.
На берегу, неподалеку от еврейского кладбища у подножия горы Монжуик, он оборудовал несколько пещер для хранения амфор с черным маслом, которые вывез из города, понимая, какой осторожности требует это вещество при хранении и перевозке. У входа в пещеры он поставил сторожку, где круглосуточно дежурила стража, неусыпно охраняя опасный товар.
Добравшись до знакомого особняка, Марти, задыхаясь от волнения, но полный решимости, поднялся по мраморной лестнице с чугунными перилами, ведущей на галерею второго этажа.
В приемной, у дверей кабинета, толпился народ. Люди, как всегда, приходили и уходили, хотя нельзя не признать, что за минувшие годы число просителей значительно увеличилось. Едва Марти вошел в приемную, как в дверях кабинета советника появился секретарь Конрад Бруфау. Бледный и испуганный, он сообщил Марти, что сеньор приказал немедленно проводить его в кабинет. Глядя на перепуганного секретаря, Марти почувствовал, что эта аудиенция будет последней. Секретарь провел его в кабинет и удалился, прикрыв за собой дверь.
Ничего не изменилось с тех пор, как он был здесь в последний раз. Тот же камин, те же огромные песочные часы, тот же большой стол. Кровь закипела у него в жилах, когда он увидел на столе небольшую подставку с портретом девушки с серыми глазами, которые, казалось, хотели ему что-то сказать.
Наконец, открылась маленькая дверь позади рабочего стола, и на пороге показалась пухлая фигура ненавистного Берната Монкузи.
Двое мужчин стояли, выжидающе глядя друг на друга.
Потом советник опустился на изящный стул, жестом велев Марти сделать то же самое.
Повисло тяжелое молчание; Барбани почувствовал, как в его сердце вновь закипает ненависть, готовая вырваться наружу.
— Сколько воды утекло с тех пор, как я имел удовольствие видеть вас, — произнёс Монкузи.
— Слишком много всего случилось за это время, — ответил Марти, изо всех сил стараясь унять дрожь в голосе.
— И не все эти события были благоприятными, — продолжал Монкузи.
— Разумеется.
После этих слов вновь воцарилось молчание. Советник, имевший привычку вертеть в пальцах гусиное перо, прежде чем ответить на щекотливый вопрос, взял с подноса зеленоватое перо и принялся с ним играть.
— Ну что ж, начнем сначала. Право, я даже помыслить не мог, что вы отважитесь ворваться в чужое поместье под покровом темноты, во главе банды головорезов.
— Вас не должно удивлять, что кто-то захотел вернуть принадлежащее ему, а это был единственный путь, сами понимаете.
— Не думаете, что было бы лучше просто попросить вернуть вашу собственность, если вы считаете, что по-прежнему имеете на нее права?
— Едва ли это было бы возможно — учитывая утверждение, будто бы эта, как вы выразились, собственность умерла от чумы.
— Вы употребили неверное слово, когда сказали, что она принадлежит вам. Если мне не изменяет память, вы сами подарили мне эту рабыню.
— Именно изменяет. Я подарил вашей падчерице голос и искусство Аиши. А у вас лишь попросил на это разрешения.
Монкузи с силой всадил в стол гусиное перо.
— Кончайте ваше словоблудие! — воскликнул он в ярости. — Имейте в виду, я не допущу, чтобы по вашей милости надо мной потешалось все графство!
Голос Марти прозвучал по-прежнему мягко, но в нем отчетливо послышалась угроза.
— Давно прошло то время, когда я считал вас достойным человеком. Я знаю, что вы сделали с Лайей, но мне бы не хотелось высказывать, что я о вас думаю. Но имейте в виду: тот мальчик, что когда-то пришел к вам, давно умер. Я знаю, вы могущественны, но не стоит меня пугать: поверьте, у меня тоже найдутся средства, чтобы призвать вас к ответу.
— И что же такого я сделал с Лайей — кроме того, что предложил ее вам в жены и заботился о ней, как мог, после смерти ее матери?
— Не стоит добавлять к вашему коварству еще и цинизм, вынуждая меня говорить об этом.
— Хотите говорить — так скажите! — выкрикнул советник.
Теперь Марти тоже повысил голос.
— Вы предложили мне ее в жены лишь потому, что она носила ребенка — от вас! Ведь это вы виновны в том, что с ней случилось. Прежде чем это сделать, вы заставили ее написать письмо, в котором она возвращает мне данное слово, поскольку якобы больше меня не любит. Однако, когда я вернулся, вы сами начали настаивать на свадьбе, чуть ли не силой пытаясь заставить меня жениться на ней — чтобы скрыть ваши грешки.
Все это время Монкузи отчаянно соображал, откуда Марти мог узнать, где находится Аиша? И откуда ему стало известно, что на самом деле произошло с Лайей? Может быть, рабыня, несмотря на немоту, нашла способ об этом сообщить?.. Или падре Льобет рассказал, нарушив тайну исповеди?.. Как бы то ни было, у него все равно нет никаких доказательств...
— Откуда вы взяли весь этот бред? — воскликнул советник.
— В Барселоне не только у вас имеются хорошие осведомители.
— Все это ложь и клевета. Когда человек занимает такое высокое положение, как я, вполне естественно, что у него находится множество врагов.
— Ложь? — возмущённо выкрикнул Марти. — Разве вы сами не солгали, сказав, что Аиша умерла? Почему вы приказали ослепить ее и отрезать ей язык?
— Оставьте ваши бредни! — отмахнулся советник. — Вы ничего не сможете доказать. Ни один суд даже слушать не станет подобный вздор!!
— Я и не собираюсь ничего доказывать, — ответил Марти. — Вполне достаточно того, что вы приказали выколоть глаза и отрезать язык свободной женщине, которая служила в вашем доме.
— Для меня она все равно остается рабыней, к тому же вероломной предательницей. А кроме того, зачем ей язык, если ей все равно больше не для кого было петь? Ведь, как вы сами утверждаете, вы подарили ее моей дочери, а она умерла. Что же касается глаз, то не я первый придумал лишать предателей зрения. Еще во времена пунических войн существовал обычай выкалывать глаза и отрезать языки карфагенским шпионам... И как раз такую шпионку я обнаружил в собственном доме!
— Да вы просто циник! — не выдержал Марти.
— Поосторожнее со словами! — прикрикнул советник. — Я, так и быть, готов простить вам это оскорбление, но впредь подобного терпеть не стану! К тому же мне не хотелось бы ссориться с вами из-за какой-то рабыни, которую вы в любом случае себе вернули. Так что предлагаю навсегда закрыть эту тему. У нас слишком много общих интересов, не стоит смешивать дружбу и дела.
— Никакие общие дела нас с вами больше не связывают. И вы не внушаете мне никаких чувств, кроме омерзения. Я лишь хочу заявить: можете попрощаться со своей долей прибыли, которую до сих пор исправно у меня забирали. Не видать вам больше ни доходов от виноградников, ни своей доли от продажи черного масла. Первые я продал, и они мне больше не принадлежат. Как вы сами понимаете, их новый владелец не обязан отдавать вам часть доходов. Что же касается второго, то можете потребовать свою долю у вегера, с которым я уже заключил договор о поставках черного масла на ближайшие пять лет.
— В таком случае, можете поставить крест на вашей торговле в городе.
— Для торговли мне не требуется ваше согласие. Не забывайте, что товары привозят в город на моих кораблях.
— Я так понимаю, вы бросаете мне вызов?
— Думайте, как хотите.
— Если вы рассчитываете выйти сухим из воды после того, как проникли в мой дом и украли оттуда рабыню, которая, что бы вы ни говорили, служила в моем доме, да еще и теперь готовите мне какую-то гадость, то вы просто сошли с ума!
— С ума вы свели Лайю и ее мать. Со мной у вас этот номер не пройдёт.
— Уж не собираетесь ли вы объявить мне войну?
— Понимайте, как хотите, — повторил Марти. — До сих пор ваши потери были чисто материальными, но я не успокоюсь, пока не покрою ваше имя позором перед всем Кагалелем.
Повернувшись к нему спиной, Марти подхватил черный плащ и вышел из кабинета, прекрасно осознавая, что начал серьезную войну, исход которой совершенно непредсказуем. Он чувствовал, как в спину ему глядят с любовью и благодарностью серые глаза девушки с безмолвного портрета.
87
Обмен заложниками
Все колокола города, начиная с собора Святой Эулалии, отчаянно звонили, собирая народ на площади возле синагоги. Улицы были заполнены крестьянами, вооруженными чем только можно: вилами, мотыгами, луками, копьями, булавами, ножами... На площадях собрались толпы народа, недоумевая, по какому поводу их созвали. Единственное, что не подлежало сомнению: звон набата считался священным, и каждый житель города был обязан откликнуться на его зов. Ряды крестьян все росли.
Марти, отвечающий за работников верфи — плотников, кузнецов, корабелов, такелажников, канатчиков, клепальщиков — уже собирался домой, когда услышал звон набата. Омар, Андреу и Мухаммед, уже почти взрослый, поспешили вслед за хозяином.
Взбудораженная Руфь ворвалась в его комнату, даже не постучавшись.
— Что случилось, Марти?
— Мне известно столько же, сколько и вам. Я знаю лишь, что в ближайшее время должен с оружием в руках стоять на площади возле синагоги во главе моих работников.
— А потом?
— А потом мы должны направиться к воротам Регомир. Если не пошлют никого другого, их предстоит защищать мне.
— Но почему вы должны это делать? — не унималась Руфь. — Разве не для этого существуют благородные рыцари? А иначе зачем они тогда нужны? Работать они считают для себя зазорным, а когда городу грозит опасность, прячутся за спины горожан. И за что, спрашивается, они пользуются такими привилегиями?
— Это долго объяснять, Руфь. Вы требуете, чтобы я в двух словах рассказал всю историю города, но сейчас мне пора уходить.
Однако девушка не желала отставать, продолжая допытываться:
— Мой народ всегда находился в угнетенном положении по сравнению с другими горожанами. Но в подобной ситуации может оставаться в пределах Каля, как будто ничего не происходит.
— Правильно, потому что они не граждане Барселоны. И ничего подобного нет больше нигде на всём полуострове. Более того, если бы вы побывали в Венеции, Генуе или Неаполе, то убедились бы, что нигде горожане не имеют таких привилегий, как здесь.
— Вот уж никогда бы не подумала, что быть евреем настолько выгодно, — призналась она.
— Подайте мне лучше отцовский меч, — велел Марти.
Обеими руками девушка взяла тяжёлый меч в ножнах и подвесила его к поясу Марти, не упустив случая на миг заключить его в объятия. Он попытался было отстраниться, и тогда девушка неожиданно поднялась на цыпочки, чтобы ее лицо оказалось вровень с лицом Марти, и приникла к его губам робким поцелуем — лёгким, словно прикосновение крыльев бабочки.
— Что вы делаете, Руфь? — спросил Марти, когда ее губы наконец оторвались, чувствуя, как в его груди разгорается незнакомый прежде огонь.
Руфь посмотрела на него в упор и произнесла звонким и чистым голосом:
— Я прощаюсь с вами, провожая на битву. Я люблю вас ещё с детства и теперь схожу с ума от страха, что с вами может что-то случиться.
Лишь теперь Марти наконец понял, что девочка уже выросла и перед ним стоит очаровательное и прелестное создание.
Однако он тут же вспомнил о своих обязательствах перед ней и о клятве, данной ее отцу.
С трудом уняв нервную дрожь, он заявил, стараясь говорить как можно строже:
— Руфь, я тоже вас люблю всей душой, но подобное ни в коем случае не должно повториться. Ваш отец доверил мне заботу о вас. И умоляю, не создавайте мне лишних трудностей.
С этими словами, подхватив лежавший на кровати шлем, Марти почти бегом вылетел из спальни, на ходу надевая шлем на голову, в которой смешались все мысли.
Вместе с вооруженными до зубов слугами он прибыл к назначенному месту. Жофре уже был там; остальные капитаны находились в море. Марти встал во главе своих людей, однако мысли его были заняты совершенно другим.
Колокольный звон стих, и из дворцовых ворот вышел вегер, готовый успокоить взбудораженную толпу. Ольдерих де Пельисер поднес к губам латунный рог и заговорил:
— Вы меня слышите?
Толпа рявкнула в один голос:
— Слышим!
— Граждане Барселоны! Звуки рога и сигнальные огни, зажженные в деревнях нашими эмиссарами, сообщили, что к стенам города приближается сарацинское войско. Мы не знаем, каковы их намерения, но должны быть готовы к самому худшему. Каждый житель города примет участие в обороне, охраняя ворота или участок стены и выполняя приказы своего капитана. Женщины должны носить воду и поддерживать огонь под котлами, чтобы лить кипяток на головы врагам, а дети — подносить камни, чтобы наполнять катапульты. Да здравствует Барселона, друзья мои! Да здравствует святая Эулалия!
После этого воззвания толпа разделилась на несколько частей, каждая заняла свой участок обороны под командованием своего военачальника. Марти поспешил к воротам Регомир, дожидаясь распоряжений. Невольно он вытер губы тыльной стороной руки, пытаясь стереть поцелуй Руфи, который до сих пор его жег.
А в графском дворце царила лихорадочная активность. Выслушав гонца, граф в спешном порядке созвал совет, на нем присутствовали сенешаль, вегер и все придворные советники, включая казначея Берната Монкузи.
Рамон Беренгер сидел во главе длинного стола, готовясь отдать приказы капитанам.
— Ситуация, сеньоры, сложилась следующая: силы противника, хоть и не слишком большие, пересекли Льобрегат и приближаются к городу с юга. Само по себе это бы нас не тревожило, если бы мы не знали, что это всего лишь передовой отряд, за которым следует главное войско. Поэтому мы должны быть готовы к худшему. Гуалберт, — обратился граф к главному сенешалю, — вам надлежит взять на себя командование обороной города, а сам я во главе двухсот всадников выеду навстречу врагу.
Все молчали. Каждый знал свои обязанности на тот случай, если противник решится штурмовать Барселону. Правда, пока не решили, кто будет сопровождать графа во время вылазки. Жильбер д'Эструк, Бернат де Гурб, Герау де Кабрера, Перельо Алемани и Гийем де Мунтаньола выжидающе смотрели друг на друга, гадая, кому выпадет честь сопровождать графа и нести его знамя.
И вдруг чей-то голос эхом разнесся под сводами зала.
— Отец, я надеюсь, вы поручите мне командовать войском, а сами останетесь под защитой городских стен. В вашем возрасте разумнее укрыться в надёжном месте, чем соваться в открытый бой.
Голос принадлежал Педро Рамону, первенцу Рамона Беренгера от первого брака с ныне покойной Изабеллой Барселонской.
Все взгляды устремились на старого графа.
Собрав остатки терпения, граф произнёс:
— У вас впереди достаточно времени, сын мой, ещё успеете накомандоваться. А пока ваш отец не готов сложить с себя бремя власти. И не забывайте, закон о наследовании даёт мне право передать власть тому из наследников, кого я посчитаю наиболее достойным. Ваше время ещё не настало, и только я буду решать, кто, когда и как станет моим преемником.
Голос его сына прозвучал дерзко и грубо:
— Когда — допустим, но кто и как — вы решать не вправе. Мое право первородства неотъемлемо: никто не смеет меня его лишить. И прошу вас помнить об этом, а также напомнить вашей супруге, которая давно уже мечтает посадить на графский трон Барселоны своих близнецов — вернее сказать, одного из них — поправ мои права.
С этими словами взбешённый юнец покинул комнату.
И тут голос Берната Монкузи, советника по торговле, разрядил напряженную обстановку.
— Не обращайте внимания, сеньор. Пусть петушок распускает перья, не стоит придавать большого значения его словам.
Хитрец Монкузи, несомненно, пытался таким способом дать понять, будто ломает копья за наследника; он не сомневался, что его слова дойдут до его ушей, и со временем советник сможет надеяться на его покровительство.
Выбрав капитанов, которым предстояло сопровождать его в вылазке, Рамон Беренгер во главе отряда выступил навстречу Абенамару, тот находился уже почти у стен города, намереваясь освободить ар-Рашида, первенца Аль-Мутамида Севильского, заплатив при этом как можно меньшую сумму.
Крепостные стены были заполнены народом; из просветов между зубцами выглядывали устрашающие дальнобойные луки защитников. На открытых площадках башен стояли онагры [30], заряженные мелкими камнями, и грозные катапульты, их ковши, приводимые в действие при помощи тросов из лошадиных жил, были наполнены кипящим пальмовым маслом. С высоты городских сил защитникам открывался прекрасный вид на войско противника — более пятисот всадников на превосходных арабских скакунах.
Ворота Бисбе открылись, и отряд кавалерии во главе с графом Рамоном Беренгером выехал из города и выстроился возле его стен. Знаменосец размахивал красно-желтым графским штандартом с изображением святой Эулалии.
При виде каталонского отряда от сарацинского войска отделились шесть всадников, двое из них также размахивали знаменами. Одно — зеленое, цвета города Севильи, с надписью «Аллах велик»; другое — белое, что свидетельствовало о мирных намерениях противника. Мавританское посольство остановилось в полулиге от каталонцев, ожидая, пока они пришлют своих представителей.
Рамон Беренгер повернулся к капитанам.
— Откровенно говоря, я боялся худшего, — признался он. — Но, судя по всему, мавры и впрямь привезли ту сумму, которую задолжали за провал мурсийской кампании. Ну что ж, давайте с ним встретимся!
Граф двинулся навстречу маврам во главе шестерых своих товарищей, среди которых были Бернат Монкузи, под чьей грузной тушей прогибался хребет несчастного коня, а также Педро Рамон, желавший отличиться и восстановить свое доброе имя после того унижения, которому подверг его отец в зале совета.
Обе делегации остановились друг против друга на половине дороги. На сей раз беседа не была столь цветистой, как во время предыдущей встречи. Абенамар, как представитель севильского посольства, начал заговорилпервым.
— Уважаемый сеньор, граф Барселонский! Я прибыл сюда от имени моего короля и друга Аль-Мутамида Севильского, чтобы освободить его первенца, которого вы удерживаете у себя против его воли, требуя слишком огромную сумму.
Граф, опытный дипломат, привыкший сохранять хрупкое равновесие между враждующими каталонскими графствами, собирался ответить спокойно и прямо, чтобы не провоцировать мавра, поскольку понимал, что в его интересах решить дело миром, получив выкуп и избежав ненужной войны. Однако, не успел он ответить, как у него за спиной раздался гневный голос сына.
— Я не понимаю, отец, как вы можете настолько не уважать собственных подданных, что церемонитесь с этим мавром? Будь моя воля, я бы затравил его собаками, а потом вздернул бы на его же собственном поясе.
Абенамар, на чьем лице не дрогнул ни единый мускул, молча ждал ответа графа.
— Педро Рамон! — повысил голос граф. — Вы много чего не понимаете, и прежде всего — как должен вести себя хороший правитель. Когда два дипломата беседуют под белым флагом, священным символом мира, все должны относиться к этому символу с уважением и никто не имеет права встревать между ними.
— О каком уважении вы говорите? К этому мавру, который сначала предал вас, а теперь имеет наглость обвинять в нарушении договора?
— Довольно! А теперь попрошу вас удалиться. Вы недостойны принимать участие в этом посольстве.
Педро Рамон с перекошенным от злости лицом яростно сплюнул, развернулся и безжалостно хлестнул коня, срывая на нем досаду.
Граф вновь повернулся к собеседнику.
— Прошу простить моего сына. Вы ведь знаете его несдержанность.
— Все мы когда-то страдали этой болезнью — неразлучной спутницей молодости, которую способно вылечить одно лишь время. Но давайте вернемся к делам. Итак, вы готовы произвести обмен заложниками?
Со стороны графской свиты вновь послышался чей-то голос. Это был голос Берната Монкузи.
— Сеньор, с вашего позволения...
— Говорите, Бернат.
— Прежде чем приступить к обмену заложниками, нужно пересчитать значительную сумму. Это слишком долгое и нудное дело, с ним не справишься за одну минуту.
— И что же вы предлагаете?
— Завтра на рассвете, еще до восхода солнца, мы вновь встретимся здесь. Наши должники доставят сундуки с назначенной суммой, а мы привезем грамотных счетоводов, а также повозки, чтобы перевезти драгоценный груз.
— И что же дальше?
— Когда мы убедимся, что все в порядке, то до обмена заложниками отгоним повозки в тыл, под защиту пятидесяти рыцарей, и только после этого произведем обмен.
— Вас это устроит? = спросил граф и Абенамара.
— Да. Более того, поскольку сегодня полнолуние, можно начать уже ночью. До Севильи нам предстоит еще долгий путь.
Беренгер переглянулся с советником и сенешалем. После того, как оба молча кивнули, он ответил:
— Ну что ж, пусть будет так. В конце концов, чем скорее мы покончим с этим неприятным делом, тем лучше для всех.
После этих слов обе делегации мирно разошлись.
Луна вышла на небо — красивая, круглая, белая — и графу это показалось верной приметой выгодной сделки. Мирные горожане по совету Монкузи спустились со стен в полной уверенности, что враг отступил. Лишь воины-профессионалы по-прежнему оставались на стенах города.
В назначенный час ворота вновь открылись, за стены города выкатились повозки и вышли счетоводы, приглашенные для деликатного дела.
У самой стены стояла группа рыцарей, охраняющих ар-Рашида, в ожидании приказа.
Послы приблизились к городским стенам, где при свете факелов должна была произойти передача выкупа. С другой стороны медленно приближалась длинная цепочка огней.
Обе процессии встретились на полпути. Встреча была недолгой: и те, и другие стремились заключить сделку как можно быстрее и к обоюдному удовольствию.
Носильщики, чьи тела блестели от пота в бледном свете луны, толкали впереди тяжелые телеги с двумя огромными дубовыми сундуками. Абенамар с достоинством спешился, вынул из кармана золотой ключ и один за другим отпер оба сундука, а потом хлопком в ладони приказал слугам поднять крышки.
Удивленным взглядам измученных солдат в бледном сиянии луны предстала, буквально ослепив их блеском, такая груда золота, какой они никогда прежде не видели.
— Все как мы договаривались, — произнёс мавр.
— Действуйте, Бернат, — приказал граф. — Я полагаюсь на ваши способности.
По приказу графа явился Монкузи, приехавший в одной из повозок, и подозвал четверых мужчин, которые проворно разложили складные столы. С помощью двоих слуг они установили большие счёты и принялись пересчитывать мараведи и одновременно делать записи на телячьей коже тростниковыми палочками, складывая цифры.
Наконец, совершился обмен. Когда луна достигла зенита, оба заложника, отделившись от конвоя, вышли навстречу друг другу. Марсаль де Сан-Жауме и ар-Рашид воссоединились со своими соотечественниками. Повозки, нагруженные золотом, медленно двинулись в сторону городских ворот, сопровождаемые людьми графа. Оба посольства уже собирались разойтись, когда ночную мглу разорвал возглас сына Аль-Мутамида, обращенный к Рамону Беренгеру.
— Да падет на вашу голову проклятие Аллаха, всеединого и неотвратимого мстителя! Пусть ваша кровь прольется в братоубийственной войне, пусть ваш сын убьет вашего сына, пусть ваш род зачахнет в бесплодии, словно сухое дерево!
Сопровождавшие его каталонские рыцари уже схватились было за мечи, когда их остановил спокойный голос Абенамара.
— Простите его, граф. Разве не вы недавно сказали, как безрассудна молодость? Теперь вы видите перед собой еще одно подтверждение.
С этими словами делегация мавров растворилась во мраке.
88
Семейные переговоры
В субботний вечер следующего дня второй этаж графского дворца сиял множеством огней. Сквозь оконные проемы было видно, как снуют туда-сюда слуги, поднося блюда с изысканными яствами и кубки с лучшими винами из графских погребов. Граф Рамон Беренгер созвал курию комитис [31], чтобы в кругу ближайших сподвижников решить кое-какие вопросы и отпраздновать успешное завершение мурсийской кампании, после которой на них пролился настоящий золотой дождь из мараведи, теперь эти деньги благополучно покоились в графской сокровищнице.
В связи с этим троны супругов стояли в разных концах зала, и каждого из них сопровождала своя свита. Возле трона графа стояли его приближенные: вегер Ольдерих Пельисер, сенешаль Гуалберт Амат, епископ Барселонский Одо де Монкада, главный нотариус Гийем де Вальдерибес, высокородный Понс Бонфий-и-Марш и, наконец, сиятельнейший Эусебий Видиэйя-и-Монклюз, дворцовый судья, разбиравший тяжбы благородных аристократов. Был здесь, разумеется, и советник Бернат Монкузи, а также Кабрера, Перельо, Монтаньола и еще множество благородных семейств графства.
Под большим балконом разместилась Альмодис со своим маленьким двором. Здесь были ее духовник Эудальд Льобет и капитан ее личной охраны.
Жильбер д'Эструк, первая придворная дама Лионор, донья Бригида, донья Барбара, Дельфин и двое маленьких принцев, Рамон и Беренгер, одетые как взрослые. Позади стояла старая няня Хильда, держа на руках малышек.
Шум голосов все нарастал, пока звон колокольчика в руке графа не заставил всех умолкнуть. Голоса стихли, подобно откатившемуся прибою, и голос графа отдался эхом в самых отдаленных уголках зала.
— Поднимем кубки, друзья мои, во славу Господа! Угроза самого позорного поражения обернулась для нас большой победой. Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Даже если бы мы взяли Мурсию, мы бы все равно не получили бы столь огромной суммы, которую получили в качестве выкупа за нашего венценосного заложника, гостившего во дворце на протяжении последнего года. Благодарю вас, друзья мои, за веру и терпение. Теперь мы сможем расплатиться с долгами и вознаградить каждого по заслугам. Особенно щедрый дар получит церковь, что поддерживала нас своими молитвами в минуты бедствий и лишений. — Услышав эти слова, епископ слегка поклонился. — Город, в лице присутствующего здесь вегера, тоже получит награду, — с этими словами граф протянул кубок с вином Ольдериху де Пельисеру. — И конечно, все мои друзья-графы, которые привели войска под мои знамена, будут вознаграждены по заслугам.
По залу раскатился голос Эрменьоля д'Уржеля.
— Многие лета графу Барселонскому!
— Многие лета! — подхватили все.
— Прошу вас лишь об одном: наберитесь ещё немного терпения, — продолжил граф. — Осталось лишь подсчитать прибыль от этого предприятия, а это не так-то просто. Не зная точной суммы, я не могу выплачивать долги. Но будьте уверены: вы все получите, что вам причитается.
После этого, подняв кубок с вином, граф провозгласил:
— За наши будущие победы! За наши завоевания и союзы, которые приведут к еще большему процветанию нашего графства, и лично за вас, мой дорогой советник Бернат Монкузи, чья дальновидность и проницательность принесли нам такую удачу!
Советник, раздувшийся от гордости, словно жаба, принимал поздравления присутствующих, поддержавших тост своего сеньора — пусть даже и не все при этом были искренни, но весьма учтивы. Лишь два человека в зале не подняли бокалы. Первым был Эудальд Льобет, духовник графини, который держал себя со спокойным достоинством. Другим — Марсаль де Сан-Жауме, переживший немало горестей за время пребывания в заложниках, теперь он чувствовал себя забытым, неоцененным и униженным.
Гости, отяжелевшие от съеденного и едва держась на ногах от выпитого, один за другим покидали дворец.
Наконец, оставшись вдвоем в уединении алькова, графская чета смогла спокойно поговорить. Сидя перед зеркалом, графиня расчесывала рыжие волосы гребнем из слоновой кости и коралла; граф уже лежал в постели, с нетерпением ожидая графиню, чтобы вместе с ней отпраздновать окончание этого прекрасного дня. Но его жена не спешила.
— Рамон, супруг мой, я готова вам рукоплескать. Я всей душой восхищаюсь, как вам удалось при таком стечении неблагоприятных обстоятельств превратить всё в блистательную победу.
— Благодарю. Нам причитается треть от полученной суммы, десять тысяч мараведи. Из остальных я выплачу долг, который висит на нас после приобретения Каркассона и Раза, а также расплачусь с войсками и союзниками: пусть все знают, что граф Барселонский всегда выплачивает долги, — рассуждал граф, сидя на кровати и любуясь отражением жены в зеркале. — Альмодис, я знаю, что всегда могу рассчитывать на вашу помощь. Говорю вам это, как своему боевому товарищу; вы ведь не просто жена воина.
— Ну, если вы считаете меня своим боевым товарищем, то почему бы вам не вознаградить и меня?
— Что я могу вам предложить? Все, чем я владею, и так принадлежит вам.
— Разумеется, — с улыбкой ответила Альмодис. — Но у меня тоже есть определенные обязательства.
— И насколько велики эти обязательства?
— Во-первых, бесплатная похлебка, которую я ежедневно раздаю беднякам в церкви, весьма дорогое удовольствие для моего кармана; во-вторых, женские монастыри, которым я покровительствую, тоже требуют немалых расходов; и, наконец, хотя я стараюсь об этом не говорить, у меня есть свои маленькие женские капризы.
— И насколько велик мой долг?
— Я могла бы удовольствоваться двадцатой частью вашего дохода.
— Это очень большие деньги, дорогая супруга.
Альмодис встала, сбросила халат и, прикрытая лишь распущенной гривой рыжих волос, направилась к огромному ложу.
— Полагаю, не дороже того удовольствия, которое я собираюсь доставить вам сегодня ночью.
— Как всегда, вам удалось меня убедить, дорогая. Не говоря уж о том, что именно эту ночь мне бы не хотелось провести за дверями нашей спальни.
89
Иудины сребреники
Бернат Монкузи не находил себе места от бешенства. Он знал, что прибыли еще два корабля с драгоценным грузом, который дал возможность освещать город в ночное время, и Марти Барбани — несомненно, с согласия вегера, посмел ничего ему об этом не сообщить. Таким образом, Бернат имел случай убедиться, что Марти не шутил, и то, что казалось пустой бравадой зарвавшегося юнца, на самом деле — суровая реальность. К тому же новый владелец лавок Марти отказался платить пошлину. Ели этот наглец полагает, будто может безнаказанно смеяться над ним, то он сильно заблуждается. Никто во всем графстве не смеет смеяться над Бернатом Монкузи — тем более сейчас, когда к нему особенно благосклонны звезды, когда сама судьба ему улыбается, а граф лично представил его самым могущественным семействам графства.
Хорошо еще, что этот наглец, посмевший угрожать ему судом, не сможет осуществить свои угрозы. Даже если он все же подаст жалобу в суд, ни один судья не возбудит дело. Кроме того, ни один человек, не имеющий дворянского герба или звания графского советника, не имеет права судиться с ним. Несомненно, следовало бы воспользоваться своим положением, чтобы наставить этого глупца на путь истинный. Бернат не готов отказаться от тех выгод, что приносит торговля черным маслом, а в будущем, как подсказывало ему чутье и опыт, доходы от нее станут поистине баснословными.
Бернат, прекрасно знавший слабости графа, решил в тот же вечер воспользоваться ими, усыпив бдительность своего сеньора при помощи лести, и втянуть его в рискованную игру.
Он явился во дворец, богато разодетый, и, войдя в приемную, долго расхаживал туда-сюда под расписным потолком, слушая, что говорят о нем другие просители. Он благоразумно удалился в дальний конец приемной, и к тому времени, когда его пригласили в зал, толпа уже успела вдоволь обсудить, что его даже на аудиенцию вызывают вне очереди.
Двери открылись, советник со всей живостью, насколько позволяло грузное тело, проследовал через огромный зал и, остановившись на почтительном расстоянии от графа, низко поклонился.
— Встаньте, дорогой советник, — велел граф. — Ваш сеньор гордится славными подданными, которые пекутся об интересах графства столь же рьяно, как о своих собственных.
Бернат, с трудом подняв грузное тело, ответил:
— Это ещё не все, сеньор. Я забросил свои дела, чтобы служить вам, но уверяю, что могу послужить вам ещё лучше, претворив в жизнь одну идею, пришедшую мне в голову сегодня утром.
Граф смерил советника испытующим взглядом.
— Сядьте, друг мой, — сказал он. — Поверьте, я знаю, как вознаградить вас за труды.
С этими словами он указал на скамью справа от себя.
Монкузи прекрасно знал, какая это великая честь и как быстро разнесется весть о графской милости: не многим людям неблагородного происхождения Рамон Беренгер позволял сидеть в своем присутствии.
— Я вас слушаю, мой добрый Бернат.
— Судите сами. Вы только что получили весьма значительную сумму денег. Их надо где-то хранить, пока они не потребуются для необходимых выплат.
— Вы не сказали мне ничего нового. Здесь, во дворце, деньги будут в полной сохранности.
— Разумеется, сеньор. Но дело в том, что во дворце они будут просто лежать мертвым грузом и не принесут вам никакой прибыли.
— И что же вы предлагаете? — спросил заинтересованный граф.
— Сеньор, если вы не собираетесь немедленно тратить ваши мараведи, передайте их на хранение еврейским менялам. Они могут давать день под процент, что запрещено честным христианам.
Беренгер с интересом посмотрел на него.
— Вы полагаете, у них мои деньги будут в сохранности?
— Уж в подвале Баруха Бенвениста, главы менял, совершенно точно, — ответил советник. — Ваше семейство всегда пользовалось его услугами. Уверя, у него деньги будут даже в большей безопасности, чем во дворце.
— Что вы хотите этим сказать?
— А то, что в случае какого-либо несчастья — скажем, пожара — ответственность ляжет на Бенвениста и его людей, которые обязаны будут возместить потери.
— Пожалуй, мне нравится ваша идея.
— У меня есть ещё одна.
— Продолжайте, — велел граф.
— Если удастся задержать выплаты на год, ваш капитал увеличится настолько, что, когда придет время выплачивать долги, у вас останется изрядная сумма.
Глаза графа алчно вспыхнули.
— Это просто замечательно, мой добрый советник.
— Но и это ещё не всё.
— У вас есть ещё что мне сказать?
— Видите ли, сеньор. Если жители средиземноморских городов будут знать вас в лицо, это принесет еще большую пользу вашему народу, поскольку чем больше людей узнают о величии Беренгеров, тем выше будет престиж дома Барселоны.
К величайшему торжеству советника, граф слушал его, затаив дыхание.
— И как я смогу этого добиться? — спросил он.
— Разве ваш отец не даровал евреям право чеканить монету?
— Разумеется.
— Прикажите расплавить мавританские мараведи и отлить из них монеты с вашим профилем на одной стороне и гербом нашего города — на другой. Тогда вам не потребуется лично разъезжать по свету, ваше изображение разойдётся по всем торговым путям, способствуя процветанию нашей торговли. При виде вашего портрета на новых деньгах все будут вспоминать о вас и благословлять ваше имя, и ваша слава достигнет необычайных высот.
— Бернат, я всегда знал, что вы — весьма умный и проницательный человек, знающий толк в торговле, но если удастся воплотить в жизнь эту идею, я подумаю о том, чтобы даровать вам дворянский титул. Настали времена, когда дворянство следует давать за ум и прозорливость, а не за военные заслуги.
— Я потрясен, сеньор.
— Ну так займитесь этим немедленно. А я тем временем отсрочу выплату долгов под предлогом чеканки новой монеты.
— Не сомневайтесь, я получу от евреев немалый процент. Эти мараведи принесут жирный куш.
90
Проблемы Баруха
Они собрались в доме Бенвениста, которого в прошлом году выбрали главой менял, должность эту он теперь занимал одновременно с должностью даяна Каля. Теперь он пригласил к себе Марти и Эудальда, чтобы обсудить один важный вопрос.
Оба гостя сидели в кабинете хозяина дома, дожидаясь его прихода, и беседовали на различные темы, которые обсуждал весь город, так или иначе касающиеся их самих.
— Как я уже говорил, по дороге графиня Альмодис спросила о вас и велела передать, что желает видеть вас у себя во дворце в пятницу в полдень, — произнёс Эудальд, и в его голосе прозвучала несомненная гордость за подопечного.
— Меня тревожит подобная честь, — признался Марти. — Боюсь, я ее не заслуживаю. А кроме того, у меня нет достойного подарка для графини.
— Судя по тону, которым она это произнесла, вас ожидает нечто весьма приятное. Я хорошо знаю графиню и могу сказать — когда она обращается к кому-либо таким тоном, это предвещает только хорошее.
— Вы не составите мне компанию?
— Разумеется, я пойду вместе с вами.
Марти ненадолго замолчал, обдумывая, чем в конечном счете может обернуться для него могущественное покровительство, после чего переменил тему.
— Город взбудоражен, Эудальд. Люди чувствуют, что Барселону ждет процветание. Многие горожане были в ту ночь на стенах, и никто не обратился в бегство, увидев мавров под белым флагом, а на следующий день мавры ушли сами. В народе говорят, что они явились лишь для освобождения нашего сиятельного гостя взамен на баснословную сумму денег.
— Вы правы. Я не знаю, о какой конкретно сумме идет речь, но в субботу граф устроил праздник и объявил, что мурсийский поход принес ему сказочные прибыли.
— Но ведь это значит...
— Так или иначе, вам это не сулит ничего хорошего: советник решил пустить в ход все своё влияние. Вчера вечером граф поднял тост в его честь. Единственным человеком, который не поддержал этот тост, был ваш покорный слуга.
— Вам известно, почему он это сделал? — спросил Марти.
— Догадываюсь. Во всяком случае, поговаривают, будто бы именно Монкузи вел переговоры с Абенамаром.
Марти вновь ненадолго задумался. Прокрутив в своей голове недавние события, он понял, в какой опасности все те, кто помогал ему в нападении на усадьбу, и внезапно испугался за своего друга.
— Вы сказали, что никто не заметил вашего отсутствия в те дни, когда вы помогали мне освободить Аишу? — уточнил Марти.
— В святых обителях, особенно в Пиа-Альмонии, не принято вмешиваться в дела высокой политики, зато принято уважать старших.
— Прошу вас, говорите яснее.
— Видите ли, всем известно, что я — приближенный графини. Она может вызвать меня в любое, даже самое неурочное время. А потому епископ отпускает меня до полуночного молебна и не задает лишних вопросов, поскольку знает, что Альмодис иногда желает исповедаться посреди ночи. После нашей вылазки я успел вернуться домой и сменить воинские доспехи на привычную рясу еще до того окончания всенощной, так что никто ничего не заметил.
— Я рад, если это так. Мне бы не хотелось, чтобы похищение Аиши связывали с вами. Достаточно уже того, что сама наша дружба уже бросает на вас тень подозрения.
— Но теперь я боюсь за вас больше, чем когда-либо прежде. Я сам слышал, как граф публично восхвалял Монкузи. Если он прежде занимал высокое положение при дворе, то сейчас взлетел еще выше. Не стоит недооценивать его, Марти: его власть необъятна, амбиции — безграничны, и он уже доказал, что ни перед чем не остановится. Он может причинить вам много зла. А теперь его авторитет вырос и среди простого народа, который ждет дождя из золотых мараведи, за который отчасти следует благодарить и Монкузи. Люди наивно считают, что все это богатство пойдет в казну. Не забывайте, что субботний прием проходил на глазах у слуг, разносивших гостям кушанья и вино, а у многих из них есть друзья и родственники, а потому очень многие примут сторону столь влиятельного человека. Сплетни разносятся быстро, и вчерашняя сотня сегодня превратится в тысячу, а завтра — в десять тысяч. Повторяю, будьте осторожны.
— Полагаю, это ему следует быть осторожным, — с легкой самоуверенностью ответил Марти. — Я теперь ни в чем от него не завишу. Мне больше не нужно денег, и даже в дружбе графа я не так уж нуждаюсь — особенно теперь, когда ко мне благоволит графиня.
— Я понимаю, молодость бесстрашна, но все же вам следует избегать открытых столкновений с могущественными людьми. Видите ли, они всегда могут вам серьёзно подгадить: скажем, ввести какой-нибудь новый декрет или даже закон, который свяжет вам руки и вернёт к разбитому корыту. Так что постарайтесь не высовываться и как можно меньше нарушать закон. Если вы дадите ему повод поймать вас на каком-нибудь пустяке — будьте спокойны, он это сделает. И мой вам совет: не забывайте, тому, кто одержим жаждой мести, следует готовить две могилы.
— Я понимаю ваше беспокойство, Эудальд, но прошу, не бойтесь за меня. Я уже не так юн и знаю, как себя защитить.
— Вы — истинный сын своего отца, — со вздохом произнёс падре Льобет. — Отправляясь на бой, он говорил те же слова.
В эту минуту открылась дверь кабинета и появился Барух Бенвенист. Эудальд и Марти вежливо встали и поклонились, приветствуя хозяина. После этого они вновь уютно расположились в креслах, поскольку беседа обещала быть долгой.
После ухода из дома Руфи старый меняла, казалось, постарел ещё на десять лет.
— Как поживает моя дочь, Марти? — спросил он.
— Я уже тысячу раз повторял: вам не о чем беспокоиться.
— Да я-то не беспокоюсь, Марти, по моим иудейским убеждениям, она все равно — отрезанный ломоть... Но вот моя супруга Ривка, хоть и образцовая еврейская жена, невыносимо страдает в разлуке с нашей младшенькой.
— Я понимаю вашу печаль, что вы не можете наслаждаться ее обществом, но поверьте, она счастлива, и в моем доме ей ничто не угрожает. Вот увидите, однажды настанет день, когда ваши традиции перестанут быть столь суровыми. Сегодня утром она вместе с сестрой отправилась в Сант-Адрию, чтобы совершить какой-то обряд, поскольку теперь не может появиться в Кале.
— Таковы наши обычаи. В жизни женщины случаются особые дни, после которых она должна очиститься. Но давайте лучше поговорим о более насущных вещах. Я должен посоветоваться с вами обоими. Произошло нечто весьма тревожное.
— Мы вас слушаем, — сказал Эудальд.
Меняла снял кипу, извлёк из кармана просторного балахона платок и вытер вспотевшую лысину.
— Видите ли, я должен мудро принимать решения, поскольку последний год занимаю пост главы менял, и любое мое слово может иметь серьезные последствия для всей нашей общины.
Оба собеседника насторожились, готовые внимательно выслушать Баруха.
— Вчера вечером в мой дом заявился смотритель аукционов в сопровождении двух секретарей, — продолжал меняла. — Он сказал, что пришёл с просьбой от имени графа, однако эта просьба звучала скорее как приказ.
Оба смотрели на него в упор, ожидая продолжения рассказа.
— Так вот, он заявил, что я должен предоставить свой подвал для хранения имущества Беренгеров. На этой неделе в мой дом должны привезти огромную сумму мараведи — несомненно, тот самый выкуп, который они получили от мавра.
— Ну, это мне уже известно, — ответил каноник. — Разве вы не знаете, как быстро разносятся слухи?
— И какое отношение имеет этот договор к падре Льобету и ко мне? — спросил Марти.
— К падре Льобету — никакого. Что же касается вас, то я бы посоветовал вам забрать сбережения, пока граф не наложил на них лапу.
— А другие люди, что хранят там свои деньги, тоже должны их забрать?
— Разумеется, — ответил Барух. — Но сегодня вечером мы провели совещание, чтобы решить, действительно ли нам выгодно взять на хранение деньги графа на целый год.
— Не беспокойтесь за меня, — заверил Марти. — Завтра я приду со слугами и заберу деньги.
— Это еще не все, — продолжал Барух. — Вам, должно быть, известно, что евреям принадлежит исключительное право чеканить монету. Так вот, граф желает отметить столь важное событие, расплавив мараведи и отлив из них манкусо со своим профилем на одной стороне и графским гербом — на другой.
— Должен признать, что это в немалой степени будет способствовать престижу Барселонского дома, — заметил Эудальд.
— На словах все это прекрасно, но нам предстоит тяжелая работа: расплавить монеты и слитки изготовить новые формы для отливки, а это потребует много времени.
— Вполне понятно, что граф желает расплатиться новыми деньгами. Ни один правитель не упустит возможности поднять престиж своего города, и мы тоже понимаем, что это и в наших интересах.
— И все же, чует мое сердце, что-то тут не так, — признался Барух. — Вы же знаете, какую неприязнь питает советник к моему народу. А поскольку эту идею графу, несомненно, подсказал он, можете не сомневаться, он готовит нам какую-нибудь гадость. Ничего хорошего от этого человека моему народу ждать не приходится.
— Если ради процветания дома Беренгеров ему придется пойти к вам на поклон — он это сделает, даже если ему самому это не нравится, — возразил Эудальд. — Как вы понимаете, сам он не может чеканить монету и поэтому вынужден обратиться к вам.
Незаметно наступил вечер, и еврей пригласил друзей разделить с ним ужин. Ривка составила им компанию. Барух занял место во главе стола и после традиционной молитвы приказал разделить пищу между сотрапезниками; Марти и Эудальд принялись уминать кошерную пищу, не испытывая никаких угрызений совести.
91
Две сестры
В маленьком городке Сант-Адрия по соседству с Барселоной еще со времен Рима существовали небольшие бани с проточной водой, ныне посещаемые довольно редко. Тем не менее, их посещение было обязательным для еврейских женщин в определенные дни для выполнения записанных в еврейских священных книгах ритуалов. Евреи приспособили эти бани под свои нужды за определенную сумму, уплачиваемую в графскую казну, поскольку христиане низших классов не питали к ним особого интереса, явно пренебрегая личной гигиеной.
Руфь и Башева, которая часто сопровождала сестру в подобных случаях, как раз направлялись туда. У Руфи закончились женские дни, и ей предстояло совершить обряд очищения, описанный в Торе. Поскольку теперь она не имела возможности совершать его в барселонском Кале, они с Башевой стали ездить для этого в Сант-Адрию в карете Марти, запряженной двумя гнедыми мулами; на козлах сидел юный Мухаммед, сын Омара, которому уже исполнилось тринадцать лет. По пути сестры непринужденно болтали, нисколько не опасаясь, что их слова достигнут ушей мальчика; он и впрямь едва ли мог что-нибудь услышать, поскольку карета страшно скрипела, мальчик сидел снаружи и был слишком занят мулами.
— Ох, Башева, боюсь, я никогда не смогу понять некоторых законов нашего народа, — призналась Руфь.
— О каких законах ты говоришь, Руфь?
— Ну, например, о том, который обязывает меня ходить в баню, чтобы смыть нечистоту, когда заканчиваются мои женские дни.
Башева раздраженно отмахнулась; уж она-то знала, что ее сестра готова подвергнуть сомнению что угодно.
— И чего же ты тут не понимаешь? — спросила она.
— Женщину ведь сотворил Яхве?
— Так гласит наша вера.
— Значит, Яхве способен создать нечто несовершенное?
— Нет, конечно.
— В таком случае, какую нечистоту я должна с себя смывать, если сам Яхве создал женщин именно такими, что у них ежемесячно случаются эти явления?
Башева посмотрела на неё с удивлением.
— Ты слишком много думаешь, сестра. Оставь это нудным старикам, толкователям Пятикнижия. А нам с тобой стоит заняться более насущными вещами.
— Ну уж нет. Я не хочу уподобляться кобыле, которая тупо и послушно выполняет чужие приказы.
— Оставь эти рассуждения престарелым мудрецам, — настаивала Башева. — Пусть они спорят хоть каждый день до посинения.
— Вот в этом и состоит величайшее зло для нашего народа. Женщин не учат думать, а мужчины тратят свою жизнь на пустые рассуждения, а потом мы еще удивляемся, почему другие народы считают нас такими странными.
— Ты неисправима... Оставь свои глупости, Руфь. Неужели тебе не надоело?
— Я очень тебя люблю, Башева, но не желаю становиться покорной еврейской женой. Меня и раньше это не привлекало, но теперь я точно знаю, что это не для меня. Жизнь за пределами Каля настолько интересна, что теперь я ни за что бы не согласилась вновь запереть себя в его стенах.
— Я всегда знала, что ты немножко сумасшедшая, но именно этому я обязана своим счастьем, так что я у тебя в долгу, — призналась Башева.
— Что ты хочешь этим сказать? — удивилась Руфь.
— Можешь меня поздравить: на этой неделе к нам в дом придут сваты от Меламеда, чтобы договориться с отцом о моем замужестве.
Руфи вытаращила глаза.
— Как же я за тебя рада, Башева! Наконец-то этот зануда Ишаи Меламед решился.
— Кстати, его назначили шазаном [32], — сообщила Башева. — У него теперь будет свой доход, он станет независимым.
— Ты мне ничего не должна, — ответила Руфь. — Напротив, это я в неоплатном долгу перед вами.
— Теперь я тебя не понимаю, сестра, — слегка растерялась Башева.
— Если бы в тот вечер, когда случилась эта жуткая давка в связи с приездом Абенамара, ты не выпустила мою руку и я бы не потерялась, я бы никогда не узнала, что такое счастье.
— О чем ты говоришь? — насторожилась Башева.
— Сестра, я всем сердцем люблю Марти Барбани и счастлива, что теперь могу до конца дней дышать с ним одним воздухом.
— Но, Руфь, я всегда думала, что это всего лишь детское увлечение. Он — христианин, и наши законы никогда не позволят тебе даже мечтать о нем.
— Если будет нужно — в смысле, если он когда-нибудь все же обратит на меня внимание — я готова отказаться от нашей веры и наших законов, — призналась Руфь.
— Наш отец этого не переживет.
— Не волнуйся; скажу тебе по секрету: этого никогда не случится — к большому моему сожалению. Но я не буду принадлежать никому другому.
— Да снизойдет на тебя милость Яхве, чтобы просветить твой ум, — произнесла Башева.
Натянув поводья, Мухаммед остановил мулов и сообщил девушкам, что они приехали. Выбравшись из кареты, сестры попросили паренька подождать снаружи, а сами вошли внутрь бани, состоявшей из четырех строений, три стояли на берегу, а четвертое почти наполовину было погружено в воды реки Бесос. Хозяйка, женщина средних лет, стояла за стойкой. Сестры направились прямо к ней.
— Хвала Яхве, владыке вселенной, — сказала Руфь.
— Хвала Яхве, великому и всемогущему, — последовал ответ. — Чего желаете?
— Очиститься от скверны.
— Обеим? — осведомилась женщина.
— Нет, только мне.
— Вы взяли с собой все необходимое?
— Да.
С этими словами Руфь показала небольшой мешочек, где лежали склянки со священными маслами, необходимыми для совершения обряда.
— Если желаете, можете подождать в предбаннике, — сказала женщина, обращаясь к Башеве. А вы — пойдёмте со мной.
— Я не заставлю тебя долго ждать, сестра, — заверила Руфь.
Женщина провела Руфь в помещение, где в одном из углов стояла купель на железных ножках; вдоль стен располагались каменные скамьи, а к стенам были прибиты оленьи рога, чтобы повесить одежду.
— Когда закончите, позвоните в колокольчик, я за вами приду, — произнесла служительница. — Не бойтесь, никто сюда не войдёт, пока вы здесь. Как известно, закон велит проводить этот обряд в одиночестве.
После этих слов женщина тихо вышла, закрыв за собой тяжелую дверь.
Руфь осталась одна в глубокой задумчивости. Сев на скамью, она сняла башмаки на толстой деревянной подошве, затем, пройдясь босиком, стянула платье, рубашку и чулки. Повесив одежду на оленьи рога, она достала флакончики со священными маслами, приготовленными для церемонии, и поставила их на край огромной каменной ванны, вырубленной в скале. Затем открыла кран, из которого тут же побежала вода, вытекая через сливное отверстие. Несмотря на стоявший на дворе июнь, по ее стройному телу пробежала дрожь, остроконечные холмики грудей с яркими, как вишни, сосками напряглись. Она не знала, почему струи воды, стекающей по ее телу, показались ей ласковыми руками Марти.
92
Марсаль де Сан-Жауме и Педро Рамон
В роскошном трофейном зале графского дворца, украшенном рыцарскими доспехами, разрабатывали свой темный план два заговорщика. Случается, что и волк способен снюхаться с лисой, собираясь похитить овцу из стада. Оба заговорщика были самого благородного происхождения, однако истинного благородства в их крови текло немного. Их свело вместе одно чувство — месть.
Первым был Педро Рамон, старший сын графа Барселонского, а вторым — Марсаль де Сан-Жауме, могущественный аристократ, проживший несколько месяцев в качестве заложника короля Севильи Аль-Мутамида. Оба стояли в дальнем углу зала, у окна, любуясь последними лучами заходящего солнца, обсуждая недавние события и утешая друг друга.
— Говорю вам, я сыт по горло наглостью этой особы. Поверьте, когда-нибудь мое терпение лопнет, и уж тогда-то ей не поздоровится! — сказал Педро Рамон.
— Вы бы еще не так заговорили, если бы оказались на моем месте. Ведь это вас, а не меня сначала собирались послать в Севилью в прошлом году. Представляете, каково это: быть заложником в руках неверного? Мне не давали ни пить, ни нормальной пищи, держали под замком. Меня использовали, как разменную монету, и теперь, когда я вернулся ко двору, мне даже спасибо никто не сказал!
— Наберитесь терпения. Сейчас при дворе командует шлюха, которая у моего отца все мозги высосала.
— Терпения, говорите? Этот мерзавец не сказал мне даже доброго слова, когда набивал свою казну сундуками, полными севильских мараведи. Даже не вспомнил обо мне...
— Думаю, вам грех жаловаться: вас хотя бы пригласили на торжество, а меня лишили даже этого. Думаю, после этого ночного обмена я попал в опалу. Видимо, отец на старости лет совсем выжил из ума, начав расшаркиваться перед мавром на глазах у всего посольства; когда же я попытался убедить его поступить с неверным по заслугам, отец публично унизил меня, отчитав на глазах у всех. Вот все, что я получил от этой знаменитой кампании.
— Знаете, о чем все шепчутся? — спросил Марсаль де Сан-Жауме после недолгой паузы.
— Много о чем... Что вы имеете в виду?
— О разделе прибыли.
— Насколько мне известно, деньги пойдут на жалованье нашим солдатам и выплату долгов союзным графам, сопровождавшим моего отца в этой авантюре.
— А также на подарки графине, которая потребовала у графа непомерную сумму на свои капризы.
У Педро Рамона от гнева потемнело в глазах.
— Кто вам такое сказал?
— Глас народа, — ответил Сан-Жауме. — Этот проныра-карлик, шут графини, болтает об этом по всему дворцу, хвастаясь новой одеждой. Как видите, ему тоже кое-что перепало.
— И когда я, первенец и наследник, считаю гроши, чтобы выполнить обязательства в соответствии со своим положением! — вскричал Педро Рамон.
— Какие обязательства?
— Наградить тех, кто преданно мне служит. Или вы считаете, что будущим придворным не нужны деньги? Да вот далеко ходить не надо, только вчера смотритель аукционов, Бернат Монкузи, за меня вступился. Одно это стоит хорошей должности и моей благосклонности, а в конечном счете — хороших денег. Я-то не могу просто раздвинуть ноги, как это делает графиня, чтобы добиться новых привилегий для своих обожаемых близнецов, которых, она, несомненно, желает посадить на трон вместо меня.
— У вас достаточно времени: они ещё слишком малы.
— Вот поэтому и нужно заняться ими сейчас. Когда вырастут, будет уже поздно.
— Когда настанет время, можете на меня рассчитывать, — заверил Сан-Жауме. — Тем более, что я ничего не прошу взамен. Полагаю, мои познания относительно жизни иноверцев и их обычаев, полученные за последний год, могли бы сослужить вам добрую службу.
— Не сомневайтесь, я не забуду вашей верности, но сначала должен позаботиться о собственных интересах. Вам известно, сколько денег вытянула эта шлюха у моего отца?
— Говорят, целых пятьсот мараведи.
Тем же вечером разъярённый Педро Рамон ворвался в личные покои графини, не соизволив даже постучать.
Альмодис находилась там вместе с тремя придворными дамами. Лионор, играла с маленькими Инес и Санчей, а на скамеечке, гордый как павлин, восседал Дельфин в новом костюме и читал вслух византийский роман. И тут дверь распахнулась, пламя свечей задрожало, едва не погаснув, и по всей комнате заметались чёрные тени.
В три прыжка взбешённый юнец оказался возле маленького трона, на котором сидела графиня, и злобно рявкнул:
— Сколько денег вы вытянули из моего отца на этот раз?
— Добрый вечер, Педро. Чем я обязана вашему визиту? — ответила графиня, решившая преподать первенцу своего мужа урок вежливости на глазах у приближённых.
— Ах, оставьте ваши церемонии, — отмахнулся он. — Нам с вами есть о чем поговорить.
Альмодис предпочла его попусту не злить и велела дамам удалиться вместе с малышками. Когда Лионор и Дельфин, уходившие последними, уже готовы были покинуть комнату, графиня заговорила, немного повысив голос:
— А вы останьтесь. Мне нужны свидетели разговора: чтобы он потом не сказал своему отцу, будто с ним были недостаточно любезны. А то уже были случаи...
— Я вижу, вы ставите меня на одну доску с вашими слугами, но мне плевать: я давно привык к вашей наглости и самодовольству. Мои к вам претензии бесчисленны, как звезды на небе, как ваши непотребства. Должен сказать, что наши... гм, беседы давно уже стали притчей во языцех, так что мне все равно, услышат разговор ваши слуги или нет. Сомневаюсь, что кто-нибудь станет слушать эту сплетницу, которую вы привезли из Франции, или эту ходячую жертву аборта, который развлекает вас по вечерам, пересказывая все сплетни из трактиров и кухонь.
Лионор и Дельфин вернулись на свои места и теперь, не спуская глаз с госпожи, с открытыми ртами выслушивали потоки словесного яда, которые изливал неугомонный юнец.
— Всем известно, как вы умеете смешивать людей с грязью, — невозмутимо ответила Альмодис. — Но вы напрасно стараетесь: меня вы не сможете оскорбить, как бы вам того ни хотелось. А впрочем, оставим это. С чего вы решили ворваться в мои покои, даже не постучав?
У Педро Рамона резко задергалось веко.
— Вот уже в который раз вы действуете в обход меня, унижая перед всем двором.
— Не понимаю, о чем вы говорите? От меня ничего не зависело. Разбирайтесь по этому поводу с вашим отцом. Кстати, судя по тому, что мне рассказали, его возмутило ваше поведение в день обмена заложниками.
— Значит, вот как вам это представил? А вам не сказали, что я ничего не хотел для себя, а лишь пытался защищать интересы нашего графства, поскольку не мог допустить, чтобы кто-то из своих шкурных интересов позволял топтать наше знамя?
— Даже если предположить, что вами действительно руководили подобные побуждения, вы сослужили плохую службу графству.
— Сеньора, легко судить о происходящем, не покидая собственных покоев. В действительности же дела обстоят несколько иначе. Вам не понять, чего стоит сохранять спокойствие, когда необходимо любой ценой спасти честь графства. Хотя с какой стати я пытаюсь вам объяснять тонкости ведения войны? Вы женщина, и уже поэтому ваш ум весьма ограничен.
Альмодис, уставшая от перебранки, решила, что не станет больше терпеть подобной наглости.
— Эта женщина, о которой вы так пренебрежительно отзываетесь, сделала для Барселоны больше, чем вы сделали за всю свою жизнь.
— Незаконно захватив власть и поправ тем самым мои права?
— Пока еще не настало время, когда вы сможете вступить в свои права. И ваше неразумное поведение может этому помешать.
— Помешать? Именно это вы и пытаетесь делать с тех самых пор, как вошли в нашу семью.
— Давайте покончим с этой комедией. Что вам от меня нужно?
— Как я понимаю, мой отец, передал вам изрядную сумму; я не знаю, на что пойдут эти деньги, хотя и догадываюсь. Хорошо, я готов признать, что он может распоряжаться своими деньгами, как ему угодно, но не моими. А потому я требую, чтобы мне отдали причитающуюся долю.
Графиня глубоко задумалась, прежде чем ответить.
— Ваш отец имеет право распоряжаться своими деньгами, как сочтёт нужным. Меня это не касается. И если он решил наградить меня за то, что я сделала и еще собираюсь сделать для графства, за бессонные ночи, которые я провела, радея о нем, то с претензиями вам следует обратиться к нему. Что же касается меня, то я могу лишь включить вас в список нуждающихся, которым каждый день раздают бесплатный суп у дверей собора. Там вам самое место, поскольку вы действительно нищий — нищий духом. А теперь, если вам больше нечего сказать, прошу вас покинуть мои покои и оставить меня с людьми, чье общество доставляет мне мне гораздо больше удовольствия.
Когда Педро Рамон, пунцовый от гнева, покидал комнату, у него на пути, на свою беду, оказался Дельфин. Разгневанный принц отшвырнул его жестоким пинком, и маленький шут вместе со своей скамеечкой опрокинулся на пол.
93
В полдень пятницы
В пятницу, под колокольный звон, созывающий к мессе, Марти Барбани в сопровождении духовника графини вошел в ворота дворца, торопясь на встречу с Альмодис. Эудальд Льобет, знающий, для чего графиня вызвала Марти, улыбался, предвкушая, какой приятный сюрприз ждет его подопечного. Поднимаясь по дворцовым ступеням, священник подумал, как же не похож этот взрослый разумный человек, шагающий рядом, на того юношу, что пришел к нему шесть лет назад. Трудолюбие, упорство и в немалой степени счастливая звезда подняли его до таких высот, о которых он прежде даже помыслить не мог. Однако в его личной жизни царила беспросветная печаль. Марти до сих пор носил траур по Лайе, и ужасная картина ее гибели вновь и вновь вставала у него перед глазами, не давая спать по ночам.
— Как думаете, зачем меня позвали? — спросил Марти, когда они в сопровождении дворецкого шли по дворцовым коридорам.
— Мне это неизвестно, но чутьё и богатый опыт жизни во дворце подсказывают, что вас ожидает приятный сюрприз.
— Дай-то Бог, — ответил Марти. — Только я боюсь этих людей. Они как солнце: лучше восхищаться на расстоянии. Издали они согревают, но стоит приблизиться — могут сжечь. Так что от графского двора лучше держаться подальше.
— Ваше высказывание не вполне справедливо. Я и сам постоянно нахожусь рядом с графиней, однако, как видите, жив, здоров и вполне доволен жизнью.
— Боюсь, что вы — то самое исключение, которое лишь подтверждает правило.
Тем временем они добрались до дверей личных покоев Альмодис.
Дворцовый стражник, увидев священника, который имел право ходить по всему дворцу в любое время суток, с любезностью открыл перед ними дверь, священник явно пользовался особым уважением среди приближенных графини.
Марти последовал за ним. Священник привык здесь бывать; его встречи с Альмодис, не стесненные строгим дворцовым этикетом, проходили спокойно и непринуждённо. Вот и теперь он держался вполне раскованно. Первая придворная дама донья Лионор, донья Бригида, донья Барбара, Дельфин и ручная нутрия, недавно подаренная графине ее супругом, наблюдали за этой сценой.
Едва переступив порог, Эудальд чуть ли не бегом бросился навстречу графине.
— Рад снова вас видеть сеньора, — поклонился он.
Альмодис, отложив в сторону рукоделие, любезно улыбнулась.
— Проходите, друг мой. Ваше присутствие всегда действует на меня благотворно. Я вижу, вы привели с собой одного из немногих в этом городе людей, перед которыми я в неоплатном долгу.
Оба мужчины преклонили колени перед ступенями ее трона.
Несмотря на скованность, Марти все же смог ответить на комплимент сеньоры.
— Напротив, сеньора, это я — навсегда ваш должник.
Альмодис несколько удивила такая скромность вассала.
— Только не в этом случае. Непременное достоинство правителя — помнить о данных своим подданным обещаниях и, разумеется, выполнять их.
Марти застыл в ожидании.
— Вы помните обещание, которое мне дали, когда приезжал севильский посол? — спросила Альмодис.
— Разумеется, сеньора, — ответил Марти. — Только это было не совсем обещание; скорее уж мое горячее желание, чтобы наш город явил свою красоту в новом сиянии огней.
— И все же это было именно обещание. Если помните, мы собирались продолжить эту работу, и я весьма сожалею, что это так затянулось. Мурсийская кампания вынудила графа, моего супруга, надолго отложить все городские дела.
На этом месте, как опытный дипломат, она выдержала паузу, вынуждая собеседников обратить на это особое внимание, после чего продолжила:
Я собрала все сведения о вас, и должна сказать по справедливости: ни об одном другом человеке я не слышала стольких похвал. Итак, я объявляю вас полноправным гражданином Барселоны, со всеми вытекающими привилегиями.
— Сеньора, я...
— Разве ваш наставник, знаток дворцового этикета, не говорил, что невежливо перебивать графиню? А впрочем, учитывая вашу неопытность, я готова закрыть на это глаза. Итак, продолжу: поскольку общеизвестная графская щедрость обязывает должным образом вознаградить вас за заслуги, я прямо сейчас вручу вам награду, закрепляющую новый статус. А кроме того, хоть мне и известно, что вы отнюдь не нуждаетесь, вы получите кошель с монетами, можете раздать их слугам, отметив свое новое звание. Падре Льобет расскажет вам о привилегиях, которыми вы сможете пользоваться с этой минуты.
Графиня хлопнула в ладоши, и тут же явился паж с алой подушечкой в руках, на ней лежала медаль из золота и эмали на шелковой ленте с четырьмя красными и желтыми полосками, а рядом — кошелёк из алого бархата с вышитым на нем графским гербом.
— Подойдите ближе, — велела графиня.
Ошеломлённый Марти застыл, и канонику даже пришлось толкнуть его локтем в бок, чтобы он шагнул навстречу графине и почтительно ей поклонился.
Альмодис торжественно вручила ему кошелек и надела на шею медаль на шелковой ленте.
Растерянный и польщенный Марти попятился в сторону священника, только и сумев прошептать:
— Право, сеньора, я не заслуживаю такой чести.
— Так заслужите! — сказала Альмодис. — Вы должны ее заслужить, ибо я возлагаю на вас большие надежды.
Льобет и по-прежнему ошеломленный Марти покинули кабинет, пятясь задом наперед, чтобы не поворачиваться к графине спиной. Уже за дверями Марти спросил у своего друга:
— Вы что-нибудь об этом знали?
Каноник в ответ прошептал:
— Церковь должна знать и обо всем. Но переверните вашу награду и взгляните на оборотную сторону медали.
Марти последовал совету и, перевернув медаль, прочитал на ее оборотной стороне:
«Марти Барбани, подарившему городу свет, к радости его жителям и восхищению чужеземцев.
От Альмодис де ла Марш, ожидающей от него ещё более великих чудес».
Прочитав эту надпись, Марти невольно подумал, вот бы всё это случилось несколько лет назад, и слезы заволокли его глаза.
94
Барух и Монкузи
В приемной смотрителя аукционов, среди пестрой толпы посетителей особое внимание привлекали три человека, ожидавшие, пока их примут. Все прекрасно знали, что Бернат Монкузи старается как иметь как можно меньше дел с обитателями Каля, как он не любит принимать евреев в часы, отведенные для приема граждан Барселоны. А потому подпоясанные балахоны этих людей, их шляпы в виде конусов и расшитые чулки вызывали всеобщее недоумение. В дальнем конце приемной сидели на скамье Барух Бенвенист, даян Каля, Елеазар Бенсахадон, прежний глава менял, и Ашер, их казначей. Все трое перешептывались, не находя себе места от волнения в ожидании встречи со столь могущественной персоной.
Елеазар Бенсахадон расспрашивал казначея.
— И когда же вас постигло это бедствие?
— Вчера вечером мне сообщили об этом люди из плавильной, и я не теряя времени бросился к Баруху. Время было уже позднее, ворота Каля успели запереть на замок, и гонцу пришлось заночевать в моем доме.
В эту минуту прозвучал мощный голос, вызывающий в кабинет советника делегацию евреев.
Трое мужчин поднялись и под недовольный ропот присутствующих направились в обшитый панелями коридор, ведущий в кабинет смотрителя аукционов.
Конрад Бруфау, будучи хорошим секретарем, прекрасно знал о неприязни, которую его хозяин питал к представителям этого народа, но встретил их спокойно, как любых других посетителей.
— Позвольте напомнить, что вы явились в неурочное время и без предварительной записи. Будем надеяться, что вас действительно привело сюда дело чрезвычайной важности, потому что если вы побеспокоите сеньора по пустякам, боюсь, вам придётся плохо. Снимите шляпы и подождите здесь, а я спрошу у сеньора, можно ли вам войти.
Трое евреев сняли остроконечные шляпы, положили их на скамью и вновь погрузились в тревожное и мрачное ожидание.
В скором времени вернулся секретарь и сообщил, что Бернат Монкузи их ждёт.
Войдя в роскошный кабинет могущественного советника Барух, Елеазар и Ашер встали у дверей в почтительном ожидании. Монкузи встретил их, сидя за своим столом, делая вид, будто читает какой-то бесконечный свиток. Неожиданно он поднял голову, словно только теперь заметил стоящих в кабинете людей, и с фальшивой любезностью произнес:
— Прошу вас, проходите, уважаемые сеньоры... Не стойте у дверей, как слуги.
Трое мужчин шагнули вперед, по молчаливому приглашению советника они сняли плащи, повесили их на спинки стульев и сели.
— Итак, сеньоры, какие неотложные дела заставили вас удостоить меня своим посещением в столь поздний час? — спросил советник.
Барух Бенвенист, спокойный и учтивый, взял слово.
— Ваша милость, дело в том, что произошло нечто весьма прискорбное для нас, что имеет самое прямое отношение и к вам. Именно поэтому пришлось вторгнуться к вам столь несвоевременно. Если бы не срочное и деликатное дело, нас бы здесь не было. Не сомневайтесь, мы знаем своё место и не стали бы зря отнимать ваше время.
— В таком случае, не заставляйте меня терять его на глупости, переходите к сути.
— Ну что ж, ваша милость. Итак, по вашему приказу мы собирались переплавить мараведи Севильского королевства в каталонские манкусо с профилем нашего графа на одной стороне и гербом Барселоны — на другой.
— И что же?
Бенсахадон продолжил:
— Для этого мы вытащили из подвала дона Баруха все мешки и отправили их на галере под присмотром наших людей в плавильню.
Советник слегка побледнел.
— Продолжайте.
В разговор снова вступил Барух.
— Возможно, вы не знаете, но для того, чтобы чеканить новые деньги, необходимо сначала приготовить сырье. Для этого нужно расплавить мараведи в плавильной печи, получив чистое золото, после чего добавить к нему известную долю серебра, чтобы сделать нужный сплав, иначе монеты будут дурного качества и окажутся непригодными для использования.
— И что же из этого?
— Видите ли, ваша милость, когда мы отправили все мешки на переплавку, то обнаружили, что золота там мало, зато много других металлов, которые невозможно использовать для ваших целей.
— Дрянь из свинца и меди, — прибавил Ашер.
В комнате повисла зловещая тишина.
— Хотите сказать, что эти мараведи ничего не стоят?
— Они фальшивые, ваша милость.
Бернат Монкузи покинул свое убежище за массивным столом и стал мерить комнату громадными шагами. Внезапно он остановился у больших песочных часов и бросил Баруху:
— Я думал, что ваш подвал — самое надежное место в графстве.
— Так и есть, ваша милость.
— И вы сказали, что людям, которые перевозили мараведи, можно полностью доверять.
— Так и есть, ваша милость. Экспедицию сопровождал казначей и не заметил ничего необычного.
— А людям из плавильни можно доверять?
— Руку готов дать на отсечение.
— В таком случае, где могла произойти подмена?
Евреи беспокойно заерзали.
— О какой подмене вы говорите, ваша милость?
— Очевидно же, на каком-то этапе монеты подменили.
— Ваша милость, не хотите ли вы сказать, что за это в ответе мы?
— Вы что, намекаете, будто я вручил вам ненастоящие монеты?
— Ваша милость, вы же сами сказали, что выкуп вам передали ночью, когда луна стояла высоко в небе. Вам не кажется странным, что этот неверный решил передать выкуп именно ночью, а не при свете дня? Неужели чутьё вам не подсказывает — он хотел воспользоваться темнотой, чтобы обмануть ваше доверие и попросту надуть на огромную сумму?
— Но разве ваши почтенные главы менял не подтвердили, что монета вполне качественная и платежеспособная? — напомнил советник. — Или вы пытаетесь убедить меня в том, будто я настолько плохо служу моему сеньору, что любой злокозненный мавр запросто может меня надуть?
— Мы, ваша милость, ничего не предполагаем и ничего не скрываем, но мараведи совершенно точно фальшивые.
— Кто-то должен за это ответить.
В голосе советника евреям почудилось шипение змеи.
95
Козел отпущения
Итак, при переплавке мараведи выяснилось, что коварный мавр обманул графа. И если не случится чуда, потери окажутся поистине катастрофическими, поскольку Рамону Беренгеру придется расплачиваться с союзниками собственными деньгами: честь и доброе имя важнее, чем богатство или бедность.
Монкузи немедленно помчался в графский дворец, готовясь к самому неприятному разговору. Его собственное благополучие висело на волоске, и ему предстояло пустить в ход все свое красноречие, чтобы выйти сухим из воды.
Он шествовал по хорошо знакомым дворцовым коридорам, стражники молча открывали перед ним двери.
Когда он добрался до высоких створчатых дверей, капитан охраны попросил подождать несколько минут, пока он доложит сенешалю о приходе смотрителя аукционов. Вскоре капитан вернулся и объявил советнику, что тот может войти.
Бернат Монкузи, с поникшей головой и печальной миной на лице прошествовал по ковру к подножию графского трона.
Рамон Беренгер, проводивший в эту минуту совещание со своими доверенными людьми во главе с сенешалем Гуалбертом Аматом, встретил его приветливо, помня, сколь добрую службу сослужила ему находчивость советника.
— Полагаю, вам не терпится сообщить хорошие новости, если вы врываетесь в такой час и без доклада? — спросил граф.
— Боюсь, сеньор, на сей раз я принёс дурные новости.
Услышав эти слова, граф изменился в лице.
— Говорите, мой дорогой друг. Поверьте, все в этом мире поправимо. Непоправима лишь смерть, и я надеюсь, этому гаду-послу еще долго придется ее ждать.
— Сеньор, порой в жизни случаются неприятности, — начал издалека Монкузи. — Нечто подобное произошло и сейчас. Это, конечно, не смерть, но, боюсь, серьезно испортит нам жизнь.
— Говорите же, Бернат. Думаю, не настолько все безнадежно.
— Как прикажете, сеньор, но должен предупредить, что дело весьма деликатное и требует величайшей осмотрительности, поскольку речь даже не обо мне, а о благополучии всего графства.
— Вы хотите сказать, что я должен отослать своих людей, которым безгранично доверяю?
— Полагаю, чем меньше лишних ушей услышат наш разговор, тем лучше.
Теперь выражение лица графа стало совершенно иным.
— Вам придется ответить за нанесенное оскорбление, если вы не сможете представить удовлетворительное объяснение.
Немного помолчав, он добавил:
— Ну что ж, господин сенешаль и благородные сеньоры, я вынужден попросить вас немного подождать, пока мы не покончим с этим неприятным делом, а потом я снова вас позову.
Сенешаль беспрекословно покинул помещение; за ним последовали двое других членов курии комитис. Когда за ними закрылись двери, голос Рамона Беренгера зазвучал серьёзно и отстранённо.
— Ну что ж, — начал он. — Сядьте, пожалуйста, и объясните, что за дело неотложной важности, из-за которого вы заставили выгнать моих доверенных людей?
Монкузи сел на кушетку справа от графа и начал рассказ. Граф слушал внимательно и серьёзно. Закончив рассказ, советник поспешил дать собственное объяснение произошедшему.
— Так вот, сеньор, дело в том, что коварный мавр, пользуясь ночной темнотой, подсунул нам вместо золота какой-то дрянной сплав, так что его не получится переплавить в новые монеты.
— Как могло случиться, что никто этого не заметил?
— Позвольте напомнить, граф, сумма была огромной, мы слишком спешили, стараясь как можно скорее покончить с этим делом, а подделка оказалась настолько качественной, что никому и в голову не пришло бы ничего заподозрить. У них хорошие чеканщики, а сарагосские и джафарские манкусо весьма высоко ценятся и широко используются.
Граф задумчиво погладил себя по подбородку.
— Если мы не найдем выход из этой ямы, нам грозит полное разорение, — произнес он наконец.
Бернат помолчал, выжидая, пока граф проникнется своим отчаянием, чтобы затем сыграть роль спасителя и вернуть себе таким образом утраченное доверие.
— Мне кажется, я знаю средство, как выбраться из этого затруднительного положения, — заявил советник. — Именно поэтому я и сказал, что нам лучше остаться наедине.
— Я слушаю вас, Бернат.
— Итак, я предлагаю следующий план. Если я скажу что-то такое, что вам не понравится, дайте мне знать, сеньор.
Граф кивнул, и коварный Монкузи стал излагать свой план.
— Перед нами стоят две задачи: во-первых, вернуть деньги, а во-вторых, спасти репутацию графства и честь Барселонского дома.
— Умоляю вас, не тяните!
Бернат вновь почувствовал себя хозяином положения.
— Мавр обвёл нас вокруг пальца, подсунув вместо зайца кота. Но если об этом узнают, мы станем всеобщим посмешищем. В то же время, евреи, как известно, имеют исключительное право чеканить монету, ещё ваш дед пожаловал им эту привилегию.
— Никак не возьму в толк, куда вы клоните?
— Когда еврейские менялы взяли наши мараведи, они понятия не имели, что те фальшивые, и расписались за них, как за настоящие.
— И что же дальше?
— А то, что получается, лишь они имели возможность подменить деньги. Судите сами: когда они взяли их на переплавку, они ничего не сказали, а теперь, спустя две недели, вдруг закричали, что деньги фальшивые.
Глаза Рамона возбужденно заблестели.
— Вы меня понимаете? — проворковал коварный советник.
— Кажется, я улавливаю смысл вашей идеи.
— Все просто. Вы не должны слушать их оправданий. Мараведи, которые им передали, были настоящими, об этом имеется соответствующий документ; и если уже у них настоящие мараведи превратились в фальшивые, то это их проблема, а вовсе не ваша.
— Бернат, я всегда знал, что вы — кладезь идей, и сегодня вы в очередной раз это доказали.
— Есть кое-что ещё, сеньор.
— Ещё что-то?
— Мы должны пустить в народ слух о том, будто бы евреи пытались обокрасть графство и подорвать благосостояние его жителей. Тогда ваши подданные обрушат свой гнев на евреев, что всегда было для них лучшим развлечением, им в голову не придет винить в своих бедах кого-то другого.
— И что же дальше?
— Тогда мы потребуем у них деньги. Именно на них ляжет вся ответственность, и им ничего не останется, как выплачивать долг в течение многих лет. Как вы понимаете, если людям придётся выбирать между графом и презренными евреями, они не станут долго раздумывать, и тогда евреям мало не покажется.
— Если мы благополучно выберемся из этой истории, Барселона будет вам премного обязана, друг мой; и все же меня тревожат кое-какие сомнения. Мне бы не хотелось, чтобы жители Каля ополчились на графа, ведь как-никак они тоже мои подданные, к тому же весьма выгодные.
— Не беспокойтесь, никогда они против вас не восстанут. Все, что им нужно — спокойно заниматься своими делишками, и чтобы их никто не трогал, а в Барселоне они все это имеют. Так что утрутся и будут молчать или, в крайнем случае, обвинят в своих бедах кого-нибудь другого. Поверьте, ещё не было случая, чтобы хоть одна еврейская община в Кастилии взялась за оружие. Они смирные, как бараны, привыкли бегать и прятаться ещё со времён Тита.
— И на кого же вы собираетесь возложить вину? — спросил граф.
— На того, кого мы и должны обвинить: на Баруха Бенвениста, даяна Каля. Этот еврей занимает в общине высокое положение, и если мы отсечём голову змее, проблема будет решена.
— И как вы собираетесь обосновать подобное?
— Сеньор, в нашем своде законов, а теперь еще и в вашем «Уложениях» ясно сказано, что «меняла, который не в состоянии выполнить свои обязательства, должен быть повешен над собственным столом». Так разве не заслуживает виселицы злодей, пытавшийся обмануть графа?
Рамон Беренгер не стал долго раздумывать.
— Действуйте, Бернат.
— Сеньор, я бы советовал действовать весьма осторожно. Нельзя спешить, никто не должен усомниться, что вы действуете строго в рамках закона. Дайте им время, пусть расслабятся и поверят, что вы смирились с потерей денег.
— Только никому ни слова, Бернат.
— Сеньор, не забывайте, что именно я предложил удалить ненужных свидетелей нашего разговора, — напомнил советник.
— А теперь возвращайтесь к своим делам, и если настанут трудные времена, помните, что граф — навсегда ваш должник.
Монкузи благоговейно поклонился, насколько позволяла его тучность, и удалился, радуясь, что вышел сухим из воды и восстановил свое доброе имя.
Итак, жребий был брошен. Баруху Бенвенисту предстояло стать козлом отпущения в этом грязном деле, а евреи, как всегда, оказались виноваты в том, что грандиозные планы с таким треском провалились.
96
Свадьба Башевы
В саду возле колодца установили хупу [33], а под огромным каштаном, где Барух так любил вести летними вечерами философские и религиозные споры с Эудальдом Льобетом и где давал Марти советы, как вести дела, теперь стоял большой стол, уставленный всевозможными яствами.
Приглашенные на церемонию гости один за другим съезжались в дом. Их встречали старшая дочь хозяина, Эстер, уже пятый месяц ожидающая ребенка, и ее муж Биньямин Хаим, приехавшие на свадьбу из Бесалу, а ее мать Ривка вместе со служанками одевала и причесывала среднюю дочь, готовя ее к свадебному обряду. Меняла и каноник сидели в кабинете, ожидая брачной церемонии со странной смесью радости и печали.
Барух радовался, что Башева выходит замуж за славного парня, которого она знала еще со времен бар-мицвы, но отсутствие малышки Руфи омрачало радость. А кроме того, весьма тревожило долгое молчание графа по поводу злосчастных мараведи. Хоть он и пытался себя убедить, что чем больше пройдет времени, тем в большей безопасности он будет, но его угнетала мысль о том, что он подвел соотечественников, поскольку закон остается законом для любого гражданина Барселоны, богат он или беден. Так или иначе, Барух решил обсудить это с Эудальдом Льобетом, и тот внимательно его выслушал.
— Видите ли, друг мой, к сожалению, счастье никогда не бывает полным. Я рад находиться рядом с дочерью в самый счастливый день ее жизни, но при этом скорблю всей душой, что рядом нет моей младшей, которую мне пришлось изгнать из дома.
— По глупой случайности, можете добавить.
— Таковы наши законы, — вздохнул Барух. — Если бы я принял ее назад, этой свадьбы не было бы.
— Ну что ж, я понимаю вашу позицию, — ответил Эудальд. — И здесь, в уединении вашего кабинета, я готов признать, что у христиан тоже есть законы, которые мой ум отказывается принимать. Но все же мне кажется, что слово «изгнать» не вполне подходит к данному случаю.
— Но разве волей обстоятельств она на вынуждена жить вдали от дома?
— Разумеется. И могу представить, как вам ее не хватает. Но если бы она могла выбирать, думаю, она бы предпочла оставаться там, где живет сейчас.
— Я не перестаю возносить хвалу Эллохиму, что у меня есть такой друг, как Марти Барбани, — признался Барух.
— Полагаю, трудно даже представить для вашей дочери лучшее убежище, чем его дом.
— За него я спокоен, друг мой. Я знаю, насколько он честный и порядочный человек. Но вот Руфь еще слишком молода и к тому же влюблена в него без памяти. Я уже решил, что как только выдам замуж Башеву, заберу Руфь домой, и пусть говорят, что хотят. Близкие поймут, а до остальных мне дела нет.
Немного помолчав, Бенвенист сменил тему.
— Так что вы думаете, Эудальд, насчет этих пресловутых мараведи?
Льобет ответил вопросом на вопрос:
— А что, есть какие-нибудь новости?
— Вот уже неделя, как из дворца нет никаких вестей.
— С одной стороны, это несколько обнадеживает; видимо, вас ни в чем не обвиняют. Как говорится, отсутствие новостей — уже хорошая новость. Но с другой стороны, я слишком хорошо знаю советника, с трудом верится, что он не попытается воспользоваться сложившейся ситуацией.
— И какие же выгоды он может получить от этой истории? — поразился Барух.
— Не знаю, он избегает встреч со мной... Возможно, он попытается обвинить вас в том, что вы вовремя не обнаружили фальшивые мараведи.
— Это было столь же невозможно, как выдернуть из земли хрен, дергая за ботву. Комиссия, принимавшая выкуп, делала пробы, взяв монеты сверху, очевидно, они были настоящими. Я всего лишь принял на хранение эти три сундука. Мы смогли обнаружить подделку, лишь когда дело дошло до переплавки монет. В любом случае, в этом преступлении виновны те, кто передал нам фальшивые деньги; мы всего лишь получатели.
В эту минуту стук в дверь оповестил менялу, что церемония вот-вот начнется.
— Ну что ж, дорогой друг, — сказал он. — Сейчас я подпишу ктубу [34] моей дочери, и мы наконец сможем начать церемонию.
Благодаря заботе Руфи, хорошему питанию и собственному здоровью, изуродованное тело Аиши понемногу приходило в норму. Душевная рана заживала намного медленнее, и, конечно, больше всего ей в этом помогал возвращенный ей уд, на котором она теперь играла почти каждый день в маленькой гостиной на втором этаже, где Марти обустроил музыкальную комнату. Она находилось в угловой части дома и была увенчана небольшим куполом, что создавало великолепную акустику. Молодой человек любил проводить там послеобеденные часы вместе с Руфью, слушая чудесные мелодии, что рождались под искусными руками его бывшей рабыни, навевая воспоминания о путешествии по Средиземноморью.
Руфь слушала эти мелодии как завороженная; в скором времени она даже решила составить Аише компанию, напевая не менее чудесные, но совершенно иные мелодии своих предков, что пронесли их сквозь века, передавая из поколения в поколение. Марти весьма позабавила одна старинная еврейская песенка, в которой рассказывалось о семи способах, как приготовить рагу из баклажанов, и теперь он то и дело просил Руфь ее спеть. Однако в этот вечер он не стал просить ее об этом, заметив, что девушка явно не в настроении шутить. И теперь парочка просто слушала музыку, удобно устроившись на кожаных мавританских банкетках — одном из недавних приобретений Марти.
— Чем вы так огорчены, Руфь? — спросил он.
— Ничего особенного. Не обращайте внимания.
— Мы ведь друзья, Руфь? Почему же вы не хотите мне рассказать, что случилось?
Руфь ненадолго задумалась.
— После всего, что вы для меня сделали, было бы крайне некрасиво беспокоить вас такими пустяками.
— Иногда, если рассказать вслух о своей проблеме, она оказывается не столь уж неразрешимой. А может статься, что и вовсе исчезнет.
— Не обращайте внимания, — повторила Руфь. — Порой на меня находит непонятная грусть.
— Мне это известно, — улыбнулся Марти. — Но все же расскажите, что вас огорчает, а потом мы вместе посмеемся над вашей тоской, как в те минуты, когда вы поете песенку о баклажанах.
Руфь глубоко вздохнула.
— Просто несмотря на то, что мы с Башевой всю жизнь спорим, сейчас мне очень грустно, что я не могу присутствовать на ее свадьбе. Когда замуж выходила Эстер, я была еще ребенком и меня отправили на кухню вместе с детьми наших родственников. И вот теперь, когда я уже взрослая и вполне могла бы выступить в роли подружки невесты, обстоятельства мне этого не позволяют. Ну почему наши законы так суровы?
— Понимаю вашу печаль. Хоть и не в моей власти решить эту проблему, но обещаю, что в точности расскажу, что происходило во время церемонии, и сделаю все, чтобы вы смогли увидеть сестру в подвенечном наряде.
Глаза девушки оживленно заблестели.
— Вы сделаете это для меня?
— Если ваш отец позволит, то после брачного обряда я посажу молодых в закрытую карету и привезу их сюда, так что вы сможете с ними увидеться.
— Если вы это сделаете, я по гроб жизни буду перед вами в неоплатном долгу.
С этими словами девушка порывисто обняла его за шею и расцеловала.
Арфа Аиши зазвучала более приглушенно. Видимо, слепая, поняв каким-то шестым чувством, присущем только слепым, почему стихли голоса молодых людей, а возможно, вспомнив о давно потерянной любви юности, заиграла одну из нежных и печальных мелодий своей далекой родины.
Кровь Марти закипела в жилах. Девушка прижалась к нему всем телом, и он, сам того не желая, крепко обнял ее, почувствовав жар ее тела. Все мысли смешались у него в голове, когда он внезапно ощутил, что тело, которое он сжимает в объятиях — уже далеко не тело девочки-подростка. Неожиданно он вспомнил о клятве, которую дал ее отцу.
— Руфь, ради всего святого... — прошептали его губы.
Девушка на миг отстранилась и ответила:
— Самое святое для меня — это вы.
— Я поклялся...
— А я ни в чем не клялась.
Сердце его бешено застучало, и он невольно стал отвечать на ласки девушки. Черная мгла, поселившаяся в его душе после смерти Лайи, внезапно начала таять. Все чувства, которые он до сих пор безжалостно подавлял, теперь рванулись наружу. Марти бережно взял в ладони лицо прекрасной девушки.
— Я вас тоже... — прошептал он, и вдруг, спохватившись, оборвал себя на полуслове. — Это невозможно, Руфь. Я дал слово вашему отцу. Не усложняйте нам обоим жизнь.
С этими словами он поднялся и вышел с пылающем от поцелуев лицом, все еще не веря внезапно охватившим его чувствам; в ушах до сих пор стояли собственные слова. До этой минуты он не верил, что способен снова полюбить.
В этот миг мелодия, которую наигрывала слепая, показалась Руфи истинным гимном славы.
А тем временем в доме Баруха гости собрались вокруг хупы. Шестеро музыкантов заиграли, хор затянул песню из «Хатан Торы». Раввин в ритуальном облачении и священным свитком в левой руке терпеливо ожидал, когда появится невеста под руку с его будущим сватом, а жених уже стоял рядом, под руку с матерью. Эудальд Льобет и Марти скромно держались позади, понимая, что им и так сделали величайшее одолжение, позволив христианам присутствовать на иудейской свадьбе. Неожиданно в глубине сада послышался ропот, заставив их вытянуть шеи. Льобет, будучи на голову выше остальных, возвестил:
— Они уже идут.
Кортеж невесты медленно приближался к жениху. Впереди шла красавица Башева под руку с Барухом; за ними следовали дамы и мальчик, несущий приданое. Невеста чинно выступала, опустив глаза, с закрытым вуалью лицом.
Затем музыка смолкла, и началась церемония. Все формальности были выполнены без сучка и задоринки. Жених закрыл прозрачной вуалью прекрасное лицо Башевы; затем раввин набросил им на плечи талит, молитвенное покрывало, после чего они совершили семь ритуальных кругов вокруг хупы, затем была прочтена ктуба и, наконец, они надели обручальные кольца. Жених бросил наземь хрустальный кубок, наступив на него правой ногой; стекло с хрустом разбилось, предвещая счастливую жизнь, и толпа гостей взорвалась ликующими криками: «Мазель тов!» [35]
После церемонии гости разбрелись по саду или собрались в двух гостиных прекрасного дома. Эудальд и Марти непринужденно болтали с гостями, прекрасно знавшие о своеобразных, но крепких отношениях, полуделовых, полудружеских, связывающих этих христиан со старым Барухом. Слуги разносили гостям еду и напитки, строго в соответствии с положением, возрастом и степенью родства. Новобрачные удалились в приготовленную для них комнату, где им предстояло провести некоторое время, после чего брак будет считаться совершенным.
Дождавшись, когда старый меняла отошёл от гостей, чтобы отдать какие-то распоряжения слуге, Марти подошёл к нему.
— Барух, вы можете уделить мне пару минут?
— Разумеется, дорогой друг.
— Даже не знаю, возможно ли это, но мне бы очень хотелось кое-что сделать для Руфи.
— А в чем дело, Марти?
— Видите ли, вчера вечером я заметил, что она чем-то сильно огорчена. Оказалось, причина в том, что она не может присутствовать на свадьбе своей сестры. Так что я решил, если вы мне позволите, привезти новобрачных к себе домой, чтобы она могла повидаться и проститься с ними, прежде чем они отправятся в свадебное путешествие.
Барух ненадолго задумался.
— Думаю, что сегодня можно сделать исключение. Молодые вот-вот должны спуститься, моя жена уже пошла за ними. Прежде чем начать торжество, я провожу их к кухонной двери и, если вы заведёте карету во двор, они смогут выйти вместе с вами и увидеться со своей сестрой и свояченицей.
— Спасибо, — ответил Марти. — Тысячу раз спасибо от имени вашей дочери. Я буду ждать вас у выхода.
— Передайте, что я рад доставить ей удовольствие и завтра вечером мы с ее матерью придём к вам в дом. Пришло время пташке вернуться в своё гнездо.
Обрадованный Марти подал знак кучеру, и тот остановил карету неподалеку от ворот, чтобы не привлекать лишнего внимания. В скором времени появились сияющие от счастья Башева и Ишаи.
Молодой муж с гордостью воскликнул:
— Замечательная идея! Мы с женой так переживали, что не можем попросить прощения у нашей сестры.
Форейтор открыл дверцу кареты и, когда все трое устроились внутри, ловким прыжком вскочил на запятки. Упряжка великолепных коней в богатой сбруе, в попонах с гербом судовладельца Марти, лёгкой рысью помчалась по направлению к его дому под свист кучера и щёлканье кнута.
А праздник между тем продолжался. Уже стемнело, и в саду сильнее запахло вербеной и цветами лимона. Факелы, установленные посреди луговины, бросали алые отсветы на танцующих на помосте молодых людей — положив руки друг другу на плечи, они образовали большой круг и теперь отплясывали под звуки музыки, звучащей все быстрее и громче.
Старики тем временем собрались в большом доме. Эудальд и отец жениха, раввин Меламед, уединились в кабинете Баруха, погрузившись в изучение древних манускриптов.
Тут один из слуг, опасливо косясь, несмело подошел к Баруху и Ривке и что-то прошептал на ухо даяну Каля.
Бенвенист, обменявшими с женой печальными взглядами и перекинувшись с ней несколькими словами, последовал за слугой в приемную.
Когда меняла уже скрылся за дверями, отделявшими большой зал от прихожей, Ривка порывисто вскочила и бросилась вслед за мужем. Эудальд, почувствовав, что случилось нечто серьезное, поспешно извинился перед своим собеседником и поспешил за женой своего друга.
— Что случилось, Ривка? — спросил он.
— Я ничего не могу вам сказать кроме того, что Барух велел мне найти вас и попросить как можно скорее спуститься в прихожую, — ответила она.
Каноник поставил на стол кубок и бросился вниз по лестнице.
Голос его друга звучал встревоженно и даже испуганно; в голосе его собеседника слышались командные нотки.
— Но на каком основании? — спросил Барух.
— Не могу знать. Я лишь выполняю приказ.
— А нельзя ли прийти за мной завтра? — спросил старый Бенвенист. — Сегодня у моей дочери свадьба, дом полон гостей, их удивило бы мое отсутствие.
— Мне жаль. Но я всего лишь представитель графа, и мне приказано доставить вас немедленно.
— Могу я узнать, куда именно? — спросил Барух.
— Ни меня, ни вас это не касается. На месте вы все узнаете.
И тут из глубины коридора загремел мощный бас Льобета:
— Зато это касается меня!
В два шага он преодолел расстояние, отделявшее зал от прихожей, и его внушительная фигура почти целиком заполнила тесное помещение.
— А вы, сеньор, кто такой и что здесь делаете? — спросил офицер.
— Сейчас я зажгу свечу, и, если вы меня не узнаете, то завтра графиня Альмодис, духовником которой я имею честь являться, объяснит вам, кто я такой.
Офицер, разглядевший вошедшего в тусклом пламени свечей, тут же смягчил тон.
— Ах, простите, в этих потемках я вас не узнал. Разумеется, я прекрасно вас знаю.
— В таком случае, объясните, по какой причине вы хотите увезти отца невесты прямо со свадьбы?
— Уверяю вас, мне ничего не известно, я лишь должен доставить даяна Каля, дона Баруха Бенвениста, в графский дворец. Так мне приказано.
— Ну ладно — ответил падре Льобет и добавил, повернувшись к Баруху: — Я поеду с вами.
Офицер покачал головой.
— Не выйдет, сеньор. Его повезут в тюремной карете, внутри могут находиться лишь арестованный и сопровождающий его конвой.
Лицо менялы стало белым как мел.
— Вы хотите сказать, что дон Барух арестован? — спросил Эудальд.
— Таковы приказы.
— Но это же просто подло!
— Повторяю: я всего лишь выполняю приказ.
Взгляд старого Баруха наполнился отчаянием.
— Эудальд, скажите Ривке, чтобы она не беспокоилась, и велите моему кучеру Авимелеху заложить карету: мы едем в графский дворец.
— Чует мое сердце, что ваша карета еще долго вам не понадобится, — добавил офицер.
— А мое сердце чует, что кто-то дорого заплатит за это бесчинство, — ответил Льобет.
На улице уже стояла тюремная карета с откинутой задней дверью; рядом стояли двое стражников с алебардами в руках, дожидаясь, пока узник заберется в карету.
Каноник едва не задохнулся от приступа гнева, его сердце дрогнуло от ужасной догадки: несомненно, кто-то решил извлечь выгоду из мошенничества, совершенного мавром, как всегда, свалив вину на евреев.
97
Арест Баруха
На каждого, кто впервые оказывался в доме Марти Барбани, особняк производил грандиозное впечатление. Это был огромный дом со сводчатыми потолками, обставленный с такой роскошью, какую можно увидеть разве что в графском дворце или в домах самых благородных аристократов города.
Марти Барбани, владелец семнадцати кораблей, множества складов и верфей, мог себе позволить любую роскошь, пусть даже ценой зависти высокородных дворян, чьи изъеденные червями гербы значили в могущественной Барселоне много меньше, чем кошелек трудолюбивого горожанина. Ишаи Меламед и Башева по достоинству оценили роскошную обстановку дома, прибыв на встречу с Руфью. Сияющее лицо девушки стало для Марти лучшей наградой.
Они расположились в мавританской гостиной на втором этаже, которую Омар называл «черномасленной», поскольку мебель для нее была куплена после того, как в Барселону доставили первую партию амфор, заполненных этим продуктом. Забыв о присутствии посторонних, сестры бросились друг другу в объятия, потом взялись за руки и закружились по комнате, звонко смеясь, как будто вернулись в прежние счастливые и не столь далекие времена детства и вновь стали прежними беззаботными девчушками. Наконец, они остановились, и Руфь, повернувшись к зятю, поцеловала его в щеку.
— Берегите ее, Ишаи, — сказала она. — Если вы ее обидите, я разыщу вас, где бы вы ни были, и призову к ответу.
— Не беспокойтесь, — заверил взволнованный новобрачный. — Я буду лелеять вашу сестру, как самый прекрасный цветок. Если бы вы знали, как я благодарен вам и дону Марти за то, что вы для нас сделали! Если бы вы тогда вернулись в отчий дом, то, зная моего отца, боюсь, наша свадьба едва ли могла бы состояться.
И тут вмешался Марти.
— Думаю, на самом деле не так все ужасно, — произнёс он. — А кроме того, не сомневаюсь, большинство жителей Каля прекрасно понимают, что к чему.
— Знаю, дон Марти, — ответил Ишаи. — Но закон есть закон, хотя наши ученые мужи до сих пор спорят по поводу некоторых вопросов. Но в любом случае, если еврейская девушка провела ночь за пределами дома, пусть даже случайно, она уже не может вернуться, а если ее все же примут назад, то это вызовет большие проблемы с синагогой.
— Ну что ж, давайте забудем об этом, — предложил Марти. — Я не для того так старался порадовать Руфь, чтобы теперь испортить ей настроение. Кстати, Руфь, отец передал вам кое-что. А сейчас давайте не будем терять времени: вас ждут гости, а я обещал Баруху, что вы не слишком задержитесь. Вам пора возвращаться.
Новобрачные уже собрались уходить, когда в гостиную неожиданно ворвался Омар; по его лицу Марти сразу понял: что-то случилось.
— Хозяин, падре Льобет ждёт вас в кабинете, — проговорил он, задыхаясь от волнения.
Велев молодым возвращаться домой, пока их не хватились, Марти поспешил навстречу другу. Не успел он войти в кабинет, как Льобет выпалил ему прямо в лицо страшную новость.
— Марти, произошло нечто ужасное: едва вы ушли, как явилась стража и забрала Баруха.
— Что вы сказали?
— Что слышали.
— Но на каком основании?
— Пока не знаю, но чует моё сердце, это связано с теми злополучными мараведи... И это — дело рук Монкузи.
— То есть, вы считаете, что мерзавец решил свалить всю вину на Баруха?
— А заодно — на весь Каль, если у него получится.
— И что мы можем сделать?
— Прежде всего, поговорить с ним. А если потребуется, попросить помощи у графини.
— Первое я беру на себя. А теперь вам нужно срочно вернуться к Ривке и посмотреть, как она перенесла эту новость.
— Прошу вас, не теряйте времени.
— Я только отвезу домой новобрачных, а потом пойду вместе с вами. Думаю, не стоит пока им ничего говорить, чтобы попусту не пугать.
Не тратя времени на долгие прощания, молодые и Марти вернулись в дом Баруха. На каретном дворе царил настоящий переполох: кареты и повозки поспешно разъезжались; гости, едва простившись с хозяевами, торопились покинуть гостеприимный дом, словно спасаясь от пожара. Ишаи и Башева никак не могли понять, что происходит, и Марти пришлось рассказать им о случившемся. Выбравшись из кареты, молодые бросились в дом. Тревожная весть разнеслась как пожар, и почти никого из гостей в доме уже не осталось. Эстер и жена раввина Меламеда утешали несчастную Ривку, которая в отчаянии рвала на себе платье и горько рыдала. Сам раввин, увидев сына и невестку, вышел к ним навстречу.
— Дети, какое несчастье! — воскликнул он. — И это в такой знаменательный день! Будь проклят тот час, когда народ Израиля согласился жить среди христиан! День, который должен был стать самым счастливым, оказался поистине днем всех несчастий...
Сбитые с толку молодые накинулись на присутствующих с вопросами. Башева бросилась к матери, сквозь рыдания стараясь допытаться, что произошло.
— Но почему? По какой причине его постигла эта ужасная участь?
Марти молча подошёл к ним и помог новобрачной, стоявшей на коленях рядом с Ривкой, подняться на ноги.
Глубокий голос Эудальда оборвал причитания.
— Сейчас мы все равно ничего не сможем сделать. Вам нужно хорошо отдохнуть, а завтра с утра мы этим займёмся. Я уверен, что произошла какая-то ужасная ошибка, но в любом случае, слезами горю не поможешь. Я послал за лекарем Галеви, чтобы он дал вам успокоительное.
Мудрые слова каноника подействовали. Ривка немного успокоилась и, поблагодарив всех за поддержку, позволила дочерям увести себя в спальню, куда провели и лекаря. А тем временем оставшиеся в доме мужчины собрались в кабинете даяна Каля.
Это были раввин Шемуэль Меламед, его сын Ишаи, падре Льобет, Марти, Элеазар Бенсахадон, до прошлого года занимавший должность главы менял, и Ашер Бен Баркала, казначей.
Когда все расселись, Эудальд Льобет взял слово.
— Сеньоры, мы должны соблюдать осторожность. Я понимаю ваш праведный гнев, но не стоит недооценивать ближайших слуг сильных мира сего.
Шемуэль Меламед, понятия не имевший, за что могли арестовать его свата, не замедлил спросить об этом.
Ашер Бен Баркала, не заметив предупреждающих знаков, которые подавал ему архидьякон, поведал о злосчастной истории с фальшивыми мараведи.
— Одним словом, еврейские менялы без всякой своей вины оказались замешаны в этом грязном деле, и теперь вся ответственность ляжет на нас, — закончил он.
— Храни нас Эллохим! — воскликнул Меламед. — Боюсь, последствия этого злосчастного промаха теперь придется расхлебывать всей нашей общине.
— Будем надеяться, что этого не случится. Завтра утром, Эудальд, вы должны встретиться с графиней Альмодис. А после полудня расскажете нам, как прошла встреча.
— Боюсь, что аудиенции у графини придётся подождать, — сообщил Эудальд. — Если я не ошибаюсь, сегодня утром она неожиданно уехала в замок Санта-Мария-де-Бесора к смертному одру графини Эрмезинды.
98
Санта-Мария де Бесора
Графская карета, запряженная шестеркой лошадей и окруженная двенадцатью верховыми стражниками, неслась по дороге, вздымая огромные клубы пыли. Маркиз де Фонкуберта, прибывший в Барселону накануне вечером, принес печальную весть о том, что старая графиня при смерти, и если Рамон Беренгер немедленно не отправится в путь, он может не застать свою бабку в живых. Эрмезинда Каркассонская умирала в замке Бесора, который сама в свое время построила.
Услышав эту горестную весть, граф тут же отправил вперед трех рыцарей, чтобы они оповестили союзных графов, и те могли заранее приготовить для графской четы гостевые комнаты, а также сменных лошадей. Они останавливались в Гарриге, в Эль-Фигаро, у подножия горы Тагаманен, в Вике и Сан-Ипполите, чтобы отдохнуть и набраться сил, после чего снова отправлялись в путь. Первого октября 1058 года, к вечеру второго дня они перебрались изрядно разлившийся Тер.
Дорога была долгой, и у супругов было достаточно времени, чтобы поговорить. Подобная возможность выпадала им не так часто, поскольку во дворце оба были слишком заняты важными делами.
— Итак, супруг мой, мы столкнулись с весьма серьезной проблемой, — сделала вывод графиня.
— Вы правы, Альмодис. Потеря такой суммы мараведи — это не шутки.
— Так вы считаете, что в этом виноват меняла?
Граф посмотрел на дорогу и продолжил, понизив голос:
— Мы должны считать так, иначе в ответе будет графство. Думаю, не стоит повторять, что доброе имя Барселоны — превыше всего.
— Я вас не понимаю.
— Все ясно, как божий день, дорогая моя супруга, — проворчал Рамон. — Мавр нас обманул. Именно поэтому он и решил произвести обмен ночью. Подделка была превосходна, и если бы не евреи, привыкшие иметь дело с подобными вещами, никто бы ничего не заметил. Если бы мы просто пустили эти деньги в оборот, никто бы даже не понял, что они фальшивые; а если бы потом и обнаружили подделку, то обвинили бы в ней человека, пойманного с этими деньгами. Никому бы и в голову не пришло связать это с Аль-Мутамидом Севильским, чья физиономия красуется на монетах. Однако Монкузи пришла в голову идея переплавить мараведи в барселонские манкусо с моим портретом на одной стороне и гербом Барселоны — на другой. Когда их стали плавить, обнаружилось, что содержание золота в этом сплаве катастрофически мало.
— И как же вы собираетесь выбраться из столь неприятного положения? — спросила графиня.
— Политика, Альмодис, это всегда трупы на пути, — вздохнул граф. — Как вы сами понимаете, граф Барселонский не может публично признать, что его обвёл вокруг пальца какой-то мавр.
— И что тогда?
— Нам нужен козел отпущения, и лучший кандидат на эту роль — еврей. Если и есть люди, способные погасить наш долг и вновь наполнить казну — то это лишь эти палачи Христа. И им придется это сделать, если они хотят продолжать жить в Барселоне. Нашему народу только дай повод устроить евреям погром! Зато наша честь будет спасена.
— Это понятно, но я думаю, логичнее было бы обвинить должностное лицо, которое руководило операцией и позволило всучить ему фальшивые деньги. Надеюсь, вы поняли, о ком я говорю?
— А речь вовсе не об этом. Мы утверждаем, что мараведи, которые вручили евреям, были настоящими, а их коварно подменили и пытаются заставить нас поверить, будто там полно свинца.
— А вам не приходит в голову, что вы этим наживете себе страшного врага? — спросила Альмодис. — Вы же понимаете, что не сможете обвинить в краже всех жителей Каля?
— Я не устаю восхищаться тонкостью вашего ума, — признался он. — Разумеется, я не могу обвинить всех. Причем даже непосредственно тех, кто принял на хранение деньги: это означало бы полностью обезглавить Каль, и мне совсем не нужно, чтобы все богатеи Каля оказались виноватыми. Будет вполне достаточно, если мы по совету Монкузи обвиним в случившемся нынешнего главу менял и заставим его ответить за преступление по всей строгости закона. Прежде всего, я должен представить козла отпущения; далее, я должен нейтрализовать остальных евреев, посеяв меж ними рознь, поскольку не подлежит сомнению, что одни поддержат этот вердикт, а другие — нет. Таким образом, мы сможем расколоть их на два лагеря, и в этом расколе будет наша сила. Так или иначе, но в конечном счете им придется выплатить весь долг — сполна и с процентами. Я не знаю и знать не желаю, где они возьмут эти деньги. В конце концов, евреи всегда знают, где их найти.
— И кого же вы выбрали козлом отпущения?
— Кажется, его имя — Барух Бенвенист.
Но тут им пришлось прервать разговор, поскольку снаружи послышался шум и карета замедлила ход — путешествие подошло к концу. Рамон отдернул просмоленную кожаную шторку, и его взору предстал внушительный каменный замок.
Подъемный мост начал медленно опускаться; навстречу графу вышел весь гарнизон во главе с алькальдом.
Возница присвистнул и натянул поводья; лошади нервно забили копытами; процессия остановилась, и венценосная чета вышла из кареты. Алькальд вышел вперед и учтиво, но с достоинством поприветствовал графа и графиню.
— Ваши светлости, капеллан молится о здоровье старой графини, — сообщил он. — Лекарь не отходит от неё ни на минуту, но боюсь, она уже не поправится.
— В таком случае, сеньор, не будем терять времени.
С этими словами Рамон Беренгер I, граф Барселоны, Жироны и Осоны, вошёл под своды опочивальни. Впереди шёл паж, звоня в колокольчик, а за ним следовали Альмодис и капитан стражи.
Комната, где лежала Эрмезинда, находилась в крыле здания, противоположном тому, где размешался гарнизон.
При виде их стражник, охранявший вход в спальню, быстро отошел в сторону. В большой комнате царил полумрак, и глазам графа потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть к темноте. Наконец, он смог разглядеть иссохшее тело, на огромной кровати под балдахином оно казалось совсем крошечным. Лицо графини было бледным, будто выточенным из алебастра. Рядом с ней сидел незнакомый мужчина; судя по одежде и массивному перстню с аметистом на безымянном пальце правой руки, лекарь. Когда в спальню вошел граф, лекарь сжимал в пальцах запястье умирающей, проверяя частоту пульса. С другой стороны ложа сидел священник и непрестанно молился, держа в руке склянку с елеем.
В эту минуту лекарь осторожно положил на кровать руку умирающей и, взглянув в лицо ее соперницы, молча покачал головой.
Эрмезинда умирала, но за тот краткий промежуток времени между последним ударом ее сердца и тем мгновением, когда ее душа покинула бренное тело, перед ее глазами промелькнула вся бурная и насыщенная жизнь.
Она увидела лица своих родителей, Роже I и Аделаиды де Гавальда, пришедших поддержать ее в эту печальную минуту, потом перед ее взором встал любимый Каркассон, принеся с собой незабываемый запах детства. Затем она ощутила незримое присутствие своего мужа, Рамона Борреля, с которым делила все тяготы власти, присутствуя на собраниях и судебных тяжбах, участвуя в военных кампаниях, даже в походах в Аль-Андалус. Вспомнились ей и оба регентства: первое — при малолетнем сыне Беренгере Рамоне, прозванном Горбуном, второе — при внуке, Рамоне Беренгере I, причинившем впоследствии столько хлопот.
Увидела она и других своих детей, Борреля и Стефанию, благодаря ее замужеству Эрмезинда заключила союз с нормандцем Роже Тоэни. Несмотря на все причиняемые им неприятности, она вынуждена была признать, что во многом благодаря Роже в конце концов удалось покончить с пиратством на Средиземном море, а главное, сдерживать набеги Аль-Мувафака, шакала из Дении.
Среди призрачных лиц мелькнуло и лицо ее соседа, Уго де Ампурьяса, с которым они столько спорили из-за земель Ульястрета. Были здесь и ее верные сподвижники; многие из них уже ушли в мир иной, другие теперь служили ее внуку. Увидела она и своего брата Пера Роже, ставшего епископом Жиронским, и аббата Олибу, епископа Вика, аббата Риполя, и своего сенешаля Эльдериха д'Ориса, и смертельного врага, Мира Гериберта. Затем перед ее взором встали ее детища, монастыри: мужской Сан-Феликс в Гиксольсе и женский Сан-Даниэль в Жироне. Но в последний миг, заслонив всех остальных, перед ней предстала ненавистная Альмодис де ла Марш, за которую ей пришлось просить Папу, ради мира в графствах.
Сколько прекрасных надежд оказалось разбито, сколько сил потрачено впустую! В глубине души она знала, что в тот последний миг, когда ей предстоит умереть, чтобы возродиться для новой жизни, ей придется простить Альмодис, отбросив свою глупую гордость, которая лишь мешает воспарить к престолу Всевышнего. Скрепя сердце она подняла руку в благословляющем жесте; никто даже представить не мог, чего ей это стоило: она не собиралась позволить этой шлюхе помешать ей вознестись к вершинам вечной славы.
Рамон Беренгер попросил всех удалиться. Рядом с ним осталась только Альмодис. Он не хотел, чтобы кто-нибудь видел в эти минуты его лицо. Никто даже помыслить не должен, как глубоко он скорбит; более того — страдает от угрызений совести. Только теперь он по-настоящему осознал, как любила свои графства предводительница их рода, как заботилась о них эта женщина, такая маленькая и хрупкая с виду, но при этом обладавшая несокрушимой силой духа, с какой отвагой отстаивала она его права в далёкие дни детства, с какой безграничной страстью она его защищала, и какой чёрной неблагодарностью он ей за это отплатил. Очертания ее крошечной фигурки едва угадывались под роскошным одеялом; трудно было поверить, что в этом тщедушном теле таились такая сила духа, упорство и отвага, которым позавидовали бы многие мужчины. Рамон Беренгер взял в руки распятие и вложил в ее холодеющие пальцы. Затем, тяжело вздохнув, произнёс надломленным и хриплым голосом:
— Покойтесь в мире, Эрмезинда Каркассонская, дорогая бабуля.
Голос Альмодис прозвучал прямо за его спиной:
— Покойтесь в мире, и пусть пребывают в мире все те, кого вы оставили на земле. Пусть Господь в своей милости примет вас в свое лоно, но не пытайтесь править небом, как вы правили своими графствами. — Потом она наклонилась к самому уху умершей и чуть слышно прошептала: — Теперь они мои, сеньора.
99
Приговор
Следствие длилось недолго. Уже через две недели Баруху вынесли приговор, который заставил содрогнуться весь Каль, обитатели квартала долго ещё не могли успокоиться, передавая из уст в уста ужасную новость. Лишь немногие жители Каля остались верны семье Бенвенистов; для большинства собственное благополучие оказалось важнее чувства долга и солидарности, и они не задумываясь покинули своего даяна в роковую минуту. Марти был ошарашен, он всеми силами старался поддержать сраженную горем Руфь. Девушка как потерянная бродила по дому, удрученным видом причиняя ему невыносимые муки. Последней каплей стало оглашение приговора, по приказу вегера его зачитали на всех улицах и площадях Барселоны. Оглашение приговора вызвало такую волну гнева, что пришлось выставить у ворот Каля вооруженную стражу, чтобы разъярённые евреи не бросились на штурм ратуши.
Граф рассудил, что достаточно обвинить евреев, но стоит освободить их общину от наказания, иначе некому будет выплачивать долг. Ради блага Барселоны процветающие торговцы вроде Елеазара Бенсахадона и Ашера Бен Баркалы должны быть неприкосновенны.
Приговор гласил:
Барселона, 4 октября 1058 года от Рождества Христова.
Я, Рамон Беренгер I, граф Барселоны, Жироны и Осоны, именем Божиим заявляю:
Следствие, возбужденное против Баруха Бенвениста, даяна Каля Барселоны, постановило признать его виновным в хищении графского достояния в количестве тридцати тысяч мараведи и в попытке мошенничества и изготовления фальшивых денег.
По решению курии комитис, возглавляемой достопочтенным Понсом Бонфийем, и в соответствии с законом, приговариваю вышепоименованного Баруха Бенвениста к смертной казни через повешение, конфискации всего имущество и изгнанию из города всех членов его семьи в течение тридцати дней с момента оглашения приговора.
Учитывая важность для города еврейской общиной, моей особой милостью предоставляю ей отсрочку для выплаты долга и процентов сроком на десять лет. При этом строжайше запрещаю любое нападение на жителей Каля или их имущество. Каждый, кто посмеет ослушаться, будет приговорен к пятидесяти ударам палок на площади.
Гражданин Барселоны Барух Бенвенист будет повешен на пеньковой веревке, пока не испустит дух. Виселица будет установлена напротив ворот Регомир. Казнь состоится десятого декабря 1058 года, после полудня.
Подписано:
Рамон Беренгер, граф Барселонский
Когда Марти услышал о приговоре, он оцепенел. Руфь заперлась в своей комнате, безутешно рыдая, а Марти бросился в дом Бенвениста, где уже вовсю обсуждали ужасную новость. Обитатели дома складывали в корзины одежду и личные вещи — единственное, что им было позволено взять. Ривка лежала в постели, а Эстер сновала из комнаты в комнату, наблюдая за погрузкой вещей. Слуги молча входили и выходили; в доме дежурили стражники, следившие, чтобы никто не вошёл в кабинет менялы и ничего оттуда не вынес. Башева подошла к нему и шепотом спросила о сестре.
— Успокойтесь, доверьтесь мне, — мягко произнёс Марти. — Завтра я постараюсь увидеться с вашим отцом и сделаю все, о чем он меня попросит; скажите вашей матушке, чтобы она не беспокоилась на этот счёт.
В эту минуту к Марти подошел раввин Меламед и сказал, что хотел бы поговорить с ним. Они отправились под каштан, видевший за свою долгую жизнь столько счастливых минут.
— Ну что ж, друг мой, — заговорил свекор Башевы, — надеюсь, вы понимаете, что из-за возложенной на меня миссия я чувствую себя не в своей тарелке. Тем не менее, меня обязывает к этому долг раввина и отца Ишаи, и я должен исполнить его с величайшей деликатностью.
— Я вас слушаю.
— Никто об этом не говорит, но все знают.
— Что именно?
— Наш народ отличается сдержанностью и умением молчать, — начал издалека раввин. — Кроме того, многовековой опыт выживания научил нас не вмешиваться в жизнь окружающих.
— Я вас не понимаю.
— Возможно, в Барселоне действительно никто ничего не замечает, но только не в Кале.
— Не могли бы вы выражаться яснее? — попросил Марти. — Я никак не пойму, куда вы клоните.
— Все очень просто: нам известно, что Руфь, младшая дочь Баруха, живет в вашем доме. До сих пор это никого не касалось, учитывая, что Барух изгнал ее из своего дома после известного нам досадного случая, и честь дома Бенвенистов была спасена. Однако после ареста моего свата все серьёзно осложнилось. Сегодня утром я разговаривал с Биньямином Хаимом, мужем Эстер, и его решение прозвучало для меня, как гром среди ясного неба. Как вы знаете, он происходит из очень почтенной семьи, весьма известной в Бесалу. Так вот, он готов принять свою тёщу Ривку, но решительно отказался взять к себе Руфь. Вы же знаете, как быстро разносятся слухи. Одно дело — быть зятем казнённого, безвинно осуждённого за чужие грехи, и совсем другое — принять в дом опозоренную женщину, не имеет значения, насколько она виновата в своём бесчестье. Что же касается Башевы, то после свадьбы она, как замужняя женщина, переходит в семью мужа, а Эстер вошла в семью Хаимов. Так что к ним обеим приговор отношения не имеет.
Марти побледнел.
— Я удивлен, куда девалась ваша пресловутая солидарность! Мне бы не хотелось плохо думать обо всем еврейском народе из-за подлости некоторых его представителей. А впрочем, не беспокойтесь, я сам этим займусь.
— Право, не стоит думать о нас так плохо. Людское мнение переменчиво. Быть может, потом, когда все уляжется...
— Я все понимаю, — ответил Марти. — Поверьте, я вовсе не имел в виду вас: вы ведь всего лишь посланник.
После этого разговора Марти покинул дом, пообещав Ривке и Башеве, что скоро вернется.
У него накопилось столько дел, что трудно было разобраться со всеми. Едва выйдя за ворота Каля, он тут же направился в собор, чтобы поговорить с Эудальдом.
Каноник, уже оповещенный об этой драме, принял его в своих личных покоях.
— Поистине ужасные времена, друг мой, — со вздохом произнёс священник.
— А главное, несправедливые. Кто-то решил сделать Баруха козлом отпущения.
— И я даже догадываюсь, кто именно. Хотя мой опыт общения с сильными мира сего говорит, что это может быть кто угодно. У победы тысячи отцов, а поражение — всегда сирота.
— Этот человек — самый изворотливый и скользкий мерзавец, какого я встречал в жизни. Нынешний гнев заглушил даже прежнюю ненависть. Просто удивительно, как ему удалось заслужить расположение графа.
— Так я вам отвечу. Главным его оружием стала лесть; это знает любой придворный, желающий добиться успеха. Как известно, властитель может месяц прожить без пищи, неделю — без воды, и ни единого дня — без лести. Заклинаю вас: берегитесь его, не спускайте с него глаз ни на минуту. Он ни о чем не забыл, ему известно, как вы жаждете отомстить, и при первой же возможности он нанесет вам удар в спину. Но давайте лучше поговорим о наших делах. Что вы теперь собираетесь делать?
— Меня сжигает такой пожар, что я не знаю, как его погасить, — признался Марти. — Не знаю, как поступить, и потому пришёл просить вашего мудрого совета. Но с чего начать?
Священник задумался над ответом.
— Ну, положим, про один огонь мне известно: это Руфь. Я знаю, с каким уважением вы к ней относитесь, но позвольте заметить: обстоятельства сложились так, что у вас появилась возможность устроить свою жизнь, а вы сами топчете свое счастье. Хотя, что и говорить, и на этом пути тоже есть трудности, и пока что непреодолимые.
Марти ошарашенно застыл.
— Но я никогда не говорил вам... — растерянно пробормотал он.
— Я столько всего пережил, Марти, и мои волосы давно поседели. Было бы странно, если бы я не знал о той болезни, что рано или поздно настигает любого. Я знаю, что вы любили Лайю, но Лайя умерла, а жизнь продолжается.
— Ну что ж, признаю, возможно, Лайя была лишь мечтой моей юности, сильно приукрашенной своей недоступностью и долгой разлукой; быть может, я и в самом деле слишком долго цеплялся за эту мечту. Ее смерть стала для меня страшной трагедией и оставила в моей душе глубокий след, я буду помнить о ней всю жизнь. Но эта девушка пробудила в моем сердце те чувства, которые, казалось, никогда уже не вернутся. Я никогда не встречал такой, как Руфь, с ее чувством справедливости, собственным взглядом на жизнь, жизнерадостностью и умением в любых обстоятельствах находить что-то хорошее. Она вернула в мой дом, ставший выжженной пустыней, тепло и уют; ее присутствие разбудило во мне чувства, которые я считал умершими, — тут Марти ненадолго замолчал. — А впрочем, что об этом говорить: ведь все равно нам не суждено быть вместе. Слишком многое нас разделяет.
— Но не забывайте: это знаю я, а другие — нет, — напомнил каноник. — Лучше держите чувства при себе.
— Во-первых, как я уже говорил, я поклялся ее отцу, что буду относиться к ней с уважением и с моей стороны ей ничто не грозит. Если бы я злоупотребил его доверием и нарушить клятву, воспользовавшись тем, что она живет в моем доме и находится в полной моей власти, чувство вины не давало бы мне покоя ни днем, ни ночью.
Каноник кивнул.
— Я вас понимаю. Пусть даже Баруха скоро не станет, вы по-прежнему связаны клятвой, и этого вполне достаточно, чтобы похоронить ваше счастье. К тому же она иудейка, а вы — христианин.
— В том-то и дело. Хотя, если бы это было единственное препятствие, не думаю, что оно бы меня остановило.
— Вы готовы рискнуть даже вечной жизнью?
— Моя вечная жизнь — здесь и сейчас. Когда придет время отвечать за свои деяния, тогда и буду об этом думать. Если я ради какой-то эфемерной мечты должен отказаться от своей настоящей жизни — пусть Бог сойдет с небес и покажется. Разве не сказал Блаженный Августин: «Люби и будь счастлив»?
— Не вынуждайте меня отвечать. Сейчас не время для философских рассуждений и богословских споров, которые так любят вести отцы святой церкви. Кроме того, мое мнение едва ли может быть беспристрастным, поскольку я вас люблю. А теперь ответьте, какие еще пожары в вашей груди требуется потушить?
Марти в нескольких словах пересказал своему другу содержание беседы с раввином Меламедом.
— Как видите, — закончил он. — Стоило кораблю дать течь, и они побежали с него, как крысы.
— Не стоит их винить. Они, в сущности, неплохие люди, просто боятся. Когда все идет хорошо, они, безусловно, смотрят на вещи совершенно иначе. Беда никогда не приходит одна, но не забывайте, что после бури всегда наступает затишье и Господь никогда не посылает испытаний свыше наших сил. Но скажите, что связывает вас с Барухом? Поговаривают, будто бы у вас какие-то денежные дела.
— Не совсем так, — ответил Марти. — Да, у меня есть знакомые среди менял, но я не веду с ними дел; они лишь пользуются моими кораблями и товарами. Возможно, им придется выплачивать графу долг из тех денег, которые они получают от меня, но на мои дела это не повлияет. В конце концов, если все торговцы прекратят отношения с евреями и откажутся от их услуг, торговля, на которой держится наше графство, просто рухнет. Так что не беспокойтесь обо мне, давайте лучше подумаем, что мы можем сделать для Баруха.
— Ну, кое-какие планы на этот счет у меня уже есть: я собираюсь отправиться к графине и попросить у нее пропуск в тюрьму, который будет распространяться также на вас; таким образом, мы оба сможем его навещать. Думаю, она мне не откажет: ведь он мой друг, он несправедливо осужден и нуждается в помощи. Полагаю, это достаточно веские причины.
100
Пропуск
Графиня согласилась выдать пропуск в тюрьму. Каноник, как ее личный духовник, попросил ее позволения попытаться обратить осужденного в истинную Христову веру и спасти таким образом его бессмертную душу, а гражданина Марти Барбани привлек в качестве помощника, его имя также было указано в документе.
На следующее утро они вдвоем предстали перед воротами тюрьмы Палау-Менор, где в подземелье томился Барух.
Стражник у входа, взяв документ и увидев печать графини, попросил их немного подождать, а сам направился в караульное помещение, чтобы доложить об их приходе начальнику. Вскоре тот вышел навстречу с пергаментом в руке. Это оказался старый солдат, выбившийся в офицеры благодаря боевым заслугам, о чем свидетельствовали два бледных шрама, пересекавших лицо.
— Мы с вами случайно не знакомы? — спросил он у падре Льобета.
— Не исключено: в этой трижды грешной Барселоне все так или иначе знают друг друга.
— Вы не похожи на священника.
— Я не всегда им был.
— И где же носило вашу милость, прежде чем вы пришли к Богу? — осведомился тюремщик.
— Я прошёл множество дорог и побывал в самых разных переделках.
Но стражник не сдавался.
— Ну конечно, я встречал вас прежде — правда, в другом обличье. Вы случайно не участвовали в той заварушке с Миром Герибертом?
— Да, я был там, но не в качестве священника.
Лицо стражника неожиданно просветлело.
— А еще вы сражались под Вальфермосой.
— И под Вальфермосой, и во многих других местах, — ответил Эудальд. — Мы сражались там вместе с отцом моего друга.
Начальник стражи внимательно взглянул на Марти.
— Напомните мне, как звали вашего отца.
— Гийем Барбани де Горб.
Начальник стражи посмотрел на него, словно увидел привидение. Он вновь взглянул на Льобета, после чего повернулся к Марти.
— Во имя бороды святого Петра! Теперь припоминаю: вы были не разлей вода, словно нитка с иголкой... В тот день, когда в меня метнули дротик, — он указал на один из своих шрамов, — ваш отец вынес меня из боя. Славные были времена — не то, что сейчас, когда любая марионетка, пресмыкаясь при дворе, за считанные месяцы добивается большего, чем мы — за долгие годы службы на границе.
— Я рад нашей встрече, — произнес Льобет. — Всегда приятно встретить старых знакомых.
— И вот вы встретили меня здесь, среди калек, от которых не требуется ничего другого, кроме как смотреть за безобидными заключенными и совершать обходы. Знай я об этом наперед — возможно, тоже пошел бы в священники: уж лучше разливать суп беднякам, чем караулить этих доходяг и терпеть ведьму-жену и троих спиногрызов.
— Возможно, у вас просто не было призвания для служения церкви.
— Даже без призвания быть священником много лучше, чем стражником в этом поганом месте.
Эудальд предпочел остановить поток словоизлияний старого солдата, заметив, что лучше продолжить разговор внутри.
— Мне приятно с вами поговорить, но мы пришли просить вас об услуге, и у нас не так много времени, — напомнил он.
— Хорошо, один из моих людей проводит вас до камеры. И знайте, что в любое время, когда на часах стоит Жауме Форнольс, вы сможете его навестить.
— В какие дни и часы вы стоите на карауле? — спросил Эудальд.
— Я бываю здесь каждый день, с первой до третьей мессы.
— Мы это учтём, чтобы не просить разрешения каждый раз. А сейчас, если вы будете так добры...
Стоявший у входа стражник провёл их по нескольким коридорам, прежде чем они оказались у дверей камеры, где томился Барух. При виде представшей их взору картины у обоих защемило сердце. Сквозь решетчатую дверь камеры они увидели менялу. Если бы не железная решетка, его комната могла бы показаться скорее номером плохого постоялого двора, чем тюремной камерой. Из мебели в ней был стол и два шатких стула, а также старая скамья у стены, очевидно, служившая узнику ложем.
На этой скамье и сидел погруженный в раздумья Бенвенист, рассеянно глядя, как в бледных лучах восходящего солнца, проникающих в камеру сквозь маленькое окошко, танцуют мириады крошечных пылинок. За эти дни меняла, казалось, совсем высох и стал ещё меньше ростом. Заметив за решетчатой дверью какое-то движение, Барух поднял голову, и его водянистые глаза засветились облегчением и благодарностью. Он медленно поднялся на ноги и направился к двери, как всегда, внимательный и дружелюбный.
Стражник поднял решётку, и мужчины бросились друг к другу в объятия.
— Мне велено оставить вас наедине. Когда соберётесь уходить, постучите по решётке, и я вас выпущу.
С этими словами тюремщик направился в дальний конец коридора.
Оставшись наедине, Марти и Эудальд сели на стулья, а Барух остался на своём ложе.
Каноник первый нарушил тягостное молчание, невольно повисшее между тремя друзьями.
— Барух, друг мой, какое несчастье! -
— И какая чудовищная несправедливость! — подхватил Марти.
— Пути Яхве неисповедимы и непостижимы для смертных, — ответил Барух. — Каждому из нас при рождении уготована своя судьба, которую мы должны принять всем сердцем.
— Но любая смерть, приходящая не по воле Господа, а от рук человеческих, является нарушением Его воли и уже поэтому преступна.
— Простите меня, Эудальд, но когда смерть посещает нас в преклонные годы, она благословенна. Моя же послужит тому, чтобы смягчить гнев сильных мира сего и отвести от моей общины худшие несчастья.
— Полагаю, вы даже знаете, как именно.
— Протокол составлен со всей тщательностью, — ответил Барух. — Судья лично явился ко мне в эту камеру вместе с двумя свидетелями, чтобы ознакомить меня с ним. Они были внимательны и любезны; меня должны повесить таким образом, чтобы никто из нашей общины не увидел, и я этому рад. Казнь назначена на субботу, а никто не имеет права осквернить субботний день даже по такой причине, как чья-то смерть, которая, кстати, каждый день кого-нибудь настигает.
При виде такого умиротворенного смирения своего друга, Марти прямо-таки взорвался.
— Просто не понимаю, как вы можете быть так спокойны, когда вершится ужасная несправедливость!
— А что мы можем сделать? Все уже предрешено, никто не может ничего изменить. Все мы когда-нибудь умрем. Что ж, моя смерть наступит несколько раньше, только и всего.
— Вот уже сколько веков покорность судьбе и губит ваш народ! — воскликнул Марти. — Каждый год за пасхальным седером [36], вы поздравляете друг друга словами: «Следующий год — в Иерусалиме «, однако при безграничном смирении, с которым вы принимаете любую несправедливость, вы никогда не сможете туда вернуться.
— Марти, — вмешался Эудальд. — Мы пришли сюда для того, чтобы утешить нашего друга, а не для того, чтобы расстраивать его ещё больше.
— Простите, Барух, — сказал Марти. — Бессилие и гнев заставили меня произнести эти слова. Мы ведь действительно пришли, чтобы поддержать вас, и собирались сказать совсем другое.
— Оставьте в стороне гнев, и лучше выслушайте мою последнюю волю: у нас не так много времени, — попросил Барух.
Эудальд и Марти пообещали в точности исполнить все указания Бенвениста.
— Я покидаю этот мир, но те, кого я люблю больше всего на свете, остаются в нем. Мое имущество будет конфисковано, а семье предстоит покинуть город в течение месяца. У них больше не будет ни Барселоны, ни нашего дома, который они так любили, ни даже крыши над головой. Больше всего меня тревожит судьба Ривки и Руфи; две дочери уже вышли замуж и теперь принадлежат к семьям мужей. Теперь, Марти, что касается вас. Зная свою младшенькую, я не сомневаюсь, что она откажется уезжать вместе с матерью, чтобы не разлучаться с вами...
— Барух, я сделаю всё, что в моих силах...
— Позвольте мне закончить, — Марти, — мягко остановил его Барух. — У меня было достаточно времени для размышлений. Кстати, я часто вспоминал наши споры, Эудальд, которые мы с вами вели в те благословенные летние вечера, — на этих словах старик тяжело вздохнул. — Марти, я знаю, что Руфь любит вас с детства. Мы с ней никогда это не обсуждали, но отец умеет читать сердце дочери, как открытую книгу. Поначалу я думал, что это всего лишь детское увлечение, но сейчас она уже взрослая, а любит вас по-прежнему. Вы оказались настолько добры, что согласились принять ее под свой кров и тем самым спасли меня от бесчестья, которое неминуемо пало бы на мой дом, сделав замужество Башевы весьма проблематичным, если не вовсе невозможным. Однако теперь я считаю, что не должен был принимать ваше предложение. Я бы и тогда ни за что не согласился, если бы не ваша клятва; тем не менее, я всегда понимал, что со временем ситуация ещё больше осложнится. Однако сейчас обстоятельства таковы, что выбора нет; вы должны заставить Руфь последовать за матерью, не слушая никаких увёрток и отговорок. Тогда я смогу покинуть этот мир со спокойной душой. Вы — единственный, кого она послушает.
Эудальд и Марти озабоченно переглянулись, что не укрылось от внимания менялы.
— Что ещё случилось? — обеспокоенно спросил он. — Что вы от меня скрываете?
Голос Марти прозвучал печально и безнадёжно.
— Вы просите меня о невозможном.
— Почему?
— Я как раз собирался вам об этом сказать. Дело в том, что ни ваш сват, ни муж Эстер не желают видеть Руфь в Бесалу. Они считают, что это было бы крайне нежелательно для всех, в том числе и для вашей супруги.
Барух Бенвенист вытер вспотевшую лысину подолом измятой рубахи и надолго погрузился в молчание.
— Не отчаивайтесь, — попытался утешить его Марти. — Я не оставлю вас в последний час наедине с таким горем.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил каноник, пока меняла вновь вытирал платком вспотевшую лысину.
— Под моей опекой Руфь будет даже в большей безопасности, чем в вашем доме в самые счастливые времена, — заверил Марти.
— Но я не могу пойти на такой риск.
— Я весьма сожалею, мой добрый друг, но не в вашей власти повлиять на мое решение.
— Вы подвергаете себя большой опасности, Марти, — поддержал друга Льобет.
— Я не раз подвергал себя гораздо большей опасности ради людей, которых едва знал, — напомнил Марти.
При этих словах ему невольно вспомнился Хасан аль-Малик, барахтающийся в воде возле порта Фамагуста.
Но каноник не сдавался.
— Имейте в виду, что тем самым вы нарушите не какой-то там еврейский обычай, а подписанный графом приказ, и станете государственным преступником. Кто угодно может увидеть ее в вашем доме и донести, и тогда вас уже ничто не спасет.
— В моем доме ей ничего не грозит. Я отведу весь верхний этаж для нее одной. Кроме того, на площадке башни есть небольшой садик, где она сможет гулять. Там же, в саду, мы оборудуем для нее маленькую баню. Омар, настоящий знаток в деле водоснабжения, проведет туда воду, и она ни в чем не будет нуждаться. Таким образом, ей не будет необходимости выходить на улицу, и никто чужой не посмеет вторгнуться в ее обитель, а там, глядишь, все переменится. Разве не вы мне говорили, что Провидение, а вовсе не люди, правит миром? Думаю, ваш Яхве или наш Иисус позаботятся об этом.
— Больше ничего не остается, — ответил Барух. — Я покидаю этот мир, Марти, и покидаю его со спокойной душой. Да поможет вам ваш Бог!
— У вас ещё есть время, — напомнил Эудальд. — Скажите, с кем из ваших близких вы хотели бы увидеться; мы могли бы попытаться провести сюда этого человека.
— Моя супруга, Эудальд, умрет от горя, увидев меня здесь. Обе старшие дочери замужем. Прошу, если сможете, приведите ко мне Руфь.
— Не беспокойтесь: если это в моих силах, я это сделаю, — пообещал Эудальд.
Расстроенный и удручённый Марти произнёс полным нежности голосом:
— Барух, вы доверили мне самое драгоценное сокровище. Я не обману вашего доверия, это было бы просто бесчестно с моей стороны.
Покидая это зловещее место, Марти в который раз ощутил запах опасности, как будто среди окружающих скрывался злодей. Его ненависть к Монкузи взывала о справедливости; он ещё не знал, как ему это удастся, но был уверен, что рано или поздно сможет утолить свою жажду мести.
101
Альбинос
Зловещего вида тип дожидался своей очереди в приёмной Берната Монкузи. Конрад Бруфау недоверчиво косился в его сторону; его явно смущало присутствие этого человека, хоть советник и предупредил секретаря о его приходе. Не так часто ему приходилось видеть подобных личностей в приёмной казначея, где частыми гостями бывали городские старейшины, а в последнее время — и более высокопоставленные особы.
Он был одет во все черное — черная рубаха, чулки и сапоги. Лет около сорока, но из-за ранней лысины он казался старше; он был довольно высок ростом, очень худ и имел длинные костлявые руки; но прежде всего бросались в глаза очень светлые, почти белые волосы и бледно-голубые глаза, обрамленные бесцветными бровями и ресницами, которые совсем терялись на изъеденном оспой лице.
Незнакомец держался спокойно, не обращая внимания на окружающих. Он был вполне в себе уверен, как человек, знающий цену себе и своим услугам. Он знал по опыту, что, если кто-то обращался к нему — значит, другого способа решить проблему просто нет.
Из кабинета послышался требовательный звон колокольчика, и секретарь поспешно скрылся за его дверями, а через минуту вернулся и объявил странному посетителю, что этот звонок имеет к нему самое прямое отношение.
— Сеньор ждёт вас.
Обращённый еврей Люсиано Сантангел, взяв плащ и ящичек для бумаг, проследовал за Конрадом Бруфау в кабинет графского советника Берната Монкузи.
Тот вышел ему навстречу, внимательный и любезный, и, приобняв гостя за плечо, повёл его к скамье возле окна.
— Мой дорогой друг, прежде всего я хочу поблагодарить вас за отзывчивость, с которой вы откликнулись на мой зов, — заговорил Монкузи. — Полагаю, вам нелегко было выкроить для этого время, ведь в городе столько людей нуждаются в ваших услугах.
Контраст между этими двумя был поразителен: гость был длинным, как веретено, а советник — круглым, как бочонок.
Люсиано Сантангел, разместив на скамье рядом с собой плащ и ящик, ответил:
— Вы же знаете, если вам требуются мои услуги, я всегда свободен.
Затем оба уселись на скамью, и гость приготовился услышать, в чем состоит поручение смотрителя аукционов.
А тот, удобно развалившись, расправил складки своего одеяния и, выжидающе усмехнувшись, начал разговор — по своему обыкновению, издалека.
— Прежде чем мы перейдем к делу, скажите, Люсиано, от каких дел вам пришлось отказаться, чтобы откликнуться на мой зов?
— Я ни от чего не отказывался, — уклончиво ответил гость. — Я просто отложил ненадолго охоту. Вам ведь известно, как я работаю.
— Но все же расскажите.
— Я могу вам рассказать лишь о самом деле, но не назову имя заказчика: клиенты могут рассчитывать на мое молчание. Будьте уверены, стены этого кабинета станут единственными свидетелями нашего разговора, а нигде в другом месте я о нем ни словечка не пророню. Именно в умении молчать кроется секрет моего успеха. Но если вам так угодно, могу рассказать, что некий граф, сосед нашего графа Барселонского, надумал развестись со своей неверной женой и пожелал узнать, кто из дворян наградил его развесистыми рогами. Однако его супруга — высокородная дама, а ее отец — особа весьма высокопоставленная. Ее дядья — епископы, а один из кузенов — аббат знаменитой обители. Когда дело касается столь высоких особ, любая ошибка может иметь самые печальные последствия.
— Можете не называть никаких имен, я и так догадываюсь, о ком идет речь, — ответил Монкузи. — Не перестаю удивляться суетности человеческих усилий. Хотя, пожалуй, есть что-то разумное в этой теории, согласно которой растущие рога причиняют боль, зато потом помогают выжить. Тем не менее, если властитель не желает платить за молчание всяким негодяям и шантажистам, то я бы ему посоветовал оставаться холостяком и хранить целомудрие. Если у него будет столь же безупречная репутация, как моя, никто не сможет на него надавить.
— Это лучший способ избежать неожиданностей в этом безумном мире. Но расскажите о ваших проблемах и о том деле, для которого вы меня вызвали.
— Мой дорогой Люсиано, вы же знаете, какие сложности влечет за собой мое положение. С одной стороны, многих раздражает моя непоколебимая верность графу. Знать меня ненавидит, поскольку, как вам известно, я родом не из их среды; людям моего круга я мешаю тем, что не позволяю запускать лапы в графскую казну и набивать собственные карманы, а другие мечтают сместить меня, чтобы занять мой пост. Так что над моей головой постоянно висят сразу несколько дамокловых мечей.
— Я вас понимаю, однако ничего нового вы мне не сказали. Зависть — одна из величайших человеческих слабостей.
— Вы правы. Именно поэтому мне и требуются ваши услуги. Доверие, которое внушает мне ваше мастерство и такт, побудило меня обратиться именно к вам.
— Я весь превратился в слух.
— Конечно, я давно привык к козням врагов, на этот раз мой враг, вопреки здравому смыслу, решил со мной судиться. Так вот, я хочу нащупать его слабые места, чтобы иметь против него оружие на тот случай, если он начнет плести против меня интриги, желая моей гибели.
Альбинос открыл свой ящик, достал оттуда телячий пергамент, перо и чернильницу и спросил:
— Насколько высокое положение занимает ваш враг?
— Должен вам сказать, что сама графиня Альмодис отступила от правил и пожаловала ему гражданство Барселоны. Его дом — один из богатейших в городе; он владеет более чем двадцатью кораблями, на которых привозит в город чёрное масло для освещения улиц.
Альбинос открыл чернильницу и, обмакнув в неё кончик пера, стал писать.
— Насколько я понял, речь идёт о Марти Барбани.
— Разумеется.
— Это весьма известная персона. Уповаю на ваше благоразумие: не дай бог иметь такого врага! Даже я не рискнул бы с ним связываться. Ну и что же вы хотите о нем узнать?
— Мне необходимо нащупать его слабые места; для этого я должен знать все о его семье, друзьях, знакомых, должниках и кредиторах, а также о том, не нарушает ли он закон, ввозя или вывозя запрещённые товары. Кроме того, мне нужны сведения о его связях с евреями и прочими подозрительными людьми. И, наконец, я должен знать как можно больше о его привычках и странностях.
— Я понимаю, что меня это не касается, но всё же предпочитаю знать причины, по которым клиентам требуются мои услуги.
— Ну, это просто, — ответил советник. — Ничто не возмущает меня так, как человеческая неблагодарность, и ничто не возбуждает во мне такой ненависти, как те, что пытаются кусать руку, которая их кормит. Этот человек пришёл ко мне в те времена, когда был никем и ничем, просить моего покровительства, которое я имел неосторожность ему оказать. Однако он этого не оценил; пользуясь тем, что я оказался у него в долгу, он имел наглость просить руки моей приёмной дочери. Помня о его услугах, я дал понять, что, не будучи гражданином Барселоны, он не может претендовать на руку моей дочери. Но он не отступил; обманом ввёл он в мой дом коварную злодейку-рабыню, и та своим пением и сладкими речами околдовала сердце моей Лайи, сущего ребёнка. При посредничестве этой рабыни он свёл знакомство с Лайей, втерся к ней в доверие и уговорил выйти за него замуж, как только позволят обстоятельства, обманув таким образом мое доверие и предав нашу дружбу, а затем довёл мою девочку до самоубийства.
— Судя по тому, что вы рассказали, ситуация весьма серьёзна.
— Но и это ещё не все, — продолжал советник. — На своё несчастье, я сам представил его вегеру, и тот от лица города стал покупать у него чёрное масло, которое он привозит с Востока, и тогда, Марти Барбани отказался иметь со мной дело, отплатив чёрной неблагодарностью.
— И что же вы хотите узнать о нем?
На сей раз советник не сумел сдержать гнева.
— Все, вплоть до цвета его фекалий. Но прежде всего я хочу знать, что его связывает с людьми из Каля.
— Не извольте беспокоиться, я все разузнаю, — пообещал альбинос, — в особенности то, что касается его отношений с евреями; не забывайте, я ведь и сам — обращенный. Как говорится, клин клином вышибают.
— А как быть в том случае, если мне, помимо сведений, потребуются и кое-какие ваши действия? — осведомился советник. — Разумеется, действовать вам придется втайне: прямыми путями до него не добраться.
— У меня есть для этого свои люди, но, как вы сами понимаете, это будет стоить несколько дороже.
— На этот счёт можете не беспокоиться: вам известно, что я хорошо плачу тем, кто на меня работает.
102
Последнее «прости»
В ту самую минуту, когда Бернат Монкузи беседовал со своим зловещим гостем, Руфь спорила с Марти, настаивая на встрече с отцом.
— Вы хоть понимаете, как вы рискуете?
— Марти, вы обещали, что хотя бы попытаетесь, — не уступала она. — Я умру от горя, если не смогу увидеться с ним.
— Для этого вам придётся нарушить сразу два ваших закона, — предупредил Марти. — Во-первых, выйти на улицу в запретный для евреев час, а во-вторых, переодеться мужчиной, поскольку женщинам вход в тюрьму запрещён.
— Как бы то ни было, он лишится последнего утешения, если покинет этот мир, не повидавшись со мной напоследок, ведь я знаю, что он желает этого больше всего на свете. Если это случится, я вам этого никогда не прощу.
— Ну, что ж, да будет так. Но имейте в виду: я обещал попытаться, и не моя вина, если ничего не получится.
Марти попросил Эудальда отыскать Жауме Форнольса и тот, в соответствии с неписанным кодексом старых товарищей по оружию, на следующий день разрешил Марти навестить Бенвениста вместе со старшим сыном заключенного, при условии, что они не пронесут с собой нож или кинжал. Когда колокола созывали к вечерне, под ослепительным сиянием фонарей Марти пара вошла на площадь, где находилась тюрьма Палау-Менор.
Неподалеку от сторожевой башни расхаживал часовой. Форнолис не хотел иметь свидетелей своего поступка. Когда две тени приблизились, держась в тени деревьев, он остановился и оглядел площадь в поисках нежелательных глаз. Марти и закутанная в плащ Руфь подошли к своему нежданному благодетелю.
Голос Форнольса прозвучал тихо и чётко:
— Прошу вас долго не задерживаться.
— Падре Льобет особо предупредил нас об этом, — ответил Марти. — Мы знаем, что наша судьба полностью зависит от вас и мы должны уйти до того, как вы сменитесь с караула. Не хватало ещё, чтобы у вашей милости были из-за нас неприятности.
— Я буду рад оказать услугу сыну моего товарища по оружию, перед которым я в неоплатном долгу, но на карту поставлено слишком много.
— Не сомневайтесь, я найду способ вас отблагодарить.
С этими словами Марти, пошарив в сумке, висевшей на плече, извлёк оттуда кошелёк из невыделанный кожи и протянул стражнику.
— Зачем вы мне это даёте? — возмутился он. — Мне ничего не нужно.
С этими словами он попытался вернуть кошелёк Марти. Однако тот перехватил его руку.
— Уверяю вас, это не последние мои деньги. Фортуна благоволит мне, и я ни в чем не нуждаюсь. А вы сказали, что у вас есть жена и дети, так возьмите эти деньги для них — просто как знак моей благодарности.
В полутьме Жауме Форнольс развязал кожаную темнику на небольшом мешочке, и запустил внутрь руку.
— Вы с ума сошли! — воскликнул он. — Да здесь по меньшей мере мое полугодовое жалованье!
— Даже всех денег мира не хватит, чтобы окупить то, что вы для нас сделали.
Проводив их до камеры, Форнольс внимательно присмотрелся к маленькой фигурке, закутанной в плащ, которая молча и неотступно следовала за Марти.
— Это его сын? — спросил стражник.
— Да, сын, — ответил Марти. — А поскольку, кроме него, у осуждённого только две дочери, этот мальчик, несмотря на юный возраст, примет на себя всю ответственность за их судьбу и за судьбу своей матери. Вы же знаете, каковы эти евреи.
— Из уважения к вам я не стану его обыскивать, но вы должны поклясться, что не пронесёте в тюрьму никакого оружия.
— Так обыщите его, если вам от этого будет спокойнее.
— Мне достаточно вашего слова, — заверил тюремщик. — Но умоляю вас, не задерживайтесь!
— Нам и не потребуется много времени, — ответил Марти. — Мальчику нужно лишь получить благословение отца и кое-какие наставления, прежде чем он отправится в изгнание.
Форнольс велел им следовать за собой.
Проходя мимо караульного помещения, где дремали стражники, он велел одному из них отпереть дверь в тюремный коридор.
— Не стоит беспокоиться, эти люди со мной, — сказал он.
У Руфи отлегло от сердца. Она распахнула плащ, и теперь лишь капюшон прикрывал ее голову.
Все трое, пройдя по мрачному коридору, достигли дверей камеры. Форнольс отпер решетку, и, напомнив Марти, чтобы они не слишком задерживались, оставил их одних.
Барух, услышав шаги нескольких человек и догадавшись, что любимая дочь пришла с ним проститься, вскочил на ноги. Руфь бросилась ему навстречу, как в те далёкие времена, когда она, ещё совсем крошка, искала защиты в объятиях отца; теперь она сама крепко обняла его и горько разрыдалась.
Марти ждал в сторонке, памятуя о том, что это их последняя встреча, и после этого дня память о Барухе останется лишь неясным образом в сердце его дочери.
Они разжали объятия, но так и не отошли друг от друга, усевшись рядом на убогом ложе. Они сидели, не сводя глаз друг с друга, словно забыв о присутствии Марти. Наконец, Барух все же вернулся на грешную землю и произнёс:
— Ещё раз огромное спасибо, друг мой! Представляю, чего вам стоило исполнить мою просьбу! Я даже не знаю, как вас и благодарить за всё.
— Барух, вспомните, что среди заветов моего отца, сослуживших мне столь добрую службу, на первом месте стоял один: всегда держать слово. Я обещал вам, что приведу Руфь, и я это сделал.
Никто из них не осмеливался нарушить молчание, воцарившееся в этом скорбном и безрадостном месте. Руфь заплакала.
— Не печальтесь обо мне, друг мой, я счастливый человек, — произнёс наконец Барух. — Рок может настигнуть человека в любую минуту, если он навлечёт на себя гнев Яхве. Мне же посчастливилось заранее знать час своей кончины. Алилуйя!
Марти, поражённый силой духа, которую проявил меняла в эти роковые минуты, не смог сдержать восхищения.
— Я восхищаюсь вами больше, чем когда-либо прежде — если, конечно, такое возможно, — воскликнул он. — Немногие люди обладают такой выдержкой, какую проявили вы в эти ужасные минуты.
— У меня осталось ещё немного времени, и я хотел бы потратить его с толком, — ответил Барух. — Мы должны позаботиться о тех, кто остаётся в этом мире, а мне уже не так много и нужно. А сейчас, если вам не трудно, оставьте нас, я должен сказать Руфи несколько слов наедине.
Марти отошёл в дальний угол. Оттуда он мог слышать невнятный шёпот Баруха и горестный плач Руфи. Это продолжалось несколько минут.
— Марти, подойдите ближе, — позвал его Барух. — Я хотел бы вас попросить кое о чем еще.
Голос Марти прозвучал сурово и печально.
— Я сделаю всё, что вы пожелаете, друг мой. Что ещё вас тревожит?
— Ступайте в мой дом, куда Руфь уже не сможет вернуться. Там, на дверном косяке, под мезузой, висит ключ от двери сада. Сохраните его, дочь моя; однажды настанет день, когда моя честь будет восстановлена, и вы сможете вернуться. Тогда, Руфь, поезжайте за вашей матерью и привезите ее к ее семейному очагу, который она никогда не должна была покидать. Не таите ненависти в своём сердце; ненависть — ужасное зло, она иссушает душу. А теперь — опуститесь на колени, я дам вам своё благословение.
Когда Марти и Руфь вновь поднялись на ноги, в коридоре уже послышались шаги Жауме Форнольса.
103
Виселица
Виселица была установлена напротив ворот Регомир, поскольку они находились далеко от Каля. Кроме того, казнь назначили на субботу, то есть когда ни один еврей не выйдет за порог дома, а стало быть, никаких неожиданностей с их стороны не предвиделось. Приговор зачитали в присутствии графа по настоянию советника Берната Монкузи, весьма довольного тем, что неприятное дело с фальшивыми мараведи, из-за которых он оказался на волосок от гибели, так блестяще разрешилось в его пользу. Смотритель рынков и аукционов всегда умел воспользоваться случаем, чтобы из самой, казалось бы, безнадежной ситуации извлечь выгоду.
С самого рассвета на площади стали собираться мелкие торговцы, продающие сладости, жонглеры и трубадуры из дальних земель, и даже небольшой театр, на чьей сцене кривлялся актер, изображающий еврея, крадущего деньги у графа. Женщины в обносках торговали в толпе гнилыми фруктами и овощами, которые зрители могли бы бросать в актера. И всё это к большой радости собравшихся в ожидании главного представления.
Посреди эшафота возвышалось мрачное сооружение с перекладиной, с нее свешивалась пеньковая веревка со зловещей петлей на конце. Несколько плотников ещё трудились, приколачивая последние ступени деревянной лесенки, по которой осуждённому предстояло подняться на помост, а другие ремесленники хлопотали вокруг широкого чёрного помоста. Перед фасадом одного из домов напротив ворот была установлена ложа под балдахином, устеленная коврами и украшенная богатыми драпировками — для графской четы и особо важных гостей, присутствующих на казни.
С другой стороны располагалась трибуна пяти судей и епископа Барселоны. Шум нарастал. Вооруженные копьями стражники в кольчугах и ливреях красно-желтых цветов графского дома Барселоны, окружили эшафот и сдерживали напирающую толпу. Плотники ушли, на помосте остался только человек в капюшоне.
Ропот в толпе накатывал, подобно приливу, когда из-за угла показалась повозка — грубо сколоченная платформа на четырёх колёсах с большой клеткой. В ней сидел осужденный со связанными за спиной руками, всем своим видом напоминая огромную и зловещую птицу, в черных пеньковых сандалиях и мешке из рогожи с тремя прорезанными отверстиями, откуда торчали его лысея голова и иссохшие, словно прошлогодние лозы, руки. Зловещую повозку тянули четыре мула в окружении верховых стражников и пеших солдат, которые прокладывали в толпе дорогу. Возле помоста процессия остановилась, и помощники палача помогли меняле подняться на эшафот под ликующий свист и хохот толпы.
Закутанный в плащ Марти тоже пришел, посчитав своим долгом проводить старого друга в последний путь. Неожиданно ему показалось, что он заметил вдалеке, у самого эшафота, внушительную фигуру Эудальда Льобета. Барух тоже его заметил. Гримаса боли, которая, видимо, должна была изображать улыбку, искривила его губы. Но Эудальд, растолкав стражников и в два прыжка преодолев все пять ступеней, отделяющие Бенвениста от смерти, уже стоял рядом с осужденным.
— Что вы здесь делаете? — просил Барух. — Если вас узнают, вам не поздоровится.
— Плевать, — бросил Эудальд. — Совесть не даст мне покоя, если я покину моего друга в столь горький час. Этого не позволяет ни ваша вера, ни моя.
— Прошу вас, уходите! Вы же не хотите, чтобы я ещё больше страдал, глядя на вашу скорбь.
— Не настаивайте.
На трибуне, в окружении свиты, уже восседала графская чета.
— Разве это не ваш духовник? — спросил Рамон Беренгер у жены.
— Да, это он.
— А что он здесь делает?
— Полагаю, собирается спасти его душу от ада.
Глава конвоя, узнав Льобета, поинтересовался:
— Вы полагаете, вам здесь место?
— Мое место там, где прикажет графиня; если вы сомневаетесь, ступайте и спросите у неё сами.
Небо заволокло тучами, и мелкий дождик затянул окружающий пейзаж.
Палач набросил петлю на шею менялы; тот невольно вздрогнул, ощутив ее прикосновение. Офицер приказал всем посторонним освободить эшафот.
Эудальд наклонился к самому уху Баруха.
— Да хранит Метатрон [37] вашу нешаму [38] на ее пути к Эллохиму.
— Благодарю вас, Эудальд, что напутствуете меня в вере моих предков.
— Все мы придём к Богу, если дела наши праведны, — ответил священник.
Офицер крепко взял Эудальда за локоть, вынуждая спуститься с помоста.
— Прощайте, друг мой, до скорой встречи!
Посланник вручил клерку пергамент со стола судей, и тот посмотрел на главного судью. Магистрат кивнул Клерк вручил документ глашатаю и он зачитал приговор с эшафота. Торжественность момента подчеркнула барабанная дробь. Потом настала тишина. Главный судья поднялся и раскатистым голосом произнес жуткий приказ, обращаясь к палачу:
— Приговор привести в исполнение!
Палач выбил из-под ног Баруха скамейку. Его тело закачалось на веревке, как сломанная кукла. В эту минуту разверзлись небеса, и на Барселону обрушился ливень, словно оплакивая его безвременную кончину.
Так умер этот славный и достойный человек.
Часть шестая
Правда и предательство
104
Дуэль
Мертвое тело Бенвениста провисело в петле весь день. В воскресенье, во избежание недоразумений со стороны еврейской общины, его сняли с виселицы и передали семье покойного — во многом благодаря усилиям Эудальда Льобета, хлопотавшего об этом перед графиней. С этой минуты пошёл отчёт тридцатидневнего срока, по истечении которого, согласно приговору, вся семья и слуги покойного должны отправиться в изгнание.
На простой телеге, запряженной пегим першероном и управляемой Авимелехом, верным кучером Баруха, Эудальд Льобет, Марти, Елеазар Бенсахадон и Ашер Бен Баркала, казначей Каля, доставили его тело домой, спрятав в соломе. Меламед и Биньямин Хаим, муж Эстер, предпочли дожидаться возле дома, чтобы не компрометировать себя.
Эстер и Башева ждали в доме в окружении плакальщиц, воплями и рыданиями подкрепляющими скорбь семьи. Дочери подготовили саван для отца, а убитая горем Ривка едва могла стоять на ногах.
Скрежет колес по мостовой оповестил о том, что страшная минута настала. Все бросились к дверям черного хода, чтобы встретить тело своего мужа, отца и друга. Ривка была близка к обмороку, и дочери поддерживали ее под руки, чтобы она не упала. Эудальд, Марти, Елеазар и Ашер подняли носилки со скромным сосновым гробом и понесли их в спальню покойного. Там по просьбе Ривки Льобет и несколько стариков стали обмывать и одевать тело Баруха, чтобы на три дня выставить его для прощания перед погребением на кладбище Монжуик.
Когда все приготовления были закончены, семья по совету стариков решила назначить похороны на вторник, рабочий день, во избежание лишней сутолоки. В этот вечер в доме остались лишь члены семьи; в таком уединении им предстояло провести три дня накануне похорон.
Марти решил вернуться домой и заняться своими делами, которые пришлось забросить в связи с этим печальным событием, и теперь в спешном порядке требовалось решить некоторые вопросы, связанные с перевозкой и доставкой грузов.
В свете двух огромных фонарей у ворот его дома он разглядел Омара, стоявшего у входа вместе с двумя вооруженными слугами. Марти ничуть не удивился, поскольку после этой истории с фальшивыми мараведи атмосфера в городе чрезвычайно накалилась. Люди, которые прежде приветливо здоровались друг с другом, перекидываясь веселыми шутками, теперь спешили укрыться в своих домах, пугливо озираясь, не идет ли кто следом. Несмотря на то, что улицы теперь были освещены, резко увеличилось число грабежей, и городской страже оказалось не под силу выставить из города всех чужаков, скрывающихся в домах друзей и знакомых. Поговаривали, что подземелья тюрьмы Палау-Менор давно переполнены, и теперь всех пойманных преступников отправляют в бараки, наспех построенные за городскими стенами, а судьи только тем и заняты, что оглашают бесчисленные приговоры.
Омар бросился ему навстречу.
— Сеньор, не следует вам ходить по улицам в одиночку в такой поздний час, — заметил Омар. — У нас есть люди, которые могли бы вас сопровождать. Никто не говорит, что вы должны быть трусом, но храбрость не равна безрассудству. У вас слишком много врагов, ваше положение и богатство многим внушает зависть. И все они будут только рады, если с вами что-то случится.
Движением руки Марти остановил словоизлияния верного слуги.
— Хватит причитать как старуха, Омар. Лучше скажи, какие новости? Как Руфь?
— В кабинете вас дожидается капитан Жофре, — сообщил Омар. — Что же касается сеньоры, то она весь день не выходила из своей комнаты и даже не притронулась к еде, хотя донья Мариона приготовила ее любимые блюда.
— Даже в сад не выходила?
— Только на минутку на закате, вместе с Аишей, но я не слышал звуков арфы. А через дверь доносятся рыдания.
Они подошли к дверям. Двое мужчин почтительно поприветствовали Марти и направились своей дорогой, а на стене угадывались тени караульных.
Они пересекли конюшенный двор и начали подниматься по мраморной лестнице.
— В котором часу пришёл капитан Жофре? — спросил Марти.
— Его корабль бросил якорь в полдень. Кто-то уже успел сообщить ему о постигшем нас несчастье, и разгрузив корабль и перевезя груз с «Эулалии» на берег, он сразу бросился к вам, чтобы хоть немного утешить в горе и рассказать, как прошло плавание.
— Скажи ему, что я сейчас приду, — велел Марти. — Но сначала проведаю Руфь.
В просторном вестибюле на втором этаже они расстались. Прежде чем направиться к себе, Марти остановился перед комнатой девушки.
Он деликатно постучался, за дверью послышался шорох одежды, и он догадался, что Руфь поднялась с кровати и направилась к двери.
Через минуту послышался ее тихий голос, охрипший от слез.
— Спасибо, Омар, мне ничего не нужно.
— Это не Омар, это я, — откликнулся Марти. — Пожалуйста, откройте.
Негромко щелкнула задвижка, и дверь приоткрылась. Марти пришел в ужас при виде лица Руфи. Спутанная масса черных волос спадала на ее бледное, изможденное лицо, а в покрасневших от слез глазах застыло отчаяние.
— Вы позволите? — спросил он.
Девушка посторонилась, чтобы он мог войти.
Едва войдя в ее комнату, Макси почувствовал, какая боль, должно быть, поселилась в нежном и беззащитном сердце девушки. Он готов был отдать полжизни, чтобы взять в ладони ее лицо и покрыть его поцелуями, но увы! — это было единственное, чего он не мог сделать. На смятой постели еще сохранился след ее тела, а на столе стоял поднос с нетронутой едой, который Андреу Кодина принес для нее с кухни от Марионы, приготовившей для Руфи лучшие блюда.
— Руфь, так нельзя, — мягко произнёс Марти. — С позавчерашнего дня вы не проглотили не кусочка.
— Прошу вас, Марти, не заставляйте меня! Что бы я ни делала, все напоминает об отце.
— Не думаю, что ваш отец хотел бы, чтобы вы морили себя голодом. Так что все-таки поешьте.
— Когда похороны? — спросила она.
— В среду вечером.
— Я хочу быть там.
— Вы же знаете, насколько это опасно. Вы не должны...
— Я и сама знаю, что не могу вернуться в дом отца, поскольку это всех обесчестит. Но никто не мешает мне прийти на кладбище Монжуик.
— Я бы вам не советовал. Тем самым вы дадите повод врагам семьи Бенвенистов донести на вас.
— Там будут моя мама и сестры, — напомнила Руфь. — Я знаю, что их мужья считают меня опозоренной, но мне на это наплевать. Я хочу послать отцу последний поцелуй — пусть даже издалека, а если повезёт, то положить на крышку его гроба лепестки белых роз из сада, который он так любил.
Подавив глубокий вздох, Марти кивнул.
— Хорошо, пусть будет так. Я не могу отказать вам в просьбе, но вы должны отдохнуть и хоть что-нибудь съесть.
— Обещаю, что сделаю это, если вы дадите слово, что позволите мне пойти на похороны.
— Хорошо, даю слово. Но все будет так, как я скажу.
— Я согласна на все, лишь бы быть там.
— В таком случае, ешьте и отдыхайте, а я еще должен повидаться с капитаном Жофре: он как раз пришвартовал «Эулалию» к одному из «мертвяков» [39], принадлежащих нашей компании.
— Мне бы тоже хотелось повидаться с ним.
— Сегодня уже не получится, подождите до завтра, вам нужно отдохнуть.
— Спасибо вам за всё, Марти, — произнесла она. — Если вам не трудно, скажите Аише, чтобы она поднялась ко мне. Ее присутствие и ее музыка меня успокаивают.
— В таком случае, отдыхайте.
— Спокойной ночи.
Оставив Руфь наедине с ее горем, Марти спустился на второй этаж и направился в главную гостиную, где его ждал Жофре. Бывалый моряк, продубленный всеми морскими ветрами, стоял возле окна, глядя на улицу. Услышав за спиной шаги, он обернулся, и во множестве мелких морщинок, притащившихся в уголках его глаз, засветилась улыбка. Друзья крепко обнялись.
Выпустив друг друга из объятий, они стали рассказывать, что произошло с каждым за время разлуки.
— Осуждение Баруха представляется мне самым страшным из судейских преступлений, — произнес Жофре. — Да падет его кровь на всех, кто имел к этому приговору хоть какое-то отношение.
— И тогда мой друг Бернат Монкузи провалится прямиком в пекло, — печально ответил Марти.
— И как же ты намерен этого добиться? — спросил Жофре.
— Он был главным виновником этого злодеяния, а потому для меня дело чести — перекрыть источники его доходов.
— Открой глаза, Марти! Смерть стоит у тебя за спиной.
— Не беспокойся, я смогу за себя постоять.
— А как чувствует себя Руфь? — осведомился Жофре.
— Плачет дни напролет. Все никак не может примириться со смертью отца и прислушаться к голосу разума, не хочет признать, что ей теперь нельзя оставаться в Барселоне. А кроме того, ее родственники не желают иметь с ней дела. Но самое главное, она подвергает себя большой опасности.
— Жизнь — рискованная штука, сам знаешь.
— Разумеется, — ответил Марти. — Но одно дело, когда враги строят тебе козни; это я еще могу понять, в конце концов, у них есть для этого причины. Но у меня в голове не укладывается, когда людей травят и убивают без всякой вины, исключительно из-за происхождения или вероисповедания.
— Такое случается сплошь и рядом, друг мой. Думаю, это вообще свойственно человеческой природе. Если бы ты, христианин, жил среди мавров, к тебе относились бы точно так же. Когда похороны?
— Во вторник вечером на кладбище Монжуик, когда евреи заняты своими делами.
Между друзьями повисло скорбное молчание. Наконец, Марти решил рассказать ещё об одной проблеме, которая больше всего его беспокоила.
— Руфь хочет туда пойти.
— Видимо, ищет приключений на свою голову.
— Так или иначе, она хочет отправиться на похороны вместе со всеми. Можешь представить, как счастлива будет вся ее семья, а ещё больше — семьи зятьёв?
— Я так понимаю, ее присутствие должно остаться незамеченным.
— Разумеется, — согласился Марти.
— Тебе следует жениться на ней, чтобы ее оставили в покое.
Марти покачал головой.
— Это невозможно.
Последовала новая пауза.
— А ты знаешь, мне пришла в голову одна мысль, — произнёс Жофре, заговорщически подмигнув другу.
— Какая?
— Суди сам, Марти. Два дня мы будем перевозить амфоры с чёрным маслом из порта в пещеры.
— И что же?
— Одна из повозок отправится в путь нагружённой, а вернётся пустой.
— Не понимаю, куда ты клонишь.
— Я имею в виду, что в одной из повозок, крытых парусиной, может спрятаться Руфь. Возле кладбища повозка может отстать от остальных и встать в укромном месте. Оттуда Руфь сможет наблюдать за похоронами отца, оставаясь незамеченной. Когда церемония закончится, Ривку можно будет отвести к повозке, чтобы она могла побыть немного с Руфью. Так она сможет проститься с дочерью перед отъездом.
— Блестящая идея! Как это она мне самому в голову не пришла?
После этого они ещё немного поболтали. Уже перед самым уходом Жофре добавил:
— Кстати, Рашид аль-Малик сообщил, что на тебя уже работают больше сотни людей, которых он нанял для добычи чёрного масла из озера, и он хотел бы побывать в Барселоне, чтобы ещё раз поблагодарить тебя от своего имени и от имени своего брата за все то, что ты для них сделал.
105
Похороны
Траурная процессия вышла из Каля через ворота Кастельнау, пересекла мост Кагалель и направилась к горе Монжуик. Провожающих было немного, многие еврейские семьи предпочли отмежеваться от семьи Бенвенистов. Церковные колокола возвестили начало ноны, напоминая, что дорога и погребение не должны занять более четырёх часов, поскольку все евреи к известному часу должны вернуться в Каль. Вереница повозок направлялась к подножию горы, где останки покойного должны были предать земле. За погребальной колесницей с гробом шла его вдова с двумя замужними дочерьми, а также раввин, которому предстояло совершить похоронный обряд. За ними следовали мужья Эстер и Башевы, а также Елеазар Бенсахадон, Ашер Бен Баркала, Эудальд Льобет и Марти.
За родственниками покойного шли десять плакальщиц со спутанными гривами распущенных волос; с леденящим душу монотонным воем они рвали на себе одежду и царапали ногтями лица. Замыкали похоронную процессию несколько человек, бывших при жизни Баруха его настоящими друзьями. Траурный кортеж двигался очень медленно, часто и подолгу останавливаясь. Из-за множества повозок, что направлялись в сторону каменоломен, пешеходов и всадников, возвращающихся из увеселительных кварталов, путающихся под ногами нищих и стоящих вдоль городской стены телег со всевозможными товарами, продвигаться по дороге было не так-то просто. Из-за всей этой суеты траурный кортеж двигался крайне медленно и с большим трудом.
Так что вереница повозок, по большей части открытых, нагруженных амфорами, горлышки которых высовывались из тюков соломы, поравнявшаяся с траурной процессией, чтобы затем направиться в сторону пещер, где хранились запасы чёрного масла для городских нужд, не привлекла особого внимания. Наконец, кортеж достиг ворот еврейского кладбища.
Лишь чрезвычайно внимательный глаз мог заметить, что одна повозка с маслом, в отличие от прочих, крытая парусиной, отделилась от остальных и проехала на территорию кладбища через боковые ворота, где остановилась на почтительном расстоянии от вырытой могилы, в которой предстояло обрести покой останкам менялы. Погребальная церемония шла своим чередом, но время поджимало, и люди беспокоились, что не успеют должным образом совершить все обряды, а ведь им хотелось честь по чести отдать последний долг памяти трагически погибшему сородичу. Никто не обратил внимания на человека, который, привязав коня к кипарису и надвинув до ушей шляпу, сидел на одном из надгробий и делал вид, будто читает молитвенник.
После окончания церемонии Марти подошёл к скамье, где сидела вдова Баруха с двумя дочерьми.
— Сеньора, если вы пойдёте со мной, то сможете кое с кем увидеться, это хоть немного утешит вас в горе, — произнёс он.
Ривка устремила на него вопросительный взгляд.
— Ступайте, мама, — прошептала Башева.
Женщина послушно встала и проследовала за Марти к отставшей повозке. Марти помог ей забраться внутрь через задний борт.
Когда Ривка наконец поняла, что видит перед собой младшую дочь, она бросилась к ней в объятия в безмолвном порыве безграничной любви. Затем они устроились напротив друг друга на скамьях повозки.
— Дочка, я даже надеяться не смела, что после такого несчастья, постигшего нашу семью, Яхве окажется столь милосердным и позволит мне увидеться с тобой перед отъездом.
— Как и ко мне, позволив проводить любимого отца в последний путь.
— Что же теперь с тобой будет, доченька?
— Не печалься обо мне, мама, — ответила Руфь. — Я должна жить собственной жизнью.
— Ты ещё слишком молода, девочка моя, — вздохнула Ривка. — Для меня не было бы большего счастья, чем быть с тобой, но ты же знаешь: слово вдовы ничего не значит, а сама она — все равно, что пустое место. Даже собственная судьба мне не принадлежит; за меня все решили другие.
— Умоляю вас, мама, не волнуйтесь. Я знаю, что однажды все переменится, и мы снова будем вместе.
Легкий шорох парусиновой стенки дал понять, что Марти рядом.
В следующую секунду его голова показалась в просвете между холщовыми занавесками.
— Ривка, вам пора возвращаться к дочерям, — напомнил он. — Не беспокойтесь за Руфь: я буду заботиться о ней, как заботились бы вы сами. Ваш супруг доверил мне ее, и я не обману его доверия. При первой возможности я передам вам весточку.
Женщины вновь крепко обнялись. Ривка выбралась из повозки и обратилась к Марти:
— Позвольте поблагодарить вас от имени Баруха. Я всегда знала, что вы — самый лучший наш друг, а теперь убедилась, что вы даже ещё лучше, чем я думала.
Когда женщина удалилась, с козел послышался голос Жофре:
— Ну, что, Марти, возвращаемся?
— Да, возвращайся, только не суйся на конюшню. Отведи повозку во двор дома и запри ворота; высади Руфь, а потом отведи повозку на верфь.
— Не волнуйся, все будет сделано в лучшем виде, — пообещал Жофре.
Не успела повозка сдвинуться с места, как из-за парусины послышался голос Руфи.
— Марти, неужели вы мне не позволите отдать последний долг памяти отца?
С этими словами из-за занавески высунулась ее белая ручка и высыпала Марти в ладонь полную пригоршню розовых лепестков.
106
Планы мести
Маленьким графам исполнилось уже почти пять лет. Ни одному незнакомцу не пришло бы в голову назвать их братьями. Скорее они напоминали аверс и реверс одной монеты. Рамон был миловидным, высоким и белокурым, с открытым и дружелюбным характером; Беренгер же, напротив, имел приземистую фигуру и желтоватый цвет лица, характером обладал замкнутым и неуживчивым, а кроме того, был подвержен внезапным вспышкам ярости. Альмодис делала все, чтобы их сблизить, и следила, чтобы они все время играли вместе.
В это утро Беренгер настолько разбушевался, что вывел из терпения собственную мать. Набросившись на Рамона, он пытался отнять у него игрушку; возмущенный крик Рамона звенел у нее в ушах, отвлекая от чтения маленького часослова, подаренного Эудальдом Льобетом.
— Сеньора, Беренгер мешает мне играть! — заныл мальчик.
Оставив книгу на атласной подушке, лежавшей рядом, Альмодис решила в очередной раз выступить в роли третейского судьи. Беренгер, увидев, что мать вот-вот вмешается, моментально сломал игрушку, из-за которой разгорелся спор.
— Ай, как нехорошо, Беренгер, — укорила она. — Рыцарь должен уметь делиться с товарищами.
— Ты всегда его защищаешь! — надулся малыш.
Альмодис немного смягчилась.
— Поиграйте лучше в другую игру, — предложила она. — Скажем, в прятки с Дельфином?
Братья любили играть с карликом, ценили его остроумие и предприимчивость, и в эти минуты ненадолго забывали о неприязни друг к другу. Мать прилагала все усилия, чтобы их помирить; вот и сейчас она решила объединить их общей игрой, а их противником сделала своего шута.
Дельфин, который, несмотря на лечение графского врача, все еще прихрамывал после злосчастного пинка Педро Рамона, попытался уклониться от этого развлечения. Ему совсем не хотелось блуждать по дворцу и прятаться по закоулкам, развлекая братцев в новой игре.
— Сеньора, простите, но мои бедные кости этого просто не вынесут, — взмолился он. — Хребет так ломит, что едва ли я смогу долго просидеть в убежище. А кроме того, эти шкодники знают все закоулки во дворце.
— Дельфин, считай это моим приказом.
— Ну, если таково ваше желание, то я согласен. Только дайте мне хоть немного времени, чтобы я успел спрятаться. Дождитесь, когда пропоют «Ангелус», и тогда уже выпускайте ваших гончих. А то я просто не знаю, куда пристроить мои бедные кости.
— Ну что ж, у каждого будет достаточный стимул, — решила графиня. — Если дети не смогут тебя найти, ты получишь в награду манкусо; если же они тебя найдут, приз достанется им. А времени у тебя будет достаточно: детям уже пора обедать. Когда пропоют «Ангелус», они как раз закончат.
Мальчики моментально оживились.
— Готовься, Дельфин, охота началась!
Бернат Монкузи назначил встречу со своим осведомителем в полдень в графском дворце, поскольку с утра ему пришлось присутствовать на созванной Рамоном Беренгером заседании курии комитис, в котором должны были принять участие все его вассалы; но зато у него было достаточно времени, чтобы все хорошенько обдумать.
Когда Люсиано Сантангел прибыл во дворец по вызову казначея, его тут же проводили в зал трофеев и оружия, где они могли спокойно поговорить. Зал располагался в западном крыле замка и обычно пустовал.
Привратник, проводивший его до дверей, сообщил, что почтенный Бернат Монкузи сейчас придет, поскольку совещание было приостановлено несколько минут назад, теперь всем приглашенным как раз подали легкие закуски. Альбинос, повидавший на своем веку немало замков и дворцов Септимании, вынужден был признать, что замок графов Барселонских своим великолепием и роскошью значительно превосходит все прочие замки, виденные доныне, как Пиренейский полуостров превосходит всех своих северных соседей.
Зал имел вытянутую форму и был уставлен доспехами — как боевыми, так и турнирными, принадлежавшими многим поколениям предков Беренгеров. Стены украшали оружие и картины, щиты и алебарды различных эпох, но больше всего было всевозможных кольчужных доспехов, перчаток и железных нагрудников. Свет проникал в зал через шесть узких окон, между ними в симметричном порядке стояли доспехи: четыре полных комплекта и две кирасы, увенчанные остроконечными шлемами с опущенными забралами, на возвышениях, задрапированных дорогими тканями.
Ждать пришлось недолго. Дверь распахнулась, и в зал, словно торнадо, ворвался графский советник, задыхаясь после быстрого шага и отирая платком пот со лба. Закрыв за собой дверь, он начал извиняться перед альбиносом.
— Ах, простите, дорогой друг, это граф меня задержал. Возникли неотложные дела в совете. Нет, вы не думайте, для меня нет ничего важнее, чем ваши сведения, но я не могу пренебречь своими обязанностями.
— Я к вашим услугам, и не сомневаюсь, что время, потраченное на ожидание, будет хорошо оплачено, — ответил альбинос. — Так что не стоит извиняться, ваша милость.
Монкузи, не теряя времени, потащил его к скамье, возле которой стояли доспехи.
Люсиано сел на скамью и начал разговор.
— Чудесное место. Жаль, что простой народ не может видеть всех этих чудес.
— Да, в этих стенах вершится история графства, — ответил советник. — Но не переживайте за чернь. Разумеется, эта красота ей недоступна, но ей просто нет до нее никакого дела. Поговорите с этим людом, и вы убедитесь — им нужно только пожрать да совокупляться, больше их ничего не интересует. А теперь перейдем к нашим делам, а то у меня не так много времени.
Сантангел открыл ящичек, который всегда держал при себе, и вынул оттуда заметки.
— Вот что нам удалось разузнать. Итак, начнём по порядку. Во-первых, неподалёку от Жироны у нашего героя есть поместье, которым управляет его мать. Должен сказать, это очень заботливо ухоженные земли, площадью в двенадцать или тринадцать фейш и несколько мундин; этой землёй владели то ли десять, то ли двенадцать поколений его предков. Поля превосходно возделаны, а урожай с них продают на рынках и ярмарках в соседних деревнях. Там есть амбары, конюшни и загоны для скота. Наш друг имеет привычку время от времени навещать свою мать, но сама она никогда не бывает в Барселоне. Теперь, что касается его дел. Должен сказать, я весьма удивлён. Он владеет целым флотом; у него больше двадцати кораблей, а также пять верфей в Барселоне, Бланесе и Сан-Фелиу. Флотом командуют три капитана: двое — друзья его детства, Жофре Эрменьоль и Рафаэль Мунт, которого все называют Феле; а третий — грек Базилис Манипулос, он уже не ходит в море, а лишь надзирает за делами. Правда, я ещё не выяснил, какие дела связывают его с евреями из Каля, однако, сумел узнать, что помимо интересующих вас товаров, он перевозит весьма любопытные грузы, и среди прочего — мирру из Пелендри, которую доставляет в Кордову и Гранаду, поскольку у мусульман духи пользуются гораздо большим спросом, чем у христиан, а мирра лежит в основе их изготовления. В Барселону он не привозит никаких грузов за исключением чёрного масла, но здесь к нему не подберешься: масло он продает непосредственно самому вегеру, чтобы не зависеть от вас.
Монкузи беспокойно заёрзал на скамье.
— Продолжайте, — велел он.
— Теперь что касается его отношений с евреями, — продолжал Сантангел. — Помня о недавних барселонских событиях и казни в прошлую субботу, я решил побывать на похоронах даяна. Я взял напрокат лошадей для себя и троих моих ребят, и кое-что привлекло наше внимание. Разумеется, первым делом мы расположились таким образом, чтобы всегда видеть церемонию. Монжуик, как вы знаете, место весьма оживленное, там сходятся множество самых разных дорог, трудовых и беспутных. Одни из них ведут в веселые кварталы по ту сторону Кагалеля, куда молодцы отправляются развеять тоску или обмыть удачу; другими пользуются рабочие из карьеров, кузнецы, служащие обоих кладбищ — еврейского и христианского, но больше всего нас заинтересовали вереницы повозок, запряженных мулами, что доставляют черное масло с кораблей в пещеры, где у нашего друга оборудован склад, а оттуда — уже в город, когда вегер закажет новую партию. Похоронная процессия в сопровождении должников и друзей вышла из ворот Кастельнау. Вскоре ее нагнал караван повозок с тюками соломы, из которой торчали горлышки амфор, выехавший из ворот Регомир. Мое внимание привлекла одна из повозок, затянутая парусиной, так что невозможно увидеть, что делается внутри. Евреи добрались до кладбища и начали свои заунывные песнопения, которыми они провожают покойников. Я спрятался за надгробием и стал ждать. Вскоре я заметил, что крытая парусиной повозка отстала от остальных, замедлив ход возле маленькой рощи. Тогда я понял, что она тоже направляется на кладбище, только через боковые ворота, которыми почти не пользуются. Когда похоронный ритуал завершился и смолкли все молитвы и песнопения, я уже собрался уходить, когда вдруг заметил, что вдова покойного встала и в сопровождении нашего друга направилась к той повозке. Он помог вдове забраться внутрь, где она оставалась довольно долго. Надо сказать, что на похоронах были две дочери повешенного вместе с мужьями, но третьей его дочери нигде не было видно. Когда женщина вышла из повозки, я увидел, как изнутри высунулась женская рука и протянула нашему другу пригоршню розовых лепестков, которые он высыпал на свежую могилу. После этого повозка направилась в город и въехала во двор дома Барбани, за ней тут же закрыли ворота. Весь следующий день я наблюдал за домом Барбани, обосновавшись на близлежащей голубятне. Там я провёл весь день в обществе милейших птичек, весь измазался в их помёте и перьях, но все же увидел некую женщину, подозрительно похожую на еврейку и одетую в еврейское платье. Она прогуливалась в саду Барбани среди фруктовых деревьев в сопровождении другой женщины, немой и явно слепой.
При этих словах казначей заметно побледнел.
— Если то, что вы мне рассказали, правда, этот глупец у нас в руках, — произнёс Монкузи. — Судя по всему, он посмел нарушить приказ графа.
— На вашем месте я бы не стал так спешить, сеньор. До той минуты, когда приговор вступит в силу, остается еще две недели, и до субботы следующей недели она еще имеет право находиться в городе. А поскольку еврейка не показывается на улицах в неурочный час, то до истечения назначенного срока нет никаких оснований обвинять ее в нарушении закона. И неважно, ночует она при этом в пределах Каля или за его стенами. Что же касается ее чести, то нас это тоже не касается; это дело евреев, и только они могут ее за это судить. Вот если бы наш друг оставался в Кале с наступлением темноты, тогда он действительно бы нарушил закон. Но не извольте беспокоиться: уже скоро приговор вступит в силу, и если Барбани к тому времени не убедит девчонку покинуть город, он окажется в наших руках как соучастник и укрыватель преступников.
На губах Берната Монкузи проступила зловещая улыбка.
— Я дождусь своего часа, — произнес он. — Буду ждать, как орел, что следит с высоты, когда от стада отобьется какой-нибудь глупый ягненок. Если мы сможем его поймать, вы получите двойное вознаграждение.
— Я всегда к вашим услугам.
— А сейчас, к величайшему сожалению, я вынужден прервать столь интересную беседу, поскольку меня призывает долг.
С этими словами советник поднялся и направился к выходу, альбинос последовал за ним. У самых дверей советник заметил:
— Полагаю, что следующее ваше задание будет связано с полями Барбани в Эмпорионе. Вам никто не говорил, что лесные пожары делают почву плодороднее?
— Да, я слышал об этом.
— В таком случае, можете не сомневаться, следующий урожай будет хорош. Завтра вечером приходите ко мне, дворецкий выдаст вам все необходимое. А пока, друг мой, нам пора прощаться. Ни к чему, чтобы нас видели вместе, так что подождите немного, и тогда уже выходите.
Едва они удалились, как забрало шлема, венчавшего пустые доспехи, приподнялось, и оттуда выглянуло искаженное страхом лицо Дельфина. С трудом выбравшись из доспехов, он долго разминал онемевшее тело, пока кровь снова не побежала по венам. Ему никак не удавалось унять дрожь в коротеньких ножках, которым пришлось так долго провести в согнутом положении, что теперь они никак не желали выпрямляться.
107
Ловушка
Никогда прежде Эудальд не позволял себе врываться в особняк Марти без предупреждения, да еще и в столь неурочное время, когда ему уже давно следовало совершать вечерние молитвы. Дворецкий Андреу Кодина, следуя приказу хозяина, немедленно открыл дверь, и каноник широкими шагами двинулся через огромный вестибюль.
— Что случилось, падре Льобет?
— Много чего случилось, и притом ничего хорошего. Где сеньор?
— Дон Марти у себя в кабинете.
— Я должен немедленно его видеть!
— Пойдёмте лучше в гостиную на втором этаже, там удобнее.
Священник проследовал за дворецким по хорошо знакомым коридорам. Он уселся в гостиной, дожидаясь прихода своего друга.
Вскоре появился и Марти с написанной на лице тревогой.
— Что случилось, Эудальд? — спросил Марти. — Какое неотложное дело заставило вас примчаться в мой дом в столь поздний час?
— Вы верно заметили, дело весьма серьезно... Давайте лучше сядем, разговор предстоит долгий. Хотя я, конечно, постараюсь изложить все по возможности кратко.
Хозяин и гость устроились возле потухшего камина. Марти, не находя себе места от беспокойства, сел на край мавританского сундука.
— Я вас слушаю, Эудальд. Говорите скорее, я сижу, как на раскаленных углях.
— На углях вы окажетесь, когда узнаете, что произошло.
— Тем более не стоит тянуть.
— Хорошо, тогда я начну с самого начала.
Марти весь превратился в слух.
— Как вам хорошо известно, жизнью правят случайности, в которых я всегда усматривал волю Провидения. И сегодня вечером я имел возможность наблюдать пример такой случайности.
— Прошу вас, переходите к сути.
— Итак, сегодня после обеда я отправился во дворец на встречу с графиней. Вы же знаете, она капризна и непредсказуема; если что-то взбрело ей в голову, все вокруг должны на уши встать, лишь бы исполнить ее каприз.
Марти молча кивнул.
— После нашей беседы, содержание которой никакого отношения к вам не имеет, меня задержал Дельфин, ее шут, а он, насколько я могу судить, намного больше, чем просто шут. Когда-нибудь наше графство скажет спасибо слугам, которые скромно и незаметно трудятся на его благо порой успешнее, чем иные правители. То ли благодаря своим крошечным размером, то ли пронырливости, но этот малыш — самый осведомлённый человек при дворе. Он затащил меня в каморку, смежную с кабинетом Альмодис, и рассказал весьма занимательную историю.
Марти приготовился внимательно слушать историю, которую собирался рассказать его друг и покровитель.
— Сегодня утром по приказу графини он играл в прятки с маленькими графами и притаился внутри доспехов — из тех, что украшают трофейный зад дворца. Там ему пришлось дожидаться, пока дети его найдут. К тому же за эту игру графиня обещала ему награду в виде золотой монеты. В доспехах ему было очень неудобно, и он уже готов был оттуда вылезти, когда в зал неожиданно вошел человек, обладавший, судя по тому, как Дельфин его описал, весьма приметной внешностью. У него были очень светлые волосы и бледно-голубые, почти бесцветные глаза. Карлик утверждает, что никогда не видел этого человека во дворце. Вслед за ним в зале появился смотритель аукционов. Оба сели на скамью рядом с доспехами, так что карлику был хорошо слышен разговор, содержание которого я и собираюсь вам передать.
После этого архидьякон подробно изложил своему другу содержание разговора советника с его осведомителем.
— Но, к сожалению, Дельфин не слышал конца разговора, поскольку они встали и ушли в дальний конец зала, откуда шут не мог ничего расслышать. Но вы хоть понимаете, чем вам это грозит?
Марти немедленно понял, с каким осложнениями ему придется столкнуться из-за осведомленности его врага.
— Конечно.
— Единственное ваше преимущество — он не знает, что вам это уже известно.
— Меня самого это не страшит, хоть я и понимаю, насколько это серьезный враг. Но мне страшно за Руфь.
— Именно ради нее я так торопился, — признался Эудальд.
— Нужно подумать, как мы можем защититься.
— Я как раз и собирался это сделать.
— И что же вы посоветуете?
— Начнём по порядку. Пока ещё Руфь имеет право находиться в городе, до назначенного срока почти две недели. У нас есть целых четырнадцать дней, чтобы решить эту проблему. После того как приговор вступит в силу, у неё останется два пути. Вы меня понимаете?
— Прекрасно понимаю, продолжайте.
— Первый: отправиться в изгнание вместе с матерью.
— Об этом можно забыть, семьи сестёр отказались ее принять, да и сама она тоже не хочет уезжать.
— А со вторым путём все обстоит несколько сложнее, — слегка замялся каноник.
— Продолжайте, раз уж начали.
— Если Руфь примет нашу веру, пусть даже формально, и выйдет замуж за христианина, то она станет членом семьи своего супруга, а это значит, что приговор больше не будет иметь к ней отношения.
Марти мгновенно понял, что имеет в виду Льобет.
— Клятва, данная мною Баруху, делает ваше предложение неосуществимым.
— Вовсе нет, если я освобожу вас от этой клятвы, чтобы избежать худших последствий. Моя первейшая обязанность — спасти Руфь, а ваша клятва может этому помешать. Если вы откажетесь, бедной девочке придётся отправиться в изгнание или оказаться в тюрьме.
— А как же ваша щепетильная совесть? Как она переживет, если вам придется нарушить закон и поступиться принципами?
— Ну что ж, я готов пойти против них, — ответил Эудальд. — Если она согласится на фиктивное обращение, то ради спасения ее жизни я приму участие в этой комедии и окрещу ее, а дальше все зависит от вас. Если оставить все как есть, вы оба скоро окажетесь в большой опасности.
— И каков же ваш план?
— Вы должны жениться на ней, причём до того, как приговор вступит в силу. Как только она станет вашей супругой, приказ об изгнании перестанет ее касаться. Вы же знаете наши законы. Еврейка, принявшая христианство и вышедшая замуж за христианина, становится христианкой и никакой закон, ни приказ, ни приговор в отношении евреев ее больше не касается. Но есть одно условие.
— Какое?
— По еврейским законам брак не считается состоявшимся, если он не получил фактического завершения. Поэтому вы не должны делить с ней ложе. Таким образом, с точки зрения обеих религий, никаких нарушений не будет, и клятва, которую вы дали Баруху, останется в силе. А потом, когда буря утихнет, вы сможете развестись под тем предлогом, что она отказалась исполнять супружеский долг. Таким образом, вы оба обретете свободу.
Марти ненадолго задумался.
— С моей стороны никаких возражений нет, Эудальд. Но мы должны обсудить это с ней.
— Не беспокойтесь, я поговорю с Руфью. Так вы согласны?
— Разумеется.
— В таком случае, я освобождаю вас от клятвы и прошу позволить Руфи, несмотря на формальное крещение, продолжать исполнять обряды ее веры в вашем доме. Пока будет достаточно и этого. А дальше — как Бог решит...
В тот же вечер Льобет встретился с девушкой на галерее второго этажа, куда выходили двери спален. После смерти отца Руфь заметно похудела. В белом платье, она казалась похожей на привидение. Эудальд ждал ее, устроившись в лёгком кресле. Хотя совесть священника и шептала ему, что он не вправе брать на себя такую ответственность, он не сомневался в правильности своего поступка, поскольку считал, что первейший долг христианина — любовь к ближнему, и он готов был поступиться своей религиозной совестью, если это единственный способ спасти тех, кто попал в беду. Полная луна, окружённая сиянием, молча смотрела на них, словно немой свидетель встречи, которой предстояло навсегда изменить жизнь двух человек.
Руфь подняла взгляд и спросила немного охрипшим от слез голосом:
— Вы хотели меня видеть?
— Да, Руфь. Сядь рядом и выслушай меня.
Священник, знавший ее ещё с тех времён, когда она совсем малышкой играла в саду, путаясь под ногами у отца, всегда обращался к ней на «ты».
— Ты неважно выглядишь, Руфь, — заметил он. — Твой отец огорчился бы, увидев тебя такой.
— Мой отец, Дон Эудальд, уже не может ни увидеть меня, ни услышать.
— Но он исполнил свое предназначение, изъявив свою последнюю волю, поскольку считал это своим долгом; точно так же и ты должна исполнить его последнее желание.
— Ничего не могу поделать, я всегда вспоминаю о нем. Я бы полжизни отдала, лишь бы поговорить с ним ещё хоть разочек. Я была ему плохой дочерью, падре; да, он меня простил, но я-то знаю, что совсем не ценила его любви.
— Веришь ты в это или не веришь, но он уже две недели смотрит на тебя с небес, — ответил Эудальд. — И если ты не хочешь его огорчать, то должна исполнить его последнюю волю. А кроме того, должна сделать кое-что ещё, чтобы защитить Марти.
При звуке этого имени что-то, казалось, щелкнуло у нее в голове, и в глазах, прежде пустых, мелькнул интерес.
— Я вас слушаю, — произнесла она.
— Прежде всего, Марти хочет забрать ключ от вашего дома, как просил твой отец. — Священник глубоко вздохнул, прежде чем продолжить. — Видишь ли Руфь, все слишком запуталось. С одной стороны, мы должны спасти твою жизнь; с другой стороны, Марти не даёт покоя его клятва, которую он дал твоему отцу.
— Я вас не понимаю.
В конце концов Эудальд подробно пересказал все, что услышал от Дельфина, об опасности, повисшей у них над головами, и об их с Марти решении.
Руфь ответила с горячей убежденностью, какой архидьякон никогда не замечал в ней прежде.
— Видите ли, падре Льобе. Марти вам не рассказывал, что отец перед смертью говорил со мной наедине? Я никогда не забуду его последние слова. Так вот, он сказал, что я вправе сама решать, как поступить, поскольку в глубине души всегда знал, что я поступлю по совести. И он взял с меня слово: что бы ни случилось, принять решение должна я сама. — Руфь ненадолго замолчала, и глаза ее наполнились слезами. — И теперь я хочу сказать вам о том, что вы и так давно уже знаете в глубине души. С тех пор как я впервые увидела Марти, любовь к нему стала единственным смыслом моей жизни, я засыпала и просыпалась с его именем на устах, был ли он далеко или близко. Я понимала, что мне не на что надеяться, вряд ли он обратит внимание на девочку, какой я тогда была, но я ничего не могла поделать. Марти — моя жизнь, мое счастье, единственный смысл моего существования. И вы предлагаете мне стать его женой перед всем светом, осуществить мою заветную мечту... Поверьте, я согласилась бы, не раздумывая... при других обстоятельствах...
— Что ты хочешь этим сказать?
Прекрасное лицо Руфи выражало безмятежное спокойствие, но в голосе прозвучала решимость.
— Я не смогу жить, если пойду против совести. Если Марти любит меня и действительно хочет жениться, я стану самой счастливой женщиной на свете. Но я никогда не соглашусь на фиктивный брак, даже если мне придётся расстаться с ним. А кроме того, я не хочу подвергать его опасности, вынуждая нарушать закон, пряча в своём доме изгнанницу, которой я стану через несколько дней...
— Руфь, подумай как следует...
— Здесь не о чем думать, падре. Таково мое решение. Но прошу вас о последней милости. Мои сородичи не хотят меня знать, и я не желаю быть обузой ни для сестёр, ни для кого-либо ещё. Меня ничто больше не связывает с верой народа, который меня отверг: такова правда, и я знаю, что отец меня бы понял. Умоляю, окрестите меня.
И падре Льобет, до глубины души тронутый мужеством девушки, согласился.
В этот вечер, незадолго до того, как Марти, покончив с делами, вернулся домой, исхудавшая Руфь, одетая во все чёрное, в сопровождении священника покинула дом на площади, неподалёку от церкви святого Михаила.
Марти надеялся застать дома священника, чтобы тот рассказал ему, смог ли договориться с Руфью. Вместо этого его встретил расстроенный Омар, сообщив, что Руфь ушла, хотя священник и заверил, что беспокоиться о ней не нужно и что вечером он все объяснит. Марти еще не успел оправиться от удивления, когда голос Андреу Кодины внезапно прервал его раздумья.
— Сеньор, прибыл гонец из Эмпуриона, ещё не спешившись, он сообщил нам нечто ужасное.
— И что он сказал? Андреу, ради Бога, не тяните!
— Сеньор, случился страшный пожар. Сгорели ваши поля и ваш дом в Жироне. Матеу погиб, а ваша мать получила тяжёлые ожоги и теперь при смерти.
108
Прощание
Они скакали день и ночь, меняя по дороге загнанных лошадей на свежих; в имение Барбани они прибыли к вечеру следующего дня. Марти скакал впереди, за ним — Льобет и Жофре. Запах дыма и выжженной земли оповестил их о случившемся задолго до того, как с вершины холма их глазам предстала ужасная картина недавнего бедствия. Все постройки сгорели дотла — конюшни, амбары, мастерские, свинарники и, что хуже всего, сам дом. Окрестные леса еще догорали, а вдалеке виднелось единственное строение, чудом уцелевшее в огне. С силой вонзив шпоры в бока лошади, Марти бросился в сторону дома. При его появлении залаяла собака. Почти на скаку Марти спрыгнул с седла, бросился к дому, отчаянно заколотил кулаками в дверь. Почти сразу же приоткрылось дверное окошко, и в нем показались испуганные глаза одного из его арендаторов, с подозрением взглянувшие на Марти. Наконец, стук отпираемой щеколды оповестил о том, что его узнали.
— Где моя матушка, Манель? — нетерпеливо спросил Марти.
— Наверху, сеньор, в нашей спальне. Мы с женой и детьми устроили ее о очага.
В два прыжка Марти взлетел по лестнице на второй этаж и распахнул дверь единственной комнаты. Внутри на скромной кровати лежала женщина, которую он сперва даже не узнал. Cедые волосы рассыпались по одеялу; она с трудом дышала, сражаясь за каждый глоток воздуха.
Все столпились у входа. Марти опустился на колени у постели больной, взял в ладони ее руку, свисавшую вниз, и прошептал:
— Что с вами сделали, мама? Что с вами сделали?
Женщина повернула голову и подняла веки, рассеянно глядя на сына.
Марти показалось, что ее пересохшие губы озарила легкая улыбка.
— Я знала, что ты придёшь, Марти, — прошептала она. — Теперь я могу спокойно умереть.
— Здесь никто не умрет, мама.
Последовала долгая пауза; в наступившей тишине было слышно лишь хриплое дыхание женщины.
Легкое пожатие руки дало Марти понять, что мать сейчас заговорит.
— Их было шестеро или семеро, все в плащах с капюшонами... Они явились глубокой ночью — верхом, с факелами в руках... Двое разлили какую-то жидкость, а остальные ее подожгли... Это был адский огонь, как будто Сатана явился из пекла... Мы не могли его погасить, как ни пытались заливать водой и сбивать ветками... Это было ужасно... Крыша конюшни обрушилась прямо на бедного Матеу, который пытался вывести лошадей и мулов...
Приступ кашля оборвал рассказ.
— Мама, быть может, вы запомнили кого-то из них в лицо? — спросил Марти. — Вы можете его описать?
— Глаза... Глаза главаря, Марти... у него с головы упал капюшон, и я их увидела... Они были похожи на бельма... бледно-голубые, почти бесцветные... и волосы — почти белые, светлее соломы... а лицо щербатое, как после оспы... Но не стоит больше об этом, сынок... Лучше пошли за священником: я хочу исповедаться, прежде чем предстану перед Господом, я не хочу задерживаться...
Услышав эти слова, падре Льобет, стоявший в дверном проеме, приблизился к ложу умирающей и жестом велел всем удалиться. Марти поднялся и отошел в сторону. Священник сел на край постели умирающей и взял ее за руку. По тому, как изменилось ее лицо, он понял, что женщина, несмотря на минувшие годы, узнала его.
— Вот видите, Эмма, — сказал он, — Господу было угодно, чтобы наши дороги снова пересеклись.
— Спасибо за то, что вы столько лет заботитесь о моем сыне...
— За это вы должны благодарить вашего покойного мужа. Я всего лишь исполнял свой долг перед ним.
— Надеюсь, мы с ним скоро встретимся, если, конечно, он не попал в ад, — прошептала Эмма.
— Он не мог туда попасть, — покачал головой Эудальд. — Там никого нет. Ад существует, но он пуст; Господь любит своих детей и не допустит гибели даже самой заблудшей из своих овец.
Дыхание женщины становилось все более прерывистым.
— Даю вам отпущение именем Господа, — произнес священник.
— Но я еще не исповедовалась.
— У вас нет грехов.
— Есть, падре. Ненависть.
— А у кого ее нет, дочь моя?
Женщина испустила очередной мучительный вздох.
Эмма закрыла глаза, пока Эудальд исполнил последний обряд.
Марти, сидящий с другой стороны постели, взял в ладони ее правую руку.
На миг взгляд матери остановился на сына.
— Как бы мне хотелось пожить ещё немного, чтобы увидеть рядом с тобой женщину, которая подарит мне внуков, — призналась она.
Именно в эту минуту Марти вдруг понял, что на свете есть лишь одна женщина, от которой он хотел бы иметь детей. Но Руфь, как объяснил ему по дороге священник, отказалась от его предложения фиктивного брака и предпочла покинуть его кров, чтобы не подвергать Марти опасности.
— Благослови тебя Бог, — прошептала умирающая, и глаза ее закрылись, чтобы больше никогда не открыться. Она испустила последний вздох, и безмятежная улыбка застыла на ее лице.
Марти поднялся на ноги; увидев выражение его лица, Эудальд не на шутку испугался.
— Клянусь Богом, тот, кто это сделал, заплатит сполна! — воскликнул Марти.
Эудальд взглянул на него с каким-то странным выражением, словно внутри у него боролись между собой священник и воин.
— Это, нехорошо, Марти, — произнёс он, — жить, съедаемым ненавистью. Месть неугодна Богу.
— Это не месть, Эудальд. Это справедливость. Даже в Библии сказано: «Око за око, зуб за зуб».
В эту минуту у него за спиной раздался голос Жофре.
— Падре Льобет прав. У нас, моряков, есть присказка: «Есть моряки живые и мертвые, мудрые и бесстрашные. Вот только нет бесстрашных и живых». Мертвецов нужно хоронить, Марти. Твоя мать уже встретилась с твоим отцом, пусть покоится с миром.
На следующий день после похорон Эммы и старого Матеу на кладбище возле церкви Кастельо в Эмпурионе, Марти решил посмотреть, что осталось от его имущества. Среди развалин сгоревшей конюшни он обнаружил черепки разбитой амфоры, из тех, в которых перевозили чёрное масло. На одном из черепков стояла дата и его собственный торговый знак.
— Смотрите, Эудальд, — окликнул он священника. — Вот вам и доказательство, чьих это рук дело. Во всем мире существуют лишь два человека, у которых есть подобные амфоры: я и... кое-кто другой. Если вы мне друг, постарайтесь устроить встречу с графиней, когда я вернусь в Барселону; я собираюсь открыть жителям графства глаза на злодейства советника и представить эти осколки как доказательство его преступлений.
— Я сделаю все, о чем вы просите, но повторяю, он опасный противник.
— Если я не сделаю этого ради моей матери, ради Лайи, ради Баруха, я не вправе буду называться мужчиной. Вы мне сказали, что уважаете решение Руфи, потому что у неё своя правда. Так вот, у меня тоже есть своя правда.
— Что ж, поступайте, как знаете.
Марти, пригласив нотариуса, разделил земли своей матери между теми людьми, что на протяжении многих лет делили с ней жизнь, а затем вернулся в Барселону. В сердце его поселились два чувства: любовь к Руфи, в которой он больше не сомневался и решил, что во что бы то ни стало женится на ней; и ненависть к человеку, причинившему ему столько зла: к Бернату Монкузи.
109
Лицензия
В приемной их никто не ждал. Духовник всемогущей Альмодис сообщил стражнику у дверей, что привел посетителя. Марти никак не мог справиться с нервной дрожью, пробежавшей по спине и охватившей все тело. Эта дрожь охватывала его всякий раз, как он встречался с графиней.
Вскоре боковая дверь приоткрылась, и в дверном проеме показалась внушительная фигура каноника.
— Можете войти, — произнёс он. — Графиня ждёт вас.
Марти поднялся и, взяв со скамьи плащ, последовал за своим покровителем. Пока они шли по узкому коридору в кабинет Альмодис, Эудальд давал ему последние наставления.
— Помните: вы должны говорить по возможности кратко и по существу. Не касайтесь в разговоре каких-либо действий графини, а когда она вас спросит, отвечайте прямо. И разумеется, независимо от того, скажет ли она «да» или «нет», вы ни в коем случае не должны настаивать. И не ведите себя подобострастно, лестью она сыта по горло.
— Не волнуйтесь, это не в моих правилах, ни с графиней, ни с кем-либо еще.
— И если она начнёт расспрашивать, не говорите, что о чём-то узнали от ее шута. Когда мы шли сюда, Дельфин умолял меня молчать. Так что не выдавайте его, иначе мы лишимся весьма ценного союзника.
Вскоре они оказались перед маленькой дверцей, ведущей в кабинет, почти незаметной, поскольку ее закрывал гобелен.
Эудальд вошёл первым; за ним последовал Марти.
Графиня Альмодис отдыхала в окружении своего маленького двора, наслаждаясь звуками цитры, на которой играла Лионор, ее шут забавлялся с левреткой, а донья Бригида и донья Барбара заканчивали партию в шахматы.
Повинуясь лёгкому знаку священника, Марти остановился на почтительном расстоянии, и оба молча дожидались, пока стихнут последние аккорды серенады и Альмодис наконец-то обратит на них внимание.
Но вот цитра смолкла, а графиня, как будто не замечая ожидающих посетителей, заговорила с карликом. Этим приёмом она частенько пользовалась, когда хотела поставить в неловкое положение просителей.
— Дельфин, неужели так трудно оставить в покое собаку, пока я слушаю музыку?
Карлик ответил в свойственной ему ироничной и язвительной манере:
— Скажите это собаке. Это она не желает оставить меня в покое: все пытается кусать меня за ноги и, если я не буду защищаться, загрызёт до смерти. Для вас это, может быть, и комнатная собачка, но для меня, учитывая мои размеры, настоящий волк.
— Хорошо, пусть так, — не стала спорить графиня. — А сейчас я попрошу тебя, моих дам и этого, как ты говоришь, волка оставить меня: мне нужно поговорить наедине с духовником и сеньором Барбани.
Маленький двор послушно удалился. Едва за ними закрылась дверь, как в комнате воцарилось молчание. Графиня, по своему обыкновению, не спешила начинать разговор, чтобы посетители ощутили некоторую робость.
Через несколько минут графиня все же повернулась к ним, словно только сейчас заметила в своей спальне посторонних.
— Какая приятная встреча! — воскликнула она. — Добро пожаловать, сеньор Барбани! Падре Льобет всегда умел преподносить сюрпризы! Что привело вас ко мне на этот раз?
— Я осмелился вас побеспокоить, чтобы воззвать к справедливости, которая рано или поздно сослужит добрую службу графу, — начал Марти.
— Не стоит говорить загадками, — остановила его графиня. — Они мне все равно ничего не говорят, а лишь отнимают время. Будет лучше для всех, если вы сразу перейдете к сути.
Марти мысленно обругал себя за то, что нарушил одно из главных правил, которых Льобет настоятельно советовал ему придерживаться.
— Хорошо, сеньора. При вашем дворе есть люди, которые гораздо больше думают о собственной выгоде, чем о благе Барселоны.
— Ничего нового вы мне не сказали, — с улыбкой произнесла графиня. — Я прекрасно знаю, что у роз есть шипы, а самый спелый плод может оказаться червивым.
— Весьма подходящее сравнение. Но что, если человек, о котором я говорю, слишком близкая к графу персона? Тем не менее, честность и верность не входят в число его достоинств.
Очень медленно, обдумывая каждое слово, Альмодис заговорила.
— При дворе, мой дорогой сеньор, есть верные люди, а есть льстивые царедворцы. И я прекрасно знаю, кто из них действительно мой друг и сторонник, а кого мне приходится терпеть лишь потому, что они своей бессовестной лестью развлекают и отвлекают графа. Кто-то из них вполне приемлем, других я с трудом выношу. Но даже мне приходится быть осторожной в высказываниях: хотя бы потому, что мне не хотелось бы попасть впросак и лишить супруга очередной любимой игрушки. Так что, если у вас действительно есть что сказать, говорите.
Эудальд и Марти понимающе переглянулись.
— Как пожелаете. Смотритель аукционов служит не столько графству, сколько собственному благосостоянию, и не гнушается для этого никакими средствами. Я собираюсь обвинить его в поджоге моего имения, который повлёк за собой гибель моей матери и верного слуги, а также в том, что он довёл до самоубийства свою падчерицу.
Зеленые глаза Альмодис пристально уставились прямо в лицо Марти.
— Это весьма серьёзные обвинения, — произнесла она. — Для того, чтобы огласить их публично, вы должны располагать более чем весомыми доказательствами.
— Это ещё не все, но мне бы не хотелось обременять вас своими проблемами.
— Вы ведь пришли сюда, чтобы поговорить со мной. Так говорите.
— Ну что ж, если вам так хочется знать, я скажу, что он ослепил освобожденную рабыню и отрезал ей язык, на что не имел никакого права, а кроме того, он торгует должностями на рынке, откладывая изрядные суммы себе в карман.
После долгого молчания графиня спросила:
— Так чего же вы хотите?
— Чтобы вы позволили мне призвать его к ответу перед всем народом.
— К сожалению, это не в моей власти. Он графский советник, и его нельзя судить, как обычного подданного.
— Значит, вы считаете, что если злодей и преступник принадлежит к сильным мира сего, он может избежать возмездия?
— Не совсем так, — ответила графиня. — Но чтобы простой горожанин смог призвать к ответу советника, основания должны быть более чем серьезными. Точно так же, как плебей не может возбуждать судебных дел против дворянина, советника может призвать к ответу лишь другой советник. Таков закон, и ничего тут не поделаешь.
— Разумеется, Бернат Монкузи — гражданин Барселоны, но ведь и меня вы удостоили такой же чести.
— На что вы намекаете?
— Я говорю о том, что согласно нашим законам, один гражданин может подать в суд на другого.
— Нет, не может, если тот принадлежит к высшему рангу.
— В таком случае, сеньора, — твёрдо заявил Марти, — если закон защищает не правого, а сильного и богатого, то это что угодно, только не закон.
— Сдается мне, вы весьма упорны, Марти Барбани.
— Правда и Библия на моей стороне, — ответил Марти.
— Ну, что ж, у вас есть одна возможность, но предупреждаю, это связано с большим риском.
— Я не боюсь рисковать.
Альмодис смерила его спокойным взглядом.
— Видите ли, один горожанин действительно может подать в суд на другого, однако, если тот принадлежит к высшему рангу, он может рассчитывать самое большее на litis honoris.
— А что это?
— Публичная дискуссия, где ответчик в свою очередь обвиняет истца, и целью, как говорит название, является честь обоих, — объяснил Эудальд.
— Почему обоих? — удивился Марти.
— Потому что обвиняемый не только имеет право защищаться, но может также выдвинуть встречное обвинение.
— Тогда получается, что истец и ответчик находятся в равном положении?
— Нет, Марти, — пояснил Эудальд. — Ответчик может лишь свидетельствовать в собственную защиту и при этом обязан отвечать на любые вопросы, которые будут заданы стороной истца.
— Только хорошо подумайте, действительно ли вам это нужно, — предупредила Альмодис. — Даже если вам удастся убедить моего мужа дать вам разрешение, в чем я весьма сомневаюсь, вы рискуете остаться голым и босым. Бернат Монкузи пользуется славой поистине свирепого спорщика, прекрасно знающего законы.
Марти задумался.
— И какое наказание ждет его в том случае, если я смогу подтвердить мои обвинения? — спросил он.
Эудальд пояснил:
— Только граф может это решать, посоветовавшись с судьями, если будет доказано, что он лгал и утратил честь. Но даже в этом случае единственное, что ему может грозить — это временное изгнание и возмещение ущерба, если дело касается имущества графа.
— То, что я вам предлагаю, весьма важно, — добавила Альмодис. — Если советник лишится чести, он будет лишен всех своих постов и должностей.
Эудальд снова принялся объяснять:
— Это публичное слушание. Другие горожане могут принимать в нем участие — при условие, что они того же ранга, что и противники. Первые ряды занимают дворяне, далее сидят духовные лица, а совсем позади — горожане. Дело ведут граф и трое судей; заседание длится несколько дней, пока суд не посчитает нужным вынести заключение и закрыть дело.
— Вы по-прежнему хотите просить у моего мужа разрешение? — спросила графиня.
— Не только хочу, но буду вечно благодарен ему за эту милость.
— Имейте в виду, что даже из тростинки можно сделать копье. Советник может стать страшным противником; к тому же у него репутация непревзойденного спорщика. За всю мою жизнь это первый случай, когда кто-то осмелился его вызвать на подобный поединок. Уверяю вас, весь город будет потрясен.
— Сеньора, до этого дня я не буду знать ни минуты покоя.
— Ну что ж, если вы так этого желаете, так тому и быть. Но имейте в виду, если вы проиграете дело, я больше не смогу вас принимать.
— Если я не смогу должным образом призвать к ответу этого бесчестного человека за его преступления, то готов покинуть этот благословенный город, и мне будет совершенно неважно, где найдут приют мои кости.
110
Подготовка к судебному разбирательству
Графский советник вопил так, что слышно было сквозь стену. Перепуганный Конрад Бруфау предпочел на какое-то время задержаться за своим столом. Он знал по опыту, что когда его так внезапно вызывают в кабинет, лучше немного подождать, сделав вид, будто не слышал.
Но колокольчик настойчиво звонил, и секретарю пришлось войти в кабинет.
— Вы меня звали, сеньор?
— Да, звал, паршивец! — рявкнул советник. — Ты что, глухой?
— Просто я на минутку отлучился, сеньор.
— Принеси мне все разрешения, которые я выписал на имя Марти Барбани, чтобы он мог открыть свой проклятый склад, все документы на продление договора — одним словом, все, что требует моего одобрения, а также отчёт о его визитах. Я собираюсь покончить с этим мерзавцем.
Бруфау хорошо знал своего патрона, и знал, когда его одолевает желание поговорить.
— Что-то случилось, сеньор?
— Что случилось, ты спрашиваешь? — переспросил советник, меряя свой кабинет огромными шагами. — Этот сукин сын имел наглость просить у графа разрешение вызвать меня на litis honoris, а это совершенно нежелательно. Но хуже всего, что граф согласился.
— И как же могло случиться, что граф дал ему разрешение?
— Я уверен, тут не обошлось без графини, ведь на самом деле графством правит она.
— Просто не верится, что он способен на столь чудовищную неблагодарность!
— Видишь ли, Конрад, если ты вырастил ворона, рано или поздно он выклюет тебе глаза.
— Я слышал о таком слушании, когда Мир Гериберт подписал соглашение с монастырём Сан-Кугат, но мне даже в голову не приходило, что в наше время где-то ещё сохранился этот древний обычай.
— Как видишь, сохранился. И теперь этот гаденыш пытается использовать его против самого верного и преданного графского слуги. Но клянусь, что этот паршивец еще пожалеет, уж я-то ему рога пообломаю! Я не успокоюсь, пока не вышвырну этого наглеца из Барселоны. Подумать только, я чуть не сделал его своим зятем! Кстати, разыщи Люсиано Сантангела и скажи, что мне нужно срочно его видеть.
Новость моментально облетела весь город. Ее передавали из уст в уста, сдавленно прыская в кулак. Первое слушание было назначено на девять утра третьего февраля и должно было продолжаться несколько дней. Litis honoris был не только публичным, но и весьма редким, из ряда вон выходящим событием. Из дворцовых залов новость спустилась на улицы города, а оттуда пошла гулять по рынку, тут и там повторяемая на разные голоса. Поскольку оба противника были весьма известными людьми, у обоих тут же нашлись сторонники, и город разбился на два лагеря.
Марти в городе любили и уважали, поскольку он принес его жителям благополучие, процветание и множество всяческих благ, начиная от мельниц, благодаря которым в Барселону провели воду, и кончая лавками привозных товаров, значительно облегчившими жизнь женщинам, не говоря уже о ночном освещении, сделавшим город намного безопаснее. С другой стороны, немало жителей Барселоны кормились из рук советника. Все эти люди теперь поддерживали Монкузи.
Альмодис, прекрасно знавшая непредсказуемый характер своего супруга, решила воспользоваться выпавшей возможностью, чтобы настроить его против смотрителя аукционов, вбить между ними клин и заставить мужа усомниться в его честности. Рамон, человек импульсивный, несколько смягчился, подумав, что даже интересно будет посмотреть, как этот пройдоха Монкузи станет выкручиваться. Если ему это удастся, советник взлетит до совсем уж невероятных высот; в противном же случае его удалят от двора на неопределенное время.
Вести дело должны были судьи Понс Бонфий-и-Марш, Фредерик Фортуни-и-Каратала и Эусебий Видиэйя-и-Монклюз. Главный нотариус Гийем де Вальберибес и вегер Ольдерих де Пельисер отвечали за организацию заседания, которое будет продолжаться несколько дней. Желающих попасть туда нашлось множество. Несмотря на то, что крестьянам, матросам, и ремесленникам хода в ратушу не было, количество граждан, желающих принять участие в деле, да и просто любопытных, перешло все мыслимые границы. Ряды, предназначенные для дворянства и духовенства, тоже были переполнены.
Сначала слушание решили устроить в зале графского дворца, но затем, из-за слишком большого количества зрителей, перенесли в ратушу, где могло разместиться более трехсот человек, рассадить их собирались строго по рангу. В глубине зала установили троны для графа и графини, перед ними — трибуну для судей и два небольших возвышения, предназначенные для участников тяжбы, а также столы для предъявляемых ими документов и улик. Трибуны для зрителей установили веером: левый сектор предназначался для дворян, правый — для горожан, а средний — для духовенства. День и ночь в зале трудились бригады плотников, сколачивая помосты и трибуны, драпировщиков и обойщиков, им приказали подготовить зал в кратчайшие сроки.
За последние дни Марти приобрел привычку почти каждый вечер навещать Эудальда, обсуждать с ним подробности своих обвинений, чтобы нащупать слабые места врага. До поздней ночи на втором этаже, в комнате священника, горел свет. Эудальд давал советы, какую позицию следует занять перед судьями, которые, разумеется, будут на стороне всесильного советника.
— Помните, если вы вызовите меня как свидетеля, я не смогу рассказать о том, в чем Монкузи признался мне на исповеди, — предупредил священник.
— Я должен буду защищаться сам или имею право воспользоваться услугами адвоката? — спросил Марти.
— Подниматься на трибуну имеете право лишь вы и он. Однако никто не может помешать адвокату находиться в зале и при необходимости давать советы.
В голове Марти роилось множество мыслей, в которых он тщетно пытался навести порядок, поскольку обвинения следовало выдвигать одно за другим, а сначала ему еще придется отвечать на вопросы, заданные противником, который, разумеется, сделает все, чтобы сбить его с толку.
Стояла уже глубокая ночь, когда он наконец покинул Пиа-Альмонию, чтобы вернуться домой и продолжить размышления за своим столом, в тысячный раз прокручивая в голове возможные последствия произошедших за последние дни событий, и в конце концов пришел к выводу, что эта проблема являет собой настоящую многоголовую гидру, у которой на месте срубленных голов тут же вырастает новая. Уже на рассвете он направился в спальню, чтобы подремать хотя бы несколько минут. Проходя мимо опустевшей комнаты Руфи, он вновь подумал о печальной судьбе, разлучившей его с женщиной, возможно она находится совсем близко, но остается недостижимой мечтой. В очередной раз он дал зарок, что как только покончит с этим делом, немедленно займется ее поисками.
А тем временем Монкузи и его зловещий гость обсуждали у него в кабинете последние детали своих планов.
— Итак, у вас есть девять дней, — напомнил советник. — За это время с гражданином Барбани должно случиться несчастье, которое помешает ему принять участие в litis по причине недееспособности.
— Возможно, лучше устроить так, чтобы он и впредь не имел возможности когда-либо обратиться в суд? — уточнил Люсиано.
— Для меня это только к лучшему. Но имейте в виду: никто не должен ничего заподозрить. Все должно выглядеть как досадная случайность, от которой не застрахован ни один гражданин.
— Ночью все кошки серы. И никто не может знать, что ожидает его за ближайшим углом.
— На что вы намекаете?
— Вы мне не доверяете? Разве я заслужил подобное недоверие, не выполнив свою работу?
— Я восхищен вашим усердием.
— Я уже много лет занимаюсь этим ремеслом, и опыт подсказывает, что проблема не будет окончательно решена, пока не устранен ее источник. Сколько бы сведений я ни собрал, ваш враг не станет от этого менее опасным. Есть лишь один способ избавиться от него: упрятать под землю.
— И что же?
— А то, что когда мне вновь поручают работу, которую я уже сделал, я предпочитаю решить проблему раз и навсегда.
— Расскажите, что вам удалось разузнать? — спросил советник.
— Как мне удалось выяснить, каждый вечер он отправляется в Пиа-Альмонию и остаётся там до полуночи.
Монкузи не смог сдержать улыбки.
— Ну что ж, действуйте на ваше усмотрение. Когда дело будет сделано, вы получите вознаграждение, которое позволит вам приобрести небольшое поместье за городом. Помнится, вы говорили, что это — ваша заветная мечта?
— Вы правы, я люблю сельскую жизнь. Ненавижу суету Барселоны, здесь просто невозможно дышать. Я простой человек, привыкший к суровой жизни. Мечтаю услышать шелест деревьев и журчание ручейка, бегущего между скал. Хочу окончить свои дни мирно, как простой крестьянин, продавая на ярмарках выращенный урожай.
— В таком случае, окажите мне последнюю услугу, и я воплощу вашу мечту в реальность.
— Положитесь на меня — и можете спать спокойно, — заверил альбинос. — Еще не было случая, чтобы я, выйдя на охоту, упустил добычу.
— Только после того, как вы поймаете эту добычу, прошу вас выждать несколько дней, прежде чем придете ко мне за наградой. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь видел нас вместе и связал это досадное происшествие со мной.
После этих слов Бернат Монкузи облегченно вздохнул, а Люсиано Сантангел, профессиональный убийца, мысленно улыбнулся.
111
Нападение
Наступил февраль, ко второму числу, за день до скандального разбирательства, распродали все места. Кое-кто из обедневших дворян даже продал свою привилегию присутствовать на суде богатым, но менее знатным горожанам. Множество любопытных, не допущенных на заседание, столпились возле ратуши, чтобы послушать свежие сплетни; люди отчаянно толкались, споря за место на ступенях ратуши, и высказывали свое мнение с непогрешимой уверенностью судей в мантиях.
Вегер Ольдерих де Пельисер расставил караульных с копьями по периметру площади; для этого ему пришлось отозвать почти всю стражу из других районов города, понадеявшись, что в этот день не случится каких-либо досадных происшествий.
Когда на город опустились сумерки, некий закутанный в плащ человек свернул с Виладекольса в сторону аркады Инфанта, граничившей с юга с Пиа-Альмонией. Там оглядевшись в переулке и убедившись, что никто за ним не подсматривает, он остановился возле столба, где в железной клетке горел фитиль, смоченный в заветной жидкости, затем извлек из-под плаща деревянный шест с медным набалдашником и, просунув шест внутрь клетки, прижал набалдашником фитиль, прекращая доступ воздуха. Фонарь мгновенно потух, и переулок погрузился в непроглядную темноту. Спрятавшись в подворотне, откуда хорошо просматривались двери Пиа-Альмонии, он стал ждать.
— Ступайте лучше спать, Марти, — произнес в эту минуту священник. — Завтра, а вернее сказать, уже почти сегодня, вам предстоит трудный день. У вас должна быть ясная голова и спокойный дух, а для этого нужно хоть немножко отдохнуть.
— Я последую вашему совету, но все равно буду ворочаться в постели до рассвета.
Теперь остался лишь один вопрос, не дававший Марти покоя.
— Скажите, Эудальд, есть какие-нибудь новости от Руфи? — спросил он. В эту минуту ему так ее не хватало.
— Не беспокойтесь, с ней все в порядке. Выпейте лучше липового отвара и ложитесь спать. Если хотите выиграть, завтра у вас должна быть свежая голова. Вам предстоит иметь дело с коварным противником, который пустит в ход все свое влияние. Он пойдет на любую подлость, лишь бы сохранить свое доброе имя в глазах судей и графа.
Марти снял с вешалки плащ и закутался в него. Перед уходом он сказал:
— Я сто раз прокрутил в голове свою речь, задал сам себе тысячи вопросов, которые мне могут задать, привел самые разные аргументы, но я знаю, что в самой безупречной защите можно найти брешь, причем в самом неожиданном месте. Я не хочу, чтобы такое случилось. И не вправе этого допустить — ради моей матери, Лайи и Руфи.
Священник, провожая его до дверей кабинета, ответил:
— А если litis затянется на сто дней — вы что же, все сто ночей так и будете проводить в раздумьях? Ступайте домой, вам нужно отдохнуть. Завтра в девять утра начнется весьма рискованное действо; на карту поставлены достижения всей вашей жизни, а также ваше будущее. Помните, что сказал ваш отец перед смертью? «Лишь одно человек должен отстаивать до последнего вздоха — честь».
— Ради него я тоже обязан довести дело до конца. До встречи, Эудальд.
— Сегодня особенный вечер, — произнёс священник. — Обнимите меня, сын мой.
На прощание они крепко обнялись, и Марти направился к дверям Пиа-Альмонии, возле которых дремал привратник, сидя за столом с единственной зажженной свечой.
Ночь была теплой. Над городом сгустились тучи, угрожая скорым дождем. Марти свернул за угол, дошел до аркады Инфанта и, думая о предстоящем суде, до которого оставалось лишь несколько часов, вошел в нее. И тут его внимание привлекло нечто странное. Привыкший замечать все, связанное с его фонарями, он мельком отметил, что один фонарь отчего-то потушен. Вскользь подумав, что надо будет его починить, он продолжил путь.
Люсиано Сантангел, терпеливо ожидающий свою жертву, выглянул из-за угла. Затаившись в темноте, он наблюдал за ней, прижавшись к дверному косяку. Когда Марти показался в конце переулка, убийца напряг каждый мускул, приготовившись к броску. Правая рука крепче сжала костяную рукоять кинжала с двойным лезвием — любимое оружие никогда еще его не подводило. Пользуясь старинным приемом опытных охотников, он трижды глубоко вздохнул, медленно выпуская воздух из легких.
Бесшумная тень медленно, но неотступно кралась за жертвой. Убийца был в башмаках, обернутых мешковиной, и мог бесшумно и быстро подобраться к жертве. Эту тактику он использовал многократно, она никогда не подводила. Притаившись в тени, он выжидал, пока обреченный поравняется с ним, затем шел следом и, оказавшись у него за спиной, выхватывал из-под плаща кинжал с отравленным лезвием и наносил резкий удар меж ребер, прямо в сердце, всегда снизу вверх; когда же несчастный начинал заваливаться, убийца молниеносно перерезал ему горло, чтобы тот не успевал закричать.
И вот решающий миг настал. Как всегда, Сантангел пропустил человека вперед и выскочил из переулка. В два бесшумных прыжка он оказался за спиной у жертвы. Зловещая улыбка мелькнула на его губах, он предвкушал скорую награду, и серебристое лезвие сверкнуло в руке.
112
Littis honoris
В большом зале ратуши столпилось несметное число граждан. С самого раннего утра у дверей ратуши выстроилась длинная очередь, терпеливо ожидающая, пока двери откроются, чтобы успеть занять лучшие места. Дворяне и духовенство имели возможность пройти через боковые двери, но уже за два часа до начала слушаний все трибуны были забиты. Дамы надели лучшие наряды, соревнуясь друг с другом в роскоши и богатстве, словно пришли не на судебное разбирательство, а на гулянья. Здесь были великолепные блио, богато украшенные золотым и серебряным шитьем, дамасские береты, расшитые жемчугом и кораллами, всевозможные шляпки и чепцы, завязанные под подбородками кружевными лентами, кружевные мантильи и шарфы.
А кавалеры щеголяли в расшитых золотом бархатных коттах, у квадратного выреза украшенных золотыми брошами, в тонких шелковых чулках и сапогах из мягкой замши, в поясах из лучшей кордовской кожи, с которых свисали мечи и кинжалы. Порой вырезанные из рога или слоновой кости рукояти являли собой подлинные произведения искусства. Духовенство тоже заботилось о том, чтобы подчеркнуть свой высокий статус, не впадая в грех гордыни.
Свет проникал в зал через высоких восемь окон в каменных стенах, с потолка на цепях свешивались двенадцать гигантских канделябров в форме короны. В глубине зала возвели большой помост, на ней стоял стол для судей, по обе его стороны размещались кафедры и столы для противоборствующих сторон и скамьи курии комитис. Позади судей, еще чуть выше, на фоне занавеси из дамаста с красными и золотыми полосами, возвышались два трона для Рамона Беренгера и Альмодис де ла Марш.
Время приближалось к девяти утра, и стража собиралась закрыть двери, через которые входили граждане Барселоны, в зале всё равно не поместилось бы больше ни души — поскольку некоторые богатые горожанки своими пышными юбками заняли куда больше положенного места.
Когда колокола прозвонили три четверти, через заднюю дверь в зал вошли судьи и члены курии комитис и направились к своим местам; через некоторое время под шепот зрителей вошел невозмутимый и важный казначей Бернат Монкузи; величавым жестом он поприветствовал своих сторонников.
Два человека обеспокоенно глядели на пустое кресло, предназначенное для Марти Барбани. Одним из них был высокий священник, не пожелавший воспользоваться своим положением, чтобы занять место получше — духовник графини. Другим человеком была женщина средних лет, стоявшая возле бокового ограждения одной из трибун, очень скромно одетая и закутанная в зеленый плащ, ее толстые косы были уложены короной вокруг головы и заколоты черепаховым гребнем; взгляд этой женщины тревожно блуждал по залу, словно кого-то высматривая.
Троны, предназначенные для графской четы, еще пустовали; граф и графиня должны были войти в зал лишь после того, как истец и ответчик, а также все, имеющие какое-либо отношение к делу, займут свои места.
Бернат Монкузи негромко разговаривая с кем-то из дворян, одним из членов курии комитис, и даже беззаботно улыбался.
Секретарь Эусебий Видиэйя-и-Монклюз ударил судейским молотком по столу. В зале воцарилась тишина, и секретарь громко и четко голосом объявил, что время, предоставленное противникам для предъявления обвинений, ограничено. Затем он перевернул стеклянные песочные часы в форме веретена, стоявшие на столе.
— Время пошло, — произнес он.
В зале поднялся шум, когда выяснилось, что истец — несомненно, более заинтересованный в этом деле, до сих пор не явился.
Уже дважды секретарь ударял молотком, а Бернат Монкузи, как ни в чем не бывало, продолжал разговор. Когда в верхней чаше часов осталось лишь несколько песчинок, боковая дверь неожиданно открылась, и в зал вошел Марти Барбани в сопровождении служащего. Он едва держался на ногах, с него градом катился пот, его правая рука была перевязана. Изумленный возглас Монкузи не остался незамеченным для падре Льобета.
Накануне вечером, когда Марти, распрощавшись с ним, отправился домой, он собрался, как обычно, вознести Господу вечерние молитвы. Он уже взял в руки молитвенник и преклонил колени перед распятием, когда вдруг заметил, что Марти, озабоченный своими хлопотами, забыл у него на вешалке свой генуэзский берет. Льобет прикинул, что сейчас Марти, должно быть, уже вышел из здания, но еще не дошел до угла. Взяв в руки берет, открыл окно на втором этаже, выходящее как раз на дорогу, и высунул наружу голову, стараясь не задеть ветвей своих роз, что во множестве росли в горшках на всех подоконниках. Он решил дождаться, пока Марти пройдет под окном, и бросить ему берет.
Его быстрый ум старого солдата моментально оценил ситуацию. Он уже давно подозревал, что на его друга попытаются напасть, ведь подобные вещи нередко случаются в этом городе. А вот Марти, судя по всему, не ожидал нападения. Эудальд не стал долго раздумывать. В тот миг, когда злодей бросился на его друга, выхватив из-под плаща кинжал, над головами у них прозвучал могучий рёв Эудальда:
— Марти!
С этими словами каноник схватил с подоконника тяжёлый каменный вазон и запустил им в зловещую тень, напавшую на Марти. А тот, услышав предупреждающий крик своего друга, обернулся и, скорее почувствовав опасность, чем увидев ее, инстинктивно прикрылся левой рукой, принявшей на себя удар кинжала. Нападавший рухнул, сбитый с ног тяжёлым вазоном с влажной землёй.
Священник и привратник бросились к раненому. Нападавший лежал у его ног, все еще сжимая в руке кинжал. Эудальд опустился рядом с ним на колени и сорвал с него маску. В зеленоватом свете луны взорам троих мужчин предстали мертвые, широко раскрытые глаза альбиноса, очень светлые волосы и щеки, изрытые глубокими оспинами. Никаких документов при нем не было.
Было уже далеко за полночь, когда Марти наконец добрался до своего особняка на площади Сан-Мигель; едва он постучал в ворота дверным молотком, как изнутри тут же послышался встревоженный гул голосов. Судя по тому, с какой быстротой был отодвинут засов, он понял, что его люди уже давно дежурили во дворе, дожидаясь его возвращения. Было уже поздно, а сегодня не мешало бы пораньше лечь спать, ведь завтра решалось дело всей его жизни.
В створке ворот открылась дверца, и Марти ввалился внутрь. Перепуганная Катерина бросилась ему навстречу; за ее спиной маячили встревоженные лица Омара, Андреу Кодины, Наймы и остальных слуг, столпившихся среди колонн внутреннего двора. Позади остальных он заметил Аишу; она пробиралась ощупью, двигаясь на шум.
— Боже, Марти, что случилось? Вы ранены?
— Ничего страшного.
Однако Омар не сдавался.
— Позвольте взглянуть, — потребовал он.
Поднявшись по лестнице, все направились в большую гостиную на втором этаже.
Марти рухнул на кушетку, редко и прерывисто дыша.
Омар разрезал ножницами повязку и внимательно осмотрел рану.
— Вас ударили ножом, — заметил он. — У вас есть идеи, кто мог это сделать?
— Я не знаю его имени, но, судя по описанию моей матери, это тот самый человек, который поджег наше поместье. В нашем графстве не так много блондинов, а ещё меньше среди них обладателей бесцветных, как вода, глаз и изрытых оспой лиц.
— Где это произошло?
— На выходе из Пиа-Альмонии, когда я возвращался домой после встречи с Эудальдом.
— И где же этот мерзавец? — спросил дворецкий.
— В караулке, вот только боюсь, ему уже всё равно, где лежать. Льобет швырнул в него цветочным горшком из окна своей комнаты. Ночная стража забрала тело.
— И кто оказал вам первую помощь?
— В монастырской больнице, — ответил Марти. — Брат-лекарь дал мне чашку травяного отвара, а затем промыл и перевязал рану.
Омар велел слуге привести капитана Жофре, имевшего привычку пропускать стаканчик в компании Манипулоса, пока не в море. Оба немедленно примчались и захлопотали возле раненого.
Грек внимательно осмотрел рану; богатый опыт морских сражений сделал его настоящим знатоком в подобных делах.
— Если опыт меня не обманывает, лезвие кинжала, несомненно, было отравлено. Края раны побелели. Если не принять срочных мер, дело может кончиться плохо.
— Но ты же сказал, что тебе оказали помощь в монастыре? — дрожащим голосом спросил Жофре.
— Да, в монастыре остановили кровь и обработали рану, но брат-лекарь не заметил яда, который распознал капитан Манипулос.
— Так что теперь делать?
— Послать за врачом Галеви, — ответил Омар.
— До рассвета Каль закрыт, а потом может быть уже поздно, — заметил Жофре.
Повернувшись к Марти, грек предложил решение:
— У меня на «Морской звезде» есть горшок с пиявками, а также поистине чудодейственная мазь; ее подарил мне один моряк-сириец, которому я когда-то спас жизнь. Эта мазь имеет свойство вытягивать любой яд. В море полно ядовитых тварей, которые защищаются, вонзая в тело ядовитые зубы или жало, и эта мазь никогда меня не подводила. Нужно расширить рану, приложить к ее краям пиявок и оставить их на всю ночь, чтобы они отсосали достаточно крови, а потом молить Бога, чтобы не возник жар.
— Так привезите его сюда поскорее, — пробормотал Марти. — Завтра с утра мне предстоит самое важное дело в жизни.
Манипулос вскочил на коня и в сопровождении троих слуг помчался на берег, где каждый вечер его ожидала шлюпка, чтобы по первому требованию отвезти на корабль. Слуги остались ждать в порту, даже не спешившись. Вскоре быстроходная шлюпка с умелыми гребцами вновь доставила капитана на берег; сегодня гребцы налегали на вёсла вдвое усерднее обычного. В скором времени они уже были у ворот Регомир, где стража их безропотно пропустила: капитанский пропуск Марти Барбани был достаточно весомым документном, и городская стража с ним считалась.
Вернувшись в особняк Марти, они увидели тревожную картину. Состояние раненого значительно ухудшилось. Со лба его градом катился пот, который Омар вытирал влажной салфеткой. Манипулос тут же принялся за дело; ему помогали Жофре, Омар и Андреу Кодина. Прежде всего, он заставил Марти выпить изрядную порцию крепкого вина и вставил между его зубами деревянный брусок; затем трое мужчин крепко взяли его за обе руки, чтобы зафиксировать в нужном положении. Мариона сновала из кухни в гостиную, поднося смоченные в кипятке чистые тряпки. Когда все было готово, грек осторожно расширил края раны. Марти тихо застонал, впившись зубами в брусок, и потерял сознание.
— Так-то лучше, — пробормотал Манипулос, осторожно прикладывая пиявок к краям раны и глядя, как они раздуваются, напитываясь отравленной кровью Марти. Затем он тщательно смазал мазью внутри раны и по краям, наложил шов и перевязал чистой льняной тряпицей.
Закончив работу и полюбовавшись плодами своего труда, он сказал:
— Жар у него не пройдёт ещё несколько дней, пока не выйдет яд. В первые несколько часов ему станет даже хуже, а потом, если я не ошибаюсь, раз в три или четыре года лихорадка будет возвращаться. В море хватает тварей вроде медуз, скатов и мурен, которые вырабатывают подобный яд.
— Как вы думаете, каким ядом его отравили? — спросил Омар.
На этот раз ответил Жофре.
— Во многих местах жители добывают яд из пауков и скорпионов и смазывают им наконечники стрел; я уверен, нож был смазан похожим ядом. У нас в Испании тоже водится ядовитый паук под названием «чёрная вдова». Яд этого паука может привести к самым печальным последствиям. Мне рассказывал о нем Эудальд; когда он был солдатом, ему доводилось встречаться с этими пауками.
Голос Марти прозвучал еле слышно.
— Дайте мне отдохнуть, друзья. Если я не умру этой ночью, завтра с утра я должен быть в городской ратуше. Дело не терпит отлагательств...
113
Приготовления
Марти занял свидетельское место и ответил на вопрос секретаря:
— Уважаемые сеньоры судьи, сиятельнейшие советники, прошу простить мне опоздание. Сегодня на рассвете на меня напали и ранили у дверей Пиа-Альмонии. Человек, чья рука нанесла мне эту рану, ныне пребывает в ином мире, а тот, по чьему наущению он это сделал, я уверен, уже давно находится на пути к собственной гибели.
Слова гражданина Барбани были встречены возмущенным шумом. Все взгляды теперь были прикованы к казначею. Тот побледнел и изумленно вытаращил глаза, он явно не ожидал увидеть здесь Марти и услышать эти слова. Тем не менее, ему удалось взять себя в руки и сделать вид, будто случившееся не имеет к нему никакого отношения.
Судья Фредерик Фортуни поднялся и, ударив молотком по столу, потребовал тишины.
— Итак, мы открываем слушание, — объявил он. — Прошу всех встать перед лицом высокородных графа и графини Барселоны, Жироны и Осоны, Рамона Беренгера и Альмодис де ла Марш!
Множество каблуков застучало по деревянным ступеням трибун.
Когда все присутствующие поднялись и обнажили головы, в зал торжественно и величаво вошла графская чета и проследовала к своим тронам. Рамон Беренгер был в алой тунике с золотым шитьем, карминного цвета чулках и мантии, отороченной горностаем. На голове у него сияла графская корона с верхом из красного бархата. Альмодис блистала в изумрудно-зеленом платье с жемчужно-серыми рукавами и серебристым поясом, который охватывал ее бедра, подчеркивая великолепную фигуру. Ее голову также украшала графская корона, зубцы которой венчали маленькие жемчужины. Устроившись на троне, граф слегка кивнул головой, разрешая открыть litis honoris.
Судья Фортуни продолжил:
— Сиятельнейшие и высокочтимые граф и графиня, светлейшие члены курии комитис, высокородные кабальеро, духовные лица и граждане Барселоны! Мы начинаем litis, возбужденный гражданином Марти Барбани против сиятельнейшего Берната Монкузи-и-Палау. Прошу всех занять места и соблюдать тишину.
Под шуршание юбок и бряцание оружия дворяне, духовенство и простые горожане уселись, и в зале воцарилась полная тишина.
Судья Фредерик Фортуни уступил место Эусебию Видиэйе, исполнявшему обязанности секретаря, и тот, устроившись за судейским столом, взял слово.
— Встаньте и займите свидетельское место, — потребовал он.
Марти поднялся и направился к кафедре.
— Имейте в виду, истец, что по правилам, определяющим этот вид разбирательств, может быть затронута лишь честь участников, однако их не судят по общим законам графства. Лишь в том случае, если одна из сторон позволит себе лжесвидетельство, граф вправе вынести приговор. Мы здесь для того, чтобы советовать и направлять, а не судить. Свидетели же имеют право лишь подтверждать факты, но не намерения участников.
После этих слов судья вызвал обоих противников, чтобы они в присутствии епископа произнесли слова присяги.
Епископ вошел в зал через дальний вход в сопровождении старшего нотариуса Гийема де Вальдерибеса; медленно и торжественно он направился в сторону судебного стола, держа в правой руке распятие, а в левой — Библию.
Секретарь тем временем вызвал обоих противников. Они поднялись с кресел и направились к свидетельским местам.
Теперь к публике обратился Гийем де Вальдерибес. Многие из присутствующих не знали правил этой церемонии.
— Уважаемые сеньоры, это litis honoris. Прежде всего, оба почтенных гражданина принесут клятву говорить только правду, и с этой минуты любая сказанная ими ложь будет считаться преступлением. Это единственная форма судебного разбирательства, возможная в данном случае, поскольку граждане Барселоны, если они не принадлежат к дворянскому сословию, не имеют права возбуждать судебных дел против графских служащих. Я, как главный нотариус, объявляю слушание открытым и, если один из них будет признан лишенным чести, граф лично присудит ему наказание.
После этих слов он вызвал Берната Монкузи, и тот, напыщенный и самодовольный, приблизился к столу.
— Положите руку на Библию, сеньор, и повторяйте за мной: «Я, Бернат Монкузи, советник по финансовым делам графства Барселонского и главный казначей, клянусь честью отвечать на все вопросы только правду и ничего, кроме правды. Если я это сделаю, пусть вознаградит меня Господь, если же нет — пусть Он или мой сеньор, Рамон Беренгер, граф Барселонский, меня накажет».
Повторив присягу, советник поставил подпись в книге, которую протянул ему главный нотариус, и вернулся на своё место. После этого то же самое сделал Марти Барбани. Заседание началось.
114
Начало слушаний
Как только противники заняли отведённые места, судья Фредерик Фортуни открыл заседание.
— Слово предоставляется истцу. Прошу вас, подойдите к судейскому столу и изложите суть ваших обвинений.
Марти поднялся с таким трудом, что судья решил снова вмешаться:
— Учитывая ваше состояние, если вы желаете давать показания сидя, вы можете это сделать.
— Я предпочитаю делать это стоя, — ответил Марти.
— В таком случае, начинайте.
— Я, Марти Барбани де Монгри, гражданин свободной Барселоны, обвиняю казначея Берната Монкузи в следующих преступлениях: во— первых, в том, что он ослепил и отрезал язык одной из моих служанок, чего не имел права делать; во— вторых, в поджоге моего имения, повлёкшем за собой гибель моей матери, Эммы де Монгри, и слуги Матеу Кафареля. И в-третьих, в смерти его падчерицы, Лайи Бетанкур, которая, как вам известно, покончила с собой, а довёл ее до столь ужасного поступка не кто иной, как отчим.
В зале воцарилось гробовое молчание; можно было даже расслышать шелест упавшего на пол пергамента.
Наконец, заговорил главный судья Понс Бонфий.
— Прошу вас обьяснить все по порядку. Начнём с первого обвинения.
— Хорошо. Я познакомился с Лайей Бетанкур на невольничьем рынке вскоре после моего приезда в Барселону. Там продавали с аукциона одну рабыню из Бокерии по имени Аиша, и мы оба, Лайя и я, захотели ее купить. Падчерица советника показалась мне самым очаровательным созданием, какое я когда-либо встречал в жизни, и я влюбился в неё с первого взгляда. В скором времени я собирался отправиться в далекое путешествие. Зная, что Аиша прекрасно поёт и играет на музыкальных инструментах, я решил этим воспользоваться и предложил ей во время моего отсутствия развлекать мою возлюбленную Лайю своим искусством. В это же время я попросил у отчима Лайи ее руки. Он ответил, что я могу на это рассчитывать, лишь если стану гражданином Барселоны, предупредил, что это весьма непросто, но пообещал содействие. Когда же я вернулся из путешествия, он сказал, что Аиша умерла от чумы. После смерти Лайи, о которой я подробно расскажу чуть позже, некая особа сообщила мне, что Аишу содержат как узницу в усадьбе близ Таррасы. Я отправился туда, чтобы освободить ее. Оказалось, что ее действительно держат под замком в подземелье. Она была в ужасном состоянии. Ее ослепили и отрезали язык.
Напряжение в зале все нарастало; зрители с опаской посматривали друг на друга, гадая, сочувствует ли сосед обвинителю или же, напротив, осуждает.
Голос главного судьи нарушил молчание.
— Сиятельнейший советник! Что вы можете сказать в своё оправдание?
Марти вернулся на свое место, а Бернат Монкузи, с трудом подняв грузное тело, направился к свидетельскому месту четким и уверенным шагом. Затем он несколько раз подобострастно поклонился графу и графине и, повернувшись к залу, начал свою речь.
— Сиятельнейшие граф и графиня Барселонские, мои уважаемые коллеги-старейшины, высокочтимые кабальеро, духовные лица и почтенные горожане! Все вы хорошо знаете, сколько требуется сил и времени, чтобы создать репутацию, и как легко ее разрушить! Здесь вы видите выскочку, который вообразил, будто деньги дают ему право попирать ногами истину и пятнать честь добропорядочного подданного, посвятившего всю свою жизнь службе графству. Он имеет наглость распространять грязные слухи — несомненно, ложные, но способные ввести в заблуждение. Нет ничего страшнее, чем полуправда, поскольку крайне трудно отличить правду от лжи, если ложь похожа на правду. Сейчас вы увидите, как я сорву с него маску лжи и притворства и открою миру истинное его лицо. Сеньор Барбани посмел бросить мне обвинение, хотя я столько раз ему помогал, когда он только начинал дела в Барселоне. Все вы знаете, что я всегда оказывал посильную помощь жителям города и никогда не нарушал законов, о чем во всеуслышание заявляю. Нет необходимости особо указывать, каким видом деятельности я занимаюсь, всем это прекрасно известно. Я невиновен в преступлениях, которые он мне приписывает, и предлагал ему свою искреннюю дружбу, полагая, что он в должной мере оценит этот дар. Я даже открыл для него двери своего дома; он несколько раз был у меня в гостях и самым недостойным образом воспользовался моим гостеприимством. Он действительно познакомился с моей любимой дочерью на невольничьем рынке и просил у меня позволения ухаживать за ней. Да, я отклонил тогда его предложение, но видит Бог, я всегда восхищался его смелостью и молодым задором, а потому сказал, что дам ему окончательный ответ после того, как он получит гражданство Барселоны. Он тогда как раз собирался в долгое путешествие, и я вынужден признать, что недооценил его хитрость и коварство. Он предложил на роль компаньонки моей дочери свою рабыню, которая чудесно пела и играла на музыкальных инструментах, чтобы она скрашивала вечера моей Лайи. Думаю, уважаемым сеньорам не составит труда догадаться об истинной цели этого поступка. Сеньор Барбани запустил в мой дом настоящую змею, которая в скором времени совершенно подчинила себе волю моей дорогой девочки. Спустя некоторое время я обнаружил: в поте лица трудясь на благо города, я ослабил отцовскую бдительность и не успел вовремя заметить, что змея, поселившаяся возле моей Лайи, заронила в ее голову семя преступной любви. Коварная Аиша устроила для моей дочери несколько встреч с Марти Барбани накануне его отъезда в доме бывшей кормилицы Лайи, которая также внесла свой вклад в развитие их отношений, о чем я, правда, узнал намного позже. Марти Барбани отправился в путешествие, и лишь спустя несколько месяцев я совершенно случайно узнал обо всем. Я призвал мою дочь к ответу и вынудил ее прекратить это безумие, для чего заставил написать письмо, в нем она сообщала, что совершила ошибку и отношения закончены. Как вы понимаете, я также принял меры, разлучив ее с рабыней, которую поместил под замок; что же касается того, что я ослепил ее и отрезал ей язык, то вам известно, закон допускает подобные меры в отношении неверных рабов. После смерти Лайи, по своей доброте всегда ее защищавшей, я не видел смысла возвращать рабыню хозяину и потому оставил ее под замком. Каково же было мое удивление, когда однажды вооруженный отряд под предводительством Марти Барбани среди ночи ворвался в дом, где она содержалась под стражей, и посмел ее освободить, угрожая моему управляющему, дону Фабио де Кларамунту! Позвольте вас спросить: какое он имел право врываться ночью, как вор, в чужие владения, вместо того чтобы предъявить свои претензии днем и в соответствующей форме? Прошу вас, почтенные сеньоры, хорошо об этом подумать. Вот мой ответ. Конец этой истории я расскажу вам позже, когда истец выложит остальные обвинения против меня.
В зале воцарилось тяжелое молчание. Напряжение стало настолько густым и вязким, что его можно было резать ножом.
Наконец, заговорил судья Фортуни:
— Прошу вас обстоятельно ответить на вопрос оппонента, прежде чем мы перейдем ко второму обвинению.
Марти со своего места окинул беглым взглядом зал и почувствовал, что ответ Монкузи произвел глубокое впечатление на присутствующих. Его снова охватила лихорадка, что было весьма дурным знаком. Он с трудом поднялся и медленно направился к свидетельскому месту, сжимая в руке вольную Аиши.
— Я постарался быть кратким, но хотел бы уточнить кое-какие факты, которые мой противник умело искажает. Я никогда не говорил, что дарю ему рабыню. Если бы я действительно это сделал, разве я не должен был, согласно нашим законам и обычаям, подтвердить это соответствующим документом — скажем, на тот случай, если бы новый хозяин впоследствии захотел ее продать? Разве не очевидно, что я пошел по иному пути и, напротив, дал вольную этой женщине, рисковавшей ради меня жизнью? Ведь ее могли тайком продать или, того хуже, убить. Именно ради нее, а не по какой-либо другой причине, я отправился ночью в то место, где ее держали в заточении; я не причинил ни малейшего ущерба ни людям, ни имуществу. Я лишь предъявил документ, который вы сейчас держите в руках, управляющему, дону Фабио де Кларамунту.
После недолгого молчания Фортуни снова вмешался:
— Служащий, подайте сюда документ и позаботьтесь о том, чтобы дон Фабио де Кларамунт завтра с утра явился ко мне в кабинет. Слушание приостанавливается до завтрашнего утра. Все могут быть свободны.
Все встали, ожидая, пока графская чета и советники покинут зал. После напряженного дня толпа гудела. А в это время Руфь, которая так и не смогла проникнуть в зал и спряталась за дверью, тщательно прислушивалась к тому, что происходило внутри. Когда она услышала, что Марти ранен, сердце у неё сжалось от тревоги, и она поклялась, что вернётся к нему в тот же день, когда закончится разбирательство.
Советник удалился в окружении приспешников, раздавая улыбки и пожимая руки, а Марти чувствовал, как жар все усиливается, пока он шел в сторону приемной, где его дожидался падре Льобет. Священника встревожил болезненный вид Марти. У дворцовых ворот их внимание привлекла незнакомая женщина, не сводившая с них пристального взгляда; когда они вышли на улицу, она направилась следом, держась на почтительном расстоянии, и проводила их до самых дверей особняка Марти. После этого, запомнив, в какой именно дом он вошел, она отправилась прочь и вскоре затерялась в толпе.
115
Второй день заседания
Публики как будто прибавилось, хотя в зале и так уже было негде яблоку упасть. Деньги переходили из рук в руки, а на площади перед ратушей появились новые лица.
Граф и графиня заняли свои места; на лице Альмодис читалось откровенное любопытство. Лицо Марти было мертвенно-бледным, а советник излучал самодовольство. Секретарь вызвал гражданина Фабио де Кларамунта. Тот произнёс присягу и сел на скамью свидетелей между креслами противников.
Судья Фредерик Фортуни, который с самого начала был на стороне советника, начал допрос.
— Вы действительно дон Фабио де Кларамунт, гражданин Барселоны?
— Он самый.
— Советник Бернат Монкузи назначил вас алькальдом усадьбы близ Таррассы?
— Он меня не назначил, я лишь согласился исполнять эти обязанности по договору и служил там, пока мои интересы совпадали с интересами нанимателя.
— Двадцать третьего декабря вы находились в усадьбе?
— Да, но уже лишь в качестве управляющего.
— Оставим в стороне вашу должность. В конце концов, это неважно. Это правда, что вооружённый отряд под предводительством гражданина Барбани атаковал дом, чтобы забрать оттуда рабыню, заточенную в крепости?
— Не совсем так.
— Объяснитесь, пожалуйста.
— Группа людей перебралась через стены крепости. Конечно, они проникли в дом не вполне традиционным способом, но должен признать, они никого не обидели и ничего не взяли. Когда они показали мне вышеупомянутый документ, я понял, что все это время держал в заточении человека, которого не имел никакого права удерживать.
— Не вашего ума дело решать, имели вы такое право или нет, — заметил судья Фортуни. — Ваше дело — охранять вверенную вам собственность.
— Если бы я это сделал, могла пролиться кровь, а я не хотел, чтобы чей-то произвол привел к печальным последствиям, о которых я сожалел бы потом всю жизнь. Я служу не букве закона, а справедливости. Несчастная женщина не заслужила подобных страданий.
Вмешался судья Видиэйя:
— Давайте будем судить только о свершившихся фактах. Сеньор Кларамунт находится здесь в качестве свидетеля, а не обвиняемого. Итак, свидетель, скажите: что за документ вам тогда предъявили?
— Вольную, заверенную нотариусом, а доказательством, что это та самая особа, явился знак в виде четырехлистника, выжженный под левой подмышкой узницы.
Теперь пришёл черёд судьи Бонфийя-и-Марша.
— Расскажите подробнее о положении рабыни, — потребовал он.
— Ее ослепили и отрезали ей язык против моего желания и не спрашивая моего мнения. Именно это и послужило причиной моей отставки с поста алькальда. Меня глубоко возмутила такая жестокость.
Монкузи уставился на него пылающим взглядом; если бы глаза могли жечь, то обратили бы в пепел его бывшего служащего.
Тень сомнения легла на зал. Никто не знал, чем все это закончится.
И тут раздался голос секретаря.
— Ну что ж, можете быть свободны. Прошу вас не покидать пределов города без особого на то разрешения, ни с кем не обсуждать происходящее в этом зале, а также иметь в виду, что вас могут вызвать повторно для дачи показаний. Проводите свидетеля.
Служащий тут же оказался возле Кларамунта и проводил его к одному из боковых выходов из зала.
Голос де Бонфийя зазвучал снова.
— Советник Монкузи, встаньте и ответьте на вопросы перед лицом суда.
Бернат встал с равнодушным видом, как будто делает одолжение.
— Вы знали о том, что Аиша — свободная женщина?
— С какой стати кто-то стал бы дарить свободную женщину?
— Вам задали вопрос: знали вы об этом или нет?
— Разумеется, я этого не знал.
И снова вмешался Видиэйя.
— Почему же вы не потребовали составить соответствующий документ — на тот случай, если бы однажды вам захотелось ее продать?
— С какой стати я стал бы требовать, чтобы к подарку прилагался еще и документ? Это было бы по меньшей мере неучтиво.
— Почему вы не сообщили о нападении на вашу собственность, если вы утверждаете, что это был произвол?
— Я не хотел беспокоить графское правосудие по столь незначительному поводу, — ответил советник. — Ведь ничего не пропало и никто не пострадал. Жизнь этой рабыни к тому же совершенно бесполезна, не стоила беспокойства.
— Вы не сделали этого, зная, что сами поступаете противозаконно, ведь так?
Советник ответил с явным раздражением:
— В любом случае, это вина гражданина Марти Барбани, который своим мнимым подарком ввёл меня в заблуждение.
Трое судей переглянулись, после чего велели советнику вернуться на своё место и вновь вызвали Марти Барбани.
Бонфий тут же задал ему вопрос:
— Сеньор Барбани, разве вы не знали, что ваш поступок является преступлением? Вы отдаёте отчёт, что если бы это был обычный суд, вас бы обвинили в вероломном нападении на чужую собственность в ночное время, да ещё и во главе банды соучастников?
— Мы спасали жизнь невинного человека, а сделать это законным путём не могли, — ответил он. — К тому же, мы ничего не взяли и никого пальцем не тронули. Уверяю вас, я стремился лишь защитить невинную женщину. Я охотно заплачу штраф, если потребуется.
Эусебий Видиэйя снова вмешался, перебив своего коллегу:
— На этом суде мы занимаемся другими вещами, — возразил он. — Так что, если мои уважаемые коллеги не возражают, перейдём к следующему обвинению.
Марти вышел из зала и направился к судейскому столу, чувствуя, как его все больше охватывает жар.
Оттуда он оглядел зал и обратился к судьям:
— Уважаемые сеньоры: около четырех месяцев назад на мое родовое гнездо напала банда поджигателей, обратив в пепел все, что мне было дорого. Но это еще не самое страшное, ведь дом можно отстроить заново. Однако при пожаре погибли моя мать, Эмма де Монгри, и старый слуга, Матеу Кафарель, служивший нам со времен моего детства. Моя мать умерла, наглотавшись ядовитого дыма во время этого странного пожара. Перед смертью она описала их главаря: с него упал капюшон, и она смогла разглядеть его лицо. Как известно, все трусы прячут лица, а потому все они были закутаны в плащи. Но этот человек обладал столь приметной внешностью, что его описание засело у меня в памяти. Три дня назад, накануне litis, на меня напал и ранил человек, обладавший теми же приметами, едва ли это случайное совпадение. Меня пытался убить тот же человек, который поджег дом моей матери. Лишь благодаря Провидению мне удалось избежать гибели.
— И какие особые приметы этого человека заставляют вас подозревать, что это не было простым совпадением? — спросил Эусебий Видиэйя.
— Дело в том, что тот человек обладает более чем приметной внешностью. У него очень светлые волосы, почти бесцветные глаза и изрытое оспой лицо. Вот и скажите: много ли таких людей можно найти в нашем графстве?
— Объяснитесь, пожалуйста, — потребовал судья Понс Бонфий.
— Как я уже говорил, перед смертью мать очень точно описала этого человека. Так вот, когда я позавчера вечером покидал Пиа-Альмонию, в темноте на меня напал незнакомец, обладавший точно такими же приметами. Он ударил меня отправленным кинжалом, и я лишь чудом избежал смерти, благодаря вмешательству Провидения в лице духовника графини, падре Эудальда Льобета, который может это подтвердить. Если бы не он, litis бы не состоялся. А кто заинтересован в том, чтобы разбирательство не состоялось? И кто ещё в нашем городе имеет доступ к амфорам с чёрным маслом, кроме меня и сиятельнейшего вегера?
Эусебий Видиэйя весьма заинтересовался последним обстоятельством.
— Свидетельство падре Льобета, безусловно, очень весомо, — заметил он. — Кроме того, у нас есть показания караульного, который в ту ночь совершал обход. Что касается последнего заявления, то будьте добры его объяснить.
— Уважаемые судьи, среди развалин сожженной конюшни в имении моей матери я нашел вот это, — с этими словами Марти выложил на судейский стол закопченный осколок амфоры, на котором еще можно было разобрать римские цифры и буквы, означающие дату и номер. Судьи принялись рассматривать улику, передавая ее из рук в руки. — Пожар обладал целым рядом весьма характерных признаков; судя по тому, что его не удавалось погасить водой, это был не обычный огонь.
Судьи тщательно изучили переданный им предмет.
— Объяснитесь, пожалуйста, — попросил судья Бонфий.
— Сеньоры, в этих амфорах доставляют черное масло из дальних земель. Они все учтены и пронумерованы. Это делается для того, чтобы удобнее было контролировать его доставку в Барселону. Прежде чем я заключил сделку с сиятельнейшим вегером города, мне потребовалось разрешение смотрителя рынков и аукционов, и товар хранился в подвалах его резиденции. Номер и дата на этом осколке свидетельствуют, что амфора принадлежала к одной из тех партий.
В зале воцарилась гробовая тишина.
Немного посовещавшись с коллегами, судья Фортуни сказал:
— Участники суда, чтобы не терять времени даром, вам позволяется выступать со своих мест, если, конечно, суд не посчитает нужным вас вызвать.
Марти вздохнул с облегчением — головная боль по-прежнему была невыносимой.
— Сиятельнейший советник, что вы можете сказать по поводу улик, представленных сеньором Барбани?
Бернат Монкузи, казалось, опешил, но очень быстро взял себя в руки.
— Итак, уважаемые сеньоры, вот вам пример, как излишнее радение на благо графства порой приводит к печальным последствиям. Вы сами видите, как этот человек нагло искажает факты, пытаясь обвинить меня в том, к чему я не имею ни малейшего отношения. Мой бессовестный недруг прекрасно знает, каково хранить в своем доме черное масло, с какими неудобствами это связано и какой опасности я себя подвергаю. Теперь же он пытается запятнать мое имя. Когда он решил, что будет вести дела непосредственно с моим сиятельным коллегой, вегером Барселоны доном Ольдерихом де Пельисером, чтобы не платить пошлину на ввозимые в город товары, я убедил его оставить в моем большом подвале изрядный запас амфор — на тот случай, если возникнут проблемы с доставкой, чтобы город не остался без света. Поскольку все амфоры одинаковые и различить их трудно, я приказал своему слуге их пересчитать и пронумеровать, но точно так же поступает и он. Сеньор Барбани утверждает, что этот осколок сосуда — из той партии, что хранится в моем подвале. Однако позвольте заметить, с тем же успехом он мог принадлежать и к одной из его собственных партий. Я не удивлюсь, если окажется, что у него с матерью были серьезные разногласия, ведь, имея единственного сына, она жила в своем уединенном поместье в далеком Эмпорионе, хотя могла бы проживать в нашем прекрасном городе. А теперь скажите, уважаемые судьи: с чего бы женщине жить в деревне и гнуть спину от зари до зари, если она может проживать со всеми удобствами в одном из лучших домов нашего города? Это не первый и не последний случай, когда семейные ссоры перерастают в самые отвратительные преступления. Я отвергаю любые обвинения в попытке поджога и заявляю, что не знаком с альбиносом, участвовавшим в этом гнусном деле. И пусть истец попробует доказать обратное.
После этого заявления суд удалился на совещание, объявив о закрытии второго дня суда.
Марти, сжигаемый лихорадкой, отправился домой вместе с падре Льобетом, а странная женщина, как и накануне, снова последовала за ними.
Увидев своего хозяина в столь плачевном состоянии, перепуганный Омар бросился им навстречу.
— На вас просто лица нет! — воскликнул он. — Это разбирательство просто в гроб вас загонит!
— Я вам говорил уже тысячу раз: этот кусок слишком велик для вас, недолго и подавиться, — заметил падре Льобет.
— Сеньор, пока не поздно, откажитесь от этого дела, пока вас не убили! — взмолился Омар. — Вашей матери уже ничем не поможешь, и другим тоже, а в этом мире всегда побеждает тот, кто сильнее.
— С самого начала я говорил, что это пустая затея, и пока что ход событий подтверждает мои слова, но он упрям, как мул, — сказал священник.
— Как сегодня все прошло? — спросил Омар.
— Он хитер, как лисица, и изворотлив, как угорь, но не сомневайтесь, в конце концов я припру его к стенке, — заверил Марти.
— Вам нужно лечь в постель, — посоветовал Эудальд. — Я послал за лекарем Галеви, с минуты на минуту он будет здесь.
Марти с трудом поднялся по лестнице, с обеих сторон его поддерживали Омар и Эудальд. Добравшись до своей комнаты, он с облегчением рухнул на кровать.
Когда пришел лекарь, слуга удалился. Жар у Марти заметно усилился; перед глазами у него все плыло, очертания предметов казались размытыми.
Сняв повязку, мудрый Галеви внимательно осмотрел рану и тут же высказал свое мнение:
— Тот, кто оказал вам первую помощь, знал свое дело. Рану промыли, и она выглядит чистой.
Затем он ощупал лимфатические узлы на шее Марти, слегка уколол ланцетом средний палец его правой руки, чтобы выступила капелька крови, поднес его к губам и слизнул кровь; затем посмотрел зрачки, отметил желтоватый оттенок белков и, наконец, извлек небольшой флакон с фиолетовой жидкостью, смешал ее с мочой Марти и посмотрел на свет. Диагноз его был четким и ясным.
— Ваша кровь отравлена, и пока из тела не вывести яд, вас будут одолевать приступы лихорадки, которые могут привести даже к потере сознания.
— И каково же лечение, сеньор? — спросил священник.
— Время, падре, время и побольше козьего молока.
— Но, сеньор... Для Марти этот суд — вопрос жизни и смерти, на карту поставлено неизмеримо больше, чем просто его здоровье. Прошу вас, дайте ему какое-нибудь средство, чтобы он мог продержаться на ногах эти несколько дней.
— Только будьте осторожны, падре Льобет, — предупредил лекарь. — Я дам вам лекарство, но не стоит им злоупотреблять: если превысить дозу, оно может убить. Это вытяжка из бобов святого Игнатия и рвотных орехов. В первый день дадите ему ровно одну каплю, во второй — две, и на третий день — три, не больше. Это старинное средство укрепит его сердце, поднимет силу духа и поможет продержаться. Но повторяю: не ошибитесь с дозой.
Лекарь пошарил в сумке и протянул встревоженному священнику небольшую бутылочку, плотно заткнутую стеклянной пробкой, которую тот принял с таким благоговением, как будто она сделана из чистого золота.
116
Третий день заседания
Ожидание достигло апогея. Сторонники одной и другой стороны схватились в жгучих спорах, дошло даже до поножовщины — поговаривали, что один брадобрей полоснул бритвой своего клиента по шее.
Графская чета с интересом наблюдала за прениями участников, однако и между супругами возникли разногласия.
По просьбе Марти, принимая во внимание его недомогание, суд разрешил участникам продолжать litis сидя.
Все заняли свои места, и судья Фортуни возвестил об открытии заседания.
— Итак, мы открываем третий и последний день слушаний. Напоминаю участникам, что они находятся под присягой. В конце мы подведем итоги, спросим мнения членов курии комитис и представим материалы дела нашему сеньору Рамону Беренгеру, чтобы он лично ознакомился с ними и вынес приговор. До окончания слушаний обе стороны имеют право представить суду последние доказательства, если таковые имеются.
Марти предъявил свои документы и заявил, что желает возобновить тяжбу, как только судья предоставит ему слово, что немедленно было сделано.
— Гражданин Марти Барбани, мы готовы выслушать ваше заявление. Но помните, что после вас также сможет высказаться сиятельнейший советник Бернат Монкузи, а затем вы оба будете повторно допрошены, если суду будет угодно прояснить некоторые обстоятельства.
Поприветствовав графскую чету ритуальным поклоном, Марти начал свою речь.
— Уважаемые судьи, высокочтимые советники, благородные дворяне, духовные лица и достопочтенные граждане Барселоны! Мое последнее обвинение настолько серьезно, что трудно решиться произнести его вслух. Я обвинил графского советника в смерти его приемной дочери, но не объяснил причин ее гибели, поскольку до сих пор для этого не представилось подходящего момента. Однако сейчас этот момент настал.
Напряжение в зале достигло пика. Люди беспокойно ерзали в предвкушении, что им вот-вот предстоит узнать страшную тайну.
— Я обвиняю Берната Монкузи в том, что он обесчестил Лайю Бетанкур и потом многократно ее насиловал, и заявляю, что именно это, и ничто иное, стало причиной ее самоубийства.
Трибуны охнули, по всему залу пронесся сдавленный шепот, а Бернат Монузи побледнел и стал обмахиваться пачкой пергаментов.
Молоток секретаря положил конец этому волнению, а главный судья пригрозил вывести зрителей из зала. В конце концов суматоха улеглась.
— Гражданин Барбани, ваше обвинение настолько серьезно, что, если вы не сможете его доказать, вам могут предъявить встречное обвинение в клевете, и тогда вы понесете наказание, назначенное нашим графом. Мы вас слушаем.
Марти Барбани, понимая, что настал решающий момент, после которого все мосты будут сожжены и пути назад не останется, указал обвиняющим жестом на своего врага и крикнул во весь голос:
— Этот человек, злоупотребив правами опекуна, воспользовался своей властью над подопечной и изнасиловал ее, угрожая убить ее подругу Аишу. После этого он многократно насиловал ее вновь и вновь, и в итоге она забеременела. А потом, когда эта игрушка ему надоела, он решил избавиться от нее, выдав Лайю за меня замуж. Я без колебаний женился бы на ней, поскольку горячо любил ее всем сердцем. Но она, считая себя опозоренной и недостойной меня, в отчаянии покончила с собой, бросившись вниз с крепостной стены дома своего отчима. Вот доказательство моих слов.
С этими словами он выложил на судейский стол письмо Эдельмунды.
Письмо переходило из рук в руки. Когда же все судьи с ним ознакомились, Эусебий Видиэйя поднялся на ноги, чтобы прочесть его вслух.
После этого залу пробежал ропот. Судья потребовал у Марти объяснений, чтобы советник мог защититься от обвинений, а граф вынести решение.
Марти начал рассказ.
— Сеньоры, когда это письмо попало ко мне в руки, я не поверил собственным глазам. Я признаю, что действительно просил руки Лайи накануне моего отъезда; признаю также, что советник, несмотря на отказ, все же оставил мне надежду, сказав, что если я добьюсь звания гражданина Барселоны, то смогу получить ее руку. Окрыленный этой надеждой, я попытался поговорить об этом с Лайей. Мне удалось встретиться с ней несколько раз, и я знал, что она меня любит. Уже во время поездки я получил письмо от моей любимой, в котором она просила меня забыть обо всех наших клятвах и советовала отказаться от моей любви. Однако я заметил в этом письме кое-какие странности и некоторые признаки, указывающие о том, что она хотела сказать что-то еще. Позднее я узнал, что не ошибся. Посмотрите на этого человека, который обесчестил свою падчерицу, заставил ее пережить множество унижений и отказаться от меня, а затем силой вынудил к близости с ним, угрожая убить Аишу, если она будет упрямиться. Когда я вернулся в Барселону, его страсть, видимо, уже остыла; во всяком случае, теперь он сам предложил мне жениться на Лайе. Я не понял, в чем дело, но был всей душой ему благодарен. Однако свадьба так и не состоялась: в ту ужасную ночь, как вы знаете, моя возлюбленная решила уйти из мира живых. Очень долго я не мог понять, почему она это сделала, пока однажды не получил письмо от экономки советника — то самое письмо, что вы прочитали. Лайя родила ребенка от этого человека, младенец умер вскоре после рождения. Но пока она носила ребенка, советник всеми силами старался найти для него отца. Именно поэтому он и предложил свою падчерицу мне в жены. Но капризная судьба выбросила злой жребий. Если вы и это доказательство посчитаете недостаточным, я начну думать, что в нашем графстве царит двуличное правосудие.
На сей раз ни единый вздох не нарушил гробового молчания, установившегося в зале. И тут раздался голос судьи Бонфийя. Он велел Марти сесть и вновь вызвал советника.
— Сеньор Монкузи, вам предоставляется слово.
По лицу Берната Монкузи мелькнула паника, но он решил бороться до конца. Взяв себя в руки, он направился к свидетельскому месту.
— Почтенные сеньоры, когда под угрозой оказывается моя честь и репутация, я предпочту давать показания со свидетельской трибуны. Эти обвинения — чистая выдумка, призванная извратить события и смутить публику, вплетая ложь в правду, и все — только из ненависти и мести.
В зале воцарилось молчание, в котором был отчётливо слышен глубокий вздох советника, обращённый, видимо, к небесам и призванный защитить его от вопиющей несправедливости.
— Эта женщина действительно была моей экономкой и верно служила мне на протяжении многих лет. Но, к несчастью, она заболела проказой, и мне пришлось не только отстранить ее от дел, но и изолировать от здоровых людей. Эдельмунда пользовалась моим доверием, но я не мог пойти против закона и отослал ее в лепрозорий у подножия гор Монсени. Это письмо — не что иное, как попытка отомстить мне за это, почти каждое слово в нем — ложь и клевета. Тем не менее, крошечная доля правды в нем все же имеется, и она делает ложь более убедительной. Я говорю о том, что касается рабыни Аиши — да-да, рабыни, поскольку именно в этом качестве она вошла в мой дом. Что же касается всего остального, это плод ее злобных измышлений и ненависти. Вы только представьте, почтеннейшие судьи, чего стоило верному слуге закона принять такое решение! Эта женщина хотела остаться в Барселоне и отказывалась носить деревянную колотушку прокаженных. Вот единственная причина, по которой она написала это письмо. Но теперь, когда под сомнение поставлена моя честь, я вынужден рассказать о том, что произошло на самом деле. Я не рассказал об этом прежде, заботясь о добром имени моей дорогой девочки, погибшей при столь печальных обстоятельствах, она заслуживает уважения и доброй памяти. Теперь же обстоятельства таковы, что я не вправе больше это скрывать.
Выдержав эффектную паузу, советник направился к своему столу и, медленно налив воды в кубок, сделал долгий глоток, ожидая, какое впечатление произведут на публику его слова. Затем он вернулся к свидетельскому месту и продолжил:
— А теперь, дорогие сограждане, судите сами, я собираюсь рассказать настоящую историю, открыть вам глаза на мошенничество этого человека, а также пролить свет на истинные причины ненависти, которую питает ко мне гражданин Барбани. Как вам известно, я не возражал против брачного союза моей приемной дочери с этим человеком и лишь требовал, чтобы он добился звания гражданина нашего прекрасного города. Однако он решил действовать наверняка, похитив единственный цветок из моего сада, в чем ему способствовали вероломная рабыня Аиша, а также недоброй памяти кормилица Аделаида, в чьем доме они встречались, о чем, как вы понимаете, я узнал слишком поздно. Когда Барбани уехал, я, как заботливый отец решил, что к его предложению не стоит относиться серьезно и сообщил дочери, что ей пора подыскивать мужа среди молодых людей, которых я считал подходящей партией. И представьте себе мое изумление, когда однажды утром Лайя явилась ко мне в кабинет и сообщила, что некий ушлый молодчик успел лишить ее невинности — правда, с ее согласия. Заметьте, я не утверждаю, что ее изнасиловали. Признаю, в ту минуту праведный гнев охватил мою душу. Правда, свой гнев я обрушил на истинных виновников этого несчастья: во-первых на рабыню Аишу, а во-вторых, на кормилицу Аделаиду, в чьем доме голубки свили свое любовное гнездышко. Узнав об этом, я, разумеется, постарался пресечь эту связь, велел Лайе прекратить с ним всякие отношения и, конечно, разлучил ее с рабыней. Я очень надеялся, что на этом все и закончится, однако ошибся. В скором времени Лайя снова явилась ко мне в кабинет и принялась угрожать, что наложит на себя руки, если я не позволю ей продолжать глупую игру в любовь. Я не обратил внимания на ее угрозы и проявил твердость. Спустя некоторое время она вновь пришла ко мне и сообщила о беременности. Так началась моя Голгофа. С этой минуты я потерял сон и покой. Я отослал ее в загородное имение, чтобы она могла хорошо подумать о своем поведении и спокойно родить, по возможности избежав скандала. Я не мог предъявить претензий отцу ребенка, поскольку она по-прежнему отказывалась назвать его имя. Представьте себе мое отцовское горе: вера не позволяла мне избавиться от ребенка, а отцовская любовь побуждала искать выход из плачевного положения. Наконец я принял решение — признаюсь, далеко не самое лучшее, но другого выхода все равно не было. Я обратился за помощью к своему другу и духовнику падре Льобету, которому, к сожалению, сан не позволяет выступать в суде... Как вы понимаете, я не посмел бы солгать перед ним — не сомневаюсь, он присутствует в зале. Однажды вечером я отправился в Пиа-Альмонию и попросил его поговорить с подопечным, который уже сообщил в письме, что закончил все свои дела и должен вот-вот вернуться; под конец я сообщил, что некий негодяй похитил честь Лайи, и стал умолять падре Льобета, чтобы он уговорил Барбани жениться на моей дочери и признать ее ребенка. В этом смысле, правда, все обернулось к лучшему, поскольку ребенок родился мертвым. Падре Льобет, как всегда, сделал все, чтобы мне помочь. Как только этот человек, — он с очевидной неприязнью указал на Марти, — вернулся из путешествия, мы встретились, чтобы это обсудить. После этого я приказал привезти в Барселону мою девочку. Я сообщил ей о скорой свадьбе и пригласил в свой дом ее возлюбленного, чтобы объявить о помолвке. Как же я рад был видеть выражение счастье на ее прелестном личике — после стольких месяцев беспросветной тоски! В назначенный день я пригласил его в свой дом на ужин, мы обо всем договорились, и я дал ему свое благословение. Поначалу Марти Барбани вел себя достойно, разве что пил слишком много. К тому времени, как подали десерт, он был уже настолько пьян, что запросил непомерное приданое, уверенный, что я готов на все, лишь бы он согласился жениться. Когда я возмутился, он заявил, что все имеет свою цену и обесчещенной женщине полагается гораздо большее приданое, чем порядочной. Не спрашивайте, что я ответил, потому что я промолчал. Как раз в эту минуту прибежал мой дворецкий и сообщил о несчастье. Оказывается, бедная девочка слышала наш разговор, спрятавшись на галерее второго этажа. Так вот, услышав его слова о приданом и обесчещенных женщинах, услышав, какую цену заломил возлюбленный, который был ее заветной мечтой и единственным смыслом в жизни, она взобралась на городскую стену и бросилась вниз. Остальное вы и сами знаете, эта история давно уже стала достоянием публики.
Зрительские трибуны разбились на два лагеря: трибуна горожан явно поддерживала Марти, в то время как дворянская сочла более убедительной версию советника; и лишь трибуна духовенства ещё колебалась. После долгой паузы Бернат снова заговорил.
— Я понимаю, что причины моего поступка не вызывают ко мне симпатии, но надеюсь, что почтенные судьи и публика поймут, почему я так поступил. Да, я вынужден признать, что явился причиной этого несчастья. Я признаю, что собирался выдать замуж за этого человека мою приемную дочь — ну и что? Разве в этом есть что-то противозаконное? Разве не мой отцовский долг — попытаться исправить ее ошибку, виновен я в ней или нет? Разве вы не знаете, что обеспечить достойную жизнь изнасилованной девушке можно, только найдя ей мужа? В этом, уважаемые сеньоры, нет вины верного слуги Барселонского графства.
С этими словами он вернулся на свое место, не сомневаясь, что посеял тень сомнения в душах судей, не говоря уже о толпе, которая всегда была внушаемой.
Трое судей переглянулись и одновременно кивнули. Затем поднялся Бонфий.
— Советник Монкузи, мы считаем необходимым вызвать вашу бывшую экономку, чтобы она подтвердила или опровергла сказанное.
— Я понимаю, сеньор, что она оказалась бы вам весьма полезна, — с издевкой ответил советник, — но, если ваши люди не умеют вызывать духов из ада, боюсь, это невозможно. Я получил известие, что прошлой зимой Эдельмунда умерла от проказы.
117
Перст Провидения
Вечером в доме Марти, состоялось другое заседание. На него были приглашены падре Льобет, капитаны Жофре и Феле, который только что вернулся из плавания, грек Манипулос и Омар, за минувшие годы он стал для Марти скорее другом, чем просто управляющим.
Всех прибывающих гостей дворецкий Андреу Кодина провожал в музыкальную гостиную на втором этаже. Вокруг большого камина расставили удобные кресла для гостей, для Марти поставили кушетку.
Первым слово взял Эудальд.
— Итак, друзья, эта партия закончилась вничью. Можно сказать, мечи вынуты из ножен. Горожане на вашей стороне, Марти, чего нельзя сказать о дворянах; что же касается духовенства, то оно, как мне точно известно, ещё не определилось.
— Но ни одно из этих сословий не выносит приговор, — заметил капитан Жофре. — Насколько мне известно, это привилегия графа.
Хитрый Манипулос заявил:
— Не стоит забывать, что лишь немногие избранные имеют возможность нашептывать на ухо сильным мира сего. Пусть даже простые граждане и на вашей стороне, у них нет доступа во дворец.
— Решают все равно судьи, а их ваши аргументы глубоко тронули, — сказал Феле.
Льобет откинулся на спинку кресла и ответил:
— К сожалению, не всех, Феле. Я уверен, что по меньшей мере один из судей подкуплен советником.
— Скажите, Эудальд, какие последствия может иметь для Марти обвинительный приговор? — спросил Феле, не знавший подробностей этого дела, поскольку лишь недавно вернулся из плавания.
— Ужасные, сын мой, просто ужасные.
— Насколько ужасные?
— Litis — это суд чести. Если Марти ее лишится — а согласно правилам, он ее лишится, если солжет в ответ на какой-либо вопрос, советник вправе будет потребовать компенсации, что в данном случае для Марти будет равносильно гибели.
— И наоборот, — вставил Жофре.
— Само собой. Но боюсь, если не найти железного доказательства, все может обратиться против Марти. Я много раз предупреждал вас, чтобы не тревожили улей, Марти. Нужно признать, что Монкузи умен. Он назвал мое имя, понимая, что я не могу дать показания и сместить чашу весов в вашу пользу. А письмо Эдельмунды лишь подчеркнуло в глазах судей, что Аиша была рабыней... Дело принимает дурной оборот. Молитесь о чуде.
У Марти вновь начался жар, крупные капли пота выступили у него на лбу.
— Вам нужно отдохнуть, Марти, — сказал грек. — Если вы себя уморите, будет уже неважно, выиграете вы проиграете. Кто точно останется в выигрыше — так это могильные черви.
— Послезавтра выпадет последняя возможность, и я не могу расслабляться, да и все равно пытаться бесполезно. Вы прекрасно знаете, что это сейчас для меня самое важное. Для счастья мне не так уж много нужно, если я все потеряю, то начну заново с вашей помощью.
Их спор прервал голос Андреу Кодины:
— Сеньор, та самая женщина, что дважды приходила вчера вечером, желает вас видеть, — сообщил он.
— Скажите ей, что сеньор Барбани никого не принимает, пусть придёт завтра, — распорядился Эудальд.
— Думаю, вам придётся принять ее, сеньор, — сказал дворецкий. — Вместе с ней пришла сеньора Руфь.
При звуке этого имени на лице Марти вновь заиграл румянец.
— Пусть войдёт, — велел он.
Все взгляды устремились в сторону двери. В гостиную вошла Руфь, заметно похудевшая, но по-прежнему полная решимости. Странная гостья осталась снаружи, дожидаясь, пока ее пригласят войти.
— Марти, что с вами? — воскликнула девушка, увидев его в постели.
Руфь бросилась к нему.
— Было крайне неразумно приходить сюда, дочь моя! — упрекнул ее Эудальд.
— У меня не было другого выхода. У дверей дома я встретила эту женщину. Ее не хотели впускать. Она мне представилась и рассказала о цели своего прихода, и тогда я велела слугам открыть дверь. Полагаю, она расскажет немало интересного. Она ждёт снаружи.
Марти нежно погладил Руфь по голове, и глаза ее засияли любовью.
— Прошу вас, друзья, оставьте нас.
Мужчины удалились, обняв его на прощание.
Когда все вышли, Марти приказал Кодине:
— Скажите этой женщине, пусть войдёт.
Оставшись с Руфью наедине, Марти прижал ее к себе и страстно поцеловал в губы.
— Как же мне вас не хватало! — прошептал он.
Девушка взглянула на него полными слез глазами, и улыбка озарила ее лицо.
— Не волнуйтесь, я больше никогда вас не покину.
Руфь села на край постели в ожидании гостьи.
Дворецкий впустил женщину средних лет, одетую по-вдовьему — в черную блузу и юбку; голову ее покрывала косынка из черного кружева, закрепленная на волосах гребнем из оленьего рога. Она держалась со спокойным достоинством и, казалось, нисколько не смутилась окружающей роскошью.
— Прежде всего, прошу прощения за то, что врываюсь в ваш дом в такой час, — начала она.
— Пожалуйста, сядьте и объясните, в чем дело, — ответил Марти.
Женщина уселась перед ними на табурет, стиснув в руках небольшой мешочек.
— Полагаю, вы — дон Марти Барбани? — спросила она.
— Да, это я.
— Я здесь, чтобы исполнить обещание, данное моей матерью Лайе Бетанкур.
Марти с надеждой взглянул на Руфь.
— Кто вы? — спросил он.
— Мое имя вам ни о чем не скажет. Меня зовут Ауреа. Позвольте перейти сразу к делу. Моя мать Аделаида, да покоится она с миром, была кормилицей Лайи Бетанкур. Одна важная персона, с который вы сейчас ведете тяжбу, сделала ее жизнь в городе невыносимой, узнав, что вы с Лайей встречались в ее доме. В то время я была замужем за седельщиком и жила в Монторнесе. С такой профессии он не имел недостатка в клиентах, и жили мы припеваючи. Когда сеньор Монкузи узнал о ваших свиданиях, он вынудил мою мать сбежать из Барселоны и укрыться в моем доме. Четыре года назад и она, а потом и мой муж, скончались. Тяжелое положение и необходимость поднимать на ноги сыновей вынудили меня задержаться с исполнением ее последней воли. Но до нас дошли известия о происходящем в Барселоне, и стоило мне услышать ваше имя, как я тут же вспомнила о словах матушки: «Найди Марти Барбани, — сказала она, — и вручи ему эти два письма, пусть он сам решает, что с ними делать». Вот потому я и пришла.
С этими словами женщина развязала тесемки мешочка и достала оттуда два конверта, один — запечатанный воском, а второй — открытый.
Руфь поспешила забрать их и передала Марти. Из-за лихорадки, жары и прилива чувств, пот лил с него градом. Он предложил женщине напитки и стал читать.
Одно из писем, печать с которого была уже сорвана, гласило:
Дорогая Аделаида, я не знаю, попадёт ли мое письмо в ваши руки. Я в крайне тяжёлом положении и не знаю, увижу ли когда-нибудь любимого. Если вы не получите от меня известий или, хуже того, вам сообщат, что я умерла, умоляю, передайте ему, когда он вернётся из путешествия, письмо, которое я оставляю вам на хранение. Если мне удастся обмануть Эдельмунду, я передам его вам сама; если же нет — найду другой способ.
Всегда ваша, с тысячей поцелуев,
Лайя Бетанкур
Увидев, как любимый изменился в лице, Руфь поняла, насколько важным было для него это письмо.
Взглянув на него, женщина спросила:
— В этих письмах действительно что-то важное, сеньор? Простите, что не приходила раньше, все это время меня мучила совесть. Я воспользовалась моим званием гражданки Барселоны, которое получила в наследство от отца, оно даёт мне право посещать заседания litis. Каждый день я приходила в зал суда, а затем провожала вас до самого дома. Я должна была удостовериться, что это действительно вы, прежде чем исполнить данное матери обещание. Вчера ваши слуги не пустили меня в дом, но сегодня мне повезло и я смогла войти вместе с этой милой девушкой.
— Успокойтесь, пожалуйста, и дайте мне закончить чтение, — попросил Марти.
Руфь протянула Марти ножик, и тот, дрожащей рукой срезав печать, стал читать:
Писано в Барселоне, 10 декабря 1055 года.
Мой любимый, ненаглядный Марти!
Я не знаю, попадёт ли когда-либо это письмо в ваши руки и буду ли я к тому времени жива. Но вы должны знать, что письмо, которое вы получили в последний раз, меня заставили написать против воли. Я люблю вас всем сердцем и ничего не желаю так страстно, как быть рядом с вами, но это было бы слишком чудесно, я этого недостойна.
Я пала жертвой прихоти моего отчима. Он обесчестил меня и продолжает насиловать всякий раз, когда ему заблагорассудится, угрожая, что прикажет пытать Аишу у меня на глазах.
Когда это происходило, мне казалось, будто я умерла, и я уносилась мыслями далеко-далеко — к вам. Я не знаю, как долго у меня хватит сил выносить эту муку, но знайте, что мое сердце по-прежнему принадлежит вам и мой последний вздох будет для вас.
Любящая вас до последнего часа
Лайя Бетанкур
Рука Марти бессильно упала на ложе; Руфь тут же схватила письмо и принялась читать.
— Сеньора, не побоюсь сказать, что вы спасли мне жизнь, — объявил Марти. — Я буду вам благодарен до конца дней. А пока прошу вас подождать здесь, пока Руфь, моя наречённая, вручит вам свидетельство моей благодарности.
От этих слов глаза Руфи засияли.
— Мне ничего не нужно, сеньор, — ответила гостья. — Лишь память о матери заставила меня исполнить данное ей обещание.
— Вы назвались вдовой и сказали, что вы почти разорены. Отныне вы никогда и ни в чем не будете нуждаться — ни вы, ни ваши дети.
Заливаясь слезами, женщина упала на колени перед Марти и попыталась поцеловать его руку. Он крепко обнял ее за плечи.
— Встаньте, ради Бога! Я и так перед вами в неоплатном долгу. А теперь, сеньора, простите, но я вынужден удалиться.
Повернувшись к Руфи, чьи глаза излучали бесконечный восторг, и чувствуя, как ураган, вызванный этим письмом,вызвал воспоминания из самых глубин памяти, он распорядился:
— Позовите Омара и Андреу Кодину, чтобы они помогли мне дойти до постели: что-то я неважно себя чувствую.
С помощью двоих мужчин Руфь довела его до спальни, где оставила при свете единственной свечи, которую зажгла Аиша, и отправилась выполнять его поручения.
Гостья призналась, что весьма нуждается, и Марти решил вознаградить ее за преданность и усилия.
Руфь подошла к ларцу с чугунными полосами — тому самому, который завещал Марти его отец; вставив оба ключа в замочные скважины, она открыла замки. Руфь уже собралась достать из ларца манкусо, чтобы передать гостье, когда вдруг заметила на дне нечто странно знакомое, и в голове у неё зародился пока ещё неясный план. В висках застучала кровь, ей стоило немалых усилий привести в порядок свои мысли. Осталось всего два дня, чтобы привести план в исполнение, риск был ничтожен, а случае успеха, план принёс бы огромную пользу ее любимому, который лежал сейчас, больной и почти беспомощный, а потому едва ли мог как одобрить, так и воспрепятствовать ей. Она закрыла ларец и поспешила к гостье. Та дожидалась в музыкальном салоне, рассматривая арфу, стоявшую в углу.
— Вот, возьмите, — сказала Руфь, протягивая женщине туго набитый кошелек.
— Что это, сеньора? — спросила та.
— Пятьдесят монет, как приказал мой наречённый, — ответила Руфь, наслаждаясь уже одним звучанием этого слова. — А ещё он велел передать, что каждый год вы будете получать такую же сумму.
Слезы неудержимым потоком покатились по щекам женщины.
— Сеньора, я не могу взять эти деньги, — сказала она.
— Ступайте с Богом. Вы даже представить не можете, какое счастье принесли в наш дом.
— Я буду благословлять вас каждый день до конца жизни!
Руфь прервала поток ее благодарностей:
— Я попрошу слугу отвезти вас в карете. Не годится ходить по улицам Барселоны в такой час и с такой суммой.
Женщина удалилась, благословляя свою судьбу. Проводив ее до порога, Руфь велела Омару прийти в маленькую гостиную.
Там они долго спорили. Верный слуга хоть и понимал, какую пользу может принести Марти план девушки, все же считал, что негоже ей подвергать себя такой опасности, разъезжая по городу ночью в мужской одежде, да еще и со столь опасным грузом.
Вскоре после полуночи, предъявив один из тех пропусков, которые имели все работники верфи судовладельца Марти Барбани, молодой всадник выехал из ворот Регомир и, перейдя на шаг, чтобы не привлекать лишнего внимания, направился в дальний конец гавани, к подножию горы Монжуик, где располагались кузницы и плавильни, чьи огни были видны из самой Барселоны.
Добравшись до места, он спешился, привязал лошадь к коновязи и направился к кострам, у которых за чаркой вина отдыхали кузнецы.
— Скажите, уважаемые, кто-нибудь из вас знаком с капитаном Жофре?
— Только что я видел его в пятой кузнице, — ответил один. — Если поспешите, то непременно его найдете.
— Да вознаградит вас господь за доброту, — ответил незнакомец.
Распрощавшись с дружелюбными кузнецами, Руфь направилась в сторону пятой кузницы, находящейся в сотне метров.
Удары молотов по наковальням наполнили ночь странным ритмом. Когда девушка вошла в кузницу и увидела искры от горнов и красные отблески на голых торсах кузнецов, ей показалось, будто она попала в преисподнюю. Грохот стоял оглушающий. Руфь подошла к двум мальчикам, сметающим металлическую стружку вокруг огромных кожаных мехов, затем они кидали стружку обратно в горны.
В таком шуме ей пришлось крикнуть одному мальчику прямо в ухо и спросить, где найти капитана Жофре — в числе прочего он присматривал за работой кузниц, где ковали металлические детали для кораблей.
Мальчик ткнул пальцем в каморку под самым потолком в глубине кузницы, туда вела деревянная лестница. Под пылающими взглядами мужчин, почувствовавших, что проиходит нечто необычное, РУфь поднялась наверх.
Увидев ее, Жофре тут же поднялся, решив, что этот визит не сулит ничего хорошего. Руфь попыталась его успокоить, но в таком грохоте, прежде чем она сумела объяснить причину своего появления, Жофре пришлось сначала закрыть дверь.
Моряк внимательно слушал ее рассказ, и с каждым словом в глазах его все сильнее разгорался огонёк.
— Где этот пакет? — спросил он наконец.
— Вот он.
Руфь достала из складок одежды маленький мешочек и протянула его Жофре; тот повернулся к столу, на котором стояла свеча, и вытряхнул на стол его содержимое.
— И это все?
— Нет, половина осталась в доме, в надёжном месте; это только для эксперимента.
— Сколько у нас времени?
— Последнее слушание назначено на завтра. Так что в запасе ещё один день.
— Тогда не будем терять времени.
118
Части головоломки
Атмосфера в зале накалилась. И в прошлые дни зал был полон, но в этот, решающий, даже стражники упросили командиров найти им местечко внутри. Всем хотелось сказать соседям, друзьям и родне из других графств: «Я видел это собственными глазами». Бесстрастный наблюдатель скорее всего решил бы дело в пользу графского советника. Многие клиенты и должники старались пожать ему руку и пожелать успеха, чуя в нем победителя, чего нельзя было сказать о Марти — бледном, едва держащемся на ногах от приступа лихорадки, но готового принять всё, что сулит этот день.
Все уже заняли места; трибуны были забиты до отказа, судьи сидели за столом, противники устроились друг против друга. Фанфары и серебряные колокольчики — подарок мавританского короля Тортосы — возвестили о появлении графа и графини, на сей раз в сопровождении старшего сына Рамона Беренгера, Педро Рамон, он занял трон ступенькой ниже предназначенных для его отца и мачехи.
Когда судья Видиэйя объявил открытым последний день заседания, после которого ожидался вердикт графа, в зале повисло напряженное молчание. Все взгляды устремились на противников.
— Дон Марти Барбани де Монгри, подойдите сюда и изложите ваши последние аргументы, другой возможности у вас не будет.
Марти пошарил в лежащей перед ним кожаной сумке, достал письмо и показал его всем присутствующим.
— Уважаемые сеньоры, прошу вашего позволения предьявить суду новые улики, которыми я не располагал до вчерашнего дня, — произнёс он.
— Будьте добры, но прежде изложите суть ваших претензий, — вмешался Фредерик Фортуни.
— Хочу попросить ответчика сличить почерк, — ответил Марти.
— Ну что же, прошу.
Марти с трудом поднялся. Усилия лекаря Галеви оказались ненапрасными, но Марти боялся, что очередной приступ лихорадки может лишить его последних сил и даже привести к обмороку. Он кое-как добрался до судейского стола и протянул судьям документ.
— Это письмо Лайи Бетанкур, которое я получил много лет назад. Пусть сиятельнейший советник скажет, действительно ли это почерк его приёмной дочери.
Трое судей долго изучали письмо, передавая его из рук в руки, после чего велели Марти вернуться на место и вызвали Берната Монкузи.
Тот приблизился — медленно и величаво, как и подобает человеку его комплекции.
Судья Бонфий протянул ему письмо. Советник, вставив в глазницу монокль, внимательно его изучил.
— Разумеется, я узнаю это письмо, и я вам о нем уже говорил. Не знаю, зачем истец его принёс, это письмо написано моей падчерицей под мою диктовку, когда я решил положить конец ее преступной любви, которая в итоге привела к известной трагедии.
Судья Фортуни повернулся к Марти.
— Полагаю, вы удовлетворены?
— Да, уважаемые сеньоры. Единственное, чего я хотел — его подтверждения, что это письмо действительно написано рукой Лайи Бетанкур.
— Ну что ж, он это подтвердил; так что позволим его милости вернуться на место и продолжим.
— Уважаемые сеньоры, у меня есть другое письмо, и оно, без сомнения, написано той же рукой, что и предыдущее.
— Хорошо, подойдите.
На этот раз на лице советника отразилось изумление, смешанное с недоверием.
Марти снова подошел к столу и отдал письмо. Публика, наблюдая за тем, как судьи вполголоса совещаются, решила, что настал кульминационный момент. Даже графская чета была заинтригована этой замешкой, а члены курии комитис беспокойно заерзали.
Поднялся секретарь суда Эусебий Видиэйя.
— Учитывая весомость новой улики, мы считаем необходимым вновь вызвать дона Берната Монкузи.
На сей раз советник был настроен более чем решительно. Резко поднявшись, он направился к судейскому столу огромными шагами. Вновь вставив в глазницу монокль, он принялся читать письмо; с каждой прочитанной строчкой его лицо все больше наливалось свекольным цветом.
— Клевета, грязная ложь! Я требую, чтобы эту якобы улику признали фальшивой!
После недолгого совещания секретарь снова поднялся.
— Мы намерены обсудить это послание в узком кругу, а затем...
Но тут его речь оборвал властный голос графа:
— Нет уж, прочтите письмо вслух. Напоминаю вам, что это публичное слушание, и, как бы нам ни хотелось что-то скрыть, граждане Барселоны имеют право знать обо всех обстоятельствах дела.
Судья Бонфий встал и в гробовой тишине начал читать письмо Лайи, где в полных горечи строчках содержались серьезные обвинения в адрес ее отчима.
Едва судья закончил читать, как Монкузи с криком вскочил.
— Ложь, клевета, полный бред! Я требую, чтобы Марти Барбани призвали к ответу за клевету, которой он пытается меня опорочить!
— Ваша милость, позвольте напомнить, что вам никто не давал слова, — произнёс Бонфий. — Гражданин Марти Барбани де Монгри, можете продолжить.
Марти медленно поднялся на ноги, впервые почувствовав, что удача переходит на его сторону.
— Я не прибавил здесь ни единой черточки, ни единой запятой, — сказал он. — Ни я, ни гражданин Монкузи не можем однозначно доказать, что это письмо написано именно Лайей Бетанкур. Но, поскольку мой противник только что подтвердил, что другое письмо действительно написана его падчерица, я предлагаю попросить уважаемых храмовых писцов сравнить почерки.
Трое судей принялись совещаться, когда вдруг раздался властный голос Рамона, заставив стихнуть ропот толпы.
— Да будет так! В порядке исключения, учитывая эту досадную задержку, призываю отложить принятие решения до той минуты, когда духовные лица выскажут свое мнение. Сеньор секретарь, прошу вас прервать заседание.
Когда судейский молоток трижды поднялся и опустился, объявляя об окончании заседания, и Марти, переглянувшись с Льобетом, вышел из зала, чтобы обнять Жофре, Омара и Манипулоса, рев толпы и топот множества ног достигли такой силы, что напомнили старому моряку вой штормового ветра.
119
Божий суд
Заключение экспертов было однозначным — оба письма написаны одной рукой. Когда секретарь огласил заключение, в зале воцарилась гробовая тишина. Последняя улика подтвердила бесчестье Монкузи. Граф смотрел на него с трона суровым и мрачным взглядом. То, что начиналось лишь как развлечение, как попытка раскрыть глаза на хитрость его советника, теперь обернулось настоящей драмой. Бернат сгорбился, глядя в пространство потерянным взглядом. Под сводами зала вновь прозвучал голос судьи Фортуни.
— Истец, есть ли у вас еще что сказать ответчику до закрытия litis?
— Да, сеньоры.
— В таком случае говорите.
— Я должен восстановить доброе имя добропорядочного менялы Баруха Бенвениста, публично казненного на площади, к величайшему бесчестию нашего правосудия.
Голос Марти прозвучал как гром среди ясного неба. Все понимали, что вот-вот разразится буря, поскольку это заявление, пусть и косвенно, но все же задевало и графа Барселонского.
Голос судьи Фортуни звучал по-прежнему невозмутимо, но в нем послышалась скрытая угроза.
— Вы понимаете, что этим заявлением ставите под сомнение справедливость нашего графа?
— Я уверен, что непогрешим лишь Бог в небе.
— Что за бред вы несете? Если вы немедленно не разъясните это заявление, то даже в случае выигрыша litis можете предстать перед более серьезным судом.
Но Марти решил вступить в последний бой. Советник, увидев брешь в его обороне, был готов воспользоваться ситуацией.
Марти повернулся в сторону графской четы и заговорил, как если бы обращался к ней:
— Высокочтимые граф и графиня, сиятельнейшие судьи! Я родился не в благородной колыбели, воспитывали и обучали меня не знатные гувернеры и не мудрейшие профессора кафедральной школы. Я родился в скромной небогатой семье, и обучал меня простой сельский священник; тем не менее, он сумел привить мне принципы равенства и справедливости. Я знаю, ваша справедливость легендарна, вы не делаете различий между благородными дворянами, гражданами Барселоны и простым народом. Именно поэтому народ так вас любит и гордится тем, что им правят мудрые и милосердные властители. Однако справедливость, высокочтимые сеньоры, должна опираться на улики и показания свидетелей, заслуживающих доверия; если же они, в силу не зависящих от вас обстоятельств, искажают факты, более того, откровенно лгут, вполне может статься, что кара постигнет невинного, а виновный выйдет сухим из воды.
Все глаза устремились на Марти. Напряжение в воздухе настолько сгустилось, что, казалось, его можно было резать ножом. Выдержав недолгую паузу, Марти продолжил, стараясь, чтобы его слова услышал весь зал:
— Несколько месяцев назад вы приговорили к повешению добропорядочного менялу Баруха Бенвениста, причем, вменили ему в вину не только то, что он вовремя не распознал фальшивые мараведи, но и попытку ограбить графскую казну, обвинив его, что он якобы спрятал переплавленное золото и заявил, будто ему передали фальшивые деньги. Эта идея принадлежала некоему графскому советнику, а именно, ответчику, Бернату Монкузи. Так вот, высокочтимые сеньоры, я могу представить доказательства совершенных им преступлений и восстановить тем самым доброе имя вашего преданного слуги, а также еврейской общины Каль.
Торжественным жестом Марти извлек из своей сумки два мешочка, один из грубой кордовской кожи, другой — из тонкой замши с вышитым гербом графства, и положил на судейский стол. Зрители наблюдали за ним затаив дыхание, как дети на площади наблюдают за действиями фокусника.
На сей раз Марти обратился к публике на трибунах.
— Взгляните, уважаемые сеньоры, на эти вещи. Сеньора Альмодис пожаловала мне звание гражданина Барселоны в награду за то, что я осветил город к приезду севильского посла, и вручила мне некоторую сумму золотом, чтобы я разделил монеты между моими слугами. Но монеты были так красивы, что мне было жаль с ними расставаться, а потому я расплатился с моими людьми обычными манкусо, спрятав в недрах своего сундука этот замшевый мешочек с графским гербом, который сейчас и представляю на ваше обозрение. В этом мешочке по-прежнему находятся мараведи, которыми меня награждили. Позапрошлой ночью один из моих людей обнаружил этот мешочек среди моих вещей, взял часть этих денег и отнес в кузницу в гавани, чтобы проверить качество сплава. Сеньоры, монеты оказались фальшивыми, лишь сверху покрытыми золотом! Этих денег не касалась рука Баруха Бенвениста или других менял из Каля. Вот вам и доказательство!
С этими словами он как можно медленнее вытряхнул содержимое второго мешочка; на поверхность стола упало несколько неровных кусков темного металла.
При этих словах граф заметно побледнел, а зрители вскочили и принялись кричать, свистеть и аплодировать. Зал наполнился ликующими и негодующими криками, причем благородные дворяне свистели и хлопали столь же горячо, как и простые горожане, и лишь духовенство чинно выжидало развития событий.
После того как в зале был восстановлен порядок, главный судья велел Марти продолжать.
— Вот, уважаемые граф и графиня, доказательство того, что все мараведи, переданные недоброй памяти послом Абенамаром в качестве выкупа за ар-Рашида, сына Аль-Мутамида, короля Севильи, изначально были фальшивыми, и весьма прискорбно, что Баруху Бенвенисту пришлось заплатить жизнью за чужое преступление. А потому я взываю о восстановлении его доброго имени и возвращении его потомкам имущества, поскольку для него самого мы уже ничего не можем сделать. Но я хочу пойти еще дальше. У советника остается лишь два варианта: либо признать свою некомпетентность и вопиющее пренебрежение обязанностями, поскольку он принял выкуп фальшивыми деньгами, посчитав их настоящими, и это повлекло за собой огромные убытки для графства; либо, что еще хуже, признать — он с самого начала обнаружил подлог, но решил нагреть на этом руки, свалив вину на менял-евреев.
На этот раз, едва он окончил свою пламенную речь, молчавшая до сих пор трибуна духовенства разразилась бурными аплодисментам, к которым вскоре присоединились даже верные до сих пор приверженцы советника. Доказательство было неопровержимым.
Когда страсти наконец утихли, судья Фортуни предоставил слово Монкузи.
— Сеньор советник, что вы можете сказать в свою защиту?
Бернат Монкузи решил драться до конца. Поднявшись на помост, он повернулся к зрителям всем своим необъятным телом, словно ища у них сочувствия, и начал плести ответную речь.
— Высокочтимые граф и графиня, достопочтенные дворяне, духовные лица и граждане Барселоны! Я всегда был покорным слугой закона и знаю свои права и обязанности. По правилам litis honoris ответчик должен отвечать на обвинения истца, не поднимая других тем. Но видит Бог, коли уж он заговорил о менялах, я тоже не стану молчать.
Проникновенным тоном проповедника он продолжил обличительную речь.
— Как смеет этот наглец обвинять меня в чем-либо, если он прячет в своем доме человека, приговоренного графом Барселонским к изгнанию? Как можно доверять словам этого человека, если сеньор Барбани сам нарушает закон? И он еще смеет обвинять других!
С этими словами он указал на Марти толстым пальцем левой руки.
— Сеньор Барбани, не вам учить других, как соблюдать законы, вы сами преступник. Разве вы не прячете в своем доме младшую дочь осужденного Баруха Бенвениста, которая вместе со всей своей семьей должна отправиться в изгнание по приговору нашего великодушного графа? Кроме того, она еврейка, а потому навлекает позор на свою общину и народ уже тем, что проживает вне стен Каля. Кто вы такой, чтобы обвинять меня? Ваш поступок уже сам по себе лишает вас права возбуждать litis honoris против честного и законопослушного гражданина, верного слуги закона. Все ваши обвинения не стоят и ломаного гроша.
Зрители переводили взгляд с одного на другого, а с них — на троны графской четы.
— И если вы попытаетесь как-то оправдать подобное бесстыдство и вероломство, то я сразу скажу: подобному поступку оправдания нет и быть не может. Уважаемые судьи, я требую признания недействительным всего судебного процесса, поскольку тот, кто его возбудил, не имел на это права.
Расправив складки своего одеяния, он повернулся и направился к своему месту.
Этот выпад вызвал у Марти очередной приступ лихорадки, и когда он хотел уже встать, голова у него закружилась, и он рухнул обратно в кресло.
И тогда на трибуну поднялся падре Льобет. Обратившись к графине, он попросил дать ему слово.
— Я здесь не для того, чтобы в чем-либо обвинять советника, — начал он. — Но считаю своим долгом опровергнуть его ложные заявления. Да, Руфь Бенвенист довольно долго жила под крышей сеньора Барбани, однако недавно покинула его кров. Но сейчас Руфь Бенвенист приняла христианство, она крестилась до того, как вступил в силу приказ об изгнании. Я сам ее окрестил и поселил в монастыре, пока ситуация не прояснится. Кроме того, я не сомневаюсь, что в скором времени она станет супругой Марти Барбани, — добавил он, улыбнувшись своему подопечному. — И, насколько я понимаю, учитывая представленные здесь улики, с Баруха Бенвениста и его семьи будут сняты все обвинения.
Бернат Монкузи заерзал.
На этом заседание закончилось. Публика в возбуждении высыпала на улицу, комментируя события этого напряженного дня и гадая, каким будет решение графа. Тем временем Рамон Беренгер покинул зал нахмурившись, озабоченный вставшей перед ним проблемой. Одно было ему ясно: ни его честь, ни казна графства не должны пострадать.
В этот вечер между супругами разгорелся особенно жаркий спор.
— Я не понимаю, как вы можете быть столь легкомысленной, Альмодис, — сказал граф. — Как можете, не посоветовавшись со мной, швыряться деньгами, которые я дал вам, не потратив на нужды города?
Альмодис взвилась, подобно змее, уж она-то всегда знала, что лучшая защита — это нападение.
— Хотите сказать, что я должна просить вашего разрешения оплачивать услуги моих людей? Предлагаете мне перестать раздавать бесплатный суп обездоленным из-за возражений вашего казначея? Разве я не сообщила вам, как собираюсь потратить полученные деньги? А кроме того, никто не мог предполагать, чем всё обернется из-за беспечности вашего советника, хотя уж я-то всегда терпеть его не могла.
— Но как мне теперь оправдать собственное малодушие?
— Вы Граф Барселоны, никто по потребует ответа за ваши действия. Если бы не неблагоразумие вашего советника, вы бы в это не вляпались. Мараведи переходят из рук в руки, ведь у денег нет родителей, и если кого и винить в том, что они фальшивые, так это короля Севильи, ведь это его профиль выбит на монетах. Подумайте над своим вердиктом, и подумайте хорошенько — вам предстоит возложить вину на того, кто виновен в стольких бедах. Барселона не должна от этого пострадать, но пусть каждый ответит по заслугам. Скажу лучше так: ваша честь будет чиста, если народ поймет, что вы одинаково судите как могущественных граждан, так и простых, тем более что дон Марти Барбани — не совсем уж простой гражданин. И в будущем это послужит к вашей же выгоде.
— Сеньора, я весьма ценю ваши советы, но вы забываете, что когда я вас встретил, я уже был графом Барселоны. Я знаю, что у правителя есть обязательства перед народом и он должен действовать во благо большинства. Бывают обстоятельства, когда на первом месте оказывается благоразумие, а любовь и привязанность — уже на втором. Не сомневайтесь, если придется выбирать между сердцем и разумом, я сделаю выбор в пользу последнего. Если мне, подобно тонущему кораблю, придется выбросить в воду груз, чтобы остаться на плаву, я сделаю это не задумываясь. А посему, если кто-то стал для меня балластом, придется от него избавиться, как бы горько мне это ни было. Но имейте в виду, я делаю это по собственному желанию, а не по вашему совету. Кстати, я не забыл, что именно вы просили меня выдать этому человеку разрешение на litis honoris... Если бы не вы, ничего бы не случилось.
Альмодис и бровью не повела. Она не сомневалась, что об их размолвке скоро станет известно всему дворцу. Глядя на графа, она шагнула к нему и взяла его за руку. Ее губы тронула ослепительная улыбка, которая уже столько раз смягчала гнев ее супруга.
Но на этот раз она не возымела действия. Граф отстранил ее руку и произнёс:
— А теперь, с вашего позволения, я хотел бы остаться один, чтобы как следует обдумать своё решение.
Сердито набычившись, граф вышел из комнаты.
Несколько минут Альмодис стояла в растерянности; затем подошла к столику и плеснула себе из кувшина щедрую порцию вина. С кубком в руке она села на стул возле выходящего в сад окна, и, сделав изрядный глоток, вынуждена была признать, что сегодня впервые в жизни граф ее отверг. Она ощупала своё лицо, обнаружила несколько новых морщинок, и злые слёзы покатились по ее щекам.
Здесь, в Барселоне, она пережила расцвет своей жизни. Ей, дважды разведенной, удалось достичь вершин власти, а это дело нешуточное. Она знала, что в народе ее считают алчной и властолюбивой особой, но близкие люди знали также, что она отчаянно боролась за власть не ради себя, а ради детей. Ей вспомнился тот далекий день, когда она впервые встретилась со своим шутом, и собственное удивление, когда этот оракул предсказал, что ей суждено стать основательницей династии по ту сторону Пиренеев. Она всегда знала, что судьба на ее стороне, и трудилась не покладая рук.
Но и препятствий на ее пути было немало. Альмодис вспомнила Эрмезинду и не могла не улыбнуться. Грозная старуха была ей под стать, и Альмодис призналась себе, что без нее в жизни не хватает стимулов. Сражение, которая развязала старая графиня, чтобы отлучить влюбленных от церкви, вызвало у Альмодис своего рода восхищение неподдельной смелостью соперницы. Эрмезинда была грозной соперницей, именно в борьбе с ней приходилось использовать всю решимость и дипломатию, ведь граф по-прежнему любил и уважал жену, понимая, что в конечном счете она старается упрочить его власть.
Затем на память пришли недюжинные усилия, которые она приложила, чтобы стать матерью, когда никто уже на это не надеялся. Прежде всего она стремилась дать мужу наследника, но понимала, что это еще больше скрепит их брак. Она не знала, к добру это или к худу, но у нее родилась двойня, и Альмодис поклялась, что никогда больше не разведется.
Теперь у нее на пути осталось лишь одно препятствие, и она должна быть чрезвычайно осторожной, чтобы устранить его по возможности без потерь. Теперь между нею и судьбой стоял лишь Педро Рамон, первенец графа. То, что в день ее прибытия было лишь капризом ревнивого юнца, вообразившего, будто она посягает на его права, с годами вылилось в суровое противостояние. Она не сомневалась, что в эту ночь он будет торжествовать, глядя, как его отец наконец-то поставил на место ненавистную мачеху.
Графиня сделала новый глоток и вздохнула. Она уже поставила на место Педро Рамона... Гордая улыбка тронула ее губы, едва она подумала о собственных детях. Белокурый Рамон Беренгер, ее любимец, обладал всеми качествами властителя. Именно он должен стать и непременно станет следующим графом Барселоны, кто бы что ни говорил. Она вновь подняла кубок и осушила его до дна.
— За тебя, Эрмезинда, дорогая моя ненавистница, — произнесла она. — Отныне и впредь твой пример будет освещать мой жизненный путь... Если я не смогу воспользоваться своим женским оружием, то воспользуюсь оружием королевы.
120
Ещё один приговор
Уже к концу последнего заседания все догадывались, чем закончится litis. По дороге из ратуши домой Марти обступили толпы незнакомых людей; они ободряюще хлопали его по спине, давали советы и буквально засыпали вопросами. Лишь благодаря решительности Эудальда Льобета и заслону, созданному вокруг него тремя капитанами и домашними слугами, Марти удалось пробиться сквозь живую стену сочувствующих.
Когда же этот длинный живой коридор закончился и он добрался до дома, силы покинули его, и он без памяти рухнул. Пережитое волнение привело к тому, что кризис проходил крайне тяжело; остатки яда в организме также сделали своё дело. У Марти начался жар, и он несколько дней пролежал без сознания. Его отнесли в спальню, опустили лёгкий полог кровати, погасили свечи и открыли большое окно, впустив в комнату прохладный февральский воздух.
Руфь помогла ему добраться до кровати и устроилась в изножии. Так она провела несколько дней и ночей, давая ему лекарства, прописанные лекарем Галеви, кормя с ложечки бульоном, который присылала с кухни Мариона, и отходя лишь ненадолго, чтобы немного поспать. В те минуты, когда Руфь отдыхала, ее сменяла Аиша. Слепая садилась у постели больного и время от времени касалась ладонью его лба, проверяя температуру. Кроме них в спальню заходили только Эудальд, Жофре и Манипулос, ну и, разумеется, лекарь Галеви. Капитан Феле с двумя кораблями кампании отбыл на Босфор.
Так прошло почти тридцать дней, и за это время в Барселоне произошло много событий.
Приговор был одобрен представителями всех сословий и классов и подписан лично графом.
С жителей Каля сняли вину. Честь и доброе имя добропорядочного менялы были отчасти восстановлены — отчасти, поскольку с него сняли обвинение в присвоении графского золота, но он по-прежнему считался ответственным за то, что принял на хранение фальшивые деньги, не проверив их должным образом. Таким образом, его семью освободили от изгнания, они могли вернуться домой. Смотрителя аукционов признали виновным в этом печальном происшествии, поскольку он принял у мавров фальшивые мараведи. Однако, это было не самое страшное его преступление. Была полностью доказана его вина в тех унижениях, которым он подвергал падчерицу, а, главное, в том, что он, находясь под присягой, пытался обмануть графа, своего сеньора.
Советника лишили всех должностей, конфисковали имущество и присудили вместо семьи Баруха возмещать ущерб, связанный с фальшивыми мараведи. Кроме того, поскольку теперь он считался лишенным чести и к тому же пытался свалить всю вину на менял, его приговорили к изгнанию из пределов графств Барселона, Жирона и Осона сроком на пять лет.
Дворяне приговор одобрили, ведь советник не принадлежал к их сословию. Церковь воздерживалась от комментариев, а граждане Барселоны и те, кто пострадал от его притеснений и вымогательств, радовались концу столь влиятельной персоны. Простой люд, видя, что наказание настигает и таких могущественных людей, посчитали, что граф одинаково справедлив ко всем подданным, и с радостью обсуждали это во всех трактирах и постоялых дворах.
121
Очистительный огонь
В три часа пополудни колокола барселонских церквей начали оглушительный трезвон. Руфь, укрыв спящего Марти, вышла на центральную галерею, выходящую во внутренний двор, в надежде, что кто-нибудь объясни причину ужасного шума, который может разбудить больного. С высоты птичьего полёта она увидела, что главные ворота открыты, а у дверей конюшенного двора расстроенный Омар что-то пытается объяснить дворецкому, но на таком расстоянии не смогла расслышать ни слова.
Руфь окликнула управляющего с балкона:
— Что там случилось, Омар?
— Сейчас расскажу, сеньора, я уже поднимаюсь.
Увидев, как управляющий бросился в сторону боковой лестницы, она кинулась в сторону другой, ведущей из главной гостиной на второй этаж.
Омар взлетел наверх, прыгая через две ступеньки.
— Что происходит? — повторила Руфь в тревоге.
— Огонь, сеньора, ужасный пожар! С балкона, то увидите столбы дыма.
— Но где пожар?
— Говорят, где-то возле ворот Кастельнау, и если это так, последствия могут быть ужасные.
— И что будем сделать?
— Народ собирается у церкви Сан-Жауме, там раздают топоры, кирки, крючья и прочий инвентарь; приказано реквизировать все повозки, тачки и телеги, а также всех мулов и лошадей в городе и его окрестностях, каких только удастся найти. Повозки с бочками, чанами, бадьями и ведрами собираются у ворот Кастельвель... С любой посудой, куда можно набрать воду.
А в это время в зале собраний графского дворца Рамон Беренгер собрал за большим столом всех членов курии комитис, присутствовали также вегер города Ольдерих де Пельисер и сенешаль Гуалберт Амат.
— Сообщите, Ольдерих, что происходит, — попросил граф.
Головы всех присутствующих тут же повернулись к вегеру.
— Видите ли, сеньор, сегодня вечером я вызвал начальника городской стражи, и он сказал, что дом советника... прошу прощения, Берната Монкузи... в общем, его дом подожгли с трёх сторон.
Рамон Беренгер невольно поежился.
— Как могло случиться, что каменный дом, окружённый стеной, загорелся?
— Чует мое сердце, сеньор, что это был поджог.
— С чего вы так решили?
— Во-первых, сеньор, если дом одновременно загорелся сразу в трёх местах, вряд ли это случайность. А во-вторых, взгляните на дым: он такой чёрный, словно порождён самим адским пламенем.
Тут вмешался Гуалберт Амат.
— И что вы сделали, чтобы потушить пожар?
Ольдерих, повернувшись к графу , ответил:
— Я собрал народ возле церкви Сан-Жауме, велев тащить все, что нужно для борьбы с огнем — повозки, телеги, сапоги из толстой кожи, бочки и котлы для воды. Все собрались у ворот Кастельвель; мои люди распорядились, чтобы они натаскали побольше воды из моря, из Рек-Комталя или из Льобрегата — лишь бы побольше и поскорее. Те, у кого нет котлов и бочек, должны грузить на телеги песок с пляжа и возить к воротам Кастельвель, чтобы засыпать огонь.
Пожар тушили всем городом. Но тщетно: огонь никак не удавалось погасить; старики говорят, что этот пожар — дело рук самого Сатаны, а этот огонь — не что иное, как адское пламя. Весь город оказался в опасности, ведь постройки в нем были в основном деревянными. Пока мужчины сражались с огнем, женщины столпились в церквях, денно и нощно охраняя святые дары. Неустанно сновали повозки с водой, люди лили воду на горящее здание и стены соседних домов. С другой стороны подвозили мешки с влажным песком.
Увы, все было напрасно. Глава лиги пожарных отдал приказ разобрать заборы у ближайших домов и убрать все, что может загореться, чтобы предотвратить распространение огня. Прошло девять дней и ночей, прежде чем пламя удалось потушить. Пожарище выглядело ужасно. Дом загорелся сразу в трех местах, почти одновременно, но полыхал в основном подвал, где советник хранил сосуды с черным маслом. Сам же советник бесследно исчез; граф специально приказал найти его останки среди обгоревших развалин, однако его грузное тело так и не обнаружили. Зато погибли несколько слуг — в основном конюхи, пытавшихся освободить из горящих конюшен лошадей и мулов, когда вспыхнули запасы сена и соломы.
В уединении супружеской спальни Рамон беседовал с Альмодис.
— Камня на камне не осталось! — повторял граф. — Как будто дом проклят!
— Сдаётся мне, что ваш советник предпочёл предать свои богатства огню, лишь бы они не достались его сеньору, — ответила графиня. — Значит, среди развалин его так и не нашли?
— Я приказал там каждый камушек перевернуть, но все пожрал одский огонь.
— Представляю, что там могло остаться. В любом случае, это большая потеря для нас, ведь дом немало стоил.
— Ну, положим, этот дом — просто капля в море по сравнению с тем, чем Монкузи владел за пределами города. Я приказал произвести опись его владений — и был потрясен, когда узнал, сколько ему принадлежало поместий и мельниц.
— И вы ещё подарили ему крепости в Таррассе и Сальенте! — воскликнула графиня. — Временами, сеньор, когда вы слишком кому-то благоволите, ваша щедрость переходит в настоящую расточительность, в сравнении с ней те крохи, которые вы мне жалуете — сущая безделица!
Марти понемногу поправлялся. Время, молодость и забота Руфи сотворили чудо. Но прежде всего своим выздоровлением он был обязан покою, который наконец-то воцарился в его душе. Когда он наконец признался в любви к Руфи ей самой, окружающим, а главное, себе, у него словно выросли крылья. Ночью он долго ворочался в постели, не в силах заснуть, а затем пережил волшебные минуты.
Внезапно распахнулись обе створки двери на террасу, впустив в комнату порыв свежего ветра; затем чья-то тень отдернула занавеску у входа, и в серебряном свете луны перед ним предстала обнаженная Руфь. Он даже не узнал ее, пока она не подошла вплотную к его постели. Марти был очарован. Он даже не догадывался, что тело девушки, всегда закутанное в тысячи одежек, которое теперь предстало его глазам во всей первозданной наготе, может быть так прекрасно. Черная грива распущенных по плечам волос, тонкая талия, точеные бедра, длинные ноги и высокая грудь — ее фигура напоминала стройный силуэт цитры.
Девушка отбросила с Марти одеяло и, дрожа от волнения, легла рядом.
— Где бы я ни был, да пребудет с вами мое благословение, — произнесла она. — Помните? Поступки говорят больше слов. Это вы, Марти, единственный защитник чести моего отца. Я думаю, что в этот час он благословляет нашу любовь. Я хочу, чтобы наши тела слились воедино, хочу чувствовать вас внутри себя. Сами звёзды предназначили нас друг для друга; я поняла это в тот самый день, когда впервые вас увидела.
Девушка наклонилась к нему, приоткрыв губы; тело Марти вспыхнуло огнём, и он уже не в силах был сдержать нахлынувших чувств и, освещённый лунным сиянием, потянулся к ней в ответном порыве.
Когда же наутро пришел падре Льобет, чтобы рассказать о приговоре и обстоятельствах пожара в доме советника, в голове Марти зародилась неясная пока еще идея.
— Так значит, говорите, пожар причинил серьезные убытки графской казне?
— Безусловно. По приговору дом подлежал конфискации и должен был отойти городу, а теперь остались одни развалины. Более того, огонь уничтожил несколько жилых домов, и теперь казне придется выплачивать ущерб владельцам.
— Вы видели графиню в последнее время? — спросил Марти.
— Разумеется, каждый день. А зачем она вам понадобилась?
— Ничего такого, просто у меня возникла одна идея.
— Боюсь даже подумать, что за идея.
— Только немного подождите, — попросил Марти. — Мне нужно посоветоваться с Руфью, а завтра я вам все расскажу.
— Так вы говорите, мой добрый Эудальд, что гражданин Барбани хочет купить руины дома советника, чтобы разбить на этом месте сад и подарить его городу, чтобы там могли играть дети? — удивилась графиня.
— Да, именно так. Есть лишь одно условие.
— Что за условие?
— Он будет называться Садом Лайи, и в центре будет установлен крест в память о ней.
— Мне нужно поговорить с супругом, но полагаю, он даст разрешение.
— Есть еще одно условие. Ему нужно разрешение на ввоз в город всевозможных деревьев, кустарников, цветов, животных и птиц, какие только есть на свете, чтобы не платить пошлину. А еще понадобится разрешение на строительство оросительных каналов. У Марти Барбани есть человек, который этим займется, и достаточно кораблей, чтобы привезти из дальних краев все необходимое.
— Как вы считаете, будет уместно, если вы упомянете, что Сад Лайи был разбит благодаря покровительству графини Альмодис? — спросила графиня.
— Он будет счастлив упомянуть об этом, сеньора.
122
Полтора года спустя
В Барселоне наконец открылся Сад Лайи. Увидев его, Марти был потрясен: он даже помыслить не мог, что Омар создаст подобную красоту. Резиденция Берната Монкузи превратилась в уникальное место. Деревья и кустарники успели разрастись, лужайки весело зеленели; через весь сад, подобно ручейку, петлял канал, огороженный чугунной решеткой — подарок городских кузнецов. Месяц назад графиня Альмодис в сопровождении старейшин города, возглавляемых вегером Ольдерихом де Пельисером, торжественно открыла сад для широкой публики.
В это утро ослепительно прекрасная Руфь, которую материнство сделало еще краше, прогуливалась в саду с прекрасной девочкой в руках. Рядом с ней шел Марти. Интерес жены к этому месту его удивил — теперь она часто здесь гуляла.
— Сегодня особенный день, — произнесла Руфь.
— Тебе уже пора кормить Марту, а кормить ее здесь ты не можешь, — напомнил Марти, новоиспеченный отец, обожающий крошечную дочку.
— Не волнуйся за эту крошку, — ответила Руфь. — С ней и так все носятся, как будто она по меньшей мере графиня.
— Но куда ты меня ведёшь?
— Сейчас увидишь.
По тропинке, петляющей среди сикомор, они добрались до высокого креста из базальта и серого мрамора, установленного на том месте, где несколько лет назад произошла трагедия.
Марти подошёл ближе, не скрывая любопытства: когда он был здесь в последний раз, то не видел ничего подобного. Как выяснилось, крест вытесал лучший каменщик Монжуика по заказу Руфи. На нем бронзовыми буквами была выбита надпись:
Здесь воспарила в небеса Лайя,
которая всегда будет жить в памяти тех,
кто ее знал.
Ангелы должны быть с ангелами
Слезы покатились по щекам Марти. Он, стойко перенесший множество опасностей и потерь, теперь был растроган до слез великодушием Руфи.
— Что я могу сделать для тебя, чтобы отблагодарить за великодушие?
Руфь посмотрела на него влюбленными глазами, а затем перевела взгляд на малышку — та, ничего не понимая, радостно перебирала ножками.
— Подари мне землю, любовь моя — землю, где человек мог бы жить свободно, исповедовать свою веру, где нет ни господ, ни рабов. Землю, где все были бы равны перед законом и где никого не смогут обратить в рабство; землю, где все дети росли бы свободными и счастливыми, как завещал сам Бог.
— Не сомневайся, дорогая супруга. Я подарю тебе эту землю.
Понравилась книга? Поблагодарите переводчиков:
Яндекс Деньги
410011291967296
WebMoney
рубли – R142755149665
доллары – Z309821822002
евро – E103339877377
Группа переводчиков «Исторический роман»
Книги, фильмы и сериалы
От автора
XI век в Каталонии был настолько похож на роман, что читатель может принять подлинные события за выдумку, а выдумку за настоящую историю.
Обычно герой исторического романа — это плод воображения автора. Но не в этом случае — на создание Марти Барбани меня вдохновила жизнь Рикардо Гийема, изученная специалистом по средневековью Хосе-Энрике Руис-Доменесом. Рикардо был такой важной персоной, что в Кале его называли Рикардо Барселонским. Остатки стены его особняка на современной площади Сан-Микель сейчас можно увидеть в подвале бара «Эль Парагуэс» неподалеку от мэрии.
В Барселоне XI века жили двести пятьдесят тысяч человек. Главной наградой в этом обществе являлось звание «гражданина», для его получения помимо обладанием домом необходимо было заслужить уважение соседей и иметь безупречную репутацию. Гражданин Барселоны имел целый ряд привилегий, так что к благородным сословиям вроде дворян, священнослужителей и короля или графа Каталонии можно добавить и гражданина Барселоны.
Наш герой Марти Барбани прибыл в Барселону в надежде занять свое место в обществе и сделал это, попав в гущу страстей — борьбы двух выдающихся женщин, Эрмезинды Каркассонской, дважды регентши графства и бабушки Рамона Беренгера I, и его любовницы, а позже жены Альмодис де ла Марш (могилы обеих женщин находятся друг напротив друга в правой стене кафедрального собора Барселоны), в которую граф страстно влюбился и похитил из замка ее мужа, графа Понса Тулузского. Усилия молодого Марти, его трудности, путешествия, тяжкий труд, надежды и любовные истории, а также препятствия со стороны заклятого врага, отчима его возлюбленной, как и быт той эпохи, система навигации, торговые сделки евреев и дворцовые интриги и наполняют страницы этой книги.
Но я хотел бы предупредить читателя, чтобы он не обманывался. Я позволил себе определенную вольность в отношении исторических событий, хотя в целом их придерживался. Во-первых, немного поиграл с датами. Например, перенес на более ранний срок визит поэта Абенамара абу Бакра ибн Аммара, посла Аль-Мутамида Севильского, в графство Рамона Беренгера Старого, хотя на самом деле эти события, включая мошенничество с фальшивыми мараведи, произошли позже. То, как наш герой разбогател и даже стал богатейшим гражданином Барселоны, на самом деле не имело отношения к нефти, хотя «греческий огонь» несомненно был известен уже в античности.
Не стоит забывать, что это всего лишь роман, который, надеюсь, разбудит у читателей интерес к истории.
Примечания
1
Металлическая накладка полусферической формы в центре щита, защищающая кисть руки воина от пробивающих щит ударов.
(обратно)2
Средневековое платье с длинными рукавами, расширяющимися от локтя и достающими иногда до пола.
(обратно)3
Barba (исп.) — подбородок.
(обратно)4
Старинные каталонские меры площади.
(обратно)5
Место вокруг церкви в радиусе тридцати шагов было священным, здесь нельзя было на кого-либо напасть под угрозой отлучения.
(обратно)6
Маленькая круглая шапочка католических священников, закрывающая тонзуру.
(обратно)7
Название мусульманских эмиратов на территории нынешней Испании, явившихся продуктом феодальной раздробленности, поразившей некогда могущественный Кордовский халифат к 1031 году и вплоть до окончания Реконкисты в 1492 году.
(обратно)8
Маленький и тонкий кусок кожи кошерного животного, на котором написан текст из Второзакония. Закрепляется у входа в дом, с правой стороны дверного косяка, и служит для защиты дома и его обитателей от злых духов.
(обратно)9
Менора — золотой семисвечник, один из древнейших символов иудаизма.
(обратно)10
Так евреи называли христиан.
(обратно)11
Должность у евреев, глава поселения или квартала.
(обратно)12
Особая категория граждан Барселоны, занимавшая высокое положение. Наряду с дворянством, духовенством и самим графом они имели своих представителей в судебных и законодательных органах.
(обратно)13
Манкусо составлял тридцать пять динаров и содержал четыре грамма золота. Манкусо могли быть сарагосскими, джафарскими (т.е. отчеканенными на монетном дворе Джафара Альмудиса или Мансура Септиса), а также сеутскими. Под конец их стали чеканить и в Барселоне.
(обратно)14
Испанская марка — область между Францией и владениями арабов в Испании, включавшая части территорий современных Каталонии, Наварры и Арагона и простиравшаяся приблизительно до реки Эбро. Марка являлась военной границей каролингской империи в восточной части Пиренеев.
(обратно)15
Система отношений между высокородными аристократами и менее знатными дворянами, предполагающая целый ряд обязательств.
(обратно)16
Вегерия — территориально-административная единица в средневековой Испании. Во главе вегерии стоял вегер.
(обратно)17
Котта — верхняя мужская и женская одежда, которую надевали поверх нижней рубашки и подпоясывали ремнем.
(обратно)18
Уд — струнный щипковый инструмент. Распространён в странах Ближнего Востока, предшественник европейской лютни.
(обратно)19
Селемин — старинная мера сыпучих тел, равная 4,625 литров.
(обратно)20
Древнее название Кипра. Происходит от находившихся на острове медных рудников.
(обратно)21
Конские доспехи. Пейтраль — на груди, шанфрон — на морде.
(обратно)22
Донжон — главная башня в европейских феодальных замках, находилась внутри крепостных стен.
(обратно)23
Так проходит земная слава (лат.)
(обратно)24
Греческая богиня судьбы и смерти, олицетворяющая жестокий рок, в противоположность Фортуне — богине удачи.
(обратно)25
Документ, подтверждающий гражданское бракосочетание, действительно был составлен Рамоном Беренгером в ноябре 1056 года. Начинается он со слов: «На третьем году нашего брака...»
(обратно)26
Аббат Олиба (971-1046) — аббат Риполя, епископ Вика и основатель монастыря Монтсеррат.
(обратно)27
Еврейское блюдо, смесь измельчённых фруктов, орехов и пряностей.
(обратно)28
Здесь автор позволил себе несколько погрешить против истины, перенеся визит Абенамара в Барселону, на самом деле он состоявшийся во время правления Рамона Беренгера II по прозвищу Голова-из-Пакли, во времена его отца, Рамона Беренгера I Старого.
(обратно)29
Здесь автор приводит традиционную и наиболее распространённую версию, что Каль был обнесён стеной, несмотря на то, что по этому поводу идут ожесточённые споры между историками и археологами. Дело в том, что правдивость традиционной версии не подтверждается ни письменными источниками, ни археологическими данными. Существование в городе еврейской общины отмечается с 850 года, но нигде ни разу не упоминается ни о какой стене, хотя иногда говорится об ограждении и закрытых воротах.
(обратно)30
Разновидность катапульты небольшого размера, которая использовалась ещё со времён античности.
(обратно)31
Собрание крупных вассалов.
(обратно)32
Руководитель хора в синагоге.
(обратно)33
Хупа — балдахин, под которым еврейская пара стоит во время церемонии бракосочетания.
(обратно)34
Еврейский брачный контракт, в котором описывается приданое невесты и условия наследования в случае ее вдовства. Считался настолько важным документом, что в случае его потери супруги даже спали раздельно, пока контракт не будет восстановлен.
(обратно)35
Будьте счастливы! (иврит).
(обратно)36
Во время пасхального ужина иудеи опустошают четыре кубка с вином, которые олицетворяют клятву, данную Богом народу Израиля, каждый означает один из четырёх глаголов в первом лице: освобожу, спасу, выкуплю, призову.
(обратно)37
В иудаизме — ангел-хранитель, записывающий добрые дела человека.
(обратно)38
Душа (иврит).
(обратно)39
«Мертвяками» называли крупные скалы на морском дне, в старину их использовались в качестве буев для швартовки кораблей.
(обратно)





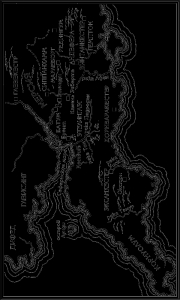



Комментарии к книге «Я подарю тебе землю», Чуфо Ллоренс
Всего 0 комментариев